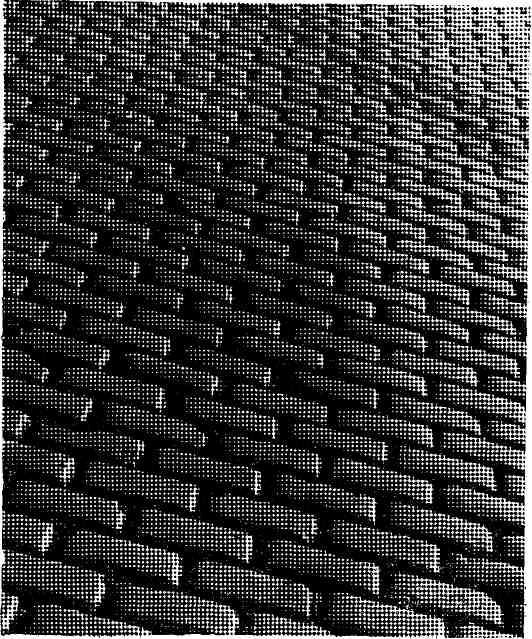Синее море



СИНЕЕ МОРЕ
Пьеса в 2-х частях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Л ю б а С а б у н о в а.
С а б у н о в Н и к и т а Ф е д о р о в и ч, ее отец.
Н а с т е н ь к а, ее сестра.
А л е к с е й, ее брат.
Е л и з а в е т а, жена Алексея.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а, эвакуированная.
С а м с и к о в, живописец.
В а р в а р а, жена Самсикова.
Д р о б а т е н к о В а с и л и й И в а н о в и ч, солдат.
К о с т я, его молодой друг, тоже солдат.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч, железнодорожник.
С о с е д к а Л ю б ы.
Пассажиры в вагоне:
С о л д а т с ч а й н и к о м.
С о л д а т с к о с т ы л е м.
У с а т ы й с о л д а т.
Ж е н щ и н ы, с о л д а т ы.
Н а т а ш а, дочь Василия Ивановича.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й.
П р о в о д н и к.
Действие происходит в годы Великой Отечественной войны.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Слева и справа сцены — два дома, белые и глиняные азиатские постройки Сабуновых и Любы. Из колючки сложена изгородь, разделяющая дворы. Зима. Снега нет. Голые ветлы, голые тополя. У Любы — молодой, в инее, вишневый сад. Светает. Слышен паровозный гудок, эхом улетающий в степь. За изгородью по улице идут В а с и л и й И в а н о в и ч и К о с т я. Оба они ранены в ногу, оба в шинелях солдатских без погон, у обоих солдатские мешки за спиной. В а с и л и й И в а н о в и ч (ему под сорок) вооружен палкой, идет бодрее, чем Костя. Косте лет двадцать, он тяжело опирается на костыли. Они садятся на бревне, положенном у калитки Любиного дома.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ну что, старик, я скажу, приехали мы.
К о с т я. Черт его знает, куда приехали! Даже интересно.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Раз мы в своем государстве, значит, дома.
К о с т я. Да уж, дома!.. А где мы с вами не были, чего не видали, Василий Иваныч! Вспомнить каждую подробность страшно.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Все помнить — вредная вещь. Ногу-то вытяни — пусть отдыхает.
К о с т я. Вытянешь ее.
В а с и л и й И в а н о в и ч. А ты попробуй.
Гудок паровоза. Эхо.
Вот и степь, похожая на нашу.
К о с т я. Степь-то степь, хоть и похожа, а не наша.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Это верно, что непохожа. Моря нет. Я скажу, кто на море вырос, тому без моря никак невозможно.
К о с т я. Чужие места.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Азия.
Костя насвистывает.
Кто знает, может, и Мария моя, и Наташа, дочка дорогая, где-нибудь в этих местах находятся…
К о с т я. Мария-то Степановна — как она могла уехать? Вы же знаете, Василий Иванович. Они там, в Михайловском.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(сумрачно). Это я так сказал.
Входят Г а л и н а В а с и л ь е в н а и С а м с и к о в.
С а м с и к о в. Поймите меня! Я разбит войной, мне нужно приземляться. Я обморожен. Все имущество мое развеяно в прах…
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. У кого сейчас не развеяно.
С а м с и к о в. Но у меня благородное сердце, Галина Васильевна.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Благородное? Смешно слушать. Нашли себе подходящую невесту, тещу, собственный дом, корову…
С а м с и к о в. Боже мой! Да как же вы, такая чуткая женщина, понять не можете! Я попал к ним прямо из госпиталя, чужой, несчастный человек.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. А меня это даже не касается.
С а м с и к о в. Но ведь мы с вами люди одного круга, одной мечты. Разве легко расстаться?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Смешно.
С а м с и к о в. Разве можно это сделать, особенно здесь, в этой ужасной дыре, где нет ни одного интеллигентного человека, способного чувствовать…
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Федор Федорович, я никогда не скрывала, что мне интересно с вами.
С а м с и к о в. Да? Но как же быть? Но что же делать? Вы же видите, какие обстоятельства! Добрые люди ухаживали за мной. Скажу более, они спасли меня.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Ну и женитесь на здоровье, кто вам мешает?
С а м с и к о в. Поймите же, женитьба моя, в конце концов, одна формальность…
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(приближая к нему лицо). Подите прочь.
С а м с и к о в. Ни за что! Наши прогулки, наши беседы…
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Сойти с ума!
(Оттолкнула его, увидев Василия Ивановича и Костю.) Уже светло. Идите.
(Торопливо поправляет волосы.) Идите, идите. Господи, как будто не знаете, какой город! Моментально разнесется.
(Подбегает к дому Любы и стучится в дверь.)
Самсиков растерянно смотрит на Василия Ивановича и Костю, только сейчас заметив их.
(У двери.) Любочка… Настенька… Это — я…
Дверь приотворилась. Галина Васильевна юркнула в дом.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(кашлянув, Самсикову). Приношу извинения, что помешали.
С а м с и к о в
(озабоченно). Приезжие?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Вроде так.
С а м с и к о в
(озабоченно). Ну, вот и хорошо.
(Успокаиваясь.) Из госпиталя?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Догадаться нетрудно.
С а м с и к о в. Должно быть, из мест, временно оккупированных?
К о с т я. А то нет, приехали сюда на вас поглядеть.
С а м с и к о в. Понимаю, понимаю. У меня самого похожее положение. Я из Винницы. Живописец. Моя специальность рисовать портреты передовых людей. Также рисую вывески, оформляю здания, лозунги, стенные газеты и каждодневные сводки Информбюро.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Дело хорошее.
С а м с и к о в. Устроился здесь, в клубе, при станции. Не представляете, как вначале трудно было. Народ тут суровый, строгий, в иных случаях — зверь. Я вот даже, знаете, жениться намереваюсь.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Вон что!
С а м с и к о в. Иначе тут не проживешь.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Скажи пожалуйста!
С а м с и к о в. Душа вон, как жить хочется! Думал, никогда уж не вернется домашний уют, тепло! И все время будет моросить дождь над головой… Мокрые ноги, разбитые до крови. Машины на дорогах. Гул самолетов… Так нет же! Жив! Понимаете! Жив!
В а с и л и й И в а н о в и ч (нахмурился). Так, так… Однако советую поспешить…
С а м с и к о в. А что такое?
В а с и л и й И в а н о в и ч
(многозначительно). Видели мы, женщина тут появлялась, солидная собой и внушительная.
С а м с и к о в. В клетчатом платке?
В а с и л и й И в а н о в и ч. В клетчатом!
К о с т я. В клетчатом, в клетчатом!
С а м с и к о в. Она. Ах ты боже мой! Бегу!
(Убегая.) Самсиков. Крупская, восемь. Спросить Варвару.
(Исчезает.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, старик, первый человек на этой земле не внушает доверия.
К о с т я. Да-а-а…
На крыльце сабуновского дома появляется д е д С а б у н о в, совершеннейший старичок. Не замечая Василия Ивановича и Костю, с удовольствием крякает и начинает делать гимнастику.
С а б у н о в
(приседая и выбрасывая то руку, то ногу). Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре…
(Остановился, увидев незнакомых людей.) Гм. Вы что расселись на чужом дворе? Не зала тут для ожидания пассажиров.
(Подходит к дому напротив, Любиному, и осторожно стучит в окно.) Настька, вставай. В кооператив время. Не вздумай Любу будить. Пусть спит.
(Возвращается к себе; в сторону Василия Ивановича и Кости.) Сидите. Но тихо.
(Ушел.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ничего старичок, правильный.
Костя знаком показывает ему, чтобы он смолк. На крыльце сабуновского дома появляется Е л и з а в е т а, здоровая, ядреная женщина. Следом за ней — А л е к с е й Н и к и т и ч, ее муж, худой, болезненный человек.
Е л и з а в е т а. В толк не возьму, куда опять в такую рань собрался? Еще и Люба не встала.
А л е к с е й. У Любы раз в жизни выходной.
Е л и з а в е т а. У Любы выходной, а у тебя что? Когда у тебя выходной?
А л е к с е й. Да пойми ты! Сорок пар поездов у меня, Елизаветушка! Нефть! Нефть! Мы-то сейчас — единственная магистраль для нефти.
Е л и з а в е т а. Сто раз слушала. Сорок пар! Нефть! Я, славу богу, тоже трудящая, а не забываю — и дом, и семью, и здоровье твое…
А л е к с е й
(вспылил). Что — здоровье мое?
Е л и з а в е т а. Уж лучше бы на фронте был. Хоть почет.
Высовывается С а б у н о в.
С а б у н о в. Молчи, перчихинская порода! Кто он такой есть?
Е л и з а в е т а. Ваш сын, папаша.
С а б у н о в. Мой сын. Мужчина. Железнодорожник. Понятно?
(Скрывается.)
Е л и з а в е т а. Высказался.
(Сердито шмыгнула носом; Алексею.) Лешенька, да поцелуй ты меня, что ли…
А л е к с е й. Что ты, что ты… Ведь люди…
(Показывает на Василия Ивановича и Костю.)
Е л и з а в е т а. Что еще за такие? Кто такие?
(Стрельнула глазами и пошла в глубь двора.)
Алексей выходит за калитку.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Закурить не найдется ли, товарищ?
А л е к с е й. Как же, как же…
(С готовностью ищет в кармане кисет.) А вы сводку утреннюю не слыхали?
В а с и л и й И в а н о в и ч
(сумрачно). Слыхал.
А л е к с е й. Ну?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ничего особенного. Без перемен.
Е л и з а в е т а
(издали). Нету закурить! Тут у нас табак даром не растет!..
В а с и л и й И в а н о в и ч
(Алексею). Благодарствую. Не хотим.
Алексей, сконфуженный, уходит.
Е л и з а в е т а
(возвращаясь с охапкой саксаула). Отвоевались! Пол-России отдали!.. «Без перемен»!.. Табаком их угощай!.. Идите, на чужое не зарьтесь!..
(Бросила саксаул, метнула юбками и ушла в дом. Через секунду вернулась с метелкой и деловито подметает крыльцо.)
Дверь Любиного дома распахнулась, выбегает Н а с т е н ь к а и с размаху шлепается со ступенек на землю.
В а с и л и й И в а н о в и ч. С добрым утром, здравствуйте.
Н а с т е н ь к а. Ничего подобного. Здрасьте. Кто это?
Е л и з а в е т а. Опять Кудлатого не отвязала на ночь. Вот и ходят, кому не лень.
Н а с т е н ь к а. Я забыла.
Е л и з а в е т а. Забыла. Когда одолжаться, тогда не забываешь.
Н а с т е н ь к а. А чем мы одолжаемся у вас?!
Е л и з а в е т а. Как же, живете сами по себе! Бедная Люба, все на нее не нахвалятся! Смотрите, гордость какая! И работает, и Витьку взяла, и ты, дуреха, у нее на воспитании… И всюду-то она поспевает, и все-то она на первом месте!
Н а с т е н ь к а. А как же! Конечно, на первом! Об чем разговор, не пойму…
Е л и з а в е т а. Об том, что не выставляйся. Я вот тоже работаю и у нас на подсобном хозяйстве тоже не из последних. И по домашности успеваю. А тут — все на одной мне висит. Но уж вам в няньки…
Н а с т е н ь к а. Да чем же, ради бога, мы утруждаем вас? С утра завелась.
Е л и з а в е т а. Завелась! Нарочно завелась, чтобы люди подумали, вот я какая…
(Василию Ивановичу.) Курите, пожалуйста. Угостить принесла. Вижу, люди курящие. А у моего Алексея — разве табак? Ему и курить-то нельзя.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Покорно благодарим.
Е л и з а в е т а. Не стоит благодарности.
(Уходит.)
Н а с т е н ь к а
(проводив ее глазами, Василию Ивановичу). Ишь, какая вдруг добрая стала! А тут выслушивай из-за вас. Расселись.
(Она со злостью швырнула ведро и ушла в дом.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Жизнь, старик, чу́дная штука. Я скажу, вот и нам бы пожить в таком мирном счастье. Когда — будет?
Выходит Л ю б а. Она в коротких валенках на босу ногу, в застиранной юбке, подобранной высоко, и в солдатской стеганке.
Л ю б а. Что вы кричите и пугаете девочку? Кто такие?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, обыкновенные солдаты. Ночлега с собой не возим. Вот и присели отдохнуть.
Л ю б а. Много вас разных.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Это верно. С виду все на один манер.
Л ю б а. Кто солдат, а кто и…
К о с т я. Одинаково, как и вы. Между прочим, на станции Яны-Курган одна женщина в таком же, извините, как у вас, ватнике всучила нам водичку с известкой вместо молока. А мы ей полноценный солдатский хлеб отвесили.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не гуди. Может, у нее, у той женщины, семья большая, дети, а муж на фронте или нету его совсем, кто знает.
Л ю б а
(строго). Ладно. Идите своей дорогой.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Время придет, пойдем. А собаку отвязывать надобно. Я скажу, не так гостей непрошеных страшно, как ежели родственница заругает…
Л ю б а. А ваше какое дело?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я — к слову. Живете как-никак одни, женщины, почему не посоветовать?
Л ю б а. И вовсе не одни. Напротив брат живет и отец — мужчины.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Знаем. И что собаку Кудлатым зовут, знаем. Сами-то где работаете?
Л ю б а. На станции. Дежурная по вокзалу, по обслуживанию проезжающих бойцов и раненых.
(Посмотрела на неуклюжие свои валенки и вдруг застеснялась.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Вот и хорошо. Чисто у вас там, на вокзале, порядок.
Л ю б а
(самолюбиво). А почему должно быть грязно?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я и говорю — чисто. И уголок специальный для раненых есть.
Л ю б а. Да ведь это всюду есть, по всей линии.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Где есть, а где нету.
Л ю б а. У нас есть.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Есть.
(Посмотрел на нее, улыбнулся.) Братец, значит, тоже на станции работает?
Л ю б а. Главный диспетчер он.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Все у вас железнодорожники.
Л ю б а. Спокон века.
(С любопытством.) Где это вы все-таки проживаете? Что-то не видала вас.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не могли видеть. Я скажу, мы только что с поезда.
Л ю б а. Откуда же сведения такие богатые?
К о с т я. У солдата догадка должна быть и быстрое соображение.
Л ю б а. Вы бы ее на фронте имели, а не здесь.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не к месту разговор. Войну хорошо слышать, тяжело видеть. Там люди кровью бьются.
Л ю б а
(опустила глаза). Я серьезно. Отступаем все, сердце болит.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(гневно). Сердце? А свое хозяйство как содержите? Дом новый, а крыша прохудилась? Колодец начали и бросили? А сад? Что такое? Молодая вишня, нежная. Стоит без ухода. А виноградники? Ведь вот они! Их в землю закопать надо, померзнут. А колода пчелиная почему напрасно валяется? Хорошая колода…
Л ю б а. Трудно одной.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Вот, вот.
(Передразнивая.) Отступаем все, сердце болит. А я скажу, ежели в тылу спустя рукава начнете жить, так и будем отступать. Муж вернется, какой ответ держать будете?
Л ю б а. Не вернется.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(хмуро). Бывает по-разному. Все равно ждать надо.
Л ю б а. Помер еще до войны мой муж.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ну… другие вернутся. Чем встретите? Вернутся с победой, у каждого спросят.
(Помолчали.) Надо Настю вашу к хозяйству приспособить.
Л ю б а. Что вы, когда же ей. Она школу кончает. А у них там своих мобилизаций хватает. То на посевную, то на уборочную, то на сбор лексырья…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ну… правильно. Тогда папашу.
Л ю б а. Никиту Федоровича?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, он у вас бодрый.
Л ю б а. Такой бодрый, что сам себя давно приспособил. Только война началась, расшумелся так, что его обратно на товарную контролером взяли.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(смущен). Тоже правильно. Железнодорожник. Не сидеть же ему сложа руки и пенсию кушать. Он, глядите-ка, еще и гимнастику делает — раз-два, раз-два!..
Л ю б а
(фыркнула). Господи, твоя воля, какие осведомленные! И зачем неправду говорите? Где-то поблизости проживаете, не заметила только.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ничуть. Я скажу, мы как раз угол ищем. Может, у вас найдется?
Л ю б а
(подозрительно и официально). Это вам надо, гражданин, в райсовет обратиться. К Ивану Петровичу. Там получите ордер.
(Хочет уйти.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Получим. Вы не волнуйтесь.
Л ю б а. Не с чего.
К о с т я. Не беспокойтесь. Никто вашим домом не интересуется.
Л ю б а. Я не беспокоюсь.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Угол-то мы себе найдем. Не ради него, чтобы знакомство завести, ваш вокзал похвалили, не думайте.
Л ю б а. А я ничего и не думаю.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Стеснять не собираемся, у вас уже и так эвакуированная имеется.
К о с т я. Извините, конечно, что на ваших бревнышках посидели.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Может, намусорили невзначай?
К о с т я. Досочки протерли, воздухом вашим подышали…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Солдаты, конечно… От походной жизни грубые стали… Я скажу…
Л ю б а. «Скажу, скажу»…
(Быстро повернулась, ушла.)
В а с и л и й И в а н о в и ч
(Косте). Пошли, старик.
К о с т я
(с трудом подымаясь). И верно, сидеть-то здесь ни к чему.
Вбегает Н а с т е н ь к а.
Н а с т е н ь к а. Давайте помогу вам. Господи, совсем калека.
К о с т я
(с гневом). Калек тут нет! Уйдите.
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Я ничего не сказала. Сестра сказала, чтобы вы шли в дом. Она сказала, чтобы непременно шли в дом.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ладно. Сказала или не сказала, спасибо за приглашение. Давай руку, старик.
Н а с т е н ь к а. Сестра сказала, Люба то есть… Она сказала…
К о с т я. Наши извинения…
Уходят. Василий Иванович поддерживает Костю. Настенька стоит растерянная. Выходит Л ю б а.
Л ю б а. Ушли?
(Тихо.) Ноги-то у молоденького, ноги…
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Я ничего не сказала…
Т е м н о
КАРТИНА ВТОРАЯ
Открывается комната в доме Любы. Фикусы на полу и на окнах. Желтенькие занавески. Стены выбелены известью. Перегородка, не доходящая до потолка, отделяет угол. Л ю б а и Н а с т е н ь к а. Люба в праздничном платье. Настенька суетится около нее, что-то подшивает, ползая на коленях.
Н а с т е н ь к а. Это платье совсем прилично выглядит и очень тебе идет.
Л ю б а. Все равно, сразу видно, что вырядилась.
Н а с т е н ь к а. Просто отвыкла. А ты обязана себя чувствовать именинницей.
Л ю б а. Скажешь! С чего бы?
Н а с т е н ь к а. Как будто не знаешь? Ну почему ты всегда скрытничаешь и молчишь?
Л ю б а. Потому что нечего рассказывать.
Н а с т е н ь к а. Неправда, есть.
Л ю б а. Ты дура и болтушка.
Н а с т е н ь к а. Я все вижу! Любочка, Любонька, честное слово! Человек знает тебя больше чем десять лет. Еще до того, как ты вышла за Женечку, он приезжал сюда… Ты сама говорила, что он приезжал сюда столько раз и при Женечке — тихий, вежливый, красивый! Он любил тебя и все время любит!
Л ю б а. Боже мой, какое слово! Любит, любит!.. Ты про это со своим Ваней Проскукиным говори.
Н а с т е н ь к а. Очуметь! Язык поворачивается! С каким Ваней?
Л ю б а. В самом деле, ты думаешь, что мне столько же лет, сколько тебе?
Н а с т е н ь к а. Любонька! Ах, если бы я была такая красивая, как ты… если бы я…
Л ю б а. Перестань. Старая я, некрасивая и не об этом думаю.
Н а с т е н ь к а. Неправда! А у самой сердце екает и ждет не дождется, что ей вдруг такие слова скажут, и такая жизнь откроется…
Л ю б а. Молчи. Оборку рвешь.
Входит Г а л и н а В а с и л ь е в н а. На руках у нее развешаны чулки, ленты, разноцветное белье.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. На базаре ничего не продается, хоть убей. Такое захолустье, такое захолустье! И почему я в Ташкент не поехала? Говорили, тут рис дешевле…
(Удивилась.) Платье новое? Шьете?
Л ю б а
(успокаивая ее). Забыла, когда шила. Старое.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Сами шили?
Н а с т е н ь к а. Нет, она в Москве заказывала.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Ужас. Я бы повесилась, если бы у меня было такое платье.
(Уходит и возвращается.) Хотите, свое пестренькое продам?
Л ю б а. Нет.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Молоко буду брать. У вас же — корова. Молоком отдадите.
Л ю б а. Нет.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Но это же носить нельзя.
(Уходит и возвращается.) Гадалку на базаре знаете?
Л ю б а. Знаю.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Которая по планетам гадает?
Л ю б а. Да.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Она мне сейчас нагадала, что у меня будет любовь необыкновенная и после войны, когда я вернусь в Киев, новый муж и много денег.
Л ю б а. Видите, как интересно.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. А я и не сомневаюсь.
(Уходя, про платье.) Ужас.
(Ушла.)
Л ю б а. Конечно, ужас.
Н а с т е н ь к а. Нашла кого слушать. Она нарочно. Завидует.
Л ю б а. Еще немного укоротить нужно. Правда, что смешная женщина. Я спрашиваю у нес, неужели всегда так жили? Она говорит: то есть — как это? Для себя самой, говорю, и ни для кого больше. А она: а для кого еще надо? Счастье, говорит, в этом и состоит, чтобы жить для себя и, главное, чтобы все завидовали.
Н а с т е н ь к а
(ползая на коленях). Стой ровно, а то опять оборву.
(Возится с оборкой.) Любонька, а помнишь, как мы играли в подкидные дурачки? Ты, я, Женечка и Андрей Николаевич?
Л ю б а. Разве и Андрей Николаевич?
Н а с т е н ь к а
(смеется). Ну да, будто не помнишь! Прошло всего три года… Ах, Люба… и ты совсем не переменилась! Это я стала дылдой.
(Продолжает возиться с оборкой.)
Л ю б а. Вот здесь еще подшей.
Н а с т е н ь к а
(подшивает). Женечка о саде мечтал и о путешествиях. О Крыме рассказывал, о Черном море…
Л ю б а. Да. Когда заболел, его в Крым возили.
Н а с т е н ь к а. Он там пробыл три месяца, вернулся и рассказывал. Он привез оттуда целлулоидные шарики, деревянные лопаточки. Назывались пинг-понг. Мы играли. Помнишь?
Л ю б а. Помню.
Н а с т е н ь к а. А потом он стал совсем больной, лежал, раздражался и, чуть что не так, кричал на тебя. Ты плакала и стала как тень.
Л ю б а. Ты что говоришь?
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Он был больной, Люба, и я тебя жалела.
Л ю б а. Разве ты знаешь, какой он был? Не смеешь ты!
Н а с т е н ь к а. Это же не я, Любонька, это язык сам болтает.
Л ю б а
(думая о своем). А в шарики от пинг-понга сейчас играет Витюша. Он в них дырочки просверлил.
(Вздохнув.) Ты не знаешь, как Женя хотел, чтобы мы в Крым поехали, к морю.
Делает шаг, осматривает себя, поправляет волосы. Настенька ползает за ней, не поднимаясь с колен, потом останавливается и всплескивает руками.
Н а с т е н ь к а. А ведь уедешь ты, уедешь!
Л ю б а. Глупости. Где может быть лучше, чем у нас?
Н а с т е н ь к а. Правда. Но ты уедешь не в Крым, а в Ташкент! Ох, как интересно, Любонька! Пройдись, пройдись…
Л ю б а
(перед зеркалом). Ужас. Вырядилась.
(Идет по комнате.) Вырядилась, вырядилась.
(Но ей весело. Она останавливается, важно закинув голову, потом идет торжественно и церемонно кланяется.) Здравствуйте, Андрей Николаевич, я очень рада…
Н а с т е н ь к а
(восхищенно). Люба!
Л ю б а
(играя). Вот и Настенька. Вот видите, какая дылда стала.
Н а с т е н ь к а
(в упоении). Ой!
Л ю б а
(продолжая игру). Входите. Я вас ждала…
Входят д е д С а б у н о в и А н д р е й Н и к о л а е в и ч, высокий, красивый человек с седыми усами, в кожанке.
Ошарашенная Люба застывает.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Любовь Никитична… Люба, ахнув, убегает прочь, скрывается за перегородкой.
С а б у н о в. Опять Настька что-то выдумала. Она вечно устраивает.
(Настеньке.) Возьми пальто, повесь на гвоздь и убирайся отсюда.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Я боюсь, что не вовремя я…
С а б у н о в
(грозно). Как — не вовремя?
Н а с т е н ь к а. Нет, что вы! Мы как раз специально вас ждали! То есть я хочу сказать… Люба с утра дома. Я сказала? Люба сегодня выходная, днем бегала на рынок, потом торопилась платье починить, а тут ни с того ни с сего вы свалились, просто кошмар. Господи, что я…
(Убегает.)
С а б у н о в. Ну? Видал! Это вот и есть ивашинская порода, мелкая рыба. Я всех своих так делю: на ивашинских, это по жене, и на своих — на сабуновских. А то еще у меня перчихинское отродье есть — Елизавета, жена моего старшего, но эта не в счет. Старика-то Ивашина знавал?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Нет.
С а б у н о в. Кондуктора Ташкентской железной дороги? Отца моей жены Голгофы? Ну, да ты молодой, где тебе. А был он вылитая Настька: суетливый и дурак. И здоровье не то. Я считаю, он моего Алексея чахоткой наградил. Рядом с ним Сабуновы как огромные дубы. Мой отец женился вторично, когда ему стукнуло семьдесят лет. А в семьдесят пять он свернул челюсть товарному кассиру станции Туркестан, когда тот сунул ему взятку.
Появляется Л ю б а. Она в своей обычной аккуратной железнодорожной курточке.
Л ю б а. Отец позабыл, что вы давно знаете все истории про Сабуновых.
С а б у н о в. Про кассира он не знает.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч
(улыбнулся). Знаю.
С а б у н о в. Ну, тогда не знаешь, почему я свою жену прозвал Голгофой. Это из священного писания и обозначает — высшие муки.
Л ю б а. Так ведь тогда вы для нее были Голгофой.
С а б у н о в. Жена всегда Голгофа. Понимать надо.
(Андрею Николаевичу.) Не унывай, Андрюша. Я пошел.
(Идет к двери.) И соображай! Люба у меня «сабуновская», не «ивашинская». Не мелкая рыба. И ты давно уж в нашем доме свой.
(Хитро подмигнув, ушел.)
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Постарел Никита Федорович.
Л ю б а. Вы давно у нас не были, чуть не с самой войны.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. В июле сорок первого. Время какое! Фашисты у Волги, к Кавказу подобрались. Из Баку — один путь — наша дорога. Минуты свободной не остается.
Л ю б а. Я знаю. И у нас тоже, а ведь раньше — на что тихо жили.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Да. Но вот все-таки приехал.
Молчат. В дверь просовывается Г а л и н а В а с и л ь е в н а.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(шепотом). Что? Гости?
Н а с т е н ь к а
(делает страшное лицо). Идите, идите, не до вас.
Утаскивает ее. Люба наливает вино и ставит тарелку перед гостем.
Л ю б а. Прошу вас, угощайтесь. Бедно у меня. Кручусь целый день, так что по домашности не успеваю.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Я думаю, что теперь больше, чем когда-нибудь, семья должна быть.
Л ю б а. Я согласна.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Без семьи человек ноль. Вот и я мыкаюсь, ни к чему не пристал.
Л ю б а. Я понимаю, хотя у меня Витюша, да и Настенька тоже, а вы одни.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Конечно. И к тому же вы в своем одиночестве крепко на ногах стоите. Витюшку, может, и напрасно взяли, но честь вам, Любовь Никитична.
Л ю б а
(улыбнулась). Говорить нечего, немало терплю я с ним. Вроде бы и обуза он. А на самом деле — какая обуза? Нет, правда, сколько радости! Как ни устану, а помню, должна я быть на высоте. Витюша растет у меня, знаю — ради чего живу… Фу ты, расхвасталась. Что ж не угощаю вас! Выпейте, прошу вас.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Так ведь разве хвастаетесь?
(Поднял рюмку.) За ваше счастье пью.
Л ю б а. А я не знаю, где оно — счастье? Может, оно и есть уже у меня, а может — будет?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Безусловно, будет.
Л ю б а
(опуская глаза). Знаю только — надо жить коли не для себя, так для малого, для него.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. И для себя, и для него.
(Пьет.)
Молчат. Высовывается Н а с т е н ь к а и тотчас скрывается.
Я писал Никите Федоровичу, что заеду и буду говорить с вами.
Л ю б а
(тихо). Я письмо это прочла.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч
(улыбнувшись). Тогда нечего и добавить. Решайте.
Л ю б а. Я… я… думала…
(Закрывает лицо руками.)
Не вытерпев, снова высовывается Н а с т е н ь к а, Андрей Николаевич не видит ее. Молча закусывает.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Вы человек рассудительный, и это очень хорошо. Выслушайте меня.
Л ю б а
(совсем тихо). Я слушаю.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Вам известно, живу я в Ташкенте. Езжу теперь начальником поездов и маршрутов специального назначения. Не скрою, приходится бывать и поблизости фронта. Работа у меня серьезная. И меня ценят. В районе вокзала у меня большая комната с террасой. Тут же — садик. Не скажу — большой, но фруктовый. У нас имеется закрытый распределитель и столовая повышенного типа. Одним словом, с этой стороны вам будет не в пример легче. И расчет тут полный. Я живу хорошо.
По мере того как он говорит, Люба становится все спокойнее.
Л ю б а
(даже чуть насмешливо). У меня тоже обеспечение, хотя и не такое, как ваше, но зато у меня свой дом и сад. Первая вишня в этом году должна быть. И корова у меня, огород.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Дом и налаженное хозяйство — великое дело. Но семья — главное. Семья всему противостоит.
Л ю б а. Помогает семья, я согласна.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Вот. Но разве я могу в военное время просить о переводе сюда, в такое второстепенное место?
Л ю б а. И я с тем согласна, что сейчас нужно быть там, где труднее. Но если на то пошло, то наша станция тоже не второстепенное место. Мы не справимся, тогда и Ташкент не справится. Одна неразрывная цепь.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Верно, конечно. А перебираться все-таки вам надо…
Л ю б а. Коли жить вместе…
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Я, Любовь Никитична, уже говорил насчет вашего перевода. Люди рады помочь мне.
Л ю б а
(прищурилась и вскинула голову). А что, если у нас с вами не сладится общая жизнь? Что тогда?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Не допускаю. Я — старый друг ваш, я знаю вас давно.
Л ю б а. Друг — одно, а муж — другое. Да и я, может, стала другая?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Семья сколотит воедино, и это уже навсегда.
Л ю б а. А коли нет? Коли не будет так?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Любовь Никитична!..
Л ю б а. Люди, говорите, вам помочь рады? Вокруг меня тоже люди. И меня уважают саму по себе, а не ради другого человека.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Кто же сомневается, помилуйте…
Л ю б а. Я, Андрей Николаевич, не сразу, а с большим трудом достигла такого положения. И за войну — особенно. Баба-то я баба, а разве могу теперь думать о том, чтобы свою жизнь полегче устроить? Было бы зачем.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Как то есть зачем?
Л ю б а. Не для дома же с террасой? Нет, Андрей Николаевич. Было бы так, чтобы — достойно. А вы куда тянете? Куда меня тянете?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Что вы хотите сказать этим, Люба?
Л ю б а
(сдвинула брови). Вашим словом отвечу: не расчет.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. То есть как это?
Л ю б а. Не расчет. Так я сказала. Неужто непонятно?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Понятно.
Он встает, молча надевает пальто, уходит, и она не провожает его. Выбегает Н а с т е н ь к а и бросается к Любе.
Н а с т е н ь к а. Люба… Люба!..
Л ю б а. Не смей жалеть меня! Уйди!
Сцена темнеет.
Слышен гудок паровоза. Далекий, он уносится еще дальше. И когда вновь возникает свет, уже совсем вечер. Горит керосиновая лампа. Л ю б а движется по комнате, убирая. На большой деревянной кровати, постеленной на ночь, спит В и т ю ш а. Люба прикручивает фитиль и подходит к мальчику.
Л ю б а. Спишь? Спи, маленький. Спи, золотенький мой. Намаялся за день, набегался. Ну, хочешь, расскажу тебе про сказку?..
(Присаживается около него и начинает тихонько напевать.)
Там, у самой сини моря,
Есть заветная страна…
Фитиль в лампе вздрагивает и гаснет. Еще некоторое время слышен голос Любы, потом смолкает. Поезд грохочет в темноте. Потом слышно, как отворилась дверь, и две фигуры, два силуэта выросли на пороге.
Г о л о с м у ж ч и н ы. Я скажу, есть здесь кто-нибудь? Почему дверь открыта? Чиркни-ка спичку, старик.
Л ю б а. Кто это?
Вскочила, торопливо зажигает лампу. Теперь видно, в дверях стоят В а с и л и й И в а н о в и ч и К о с т я, смущенные, и нерешительно мнутся.
«Скажу, скажу»… Как вы сюда попали? А Кудлатый?
В а с и л и й И в а н о в и ч. На этот раз отвязанный. Да мы, к счастью, с собаками дружить не разучились.
К о с т я. С женщинами потруднее.
Л ю б а. Что вам нужно?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу… Фу, фу, прилепилось слово…
(Окончательно смутился.) Вышло так. Дают нам ордер, а мы разве знаем, как ваша улица называется? Щорса, десять. Взяли, идем. Ну… Вы, может, подумаете… А вышло так… Щорса, десять. Прямо в вашу квартиру.
Л ю б а. Раз ордер, значит — располагайтесь. Теперь всех уплотняют.
У Кости падает мешок с котелком.
К о с т я. Прошу прощенья.
Л ю б а
(поднимает мешок и подает ему). Что сделаешь, раз ордер. В кухне у меня живет одна эвакуированная из Киева. А вам придется тут, за перегородкой. Идите, пока я лампу не потушила.
Они проходят, стараясь не шуметь, и по дороге Василий Иванович задерживается вблизи спящего Вити.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Спит. Как большой. Сколько ему?
Л ю б а. А я в точности не знаю. Сирота он, лет семь, должно быть.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Лет семь. Это хорошо, правда, правда.
Уходит за перегородку вслед за Костей. Слышно, как там с грохотом рушится стул. Визг Настеньки.
Н а с т е н ь к а
(выбегает из-за перегородки, заспанная). Кто там? Что там?
Л ю б а. Да это жильцы к нам новые по ордеру пришли, а я забыла, что ты спишь. Тащи тюфячок сюда.
Н а с т е н ь к а. Господи, очуметь.
Обе примолкли. Слушают. За перегородкой тихо.
Л ю б а. Зажгите коптилку. Там коптилка на тумбочке.
За перегородкой чиркают спичкой. Что-то говорят шепотом. Упал костыль Кости. Потом появляется В а с и л и й И в а н о в и ч, без шинели, на гимнастерке орден.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу… извините… фамилия моя Дробатенко, зовут меня Василий Иванович, по профессии садовод, колхозный пасечник, ну и рыбак, само собой разумеется, как все у нас. Житель хутора Михайловского, что у самого синего моря. Оба мы раненые. Костя приятель мой, старик двадцати двух лет, тоже с наших мест. В одном госпитале лежали, в городе Бийске.
Л ю б а. У нас тут не мало таких людей, как вы, проживает.
Застенчиво показывается К о с т я.
Н а с т е н ь к а
(про себя). И этот с ним.
(Косте.) Здравствуйте, вы меня не узнаете? Это я утром упала.
К о с т я. Ну и как?
Н а с т е н ь к а
(вызывающе). Ну и так.
Л ю б а
(озабоченно). Сенничек я вам еще один дам. Но пока что придется спать на полу, а потом козлы устроим.
Настенька приносит чайник и ставит его на стол.
Н а с т е н ь к а. Присаживайтесь, угощайтесь. И не остыл совсем.
К о с т я. Премного благодарны. Не нуждаемся.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не крысся, хватит.
(Настеньке.) Я скажу, в самый раз, с утра не пили.
(Достает из мешка хлеб, отрезает половину и подвигает ее Любе.) Не угодно ли?
Л ю б а
(зардевшись). Нет, что вы! У нас свой!
Н а с т е н ь к а. Мы давеча вот как наелись!
В а с и л и й И в а н о в и ч
(разворачивая тряпку с большими кусками рафинада). А с сахаром?
К о с т я
(подвигая рафинад Настеньке). Берите.
Н а с т е н ь к а. Ну еще! У нас своего завались!
В а с и л и й И в а н о в и ч
(добродушно). Так ведь это ж солдатский! Без церемоний!
Люба, подперев ладонью щеку, смотрит на Василия Ивановича, хозяйственно, домовито отрезавшего два больших куска хлеба — Косте и себе, и на Костю, который подковылял к стулу и опустился на табурет.
Л ю б а. Сколько людей к нам пригнало… Подумать только, куда немец зашел! А ведь говорили до войны, что, в случае чего, пяди своей не уступим. Чужой не надо — своей не отдадим. Воевать будем на их земле. И говорили — малой для себя кровью будем воевать. А что получилось? Как понять это?
В а с и л и й И в а н о в и ч. В свое время разберемся, как понять.
(Сурово посмотрел на нее.) А вы что же, так вот перед каждым встречным-поперечным в советской власти сомневаетесь?
Л ю б а. Вы-то что говорите? В уме?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, не о том речь сейчас! Не те заботы!
Л ю б а. Я понять должна. И вы — не встречный, не поперечный. Разве не вижу? Иначе разве сказала бы?
В а с и л и й И в а н о в и ч. То-то, сказала бы… Встречный… Поперечный… Такие дела…
К о с т я. У них дела! Сидят здесь в тылу, умничают, а мы во всем виноваты…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Помолчи.
К о с т я
(отмахнулся). А!..
Л ю б а
(Василию Ивановичу). Поймите, я знать должна, чтобы людям отвечать — они спрашивают.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(улыбнувшись). Почему же у вас? Вы что, у них главный политик?
Л ю б а. Какой я политик? Никакой не политик…
В а с и л и й И в а н о в и ч. А все-таки, видите, у вас спрашивают. Я скажу, коли так, существенное дело…
Л ю б а. Дело-то, может, не существенное, а спрашивают, я знать должна.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Понимаю.
(Помолчал, посмотрел на нее.) Ответ для всех один. Я скажу, у советской власти рука крепкая, надо — жестко возьмет, не разнюнится. Так что каждый делай свое дело, на какое поставлен, себя не щади. Я всю Россию прошел-проехал — так оно и происходит. А будет и того пуще. Значит, какое сомнение? Только у врага сомнение.
Л ю б а. Вот как хорошо сказали…
К о с т я. А я в своем виде какое дело буду делать?
Н а с т е н ь к а. Так вы же герой! Искалеченный весь!
К о с т я. Что-оо?!
Н а с т е н ь к а
(испуганно). Ой… Я сказала?..
Лай собаки. Голоса на дворе, шум.
Дверь распахивается. Входит Е л и з а в е т а, закутанная в платок.
Е л и з а в е т а. Любка, не спишь?
(Увидела Василия Ивановича и Костю.) Кто это у тебя? Гости?
Л ю б а. Нет. По ордеру. Жильцы новые. Тебе что?
Е л и з а в е т а. Фу-у, замаялась. По всей улице бегала, по всем домам собирала баб.
Л ю б а. На станции что-нибудь?
Е л и з а в е т а. Ага. Три эшелона ночуют. Два воинских, один с эвакуированными. Народу полно, кухня не поспевает обслужить. Велели мобилизовать. Уж и Танька пошла, и Прохоровна, и все кружковские, и я…
Л ю б а. А за мной, значит, в последнюю очередь посылают?
(Надевает курточку.)
Е л и з а в е т а. Да понимаешь, выходной у тебя в кои-то веки… Ну… и Андрей Николаевич приехал.
Л ю б а
(с гневом). Глупости какие! За мной надо было в первую очередь! Безрукие!
Е л и з а в е т а. Верно, верно, конечно. Вот и получилось… Ай, Любка! Люди-то в эшелоне, представляешь, из самого Ленинграда! А в кухне, как на грех, кроме риса — ничего. В райпо за жирами послали.
Л ю б а. Всегда у вас так. Настька, и ты собирайся.
(Секунду подумав.) Галина Васильевна!
Е л и з а в е т а
(продолжая). А один эшелон, так он из Мары с курсантами… Молоденькие совсем… Устали…
Л ю б а. Галина Васильевна!
Г о л о с Г а л и н ы В а с и л ь е в н ы. Господи! Я уже сплю. Люба, что?
Л ю б а. Мобилизация.
Г о л о с Г а л и н ы В а с и л ь е в н ы. Сойти с ума, чуть не каждый день.
Е л и з а в е т а
(Любе). Так ведь позор может получиться, коли наша станция не сможет выдать людям по их аттестатам… Курсанты, ленинградцы…
Г о л о с Г а л и н ы В а с и л ь е в н ы. На улице тает или мороз?
Е л и з а в е т а. Мороз.
(Тихо.) Кикимора!
(Любе.) Ганька Винчугова побежала в райпо, остальные уже на вокзале, а я за тобой.
Появляется Г а л и н а В а с и л ь е в н а, одетая, как живописный охотник в тундре.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(зевая). Я готова.
(Увидела Василия Ивановича и Костю.) Ах, простите. Что? Опять гости?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Мы не гости. Мы — по ордеру.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. А…
Л ю б а. Ну, идем…
Все женщины выходят.
(В двери Василию Ивановичу и Косте.) В шкапчике каша холодная и рыба. А вас я запру на замок снаружи, чтобы не беспокоить.
Ушли. Стихло. Василий Иванович и Костя одни. Через секунду барабанят в окно.
Ж е н с к и й г о л о с. Любка! Любка!
В а с и л и й И в а н о в и ч
(приблизив лицо к темному стеклу). Она ушла, ушла!
(Машет рукой; в окно продолжают барабанить.)
Ж е н с к и й г о л о с. А Настька? А Елизавета? А Галина? Галина-кикимора?
В а с и л и й И в а н о в и ч
(весело). Ушли! Ушли!
(Возвращается к столу, садится.) Я скажу — хорошо. Вот и человеческое тепло, старик, вот и дом.
Т е м н о
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Обстановка первой картины. Но это уже весна.
Любин двор необыкновенно преобразился. Починена изгородь, крыльцо с заново отстроенными перилами. Д е д С а б у н о в сидит у своего дома. На дворе Любы В а с и л и й И в а н о в и ч сколачивает из досок надстройку колодца, К о с т я, сидя на крылечке, насвистывает.
С а б у н о в. Весна у нас тут начинается с ветров, с бури. Это еще не весна.
В а с и л и й И в а н о в и ч. А у нас, папаша, сейчас самые штормы. Но я скажу, в первый тихий день пчел можно переводить в летние домики, а сады готовить к цветению. Главная же работа — в море. Рыба сейчас идет, сельдь, скумбрия.
С а б у н о в
(обиделся). Рыба и у нас есть.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Это — в арыках?
С а б у н о в. И в них. Не тут, конечно, а в головном. Ну, и на реке.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Это которая за водокачкой?
С а б у н о в
(сердясь). В ней. А то можно и на
Сырдарье, также в озерах. От тридцать девятого разъезда осьмнадцать километров. Богатые места. Сазан. Щуки. Вот такие.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ну-у?
С а б у н о в. Не скажу — часто, но… бывает.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я не сомневаюсь, раз вы говорите. Всюду у нас, папаша, хорошо, когда мирная жизнь. Я — солдат и уж это понимаю от глубины сердца.
С а б у н о в. Я сам солдат.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Война-то теперь пострашнее прежних.
С а б у н о в. Не хвастайся. На такой войне, как я, никто из вас отродясь не был. Помню, японцев крушили. Порт-Артур штурмом брали. Цусиму разделали под орех.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ну-у?
С а б у н о в. Не скажу, совсем под орех… но… под Ванфангоу и Ляояном немало полегло Сабуновых — Сабунов Андрей, Сабунов Петр. А у Александра Сабунова, дяди моего, обе ноги оторвало… А теперь что? Машины воюют — не люди.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Конечно, непохожая война.
С а б у н о в. А вот мы без снарядов воевали, без танков, без автомобилей, без ничего…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я и говорю, непохожая война.
С а б у н о в. То-то! Мне вот рассказывали, что у вас в каждой роте парикмахер на фургоне едет, бойцов подбривает и одеколом прыскает, чтобы вша не заела.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Насчет этого, я скажу, несколько преувеличено, хотя стараемся чистоту поддерживать. Но главное не в том. Ведь вот, как, ежели по совести, ответить: за что полегли и Андрей ваш и Петр Сабуновы?
С а б у н о в. Вон что! И за героев их не считаешь?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Неправда. Почитают их у нас, как никогда раньше не почитали. И кресты георгиевские, какой у вас есть, тоже почитают.
С а б у н о в. Ага! Запрыгал, как селезень на солнышке! Признаешь?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Признаю. Что тут скажешь, папаша, от всего сердца признаю.
(Уходит, посмеиваясь, в глубь двора, захватив топор и доски.)
Костя насвистывает.
С а б у н о в
(осматривает колодец). Нет, солдат приятный. И, если втолковать, соображает.
К о с т я. Папаша?
С а б у н о в. Аиньки?
К о с т я. А ведь Мукден-то вы не взяли. Цусима-то позором была, а Порт-Артур вы отдали. Вот вам — царская ваша армия.
С а б у н о в. Отвяжись, не царский я! Я — русский. Я за Цусиму, может, по сей день душою болею. Я и теперь за все болею. Мне бы годы твои! Я бы фашистов ни за что не пустил! А ты песенки насвистываешь, радуешься невесть чему…
К о с т я. Не радуюсь, но и не плачу. Война не кончена. И разговор этот я прекращаю.
С а б у н о в. Что?
К о с т я. Прекращаю. Тут до шуточек я не охотник. Ни себе не позволю, ни вам.
С а б у н о в. Что?
К о с т я. То.
(Уходит, тяжело опираясь на костыль.)
С а б у н о в. А-а! Он до шуточек не охотник. Разговор прекращает! Не позволит!
Е л и з а в е т а
(в дверях). Так вам и надо. Сами пожелали слушать ихние грубости.
С а б у н о в. Да я из него бишбармак сделаю, щенок.
Е л и з а в е т а. Ведь просила вас не водиться с этими Любиными жильцами. И без того слухи.
С а б у н о в. Что еще такое?
Е л и з а в е т а. Папаша! Нам всю жизнь тут жить и Любе тоже. А они — фить, и нет их! Как это Люба допускает?
С а б у н о в. Не тебе, перчихинская порода, ее учить.
Е л и з а в е т а. Не мне, так людям. Все видят.
С а б у н о в. Что видят?
Е л и з а в е т а. Солдат крутится на дворе, как у себя дома.
(Показывает на колодец.) Нате, пожалуйста. И вечерами они играют в подкидные дурачки, будто одна семья.
С а б у н о в. Так что ж такого? Молодец баба! Действует по-сабуновски. Смотри, как он ей все отремонтировал.
Е л и з а в е т а. Боком выйдем. Военная любовь — короткая.
С а б у н о в. Какая любовь?
Е л и з а в е т а. Понимать надо. Любина любовь.
С а б у н о в. Врешь ты, перчихинская заноза!
Е л и з а в е т а. Я, папаша, не перчихинская давно. Двенадцать лет, как сабуновская, вашего сына законная жена. Напрасно обижаете. О вашей фамилии пекусь. И о Любе. Промеж себя мы можем и ругаться, но она родная мне.
С а б у н о в. Тшш!
Входит Г а л и н а В а с и л ь е в н а, приодетая. В руках у нее все то же разноцветное тряпье.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Здравствуйте, дедушка. Какой день сегодня прелестный!
С а б у н о в. До свиданья.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Скажите пожалуйста, уже и колодец.
С а б у н о в
(отвернулся). Да вот. Соорудил. Да.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Вы?
С а б у н о в. Я.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(смеется лукаво). Смешно! Как будто бы не знаю кто!..
К калитке подходят А л е к с е й и Л ю б а.
А л е к с е й. Ну, Елизаветушка, а у нас прямо-таки форменное торжество получилось. Сначала ждали начальника участка, а приехал Иван Данилович и сам награждал отличившихся. Кому — обувь, кому — на платье. Всех — кто хоть чем-нибудь проявил себя. А с Любой вышла целая история!..
Л ю б а. Перестань, Леша.
А л е к с е й. А сама рада. И правильно, что рада, а что?
(Елизавете.) Кроме своих, пришли из военного эшелона, из санитарного поезда, который стоит на втором запасном…
Л ю б а. Потом расскажешь, Леша. Ну, хотя бы без меня.
(А самой весело.)
А л е к с е й. Как назвали нашу Любку по имени-отчеству, так и поднялся шум, рукоплещут, как в театре. Ее даже в краску бросило. Заботливая, кричат, вежливая, и кипяток всегда есть, и чистота, и с ранеными особое обхождение, и газеты, и сама придет порасскажет, а то и песенку споет, кому грустно. С ее песнями солдаты так и уезжают от нас…
Л ю б а. Будто уж и так…
С а б у н о в
(угрожающе). Пой, пой.
Л ю б а. А что? У меня песни красивые, напрасно вы!
С а б у н о в. Красивые?..
А л е к с е й
(посмотрев на отца и на Елизавету). С чего это вы уставились на нас?
Елизавета, хлопнув дверью, ушла в дом.
Не пойму!
(Сабунову.) Недовольны чем, папаша!
С а б у н о в. Иди, иди за своей юбкой, с тобой разговору нету.
А л е к с е й. Странно, папаша.
(Пожав плечом, уходит.)
Люба растерянно смотрит на отца, который, отойдя в сторону, стоит насупившись.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(подойдя к Любе, конфиденциально). Смешно, я думала, что вы все же понимаете… Разговоры давно идут, а сегодня дедушка, папаша ваш, тоже узнал.
Л ю б а. Какие разговоры?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Ах, боже мой, нельзя так, Люба! У вас прямо все на лице и написано.
Л ю б а. Что написано?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Счастье ваше.
(Понизив голос.) Со мной бы поговорили, я бы вас научила. Не знаете, какой городок? Моментально разнесется…
Л ю б а. Вы о чем?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Потихоньку надо, дорогая моя. Осторожно. А вы даже похорошели вся!
Л ю б а
(залилась краской). Просто блузочку новую надела. Сегодня комиссия приезжала…
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Боже мой, я понимаю, я сочувствую. Но если так себя вести, то пеняйте на себя. Вот сегодня я дедушку, вашего папашу, спрашиваю, кто колодец сделал, а он — я, говорит, я, — нарочно громко.
Л ю б а. Да ведь это же Василий Иванович, а не он.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Смешно подумать! Неразумная вы женщина, не кричите об этом. Не выставляйте наружу чувств. Понятно? Такая простая техника…
(Улыбнулась, уходит.)
Люба смотрит на Сабунова, который стоит в стороне и исподлобья наблюдает за ней.
С а б у н о в. Как раз подругу себе и нашла, вертихвостку эту.
Л ю б а. Вы знаете, не подруга она мне. Лучше скажите, что за разговоры происходили без меня?
С а б у н о в. Плохие разговоры.
Л ю б а. Колодец кому-то не понравился?
С а б у н о в. Мне не понравился.
(Грозно.) А ну, смотри мне в глаза.
Л ю б а
(тихо). О чем вы, батя?
С а б у н о в. Отвечай. Знаешь, о чем люди болтают?
Люба молчит.
Поняла? Еще отвечай. Правду они говорят или нет?!
Л ю б а. Правду. Да не ту, что думаете вы. У меня по-серьезному.
С а б у н о в. Да ты что, ополоумела? Где ж серьезность эта, или я ослеп? Ведь он к себе вернется, а ты?.. Витьку взяла, ведь он как внук мне! Сестру воспитываешь — Настьку мою! У тебя был муж. Герой гражданской войны. Железнодорожник! И сама — какого уважения достигла? На тебя смотрят. Первая должна соблюдать. А ты…
Л ю б а. Не смеете так говорить. Не понимаете.
С а б у н о в. Не понимаю?
Л ю б а. Перед людьми мне прятаться нечего. Моя совесть чистая. Коли хотите знать… как жила, так и буду жить!
С а б у н о в. Так и будешь жить?
(Ударяет ее по лицу.) Позор!
Л ю б а
(рывком отбросила его руку). Не отец вы мне после этого! И не дочь я вам! Не дочь!
(Быстро ушла.)
С а б у н о в. Не дочь?.. Не дочь…
Выбегает А л е к с е й, за ним, как буря, Е л и з а в е т а.
Е л и з а в е т а. Я тебе твоего права уступать не позволю! Где подарок? Почему тебя подарком не наградили?
А л е к с е й. Елизаветушка, не хватало. Я ж сам в комиссии, руковожу, понимать должна…
Е л и з а в е т а. Как я на люди покажусь?.. Где мое новое платье? Коли его нет на мне, значит, кто мой муж? Лодырь?
А л е к с е й. Елизаветушка, да кто же не знает меня на станции…
Е л и з а в е т а
(наступая на него). Я заставлю тебя! Действуй! Требуй, стучи кулаком, напирай, грози, доказывай, во все места жалуйся, на все корки разделывай, всех начальников пуши, пусть знают, пусть, что ты в праве своем…
На ее выкрики показывается Л ю б а; Сабунов, как только она вышла, уходит.
А л е к с е й. Елизаветушка…
Е л и з а в е т а. Не перечь!
Появились В а с и л и й И в а н о в и ч и К о с т я.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Расшумелись невесть с чего, а я вам газетку дюже интересную принес…
Е л и з а в е т а
(запнувшись). А?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Между прочим, про ваши станционные огороды написано.
Е л и з а в е т а. А ваше какое дело? А вы кто такой тут, чтобы встревать?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, соседи все-таки. Вы слушайте, слушайте.
(Читает.) «Огороды в настоящий момент — важнейший участок для улучшения жизни трудящихся, а многие недооценивают и, рассчитывая на чужой труд, относятся к работе на общественных огородах халатно». Понимаете?
Е л и з а в е т а
(упавшим голосом). Ну?
Люба, улыбнувшись, посмотрела на Василия Ивановича.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(выдержав паузу и повышая голос). «Тем более надо отметить работу женщин нашей станции, которые образцово провели весенние посевы».
Е л и з а в е т а
(расплываясь от удовольствия). Они напишут! Я Ганьку Винчугову разве что лопатой не подгоняла…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Уж не знаю как, а пишут вот что: «Бригада во главе с женой нашего передового диспетчера товарища А. Сабунова показала пример…»
Е л и з а в е т а. Неужто так и написано?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Возьмите, почитайте сами…
Е л и з а в е т а. И возьму. Давайте, что ли.
(Берет газету.) Леша, пойдем, а то еще опять кричать начнут.
Уходит с Алексеем, который оглядывается и весело подмигивает Василию Ивановичу.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(Елизавете вслед). Голову под кран не забудьте, голову. Очень помогает от прилива крови.
Алексей и Елизавета ушли.
К о с т я. Ведь вот из-за тряпки на какой крик способна. Оттого, что сидит и ничего, кроме своего носа, не видит.
Л ю б а. Снаружи, может быть, и так. Народ у нас простой, иной раз даже грубый, это правда. Жизнь трудная.
К о с т я. Трудная? В очереди постояли — вот и все, что знаете. А когда город горит и с детишками под бомбами в степь бегут — это знаете?
Л ю б а. Под бомбами не были, но тоже понимаем, что такое война.
В а с и л и й И в а н о в и ч. А все ж таки стыдно смотреть, из-за чего ссорятся.
Л ю б а
(быстро повернулась к нему). А я думала, понимаете вы.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ей бы мужа другого, Любовь Никитична.
Л ю б а. С вашей мужской точки зрения, может, правда. А она, коли хотите знать, о подарке кричит от самолюбия своего, ни от чего больше. Она мужем своим гордиться желает! Такие вот, как Алексей, мужчины наши, которые остались и не пошли на войну, да жены их, — думаете, мало таких, — они за десятерых работают, себя не жалеют, ни на какие трудности не жалуются. А вы с какой стороны на них смотрите, что видите?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Мы не про них. Мы не женщинами, а бабьем возмущаемся.
Л ю б а. Бабьем! А что было бы с детишками вашими, кабы не стало этого бабья? Я про себя скажу: мне легко. У меня один Витюшка да Настенька. А вот хотя бы Зинаиду Гурилеву возьмите, вон там живет. Она голосиста, Елизавета рядом с ней тихоня. Так на ней пятеро висят, мал мала меньше. И все сытые, чистенькие, и в доме порядок — глаз радуется. А ведь это же геройство — семью, детей уберечь. Думаете, не ради них кровь проливают? А для чего, как не ради них? Как не ради того, чтобы нашим детям счастье? А вы — «в свое корыто уткнулись, не видят ничего».
(Ушла.)
Василий Иванович и Костя некоторое время сидят молча.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Понял?
К о с т я. Понял то, что нет у меня больше сил из-за этих вот палок сидеть без дела.
(Встает, решительно взмахнув костылями, и идет в сторону улицы.) Тотчас выбегает Настенька.
Н а с т е н ь к а. Не ходите далеко, вам же трудно!
К о с т я. А вам не трудно каждый день после школы за пять километров в колхоз бегать и обратно?
Н а с т е н ь к а. Так я ж здоровая. И вся школа так. Людей-то сейчас мало. А потом — практика. Так я, может, агрономом буду.
(Фыркнула.) И верно, что бегаю. Времени не хватает, вот и бегаю…
К о с т я. Зато у меня чересчур хватает.
(Ушел.)
Настенька побежала за ним. Василий Иванович один.
Потом появляется Л ю б а.
Л ю б а. Простите, что раскричалась я. Может, несправедливо.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Все правда, что сказали, Люба.
Л ю б а. Разволновалась. И с отцом разговор был.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Разговор? Об чем?
Л ю б а. Да так. Дела разные.
(Вдруг сразу светлея.) А я благодарна вам.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Это за что же?
Л ю б а. Много за что.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Что вы, Любовь Никитична.
Л ю б а
(улыбаясь). Нет, правда. Смотрите, как с Елизаветой нашей деликатно управился. Вот какой! Прямо смех.
(Подошла к колодцу.) Каждый день возьмет и что-нибудь строит. Сад-то у меня какой стал! Глядите, деревца словно ожили!
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не могу видеть, когда дерево неухоженное стоит. А вишня у вас плохая.
Л ю б а. Хозяйка плохая.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Неправда, хорошая хозяйка. Да только, когда мужик в доме, сразу все по-другому идет.
Л ю б а. Верно. Бабе заступа нужна, — по себе знаю. Сколько лет одна. Ой, что я… Тоже еще разговор начали!..
(Отвернулась, склонившись над колодцем.) Глубина-то какая, глубина. И дна не видно. Как омут.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Отстоится денек, и будет видно. У вас тут вода близкая. А хоть бы и глубже? Для меня эта работа — счастье. Я скажу, до чего человек к своему делу привязан.
Л ю б а. Вернетесь вы к своему делу, уверена я.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Вы знаете, вернусь, да не тот. Ходишь и думаешь, а рассказать даже вам нельзя.
Л ю б а. Говорили один раз. Больше не будем.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Молчу. Давно сказали мне, чтобы — не забывал, помнил.
Л ю б а. Разве можно сейчас не помнить? До хутора вашего, до Михайловского, — далеко. И что там — неизвестно. И страшно об этом думать. А не думать нельзя. И вам, и мне.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Всегда об этом говорите.
Л ю б а. А иначе как? А если бы не так вела себя — что ж, хорошо было бы? Разве хорошо?
В а с и л и й И в а н о в и ч. А так — хорошо?
Л ю б а. Не смейте говорить. У вас дочка, жена! Семья, семья ваша. Где они, представляете? Да ведь это и мне по лицу! И мне!.. Как можно… У вас волосы седые на висках. Сколько горя-то человеческого видели…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Говорите так, будто не лежит это камнем и у меня на сердце…
Л ю б а. Не может не лежать. Дочка-то ваша — с мою Настеньку. Как никогда нужны вы ей, чтобы обнять, порадовать, ободрить. У вас сердце зайдет, когда снова увидите ее… И ведь сами говорили, правду говорили, что в доме у вас было хорошо — мир и порядок. Долгую жизнь совместно прожили с человеком, с женой. Разве плохую жизнь? Не стыдно вспомнить. Так как же? Когда горе-разлука — забыть можно? Отвечайте.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я не забыл. Я только скажу, руку, ногу переломишь — оживется, душу переломишь — нет. Увидел я, Люба, что бывает и по-другому, чем у меня было. Жил-был работничек честный, пасечник и рыбак, вроде от него и польза была, да какая? Сказать по совести, для своего малого спокойствия жил, а вы для людей живете, вот как! Э! Что говорить! Уйти от вас — как в пропасть!
Л ю б а. Ох, не надо…
Шумит ведро, брошенное в колодец. Завертелось колесо, разматывая веревку. И темнеет уже. Над степью — розовое зарево.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Седина, говорите… В мои-то годы — пустыми словами играть?..
Л ю б а. Не про то я.
В а с и л и й И в а н о в и ч. В такое-то время — пустыми, лживыми словами?
Л ю б а. Так ведь я, может, верю, зачем вы?..
В а с и л и й И в а н о в и ч. О себе подумайте! Я скажу, как птицу от каждого шороха кидает вас. Строгая вы, не поймешь…
Л ю б а
(тихо). Так ведь я, может, от любви-то и строга…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Люба моя…
(Обнял ее.)
Л ю б а. Слышу я… Слышу…
(Застыла в его объятиях.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Гляди, степь горит…
Л ю б а. Это на озерах камыш жгут. Старый камыш — чтобы новому дорогу дать.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Полыхает… Так вот и в сердце моем…
Л ю б а. Ах, Василий, Василий…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Люба… Жена моя…
Л ю б а. Молчите. Я ударю вас.
(Оттолкнула его, быстро ушла.)
Т е м н о
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Занавес закрыт. В темноте возникают позывные курантов. Голос радиодиктора: «Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего…» Текст приказа. Перечисляются названия городов и населенных пунктов, штурмом взятых нашими войсками; следуют имена отличившихся полков, командиров, солдат…
Музыка. Занавес открывается. За сценой гремит духовой оркестр. Та же декорация. Осень. Солнечный день.
Во дворе Любы сидит К о с т я, вытянув забинтованную ногу.
У изгороди, со стороны двора Сабуновых, стоит Н а с т е н ь к а.
К о с т я. Вчера взяли восемьдесят населенных пунктов, сегодня сто двадцать, разгромив три танковых дивизии. Фашиста поперли к морю.
Н а с т е н ь к а. Ваш хутор освободят — что тогда?
К о с т я. Как — что? Уеду.
Н а с т е н ь к а. Так я ж буду скучать! То есть, что я говорю. Я говорю, вот и хорошо. То-то мы будем рады и будем вас провожать…
К о с т я. Скатертью дорога? Приятно слушать.
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Я сказала, что будет жалко. Вы нас забудете, а я никогда. Костя!.. То есть, что я говорю… Я говорю, что напишу вам, как вы там живете, а мы будем жить, как будто вас и не было тут.
К о с т я. Здравствуйте, не было.
Н а с т е н ь к а. Совсем не про то разговор. А про то, что, конечно, были, и это свинство — думать иначе.
К о с т я. Болтаете вы, болтаете, Настенька. Что я хотел сказать вам?
Н а с т е н ь к а. Должно быть, что-то хотели.
К о с т я. Хотел, хотел. Вы русский язык разбираете?
Н а с т е н ь к а. Говорю, но он как-то отдельно от меня.
К о с т я. Можно, например, сказать: «Я давно не спал ночей»?
Н а с т е н ь к а. Не спали? Почему не спали?
К о с т я. Совсем запутался.
Н а с т е н ь к а. И я.
К о с т я. Русский язык очень трудный. Вот, например, говорят — «дайте табаку». Но ведь нельзя сказать — «дайте хлебу»? Получается дательный падеж.
Н а с т е н ь к а
(печально). Дательный падеж.
К о с т я. С того дня, как я начал думать над каждой фразой, вконец запутался.
Н а с т е н ь к а. А вы не думайте.
К о с т я. Нельзя. Разобраться надо. Идите сюда. Господи, лезьте там, тут же колючки. Какая вы неловкая. Слушайте.
Н а с т е н ь к а. А?
К о с т я. Вы Николая Островского читали?
Н а с т е н ь к а. Читала. Я читала: «Как закалялась сталь» и «Не в свои сани не садись».
К о с т я. Это разных Островских, Настя. Я говорю про того, который болен был.
Н а с т е н ь к а. Сказала? Я сказала? Как будто не знаю! А другой жил до революции и писал пьесы, как будто не знаю…
К о с т я. Николай Островский не мог ходить. Он не вставал с постели и писал.
Н а с т е н ь к а. Да.
К о с т я. Вот про это я и думал. Знаете… Когда мне хотели отрезать ногу, а был такой момент, я решил, что не буду жить. Черт с ним, решил, не буду, не могу.
Н а с т е н ь к а. Костя, ужас, как вы могли!
К о с т я. Конечно, глупости. Был только один такой отчаянный момент. А потом здесь… В железнодорожном саду играла музыка. Вы пришли из школы, переоделись и ушли. Усталая до последней степени вернулась с дежурства Любовь Никитична… Это было… очень скоро после того, как мы приехали сюда…
Н а с т е н ь к а. Конечно, скоро, потому что теперь я не хожу больше в железнодорожный сад, когда бываю свободна. Рассказывайте, рассказывайте.
К о с т я. Я сидел и думал: «Вот маленькая станция…»
Н а с т е н ь к а. Не такая уж маленькая.
К о с т я. В том-то и штука, что маленькая! А мимо идут поезда чуть ли не через каждую минуту. Цистерны, цистерны. И на всех путях стоят эшелоны, ждут очереди, чтобы двинуться дальше.
Н а с т е н ь к а. Правда, правда.
К о с т я. Время какое было! У Волги — немцы. Волга отрезана, ее бомбят. Черное море в минах. Дорог нет. Армия может остаться без нефти. Только один путь из нефтяного Баку — этот. И на маленькой станции творится большое дело. Понимаете? Люди не спят. Они делают все, чтобы без перерыва шли поезда. Кто не работал тогда? Только я, один я — как паразит со своими несчастными ногами!
Н а с т е н ь к а. Не смейте так говорить! Вы же были на войне!
К о с т я. Подождите. Как же мне жить, думал я. В саду играла музыка.
Н а с т е н ь к а. Как сейчас.
К о с т я. Нет, не как сейчас. Тогда грустный вальс играли. Но тогда в сад вы ходили не просто гулять, не для себя, а для бойцов проезжающих, для эвакуированных, чтобы хоть на часок словно бы вернулся к ним мирный вечер…
Н а с т е н ь к а
(печально). Я тогда, наверно, гуляла с Ваней Проскукиным…
К о с т я. Наверно, с ним. В общем, сидел я один, слушал музыку и думал. И решил, что раз так, то я должен поступить, как Николай Островский: я должен научиться писать книги.
Н а с т е н ь к а. Писать книги?
К о с т я. Тише. Не кричите. Хотите почитаю?
Н а с т е н ь к а
(перейдя на шепот). Вы написали книгу?
К о с т я. Не написал, а только начал.
Н а с т е н ь к а. Боже!
К о с т я
(достал тетрадь). Вот.
(Свернул тетрадь.) Нет, не буду.
Н а с т е н ь к а. Дайте, дайте.
Он защищается слабо, и она вырывает тетрадку.
Некоторое время пауза.
Н а с т е н ь к а
(читает торжественно). «Константин Митрошин. У самого синего моря, роман в трех томах».
К о с т я. Не читайте так громко.
Н а с т е н ь к а
(читает, бережно перевернув страницу). «Низкое закатное солнце посылало свои последние прощальные лучи на тихую зеркальную гладь моря. Хутор Михайловский был расположен на самом берегу. Из-за густой зелени садов выглядывали беленькие дома с красными крышами. Там и здесь уже зажигались огни».
К о с т я. Читайте тише.
Н а с т е н ь к а
(читает). «Молодой красивый рыбак лет двадцати, стройный и смуглый, легко взбежал на холм и невольно остановился, очарованный необыкновенной красотой вечернего залива. Он так задумался, что не заметил, как к нему подошла девушка: «Ты давно ждешь меня?» — спросила она звонким голосом. «Смуглянка!» — восторженно вскричал молодой рыбак, и сердце его забилось».
К о с т я
(со злостью). Дайте сюда!
(Вырвал тетрадку.)
Н а с т е н ь к а. Костя!
К о с т я. Если бы не ноги, никогда бы не писал.
Н а с т е н ь к а. Вот уж не понимаю! Что говорит человек! Я читала у Тургенева про закат, так у него хуже…
К о с т я. У Тургенева!
Н а с т е н ь к а. Да, да! И я читала недавно, описывался один колхоз, и там тоже было хуже про молодого человека двадцати лет…
К о с т я. Замолчите.
Н а с т е н ь к а. Молчу.
Молчат. Веселый военный марш доносится со станции.
К о с т я
(мрачно). Опять играют.
Н а с т е н ь к а. У южного семафора стоит военный эшелон. Там полгорода собралось.
К о с т я. А вы почему не пошли?
(Покачал головой.) И Ваня там. Ваня Проскукин.
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Я ничего не сказала.
Молчат.
К о с т я. Настенька?
Н а с т е н ь к а. А?
К о с т я. Но все-таки, может, получится?
Н а с т е н ь к а. Я же говорю! Вы не представляете, это написано так, как будто начинаешь читать совсем настоящую книгу!
К о с т я. Но я же хотел написать своими словами, про то, о чем мечтаю!
Н а с т е н ь к а. Ну и напи́шете! И у вас обязательно будет про то, как ваш хутор стал после войны еще красивее, чем был! Как вернулись туда люди и еще больше полюбили свое родное место.
К о с т я. Ладно, ладно…
(Сунул тетрадку в карман.) Знаете что? Давайте пойдем на станцию.
Н а с т е н ь к а. Что вы, куда, ведь далеко, Костя…
К о с т я
(встал). Пойдем.
Н а с т е н ь к а. Ни за что! Слышите? Наши возвращаются. Ага! Они. Вот мы сейчас все и узнаем.
Идут: В а с и л и й И в а н о в и ч, Е л и з а в е т а, А л е к с е й, С а б у н о в, С а м с и к о в, В а р в а р а и с о с е д к а Любы.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я в тех местах вырос, знаю все дороги и тропки. Некуда им податься. Хутор Михайловский у самого моря. Прижали их там. Командир, слыхали, прямо на это и указывал.
Е л и з а в е т а. А про железнодорожников слыхали, что сказал? Он оказал, не мало они поработали для победы. И здесь, у нас!
(Обнимает Алексея.) Лешенька!
А л е к с е й
(смущаясь). Ну, ну, Елизавета, ведь люди…
Е л и з а в е т а. А что? Муж ты мой, муж!
С о с е д к а
(Самсикову). Ты, солдат, объясни ты мне еще про сводку. Сынок-то, Андрюша мой, он на Украинском, он аккурат на Украинском.
С а м с и к о в. Значит, там, у нас! Про Киев слыхали?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Я с Киева. А что вы скажете за вашу Винницу…
С а м с и к о в. Винницкое направление…
В а р в а р а. Фе-едя!
Е л и з а в е т а. И еще сказал, поздравляю вашу станцию и благодарю от Красной Армии…
С о с е д к а
(Самсикову). Да ты не уходи! Красавец! Ты же крови своей не жалел, чтобы дожили мы до такого дня!
С а м с и к о в. Что вы, мамаша… Я ж временно раненый, в бездействии я… это им, бойцам на фронте, слава!
С а б у н о в. Полководцам нашим слава! Русским солдатам слава!
Все примолкли, взволнованные. Стало очень тихо. И потом, в этой тишине:
С о с е д к а
(Самсикову). Не тоскуй, что не с ними. Милый, ты еще повоюешь, я вижу! Гляди, какой здоровый стал, румяный. Идем, идем, галушек дам, твоих, винницких…
С а м с и к о в
(взволнован). Я, мамаша…
С о с е д к а. У меня же сынок, Андрюшечка мой, на твоем, на Украинском. Такой же, как ты, солдат, и как вот Василий Иванович наш… Солдаты мои дорогие…
(Обнимает их.)
В а с и л и й И в а н о в и ч
(посмеиваясь). До галушек-то мы охотники. Да ведь не заслужили пока еще… Он прав.
С а м с и к о в. Заслужим! И коли моя Винница сейчас в огне от бомб страдает…
В а р в а р а. Фе-едя!
С а м с и к о в. Я и говорю — страдает. И я страдаю. Спасибо вам, мамаша.
Отходит к Варваре.
С о с е д к а. А как хорошо-то, как хорошо! Вернетесь вы оба вскорости в свои родные места, к своим родным людям, после стольких-то лет, после ранения, чужих мест…
Варвара решительно уводит Самсикова.
Уж простите нас, коли были неприветливы-неласковы, не поминайте лихом. И вы, Василий Иванович, в своем хуторе лихом не поминайте. И чтобы счастье было вам, заслужили вы его…
Идет Л ю б а. Она возвращается с дежурства. Увидав ее, соседка сразу запнулась и смолкла.
С а б у н о в
(Елизавете, нарочно громко). Собери-ка мне чего-нибудь поживей, каши, молока. На дежурство спешу, или забыла?
(Ушел в дом.)
Е л и з а в е т а. И правда! Что за разговоры когда дел невпроворот.
(Соседке.) А что это тебя словно святой Кондратий прихватил? Никакого представления тут нету!
(Скрылась в доме.)
С о с е д к а. Господи! Господи!
(Глянула на Василия Ивановича, на Любу, всплеснула руками и побежала со двора.)
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Любинька! И верно! Наш-то Василий Иванович уезжает! Смешно подумать, совсем уезжает!
В а с и л и й И в а н о в и ч. Да нет же. Рано еще об этом думать… Я скажу, стоял тут, Любовь Никитична, эшелон у южного семафора. Командир собрал народ, рассказывал насчет фронта, разбирал сводку… Какие вести-то!
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Хоть и так, а нам все ж таки грустно.
(Посматривая на Любу, уходит.)
Л ю б а. Конечно, грустно: друзей провожать. Но я рада. Подумайте, домой человек едет, жену, дочку увидит, счастье какое! Рада я от всей души, а прощаться — грустно.
(Улыбнулась.) Пироги печь будем, провожать будем!
(Ушла в дом.)
Выходит С а б у н о в, одетый в железнодорожную форму, при медалях и георгиевском кресте, с авоськой в руках.
С а б у н о в. Рано еще празднички устраивать. Настька! Бери литеру «бе», беги в магазин, селедку по осьмому талону выдают.
(Ушел.)
Н а с т е н ь к а
(Косте). Значит, и вы собираетесь? И вы, и Василий Иванович?
К о с т я. Так ведь там люди нужны! И ведь это к своему морю!
Н а с т е н ь к а. А книга-то как же, роман в трех томах?
К о с т я. Помолчали бы, ведь просил! Коли друг, забудьте об этом.
Н а с т е н ь к а. Забуду. Пожалуйста.
(Бежит, цепляясь за изгородь, и падает.)
К о с т я. Господи, опять ушиблась.
Н а с т е н ь к а. Ничего подобного. Я нарочно, чтобы доказать.
(Ушла, прихрамывая.)
Василий Иванович и Костя.
К о с т я
(растроганно). Не разберешь, что болтает. Хочет сказать одно, говорит другое.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Они все такие, Сабуновы, — колючие. Но ты ее не забывай!
Вышел А л е к с е й, тоже в форме, в кармане — бутылка молока.
А л е к с е й
(с неловкостью). Добрый вечер!
В а с и л и й И в а н о в и ч. Да видались же полчаса назад. Вы на дежурство?
А л е к с е й. На дежурство, на дежурство. На всю ночь.
(Хотел что-то сказать, но не сказал — ушел.)
В а с и л и й И в а н о в и ч
(Косте). Я скажу, не забывай ее. В хорошем месте мы с тобой жили, старик, в хорошем доме.
Вышла Е л и з а в е т а, в рабочем платье, в сапогах. На плече у нее грабли, лопата, в руках ведро.
Е л и з а в е т а
(будто даже и не в сторону Василия Ивановича). Провожать будем, плакать будем, а проводим — через день забудем.
(Ушла, вскинув голову.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. Через день? Глупая Елизавета! Вот и она от меня свою Любу защищает.
К о с т я. Почему защищает? Что вы, Василий Иванович!
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не понимает, потому и защищает. Гордость сабуновская, честь. Эх, старик…
К о с т я. Что?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, война несет смерть и разрушение. Но она еще калечит человека изнутри — его душу калечит. И победителем будет тот народ, который не устрашился ее ударов и душа у него уцелела! Понял? Вот я о чем думаю, когда думаю о Любовь Никитичне, о твоей Насте, об их доме.
Прошумел поезд. Солдатские голоса поют: «Там, у самой сини моря…»
Любина песня.
Сидят молча. На крыльцо выходит Л ю б а.
Л ю б а. Поскольку большой праздник сегодня, а у вас особенный, пожалуйста, отобедайте с нами, Василий Иванович. И вы, Костя, прошу вас.
(Стоит, улыбаясь.)
Василий Иванович и Костя идут в дом.
Люба одна.
Опять прошумел поезд.
(Припав к двери, словно силы сразу оставили ее.) Как же я-то теперь? Мне-то как?.. А у него? Что у него там? И не спросить, и не узнать, может быть, никогда.
З а н а в е с
КАРТИНА ПЯТАЯ
Море в туманах, его и не видно совсем. Где-то вдали одиноко мигает огонек костра. Сбоку чудятся не то деревья, не то очертания полуразрушенного здания.
Тишина.
Входят В а с и л и й И в а н о в и ч, К о с т я и С т а р и ч о к с п а л о ч к о й.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Да ведь как сказать, вроде тут. Тут, пожалуй, и стоял твой дом.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Вроде — стоял.
(Косте.) Я скажу, вот и приехали мы, старик. Давай устраиваться. Костер раскладывай, а мы потолкуем.
(Старичку.) Сколько ж народу у тебя тут на хуторе?
Костя разжигает костер.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. На хуторе? Да ведь как сказать. Ежели без тебя и без Константина, то выходит — я, Никодим Петров…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Жив старина?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Жив. Действует. Ну, вот он. Затем, значит, пацанчик один, Гаврюшка мартюшковский, помнишь?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Помню. Вырос, поди?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Вырос. Первый у меня помощник.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Видишь, вот уже трое. Кто же еще?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Да ведь как сказать… Вот и все народонаселение пока что. Сам понимаешь…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Робинзоны. Понятно.
(Косте.) Я скажу, почаевничать теперь самое время.
(Отвязывает котелок.)
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Ты это не спеши. Колодцы у нас все позасыпаны. За водой надобно к самой речке бежать.
К о с т я. К речке?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. А как же?
(Встал.) Куды тебе, я сам принесу. Сиди, ногами поправляйся.
В а с и л и й И в а н о в и ч
(Старичку). Нет уж, давай мне.
(Уходя.) Это правильно, что колодцы засыпаны. Молодцы. То-то им было здесь без воды подходяще!..
(Ушел.)
К о с т я. А Наташа его — верно, что жива, здорова?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. В городе, в городе, я ж объяснил… Да ведь как сюда рвется! Отца ждет, и мать здесь схоронена, и родное место для нее, понять надо. Я же ж говорю, каждую субботу обязательно приходит.
К о с т я. Думаешь, придет?
(Помолчал.) А Марию Степановну здесь и схоронили?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Здесь, а как же. Я ж ему все по самой сущей правде объяснил. И напрямки. Не баба он. Это им, бабам, с подходцем надо. Схоронили честь честью, благородно. Слава богу, что померла-то она до того, как фашист пришел.
К о с т я. А когда — пришел? Вы — что?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Мы? Нас было немного, Константин. Засыпали перво-наперво колодцы, сховали артельно-колхозное имущество, все до единого, и ушли в степь. Отсиживались в буераках. Кто мог, до партизан добрался. С нами и Наташка его была.
К о с т я. А она как?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Да ведь как сказать. Хрупконькая она, но, понимаешь, в отца — словно бы Василий Иванович. Идет, виду не кажет.
К о с т я. Всегда такая была.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. А как вернулись наши, так за Натальей — она в тифу была — приехали из городу с комсомольской организации, забрали ее на поправку. Спервоначала — в санаторию, потом в общежитие поселили. Учится.
(Прислушался.) Тихо.
Шумит прибой. Мутный луч луны, прорвавшийся из-за туч, высвечивает кусок черно-зеленого моря. На пригорке показывается силуэт Н а т а ш и.
(Шепотом.) Она, я же ж говорил, я же ж говорил. А вы не верили. В город, говорили, посылай. Тихо.
Н а т а ш а
(увидела костер и людей у костра). Дядя Аким?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Да ведь я, конечно, я, а кто же.
Н а т а ш а. И еще кто с тобой?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Паренек один. Дюже приятный паренек…
Н а т а ш а. Ванюшка Мартюшков? Ты?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й
(хитрюще). О, да ведь, конечно, он.
Н а т а ш а. Я посижу здесь. Море сегодня сердитое, смотри какое. Ты картошку печешь?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Ага!
(Наслаждается собственной хитростью.) За водой тут у нас кое-кто побежал! Чай пить будем.
Н а т а ш а
(сидит на пригорке). А я сала принесла. Нам сала выдали. Знаешь, как вкусно картошку с салом…
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Уж как вкусно! Ты себе и не представляешь! Ого! Тихо! Сиди, сиди.
Возвращается В а с и л и й И в а н о в и ч. Подходит к костру, склоняется, чтобы поставить котелок, отсветы костра освещают его лицо. И тут — она увидела его! Она бросилась к нему, беззвучно уткнулась в его солдатскую гимнастерку…
Я ж объяснил. Коли суббота, она обязательно придет.
Н а т а ш а. Вернулся…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Как же не вернуться-то?.. Неужто мог не вернуться?.. Что ты, дочка моя!
Н а т а ш а. Небритый… чернущий…
В а с и л и й И в а н о в и ч. А ты, гляжу… Ах, ты, гляжу…
Н а т а ш а. Выросла? Почти вровень с тобой. Могу за ухо тебя дернуть…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ловко, ловко. А нос, гляди, такой же, картофелинкой, как и был!
Н а т а ш а. Опять смеешься?
(Дразнит.) «В кого уродилась?»
В а с и л и й И в а н о в и ч
(дразнит). «В прохожего рыбачка».
Н а т а ш а. И нет, и нет. В тебя! В тебя!
В а с и л и й И в а н о в и ч. А косички где? Где же косички мои?
Н а т а ш а. Тиф у меня был, батя.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Ровно целый мальчишка у меня объявился, а была девочка курносая.
Н а т а ш а. «В кого уродилась…»
В а с и л и й И в а н о в и ч. Все равно в меня!
Н а т а ш а. В тебя. А косички вырастут. Их только пока еще не видно.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Не видно, а вырастут.
Н а т а ш а. Вырастут.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Я скажу, заплетем, как бывало, и бантики на концах привесим.
Н а т а ш а. Какие мама любила.
(И заплакала, прижавшись к нему.) Какие мама любила!..
В а с и л и й И в а н о в и ч
(голос его стал суров, хотя говорит он негромко и смотрит поверх Наташи). Кровью, своей кровью заплатят они за наше горе! И не будет им пощады — нигде, никогда!
Т е м н о
КАРТИНА ШЕСТАЯ
В доме Любы. Та же обстановка, что и во второй картине, но царит полнейший беспорядок. Сдвинуты столы, стулья. Какие-то люди выносят фикусы. Нет желтеньких занавесок на окнах. Посреди комнаты нагромождены узлы и корзины. Г а л и н а В а с и л ь е в н а распоряжается грузчиками, выносящими фикусы. Л ю б а, Е л и з а в е т а и Н а с т е н ь к а возятся с узлами.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(грузчикам). Осторожнее, не поломайте. В сенях дверь низкая, ступенька там. Придерживайте листья.
(Любе.) Они решили устроить в детском саду аллею из ваших фикусов. Получится красиво. Пусть дети гуляют.
Л ю б а. Фикусы у меня хорошие. Я их сама вырастила.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Расписка — на комоде. По ней вы получите деньги у Потапова.
Л ю б а. Спасибо.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Боже ж мой, за что? Такая романтическая история. Все только и говорят об этом.
(Грузчикам.) Осторожнее, осторожнее!
(Уходит вслед за грузчиками.)
Н а с т е н ь к а. У меня замирает сердце. Неужто уезжаем навсегда?
Л ю б а. Навсегда.
Н а с т е н ь к а. Говоришь спокойно, как будто ничего особенного не происходит.
Л ю б а. Раз решила, значит, спокойна.
Н а с т е н ь к а. Люба! Ведь мы с тобой всю жизнь прожили тут!
Л ю б а. Всю жизнь.
Н а с т е н ь к а. Ой, Любка, железная ты. А я сегодня посмотрела на вишню и заплакала.
Л ю б а. Там, у моря, фрукты еще лучше.
Н а с т е н ь к а. Женечка рассказывал, что в Крыму…
Л ю б а. Мы не в Крым едем, Настя.
Н а с т е н ь к а. Я сказала?
Л ю б а. Болтаешь ты невпроворот что.
Е л и з а в е т а
(не выдержав). Куда едешь, куда едешь?! Дом с молотка, все, что нажито, огород, сад… Что ты знаешь, какая там жизнь? Там фашисты были!..
Л ю б а. Говорили уже. И об этом говорили.
Е л и з а в е т а. Да ведь ты же мне родная. Мне тебя жалко.
Л ю б а. Перестань!
Е л и з а в е т а. На руках у тебя Витька! Рехнулась ты! На гибель едешь, на гибель.
А л е к с е й
(вошел, тихо). Уйди, Елизавета.
Е л и з а в е т а. Не спрашивают тебя, помолчи.
(Любе.) Он тебе письмо написал, что там написал — не показываешь, может, в шутку написал, а ты и рада, вообразила…
А л е к с е й
(Елизавете). Я сказал тебе — уйди.
Е л и з а в е т а
(не обращая на него внимания). Там они, может, с голоду помирают. Да и он — какой будет? Здесь был смирный. Здесь ты от него не зависела, а там…
А л е к с е й
(грозно). Выйди сейчас же…
Е л и з а в е т а
(опешила). Что? И этот рехнулся…
А л е к с е й. Ступай, ступай. И голову под кран не забудь, помогает.
Л ю б а
(фыркнула). Слыхала? Елизаветушка, это он тебе говорит.
Н а с т е н ь к а. Ой, не могу…
Е л и з а в е т а. Лешенька, ты что?
А л е к с е й. Ступай, ступай…
Е л и з а в е т а. Алексей Никитич…
(Ластится к нему, вся зардевшись.)
А л е к с е й. Медаль сковырнешь…
Е л и з а в е т а
(поправляя на его груди медаль). Что ты, я осторожненько…
А л е к с е й. Иди, иди. И чтоб я больше этих разговоров не слыхал.
Е л и з а в е т а
(растерянно). Я иду, я иду, Лешенька.
(Уходит.)
А л е к с е й
(Любе). Отец не заходил?
Л ю б а. Нет.
А л е к с е й. Как туча ходит. Имени твоего слышать не хочет. Приди к нему, помирись. Нехорошо.
Л ю б а. Не пойду.
Входит С а м с и к о в, за ним — В а р в а р а.
С а м с и к о в. Извиняюсь.
А л е к с е й. Что такое?
С а м с и к о в. Извиняюсь, тут продаются столы, стулья и фикусы?
Л ю б а. Тут. А фикусы проданы в детский сад.
С а м с и к о в. Сожалею.
(Варваре.) Вавуня, тебе нравятся эти стулья?
В а р в а р а
(басом). Нравятся.
С а м с и к о в. Я предпочел бы обитые бархатом. (Осматривает стулья.)
Возвращается Г а л и н а В а с и л ь е в н а.
С а м с и к о в
(с достоинством). Здравствуйте.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Просто смех. Не узнаю.
С а м с и к о в. Самсиков. Крупская, восемь. Собственный дом.
(Варваре.) Вавуня, обрати внимание, стулья пошарпаны.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Мебелью обзаводитесь?
С а м с и к о в. Пора, жизнь, знаете ли. Не те годы.
В а р в а р а. Стулья пошарпаны.
Л ю б а. Краска сошла, можно закрасить.
С а м с и к о в. Все-таки. Я хотел узнать вашу цену?
Л ю б а. Вот мой брат. Поговорите с ним. Я-то ведь сегодня уезжаю.
С а м с и к о в. Мое дело, конечно, сторона, но слыхал. Простите, не понимаю. Наступили здесь, слава богу, времена почти как до войны. И на станции тихо, и народу поменьше. Куда ж ехать?
Л ю б а. У меня вызов на работу в только что освобожденный район.
С а м с и к о в. Тогда конечно. Сочувствую.
(Вздохнул.) Восстанавливать сколько предстоит! До войны мечтали строить всякие новые сооружения. Даже вот поговаривали о таких постройках, как Волго-Донской канал. Представляете? Папиросы даже были такие. А теперь дай бог лет через пятьдесят собраться с силами… Ну что ж, сочувствую.
(Алексею.) Восемь стульев и два креслица?
А л е к с е й. Пройдемте ко мне.
(Грубо.) Только деньги мне сегодня нужны, ей на дорогу.
Варвара, Алексей и Самсиков уходят. У двери Самсиков задерживается.
С а м с и к о в
(понизив голос, Галине Васильевне). А вы — в Киев?
(Вздохнул.)
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. В Киев.
(Отвернулась.)
С а м с и к о в. В Киев… В Киев… Снова у каждого человека без конца и краю возможностей!.. А я? Ведь я живописец, на что, позвольте, после войны корова мне, на что она?..
В а р в а р а
(появляясь на секунду). Фе-едя!
С а м с и к о в. Иду.
(Уходит.)
Н а с т е н ь к а
(Любе). Противно думать, что он со своей мыльницей будет сидеть на наших стульях. «Пошарпаны»! И еще вздумал твою жизнь обсуждать!
(Фыркнула.) Ой, Любка, ты не знаешь, что сегодня на базаре было!
Л ю б а. Что еще?
Н а с т е н ь к а. Там только и разговор что о тебе.
Л ю б а. Слушать не хочу.
Н а с т е н ь к а. Ничего подобного. Вообрази, целые рассказы сочиняют и тебе завидуют.
Л ю б а. Завидуют?
Н а с т е н ь к а. А гадалка, знаешь, которая притворяется слепой и по планетам гадает, так она знаешь что гадает?
Л ю б а. Опять болтаешь, язык без костей.
Н а с т е н ь к а. Она гадает Ганьке Винчуговой, я сама слышала, и говорит: «Терпи, говорит, терпи, близко-близко твое сказочное счастье, будет у тебя, говорит, любовь такая же, как у нашей Сабуновой Любы, Любина любовь…» А бабы стоят кругом, улыбаются и плачут. Утирают слезы, вздыхают и улыбаются.
Галина Васильевна разражается рыданиями.
Л ю б а. Что с вами? Что с вами?
Н а с т е н ь к а
(растерянно). Я сказала? Я ничего не сказала…
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Счастливая вы…
Л ю б а. Успокойтесь. Нашли кому завидовать. И еду-то я как в пропасть. Нет, правда же, правда. Со стороны легко рассуждать. Побудьте на моем месте. Что хорошего? Сорвалась с места, на какую жизнь еду?
(Улыбается.)
Г а л и н а В а с и л ь е в н а (
успокаиваясь). Я и говорю. Я и заплакала оттого, что волнуюсь за вас.
(Вдруг.) Вам сколько лет?
Л ю б а. Тридцать четыре. А вам — меньше.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(успокоилась). Да, меньше. В паспорте у меня неправильно… Мне двадцать девять…
Л ю б а. Вот видите.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Желаю вам от души, чтобы все было хорошо.
Л ю б а
(с той же улыбкой). В надежде я.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Так и будет, так и будет, я уверена…
(Задумчиво идет к двери, потом вдруг стремительно поворачивается.) В Киев!..
(Бросается к Любе.) Люба! Золотая моя!..
Л ю б а. Что с вами, господи!
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Вас так все любят! На вокзале только и волнуются, кто теперь вместо вас будет?.. И если вы скажете слово…
Л ю б а. Какое слово?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. За меня. Чтобы взяли меня. То есть чтобы я осталась вместо вас.
Л ю б а. Вы? Вместо меня?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Не верите, что смогу? Увидите, еще как!.. И я буду ходить по перрону, улыбаясь каждому, кто только ни обратится ко мне с вопросом, особенно если военные…
Незаметно входит д е д С а б у н о в и останавливается в дверях.
(Продолжая.) Смешно сказать, а ведь обязательно спросят: какая миловидная молодая женщина в фуражке дежурной по вокзалу — волосы у меня будут взяты сзади в сеточку — ходит по перрону, к ней и надо обратиться…
Л ю б а
(сурово). И не смешно совсем. Не останетесь вы здесь. Зачем вам?
Г а л и н а В а с и л ь е в н а
(заметив Сабунова). А!.. Никита Федорович… А мы тут прощались, прощались и расплакались…
(Поправляет прическу.) А я, может, на вокзале здесь буду работать. Вместо Любы.
Сабунов молчит, смотрит.
Об этом тоже говорили. И правда, может, останусь… Ах, боже мой, простите, столько дел…
(Любе.) Пирожки вам на дорогу приготовлю… Я моментально пирожки делаю.
(Ушла.)
Пауза.
С а б у н о в
(Настеньке). А ты чего стоишь как столб? Не видишь, я с ней поговорить хочу.
Н а с т е н ь к а
(неохотно). Иду.
(Тоже ушла.)
С а б у н о в
(проводил ее глазами, повернулся к Любе). Уезжаешь?
Л ю б а. Уезжаю.
С а б у н о в. А отца родного ровно у тебя и нет? От других людей узнаю. Наблюдаю, как добро распродаешь. Жду, придешь, объяснишься, говорить будешь…
Л ю б а. Говорить не о чем. Я к тому человеку еду, за которого даже ударить меня посмели.
С а б у н о в. А! Назло мне едешь, назло!
Л ю б а. Назло? О нет. Назло таких вещей не делают. У меня свой долг перед жизнью есть. И уж если я решилась…
С а б у н о в. Решилась! Я помню! Все помню! Серьезному человеку в браке отказала — счастье было верное. И говорила как? Не расчет. А это — расчет?
Л ю б а. Не о том расчете разговор. А раз пришли, так уж как отец и спросите — почему решилась, права ли я? Отвечу.
С а б у н о в. Как отец?.. Думаешь, мне легко было? Ударил, ударил! А ведь я тебя уважал.
Л ю б а. Хорошо. Сядьте. Вот сюда сядьте. Я прочту вам.
(Достает из шкатулки письмо.) Прочту, а вы потом скажете.
С а б у н о в. Читай.
Л ю б а. Пишет Василий Иванович мне: «Дорогая Любовь Никитична!..»
Н а с т е н ь к а просовывает голову в дверь и замирает.
(Не глядя на письмо.) Как живем, спрашивает, как вы поживаете. Ловится ли сазан за водокачкой и все так ли трудно на станции, наверно легче стало? Как поживает Витюша, Настенька?.. Потом о хуторе своем…
С а б у н о в. Читай.
Л ю б а
(смотрит вдаль). Разрушен хутор, много домов погорело.
С а б у н о в. Где же жить, коли дома погорели?
Л ю б а. Не у всех крыша есть — у кого и нету. Но будет. Работа у них кипит, а у него, сами знаете, руки золотые.
С а б у н о в. Выздоровел?
Л ю б а. Нет. Подлечиться велели ему. Вот он и дома.
С а б у н о в. А жена?
Л ю б а
(тихо). Померла жена Василия Ивановича.
С а б у н о в
(с гневом). Вот где ты, значит, нашла спасение для своего бабьего счастья!
Л ю б а. Молчите вы! Разве я о том.
(Сурово посмотрела на него и склонилась над письмом, читает.) «Дочка моя осталась сиротой, но вы не подумайте ненароком, что в вашей помощи нуждаюсь. Не для того пишу и об этом не думаю. Кругом нас, слава богу, люди…»
С а б у н о в
(бурчит). Люди… Чужую-то беду на бобах разводят.
Л ю б а
(продолжает читать). «Знаю я, что вы, Любовь Никитична, строгая, слов нежных говорить не позволяете. А сейчас — попросили бы — не сказал. Какие уж тут слова, когда могилы кругом, по могилам хожу и одна ненависть в моем сердце».
(Подняла голову.) Одни могилы видит. Одна ненависть в сердце. Нет, не понимает. Ожесточился. Не понимает человек.
С а б у н о в
(сокрушенно). Э!.. Да…
Л ю б а
(читает). «А вам я счастья желаю, Любовь Никитична. Мирный день не за горами и для вас совсем близко. Пишу, чтобы знали, что не забыл и никогда не забуду. А вы забудьте, прошу вас от всего сердца. Солдат я. Дорога передо мной лежит длинная и надолго еще тяжелая. Не с чего вам такую тяжесть даже и в мыслях носить. Лишняя это тяжесть для вашей светлой жизни…» (Задумалась.)
Сабунов смотрит на нее, нахохлившись, не опуская глаз.
Лишняя тяжесть? О чем говорит? Не понимает! Не понимает человек! Как же так?
(Смотря на Сабунова.) Разве я могу не ехать?
Сабунов молчит.
Кто же другой роднее ему теперь, чем я? И ему, и дочке. Кто же другой сердце им отогреет? У него руки золотые. Не только себе, он людям нужен — счастливый, а не с одной ненавистью! Мирный день не за горами! А кто же его будет строить? Как же могу не ехать? Отвечайте.
Н а с т е н ь к а
(бросается Любе на шею). Люба! Любонька!
С а б у н о в
(закричал, чтобы не растрогаться). Подслушиваешь все! Сядь! Перед дорогой посидеть надо, помолчать.
(Пауза.) Бог знает, может, и не увидимся никогда… Ведь это — где? У самого синего моря, бог знает где.
(Настеньке.) Смотри за ней, распустеха! За внуком моим смотри! Ты мне за них ответишь, спрошу!
Н а с т е н ь к а. Я отвечу. Я обещаю.
С а б у н о в. Подите, подите-ка сюда, обе.
Они опустились возле него.
Стар я стал, дочки, стар. Глядите, левое плечо мое уже поднимается кверху, под правой лопаткой чувствую стреляние и всего себя с телом принимаю за телегу, которую должен влачить. А душа не утерпевает, не смиряется душа, продолжает взмываться, как конь. Но теперь я спокоен. И умру спокоен. Не я, так ты, Люба, взлетишь этим конем! Взлетишь!
Появляются с о с е д к а и Г а л и н а В а с и л ь е в н а, потом Е л и з а в е т а и А л е к с е й.
С о с е д к а. Куда кульки-то ложить? Это тебе, на дорогу, от наших всех, станционных.
Г а л и н а В а с и л ь е в н а. Проводы вам такие готовятся! Сейчас придут, с цветами придут!
Л ю б а
(смущенно). Как на праздник провожаете…
С а б у н о в. А как же?
(Алексею.) Что уставился, будто в первый раз отца родного увидел? Проводить ее надобно от всего сердца, чтобы дорога у нее была легкой, чтобы жизнь у нее получилась счастливая.
Темно. Гул самолетов.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ
Гул самолетов. Возникают неясные очертания косогора, травы, кустарника. Приникнув к земле, лежат люди. На косогоре появляется А н д р е й Н и к о л а е в и ч, тот самый, который приезжал к Любе во второй картине.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Граждане пассажиры! Никакой паники! Нам ничего не угрожает. Поезд наш мирный, гражданский. Он это видит.
Первый разрыв бомбы.
Спокойствие, граждане! Спокойствие!
(Скрывается за косогором.)
Второй разрыв бомбы. Где-то далеко вспыхнуло небо. И все оно уже исчерчено трассирующими пулями, осветительными парашютами, лопающимися, как мыльные пузыри.
У с а т ы й с о л д а т. Приметил я, он еще за нами днем следил.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Не за нами. Он к мосту прорывается.
У с а т ы й с о л д а т. Туда его не допустят. Турнули его оттуда.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Вот он по злобе на нас и бросается. У, гад!
(Смеется.) Я вот за чайник опасаюсь.
У с а т ы й с о л д а т. Дело серьезное.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Горе. Это факт. Не соврать — с третьим чайником воюю. Первый под Батайском разбомбило, второй — в Брянских лесах. А этот — как бы уж и вовсе не на фронте, а когда домой еду!
У с а т ы й с о л д а т. Кипяток-то в нем остался?
С о л д а т с ч а й н и к о м. А как же! Вот.
У с а т ы й с о л д а т. Ну, тогда разбомбит. Обязательно разбомбит. Он за твоим чайником аккурат и охотится.
С о л д а т с к о с т ы л е м. Помолчите вы, балабоны!
С внезапной силою обрушивается грохот налетевших самолетов. Визг, крики женщин, плач.
Н а с т е н ь к а. Люба, мне страшно!
Л ю б а. Ты еще начни!
(Встает.) Женщины, тихо! Соблюдать порядок! Ничего страшного. Тут начальник правильно сказал — покружится, увидит, что мирный поезд, и улетит.
(Наклоняется к одной из женщин.) Подложи своему что-нибудь под животик, распустеха! Сыро, простудится.
(К другой женщине.) А ты что смотришь? Твой-то, гляди, голышом совсем! Возьми на руки!
(К третьей.) Сколько твоему? Я еще в вагоне заметила — от горшка два вершка, а смышленый какой…
По мере того как она говорит, стихает плач, женщины успокаиваются. Затихло все — как перед грозой.
(Своему Вите.) Не бойся, милый, золотенький, родной…
Д е т с к и й г о л о с о к. А я не боюсь. Я ушком лег. Тут — трава. Слышишь? Слышишь? Там какие-то мошки шуршат…
Несколько страшных взрывов потрясают воцарившуюся тишину. Сразу все небо в огне. На фоне этого неба снова вырастает фигура А н д р е я Н и к о л а е в и ч а.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Граждане, которые коммунисты, первый черед ваш. Организовывайте противопожарную оборону. В наш состав зажигалка попала.
С о л д а т с ч а й н и к о м. А тут все коммунисты — чи с билетом, чи без билета.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Раненые, инвалиды, женщины с детьми остаются на местах!
С о л д а т с ч а й н и к о м. Милый! Все мы тут раненые, а инвалидов нету!
(Встает.)
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Которые не инвалиды — за мной!
Один за другим поднимаются люди в шинелях и идут за Андреем Николаевичем.
Л ю б а. Настя, где ты? Собирайся!
Н а с т е н ь к а. Я ногу выдернуть не могу.
Л ю б а. Живей, живей давай!
С о л д а т с к о с т ы л е м. А ты с дитем куда лезешь?
Л ю б а. А мы что, безрукие? Мы не раненые даже. За дитем поглядите. Настя!
Н а с т е н ь к а. Тут я. Готова.
Л ю б а. Пошли.
Люба и Настенька уходят.
Ж е н с к и й г о л о с. Господи, спаси и помилуй, да что же это?
С о л д а т с к о с т ы л е м. Нервы у тебя, я погляжу! Видала бабу? Вот эта баба. Надо и мне подсобить.
(Привстает на костылях.) За пацаном ее гляди, сопли ему вытри…
(Идет по косогору и спускается вниз, скрываясь за ним.)
Взрыв. Где-то очень близко. Страшный крик женщины.
Т е м н о
КАРТИНА ВОСЬМАЯ
Вагон. Идет поезд. Ночь. В соседнем купе негромко поют мужские голоса.
У с а т ы й с о л д а т. Женщину из соседнего вагона убило.
С о л д а т с ч а й н и к о м. А наша-то… Не возвращается. Неужто — беда?
У с а т ы й с о л д а т. Пацана своего ищет. Бомба попала аккурат в то самое место, где она его оставила.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Я и говорю — в то самое место.
С о л д а т с к о с т ы л е м. Заткнись, накаркаешь еще, чайник.
Секунду помолчали.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Не пойму, куда их несет! Пройдись скрозь поезд — детей, господи твоя воля, бабья! А тут фронт рядом.
У с а т ы й с о л д а т. Куда несет? Обратно к себе едут, на восстановление. В родные места едут, дурья голова, — домой.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Я и говорю, а как же — ведь домой!.. Чайку?
С о л д а т с к о с т ы л е м. Чтоб его разбомбило. Тут у человека нога в лубке, а он со своим чайником.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Я вмиг! Пододвину мешочек. Вот так. Ножку вытягивайте. А сюда чайник.
(Берет кружку.) Ваша?
С о л д а т с к о с т ы л е м
(сердито). Моя.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Нальем. Пейте.
(Наливает чай.)
Все пьют.
Ох-хо-хо… Женщина наша у меня из головы не выходит. Ведь беда, наверно, беда…
С о л д а т с к о с т ы л е м. Тише ты!
Вбегает Л ю б а. За ней — Н а с т е н ь к а.
Л ю б а. Нет его, нет его, нигде нет!
Н а с т е н ь к а
(ревмя ревет). Люба, успокойся! Взяли его, кто-нибудь взял…
У с а т ы й с о л д а т
(хмуро). Найдется парень, об чем разговор…
С о л д а т с ч а й н и к о м. Я и говорю — ни об чем. Садитесь, отдыхайте. Чаек горяченький… А мы вашего хлопчика вмиг разыщем. Пройдем скрозь поезд, по всем вагонам — и разыщем!
Л ю б а
(обессиленно). Что же делать мне теперь?
Н а с т е н ь к а
(прижалась к ней). Люба, Люба…
Л ю б а. Что же делать? Делать-то, делать-то что?..
С о л д а т с к о с т ы л е м. Годов-то ему сколько было?
Л ю б а. Разве я знаю в точности? Потому и не прощу себе, вдвойне не прощу, никогда не прощу…
Н а с т е н ь к а. Люба…
Л ю б а. Молчи. Я в ответе. Я одна в ответе…
В соседнем купе, а потом, приближаясь, в проходе загорелся фонарь.
Г о л о с А н д р е я Н и к о л а е в и ч а. Гражданки Сабуновой Любовь Никитичны нету здесь?
Л ю б а
(вскочила). Я!
Появился А н д р е й Н и к о л а е в и ч. На руках у него — спящий В и т я. Сзади них — п р о в о д н и к с фонарем.
Витя!
(Кинулась к Вите.) Милый мой! Спит! Глядите — спит!..
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Спит. Я его несу, а он спит.
С о л д а т с ч а й н и к о м. Я ж говорил, обязательно найдут!
У с а т ы й с о л д а т. Ложите его сюда.
С о л д а т с к о с т ы л е м
(Солдату с чайником). Убери ты мешки свои, не видишь — дите спать ложут.
У с а т ы й с о л д а т
(Настеньке). Забирайтесь наверх, барышня, и его туда укладайте.
Н а с т е н ь к а. Сейчас, сейчас.
Витю укладывают наверх, потом помогают взобраться Настеньке.
Л ю б а. Люди добрые, счастье-то какое…
Настенька срывается и летит вниз.
С о л д а т с к о с т ы л е м. Куда тебя несет, тут ног полно!
С о л д а т с ч а й н и к о м
(подхватывая Настеньку). Барышня, тихо!
Н а с т е н ь к а. Когда летишь, некогда думать, куда падать…
(Исчезает на верхней полке.)
С о л д а т с ч а й н и к о м. Ну, все.
У с а т ы й с о л д а т. Порядок.
С о л д а т с к о с т ы л е м. И разговоров Нету. Угомонитесь, балабоны, дайте отдохнуть людям! Спать.
Л ю б а. Спать, спать!..
(Поворачивается к Андрею Николаевичу, который стоит, ждет.) Спасибо вам, товарищ.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Не узнаете?
Л ю б а. Господи! Андрей Николаевич!
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Он самый. Еще на станции вас приметил. А вы исчезли. Думаю, вы — не вы?
Л ю б а. Да ведь я, конечно.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. А потом, как снаряд упал в то место, я бросился туда. Гляжу — Витька. Значит, думаю — вы. Намаялись, поди, за дорогу?
Л ю б а. С пересадками трудно было.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Еще бы.
Л ю б а. Совсем на новые места еду.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Рассказывали мне, слыхал.
Л ю б а. Вот. Еду.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч
(помолчав). А дом ваш?.. А сад?..
Л ю б а. Разве с собой возьмешь?
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Да-а… Вот он, расчет-то… Как решились-то?
Л ю б а. К мужу еду.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. К мужу. Да.
Фонарь отползает от Любы.
П р о в о д н и к
(протяжно). Позвольте документики ваши, граждане!
(Уходит по проходу дальше.)
А н д р е й Н и к о л а е в и ч
(Любе). Я здесь начальником поезда, при надобности обращайтесь, буду рад помочь.
Л ю б а. Спасибо.
А н д р е й Н и к о л а е в и ч. Когда увидимся?.. Может, и никогда… Желаю счастья вам, Любовь Никитична…
Л ю б а. И вам.
Андрей Николаевич ушел. Люба устраивается в своем углу.
С о л д а т с к о с т ы л е м. А ты куда едешь, гражданка женщина?
Л ю б а. В хутор Михайловский. Не знаете?
С о л д а т с к о с т ы л е м. Хуторов Михайловских в России тыща.
Л ю б а. Куда еду, тот у самого моря.
С о л д а т с к о с т ы л е м. А! Вон что!
(Привстал, вглядываясь в Любу.) В Михайловский, говоришь?
Л ю б а. Вы оттуда?
С о л д а т с к о с т ы л е м
(строго). А ты разве оттуда?
Л ю б а. Я не оттуда.
С о л д а т с к о с т ы л е м. То-то. Не видал я у нас таких. Зачем едешь?
Л ю б а. Я к мужу еду.
С о л д а т с к о с т ы л е м. К мужу? А фамилия ему как?
Л ю б а
(тихо). Потом расскажу.
С о л д а т с к о с т ы л е м. Можешь не рассказывать. Мне — что. Я и разговор-то начал так. Вижу, женщина в наши места едет, бомбежек не боится и, сколько годов ее дитю, в точности не знает…
Л ю б а. Откуда ж знать?..
С о л д а т с к о с т ы л е м. А кому же знать?
Л ю б а. Сирота он, это понимать надо.
(Встала, повернулась к нему спиной — она к Вите склонилась, который лежит на верхней полке.) Спи золотенький мой… Хочешь, про сказку твою спою?
Там, у самой сини моря,
Есть заветная страна…
С о л д а т с к о с т ы л е м. И что за сказка?.. Я тебе лучше про хутор Михайловский расскажу, раз туда едешь и его не знаешь… Там у нас море и горы видны. И степь там — красоты невиданной! А чем особенно прославились мы, так это медом. Был у нас, я скажу, пасечник. Пчелами он занимался и разве только по-пчелиному говорить не умел. Зато какой был мед! Какой хочешь! Пчелы у него были так обучены, что с одной колоды летели в сад — и был садовый мед! С другой колоды — в липу, и был — липовый. С третьей — в гречиху, и был гречишный! Разный был. Я скажу…
Л ю б а
(улыбаясь). «Скажу, скажу»…
С о л д а т с к о с т ы л е м. Ты что? Не веришь? Я скажу, хутор наш рос и процветал. Перед войной хотели его городом Приморском назвать и сделать его городом районным. Улицы были, дома и сады какие!.. А в море — рыба. Паруса уходили в море. И мы — рыбаки, садоводы, пасечники — жили там как в раю.
Л ю б а. Вот я туда и еду.
Стучит поезд.
Т е м н о
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ
Открылось море!
Оно выглядит необыкновенно просторно, ярко-сине, солнечно. Сбоку — отстроенный заново дом, свежевыбеленный. За изгородью — новенький колодец, точно такой же, как был у Любы в третьей картине, молодые деревца посажены у дома.
Некоторое время сцена пуста. Слышен равномерный шум прибоя и скрежет экскаватора. Появляются Л ю б а и Н а с т е н ь к а.
Л ю б а. Как сердце бьется! Приложи руку: слышишь?
Н а с т е н ь к а. Еще бы. Столько шли. И все в гору, в гору…
(Озираясь.) А! Чей-то новый дом. И на дверях замок.
Л ю б а. И колодец.
Н а с т е н ь к а. Совсем как у нас, Люба. Гляди, и вишня посажена.
Л ю б а. Правда, что вишня. И подсолнух. Громадный.
Н а с т е н ь к а. Ага, да. Гляди, дорога-то отсюда уходит вниз. Хутор-то внизу, видишь? Пыль, цемент, какие-то краны. Ну, идем, идем… Они там, внизу!..
Л ю б а. Постой. Сядем.
Н а с т е н ь к а. Ну, сядем… Около подсолнуха сядем.
Сели.
Л ю б а. Даже страшно… Как встреча-то произойдет, а?
Н а с т е н ь к а. Ну, как, как? Обыкновенно — как. Обрадуемся все, а потом будем говорить и перебивать друг друга.
Л ю б а. Что ты! С Василием Ивановичем мы наговоримся, это правда, что наговоримся… Но ведь у него дочка. Какая она?
Н а с т е н ь к а. Почти как я. Ну и что?
Л ю б а. Я всю дорогу думала, на вокзалах, в поездах, и сейчас, когда шли с разъезда. Она большая девочка, нужно, чтобы она поняла, нужно, как никогда, чтобы семья у нас получилась хорошая.
Н а с т е н ь к а. Ой? Кто-то идет! Старичок какой-то!
Входит С т а р и ч о к с п а л о ч к о й.
Л ю б а и Н а с т е н ь к а. Здравствуйте.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Почтеньице. А ведь как сказать — не узнаю́. За последнее время столько понаехало, что и не узнаю — кто?
Н а с т е н ь к а. Мы только сейчас приехали…
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. А! Только сейчас? Тогда пожалуйте, пожалуйте. Что же вы тут стоите? Перво-наперво пройдемте-ка в исполком, там все и сообразим. Вон. Видите? Это близко. Как начинается улица Советских воинов, на углу площади Садоводов. Тут и есть.
Н а с т е н ь к а. Куда вы показываете? Никакой площади Садоводов я не вижу, и улицы тоже.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й
(громовым голосом). Как не видите?
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Но только в том месте стоит кран и ворочает ковшом. Какая площадь?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Это и есть площадь. Поживете — увидите. Идемте.
Л ю б а
(тихо). Мы приехали к Василию Ивановичу Дробатенко.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Что?
(Страшно оживился.) И с чего ж это я не сообразил! К Василию Ивановичу? Тогда сюда, сюда… А, нет, замок. Я враз. Сидите здесь, дожидайтесь.
(Побежал и остановился, недоверчиво.) К Василию Ивановичу? А… Вы что же, одна к нему?
Л ю б а. Нет. Вот еще и Настенька со мной, разве не видите?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Да, да, да! Настенька! Настенька!
(Обрадованно бежит, но опять останавливается и опять недоверчиво.) К Василию Ивановичу? Да ведь как сказать… Вы только две к нему? А при вас, между прочим, пацанчик небольшой должен быть.
Л ю б а. Витя. Мы его оставили у начальника разъезда. И вещи. Куда ж было пешком идти?
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Верно, верно! Витя! Сидите. Дожидайтесь.
(Убежал, проворный.)
Л ю б а. Настя! Они ждут нас. И уже все знают про нас?
Н а с т е н ь к а. Я же говорила, я же говорила!
Возвращается С т а р и ч о к с п а л о ч к о й и деловито пробегает в другую сторону.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Сюды, туды — тыц, и никого.
(Убежал.)
Л ю б а. Они все работают. Ах, дом какой, колодец, руки золотые…
За сценой голос: «Да где же они? Где?..»
Н а с т е н ь к а
(в ужасе). Это — Костя! Люба, Люба, я спрячусь.
Она не успевает этого сделать. Бурей вбегает К о с т я. Он без костылей. За ним, едва поспевая, — С т а р и ч о к с п а л о ч к о й.
К о с т я. Любовь Никитична! Настенька! А мы-то вас ждали! Что вы долго-то так?..
Л ю б а. Пересадки… Поезда… В одном месте мост взорванный.
К о с т я. Да, да, ну и как?
Л ю б а. Доехали.
Н а с т е н ь к а. Ехали, ехали и доехали…
К о с т я. Доехали!
(Целует ее.)
И оба оторопели.
Н а с т е н ь к а. Я сказала? Я ничего не сказала.
К о с т я. Наверное, потеряли что-нибудь в дороге или с верхней полки грохнулись…
Н а с т е н ь к а. Грохнулась.
К о с т я. Ну и как?
Н а с т е н ь к а. Ну и так!
К о с т я. А Витюша где, не вижу?
Л ю б а. Мы его на разъезде оставили, у начальника.
Н а с т е н ь к а. И вещи тоже у начальника.
Л ю б а. А… Василий Иванович где же?
К о с т я. Сейчас, сейчас… За вещами и за Витюшей я поеду сам.
Л ю б а. У Василия Ивановича, наверно, минуты свободной нет?
К о с т я. Здесь без дела не ходят. Посмотрите на дом. Ваш дом и колодец. Тоже его рук дело.
Н а с т е н ь к а. Разговоры! Бегите за ним! Не видите, Люба волнуется…
К о с т я. Вижу. Только сначала я должен показать. Становитесь сюда. Глядите. Домов готовых еще маловато. Еще и шалаши есть, и землянки. Видите? Видите, дым? Люди живут. Василий Иванович так и говорил, обязательно, говорил, понаедут, обязательно, говорил, закипит жизнь! Смотрите туда. Думаете, что там строится? Сельскохозяйственный техникум. Чуете, Настенька?
Н а с т е н ь к а. Постойте. Потом про техникум.
Л ю б а. Здоровье-то его как?
К о с т я. Абсолютно здоров. Он так здоров, как никогда. Да и я — костыли побоку, хожу, бегаю, низки в брюках обились! Не только бегаю, танцевать могу:
(И, ударив ногами о землю, притопнув, выплясывает веселого гопака.)
Л ю б а. Вот как хорошо. Но постойте, постойте… Ну, а он? Он!..
К о с т я. Он?
(Стоит, запыхавшись.) Нет, вы посмотрите! Вон там уже и виноградники возделывают… Смотрите, огороды, бахчи, пасека. Глядите — пасека, пчелы!
Л ю б а. Он и пчелами уже занимается?
К о с т я. Занимался. Не успел.
Л ю б а. Почему — не успел?
(Почти вскрикнув.) Да что же вы не говорите ничего, уклоняетесь, молчите?! Что с ним?!
К о с т я. Говорят же вам, живой он, крепче нас с вами. Фу ты, живой, здоровый и все дни для вас одной старался!
Л ю б а. Так почему же вы…
К о с т я. Почему, почему!
(Отвернувшись.) Уехал он сейчас.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Да ведь как сказать… уехал, а может, и не уехал…
(Косте.) Нымтырь. Решето гречкосейное. Говорил, не бухай сразу, а с подходцем… ведь — бабы.
Н а с т е н ь к а. Как — уехал? Как — может, не уехал?
К о с т я. А что ж, по-вашему, он мог не уехать?
Л ю б а. На фронт уехал. На фронт?
К о с т я. Нет еще, но скоро должен. Солдат он, Любовь Никитична, не пасечник, рано еще к пчелкам своим возвращаться. Солдат он, воин.
Л ю б а. А разве я думала иначе? Никогда и не думала.
К о с т я. Позавчера, перед тем как ехать к себе в часть, позвал меня и рассказывал. О вас рассказывал. Держал вашу телеграмму и говорил: «Вот Люба какая. Решилась и едет. А я ухожу и невесть сколько еще останусь солдатом… Пусть расцветает мирный день на земле. Скажи Любе об этом, какой у меня солдатский долг перед людьми и перед ней. Она поймет».
(Смолк.)
Люба подходит к берегу. Вечереет.
Море наполняется глубокой, густой синевой. Тишина.
Л ю б а
(как будто одна). Где я?.. Где я нахожусь?
Н а с т е н ь к а
(Косте, шепотом). Но ведь он же знал, что мы едем.
К о с т я. Молчите…
Л ю б а
(тихо-тихо). Красота-то какая!
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Ага! Чуете! Раз чуете, значит, будет вам у нас хорошо, как нигде на свете!
К о с т я. Отойдите, папаша. Не мешайте ей. Пусть побудет одна.
Старичок с палочкой отходит.
Н а с т е н ь к а
(Косте). Не вздумайте Любу жалеть. Она недаром приехала. Она решила. Она знает, зачем приехала. Это вот я, может, не знаю.
К о с т я. Настенька, я же вам говорил…
Н а с т е н ь к а. Не утешайте меня. Я взрослая женщина и должна иметь свою цель, а не вашу и не Любину.
К о с т я. Я же вам как раз и говорил про техникум.
Н а с т е н ь к а. Ну и что?
К о с т я. Будете его строить, а потому нем учиться. Вы же агрономом хотели быть.
Н а с т е н ь к а. Это дело серьезное. И решать буду я сама. Я всегда решаю сама. И раз решила — спокойна.
К о с т я. С Ваней Проскукиным тоже решила?
Н а с т е н ь к а. Дательный падеж.
К о с т я. А не скажите! Роман в трех томах я все-таки пишу. Тот бросил — новый пишу. Когда урвется свободная минута. И напишу. Потому что писать надо не от отчаяния, а от полноты жизни.
Возвращается Л ю б а, направляясь к ним.
Л ю б а
(спокойно). Красивое море. Я ведь никогда раньше моря и не видела. Нужно, Костя, за Витей поехать, за вещами, а то стемнеет.
К о с т я. Я мигом.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Вот, мигом и наладим. А вам бы, товарищ Люба, перво-наперво в исполком заглянуть надо. В людях нуждаемся, в людях… Улица Советских воинов, на углу площади Садоводов. Всякий укажет. Пока.
(Уходит.)
Л ю б а. Костя, постойте чуток. Хочу спросить вас. Дочка-то Василия Ивановича где?
К о с т я. Наталья? Должна прийти. Наверно, ей уже сказали, что вы приехали.
Л ю б а
(поспешно). А она… она ничего вам не говорила? Про меня не спрашивала? Нет? Сегодня или раньше?.. Ну, после того, как я телеграмму написала?..
К о с т я. Ничего.
Л ю б а. Но с Василием-то Ивановичем у нее, наверно, разговор был?
К о с т я. Не было.
Л ю б а. Как — не было?
К о с т я
(хмуро). То есть Василий Иванович сказал, конечно, про вас, а она — ничего. Наталья с характером, в отца. Виду не покажет. Вся в себе.
Л ю б а. Ничего не сказала?.. Не спрашивала?.. Ну, идите, идите…
К о с т я. Сейчас машину достану.
(Повернувшись к Настеньке, но не глядя на нее.) Как вы думаете, Витька признает меня или, может, заартачится и не поедет со мной?
Н а с т е н ь к а. Говорите невесть что, как не поедет?
Л ю б а
(улыбнувшись). С Костей должна поехать ты.
К о с т я. Я и говорю, без нее у меня ничего не получится.
Н а с т е н ь к а. Пожалуйста, я поеду.
К о с т я. Важная какая стала. Давайте руку.
Н а с т е н ь к а. Ничего, я сама.
(Независимо и важно уходит.)
Костя за ней. Ушли.
Люба одна. Она сидит на ступеньках крыльца, притулив голову к перекладине, и, утомленная тревогами и волнениями дня, засыпает. Входит Н а т а ш а (она в рабочем комбинезоне). С ней — С т а р и ч о к с п а л о ч к о й.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. Тш. Заснула. Ты постой. Постой-ка тут. Тихонечко разбужу ее…
Н а т а ш а. Уйдите лучше. Я сама. И познакомлюсь без вас.
С т а р и ч о к с п а л о ч к о й. А может, не надо будить? А может, я? Хорошо, хорошо, не сердись… (Уходит на цыпочках.)
Наташа, склонившись, долго разглядывает спящую Любу.
Н а т а ш а
(шепотом). Вот какая вы. Я думала, другая вы.
Люба приподнимает голову.
(Выпрямившись, стоит заложив руки за спину, и в упор смотрит на Любу.) Я скажу… Здравствуйте. Я дочка Василия Ивановича.
Л ю б а. Здравствуй.
Н а т а ш а
(холодно). Коли устали с дороги, то я сейчас отворю дверь и вы сможете войти.
Л ю б а. Спасибо.
Н а т а ш а
(поднимаясь на крыльцо). Войдите, отдохните. Мой отец, Василий Иванович, просил меня.
(Снимает замок.) Пожалуйста.
Люба поднимается на крыльцо.
Вода — здесь. В доме ведро. Я скажу, умывальника у нас нет.
(Отвернулась.)
Л ю б а. Спасибо.
(Вошла в дом и вскоре вернулась с ведром.) Ай-ай-ай, как же у тебя неумыто-неприбранно. Гора грязной посуды, постель с утра не застелена, платье разбросано.
Н а т а ш а. Мне некогда. Я весь день на стройке.
Л ю б а. Надо успевать. На то ты и женщина. Неужто мама твоя такое неряшество терпела?
Н а т а ш а. Нет.
Л ю б а. И я не буду. Воевать буду, а не потерплю. И неужто Василий Иванович до того, как опять ушел на фронт, в такой вот неприбранности жил?
Наташа молчит.
Терпел, конечно. Старался не замечать.
Наташа молчит.
Нет, нехорошо. Он там, внизу, на хуторе, какое дело начал! И мало того, здесь тоже успевал — для тебя, для меня. Гляди, какой дом! И уж наверно хотелось ему прийти, отдохнуть, порадоваться… А ты!.. Огорчила ты меня, ах, как огорчила.
(Набрала воду в ведро, ушла в дом и снова появилась на крыльце с какими-то половичками и занавесочками. Выбивает их.) Дрова-то у тебя есть поблизости?
Наташа сидит на приступочке, уткнувши лицо в ладони.
Да ты что?
(Подошла к ней.) Ты что, глупая девочка? У меня самой на душе кошки. Думаешь, легко — одной-то? В чужих местах?
Н а т а ш а. Не в чужих, нет… Не глядите на меня, я зареванная. А дрова наложены за печкой…
(Порывисто обнимает Любу.) Никогда не рассказывайте ему, как я встретила вас… Забудьте про это… Люба… Можно я буду так называть вас?.. Он всегда так вас называл, когда мне рассказывал… А потом, ночами, втихомолочку я, как дура, плакала, плакала и ненавидела вас…
Л ю б а. И впрямь глупая девочка, совсем глупая…
Обнялись и обе расплакались.
Н а т а ш а. Только не рассказывайте ему, не рассказывайте…
Так, обнявшись, и ушли в дом. Далеко-далеко поют солдаты:
На чужой земле, в походах,
Вспомню о тебе не раз,
Дом с подсолнухом у входа
И прощальный утра час.
Появляется В а с и л и й И в а н о в и ч. Он идет со стороны моря, в походном обмундировании, в шлеме, с автоматом.
Г о л о с Н а т а ш и. Неужели сами шили? Да ведь как вышло — совсем по мне, совсем как раз, словно видели меня…
Она выбегает на крыльцо в новом платье и рассматривает его.
Н а т а ш а. Неужели мне? И вам не жалко? Люба! А Настеньке? Она какая? А может, лучше подарить его Настеньке?
Г о л о с Л ю б ы. Ну, вот еще. Насмотрелась, и хватит. Давай печку растапливать, пока наши с разъезда не вернулись, а то не успеем.
Наташа убегает.
Выходит Л ю б а. Рукава у нее засучены, лицо по-хозяйски озабочено. Не замечая Василия Ивановича, она направляется к колодцу.
В а с и л и й И в а н о в и ч. Люба!
Л ю б а. Ты!..
(Бросается к нему.) Как же ты, откуда ты?
В а с и л и й И в а н о в и ч. Часть тут моя проходит. Вырвался на полчаса. Думал, а вдруг приехала? Думал, вдруг увижу…
Л ю б а. Вот я… вот…
(Припав к его плечу, замирает.)
В а с и л и й И в а н о в и ч. А слезы-то зачем, слезы? Я скажу, конец слезам приходит. Гляди! Уже мирный труд торжествует на нашей земле! Я скажу, будь спокойна, будь счастлива.
Л ю б а. Ах, стосковалась я…
В а с и л и й И в а н о в и ч. Жена моя, жена…
Солдатские голоса поют: «Там, у самой сини моря…»
З а н а в е с
1945
ГРИБОЕДОВ
Пьеса в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
В прологе:
Г р и б о е д о в А л е к с а н д р С е р г е е в и ч.
М и х а и л П а в л о в и ч — великий князь.
Л е в а ш е в В а с и л и й В а с и л ь е в и ч — генерал-лейтенант, член Следственного комитета.
Б л у д о в Д м и т р и й Н и к о л а е в и ч — делопроизводитель Верховного суда.
В пьесе:
Г р и б о е д о в А л е к с а н д р С е р г е е в и ч.
Б у л г а р и н Ф а д д е й Б е н е д и к т о в и ч — литератор.
А л е к с е й Г р и б о в (Алексаша) — слуга Грибоедова.
Д о к т о р М а к н и л — врач английской миссии.
Э л ь з е в и р а — служанка Булгарина.
Р о д о ф и н и к и н — начальник Азиатского департамента.
Н е с с е л ь р о д — граф, вице-канцлер, министр иностранных дел.
М а л ь ц е в И в а н С е р г е е в и ч — секретарь посольства.
Н и н а Ч а в ч а в а д з е.
А х в е р д о в а П р а с к о в ь я Н и к о л а е в н а — вдова генерала.
Д а ш е н ь к а — ее дочь.
Е р м о л о в С е р г е й Н и к о л а е в и ч (Сережа), поручик, племянник Алексея Петровича Ермолова.
М и щ е н к о — старый кавказский офицер, майор в отставке.
Ш а х н а з а р о в — штабс-капитан, переводчик.
Д о к т о р.
Г о с т и в доме графа Нессельрода.
Ч е р н ь города Тегерана.
К а з а к и, охрана русского посольства в Тегеране.
ПРОЛОГ
Луч света освещает фигуру Г р и б о е д о в а.
Глаза у него завязаны.
Г о л о с Л е в а ш е в а. Снимите повязку.
Луч гаснет. Из тьмы возникает помещение Петропавловской крепости, где заседает Следственный комитет по делу декабристов. На столе зажжены свечи. За столом — генерал-лейтенант Л е в а ш е в и делопроизводитель Верховного суда Б л у д о в. В глубине, совсем в сумраке, — великий князь М и х а и л П а в л о в и ч.
Г р и б о е д о в
(снимает повязку). Почему, однако, дорога от Главного штаба в Петропавловскую крепость должна держаться в столь строгой тайне?
Л е в а ш е в. Извольте, не раздумывая, подчиняться правилам, установленным для лиц, находящихся в вашем положении.
Г р и б о е д о в. Тогда, может быть, Следственный комитет ответит мне наконец, долго ли я буду находиться в этом положении?
Л е в а ш е в. О, это зависит исключительно от вас. Вы слишком неразговорчивы.
(Блудову.) Прошу.
Б л у д о в. Возникли сомнения насчет некоторых ответов коллежского асессора Александра Сергеевича Грибоедова. Вот.
(Читает.) «Ничего не зная о тайных обществах, я никакого собственного мнения не могу иметь».
Г р и б о е д о в. Натурально, коли не знал.
Л е в а ш е в. Не знали? А кого из заговорщиков знали?
Б л у д о в
(глянув в бумагу). Ответ.
(Читает.) «Я был знаком с Бестужевым, Рылеевым, Оболенским, Одоевским и Кюхельбекером».
Л е в а ш е в. С пятью первейшими участниками мятежа?
Г р и б о е д о в. Я был знаком с Бестужевым, Рылеевым, Оболенским, Одоевским и Кюхельбекером, сохранив память о них как о людях, исполненных долга и чести.
М и х а и л П а в л о в и ч
(из сумрака, лениво). А граф Иван Федорович Паскевич… Он… как тебе приходится?
Г р и б о е д о в
(только сейчас увидев великого князя и поклонившись ему). Женат на моей двоюродной сестре, ваше высочество.
М и х а и л П а в л о в и ч. Да, да… Елизавете Алексеевне… Императрица Мария Федоровна была крестной матерью ее двум дочкам… Достойнейшая из женщин твоя кузина, Грибоедов!..
(Левашеву.) Продолжайте.
Б л у д о в
(Грибоедову). Вы указываете, что в разговорах названных лиц вы слыхивали суждения насчет государя и правительства… И…
(листая бумаги) суждения о том, что народ русский задумался о судьбе своей после войны двенадцатого года. Рабство стало ему невтерпеж.
Г р и б о е д о в. Когда бы слыхивал, то подумал: неужели названные лица в своих мечтаниях ушли от нас лет на сто вперед?
Л е в а ш е в. Неясная мысль. Но вы показывали, что в суждениях этих брали участие, осуждая, что казалось вредным, и не на сто лет вперед, а теперь, и желая лучшего.
Г р и б о е д о в. Подтверждаю. Но что же тут непозволительного — осуждать вредное и желать лучшего?
Б л у д о в. Двоякий смысл.
Г р и б о е д о в. Один-единственный.
(Михаилу Павловичу.) Разве правительство боится правды, высказанной в глаза?
М и х а и л П а в л о в и ч. Правительство не боится ничего. Оно сокрушает. Да и ты человек смелый. А погляжу, находишься среди людей, к тебе расположенных, а говорить боишься!
Г р и б о е д о в. Помилуйте, ваше высочество! Людей бояться — не значит ли баловать их?
М и х а и л П а в л о в и ч. На язык остер — знаю. Губишь себя. Кого в наставники-то выбрал?
Г р и б о е д о в. В наставники? С малых лет я
выбрал одного, ваше высочество.
Б л у д о в. Давно бы надо назвать.
Л е в а ш е в. Кого?
Г р и б о е д о в. Самого себя, ваше превосходительство.
Л е в а ш е в. Себя, именно себя! В комедии твоей, припоминаю, так и было написано: «Мы с вами не ребяты, зачем же мнения чужие только святы?»
Г р и б о е д о в. Писал, как жил, — свободно и свободно. А память у вас отменная!
Л е в а ш е в. Память хорошая. Годится. По словам вашим вышло так, что названные лица имели смелые суждения, а вы лишь только брали в них участие. А вот недавно на Следственном комитете одно из перечисленных лиц в ответе своем на допросный пункт написало…
(Повернулся к Блудову.)
Б л у д о в
(читает). «Принимая под свободным образом мыслей привычку не руководствоваться мнением других, я рассуждаю по собственному разумению».
Л е в а ш е в. Кто же наставник? Прямо-таки живое повторение стишков ваших, драгоценный Александр Сергеевич. Не потому ли многие ваши друзья заняты были переписыванием их? Ах, пожалеть бы вам об этом!
Г р и б о е д о в. Но они переписывали и другие стишки, добрейший Василий Васильевич: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь».
Л е в а ш е в. Есть и еще стишки.
(Блудову.) Как там?..
Б л у д о в
(мнется). Но…
Л е в а ш е в.
Насмешки вечные над львами! Над орлами!
Кто что ни говори…
Б л у д о в
(шепотом).
Хоть и животные, а все-таки цари…
М и х а и л П а в л о в и ч. Ффф! Даже в памяти держать неприлично! Бога моли, что комедия твоя была не дозволена! Счастье твое, что она ушла в безвестность, твое счастье!
Г р и б о е д о в. Не божеским милосердием, а попечением правительства, ваше высочество, я был избавлен от позора оказаться еще и автором.
М и х а и л П а в л о в и ч. Автором ты был, отрекаться поздно. Но отныне, слава богу, об этом не узнает никто. Но… Но дружба с бунтовщиками, поднявшими руку… меч кровавый!.. На кого? Только чистосердечным рассказом об их преступных замышлениях, только чистосердечной помощью высочайше утвержденному Следственному комитету, только откровенностью ты можешь доказать свое раскаяние!
Г р и б о е д о в. Но, ваше высочество, мне решительно не в чем раскаиваться.
М и х а и л П а в л о в и ч. Это все, что ты можешь сказать?
Г р и б о е д о в. Все, ваше высочество.
Л е в а ш е в. Все?
Г р и б о е д о в. Все, ваше превосходительство.
Л е в а ш е в. В таком случае еще не все в обстоятельствах вашего дела, коллежский асессор Г р и б о е д о в. Следственный комитет располагает…
(Повернулся к Блудову.)
Б л у д о в
(Грибоедову). Итак, вы заявили, что ничего о существовании Общества не знали и не ведали. Однако…
(Ищет в бумагах.) «…Ничего не зная… никакого собственного мнения…» Вот. В своих показаниях князь Оболенский, названный вами в числе ваших знакомых, заявил, что вы были приняты в Общество до отъезда своего из Санкт-Петербурга в мае тысяча восемьсот двадцать пятого года.
Г р и б о е д о в. Да. Именно тогда я был принят в Общество.
М и х а и л П а в л о в и ч. Ну, брат, не взыщи!
Г р и б о е д о в. Именно за три дня до своего отъезда в мае тысяча восемьсот двадцать пятого года я был принят в Общество любителей российской словесности.
Б л у д о в. Какой… словесности?!
Л е в а ш е в
(Грибоедову). Я вижу, что для вас даже и то, что происходит с вами, не более как смешная комедия.
Г р и б о е д о в. Отнюдь! Но неужели вы полагаете, что человек должен так скоро расстаться со своим оружием, которое для него не только защита, но и честь!
Л е в а ш е в. Молчать!
М и х а и л П а в л о в и ч
(укоризненно). Генерал!
(Грибоедову.) Я рад, я очень рад, что и это оказалось вздором.
(Встает.) Уведите его.
Г р и б о е д о в
(устало). Я прошу об одном. Я прошу о скорейшем решении, все равно каком, лишь бы скорейшем.
(Опускает на глаза повязку.)
М и х а и л П а в л о в и ч. Иди.
Конвойный уводит Грибоедова.
Л е в а ш е в. Он получит скорейшее решение! Ваше высочество, в бумагах Следственного комитета недостача писем и бумаг, о которых было нам доподлинно известно. Но в этом ли дело? Хитроумное поведение Грибоедова не требует доказательств.
М и х а и л П а в л о в и ч. Вы думаете?
Л е в а ш е в. Нужны ли нам материалы, раз решено изобличить его? И в этом случае, как и в других подобных?
М и х а и л П а в л о в и ч. В этом случае будет иначе.
Л е в а ш е в. Помилуйте, ваше высочество…
М и х а и л П а в л о в и ч. Сам государь император Николай Павлович благосклоннейше выслушал ходатайство графа Ивана Федоровича Паскевича о Грибоедове.
Л е в а ш е в. Быть может, за неясностью обстоятельств, и не наша ли священная обязанность…
М и х а и л П а в л о в и ч. Наша обязанность — понять. По сию пору на Кавказе главноначальствует генерал Ермолов…
(Взгляд на Блудова.)
Б л у д о в. Это он, богом клянусь, это он виновен в предупреждении Грибоедова, и вот нет писем, нет бумаг!
М и х а и л П а в л о в и ч. В этом ли суть?
(Повысив голос.) Ермолов забыл, что Кавказ — не его вотчина, а государева! Быть там графу Паскевичу!.. Трудная миссия — в делах азиатских разбираться. А Грибоедов в них весьма искушен — что в Грузии, что в Персии…
(Прищурился.) Жена графа, Елизавета Алексеевна, как ему приходится — кузиной? А он, стало быть, графу — шурин?
Л е в а ш е в. Но он же преступник, ваше высочество! Гораздо более преступник, чем многие из названных лиц! Литератор! Его комедия возмутительна! Он пишет, его не дозволяют к печати, а стишки его разгуливают по свету. И ведь он еще будет писать и напишет, бог знает что напишет…
М и х а и л П а в л о в и ч. Вы полагаете?
Б л у д о в
(листая бумаги). Опять ложь. В Общество российской словесности он вступил отнюдь не в мае двадцать пятого, а в декабре двадцать четвертого года…
М и х а и л П а в л о в и ч. Дмитрий Николаевич! Ну и пусть!
(Левашеву.) Неужели вы полагаете, что освобожденный Грибоедов будет волен в своей жизни и в своих поступках? Нет и нет. Он будет, Василий Васильевич, состоять при графе, и уж наверно не как автор, поверьте мне. Мне кажется, он получил достаточный урок.
Л е в а ш е в
(пораженный). Освободить?
М и х а и л П а в л о в и ч. Я полагаю. С очистительным паспортом, на что и будет резолюция самого государя императора. И — на Кавказ, обратно на Кавказ, в Тифлис, в Тифлис, и как можно скорее!
Л е в а ш е в. Легок твой бог, комедийный писатель! Хитер, хитер! И, никак, родился под счастливой звездой!
З а н а в е с
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Апрель 1828 года.
Санкт-Петербург. Кабинет в квартире Булгарина. Сумерки. Г р и б о е д о в, одетый, спит на диване. В глубине сцены отворяется дверь, и, стараясь двигаться бесшумно, появляется Б у л г а р и н, в халате, с зажженной свечой в руках.
Г р и б о е д о в
(не видит его, привстал). Сон… Опять сон… И как будто из тьмы — Главный штаб, Петропавловская крепость…
Б у л г а р и н. Александр, опомнись! Что с тобой?.. Ты у меня, у своего первейшего друга, у Фаддея Булгарина…
Г р и б о е д о в. Там свеча, тут темно…
Б у л г а р и н. Опомнись, опомнись, что за вздор! Сколько лет прошло! Все переменилось и все забыто…
Г р и б о е д о в
(думая о своем). Да, да, это ты.
Б у л г а р и н. Разумеется, я! У тебя удача, успех! Государь удостоверился, что подозрения против тебя напрасны, и вот ты опять на дипломатической службе. И какой! Тифлис, Армения, Персия! Победоносный мир в Туркманчае, достигнутый силой твоего ума, потряс буквально весь Петербург! Тебя встретили пушечными салютами, ты гость желанный в лучших домах…
Г р и б о е д о в. Постой.
(Сидит на диване, покачиваясь.) Я лежал и думал… Три, нет… два года тому назад меня допрашивал тот самый граф Левашев, с которым я обедал сегодня…
Б у л г а р и н. Он очень расположен к тебе.
Г р и б о е д о в. Расположен?.. Постой, еще не все. Был на обеде также и Павел Васильевич Голенищев-Кутузов. Знаешь его?
Б у л г а р и н. Немножко. А что?
Г р и б о е д о в. Не притворяйся — хорошо знаешь. Он как раз и распоряжался повешеньем пятерых, скомандовав: «Вешать снова!», когда один сорвался. Теперь — полный генерал.
Б у л г а р и н. Не надо об этом, прошу тебя.
Г р и б о е д о в. Изволь, молчу.
Б у л г а р и н. Не смейся, думаешь, мне легко?
Г р и б о е д о в. Неужто трудно?
Б у л г а р и н. Мое польское происхождение. Моя дружба
(шепотом) с некоторыми из погибших…
Г р и б о е д о в. Из повешенных. И со мной.
Б у л г а р и н. От дружбы с тобой я никогда не отказывался, Александр, никогда!
Г р и б о е д о в. Да, конечно. Но я не верю в бескорыстие отношений человеческих.
(Встал.) Не беспокойся обо мне. Все эти сны и мысли не более как от тяжелого обеда.
Б у л г а р и н
(обрадовался, что тема разговора переменилась). Ты должен привыкать к разным обедам. А когда — в Персии, с персиянами?
(Зажигает свечи на столе и у книжных полок.)
Г р и б о е д о в. Помилуй, там не едят так много. И к тому же нам быть еще сегодня на бале.
Б у л г а р и н. О! Граф Нессельрод попросту не приглашает! Я жду от него больших известий для тебя.
Г р и б о е д о в. Избави бог. Я постараюсь улизнуть пораньше.
Б у л г а р и н. Э, нет! Я сам пробуду до конца, хотя мне еще статью писать.
(Располагается на диване, благодушествуя.) Да! Статью! Вот, брат, какая жизнь. Уж и сил не хватает. Поверишь ли, сегодня опять в цензуру таскали. Как так, говорят, у вас описание Санкт-Петербурга, а погода, пишете, плохая. Почему — плохая? Не намек ли?
Г р и б о е д о в. Значит, про погоду — нельзя.
Б у л г а р и н
(озабоченно). Сухость получится. Читатель не любит сухости. Мне нужно, чтобы было бойко, а то одни цензоры и будут читать.
Г р и б о е д о в. В цензуре ли дело? Была бы мысль…
Б у л г а р и н. Да, да! Я от тебя сочинений жду, от тебя! Кто же другой, как не ты, коварных персиян вокруг пальца обвел? Что тебе цензор? Уж тут, наверно, выйдет!
Г р и б о е д о в. Наверно. Да ведь только, Фаддей, писать надо свободно, иначе не стоит и писать.
Б у л г а р и н. Так-то оно так, однако же все хитрят. Жить надо, жить! Вот, рассказывают, и Пушкин пишет барабанную поэму «Полтава», чтобы отличиться…
Г р и б о е д о в. Пушкин? Военную поэму?
Б у л г а р и н. Хитрость, не более того! Вот то-то! И ему прощают! Это мне не прощают! Что я имею за труды свои? Его жалуют! Дуэлиста, эпиграммщика, грубияна! А мне чуть что — на вид!
Г р и б о е д о в. Чересчур послушен.
Б у л г а р и н. Моя газета, мои книги — разве они не усугубляют славы российской?
Г р и б о е д о в. Усугубляют. «Полтава», говоришь? Что еще слышал о Пушкине? Где он сейчас?
Б у л г а р и н. Что Пушкин, Пушкин! Моего «Выжигина» на несколько языков перевели. Недавно англичанин приходил. Тоже намеревается…
Г р и б о е д о в. Честь какая! Перед каждым заморским проходимцем гнешь спину. Эх, ты!.. Я другому завидую.
(Резко повернулся.) Что я такое в нашей русской литературе?! Безвестный автор одной ненапечатанной комедии!
Б у л г а р и н. Побойся бога!..
Г р и б о е д о в. Может быть, и писать-то не умею. А мечтаю о Шекспире! Готовый план трагедии в голове…
Б у л г а р и н
(даже привстал). Что? Тра-гедии?!
Г р и б о е д о в. Но ведь ты другое мне советовал?! Цензору угождать! Служить! Особенно когда сам государь император жалует.
Б у л г а р и н. Знаю. Душевно рад. Горд!.. Но… еще и трагедия! Александр! Подумай! Твоим умом, твоим талантом!
Г р и б о е д о в. Будто?
Б у л г а р и н. Пиши! Да я готов на коленях ползать! Умоляю тебя!
(Ходит вокруг, потирая руки.) Скрытничаешь? Молчишь?
Г р и б о е д о в. Не терпится узнать? Изволь, расскажу. Называется «Тысяча восемьсот двенадцатый год».
Б у л г а р и н. Неужто историческая хроника, рисующая недавние бедствия и торжество русское?
Г р и б о е д о в. Непременно. Как же иначе?
Б у л г а р и н. Да ведь это же… Александр! Я должен объявить в журнале, что сочинитель Грибоедов…
Г р и б о е д о в. Тсс… Отделение первое. История начала войны. Взятие Смоленска. Обозы раненых. Рассказ о битве Бородинской.
Б у л г а р и н. Так, так, так…
Г р и б о е д о в. Враг подходит к Москве. И тогда как будто трубный глас Архангела вызывает тени исполинов: Святослава, Владимира, Мономаха, Иоанна, Петра… Он пророчествует о године искупления для России, возбуждая в сердцах неугасимый огонь, рвение к славе и свободе отечества…
Б у л г а р и н
(млея). Прекрасно.
Г р и б о е д о в. Отделение второе. Наполеон в Москве. Лишь один поседелый воин с горьким предчувствием опасности предостерегает его от будущих бедствий. Ему не верят. Пылает Москва. Кругом зарева пожарищ. Сцены зверского распутства, разгула, порока…
Б у л г а р и н. Сам государь император, восхищенный, будет рукоплескать тебе.
Г р и б о е д о в. Постой. Между тем в селах собирается народное ополчение. Быть может, до того я выставлю трусость служителей правительства…
Б у л г а р и н. Решительно не советую, прошу тебя…
Г р и б о е д о в. А что? Пожалуй, покажу. Как они бежали из Москвы, потерявши стыд и честь от страху. И не они, заметь, не они, а народ встал на защиту родной земли! Ополчение без дворян…
Б у л г а р и н. А герой-то, кто у тебя герой?
Г р и б о е д о в. Крепостной дворовый человек.
Молчание.
Отделение… третье. Победа народная. Преследование неприятеля. Картина ужасных смертей и геройства.
Булгарин молчит.
Эпилог. В Вильне. Тут, брат, стараются дворяне да царедворцы, ищут отличий, возвышений. Уж тут они первые! И, знаешь ли, исчезает поэзия великих подвигов.
Булгарин развел руками.
Исчезает! Мой герой, возвысившийся из глубин народных, уходит восвояси. Он возвращается под палку своего господина, снова мы видим прежние мерзости. Его наставляют к покорности и послушанию, над ним издеваются. Ну… и в отчаянии он кончает жизнь самоубийством.
Б у л г а р и н. Боже мой! Александр!
Г р и б о е д о в. Не писать?
Б у л г а р и н. Ведь это то самое, о чем говорилось у заговорщиков!.. Ведь это… Да ты сошел с ума! Ты положительно сошел с ума.
Г р и б о е д о в. Ничуть. Хотя и сам держусь того мнения, что с объявлением в журнале не спеши.
Б у л г а р и н. Ополоумел! Никому, никому, даже мне, не смей нести подобный вздор, от которого у меня мурашки бегают по спине!
Г р и б о е д о в. И верно — вздор.
(Смотрит на часы.) Нам пора. Куда запропастился Алексашка? Я приказал ему зайти к портному.
Б у л г а р и н. Алексашка! Эльзевира!
(Развел руками.) Ополоумел! Сошел с ума! Да ведь это же…
(В отчаянии.) Алексашка! Эльза! Эльзевира!..
Входит А л е к с а ш а.
А л е к с а ш а. Вы так изволите кричать, как будто я не слышу. А я слышу. Я в передней сидел.
Г р и б о е д о в. Почему в передней?
А л е к с а ш а. Эльзевире помогал.
Г р и б о е д о в. Эх, франт-собака, ты меня уморишь. Фрак привез?
А л е к с а ш а. Изволите так говорить, как будто не привез. А он тут как тут.
(Булгарину.) В передней там у вас англичанин сидит.
Б у л г а р и н. Кто? Что? Болван! Зови сюда!
(Поспешно скидывает халат, надевает первый попавшийся сюртук.)
Алексаша, устремившись к двери, сталкивается с д о к т о р о м М а к н и л о м. Тот отскакивает, схватившись за ногу, которую отдавил ему Алексаша.
Д о к т о р М а к н и л. Ай бэг ю па́рдн!
[1] Ой…
(Идет, прихрамывая.) Прошу простить… я без доклада… Но ваши слуги…
Б у л г а р и н. Боже мой! Он вас зашиб? Мозоль?
Д о к т о р М а к н и л. Какой мозоль?
(Кланяется в сторону Грибоедова.)
Грибоедов, откланявшись издали Макнилу, уходит.
(Проводив его взглядом, резко поворачивается к Булгарину.) Господин Булгарин…
(С деланной улыбкой.) Цель моего скромного визита известна вам?
Б у л г а р и н. Имею счастье… Не заслужил…
Д о к т о р М а к н и л. Роман «Выжигин» вашего сочинения произвел на меня впечатление…
Б у л г а р и н. Польщен.
Д о к т о р М а к н и л. Скажу более: я хотел бы заняться на досуге переводом именно этого сочинения.
Б у л г а р и н. Прошу. Вот библиотека моя. Вот тут, на полке, мои труды.
Д о к т о р М а к н и л. Ого!
(Разглядывая полки с книгами.) Скажите, не имел ли я счастья только что узреть здесь господина Грибоедова?
Б у л г а р и н. Это он. Прошу вас, вот первый томик «Выжигина».
Д о к т о р М а к н и л. Второе издание. Скажите!
Б у л г а р и н. Как же. И шрифты, и формат — все сам, сам.
Д о к т о р М а к н и л. Прекрасно.
(Перелистывает книгу.) Я давно мечтал познакомиться с господином Грибоедовым. Мне пришлось бывать в Персии в одно время с ним.
Б у л г а р и н. Боюсь, сегодня не удастся. Александр Сергеевич приглашен на бал весьма большого политического значения. Вас заинтересовала заглавная виньетка?
Д о к т о р М а к н и л. О! Прекрасно! Куда же он приглашен, позвольте полюбопытствовать?
Б у л г а р и н. К вице-канцлеру и министру иностранных дел графу Нессельроду.
Д о к т о р М а к н и л. Вот как!
Б у л г а р и н. Если вас интересуют виньетки, я мог бы предложить вам некоторые из альманахов…
Д о к т о р М а к н и л. О да, виньетки меня интересуют…
(Подняв голову.) Вы знаете, я полагаю, что сегодня состоится назначение.
Б у л г а р и н. Что?
Д о к т о р М а к н и л. Не удивляйтесь. Господин Грибоедов — человек известный, особенно после туркманчайского трактата, столь победоносно завершившего войну России с Персией. Вот и слухи. Говорят о назначении его посланником персидским.
Б у л г а р и н. Слухи, слухи! Но он отказывается. Он решительно отказывается, намереваясь расцвесть на литературном поприще.
Д о к т о р М а к н и л. В отставку? Нет. Я лично думаю, что нет. Окажите, а второй томик?..
Б у л г а р и н. Выходит! Буду иметь честь преподнести.
Д о к т о р М а к н и л. Признателен. А кстати, кто это Сашка, с которым я имел несчастье столкнуться?
Б у л г а р и н. Грибоедовский. Известный всему Петербургу пройдоха и грубиян.
Д о к т о р М а к н и л. А! Слыхал! Вы разрешите ознакомиться с этой полочкой?
Б у л г а р и н. Располагайтесь, но не обессудьте, я вынужден оставить вас ненадолго. Мне надобно успеть… Я тоже имею честь быть приглашенным к вице-канцлеру.
Д о к т о р М а к н и л. Ради бога, я только взгляну… Не более как любопытство давнего любителя, могу сказать, маньяка.
Булгарин уходит, доктор Макнил кладет томик «Выжигина», садится в кресло. Сидит неподвижно, думает. Появляются, не замечая его, Э л ь з е в и р а и А л е к с а ш а. Она несет на вытянутых руках фрак, а он по пятам следует за ней.
А л е к с а ш а
(вкрадчиво). Как изволит выражаться Александр Сергеевич, мы с ним бродячая миссия, но путешествуем по-царски. В каких странах не бывали, каких людей не видывали!..
Э л ь з е в и р а. То-то, что видывали! Мне про вас сказывали. Анютка сказывала, и Аграфена тоже…
А л е к с а ш а. Анютка! Аграфена!..
(Обнимает ее.) Эльзевира — вот это имя! Ни в Персии, ни у грузинцев не встречал…
Э л ь з е в и р а
(застыла в ужасе, увидав Макнила). Пустите! Ах!..
(Вырвалась и убежала.)
Алексаша устремился было за ней.
Д о к т о р М а к н и л. Нет! Сюда, сюда, голубчик!
Алексаша подходит с неохотою.
И давно ты с Грибоедовым?
А л е к с а ш а. Почитай, с детства, росли вместе.
Д о к т о р М а к н и л. Это хорошо, когда такой слуга.
А л е к с а ш а. Он-то барин, а без меня — как без рук. В Туркенчае ли мир подписывать, к царю ли на прием — первое дело — Алексашка! А то и — Алексей Митрич, дру-уг! Так-де и так, выкладывай, что думаешь.
(Скромно опустил глаза.) А я что?
Д о к т о р М а к н и л. Вот и мы с тобой будем друзьями. На-ка, получи, Алексей Митрич, целковый!
А л е к с а ш а
(подбросил и поймал на ладонь рубль). Покорно благодарим. И это бывало. А только, изволите знать, у нас с барином даже фамилии схожи. Грибов моя фамилия, изволите знать.
(Усмехнулся прямо в лицо Макнилу и, еще раз подбросив рубль, ушел, оставив его в некоторой растерянности.)
Появляется Г р и б о е д о в и, суетливо опережая его, Б у л г а р и н. Оба во фраках.
Б у л г а р и н. Виноват, виноват!..
Д о к т о р М а к н и л. Да чем же!.. За чтением ваших книг я и не заметил, как прошло время…
Б у л г а р и н
(знакомит). Коллежский советник Грибоедов, о котором мы давеча говорили с вами. Александр Сергеевич, познакомься, доктор Макнил.
Г р и б о е д о в. Вы, кажется, состояли в английской миссии?
Д о к т о р М а к н и л. И состою. По должности своей отбываю в ближайшее время в Тавриз. Сегодня вечером это выяснится окончательно.
Г р и б о е д о в. Ах, так! Только случай не привел нам познакомиться раньше.
Д о к т о р М а к н и л. В Персии! В Персии! Я счастлив, однако, что это случилось хотя бы здесь. Надеюсь, в Тавризе мы встретимся как друзья?
Г р и б о е д о в. Увы, нет. Я не надеюсь быть в Тавризе.
Д о к т о р М а к н и л. Вот как! В таком случае почту за долг нанести вам визит перед отъездом.
(Кланяется Булгарину.) Признателен и побеспокою вас еще.
Б у л г а р и н. Какое беспокойство!..
(Провожает доктора Макнила.) Столько чести для сочинителя, когда и в других странах…
(Уходит вслед за доктором Макнилом и вскоре возвращается.) Пойдем?
Г р и б о е д о в. Это и есть твой переводчик?
Б у л г а р и н. Да.
Г р и б о е д о в. Доктор Макнил все очень хорошо знает. И уж если он намеревается встретить меня в Тавризе…
(Резко перебивает сам себя.) Ты прав. Граф Нессельрод приглашает меня не зря.
Б у л г а р и н. К счастью, я говорю, к счастью.
Г р и б о е д о в. А я не спорю. И в самом деле! Кто посмеет мешать мне делать то, что я хочу!..
Б у л г а р и н
(испуганно). Александр, но ты забыл…
Г р и б о е д о в. Что забыл, что?
Б у л г а р и н. Протри глаза! Подумай! Давно ли было?.. Затруднения денежные, безвестность, запрещенная комедия, арест. Главный штаб… И вот, вот — монаршья милость! Теперешнее твое возвышение!.. Но за тобою смотрят! От тебя ждут!..
Г р и б о е д о в. Да ты, брат, пришел в волнение гораздо более, чем я! Что за чувства тебя охватили?
Б у л г а р и н. Подлый мир недостоин быть свидетелем моих чувств! Я говорю истинно!
(Патетически.) Помни, помни: ты другого Булгарина не найдешь у себя в жизни! Булгарин у тебя один!
Г р и б о е д о в
(ударяет в ладоши). Э-э! Алексашка!..
В дверях появляются Э л ь з е в и р а с шинелью Булгарина в руках и А л е к с а ш а с шинелью Грибоедова. У обоих вид встрепанный, ошарашенный, как будто они выскочили из бани.
Т е м н о
КАРТИНА ВТОРАЯ
Бал у графа Нессельрода. Слышна музыка. На просцениуме появляются г о с т и, в центре Р о д о ф и н и к и н в окружении дам.
П е р в а я д а м а. Говорят, он изучил все языки Востока и обходителен сверх меры…
Р о д о ф и н и к и н. Я полагаю… Но в нашем дипломатическом искусстве, как и в военном, нужно еще и особое счастье. У него оно есть.
В т о р а я д а м а. Как, он женат? Я слышала, он холост.
Р о д о ф и н и к и н. Нет, я не в том смысле. Рассудите сами: он был в немилости опасной, бог знает чем бы кончил — и вдруг стал знатен и богат!
В т о р а я д а м а. Он стал богат?
Р о д о ф и н и к и н. Достиг блистательных выгод! Съездил курьером к государю с донесением о заключении победоносного мира с Персией…
П е р в а я д а м а. Но, говорят, он участвовал в составлении этого трактата, и его умелому обхождению мы обязаны…
Р о д о ф и н и к и н. Я равнодушен к Грибоедову. Но я ценю его. Он боек и умен, однако с высокомерием сверх меры. Англичане его не терпят, а персияне ненавидят. Ему туда лучше бы не показываться.
Шепот в толпе: «Граф!..» Гости, собравшиеся вокруг Родофиникина, мгновенно расступаются. Появляется Н е с с е л ь р о д, бледный карлик в расшитом мундире, сияющем золотом.
(Первой даме.) Посмотрите, какое сочетание государственного ума с изяществом и вкусом! Когда-нибудь потомки с завистью скажут про нас: они жили в эпоху Карла Нессельрода!
(Смеется.) А вместе с ним, быть может, и вашего Грибоедова не забудут…
Смолкает, потому что граф, круто повернувшись, проходит мимо него и направляется прямо к Г р и б о е д о в у, который стоит в дверях.
За Грибоедовым высовывается Б у л г а р и н. И вот уже взоры всех направлены сюда.
Н е с с е л ь р о д
(говорит по-русски очень тщательно, но с большим акцентом). Я рад вас видеть, мой дорогой Грибоедов.
Грибоедов почтительно склоняется. Родофиникин следит за графом. Лорнеты у дам подняты. Грибоедова окружают со всех сторон.
В т о р а я д а м а. Что-нибудь о Персии, о Персии!
Г р и б о е д о в. Извольте, я готов. Но что? О коврах, о сказках, о миниатюрах, о персидских тканях?
В т о р а я д а м а
(подталкивая вперед дочку). О персидском принце…
Г р и б о е д о в. Его зовут Аббас-Мирза, сударыня, но он совсем не похож на принца, каким вы его себе представляете.
В т о р а я д а м а
(лорнируя его). Что-то читала… Роман какой-то…
(Дочери.) Софа!
С о ф а от волнения не может вымолвить слова.
Г р и б о е д о в. Вот именно. Поверьте, как раз только у сочинителей вы и прочтете о Востоке то, что хотите услышать от меня.
П е р в а я д а м а
(лорнируя его). Но вы такой знаток…
Г р и б о е д о в. Увы, сударыня, еще не настали те времена, когда мы и персияне будем понимать друг друга…
(повернувшись к Нессельроду), несмотря на все старания графа…
Общее движение. Возгласы: «Браво!», «Браво!»
Н е с с е л ь р о д. …и Грибоедова.
(Берет его под руку.)
В т о р а я д а м а
(дочери, грозно). Софа!
С о ф а
(вся вспыхнув, Грибоедову). Вы, говорят, музыкант отменный. Сыграйте нам.
Г р и б о е д о в. Помилуй бог! В своей бродячей жизни я разучился даже в мыслях подходить к фортепиано…
(Поклонившись, уходит, поддерживаемый под руку Нессельродом.)
Оркестр грянул польский.
Р о д о ф и н и к и н
(Булгарину). Ваш друг ведет себя бестактно. Он и здесь поспешил затмить своим присутствием графа.
Б у л г а р и н. Константин Константинович, помилуйте!.. Он преисполнен благодарности к государю императору, к графу, к вам… Не далее как сегодня…
Р о д о ф и н и к и н
(повышая голос). Я интересуюсь поведением вашего, повторяю, друга. С кем встречается? С Пушкиным встречается?
Б у л г а р и н. Выражал желание.
Р о д о ф и н и к и н. Я полагаю, вы будете присутствовать при встрече?
Б у л г а р и н. Но, ваше превосходительство…
Р о д о ф и н и к и н. Чем он занят? Пишет?
Б у л г а р и н. Нет… так… Предположения мыслей…
Р о д о ф и н и к и н. Какие?
Б у л г а р и н. План трагедии о двенадцатом годе.
Р о д о ф и н и к и н. Вот как! И что же полагает изобразить?
Б у л г а р и н. Ах, Константин Константинович!.. То, что я слышал, еще далеко не совершенно…
Р о д о ф и н и к и н. Попрошу вас, Фаддей Бенедиктович, доложить мне во всех подробностях предмет замышленной трагедии.
Б у л г а р и н. Посчитал излишним обременять внимание вашего превосходительства…
Р о д о ф и н и к и н. Напрасно. После известных событий четырнадцатого декабря, в коих замешаны были также и многие приятели ваши…
Б у л г а р и н. Боже мой! Ваше превосходительство! Приятельство было, но какое?! Известно ли вам, что один из них…
(шепотом) Рылеев… Кондрат Федорович… однажды сказал мне
(совсем шепотом): «Когда случится революция, мы отрубим тебе голову на обложке твоего собственного журнала…»
Р о д о ф и н и к и н. Это делает вам честь.
Б у л г а р и н. Нет для меня ничего дороже, чем звание благонамеренного русского писателя! Я имел счастье заслужить расположение многих первостепенных чиновников государства…
Р о д о ф и н и к и н. Так вот, после известных событий правительство приняло на себя обязанность напутствовать и управлять общим мнением, не предоставляя его на волю людей злонамеренных. Правительство истребит сих людей. А влияние их должно быть уничтожено действием писателей, приверженных правительству. Не забывайте: вы — литератор, отмеченный доверием.
Б у л г а р и н
(с чувством). Благоволение вашего превосходительства…
Р о д о ф и н и к и н
(перебивая его). Хорошо. Завтра я вас жду в департаменте во втором часу пополудни.
Булгарин кланяется с застывшей улыбкой. Родофиникин уходит в дверь, в которую прошли Нессельрод и Грибоедов.
Открывается второй занавес.
Кабинет Нессельрода. Здесь все маленькое, чтобы граф казался выше. Все желтенькое, канареечное и с золотом. Н е с с е л ь р о д сидит за столом. Г р и б о е д о в — в креслице напротив него. Бесшумно входит Р о д о ф и н и к и н и останавливается у двери.
Н е с с е л ь р о д. Литература? Превосходно! Я сам ценитель. Но вы — человек образованнейший! Недаром у государя императора Николая Павловича полная доверенность к вам как к дипломату…
(Родофиникину.) Не так ли?
Р о д о ф и н и к и н
(двигаясь к столу). Сколь часто удивляемся мы с Карлом Васильевичем многогранности суждений ваших. Язык ли персиянский, поэзия ли, нравы…
(Почтительно замирает у кресла.)
Н е с с е л ь р о д. О да, да… Кому, как не вам, пожинать плоды тишины и спокойствия в умиротворенном Тегеране!
Р о д о ф и н и к и н. Стремление уйти в незаметную тень всегда отличало Александра Сергеевича как государственного чиновника…
Г р и б о е д о в. Своих заслуг не умаляю.
Родофиникин облокачивается на спинку кресла, устремив взгляд на Грибоедова.
(Секунду молчит.) Но убежден тем не менее, что равновесие наше в Персии еще недостаточно прочно, ваше высокопревосходительство. Оно может быть достигнуто…
Н е с с е л ь р о д. Чем же?
Г р и б о е д о в. Лишь силою и благополучием наших восточных границ! То есть справедливыми законами и развитием цивилизации.
Н е с с е л ь р о д. Что понимаете вы под справедливыми законами?
Г р и б о е д о в. Я говорю о Закавказии. Я говорю о Грузии и Армении. Там недовольных много.
Н е с с е л ь р о д. Я был бы признателен вам, когда бы мы продолжали о делах внешних, не касаясь внутренних…
Г р и б о е д о в. Но это неотделимо! Спокойствие на Кавказе поможет нам в укреплении нашего влияния на восточных границах… Скажу более: персидский Адербиджан возлагает на нас надежды…
Н е с с е л ь р о д. Что вы, Александр Сергеевич! Ост-индская компания имеет тоже средства. Англичане не допустят. Нам ссориться не к чему. Да и с кем? С англичанами ссориться? Россия — страна отсталая, земледельческая. У нас другие виды.
Г р и б о е д о в. Прошу простить, коли я позволил себе высказать частное мнение литератора, а не дипломата.
Н е с с е л ь р о д. Мнение ли-те-ра-то-ра?
Г р и б о е д о в. Я человек русский, Карл Васильевич, и движим единственно взглядами, совместными с честью русского имени.
Н е с с е л ь р о д
(вспыхнув). Охранение чести России есть одинаково первейшая цель и дипломата, коль скоро он состоит на службе под моим попечительством!
Г р и б о е д о в. Всенепременно! Как может быть иначе! Вот почему я и говорю о том, что народности Кавказа, доверившие свою судьбу Российской державе, должны увидеть в вас своего защитника, а персияне — непоколебимо твердую политику нашу во всех справедливых случаях…
Н е с с е л ь р о д. Отличная мысль. Однако же без практических видов…
Г р и б о е д о в. В своем трактате я утверждал…
Н е с с е л ь р о д
(побелев). В в а ш е м трактате?..
(Родофиникину.) Константин Константинович, изложите.
Р о д о ф и н и к и н
(смеется). Ай-яй-яй! Как в молодости, нет, право, как в пору случайных литературных увлечений своих, Александр Сергеевич поддался и сейчас чересчур благородным начертаниям…
Г р и б о е д о в. При чем тут молодость моя?..
Р о д о ф и н и к и н. Я пошутил! Прошу вас, представьте себе… Война с Турцией, которую столь победоносно начинает граф Паскевич, — она потребует средств, чем далее, тем более…
Г р и б о е д о в
(настороженно). Справедливо.
Р о д о ф и н и к и н. Рассудите сами: мы можем стать снисходительными как в отношении второстепенных обязательств досточтимого Аллаяр-хана, так и в отношении господина Макдональда, английского посланника, лишь бы персияне незамедлительно уплатили контрибуцию…
Г р и б о е д о в. Это есть временная часть вопроса…
Р о д о ф и н и к и н. Безотлагательная! Согласно вашему трактату, составленному по инструкциям его высокопревосходительства графа… и моим
(заулыбался, развел руками), у персиян немного осталось, а нужно взыскать! Мы ищем человека, который смог бы… сумел… Человека тонкого, многогранного, изучившего обстоятельства… и страну… и поэзию персиянскую… и нравы… у которого почти что случилась слава автора, когда бы… не некоторые увлечения… Я пошутил!.. Литература!.. Вы понимаете, Александр Сергеевич, сколь серьезна задача ваша! И почетна?
Пауза.
Г р и б о е д о в. А если я… не приму этого назначения?
Родофиникин раскрывает бумаги и раскладывает их перед графом. Карлик прячет улыбку.
(Спокойно.) Я не могу принять его по двум причинам. Во-первых, мои напряженные отношения с персиянами, вызванные действиями туркманчайского трактата, да еще при такой разорительной миссии, неизбежно приведут к столкновению. Вы знаете, я был жесток и неумолим, защищая интересы России. Аллаяр-хан — мой враг. Не может быть иначе, это кончится печально, если не для дела, так для меня.
Р о д о ф и н и к и н
(улыбаясь). Но вы же дипломат! Ах, Александр Сергеевич! В честь вашу пушки стреляют!
Г р и б о е д о в
(еще более спокойно). Во-вторых, в Персии в настоящих обстоятельствах не может быть поверенный в делах, как раньше. Там должен быть полномочный министр, лицо, равное английскому представителю.
Н е с с е л ь р о д. Тончайшее наблюдение.
Г р и б о е д о в. Я польщен, что вы имеете меня в виду и на такой высокий пост. Но по чину своему я не могу быть на него назначен.
Доносятся звуки вальса. Бал в разгаре.
Ну вот, и я почти что автор, музыкант. Могу ли я наконец заняться своими музами?
Н е с с е л ь р о д
(вкрадчиво). Уединение совершенствует гения. А в Петербурге — шум, для муз опасный.
(Встает.) Поздравляю вас, господин Грибоедов!
(Взгляд в сторону Родофиникина.)
Грибоедов тоже привстает, еще ничего не понимая. Карлик жмет ему руку. Упоительный вальс врывается с новой силой, и — смех, возгласы!
Р о д о ф и н и к и н
(торжественно). Вот проект высочайшего указа.
(Читает.) «Коллежский советник Грибоедов Александр Сергеевич возводится в чин статского советника и назначается полномочным министром российским при персидском дворе…»
Н е с с е л ь р о д
(Грибоедову). Ну-с?
Г р и б о е д о в
(убитый). Я слишком облагодетельствован своим государем, чтобы осмелиться в чем-нибудь не усердствовать ему, ваше высокопревосходительство.
Н е с с е л ь р о д. О господин министр!.. Вы заслужили, чего же более…
Родофиникин звонит в колокольчик.
(Грибоедову.) Соревнуясь в пышности, которую привыкли выказывать при дворах азиатских, вы получите средства, чтобы и в обыкновенной жизни и в торжественных случаях поддержать достоинство императорского посланника!.. А о составе миссии Константин Константинович уже позаботится сам.
В дверях стоит м о л о д о й ч е л о в е к в таких же узких очках, как у Грибоедова, до странности на него похожий, но с лицом, как маска.
Познакомьтесь. Первый секретарь посольства нашего, Иван Сергеевич Мальцев.
З а н а в е с
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Август 1828 года. Тифлис. Квартира Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Гостиная с широкой дверью, выходящей на деревянный балкон. Там — листва, сад, поднимающийся в гору.
За сценой, еще до открытия занавеса, женские голоса поют:
Прекрасный день, счастливый день!
И солнце и любовь!
С нагих полей сбежала тень,
Светлеет сердце вновь…
Проснитесь, рощи и поля,
Пусть жизнью все кипит!
Она моя, она моя —
Мне сердце говорит…
Аплодисменты, возгласы. Потом выбегают Н и н а Ч а в ч а в а д з е и Д а ш е н ь к а А х в е р д о в а. Остановившись, вглядываются в сад, над которым уже сгустились сумерки.
Н и н а. Нет, нет, вот сюда, этой тропкой, видишь, которая ведет направо… Там начинается спуск и сразу — изгородь. Это самое глухое место на кладбище, самое страшное. Я нарочно выбрала.
Д а ш е н ь к а. Зачем?
Н и н а. Чтобы перестать быть трусихой. Я ходила туда ночью. А ты можешь?
Д а ш е н ь к а. Ни за что. И тебе не верю, что ты была.
Н и н а. Вот крест!
Д а ш е н ь к а. Нина!
Н и н а. Вот крест! Вот крест! Если ты не веришь, я пойду еще раз.
Д а ш е н ь к а. Сумасшедшая!.. Ну, хорошо, хорошо, я верю.
Н и н а. Посмотри мне в глаза.
(Пристально всматривается.) Я сказала, а ты не веришь? Так знай же! Сегодня пойду! Жди, как только будет фейерверк.
Д а ш е н ь к а. Мне не нужно никаких доказательств…
Н и н а. Нет! Я принесу тебе оттуда цветочек, а на изгороди завяжу ленту, чтобы ты завтра сама убедилась, что я была.
Д а ш е н ь к а. Я умру от страха…
Входит С е р е ж а Е р м о л о в, очень тщательно одетый, с большим букетом цветов.
С е р е ж а. Почему Дашенька должна умереть от страха?
Д а ш е н ь к а. Нина говорит…
Н и н а. Нина ничего не говорит… А вы стояли и подслушивали?
С е р е ж а. Как вы могли подумать! Я вошел сразу.
Н и н а. И ничего не слыхали?
С е р е ж а. Разумеется, ничего.
Н и н а. Я верю.
(Про букет.) А это кому?
С е р е ж а (робко). Вам.
Н и н а
(делает книксен). Мерси.
Дашенька, заговорщически подтолкнув Сережу, исчезает.
А почему вчера не были?
С е р е ж а. Я хотел пропустить хоть один вечер.
Н и н а. И что же?
С е р е ж а. Метался, как зверь в клетке!
Н и н а. Неизвестно зачем!
С е р е ж а. Нет, известно. Сегодня тоже не надо было приходить.
Н и н а. Боже мой! Какие вдруг мысли!
С е р е ж а. Не вдруг, но и вчера, и позавчера, все это время, с первого дня после возвращения моего из Петербурга. Одна вы не замечаете этого!
Н и н а. Милый друг, родной мой Сережа… а может быть… замечаю…
(Подходит к фортепиано, садится за него и трогает клавиши. Несколько аккордов интродукции — и начинается вальс. Немного сентиментальная, грациозная и легкая мелодия.)
С е р е ж а. Не сегодня-завтра Паскевич пошлет меня против турок, на первую линию, куда он посылает всех нелюбимцев, а вам хоть бы что.
Н и н а. Помилуй бог! Я буду беспокоиться не в шутку!
С е р е ж а. Грусть моя, печаль моя… прихожу к вам каждый вечер, слушаю грибоедовские вальсы, которые мне осточертели…
Н и н а. Но они же прелестны! Помните, как он сам их играл?
С е р е ж а. Я ненавижу их только за то, что их так часто играют ваши пальчики!
Н и н а
(перестает играть). Сережа!..
С е р е ж а
(бросается перед ней на колени). Я не могу жить без вас!
(Ловит ее за руку.)
Н и н а
(отбегает от него). Не смейте! Не смейте! Не подходите ко мне!
(Опустив голову, не глядя на него, она быстро уходит.)
Тотчас вбегает Д а ш е н ь к а.
Д а ш е н ь к а. Ну? Что?
С е р е ж а. Я все сказал.
Д а ш е н ь к а. А она?
С е р е ж а
(безнадежно). Только и думает что о вальсах господина Грибоедова. Она влюблена в него!
Д а ш е н ь к а. Сошли с ума! Уж я-то, наверно, знала бы прежде вас!
С е р е ж а. Да?.. Сколько пустого тщеславия у людей. Что привлекает? Министр, дипломат, писатель! Тифлис сойдет с ума, когда он приедет!
Д а ш е н ь к а. Бог знает, что вы говорите.
С е р е ж а. А он приедет и даже не посмотрит на нее.
Д а ш е н ь к а. Не злитесь, слепой вы человек… Когда так, я скажу вам… В него влюблена не она… а… я…
С е р е ж а. Что?
Д а ш е н ь к а. Когда так… я скажу вам самую страшную тайну своей жизни… Он однажды… поцеловал меня… в щеку…
С е р е ж а. Даша, Дашенька!..
Д а ш е н ь к а. Только… никому… никогда… ни за что…
С е р е ж а. Ура-а!
(Схватывает ее за руки и кружит вокруг себя.)
Входит П р а с к о в ь я Н и к о л а е в н а А х в е р д о в а.
А х в е р д о в а. Кэ фэт ву?..
[2] Это неприлично! Шушукаются, переглядываются, шепчутся по углам! Теперь та убежала к себе, а эти здесь как полоумные!..
С е р е ж а. Простите, Прасковья Николаевна!.. Простите!
(Убегает.)
Дашенька хочет идти за ним.
А х в е р д о в а. Даша!
Д а ш е н ь к а. Ну, мама…
А х в е р д о в а. Ты взрослая девушка. Обед еще не окончен. Пойди за Ниной и сейчас же отправляйтесь к гостям.
Д а ш е н ь к а. Ах!
В дверях — Г р и б о е д о в в летнем костюме, в светлом цилиндре.
А х в е р д о в а
(в радостном изумлении). Александр!
(Быстро идет к Грибоедову, целует его в лоб.)
Грибоедов склоняется к ее руке. Дашенька стоит в смущении страшном, боится поднять глаза.
Мы ждали вас, но не сегодня. Говорили, что вы еще задержитесь у Паскевича. Я была в нетерпении.
Г р и б о е д о в. Мой друг, я
загнал трех лошадей, так хотелось поскорее попасть под эту крышу. Вошел в калитку, шел по саду… все то же! То же! Не переменилось!
А х в е р д о в а
(в сторону Дашеньки). Зато вот кто переменился. Не узнаете?
Г р и б о е д о в. Помилуйте, как можно! Даша!
Д а ш е н ь к а. Это… я.
Г р и б о е д о в. Давайте расцелую вас!.. Не надо ли поздравить? Наверно, скоро свадьба? Кто жених?
Д а ш е н ь к а. Как вы можете так!
Стремительно вбегает Н и н а.
Н и н а. Грибоедов!
(Останавливается перед ним, сжав кулачки у подбородка.)
Г р и б о е д о в. Подпоручик Пулло!.. А ну… лаять!
Н и н а. Гав! Гав!
Г р и б о е д о в. Помнит! А старого страшного угольщика не забыли? Вот он выходит из тьмы… Психадзе!
Н и н а. Не старайтесь. Не боюсь. Я не трусиха больше.
Г р и б о е д о в. Ах да, был уговор — ничего не бояться в жизни. Научились? А это?
(Показывает на фортепиано.) Не забыли?
А х в е р д о в а. Господи, с вами удержу нет! Александр, и вы тоже как эти девчонки!
Г р и б о е д о в. Прасковья Николаевна! Крыша этого дома способна возродить и не такую развалину, как я!
Появляется С е р е ж а.
А х в е р д о в а. Как не стыдно! В своем чине хотите представиться как можно старше? Еще бы! В ваши годы такая карьера!
Г р и б о е д о в
(будто тень пробежала по его лицу). Стоит ли говорить…
А х в е р д о в а. Мой друг, я поздравляю вас. Нет, право, это произвело здесь впечатление.
С е р е ж а. Разумеется! Вас помнят как человека, к которому был расположен ныне опальный Ермолов, и вдруг…
Г р и б о е д о в. Прошу простить. В суматохе я даже не поздоровался с вами…
(Поспешно идет к Сереже, дружелюбно пожимает ему руку.)
С е р е ж а. Что вы, меня можно бы и не заметить. Я тот же, что и был, не как другие…
А х в е р д о в а
(перебивая его). Александр, прошу вас, пройдемте в сад. Там кое-кто из моих друзей.
(Сереже.) И вас прошу.
С е р е ж а. Благодарю вас. Нет.
А х в е р д о в а
(берет под руку Грибоедова). Давно ли вы из Петербурга?
Г р и б о е д о в. Я ехал быстро, двух месяцев не прошло. И чем дальше от столицы, тем мое павлинье звание приобретало все большую пышность! А в Пассанауре был атакован целой армией чиновников, выехавших ко мне навстречу из Тифлиса.
С е р е ж а. Не обессудьте, что не был в их числе. Друзей я почитаю не за давнее знакомство, а за поступки их.
Н и н а. Сережа!
А х в е р д о в а. Александр, нэ фэт па заттансион…
[3] Идемте.
Г р и б о е д о в. Будьте снисходительны. Сегодня жара, доходило до пятидесяти.
(Идет с Ахвердовой.) Ваш слуга… весь вечер… но прошу разрешить мне еще одну маленькую вольность. Я так соскучился без фортепиано, что если не возьму двух-трех аккордов, то и вовсе буду несносен.
А х в е р д о в а. Что с вами поделать!
Н и н а
(подбегая к фортепиано). Может, еще что-нибудь сочинили? Вальс! Вальс!
(Подставляет стул, открывает крышку фортепиано.)
А х в е р д о в а. Смотрите не задерживайтесь, господа.
(Уходит.)
Г р и б о е д о в
(начинает играть что-то бравурное). Ура! Если бывает награда, так вот она! Снова дом, хоть и ненадолго, а дом… и родной! Это радость жгучая! Кто не скитался по свету, тот не знает…
(Смотрит на Нину, продолжая играть.) Так вот какая вы стали! Передо мной совершилось чудо!.. Потанцуйте же, потанцуйте, иначе я перестану вас узнавать! Вот ваш вальс… Раз, два, три… раз, два, три…
Нина подбегает к Сереже, но он молча и холодно отказывается. Она подбегает к Дашеньке, но та тоже стоит не двигаясь.
Н и н а. Дашенька…
Д а ш а. Я не хочу.
Н и н а. Нет, ты будешь, будешь…
(Почти насильно кружит ее. Во время танца.) Почему ты надулась, я не понимаю.
Д а ш е н ь к а. Я не надулась. Мне все равно.
Н и н а. Что — все равно? Послушай, у меня к тебе просьба…
Д а ш е н ь к а. Пожалуйста.
Н и н а. Я обещала тебе, что сегодня после фейерверка я пойду… А мне расхотелось… Мне расхотелось, потому что мне все время хочется быть здесь.
Д а ш е н ь к а. По-моему, раз сказала, значит, должна пойти.
Н и н а. Вот как, теперь ты заставляешь!
Д а ш е н ь к а. Я не заставляю. Поступай, как хочешь.
Н и н а
(бросает ее). Хорошо.
Грибоедов кончил играть. Нина продолжает кружиться одна.
Г р и б о е д о в. Теперь вижу, что это вы, вы прежняя.
(Ловит ее за руку.) Идемте! Но только не покидайте меня ни на одну секунду…
(Берет ее под руку и торжественно уводит.)
Сережа и Дашенька молча стоят, каждый в своем углу. Появляется М и щ е н к о, майор в отставке, старый кавказский офицер. Он в сюртуке без погон, нетрезв, хмур.
М и щ е н к о
(напевает).
Кто пьет вино, блажен стократ,
Ариалали.
Каждый пирует и каждый рад,
Тариалали.
Поздравляю вас, господа! Одиннадцатого вступили на земли азиатской Турции, девятнадцатого были под Карсом, и вот, пожалуйста, взят Ахалцых! В саду генерала Сипягина готовятся к фейерверку в честь новой победы графа Паскевича-Эриванского…
С е р е ж а. Да, сейчас не как при Ермолове — можно отличиться.
М и щ е н к о. Выслуживаться, а не отличиться.
Вспыхивает фейерверк в небе. Духовой оркестр грянул военный туш.
Дунуть, плюнуть! Победы! Он только свое имя к ним прикладывает. А они сотворены кем? Ермоловскими солдатами! «Нет преград для орлят — пули не боятся!» Шаркун на готовенькое пришел.
С е р е ж а. Куда бы легче! В штабе у него командуют опальные офицеры, из них, кто сослан, лучшие офицеры! А с чего бы такой прекрасный слог в донесениях? И как искусен стал в делах дипломатических! Это за него господин Грибоедов старается.
М и щ е н к о. Ну, врешь!
(Захохотал.) Он же его в своей комедии в виде болвана Скалозуба представил! Это я в точности знаю. Это я слыхивал…
С е р е ж а. Вот то-то. А нынче сам к нему переметнулся. Глядите, как переметнулся! Обласкан царем, в генеральском чине…
М и щ е н к о. Ну, бестия.
С е р е ж а. Воображаю, как он сейчас там нашим красавицам пыль в глаза пускает!
Д а ш е н ь к а. Сережа! Вы не смеете о нем так!
С е р е ж а. Что вы понимаете в людях!
(В отчаянии.) Пью с вами, майор! За верность друзьям! За верность мыслям!
М и щ е н к о и С е р е ж а
(вместе).
Нет преград
Для орлят —
Пули не боятся!..
Уходят. Духовой оркестр смолк. Уже в тишине последней вспышкой фейерверка озарилось небо. Входит Г р и б о е д о в.
Г р и б о е д о в. Куда исчезла Нина?
Д а ш е н ь к а. Видели… фейерверк?.. Я думаю, произошло несчастье…
Г р и б о е д о в. Какое несчастье?
Д а ш е н ь к а. И в этом вы виноваты, вы…
Г р и б о е д о в. Я?
Д а ш е н ь к а. Вы. И отчасти я.
Г р и б о е д о в. Бог знает, что вы говорите! Вечно у вас какие-то тайны, в которых простому смертному не разобраться. Где Нина?
Д а ш е н ь к а. Она на кладбище.
Г р и б о е д о в. На каком кладбище? Почему?
Д а ш е н ь к а. Она пошла одна в самое глухое и страшное место, чтобы доказать, что она не трусиха.
Г р и б о е д о в. Чтобы доказать, что не трусиха? Господи, я думал, что вы и в самом деле выросли!.. Однако пойдемте к ней навстречу! Вдруг вправду что-нибудь стряслось!..
Д а ш е н ь к а. Тише!
(Отбегает от него.)
В темном квадрате дверей показывается белая фигурка Н и н ы. В ее руках — цветок. Грибоедов прижимается к портьере. Нина подходит к Дашеньке и молча протягивает ей цветок.
Ты сердишься на меня?
Н и н а. Да.
Д а ш е н ь к а. Хорошо… хорошо…
(Выхватывает цветок и убегает.)
Нина направляется к противоположной двери, задумчиво развязывая шаль.
Г р и б о е д о в. Нина, а если я попрошу вас остаться?
Н и н а
(вздрогнув). Что?
Г р и б о е д о в. Идите сюда, я хочу вам кое-что сказать…
Нина делает несколько шагов к Грибоедову и опускается в креслице возле фортепиано. Он подходит к ней и садится рядом.
(Ласково.) Подпоручик Пулло…
Н и н а. Вы веселитесь, но не веселый. Вы смеетесь, а вам не смешно. Я вижу…
Г р и б о е д о в. Нет… По крайней мере сегодня я был по-прежнему весел, как давно не был… Но мне сразу стало грустно, лишь только вы ушли.
Н и н а. Не надо говорить так.
Г р и б о е д о в
(улыбнувшись). Извольте, перейдемте к поучительным разговорам о дожде и снеге.
Н и н а. Вот вы и рассердились. Опять надели свою маску. Разве я потеряла искренность вашу? Почему?
Г р и б о е д о в. Другие были времена! Вы были девочка, подружка моя маленькая…
Н и н а. А теперь?
Г р и б о е д о в. Теперь?.. Давеча я сказал вам: свершилось чудо…
Н и н а
(очень тихо). Что?..
Г р и б о е д о в. В душе моей оно произошло раньше… Северное солнце Петербурга. Мертвые взгляды… Сонные лица… Ни молодости, ни друзей — как будто все угасло… И вот тогда-то возник ваш дом.
Н и н а. Боже мой, боже мой.
(Взяла его руку, как будто защищаясь ею от его же слов.)
Г р и б о е д о в. Тревога росла в сердце!.. И не спалось!.. Под однообразный звон дорожных бубенцов, проезжая через Россию, через всю мою Россию, я уже не мог не думать о вас, и мне приснилось…
Н и н а. Я тоже… видела… сон.
Г р и б о е д о в. Что дано во сне, пусть исполнится наяву.
(Обнимает ее и целует.) Трусишка моя!
Н и н а. Я не трусишка!.. Нет! Я не трусишка больше.
Г р и б о е д о в. Не трусишка?.. Тогда не значит ли это, что моя?
Н и н а. Ах, Грибоедов! Сердце мое разорвется! Пустите меня!
(Убегает.)
Окно открыто, ночная тьма, два-три огонька в листве. Грибоедов смотрит в сад. Доносятся звуки зурны, далекое грузинское пение.
Г р и б о е д о в. Тифлис… Тифлис…
З а н а в е с
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Золотая тифлисская осень в разгаре. Дом Чавчавадзе, в котором проживают молодые Грибоедовы. В широком полуовале окна, почти во всю стену, как в арке, — Давидова гора и пониже — цветные балкончики, черепичные крыши, утопающие в огненно-красной листве садов.
Н и н а и А л е к с а ш а. Алексаша вешает в шкаф грибоедовский вицмундир, украшенный звездой.
А л е к с а ш а
(поет).
У церкви кареты стояли,
Там пышная свадьба была…
Н и н а. Перестань петь.
А л е к с а ш а
(не обращая внимания).
Невеста была в белом платье,
А жених был приколот к груди…
Н и н а. Ты хоть бы соображал, что поешь…
А л е к с а ш а. Что надо, то и пою.
(Поет.)
А жених был приколот к груди…
Н и н а
(заткнув уши). Глупо… Боже мой, как глупо…
А л е к с а ш а. Не изволите знать русских песен, а говорите разные слова.
Н и н а. Уходи.
А л е к с а ш а. Изволите так говорить, а не понимаете… я делом занят.
Н и н а. Целый день тем и занят, чтобы изводить меня. Я не выдержу и скажу Александру Сергеевичу…
А л е к с а ш а. Изволите угрожать, а я с Александром Сергеевичем с детства…
Н и н а. А я его жена! И ты не смеешь так со мной разговаривать!
А л е к с а ш а. Изволите ли знать, у нас разные барыньки были, и ничего, почитали меня.
Н и н а
(в слезах). Пошел вон! Пошел вон!
А л е к с а ш а
(уходя).
Невеста была в белом платье,
А жених был приколот к груди…
Смерив его взглядом сверху вниз, входит М а л ь ц е в.
Нина сидит, отвернувшись. Алексаша ушел.
М а л ь ц е в. Удивляюсь Александру Сергеевичу. Этого негодяя надобно выпороть как следует и услать в деревню.
Нина молчит.
Хотя, должно быть, Александр Сергеевич не осведомлен. Вы разрешите, Нина Александровна, я доложу?
Н и н а
(поспешно). Нет, нет, не надо.
М а л ь ц е в. Не следует поощрять.
Н и н а
(повышая голос). Я прошу вас — не надо.
М а л ь ц е в. Как угодно.
(Кладет пакеты на стол.) Вот почта на имя Александра Сергеевича. Пакет от его высокопревосходительства Родофиникина, письма…
Н и н а. Александру Сергеевичу вы не скажете ни одного слова.
М а л ь ц е в. Слушаюсь.
Н и н а. И кроме того, я прошу вас, раз и навсегда: не вмешивайтесь в жизнь моего дома.
М а л ь ц е в. Виноват.
Н и н а. А что касается Алексашки, то он — наш самый лучший и преданный слуга. Прошу запомнить.
М а л ь ц е в. Виноват. Я действовал исключительно по расположению сердца и велению совести.
Н и н а. Благодарю вас. Почту передам.
Мальцев почтительно, как все, что он делает, движется к дверям. Входит Г р и б о е д о в в отличном настроении.
Г р и б о е д о в
(декламируя). Что за оказия! Молчалин, ты, брат?
М а л ь ц е в. Как-с?
Г р и б о е д о в. Зачем же здесь? И в этот час?
Н и н а (
подхватывая его игру). Сейчас с прогулки он.
Г р и б о е д о в. Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?
(Резко изменив тон.) А-а, почта.
М а л ь ц е в. Фельдъегерем из Петербурга.
(Быстро подходит к столу, достает один из пакетов.) От его высокопревосходительства…
Г р и б о е д о в. Родофиникина?
М а л ь ц е в. Да-с. Выражают удивление по поводу нашей задержки в Тифлисе.
Г р и б о е д о в
(сдвинув брови). Хорошо, я ознакомлюсь.
Мальцев уходит. Грибоедов вскрывает почту.
Н и н а. Не люблю этого человека.
Г р и б о е д о в. Напрасно. Константин Константинович Родофиникин знает толк в людях.
Нина быстро подходит к нему.
Н и н а. Вы… Ты расстроен чем-то?
Г р и б о е д о в
(углубившись в письмо). Ангел мой…
Н и н а
(заглядывая через его плечо). Родофиникин… Родофиникин… Какая смешная фамилия…
Г р и б о е д о в. Пикуло-человекуло. Греческая букашка!
Н и н а. Это он тебя расстроил?
Г р и б о е д о в. Ну, к этому надобно привыкнуть!
(Встает, с горечью.) Но ведь, кроме него, пишут добрые, хорошие люди, Нина… Оказывается, я черств, я занят собственным возвышением и не прикладываю сил, чтобы облегчить участь своих лучших друзей!..
Н и н а
(тихо). Я знаю, про кого ты говоришь…
Г р и б о е д о в. Да, про тех, кто в Сибири. Судьба их решена самим государем… Что я могу сделать? Я писал, я просил. Вместо ответа от меня требуют, чтобы я как можно скорее покинул Тифлис и выехал в Тегеран.
Н и н а. Может быть, правда, тебе надобно ехать скорее?
Г р и б о е д о в. Нет. В том польза дела, а не моя прихоть. Но в Петербурге хотят, чтобы я попал туда немедля, пока бушует еще огонь, не улеглись распри и ненависть ко мне легко разжигаема.
Н и н а
(испуганно). Ненависть? Значит, в Тегеран страшно ехать?
Г р и б о е д о в. Я пошутил. Конечно, не страшно, но лучше бы повременить. Вот и все. Ангел мой, не думай об этом…
Н и н а. Легко разжигаемая ненависть?.. К тебе? Бог мой, вас так любят все и ценят…
Г р и б о е д о в. Любят… ценят…
(Целует ее.)
Входит А л е к с а ш а.
А л е к с а ш а
(мрачно). Вот вы изволите тут разговаривать, а вас там дожидаются.
Г р и б о е д о в. Кто?
А л е к с а ш а. Изволите спрашивать, как будто я интересовался.
Г р и б о е д о в. Узнай. И доложи.
А л е к с а ш а
(уныло). Пожалуйста.
(Уходит.)
Н и н а
(высвобождаясь из объятий Грибоедова). Все время дела… Кто-то приходит… куда-то надобно ехать…
Г р и б о е д о в. Подожди! Скоро я стану навеки твоим цинандальским отшельником! Скину дипломатический фрак, пошлю к черту греческую букашку пикуло-человекуло, а с ним и этого позолоченного карлика… И мы заживем! Буду сидеть и писать! И никого, кроме тебя, не видеть… Будет дом, твой дом и земля, приютившая меня… твоя земля!
А л е к с а ш а
(появился в дверях и глядя в сторону). К вам поручик.
Г р и б о е д о в. Кто, кто?
А л е к с а ш а. Поручик.
(Показал головой на Нину.) Ихний.
(Скрылся.)
Входит С е р е ж а Е р м о л о в.
Н и н а
(радостно). Сережа!
(Вспомнив, что она теперь «светская дама».) Я хотела сказать: Сергей Николаевич… Как не совестно, право, вы совсем забыли нас…
С е р е ж а. Боялся помешать вашему счастью.
(Целует ей руку.)
Н и н а. Это просто глупо с вашей стороны.
(Выдернула руку и повернулась к Грибоедову.) Александр, вы… ты позови меня, когда можно будет…
(Церемонно поклонилась, сделала дурашливый книксен и убежала.)
Г р и б о е д о в
(смеясь). Как видите, мы всё такие же! Вам не следует ее забывать. Вы для нее самый дорогой друг. А нам уезжать скоро.
С е р е ж а. Потому именно я и решился зайти. Давеча у генерала Сипягина обсуждали путешествие ваше в Тавриз и Тегеран. Надобно ли объяснять вам, что оно небезопасно?
Г р и б о е д о в. Объяснять не стоит. Я привык к путешествиям азиатским.
С е р е ж а. Вы чиновник, облеченный важной государственной миссией. У вас свои виды. Но в жизни вашей кое-что переменилось. Вы не один. Возможен ли только служебный эгоизм — с вами молодая жена.
Г р и б о е д о в. Ах, вот в чем дело! Неужели все-таки я дал вам повод так думать о себе? Вы уважали меня когда-то, Сережа.
С е р е ж а. Мало бы сказать — уважать. Вот этой рукой трижды переписывал вашу комедию — ведь был писатель Грибоедов.
Г р и б о е д о в. Собирался быть.
С е р е ж а. Однако почему же этого не случилось? Разве друзья ваши не предпочли Сибирь, каторгу или не мучаются здесь, в солдатчине?
Г р и б о е д о в. Солдатчина разная бывает.
С е р е ж а. Не понимаю. Не понимаю и никогда не пойму, как не пойму дружбы вашей с Булгариным!
Г р и б о е д о в. Когда я думаю о Булгариных нашей литературы, я не только мирюсь, я радуюсь, что так и не попал в их писательский круг. Сколько от них звону и суеты в литературе, а на деле — грязь и грязь.
С е р е ж а. Но ведь вы дружите с ним, с Фаддеем-то Булгариным, дружите?
Г р и б о е д о в. Сочтите это, если угодно, за ничтожность моего характера. Впрочем, естественную. Он был единственный в постоянстве человек, который почитал во мне литературный талант. Сколь важно мне это было! Стремясь в литературу, я встречал лишь уклончивые улыбки. И позже, когда созрели во мне смелые мысли и я нуждался лишь в окончательной твердости, — уклончивые улыбки продолжались. А он верил. Нашептывал доносы и на меня, дрожал от страха, но верил. Таков Фаддей. И я не смог бы без него. Слабость человеческая.
С е р е ж а. Вы странно говорите. Слабость? У вас? А сейчас вы… пишете?
Г р и б о е д о в (резко). Нет.
Входит М а л ь ц е в.
Что случилось?
М а л ь ц е в. Завтра утром отправляется фельдъегерь в Петербург…
Г р и б о е д о в. Дела обычные. Приготовьте бумаги.
М а л ь ц е в. Но ко мне только что заезжал доктор Макнил, состоящий при английской миссии.
Г р и б о е д о в. А! Он уже здесь!
М а л ь ц е в. Проездом.
Г р и б о е д о в. Проездом?
М а л ь ц е в. Вскоре отправляется в Персию. Выражал желание засвидетельствовать вам свое почтение.
Г р и б о е д о в. Извинитесь, Иван Сергеевич, сегодня не смогу.
М а л ь ц е в. Хорошо-с.
(Уходит.)
Г р и б о е д о в
(Сереже). Да, у каждого своя солдатчина.
С е р е ж а. Вы ждете предписания о незамедлительном выезде в Тавриз?
Г р и б о е д о в. Полагаю, что не в Тавриз, а в Тегеран.
С е р е ж а. Но ведь как раз там, насколько мне известно, вас особенно ненавидят?
Г р и б о е д о в. А почему, собственно, я должен рассчитывать на любовь к себе?
С е р е ж а. Но об этом знают и в Петербурге?
Г р и б о е д о в
(улыбнувшись). Полагаю, что знают.
С е р е ж а
(потрясенный). Позвольте… Значит, знают? Скажите мне, а тогда, когда были вы под арестом, вы спаслись лишь по счастливой случайности?
Г р и б о е д о в. Может быть, и по случайности.
С е р е ж а. Нет, они ничего не забыли. Они и комедию вашу помнят. Они обо всем помнят! И вы послушно едете? Едете в Тегеран? И будете настаивать на уплате контрибуции в то время, когда настроение там…
Г р и б о е д о в. Не только контрибуции. При заключении Туркманчайского мира я говорил о пленных, которых насильно увезли отсюда, из Грузии, Армении, Адербиджана. Тут уступка немыслима. Иначе Россия предстанет не как покровительница, а как мачеха несчастных кавказских народов. Петербург простит, коли я буду сговорчив. Господин Макдональд, полковник английской службы, даже одобрит… Ну, а вы, ваши друзья, трактующие о верности мыслям, как они посмотрели бы на такую уступку?
Сережа сидит молча, опустив голову.
Вот видите. Стало быть, не ради возвышения графа Паскевича, не для славы графа Нессельрода я собираюсь ехать. Россия должна стать надеждой для всех народов, ее населяющих! Как знать, быть может, это и есть часть того великого дела, ради которого отдали свою жизнь безумцы на Сенатской площади? Но я еду не умирать, я еду утверждать эту надежду. И я счастлив, слышите ли, счастлив, что являюсь полномочным министром русским. Это значит, честью отвечу за каждый свой шаг и каждое слово!
С е р е ж а
(бросаясь к нему). Простите меня! Как я смел думать о вас иначе!
(Обнимает его.) И я верю, верю! Вы родились под счастливой звездой — вас никогда не покинет мужество.
Г р и б о е д о в. Полноте, поручик. Но вы, кажется, плачете? Неужели плачете? Разве это обязательно при разлуке?
(Улыбаясь, провожает его.) Не забывайте Нину.
Сережа уходит.
(Один.)
Нас цепь угрюмых должностей
Опутывает неразрывно…
В дверях стоит М а л ь ц е в.
М а л ь ц е в. Что-то новое… Прекрасные строчки!.. А я вот опять к вам со своими мизерами.
Г р и б о е д о в. Бумаги? Давайте, будем подписывать.
(Сел за стол.) Так… Значит, доктор Макнил уже направляется в Тавриз?
М а л ь ц е в. В Тегеран. В ближайшие дни.
Г р и б о е д о в. Как думаете, почему бы такая поспешность?
М а л ь ц е в. Полагаю, господин Макдональд, находящийся там, вызывает его.
Г р и б о е д о в. Что вы! Доктору Макнилу положительно нельзя без нас! Советую тоже собираться в дорогу.
М а л ь ц е в. Но ведь вы продолжаете настаивать на задержке в Тифлисе?
Г р и б о е д о в. Я настаиваю, но зато доктору Макнилу уже известно, что из Петербурга скачет новый фельдъегерь с предписанием о нашем незамедлительном отъезде. Готовьте чемоданы, дорогой Иван Сергеевич.
М а л ь ц е в
(улыбается). Вы шутите…
Г р и б о е д о в. Я не шучу. Доктор Макнил никогда не ошибается. Все правильно.
(Углубляется в письмо.) Кстати, еще один вопрос, Иван Сергеевич.
М а л ь ц е в. Слушаю вас.
Г р и б о е д о в. Как вы думаете, откуда у Константина Константиновича Родофиникина столь много частных известий обо всем, что делается в Тифлисе?
М а л ь ц е в. Я полагаю, из сообщений ваших.
Г р и б о е д о в. Что вы! Зачем бы я затруднял почтеннейшего Константина Константиновича мелочами?! Посмотрите, ему известно, что я не только давал обед в доме князя Чавчавадзе, но и то, что жена моя была в белом атласном платье и на голове у нее были желтые цветы! Замечательно. Папа́ Родофиникин, пи́куло-человекуло, имеет немало своих наблюдателей в Тифлисе, вы не находите?
М а л ь ц е в. Не имею представления, Александр Сергеевич. Мне известно только, что женитьбой вашей недовольны.
Г р и б о е д о в
(возвращая Мальцеву бумаги). Бог мой, отчего такая досада на чужое счастье! Пожалуйста, возьмите запечатайте.
М а л ь ц е в. Слушаю-с
(Хихикнул.) Пикуло-человекуло! Уж не Константина ли Константиновича вы так?
Г р и б о е д о в. Константина Константиновича. Именно его.
М а л ь ц е в
(укладывая бумаги). Ах, Александр Сергеевич, не смею и выразить тех чувств, которыми я охвачен, служа такому человеку, как вы.
Г р и б о е д о в. Чувства, даже искренние, не всегда соответствуют действиям. Спокойной ночи, Иван Сергеевич.
Мальцев уходит. Гаснет свет, и затем мы видим Г р и б о е д о в а, сидящего за столом. Горят свечи. Он пишет. А Н и н а устроилась на кушетке напротив него. Она полулежит, свернувшись калачиком.
Н и н а. А кому ты сейчас пишешь?
Г р и б о е д о в. Кому пишу? Своему дружку, Варваре Семеновне Миклашевич.
Н и н а. А что вы… что ты ей написал?
Г р и б о е д о в. Могу прочитать.
(Хитро щурясь, посматривает на Нину и читает.) «Жена моя, по обыкновению, смотрит мне в глаза, мешает мне писать, знает, что я пишу к женщине, и ревнует…»
Н и н а. Вот и неправда. Ничего похожего.
Г р и б о е д о в. Подожди, еще не все.
(Читает.) «Наконец, после тревожного дня уединяюсь в свой гарем. Там у меня и сестра, и жена, и дочь — все в одном милом личике. Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать?…»
Нина машет руками и прячет лицо в подушку.
Изволь, изволь слушать, раз потребовала, чтобы читал.
(Читает.) «Хотите ее знать? В Мальмезон в Эрмитаже, тотчас при входе, направо, есть Богородица в виде пастушки Мурильо — вот она».
Н и н а. А может быть, эта пастушка совсем и не хороша? Ведь я ее не видела.
Г р и б о е д о в. Конечно, не хороша, непременно не хороша! Как же по-другому, когда она на тебя похожа?!
Н и н а
(обхватив его за шею руками). Грибоедов… А мне жаль, жаль, по правде жаль, что письма эти не мои, а для других, для Варвары Семеновны…
Г р и б о е д о в. Пастушка, скоро я буду писать и тебе.
Н и н а. Почему?
(Встревоженно смотрит на него.) Разве мы расстаемся? Разве я не поеду с тобой?
Г р и б о е д о в. Вскоре мы отправимся в Персию. Мы будем жить в Тавризе. Этот город из глины. В нем есть холодный большой-большой дом мистера Макдональда. Вместо камина — мангалы, от которых болит голова. Там тихо и все чужое.
Н и н а. Раз мы будем вместе, значит, будет хорошо… И перестанет быть чужим.
Г р и б о е д о в. Но мне, должно быть, придется уехать оттуда в Тегеран.
Н и н а. И я поеду с тобой.
Г р и б о е д о в. Нет. Я уеду ненадолго, и вот тогда-то ты и будешь получать от меня письма.
Н и н а. Но я не смогу жить без тебя.
Г р и б о е д о в. Я уеду ненадолго. И уж после того никогда не будем разлучаться.
Н и н а. Все равно, время остановится для меня.
Г р и б о е д о в. И для меня оно остановится.
Н и н а. Не говори так. Ты не поедешь. Ты говорил, что в Тегеране страшно.
Г р и б о е д о в. Я пошутил. Не думай об этом. Разве мы с тобой по-прежнему трусишки? Но ведь мы даже ночью не боимся пробраться на кладбище, в место самое глухое и таинственное…
Н и н а
(прижавшись к нему). Не смейся надо мной, не смейся…
Г р и б о е д о в. Посмотри, какая луна над городом!
Н и н а. Она красная, Грибоедов, как будто обагрена кровью. Я не люблю такой луны. Ты напугал меня.
Г р и б о е д о в. Потерпи, сейчас она пройдет над горой, скроется на несколько мгновений и всплывет — навеки ясная, горящая белым светом! Вспоминай эту ночь!.. Неведомо где и неведомо как я умру. Подожди, подожди… Обещай мне. Ты похоронишь меня на этой горе. Оттуда виден весь твой город и деревянный дом, в котором — ты. Видишь? Вон там, около часовенки, у самого монастыря, над выступом…
Н и н а. О чем говоришь?! Не смей! Будем век жить, не умрем никогда! Грибоедов!
З а н а в е с
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
КАРТИНА ПЯТАЯ
29—30 января 1829 года. Тегеран. Русская миссия. Одна из приемных зал. Мебели почти нет. В центре — большая дверь в золотом орнаменте. Она ведет на террасу, во двор, но сейчас заперта. Справа — внутренняя лестница, под навесом которой камин. Вечер. Штабс-капитан Ш а х н а з а р о в, переводчик, сидит за столом и пишет. М а л ь ц е в, возбужденный, ходит взад-вперед.
М а л ь ц е в. Возможно, я человек несведущий, не опытный в делах азиатских, но, согласитесь, поведение Александра Сергеевича неосторожно, скажу больше, оно вызывающе.
Ш а х н а з а р о в. Вы считаете, что наше требование к шаху посылать не следует?
М а л ь ц е в. Ни в коем случае. Незачем поднимать историю из-за какого-то бродячего цирюльника…
Ш а х н а з а р о в. Но он эриванский гражданин. Иван Сергеевич, его фамилия Маркарьян…
М а л ь ц е в. Ну и что же?
Ш а х н а з а р о в. Он русский подданный и, в соответствии с трактатом, имеет право на защиту.
М а л ь ц е в. Нашли время говорить об этом злосчастном трактате! Каждый день приходят какие-то оборванцы, беглые солдаты, какие-то сапожники и брадобреи, какие-то подозрительные женщины…
Ш а х н а з а р о в. Как же, по-вашему, должен поступить русский посол? Неужто, испугавшись угроз, отвергнуть их законные просьбы о помощи? О! Александр Сергеевич знает, что нужно делать…
М а л ь ц е в. Оставьте. Мы играем с огнем! Нас приняли отлично. Пиршества, иллюминации, фейерверки! Что еще нужно? С нами не хотят ссориться. Зачем же дразнить? Уже на приеме при вручении верительных грамот я заметил — Александр Сергеевич сидел у шаха подчеркнуто долго, ровно столько, сколько сам себе назначил.
Ш а х н а з а р о в
(улыбнувшись). Я помню. Шах был в короне, на нем были все его самые прекрасные драгоценности тяжестью в полтора пуда. Он едва не умер от усталости. Александр Сергеевич просидел более часа.
М а л ь ц е в. Да, да, он встал, когда пот струился по лицу шаха, а голова его начала мелко дрожать… Шах еле смог выдавить слово…
Ш а х н а з а р о в. Я и сам не понимаю, почему на приемах оба раза Александр Сергеевич просидел так долго. Но если он решился на это, значит, не зря.
М а л ь ц е в. С этого и началось! Бог мой! Я имел неосторожность пройтись сегодня по городу. Это страшно! Я чувствовал: один выкрик — и на меня бы набросились. Зловещая тишина возникала вокруг меня всюду, где бы я ни проходил. Остановившийся, настороженный взгляд толпы преследовал меня. Я и сейчас не могу от него отрешиться. Когда мы уедем отсюда?
Ш а х н а з а р о в. Очень скоро. Через два дня. Первого.
М а л ь ц е в. Не верю. Если так будет продолжаться, не верю. Пишите.
Ш а х н а з а р о в. Пишу.
(Задумался.) Помню Эривань… Помню, какое было лицо у Александра Сергеевича!.. Как он был взволнован!..
М а л ь ц е в. Какое лицо? Что такое?
Ш а х н а з а р о в. Вы не знаете. В Эривани, тотчас после освобождения ее от персиян русскими войсками, в офицерском клубе мы сыграли «Горе от ума»! Представляете? Александр Сергеевич никогда не видел своей комедии ни на театре, ни в печати. Ее сыграли один-единственный раз в моем городе, в Эривани, и автор смотрел, понимаете? Александр Сергеевич видел, как мы играли для него!.. Мы играли плохо, но мы играли!..
М а л ь ц е в. Пишите! Боже мой! Разве сейчас до какого-то спектакля? О чем вы думаете?!
Ш а х н а з а р о в. Я думаю…
(Улыбнувшись.) Я думаю, шах обижается. Мы величаем его неполными титулами. Он царь царей, шах-ин-шах, падишах, тень аллаха, сосредоточение вселенной, Кибле-и-алем, а мы его…
М а л ь ц е в. Грибоедов распорядился. Должна быть употреблена не более как половина титулов. Это и означает, что мы не просим, а требуем. Начинайте так: «Я убежден, что российские подданные не безопасны здесь и испрашивают позволения у своего государя удалиться в Россию…»
Шахназаров пишет.
Первое февраля… Не верю! Черт догадал меня втиснуться в эту историю!
(Шахназарову.) Пишите, но бумаги не отдавайте. Я еще раз поговорю с Александром Сергеевичем.
Шум. К а з а к и вносят А л е к с а ш у.
Что такое? Где он был?
К а з а к. Да вот, насилу отбили на базаре.
М а л ь ц е в. Вот вам, вот вам! Нашел время по базарам разгуливать.
А л е к с а ш а. Изволите так говорить…
(Стонет.) А я шел мирно и тихо…
(Стонет.) Смотрел товары, ничего не покупал… Ну трогал, конечно, как у нас в Москве полагается, щупал…
(Стонет.) Будь проклята эта страна… Набросились, как звери…
Сверху по лестнице спускается Г р и б о е д о в. Он в домашнем сюртуке.
Г р и б о е д о в. Что случилось?
М а л ь ц е в
(хмуро). Да вот Сашку на базаре избили.
Г р и б о е д о в. Я же тебе сказал, франт-собака, в город без моего разрешения не выходить.
Прибегает Д о к т о р. С помощью Шахназарова перевязывают Алексашу.
Придется запереть на чердаке и часового поставить.
А л е к с а ш а. Изволите говорить, а не знаете…
(Стонет.) Я подарки высматривал…
М а л ь ц е в
(казакам). Унесите его.
Г р и б о е д о в. Пусть полежит здесь.
(Казакам.) Идите.
(Доктору.) Что с ним?
Д о к т о р. Переломов как будто нет. Полежит — отойдет.
(Уходит вслед за казаками.)
Г р и б о е д о в
(у стола, Шахназарову). Эту бумагу надобно отправить сейчас же.
Ш а х н а з а р о в
(посмотрев на Мальцева). Слушаю-с.
(Уходит.)
М а л ь ц е в. Александр Сергеевич… вам известно, что происходит в городе?
Г р и б о е д о в. Известно. Даже более, чем вам. Муллы собирают народ в мечетях и возбуждают против нас.
М а л ь ц е в. Все оттого, что под нашим покровительством находятся люди…
Г р и б о е д о в. А вы ожидали другого? Народ Персии не против нас, но его обманывают. Сознательно обманывают, чтобы скрыть справедливость наших требований, объясняя причину его нищеты нашим поведением. Кстати, Иван Сергеевич, я и вас попрошу не выходить в город. Вы так торжественно наряжаетесь, что это оскорбительно для здешних бедных людей.
М а л ь ц е в
(запальчиво). Что подумают эти бедные люди, мне безразлично! Гораздо более я удивляюсь вашему поведению на приемах у шаха. Говорят, вы знаток здешнего этикета.
Г р и б о е д о в. А-а! Это когда старичок в короне едва не умер от утомления?
М а л ь ц е в. Да.
Г р и б о е д о в. И вам непонятно, почему я так долго сидел?
М а л ь ц е в. Простите, нет.
Г р и б о е д о в. Знаете, есть этикет азиатский, а есть — дипломатический. Я сидел, возвышая тем самым Россию. Некоторые европейские державы уже сделали из этого полезные для нас выводы. Наша сила и влияние измеряются там, между прочим, по количеству минут, в течение которых продолжается аудиенция русского посла у шаха. Я высидел один час семнадцать минут! Небывало много!
М а л ь ц е в. Но шах был рассержен.
Г р и б о е д о в. Что же делать? При случае мы принесем ему свои извинения и даже употребим все титулы шаха не хуже, чем это делают англичане. Однако же теперь, хотя шах и утомился до потери сознания, но он идет на уступки, он боится меня.
М а л ь ц е в. Вы безумны. Вы же сами сказали, что муллы собирают в мечетях народ…
Г р и б о е д о в. Не может быть иначе. Это — война, Иван Сергеевич.
М а л ь ц е в. Война?
Г р и б о е д о в. Да, и притом жесточайшая: война улыбками, разговорами, реверансами и непреклонной настойчивостью.
М а л ь ц е в. Нет!.. Я не желаю погибать!.. Наша миссия и без того выполнена блестяще!..
(Кидается к нему.) Александр Сергеевич, Александр Сергеевич!.. Мне известно, что господин Макдональд, английский посланник, решительно не одобряет вашего поведения, считая, что защита пленных…
Г р и б о е д о в. Вам известно об этом от доктора Макнила, разумеется?
М а л ь ц е в. Не все ли равно, от кого! Но почему, зачем я должен ставить на карту свою жизнь из-за какого-то Маркарьяна, из-за каких-то бродяг, из-за каких-то женщин…
Г р и б о е д о в. Успокойтесь! Успокойтесь! Разве вам не жаль их? Хорошо. Если не можете сердцем, так разумом поймите. Мы заключили мир в Туркманчае, и это означало, что вся Восточная Армения обрела наконец свою землю, освободилась от мусульманского ига. Это означало также, что Россия взяла под защиту армянский народ, который доверился ей!.. Или я составлял и подписывал договор, который сейчас окажется обманом? Женщины, о которых говорите вы, несчастные пленницы, как и тысячи других таких же, они верят вам, мне, зданию русской миссии, русскому послу!..
М а л ь ц е в. Да? Вас тронули слезы из черных глаз каких-то женщин, которых вы, быть может, и не увидите никогда?! А слезы из глаз вашей супруги, об этом забыли?..
Г р и б о е д о в. Бог знает, что вы говорите, потеряв рассудок со страху!
М а л ь ц е в. Александр Сергеевич, но вы же знаете… Нина Александровна… она в положении… она одна… в Тавризе… Как можете вы!..
Г р и б о е д о в. Прошу вас, наши деловые разговоры окончены на сегодня.
М а л ь ц е в. Хорошо-с. Тогда позвольте напомнить вам… исключительно ли по склонности своей к изучению разных древностей посещает доктор Макнил мечети, в особенности их главного муллу?..
Г р и б о е д о в. Однако вы начинаете разбираться в дипломатических тонкостях, мой друг!
М а л ь ц е в. Благодарю вас. И кстати, осведомлены ли вы, что он, как и шах, сегодня в полдень отбыл из Тегерана?
Г р и б о е д о в. Доктор Макнил?
М а л ь ц е в. Смею доложить, это так. А вы сами говорили, что доктор Макнил никогда не уезжает и не приезжает зря.
Г р и б о е д о в. Это очень важное сообщение, Иван Сергеевич. Прикажите Кузьмичеву, чтобы вся охрана была на ногах. Спокойной ночи.
М а л ь ц е в
(шепотом). Умоляю вас! Отпустите меня. Я уеду завтра.
Г р и б о е д о в. Вы уедете не позже чем через два дня, несмотря на то что доктор Макнил вряд ли заинтересован в возвращении каждого лишнего свидетеля, даже такого, как вы.
М а л ь ц е в. Боже мой!
(Убегает.)
Грибоедов греется у камина.
А л е к с а ш а. Вот вы изволите подбрасывать поленья, а я лежу…
Г р и б о е д о в. Сам виноват. Я же тебе сказал, даже носа не высовывать, а ты…
А л е к с а ш а. Изволите так говорить, а не знаете… я подарок искал…
Г р и б о е д о в. Так тебе и надо.
А л е к с а ш а. Так мне и надо…
(Поет.) «У церкви кареты стояли…»
(Вздыхает.) Так мне и надо! Я пел, а Нина Александровна заместо того, чтобы мне, казенному человеку, выговорить как следует…
Г р и б о е д о в
(болезненно). Что — Нина Александровна?
А л е к с а ш а. Ах! Изволите не верить!.. С прошлой почтой подарочек мне прислала… вышитый серебром кушачок, вот он. Как же я к ней без подарочка вернусь!..
(Поет.) «У церкви кареты стояли…»
Г р и б о е д о в. Помолчал бы, помолчал… В особенности о ней… Эх, франт-собака…
(Сгорбившись, сидит у камина.)
Во дворе солдатские голоса: «Ать-два — левой», потом русская песня, ее поют солдаты: «Не сырой дуб к земле клонится…»
Какая противная зима в Персии… Сыро… Холодно…
Гаснет свет. И когда он зажигается снова, в комнате никого нет. Это — утро. Вбегает М а л ь ц е в, на ходу пристегивая коротышку шпагу. Навстречу ему бежит Ш а х н а з а р о в.
Ш а х н а з а р о в. Пятьсот… шестьсот… тысяча человек вышли из мечети Имам-Зумэ… Толпа растет непрерывно!.. Она движется сюда!
Уже слышен отдаленный гул толпы, как глухой гул нарастающего шторма.
М а л ь ц е в. Господи помилуй!.. Господи… Господи… Что же делать?
Ш а х н а з а р о в. Я отдал распоряжение казакам. Главное — удержать ворота… Слышите?
М а л ь ц е в. Боже мой…
Ш а х н а з а р о в. Где Александр Сергеевич?
М а л ь ц е в. Кажется, у себя наверху… Это он, он… со своим проклятым высокомерием!..
Ш а х н а з а р о в
(прислушивается). Они требуют выдачи Маркарьяна и женщин…
М а л ь ц е в
(истерически). Выдать! Выдать!
Наверху, на лестнице появляется Г р и б о е д о в. Он в парадном мундире, расшитом золотом, в треуголке, со шпагой в лакированных ножнах на левом бедре.
Г р и б о е д о в. Ворота надежны?
Ш а х н а з а р о в
(неуверенно). Полагаю… Там Кузьмичев…
Г р и б о е д о в. А что городская полиция — сарбазы, не знаете?
Ш а х н а з а р о в. Не знаю. Толпа растет.
Г р и б о е д о в. Должно быть, все сопровождают шаха, предпринявшего своевременное путешествие за город. Надежна ли охрана флигеля?
Ш а х н а з а р о в. Там Чибисов.
Г р и б о е д о в. Ну и отлично.
(Мальцеву.) Вы плохо выглядите. Что с вами? Не спали?
М а л ь ц е в. Не спал.
Г р и б о е д о в. Бессонница — самое ужасное на свете. Надо спать. Обязательно надо спать.
Вбегает А л е к с а ш а.
А л е к с а ш а
(кричит почти по-бабьи). Они убили Кузьмичева!!
В этот момент — залп из ружей.
Ворвались! Ворвались!
Г р и б о е д о в. Франт-собака, приведи себя в чувство.
А л е к с а ш а
(всхлипнув). Изволите так говорить, как будто я испугался, а я что?.. Куда прикажете?..
Г р и б о е д о в
(показывая на дверь). Вот сюда.
Яростные крики толпы нарастают: «Фет-Али-шах!». «Фет-Али-шах!», «Вазир-Мухтар!», «А-а-а!!»
Ш а х н а з а р о в. Толпа требует, чтобы русский посол вышел к ней.
М а л ь ц е в. Александр Сергеевич, прячьтесь!.. Выдайте им этих людей… Александр Сергеевич…
Г р и б о е д о в. Молчать!
Еще один залп из ружей, совсем у самой двери, — и сразу не крик, а вопль толпы.
(Направляется к двери. Шахназарову.) Откройте.
В этот момент Мальцев быстро, воровски взбегает по лестнице и скрывается. Шахназаров подходит к двери.
Ш а х н а з а р о в. Александр Сергеевич, отойдите. Я умею с ними говорить. Поручите мне.
Распахивается дверь. Синее ослепительное небо. Солнце. Вой исступленной толпы несется снизу. У двери лежит убитый казак. Шахназаров что-то выкрикнул по-персидски и, подняв руку, начинает спускаться вниз. Несколько выстрелов. Он падает.
Г р и б о е д о в
(держа перчатку в руке, прямым шагом, весь чопорно выпрямившись, идет к двери. Остановившись в дверях, как золотое изваяние). Кто посмеет перешагнуть порог дома русского посланника?
(Говорит негромко, но уже в абсолютной тишине.)
Толпа замирает. Кажется, если бы он двинулся дальше, она покорно расступилась бы перед ним. Но в это время сверху, в проломе потолка, показываются две фигуры персиян, бесшумно сползающих вниз. Грибоедов их не видит. Алексаша тоже. Персиянин, выхватив нож, кидается на Грибоедова. Но его грудью принимает Алексаша. Кровь! И это — как сигнал! Толпа с воем ринулась наГрибоедова.
Т е м н о
КАРТИНА ШЕСТАЯ
Тавриз. Дом английского посланника Макдональда. Большая казенная комната в лепных украшениях, обставленная с холодной роскошью. Выходит д о к т о р М а к н и л. Медленно пересекает комнату и останавливается у двери.
Пауза.
Д о к т о р М а к н и л
(про себя). Всем глупым — счастье от безумья, всем умным — горе от ума…
(Вздыхает. Это вздох человека, получившего право на отдых. Осторожно.) Нина Александровна, как вы себя чувствуете?
Г о л о с Н и н ы. Доктор Макнил, это вы?
Н и н а появляется в дверях.
Н и н а. Вы очень любезны. Я чувствую себя хорошо.
Д о к т о р М а к н и л. Главное — не надо волноваться. В вашем положении…
Н и н а. Я не волнуюсь, нет… Может быть, получены какие-нибудь вести… из Тегерана?
Д о к т о р М а к н и л. Обычная почта. Ничего особенного. Вам нужно гулять. Много кушать. Смотреть на все красивое и думать только о красивом.
Н и н а. Я так и стараюсь делать. Но этот город!..
Д о к т о р М а к н и л. Посмотрите старую мечеть. Хотите, поедем за город?
Н и н а. Нет, нет, а вдруг в это время вернется Александр Сергеевич…
Д о к т о р М а к н и л. Помилуйте, нас оповестят об этом заранее.
Н и н а. Спасибо, нет, я не поеду.
Д о к т о р М а к н и л. Леди Макдональд собирается. Прогулки, прогулки — первое условие…
Н и н а. Доктор, я прошу вас. Скажите мне прямо: что в Тегеране?
Д о к т о р М а к н и л. Но я уже не раз говорил вам. Тихо и спокойно. Его превосходительство господин Грибоедов пользуется всеобщим уважением, принят шахом, который ни с одним из посланников никогда не проводил столь длительной беседы. Мне рассказывали, шах не отпускал его в течение одного часа семнадцати минут.
Н и н а. И это действительно хорошо?
Д о к т о р М а к н и л. О! Великолепно! Небывало!
Н и н а. Ах! Но почему мне кажется…
Д о к т о р М а к н и л. Вы нервны. В вашем состоянии это вполне естественно. Прошу считать меня своим врачом и обращаться ко мне в каждом случае…
Н и н а. Спасибо.
Д о к т о р М а к н и л. Не смею мешать.
(Учтиво кланяется, прикоснувшись к руке Нины.)
Нина скрывается в дверях. Доктор Макнил медленно пересекает комнату в обратном направлении. В противоположных дверях появляются С е р е ж а Е р м о л о в и Д а ш е н ь к а.
Д а ш е н ь к а
(шепотом). Она здесь?
Д о к т о р М а к н и л. Тшшш! Будьте осторожны! Избави вас бог проговориться… Делайте так, как решили. Она очень плоха.
Д а ш е н ь к а
(вдруг). Доктор! А почему… вы уехали из Тегерана?
Д о к т о р М а к н и л. Мои дела были закончены, вот и все. Да и чем я мог помочь? Простите меня. Он был слишком резок и упрям.
Д а ш е н ь к а. Тшшш!
В дверях — Н и н а.
Н и н а
(с криком). Что? Ты? Почему ты здесь?
(Бросается к Дашеньке.)
Д а ш е н ь к а. Ничего не случилось, боже мой… Мы просто приехали… Вот… и Сережа со мной.
Н и н а. И вы?..
Сережа в смятении пробует улыбнуться.
Д а ш е н ь к а
(торопливо). Мы приехали за тобой. Перестань волноваться. Тебе нельзя.
Н и н а. Почему за мной?
Д а ш е н ь к а. Я не могу с тобой говорить, пока ты не успокоишься. Я думала, ты обрадуешься нашему приезду, а ты…
Н и н а
(устало). Я рада. Не сердись.
(Опускается на стул, закрывает глаза.) Рассказывай, почему вы приехали?
Д а ш е н ь к а. Очень просто…
С е р е ж а. Да, очень просто. У меня было поручение от штаба, а Дашенька собралась к вам…
Д а ш е н ь к а. Я собралась, чтобы взять тебя и вместе вернуться в Тифлис.
Н и н а. Я не поеду. Я буду ждать Грибоедова.
Д а ш е н ь к а. Вот смешная, ты послушай…
Н и н а
(деревянным голосом). Я никуда не поеду. Я буду ждать Грибоедова.
Д а ш е н ь к а. Господи, да ведь мы приехали по его просьбе.
Н и н а. Тебе пишет, а мне ничего не пишет? Какая просьба?
Д а ш е н ь к а. Он нездоров. Он поедет прямо в Тифлис и просит, чтобы ты там ждала его. Н и н а. Неправда.
Д а ш е н ь к а. Ну что ж, оставайся здесь. Ты хочешь, чтобы он, больной, ехал из Тифлиса сюда?
Н и н а. Неправда…
Д о к т о р М а к н и л. Я скрыл от вас только одно: что он простудился на празднике у шаха. Прошу простить. Я хотел, чтобы об этом сказала вам ваша подруга, которая, к счастью, сегодня приехала…
Н и н а. Неправда…
Д о к т о р М а к н и л. Он болен. Простуда… Врачи порекомендовали ему покинуть Тегеран: там в феврале обычно очень дурная погода.
Д а ш е н ь к а. Я поехала за тобой, а он — прямо в Тифлис.
С е р е ж а. Так удачно вышло все. Меня командировали из штаба, я смог сопровождать Дашеньку…
Д а ш е н ь к а. Тебя ждут в Тифлисе…
Д о к т о р М а к н и л. Я полагаю, вам удастся устроить ваш отъезд не позднее чем послезавтра.
Д а ш е н ь к а. Ах, как славно! Мы будем путешествовать втроем.
С е р е ж а. Прасковья Николаевна ждет не дождется…
Д о к т о р М а к н и л. Безусловно, вам надобно выехать поскорее. Я полагаю, что Грибоедов…
Н и н а. Что?!
Д о к т о р М а к н и л. Я полагаю, что Грибоедов уже выехал…
Н и н а. Дашенька, отведи меня. Мне плохо.
Дашенька и Нина уходят.
С е р е ж а
(доктору Макнилу). Нас не познакомили. Штабс-капитан Ермолов, друг Нины Александровны.
Д о к т о р М а к н и л. Доктор Макнил.
С е р е ж а. Должно быть, вам известны подробности ужасной трагедии?
Д о к т о р М а к н и л. Мне ничего не известно.
(Отходит к окну.)
Сережа садится. Входит М а л ь ц е в.
М а л ь ц е в. Могу ли я видеть вдову его превосходительства господина Грибоедова?
Д о к т о р М а к н и л. Вы?!. Вы?!. Значит, сообщение, что вся русская миссия уничтожена…
С е р е ж а. Тише, ради бога, тише…
М а л ь ц е в. Мне одному удалось спастись… Переодетый в платье сарбазского солдата, я был проведен во дворец шаха. О, об этом нет сил рассказывать!..
Д о к т о р М а к н и л. Я надеюсь, однако, что ваша реляция правительству нарисует истинную картину безрассудных действий господина Грибоедова, жертвою которых он и пал…
М а л ь ц е в. Доктор, неужели вы можете сомневаться…
Д о к т о р М а к н и л
(успокоившись). Я понимаю. Господин Макдональд, получив известие, плакал. Я сам плакал. Но неужели ничего нельзя было поделать с обезумевшей толпой фанатиков?
М а л ь ц е в. Зилли-султан был послан для усмирения черни, но его принудили вернуться. Он заперся во дворце, расставив сарбазов по стенам, так как опасался, что народ не пощадит самого шаха…
Д о к т о р М а к н и л. Не может быть!
М а л ь ц е в. Это — как гнев божий! Три дня бушевал разъяренный Тегеран!.. Кровь стынет в жилах.
Д о к т о р М а к н и л. Тише, ради бога, тише.
С е р е ж а. Я полагаю, что император наш не оставит безнаказанным подобное злодейство, равно как и преступное бездействие шаха?
М а л ь ц е в. Штабс-капитан! Вам известно, насколько я любил и уважал покойного — человека, исполненного доблести и чести. Я был осчастливлен особенным доверием к себе, но я всегда считал, что резкость и неуступчивость его…
Д о к т о р М а к н и л. О да, к сожалению, да, вы правы.
М а л ь ц е в. В Санкт-Петербурге прекрасно разбираются в событиях, и, поверьте мне, я имел основание заверить шаха, принявшего меня с царскими почестями и горестным соболезнованием, что происшедшая трагедия не приведет к разрыву…
Д о к т о р М а к н и л. Вот как! Значит, сообщение, что в Петербург отбывает принц Хозрев-Мирза, соответствует правде?
М а л ь ц е в
(поражен). Ах, вы уже осведомлены?
С е р е ж а. Вы лжете! Не может быть! Неужели правительство русское, наш император, осудив действия Грибоедова, простят шаху?! Я не поверю. Тогда — пулю в лоб. Не жить!
М а л ь ц е в
(болезненно сморщившись). Тише, ради бога, тише!
С е р е ж а
(шепотом). Знаете ли вы, что делается в Тифлисе? Известие о его гибели в один момент облетело весь город. Не было человека, который не ощутил бы горя. Вы увидите, его останки встретит толпа несметная!..
Д о к т о р М а к н и л
(теряя свое обычное самообладание). Этот разговор неуместен…
С е р е ж а. О, напротив! Напротив! Вы увидите это. Вы приедете посмотреть.
М а л ь ц е в. Штабс-капитан! Доктор Макнил — наш друг…
С е р е ж а. Черт с ним, я не дипломат! Пусть знает, что делается в Тифлисе, на всех порогах, там, в Грузии, и здесь поближе, в селениях армянских…
(Резко повернувшись к Мальцеву.) А вы, русский, смеете осуждать его!
(Бросается к нему.)
М а л ь ц е в. Замолчите!
С е р е ж а. Вас спросят, вас спросят когда-нибудь… Почему вы бросили его, гордость русскую, честь России, ее славу — Александра Грибоедова!..
Входит Н и н а.
Бог мой, Нина…
Н и н а
(смотрит на Сережу остановившимся взглядом). Что случилось?.. Вы взволнованы?.. Что вы хотели сказать мне?.. Не надо.
(Пораженная.) Мальцев?! Даша, дай руку. Сережа, мы сейчас решили, завтра мы уедем. Да, да, завтра. Я должна его встречать. У часовенки, на горе. У монастыря. Он любил это место. Мы так условились. Нет меня счастливее — я его жена!.. Даша…
(Падает на руки Дашеньки.)
З а н а в е с
1950
МОЙ МОЛОДОЙ ПУШКИН
Сцены из лицейской жизни в 2-х частях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Лицеисты:
П у ш к и н.
П у щ и н.
Д е л ь в и г.
К ю х е л ь б е к е р.
Я к о в л е в.
И л л и ч е в с к и й.
Г о р ч а к о в.
Преподаватели, наставники, служащие лицея:
П и л е ц к и й — инспектор.
П и л е ц к и й — гувернер.
К у н и ц ы н — адъюнкт-профессор нравственных наук.
К о ш а н с к и й — профессор русской и латинской словесности.
Г ю а р — учитель танцевания.
В а н в и л ь — учитель фехтования.
Ф р о л о в — инспектор, временно исполняющий обязанности директора лицея.
З е р н о в — дядька-надзиратель.
П е ш е л ь — врач.
М а л ь г и н — портной.
Гости:
Д е р ж а в и н.
Б а к у н и н а.
Д в а г у с а р а (без слов).
Лицеисты (без слов):
К о р ф.
Б р о г л и о.
К о м о в с к и й.
И д р у г и е.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КАРТИНА ПЕРВАЯ
ОН ПОСТУПИЛ В ЛИЦЕЙ!
Яркий солнечный день. Просторная комната. За высокой конторкой — М а л ь г и н, портной, бородатый мужчина в кафтане. И л ь я С т е п а н о в и ч П и л е ц к и й — г у в е р н е р — распоряжается, лицеисты стоят вразброд — кто уже в лицейском мундирчике, а кто — в своем, домашнем. Из двери слева, ведущей в вестибюль, выходит небольшого роста кудрявый, светловолосый, смуглый мальчик. Это — П у ш к и н. В неловкости и смущении он останавливается, не решаясь ни к кому подойти. Появляется длинный, нескладный К ю х е л ь б е к е р, только что обряженный в мундир, рукава которого ему явно коротки.
М а л ь г и н
(сокрушенно оглядывая его). Одного сукна сколько пошло, а никакого виду.
Г о р ч а к о в
(вышедший вслед за Кюхельбекером). А сукно можно и получше!
(Оглядывает себя в зеркало, он красив, статен, схож с императором Александром.)
М а л ь г и н. Сукно? Не беспокойтесь, ваше благородие. Сукно такое, что не шелохнется, хоть режь, хоть бей. А пике на жилете?
Г о р ч а к о в
(Пилецкому-гувернеру). Что за мужик?
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Положимте, Горчаков-господин, и не мужик, а портной придворный, сам Афанасий Петрович Мальгин.
Г о р ч а к о в. Я вижу, портной неплох… но… плут.
М а л ь г и н. А ты, браток, коль недоволен, клади наружу, а не наизнанку.
Г о р ч а к о в. Любезный друг, вот эту пуговицу надо бы левее.
М а л ь г и н. Не повредит ли? Постав пуговиц налажен по ранжиру, установленному свыше. Али несогласные?
Г о р ч а к о в. Согласен.
(Пушкину.) Не затруднит ли вас, однако, пододвинуться. Вы заслоняете мне зеркало.
П у ш к и н
(буркнул). Прошу.
(И направился было в кладовую.)
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Придется обождать, Пушкин-господин.
(Выкликает по списку.) Дельвиг-господин!
Толстый, вялый мальчик в курточке, украшенной галунами, идет в кладовую, а Пушкин остается. Входит П у щ и н, тоже еще в домашнем платье, и, увидав Пушкина, неуверенно кланяется.
П у щ и н. Моя фамилия Пущин.
П у ш к и н
(напряжен). А я Пушкин.
П у щ и н. Нас познакомил ваш дядюшка Василий Львович на приеме у графа Разумовского. Помните?
П у ш к и н. Разумеется.
П у щ и н. Ну как же, как же, мы еще гуляли в Летнем саду… Вас куда поместили? Меня в комору тринадцатую.
П у ш к и н. Нехорошее число.
П у щ и н. Вы думаете? Я не суеверен. А вас?
П у ш к и н. В четырнадцатую.
(Напряжение чуть улеглось.)
П у щ и н. Вот видите! И я полагаю, нам надобно жить в мире! Тому обязывает схожесть наших фамилий, ну и… соседство. Вы не находите?
П у ш к и н. Нахожу. Но приятельствовать, извините, не обучен. Вы не знакомы с красивым молодым человеком у зеркала?
Г о р ч а к о в
(повернувшись к Пушкину и наклоняя голову). Горчаков. Князь Александр Михайлович Горчаков. Веду родословную свою от святого Владимира и Ярослава Мудрого, как сказано в одном немецком энциклопедическом словаре.
Я к о в л е в
(появляясь в новеньком мундире и раскланиваясь направо и налево). Яковлев Михаил, законный сын Лукьяна Яковлева, архивариуса, в бумагах коего есть древности не токмо Ярослава Мудрого, но черта лысого, как сказано в одном провансальском энциклопедическом словаре.
Г о р ч а к о в. Быть может, вы немного сумасшедший?
Я к о в л е в. А для чего бы я приехал в сей желтый дом?
(Становится рядом с Горчаковым и также сосредоточенно оглядывает себя.)
П у ш к и н
(Пущину, отводя его в сторону и косясь на Горчакова). Должен признаться, что белье мое столь незатейливо, что мне неловко снимать свою курточку.
П у щ и н. Ах, пустяки какие! Я давеча видел тут белье… Домотканые панталоны и канареечная фуфайка!
К ю х е л ь б е к е р. Чем не понравилось вам мое белье?
П у щ и н. О, простите! Я не держал в мыслях вас обидеть.
К ю х е л ь б е к е р. Нет, я прошу сказать — чем не понравилось.
П у ш к и н
(заслоняя собой Пущина). Мой сосед не имеет желания объясняться с вами!
К ю х е л ь б е к е р. Тогда прошу немедля объяснить ваши поступки!
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Кюхельбекер-господин, тише! Тише, господа! Тише, тише!
Сначала из кладовой выходит Д е л ь в и г, переодетый в мундирчик, надевает очки, растерянно-добродушно оглядывает всех и садится на стул у стены. Затем появляется М а р т и н С т е п а н о в и ч П и л е ц к и й — и н с п е к т о р, человек в черном платье, худой, с горящими глазами, похожий на иезуита-монаха, за ним — К у н и ц ы н.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Господа! Инспектор-господин, Мартин Степанович, желает говорить с вами.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Дети! Благостью всевышнего вы ныне удостоены счастья быть в сем святилище науки, в дому самого царя. Помните, в злохудшу душу не входит премудрость. Свет истины озаряет только чистые сердца. Ученость и просвещение без чистоты сердца есть острый меч в руках разбойника. Любовь к государю, к престолу да будет единой основой для всех вас здесь, в стенах этих, и там, на будущем поприще вашем!
(Дельвигу.) Встать.
Д е л ь в и г. А? (Словно проснулся.)
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Очки.
Д е л ь в и г. А?
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Ношение очков в лицее, равно как во дворце, не допускается.
Д е л ь в и г. Но как же без очков?
(Покорно снимает очки.)
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Я вижу, вы дерзки на язык. Запомните, господин Дельвиг. И вы, господа.
(Указующе поднимает переплетенную тетрадь.) Книга сия со всеми случаями поведения вашего будет служить основанием для определения ваших достоинств при выпуске из лицея.
(Обвел всех пылающими глазами.) Ходите прямо, закрывайте рот рукой, когда зеваете, не смейтесь безобразно, не держите рук в карманах, не устремляйте ни на кого взор неподвижный. Когда случится смеяться, то дайте знать в громком разговоре о причине смеха, дабы не подумал посторонний, что он является причиною. Между собой разговаривайте вполголоса, без крику, однако же не пошептом. И учите молитвы, дети, неустанно повторяйте их!.. Спаси господи родителей наших, сродников наших, наставников, начальников наших…
(И смолкает, встретившись взглядом с Куницыным. В сторону Куницына.) Познакомьтесь, господа. Профессор ваш по наукам политическим и нравственным, коллега мой, Александр Петрович Куницын.
Куницыну 28 лет. Он невысок, широкоплеч, с тонкими бачками. Улыбаясь, смотрит на лицеистов.
К у н и ц ы н. Почтеннейший Мартин Степанович будет обучать вас приличиям и поведению христианскому, а я — достоинствам и долгу, гордости и чести гражданина. Многие из вас еще в домашних курточках. Но вы уже лицеисты. И дело не в блестящих мундирчиках. Что толку блистать наружными качествами? Не постыдно ли наблюдать почести без заслуг, отличия без дарований? Какая польза кичиться заслугами отцов? О нет, надобно заслужить самому!..
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р
(прерывает его). Господин Дельвиг! Очки!
Д е л ь в и г
(завороженно уставившись на Куницына). А?
К у н и ц ы н (Дельвигу, сочувственно). Ношение очков…
Д е л ь в и г. Я знаю. Я снял.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р
(подхватив Куницына под локоть, вполголоса). Полноте, мой друг, вы говорите в пустоту! Перед вами не геттингенские студенты, а дети, и притом неразумные дети…
К у н и ц ы н. Вы думаете?
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Хорошо бы, только неразумные. А иные с дурными склонностями.
(Проходя мимо Дельвига, громко.) Застегните пуговицу!
(Ушел вместе с Куницыным.)
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(оживленно). Воспрещается всякое отступление от формы, как-то: снимать на улице шляпу, расстегивать крючки и пуговицы, выставлять цепочки и брелочки. Честь отдавать надлежит всем генералам, штаб- и обер-офицерам, при встречах с которыми пешком становиться во фрунт, изображая на лице веселие и радость…
Я к о в л е в
(выскакивая вперед). Спаси господи родителей наших, сродников, начальников, охальников, пихальников…
П у ш к и н
(в восторге). Очень похоже!
М а л ь г и н. Фу, дьявол! Ну, паяс!
Г о р ч а к о в. Паяс! И родословный!
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(тоненько засмеялся и спохватившись). Немедля прекратить. (Выкликает по списку.) Пущин-господин! Пушкин-господин!
Пушкин и Пущин уходят в кладовую.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Поскольку вы сейчас из дому и не обучены, шум и балаганство ваши простительны. Но далее неукоснительно должны подчиняться всем правилам внутреннего распорядка, установленным высшим повелением…
Г о р ч а к о в. Запомните, однако, что князь Горчаков, подчиняясь высшим повелениям, вам не подчиняется.
Я к о в л е в. И Михаил Лукьянович Яковлев-Провансальский одинаково и в той же мере.
М а л ь г и н
(Горчакову). Давай уж, давай, ваше благородие, устрою вам пуговицу полевее.
Я к о в л е в. И мне!
(С важностью идет за Горчаковым и Мальгиным в кладовую.)
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(онемев, провожает глазами Горчакова и Яковлева). Кхм! Кхм!
(И спешит за ними.)
Из кладовой выходят П у ш к и н и П у щ и н. Оба в мундирах.
П у щ и н. Отменно жмет, рукой не поворотишь, как в корсете.
П у ш к и н. Но вид!..
(Надевает парадную треуголку и, восхищенный, замирает перед зеркалом.)
К ю х е л ь б е к е р
(подходит к Пущину). Вы мне сказали дерзость!
П у щ и н. Я?
К ю х е л ь б е к е р. Объяснитесь!
Но тут подходит И л л и ч е в с к и й. Гладенько причесанный, он учтивейше говорит, обращаясь к Пущину и показывая на Кюхельбекера.
И л л и ч е в с к и й.
Наш бедный рыцарь Клит
Лицом обыкновенный,
Теряет сзади вид
От трещины мгновенной.
Поворачивает спиной Кюхельбекера, и мы видим, что мундир его на спине лопнул по шву и нечто ярко-канареечное вылезло наружу.
(С достоинством.) Стихами говорю без запинки. А пожелаете, могу с рисунками, похожими как две капли воды на кого угодно.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(появляясь). Кюхельбекер-господин! Белье, одежду, обувь хранить надлежит как зеницу ока, а у вас… Мальгин!
Входят М а л ь г и н и Я к о в л е в.
М а л ь г и н. Уму непостижимо! Сукно крепчайшей силы…
К ю х е л ь б е к е р. А коль скоро я поднял руку на обидчика?
М а л ь г и н. Пожалуйте сюда!
(Уводит его в кладовую.)
Я к о в л е в
(следуя за ними). Такое оскорбление я бы кровью смыл.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Господа! Лицеисты-господа! Прошу расходиться по коморам!
Часть лицеистов уходит за Пилецким-гувернером. Остаются Дельвиг, скромно сидящий на своем стуле, и Пушкин, расхаживающий в полном параде и посматривающий на себя в зеркало. Из кладовой возвращаются К ю х е л ь б е к е р, в другом, более просторном мундире, и Я к о в л е в.
К ю х е л ь б е к е р
(увидев Пушкина, Яковлеву.) Смотрите, да он еще расхаживает как павлин!
Я к о в л е в
(понизив голос). Он похож не на павлина, а на обезьяну.
К ю х е л ь б е к е р
(громко). Отнюдь! Не он на обезьяну, а обезьяна на него!
В ту же секунду Пушкин молниеносно подлетает к ним.
П у ш к и н. Извольте повторить!
(Подскакивает и ударяет Кюхельбекера, норовя попасть под подбородок.)
Дельвиг даже привстает от неожиданности.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р
(появляясь и схватывая Яковлева за ухо). По коморам! По коморам!
(Другой рукой подцепив Кюхельбекера.) А я говорю, по коморам…
(Уводит их.)
Дельвиг и Пушкин.
Д е л ь в и г
(Пушкину). Удар был ловок, и если б не сия мокрица, то могла бы произойти вполне приличная битва, напоминающая мне походы с бригадой отца в кременчугских лесах.
П у ш к и н. Вы бывали в походах?
Д е л ь в и г. О! Разъезжая то в авангарде с конницей, то в арьергарде с артиллерией, я попадал в разнообразные злоключения. Однажды на меня напали разбойники…
П у ш к и н. Разбойники?
Д е л ь в и г. Леса кишели ими в тех местах. В то утро я спал, устроившись под телегой, дабы укрыться от солнышка. Отряд ушел вперед. Со мной остался лишь мой слуга. Разбойники выползли из леса, вскочили и в один миг окружили нас. Слуга пробовал сопротивляться, но был привязан к позорному столбу. Меня вытащили из-под телеги, и я предстал перед атаманом. Он сказал: «Отвечай, если хочешь жить, где золото?» — «Вот оно», — сказал я и начал читать балладу Жуковского. По мере того как я читал, они окружили меня со всех сторон, придвинувшись ко мне вплотную и глядя мне в рот. В забвении они не заметили, как подоспели наши солдаты. Атаман был схвачен…
П у ш к и н. Но ведь это неблагородно! Они слушали стихи.
Д е л ь в и г. В том-то и дело, что отец, узнав про балладу, велел отпустить их, но многие из них остались в нашем отряде, в том числе и атаман. Среди них была женщина.
П у ш к и н. Женщина?
Д е л ь в и г. Русалка. Вы любите Жуковского?
П у ш к и н. Его стихи я знаю наизусть!
Д е л ь в и г. Тогда я прочту вам из новой его поэмы, еще не напечатанной.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.
П у ш к и н
(подхватывая).
Снег пололи, под окном
Слушали, кормили
Счетным курицу зерном,
Ярый воск топили…
Дельвиг надел очки и восторженно посмотрел на Пушкина.
О б а.
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой…
Д е л ь в и г. А Батюшкова ты любишь?
П у ш к и н. А ты?
Д е л ь в и г. А дальше как — помнишь?
П у ш к и н. А ты?
Д е л ь в и г. Я помню. А ты?
П у ш к и н.
Д е л ь в и г.
О б а.
Молчалива и грустна
Милая Светлана…
Входит П и л е ц к и й - г у в е р н е р.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(со списком в руках). Недосчитался двоих. Вот они. Так, Дельвиг-господин! Пушкин-господин! Нумер двадцать третий и нумер четырнадцатый. Ежели клопы в коморе заведутся, скажите мне. Выдам билет с молитвой святому священному ученику Дионисию Ареопагиту. Ареопагит — клопов изводчик. Прошу — в коморы.
Т е м н о
КАРТИНА ВТОРАЯ
1
Класс танцевания, руководимый семидесятилетним г-ном Гюаром. Менуэт (под фортепиано). Л и ц е и с т ы танцуют. На первом плане г - н Г ю а р и П и л е ц к и й - и н с п е к т о р.
Г ю а р. Кто есть вы, господа? Вы есть будущие галантные кавалеры, коим предстоит удивлять воспитанием манер в движении и танцах на балах царских, на балах дипломатических и всеевропейских, показывая торжество цивилизации в России. Господин Кюхельбекер, держите такт! Вы скачете подобно коню, сбросившему седока! Мягче! Раз, два, три, четыре…
(Показывает.) Прошу.
(Отходит к Пилецкому.)
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. В танцевании он неуспешен. Да и Пушкин не кавалер. Манеры!.. А по соседству — князь Горчаков, барон Корф… На ваших уроках вижу, как обнажается душевное уродство натур испорченных и как рвется наружу благородная красота юношей, отмеченных высокородством! Обратите внимание…
Г ю а р
(нюхая табак). Ах, да… Но я в рассеянии, в рассеянии сегодня…
Я к о в л е в
(проплывая в паре с Илличевским).
А Горчаков наш вальсирует
И нос возносит к небесам…
Г ю а р
(продолжая). Что делается, Мартин Степанович! Что делается! Нева пуста. Нет напильничков для маникюра! Вот — плоды. Французы не допускают к нам английских кораблей и не посылают своих. Наполеон Бонапарте клялся нашему императору в дружбе. Какая дружба!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Маневр.
Г ю а р. Ах, ужас! Воевать? Но как? У его ног лежит простертая Европа! Почти вся Европа поднимается на нас!..
(Шепотом.) В Париже, говорят, уже не берут русских денег в обмен!..
Г о р ч а к о в
(проплывая с Корфом). Какой был раут, Модинька! Испанский посланник Хуан Мигуэль Паэс де ла Кадена счел меня за дипломата и, подхвативши под руку…
Танцуют.
Д е л ь в и г
(проплывая в паре с Пушкиным). У нас до сих пор почти вовсе нет народных драматических сочинений…
П у ш к и н. А Озеров?
Д е л ь в и г. Сочинения его заимствованы из французской школы, стих растянут, не по-русски тяжел…
П у ш к и н
(фыркнул). В Москве считался знаменитым, затем что был один! А Фонвизин? Фонвизин?
Д е л ь в и г. Ах, Пушкин! Конечно, «Недоросль»! Вот первая наша комедия!
Танцуют.
Г ю а р. А вы слыхали, Мартин Степанович, что француженки, содержательницы модных лавок, повысланы из Санкт-Петербурга?
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Господь карает за легкомыслие наше.
Г ю а р. Нет устриц. Французские ресторации закрываются. В казусах этих таится гроза! Ах, Мартин Степанович!…
П у щ и н
(проплывает с Кюхельбекером). Ты отдавил мне все ноги! Не брыкайся, как козел!
Танцуют.
Г о р ч а к о в
(проплывая с Корфом). Для благородных людей есть два рода службы — служба военная и дипломатическая. Я предпочту поприще дипломатическое. Но для этого, Модинька, надо казаться не более ученым и не более мудрым, нежели те, кого хочешь обвести вокруг пальца…
Танцуют.
Г ю а р. Нет устриц! Нет устриц! И каково же вам, истинному ценителю французской кухни!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Что?! Я люблю французскую кухню? Я? Я всю жизнь любил гречневую кашу! Нашу, русскую! Гречневую, ячневую, пшенную!..
Г ю а р. Но, Мартин Степанович…
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р
(обрывая его). Яковлев, не подставляйте ножку Комовскому! О боже, что там делается!..
Г ю а р. Кюхельбекер! Кюхельбекер! Вы произвели окончательное расстройство в рядах! Не машите рукой, не подскакивайте ногой! Менуэт. Мягче. Раз, два, три, четыре…
(Показывает.)
Т е м н о
2
Класс профессора русской и латинской словесности Николая Федоровича Кошанского. Л и ц е и с т ы сидят за своими столами-конторками. К о ш а н с к и й продолжает лекцию.
К о ш а н с к и й. Переходим к опытам поэтическим и на разборе их покажем, что есть поэзия и какие законы она выставляет. Можно ли, к примеру, сказать в стихе — «двенадцать раз», «выкопать колодцы», можно ли употребить в стихе — «напрасно», «площади», «говорить»? Сколь низок слог, вы слышите? Поэзия потребует других выражений — Не «двенадцать раз», а «двенадцать крат», не «выкопать колодцы», а «изрывши кладези», не «напрасно», а «тщетно», не «площади», а «шумны стогны», не «говорить», а «вещать». Музыка возвышенного слышится в таких заменах! Вот почему я многократно говорил вам, господин Пушкин, что направление ваше низкого рода. Упражняясь, достигнете. Неусыпно следите за слогом. Итак, переходим к поэтическим опытам вашей музы, господа!
(Берет листок, читает.)
Уныло граждане с высоких стен взирали,
Терзаясь мыслями, что в бедствах предпринять,
В отчаяньи врата открыть врагу желали
И, преклоня главу, о жизни умолять.
Прекрасный опыт! Кто написал!
И л л и ч е в с к и й
(скромно, с достоинством). Я.
К о ш а н с к и й. Прекрасно. Однако же заменим «в отчаяньи» и «открыть», как нарушающие музыку:
Уже врагу о т в е р з т ь врата желали
И, преклоня главу, о жизни умолять.
(Вздохнул и задумался.) Да-а. Поэт должен парить. Воспомните Гаврилу Романовича Державина:
Когда багровая луна
Сквозь тьму блистает доброй нощи…
П у ш к и н. А я не слыхивал, чтобы граждане вещали друг другу — «доброй нощи!». Говорят: «Доброй ночи». И куда как приятнее и лучше для слуха!
К о ш а н с к и й. Просторечивость противопоказана поэзии. А ваши Жуковский и Батюшков, низводя ее к безделкам, соблазняют неопытный вкус своею доступностью. Поэзия же обращается к богам, она разговаривает с избранными. А кто этого требует? Сама поэзия этого требует!
П у ш к и н. Поэзия? А вот у Державина не без ехидства сказано:
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой,
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!..»
К о ш а н с к и й. И шутки позволительны гению. Но к вам обращусь с советом: пробуйте силы не в шутках, а в серьезном роде. Учитесь у Илличевского. Что скажет господин Кюхельбекер? Я вижу, он держит наизготове листок?
К ю х е л ь б е к е р. Я…
(Встал, ероша волосы и невидящим взором оглядывая класс.)
К о ш а н с к и й
(расцветая улыбкой). Продолжим, продолжим поэтические опыты нашей лицейской музы!
(Откинулся на спинку кресла и блаженно закрыл глаза.) Нуте-с?
К ю х е л ь б е к е р. Чем выше к небу, тем холоднее. Я люблю язычников и первоприроду.
Сдержанный хохоток.
Сочинил лапландскую песню.
К о ш а н с к и й. Тсс…
К ю х е л ь б е к е р.
Возвратись скорее, Зами,
Где возлюблены красы?
Хладно севера дыханье,
Грозно моря колыханье,
Лед сковал мои власы.
Хохоток громче.
Ты напрасно убегаешь,
Я любовью окрылен,
Быстрый ток шумит с утеса,
Воет волк во мраке леса,
Путь метелью занесен…
Возвратись и ты, о Зами…
Я к о в л е в. Кюхли вздыблены власы…
И л л и ч е в с к и й. Страшно Кюхлино дыханье…
П у ш к и н. Кюхли грозно колыханье…
В с е. Наши лед сковал власы!
К о ш а н с к и й. Господа, я прошу удержать смех. Неужели не хватает благоприличия и тихого чувства? Господа, господа!
Кюхельбекер опускается на стул, махнувши рукой.
Продолжайте, Кюхельбекер. В строках ваших улавливаю пламень. Тише, господа!
К ю х е л ь б е к е р. Не буду.
Пауза.
К о ш а н с к и й. Пушкин, а вы?
П у ш к и н. У меня еще власы не вздыблены. И что-то… кюхельбекерно… Позвольте выйти?
Кюхельбекер, разъяренный, вскакивает.
Т е м н о
3
Класс фехтования под руководством знаменитого г - н а В а н в и л я. Л и ц е и с т ы с эспадронами в руках выстроены попарно друг против друга. Они выстроены так, чтобы рост противников был примерно равен. П у ш к и н стоит против маленького лицеиста К о м о в с к о г о, К ю х е л ь б е к е р — против высокого Б р о г л и о.
В а н в и л ь. Сходитесь!
Кюхельбекер тотчас бросает своего противника и оказывается против Пушкина.
К ю х е л ь б е к е р. Сейчас я поражу тебя, обезьяна, за все твои выходки!
В а н в и л ь. Кюхельбекер! Сие не по правилам! Длина ваших конечностей не соответствует…
П у ш к и н. Оставьте нас.
(Кюхельбекеру.) Ответишь за обезьяну, лапландец!
К ю х е л ь б е к е р. Ответишь за «кюхельбекерно»! Ответишь за лапландца.
Ударили скрещенные эспадроны. Пушкин ловок и увертлив. Еще секунда, и он уже яростно нападает, теснит Кюхлю.
И л л и ч е в с к и й.
Он жмет его с любовью брата,
Погиб наш Кюхля без возврата!
Все приостановили сражение, возбужденно наблюдая схватку Пушкина с Кюхельбекером.
В а н в и л ь. Делайте круазе! Делайте круазе! Первый штосс! Второй штосс! Браво, Пушкин! Так, так. Поворот! Финт-тиерс! Финт-тиерс, Кюхельбекер! Пушкин! Бросок на противника! Анкор! Еще анкор! Удар кварт! Удар по шпаге! Выпад! Реприз и укол! Браво!
Эспадрон выскальзывает из рук Кюхельбекера, и он падает, не удержав равновесия. Восторженные возгласы лицеистов.
Г о р ч а к о в. Финита ла комедия!
И л л и ч е в с к и й. Упал Пегас, навьюченный лапландскими стихами!
П у ш к и н.
Убит наш Кюхля, но в раю не будет,
Творил он тяжкие грехи.
Пусть бог дела его забудет,
Как мир забыл его стихи.
Я к о в л е в
(поет в духе весьма чувствительного романса).
Какой-то под углом продавец горько выл.
И как не выть? Бумаг для семги не достало.
И не в чем продавать! Товар меж тем гниет…
— Утешься! — я сказал, — беды великой нет:
Поэму Кюхля издает!
К ю х е л ь б е к е р. Паяс, замолчи!
В а н в и л ь. Оставьте шутки. Я смешлив. Господа, урок продолжается. Господин Пушкин! Выпад!
(Оживленно показывает.)
Я к о в л е в. Но, господин Ванвиль, вам неизвестно, что по соседству с нами находится длинная полоса земли, называемая Бехелькюхельриада, производящая торг мерзейшими стихами…
П у щ и н
(с гневом). Хватит, мудрецы!
И л л и ч е в с к и й. Ужас!
Плутягин под судом,
Хваталкин под кнутом,
Того колесовали,
Того в Сибирь сослали,
А Кюхельбекер, сочинив, —
Жив!
К ю х е л ь б е к е р. Замолчите! Замолчите! Замолчите!
Д е л ь в и г
(подошел к нему, сочувственно). Успокойся, любезный друг. Не будь язычником, лапландец.
(Меланхолически выливает на голову Кюхельбекера воду.)
Как раз в этот момент появляется П и л е ц к и й - и н с п е к т о р.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Господин Дельвиг, что вы делаете?
Д е л ь в и г. Я…
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Очки, господин Дельвиг, очки.
Д е л ь в и г. Я снял.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Если вы не будете воздерживаться от дерзостей, имя ваше будет выставлено на черной доске, оставаясь и при посещении лицея посторонними лицами.
Кюхельбекер, стоявший все это время закрыв лицо ладонями, вдруг срывается и стремительно убегает.
П у щ и н
(бежит за ним). Кюхля!
Вслед за ним убегают Пушкин, Яковлев и Горчаков.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р
(обращаясь к Ванвилю). Что происходит тут?
В а н в и л ь. О! Господин Пушкин, первейший наш фехтовальщик, четырьмя классическими выпадами выбил эспадрон из рук господина Кюхельбекера. В сем непостижимом поединке, при несоразмерности физических конечностей, единственно только высокой техникой, находчивостью и быстротой, господин Пушкин…
Вбегает П и л е ц к и й - г у в е р н е р, за ним, припадая на хромую ногу, дядька-надзиратель З е р н о в.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Он сумасшедший! Он бросился в пруд!
Возвращаются П у ш к и н, Я к о в л е в и Г о р ч а к о в.
П у щ и н. Слава богу, там был садовник, и мы подоспели…
Я к о в л е в. В один миг вытащили багром, зацепили и вытащили.
Г о р ч а к о в. Курьезная проделка! Он решил утопиться в пруду, где нельзя утонуть и мыши.
П у щ и н. Однако он впал в беспамятство, и его унесли в лазарет.
И л л и ч е в с к и й
(высунувшись из-за классной доски). Теперь, как пить дать, Пешель поставит ему клизму.
(Скрылся за доской.)
Д е л ь в и г. Где Пушкин?
П у щ и н. Он вымок не меньше Кюхли и убежал к себе.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. На ваших уроках, господин Ванвиль, творится неподобное. Я вынужден доложить об этом директору.
В а н в и л ь. Но позвольте, Мартин Степанович…
Пилецкий-инспектор и Ванвиль уходят. Из-за доски выходит И л л и ч е в с к и й и переворачивает доску. На ней нарисована известная карикатура Илличевского: лицеисты, сидящие в лодке, багром вытаскивают Кюхлю из воды. Внизу надпись:
Потопление К.
Клит бросился в реку,
Поплачьте о поэте!
И л л и ч е в с к и й. Мудрецы! Разве не украсит наш журнал это новое произведение лицейской музы?
Т е м н о
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
НОЧНЫЕ ПОЛУШЕПОТЫ
Поздний вечер. Железная кровать, комод, конторка, стул перед ней. Стол для умывания. Решетка в верхней половине двери, через которую виден освещенный ночником коридор. В этой коморе (нумер четырнадцатый) живет лицеист Александр Пушкин. А через стену, в точно такой же коморе (нумер тринадцатый), — лицеист И в а н П у щ и н. Лунный свет льется в окно. П у ш к и н полусидит на кровати, на полу чернильница, на «оленях тетрадка. Видно, как по коридору проходит хромоногий дядька-надзиратель З е р н о в.
З е р н о в. На исходе десятый час! Спать! Спать!
(Движется свет ночника, фигура дядьки уходит дальше, голос глуше.) Тушите свечки! Спать!
И — тишина.
П у ш к и н
(то грызет перо, то пишет, то бормочет).
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый,
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой…
П у щ и н
(стучит в стенку). Ты что гудишь?
П у ш к и н. Стихи.
(Читает громче.)
То на конце аллеи темной
Вечерней тихою порой,
Одну, в задумчивости томной,
Тебя я вижу пред собой…
Жано, любил ли ты когда-нибудь? И так, чтоб образ ее неотступно следовал за тобой, томя сердце…
П у щ и н. Любил? А ты!
(Удивленный, сел.) Терпеть не могу девчонок.
П у ш к и н. О! Это было несколько лет тому назад. Давно. Ее звали Софьей.
П у щ и н. Давно?
П у ш к и н. Еще в Москве. В Харитоньевском переулке.
П у щ и н. Позволь, а сколько же тебе было лет?
П у ш к и н. Мне?
П у щ и н. Могу представить. Но — ей?
П у ш к и н. Она была немногим младше меня. Ей было тогда пять лет.
П у щ и н. Пять лет?
П у ш к и н. Да, да.
Одну в задумчивости томной
Вечерней тихою порой…
П у щ и н. Ну вот, теперь еще решил изображать влюбленного и роковую страсть на всю жизнь?
П у ш к и н
(мечтательно). В ту пору я любил гулять, воображая себя богатырем, расхаживая по саду и палкой сбивая верхушки растений…
П у щ и н. Ну тебя…
П у ш к и н
(отбросив перо, некоторое время лежит молча, положив руки под голову и глядя в потолок, потом стучит в стенку). Жано, ты спишь?
П у щ и н. Нет.
П у ш к и н. Завидую Горчакову. Ах, Жано! Я должен признаться. В самом деле — блестящ, красив, богат! Впереди — какая жизнь! В алмазных звездах, в беспрестанной славе возвышенный!..
(С живостью сел.) Ну, представь себе!
П у щ и н. Вот ведь экая пустота заводится иной раз у тебя в голове.
П у ш к и н. А ты вообрази! Крутить усы, бренчать шпорами…
(Приложившись к стенке, шепотом.) Хочу быть гусаром! Люблю блеск, Пущин!
П у щ и н. Уж как тебе пристало!
П у ш к и н
(вздохнул). Правда, правда. Я большой ветреник. Даже чересчур.
(Совсем тихо.) И притом настоящая обезьяна с виду…
Молчание.
Тщеславие мое, тщеславие!
П у щ и н. Это, брат, дурно.
П у ш к и н. А как избавиться? Я завидую даже Илличевскому, хотя знаю, что рифмы его ничего не стоят, но как ему легко дается! А я грызу перо, грызу,
грызу, и вижу картины громадные, и мучаюсь. Олося — что?.. Что Илличевский! Разве он может? А длинный Кюхля со своими Копштоками…
П у щ и н
(сел). Вот, вот! Кюхля. И что за сердце у тебя! Как с писаной торбой носишься с самим собой, видишь громадные картины, а того не видишь, как человек страдает, как его обидели нещадно!
П у ш к и н
(упавшим голосом). Ты про Кюхлю?
П у щ и н. Как трудно ему. Юстина Яковлевна, мать его, живет в бедности, отец умер от чахотки. Я сам читал ее письма. В них она умоляет Кюхлю как можно лучше учиться, чтобы, окончив лицей, поступить наконец в должность. Умоляет быть бережливым. А он пишет стихи, бредит подвигами, негодует на несправедливости, готов последнее отдать, и сердце у него смелое и бесстрашное, и он совершит! А ты чучелу из него сделал! Чучелу!
П у ш к и н
(уткнувшись в подушку). И прекрасно… И чудно… Вот и не связывайся со мной…
П у щ и н. Эх, ты… Смеяться-то легко. А он лежит в лазарете, один, и что у него в душе делается, подумал?
П у ш к и н
(вскочил). Помолчи. Я сейчас к нему пойду.
П у щ и н. Зернов перехватит тебя в коридоре, двух шагов не сделаешь.
П у ш к и н. А это?
(Стучит рублем.) С ним-то я управлюсь.
П у щ и н. Не ровен час, сатана с крестом припустится в ночной дозор.
П у ш к и н. Авось нет.
(Закутывается в простыню, осторожно отворяет дверь и исчезает.)
П у щ и н. Ах, голова! Да он же без меня пропадет!
(Закутывается в простыню и тоже выходит.)
Некоторое время никого нет. Потом загорается, приближаясь, фонарь. В комору Пушкина входят П и л е ц к и й - и н с п е к т о р, П и л е ц к и й - г у в е р н е р и испуганный дядька-надзиратель З е р н о в.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Господин Пушкин!
(Подходит к кровати, сдергивает одеяло — никого.)
Зернов. Светопреставление! Да был же, только что был! Я неотлучно в коридоре.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Исчез яко дым? Растворился? А что это у тебя упало? Рубль?
З е р н о в. Мартын Степанович! Свят, свят! Не видал, не слышал, не знал, не ведал…
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Немедленно сыскать и без него не возвращаться!
Поспешно крестясь, Зернов уходит.
Разврат.
(Повернулся к Пилецкому-гувернеру.) Где бдительное око, где оно? Плохо следишь. Следить морально — не значит поставить дядьку на ночной дозор и успокоиться на том. Следить морально — значит следить неусыпно, вникая в состояние души опекаемого, даже когда она в бездействии, в молчании. Примечать тайные помыслы, предупреждать соблазны, обличать притворства, хитрость, сокровенные намерения! Особенно — Пушкин. В нем сердца нет. Он испорчен дурным воспитанием легкомысленного родителя. Следить за ним морально — значит сломить его волю, подчинить, зажать…
Возвращается З е р н о в.
З е р н о в. Их не обнаружено. Но… его превосходительство, господин директор, отослал меня к вам самолично и повелел, чтобы вы немедля явились к нему, поелику вести получены чрезвычайные…
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Спаси боже…
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Помилуй мя, господи…
(Торопливо уходит.)
Т е м н о
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
НА РАССВЕТЕ ПОСЛЕ 29 ИЮНЯ 1812 ГОДА…
Лазарет. Стоит несколько кроватей, но только одна занята. Это лежит К ю х е л ь б е к е р. Он лежит на спине и смотрит в потолок.
К ю х е л ь б е к е р
(монотонно).
Из круч сверкнул зубатый пламень,
По своду неба гром пробег.
Взревела буря — чолн о камень,
Яряся, океан изверг…
Дверь приоткрывается. Возникает закутанная в простыню ф и г у р а и останавливается, освещенная лунным светом.
К ю х е л ь б е к е р
(в ужасе приподнимается). Кто там? Кто это?
Фигура стремительно бросается к нему. Это — П у ш к и н.
П у ш к и н. Прости меня.
К ю х е л ь б е к е р. Как же пробрался-то? А мокрица, а сатана с крестом, а хромоногий стражник?
П у ш к и н. Пустое, пустое… Нет, ты скажи, простил ли ты?
К ю х е л ь б е к е р. Ах, Пушкин…
Сидят, прижавшись друг к другу, растроганные.
П у ш к и н. Я сам себе несносен. Побей меня, Виленька, побей, ей-богу, побей…
К ю х е л ь б е к е р. Пора мне привыкать к тому, что чадо мной всегда смеются. Так повелося с детства. А в лицее за один только год насочиняли на меня тридцать четыре эпиграммы…
П у ш к и н. Дурацкие, поверь, дурацкие.
К ю х е л ь б е к е р. Люди, которые знают только одну мою наружность, не знают меня.
П у ш к и н. Я тоже страдаю. Обезьяна.
К ю х е л ь б е к е р. Волнения и сотрясения нужны поэту. Но ты… Ты, брат, по-моему, самый красивый человек. И я не от наружности страдаю. Я страдаю оттого, что ты смеешься надо мною. Илличевский пусть! Что над моими стихами т ы смеешься, а я…
П у ш к и н. Уверяю тебя, Вилли, твои стихи не так дурны, ей-богу, не так дурны, слог иногда хромает. Но есть стихоплет граф Хвостов, так ты перед ним гений. Вот он какой сложил стишок.
(Прыснул, потом читает.)
Павлиньим гласом петь толико неспособно —
Как розами клопу запахнуть неудобно.
(Хохочет, щекоча Кюхельбекера.)
К ю х е л ь б е к е р. Постой, постой!
(Скинул одеяло и, вытянув руку, встал во весь рост на кровати — длинный, как Дон-Кихот.) Гомер! Я спрашиваю, возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни Трои и греков? Может, я не смогу, может, у меня не хватит таланта, страсти, пламени, но все равно — вот я какой поэт! Громовержец.
(Вытаскивает из-под матраца огромную тетрадь.)
Кипящими волнами
Пловца на дикий брег
Выбрасывает…
П у ш к и н. Только умоляю тебя, Вилли, не читай, а то я не выдержу. И произойдет дуэль.
Входит П у щ и н.
П у щ и н. Уймись, уймись, ты же болен, Кюхля.
Кюхельбекер насупился, но покорно лег.
Будь паинькой. Молодец. Что сказал доктор?
К ю х е л ь б е к е р. Он сказал, что я болен головокружением.
П у щ и н. И поставил клистир?
К ю х е л ь б е к е р. Поставил.
П у щ и н. Вот и лежи, лежи.
Появляется И л л и ч е в с к и й, за ним Я к о в л е в.
Я к о в л е в. Тише, тише, тише, мудрецы.
К ю х е л ь б е к е р. Паяс?.. Олосенька?..
И л л и ч е в с к и й. Я, я. Даже Дельвигу не спится, истинный крест!
Входит Д е л ь в и г.
Д е л ь в и г. А я выспался на математическом классе.
(Кюхельбекеру.) Возьми яблоко.
С поздним месяца восходом,
Легким светлым хороводом
В цепь воздушную свились,
Друг за другом понеслись…
К ю х е л ь б е к е р
(сидит, окруженный друзьями, и ест яблоко). Но как же вы принеслись сюда?
Я к о в л е в. Несчастный Клит! А чувства наши?
(Начинает напевать, и к нему присоединяются другие.)
Ах, тошно нам,
Что же делать нам?
Всё не мило,
Всё постыло,
Если Кюхли с нами нет!
В с е.
Мы — нули, мы — нули,
Ай, люли, люли, люли.
Я к о в л е в. Тсс! Кто-то идет!
Все отбегают и стоят, прижавшись к стене. Входит доктор Ф р а н ц О с и п о в и ч П е ш е л ь. Он сразу замечает всех лицеистов. Они стоят не шелохнувшись.
П е ш е л ь. Я вас не вижу, господа! Вас здесь нет.
(Подходит к Кюхельбекеру.) Как вы себя чувствуете, господин Кюхельбекер? Ах, господин Кюхельбекер! Главное — спокойствие! Ничему не удивляться. Нон квалитас сэд квантитас.
(Сел и закрыл лицо руками.)
К ю х е л ь б е к е р. Доктор, что с вами? Франц Осипович?
П е ш е л ь. Стряслась беда, господа. Не скрою, не скрою… В ночь с двадцать второго на двадцать третье июня Наполеон без объявления войны перешел Неман и вторгся в земли наши. Сегодня гвардия уходит из Царского Села…
П у щ и н. Война?
П е ш е л ь. Война! Но как воевать? Как воевать? Кругом казнокрадство. Где полководцы наши? Государь — ах, боже мой! Он молод. Он только замышляет казаться полководцем! Поражение под Аустерлицем мы помним, помним. Так кто же? Аракчеев? Он страшен, но не на поле брани. Кто не знает, что он хотя и артиллерист, но пуще всего боится выстрелов.
П у ш к и н. Не смейте так говорить! Россия победит!
П е ш е л ь. С кем, мальчик, с кем? Кто поведет полки? Карл Людвиг Пфуль? Бенигсен? Армфель? Вольцоген? Паулуччи, беглец из Сардинии? Штейн, беглый прусский министр? А ведь они, они главные советчики, государев штаб…
П у щ и н. Жив Кутузов, на нем светится слава Суворова!
П е ш е л ь. О нет! Кутузова ненавидит государь! Ненавидит Аракчеев. И Пфуль, и Армфель, и Вольцоген, и Паулуччи! Нет, нет, его не допустят. Он сторожит сейчас турок в Молдавии и будет сторожить!
Возникает издали, еще глухо, барабанная дробь.
П е ш е л ь. Уже пылают наши города… Дети! Горит русская земля!
Дробь барабанов приближается. И запели военные флейты.
П у ш к и н
(первым бросается к окну). Измайловцы идут! Я узнаю их флейты.
Окно распахнуто. Лицеисты у окна. Музыка.
П е ш е л ь. Погибла Россия.
Я к о в л е в
(стал на подоконник). Измайловцы с серебряными трубами! А вот и медные кивера павловцев! Идут!
Гремит музыка.
П у ш к и н. Ах, Пущин, мы бедные заключенники Царского Села! Здесь ли, здесь ли сейчас нам быть?
П у щ и н. Умрем за отечество!
К ю х е л ь б е к е р. В армию, в армию, только в армию, все как один.
Я к о в л е в. Да здравствует лицейская рота бесстрашных лазутчиков!
Д е л ь в и г. В леса! Под звуки труб! В леса! В леса!
В дверях К у н и ц ы н.
К у н и ц ы н. Друзья мои, мы выдержим это испытание! Позор народам Европы. Они повергли к стопам Наполеона свои мечи… Но запомните, юноши, — Россия наша возродится в военном огне и в военной славе! Готовьтесь стать достойными возносителями ее! Пушкин, позабудьте беспечность! Кюхельбекер, не давайте воли мнимой гордости! Дельвиг, сокрушите леность. Яковлев, не оставляя веселья, подумайте о назначении своем. Пущин, не бойтесь чувств и во много крат больше тревожьте мысль. Илличевский, задумайтесь о великом, а не о чистописании! Вы — граждане. Вы — граждане! Вы — сыны будущего великой Отчизны нашей!
З а н а в е с
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КАРТИНА ПЯТАЯ
ВОЙНА
Они сидят за своими столами-конторками. Они ждут начала урока. На них вместо синих сюртучков — серые, вместо белых панталон — серые, статского покроя, со штрипкой.
И оттого, быть может, все выглядит тускло, блекло.
Д е л ь в и г углубился в газету, К ю х е л ь б е к е р неподвижно уставился в военную карту, на которой расставлены флажки. И л л и ч е в с к и й что-то старательно переписывает. Г о р ч а к о в вполголоса читает письмо П у ш к и н у. Тишину иногда нарушает звук чугунной трещотки, доносящийся из парка.
П у ш к и н
(прислушиваясь). Кажется, гуляет.
Г о р ч а к о в. Нет, еще рано. Слушай дальше.
(Продолжает читать письмо.) «Страшные картины бегства нашего из Москвы до сих пор стоят перед глазами. Сёла мертвые. Имения горят. Мужики, вооруженные чем попало, бродят в лесах, и неизвестно, кого пуще бояться — их или французов. А здесь, в Казани, нашли мы почти всю Москву. Дух единодушного патриотизма, несмотря ни на что, объединяет нас всех. Дамы отказались от французского языка. Многие из них оделись в сарафаны, надели кокошники и вышитые повязки…»
П у ш к и н. Экие проворные перемены! Мой родитель, наверно, тоже не отстает!
(Дельвигу.) А что вычитал в ведомостях?
Д е л ь в и г. Благополучие и торжество. В реляциях сообщается: отряд донских казаков захватил десять пленных и лихим ударом выбил французов из селения Повилики. Не менее лихим ударом кирасиры разгромили батарею противника и захватили одну пушку.
К ю х е л ь б е к е р. А Москва горит…
Г о р ч а к о в. Вот! Чем ваш хваленый Кутузов отличается от Барклая? Сменил его и отступает? Сжег Москву!
И л л и ч е в с к и й. Кутузов — герой, а Барклай-де-Толли — шпион. Теперь все так думают.
К ю х е л ь б е к е р. А ты, как все, рад заклеймить…
И л л и ч е в с к и й. Конечно, шпион! Бежал от Немана до Бородина. Болтай, да и только!
К ю х е л ь б е к е р. Горит… А может, так и надо, что горит?
Г о р ч а к о в. Слухи, что сам Кутузов велел поджечь.
И л л и ч е в с к и й. Затыкаю уши.
П у ш к и н
(юркнул к своей конторке, сел, поджав ногу под себя, торопливо достал тетрадку, Илличевскому мимоходом). По-твоему, и Сперанский шпион?
(И уткнулся в тетрадь.)
И л л и ч е в с к и й. Непременно так. Раз его схватили и ночью увезли и он исчез неизвестно куда, — значит, шпион. Теперь кругом шпионы. Шпионы и шпионы. Это все говорят.
К ю х е л ь б е к е р. Горит…
Появляется Я к о в л е в.
Я к о в л е в. Мудрецы! Положение на кухне ужасное. Опять кашица на первое и на второе. Наш почтеннейший Иван Иванович хотя и служил некогда Суворову, но кашицу разболтал пополам с водой, так что подтяните животы. Мужайтесь: вас ждет кашица пумфле!
И пирожки с капустой,
Позвольте доложить!
Они немного кислы,
Позвольте доложить.
Л и ц е и с т ы
(подхватывают, стуча по конторкам).
Вера, Надежда и Любовь,
Свекла, капуста и морковь…
Пушкин сосредоточен над своей тетрадью, впился в ногти. Появляется дядька-надзиратель З е р н о в. Он спешит, припадая на хромую ногу больше обыкновенного.
(Еще громче стучат.)
Только вижу одну жижу,
И ту ненавижу…
З е р н о в. Прекратите пение, прекратите шум! Возвещено! На прогулку вышел государь император!
Пение смолкает, Зернов спешит дальше. Слышны звуки чугунной трещотки. Тотчас, спиной к окну, со стороны парка вырастают фигуры двух часовых — два красных кавалергарда…
Я к о в л е в
(шепотом). Гуляет! Уж я-то знаю! Почему гремят трещотки камер-пажей? Чтобы никто не встретился! Он пробирается к флигелю коменданта — к комендантской дочке…
Г о р ч а к о в. Не смей продолжать! Как у тебя язык повернулся!
Я к о в л е в. А я знаю!
Г о р ч а к о в. Что ты можешь знать о нем? О его высших целях? На его плечах, как тяжкий камень, все бедствия России. Он ищет уединения для мыслей.
Я к о в л е в
(балетно двигается, имитируя развинченную походку). Для мыслей… Не более как для мыслей…
Г о р ч а к о в
(вскочил). В своей шутовской разнузданности ты докатился до того, что и его стал передразнивать?!
П у щ и н. А ты? Смеешь?
Г о р ч а к о в. Я?..
П у щ и н. Да, ты. Височки зализываешь на государев манер, походку строишь… Паяс тебя передразнивает!
Я к о в л е в. И наградите, ваше сиятельство, и вы, господа, бедного паяса хоть бы кашицею-пумфле от своего обеда!
Общий хохот.
З е р н о в
(высовывается). Возвещено! Тише!
В с е
(благопристойно поют). Коль славен наш господь в Сионе…
Входит К у н и ц ы н. Не прерывая пения, он стоит молча до того момента, пока кавалергарды не опускают ружей и не отходят от окна. Все увидели Куницына, встают, тишина.
К у н и ц ы н. Итак, господа, в прошлый раз мы остановились на том, что время всегда есть начало и источник непременного обновления жизни…
Он говорит это, расхаживая по классу, а Пушкин, не слушая, надул губы, корпит над бумагой.
П у ш к и н
(бормочет, записывает). Края Москвы… Края родные… И на заре цветущих лет…
К у н и ц ы н
(продолжая). Никакое правительство, с духом времени несообразное, устоять не может. И ненадолго хватит у него средств навязывать народу идеи и формы власти, уже открывшие свою историческую несостоятельность…
П у ш к и н
(одновременно с лекцией Куницына). Беспечных лет… Беспечные часы… Не знал ни горести, ни бед…
(Заметил, что Куницын приближается к нему, быстро закрыл тетрадь и что-то быстро написал на листке и положил сверху.)
К у н и ц ы н
(подошел вплотную). О чем изволили задуматься?
(Берет листок.) Разрешите?
П у ш к и н
(вспыхнул, вскочил). Прошу.
К у н и ц ы н
(читает).
Я стану петь, что в голову придется,
Пусть как-нибудь стих за стихом польется…
Не убежден, что это хорошие стихи.
П у ш к и н
(с вызовом). А это еще не стихи!
К у н и ц ы н. Но как же все-таки без мыслей?
П у ш к и н. Лучше без мыслей, чем с дозволения начальства.
К у н и ц ы н. А если без начальства, то о чем бы писали?
П у ш к и н. Лучше пустая легкость французов, нежели фальшивая напыщенность иных наших стихоплетов.
К у н и ц ы н. Ого! Ну, коли так, то вам бы надобно знать, что написал один из почитаемых вами поэтов. Пока поруган врагами древний город моих отцов, — кажется, он так написал, — пока на поле чести решается судьба моей родины…
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы…
П у ш к и н
(закусил губу). Знаю. Это Батюшков.
К у н и ц ы н. Да, Батюшков. И он ненамного вас старше.
(Отошел от Пушкина.) Продолжим наши мысли. Вот непреложный ход истории. Вторжение Бонапарта вызвало народную бурю, бедствия громадные, но я верю в очистительную силу этой бури! Народ встал на защиту своего отечества! Недавно в «Ведомостях» я прочитал про крестьянина, который попал в плен, и французы положили клеймо на его руку. Он спросил, для чего его заклеймили? Ему ответили — в знак вступления на службу Бонапарту. Тогда крестьянин выхватил из-за пояса топор и отсек себе клейменую руку.
П у ш к и н. Отсек?
К у н и ц ы н. Это не единственный случай. Вся Россия дышит подвигом!
Вбегает доктор П е ш е л ь.
П е ш е л ь. Где эконом Эйлер? Где эконом Камаращ? Жулики!
К у н и ц ы н. Что случилось, Франц Осипович?!
П е ш е л ь. Недодадено! Булок недодадено! Кто следит за рационом? Я слежу за рационом, я отвечаю! А кругом воруют, разворовывают! Ах, лиходеи! Кому война, а кому раздолье карманы набивать! Александр Петрович, вот уже и сил нет! Прошу прощения, что ворвался, но что же делать?
К ю х е л ь б е к е р
(громоподобно). Колесовать, повесить, расстрелять!
П е ш е л ь. Ах, боже мой! Ведь на глазах моих воруют!
(Убежал.)
Г о р ч а к о в
(иронически). Прекрасно, дышим подвигами…
К у н и ц ы н. Да, подвигами! Но надобно постигнуть, господин Горчаков: власть тираническая порождает не только робость в умах и страх перед свободным словом, она порождает умолчание преступлений, взрыхляет почву для подлости и клеветы, казнокрадства и лихоимства. Французский народ сверг тиранию. А что сделал Бонапарт, возвысившийся на революции? Подобно Октавию, он оставил наружные формы республики и присвоил себе неограниченную власть! Во имя чего? Во имя ненасытного честолюбия. Такую власть назову я наихудшим тиранством. Она лицемерна, и она употреблена не для блага государства, не для блага подданных…
П у щ и н. …а на цели своекорыстные и возбуждающие одну лишь ненависть!
К у н и ц ы н. Так. Кто же в этом случае есть гражданин, предназначенный к благородной службе государству и обществу?
К ю х е л ь б е к е р. Тираносвергатель!
В дверях уже давно черной тенью стоит П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Его не замечают. Общий шум.
Рим возвысился небывало, а погиб от чего? От рабства он погиб! От самовластителей!
И л л и ч е в с к и й. Про Рим мы проходили, но нам было говорено другое.
П у ш к и н. Кто мы? Студенты или школьники? Нам должны открыть мнения противоположные, дать права критики. Иначе мы попадем под иго самого страшного тиранства — тиранства умственного!.. Я не желаю думать, как велят!
Возбуждение достигает предела. Все окружили Куницына. Илличевский первый замечает Пилецкого, толкает Пушкина, Кюхельбекера, Пущина.
И л л и ч е в с к и й
(шепотом). Мокрица!
Смолкает шум. Все повертываются к Пилецкому. Он нажимает кнопку брегета, часы мелодично отмечают время.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р (тихо, вкрадчиво). Ваш урок окончен, Александр Петрович. И теперь я пришел побеседовать с нашими воспитанниками. Эти книги, господа, я собрал в столовой. «Сын отечества», «Вестник Европы». Похвально, что читаете. Но я неоднократно говорил. Столовая есть столовая. Библиотека есть библиотека. В столовой обедают и ужинают, в библиотеке беседы тихие, чтение и размышление досугов…
Д е л ь в и г. Дайте книги, я их отнесу в библиотеку! Это мои книги.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р
(грустно). Я их сам отнесу, Дельвиг-господин.
П у ш к и н. А мы не просим!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Я не для того пришел. Я пришел побеседовать с вами о направлении мыслей ваших…
К ю х е л ь б е к е р. Наших мыслей вы знать не можете!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. У меня опускаются руки. В тетрадях господина Кюхельбекера, поименованных «Лексиконом», содержатся выписки. Откуда? Из книг каких? Чья рука не дрогнула написать: «Для гражданина самодержавная власть есть дикий поток, опустошающий права его…»?
П у ш к и н. Как вы смеете брать наши бумаги? Стало быть, и письма наши из ящика будете брать?
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Счастье ваше, господа, что я увидел, а не другой увидел…
И л л и ч е в с к и й. А нам бояться нечего. Теперь о свободе все говорят.
П у ш к и н. Не смеете брать наших бумаг!
К ю х е л ь б е к е р. Смотреть в наши тетради, читать письма!
Г о р ч а к о в. Я видел, как вы читали мои письма!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Господин Горчаков! И вы тоже присоединяете свой голос?..
Г о р ч а к о в. Присоединяю! Шпионство в стенах императорского лицея оскорбительно, более того — унизительно для нас!
П у щ и н. И допущено более быть не может!
Я к о в л е в
(вежливо). Простите, ради бога, за откровенность, Мартин Степанович, но все мы тут имеем честь ненавидеть вас с первого дня.
П у ш к и н. И нынче видим одно решение — или вы сами покинете лицей, или никто из нас не останется здесь!
Д е л ь в и г
(демонстративно надевая очки). А я по собственному уполномочию заявляю: вы надоели мне пуще всего на свете!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Это же армия богохульных дьяволов! Господи Иисусе Христе! Лицей! Любимое детище государя! Лучше бы глаза мои не видели, уши не слышали… Александр Петрович! Мы — коллеги! Скажите им! Хоть слово скажите!..
К у н и ц ы н. Я ничего не скажу, Мартин Степанович.
Г о р ч а к о в
(подходит к Пилецкому-инспектору). Извольте решать. В противном случае мы объявляем графу Александру Кирилловичу Разумовскому, министру нашему: вы или мы.
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Язык онемел… Александр Петрович! Ведь это же бунт!
К у н и ц ы н. Побойтесь бога! Какие страшные слова!
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Бунт! Бунт!
К у н и ц ы н. Вы не заметили, Мартин Степанович: юноши взрослыми стали. И они не боятся вас больше. Только и всего.
(Помолчав.) Однако…
(Выразительно смотрит на Пилецкого.)
П и л е ц к и й - и н с п е к т о р. Хорошо, господа, уйду — я.
Повернулся и пошел к двери. Дверь захлопнулась за ним. И сразу все зашумели.
П у щ и н. Горчаков! Руку!
Г о р ч а к о в. Я возмущен не меньше твоего! Как посмели назначить эту мокрицу столь низкого воспитания к нам! И он еще смеет рассуждать — с кем? Со мной! С князем Горчаковым!..
Я к о в л е в. Ох, душенька, мы давно знаем, что ты ведешь свой род от Ярослава Мудрого, но не в этом суть…
Г о р ч а к о в. Суть в том…
К у н и ц ы н. Суть в том, что перед графом Александром Кирилловичем ответ держать буду я.
В с е. Конец мокрице! Ура!
Я к о в л е в
(вскочив на стол). Мудрецы! Сия победа будет записана в анналах лицея, как небывалое торжество лицейского духа!
В с е. Ура! Ура!
Г о р ч а к о в. А что он мог? Он понял сразу: да ведь я сам бы пошел к графу!
И л л и ч е в с к и й. Он пошел бы! А я не пошел бы?
(Возбужденно показывает на лицеистов.) А он не пошел бы? А он не пошел бы?..
К ю х е л ь б е к е р. Оставьте распри! Согласие да воцарит! Мы прогнали Пилецкого!
П у ш к и н. Да здравствует лицейская республика!
В с е (поют).
В лицейской зале тишина,
Случилось чудо с нами:
К нам не полезет сатана
С лакрицей за зубами!..
К у н и ц ы н
(тихо). Не было бы хуже, вот только не было бы хуже…
Т е м н о
КАРТИНА ШЕСТАЯ
И ЕЩЕ НОЧНЫЕ ПОЛУШЕПОТЫ…
Ночь. Коморы тринадцатая и четырнадцатая.
П у ш к и н и П у щ и н.
П у ш к и н.
…Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
И вы их видели, врагов моей отчизны,
И вас багрила кровь и пламень пожирал…
А я ничего не принес в жертву. Я только пылал гневом. Я только мечтал быть там! Жано! Нужна ода, Жано! Ты спишь?
П у щ и н. Нет. Я думаю о нашей лицейской республике. Как все вышло!
П у ш к и н
(о своем). Нужна торжественная ода!
(Подбежал к окну.) Да, Жано, да…
(Смотрит в окно.)
П у щ и н
(тоже о своем). Мокрица настрочит донос на Куницына. Уж он настрочит!.. Но нет, нет, сейчас не те времена…
П у ш к и н
(про себя). И в жертву не принес я мщенья вам и жизни… Напрасно гневом дух пылал… Жано!
П у щ и н. А?
П у ш к и н. Ты выходил когда-нибудь в парк ночью?
П у щ и н. Нет. А что?
П у ш к и н. Погляди в окно, прислушайся к ветру! За нашим окном шумит история. В ночи мне видится Петр. Полтава, Бородино… И далее… вообрази… пронесись над пространствами! Без конца-краю — нивы, рощи, обугленные пожарищами, сожженные города, села… И русский мужик, отрубающий клейменую руку, дабы не служить иноземцу-завоевателю!.. Сам в цепях рабства, а встает, как освободитель от тиранства!
П у щ и н. Отечество наградит его долгожданной свободой. Кончится война, и все будет по-другому. Куницын прав. Мы накануне великих перемен. Ты веришь в это?
П у ш к и н. Верю. А ты?
П у щ и н. Верю. Иначе — как жить?.. Ну, спи, спи… а то от мыслей у меня голова лопается…
Молчание. Пушкин сидит на постели с ногами, покачиваясь, как бронзовый идол.
П у ш к и н. Жано!
Молчание.
Ты хочешь есть, Жано?
П у щ и н. М-м-м… Лучше и не говори об этом…
П у ш к и н
(тяжело вздыхает).
Дороже мне хороший ужин
Философов трех целых дюжин…
Хочу есть… Хочу есть… Жано, ты слушаешь? Я знаю твердо! И слова нужны возвышенные! Вот какая будет ода! Пусть будет и «нощь» и «изрывши кладези», как Кошанский требует! Как медь Державина должен быть стих! Старомодность придаст ему торжественный лад, необыкновенный! Но мысли, но чувства…
П у щ и н
(о своем). Мы утвердим справедливость… И восторжествует свобода!..
П у ш к и н
(тоже о своем). Понимаешь… чтобы в каждом слове, в каждом звуке выразить то, что вздымает нас всех, от чего колотится сердце у тебя, у меня, у каждого русского!.. Ты слышишь, Жано? Ты не спишь?
П у щ и н. Ах, Пушкин! Скорее бы кончить лицей… чтобы броситься в жизнь… с головой… в самое пекло жизни…
П у ш к и н
(вскочил, стоит на постели).
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад,
Летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены…
Дверь распахивается. Появляется длинный К ю х л я в ночном белье и в белом колпаке.
К ю х е л ь б е к е р. Ты не спишь?..
П у щ и н
(прильнувший к стенке, отделяющей его от коморы Пушкина). Тшш…
Но Кюхельбекер и без этого возгласа замер, слушая.
П у ш к и н.
Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья,
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь!..
(Смолк.)
К ю х е л ь б е к е р
(шепотом). Пушкин! Слушай, Пушкин! Наполеон оставил Москву!
И они бросились в объятья друг к другу. Пущин изо всех сил колотит в стенку.
КАРТИНА СЕДЬМАЯ
НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Еще в темноте троекратно грянули пушки.
Беседка «Грибок» в лицейском парке. Парк иллюминирован. Доносится музыка: оркестр играет тирольский вальс. Появляется Б а к у н и н а Е к а т е р и н а П а в л о в н а, фрейлина, тоненькая, легкая девушка лет двадцати. С ней О л о с я И л л и ч е в с к и й и д в а г у с а р а с непроницаемыми лицами надменных дуэлянтов. Бакунина только что танцевала, она еще разгорячена, обмахивается веером.
И л л и ч е в с к и й
(продолжая). Нынче все упражняются в торжественном роде, и многие весьма удачно. Я тоже упражняюсь. Сочинил оду «На взятие Парижа».
Б а к у н и н а. Я люблю в торжественном роде. И сами написали? Прочитайте. Это, наверно, так интересно…
Ушли. Из-за «Грибка» показываются П у ш к и н и Д е л ь в и г.
П у ш к и н
(восторженным шепотом). Она!
Г о р ч а к о в
(выскакивает, вальсируя). Пушкин! Ах, что за бал! Какие гусары! Какие дамы!
(Притворяясь залихватски пьяным.) Представь, я достал у хромоногого Зернова рому и выпил! Кружится голова! Полно видений! Идемте! Мудрецы! Мы раздобудем еще!
П у ш к и н
(в сторону ушедшей Бакуниной). Дельвиг! Он уже читает ей стихи!
Г о р ч а к о в. Идем, брат! Брось!
П у ш к и н
(в отчаянии). Руку! Где твой ром?
Г о р ч а к о в. И — по-гусарски. С гоголь-моголем!
П у ш к и н. По-гусарски! По-гусарски!
Уходят. Появляется К ю х е л ь б е к е р.
К ю х е л ь б е к е р. Она светла, как Ора! Она легка, как Ириса! У нее сапфировые глаза, льну подобные волосы! Воздух наполняется музыкой! И при одном взгляде ее…
Вбегает Г ю а р и устремляется к нему.
Г ю а р. Господин Кюхельбекер, я видел, вы не отдали своей даме даже трех должных реверансов. Это был менуэт, старинный менуэт, а вы взяли на себя самого ее вызвать, тогда как в менуэте право сие подобает даме…
К ю х е л ь б е к е р. Но она тогда бы выбрала не меня, а другого!
Г ю а р. Но ведь это же менуэт, ведь это же менуэт в старинном вкусе… Господин Кюхельбекер, я вас учил…
Уходит. Выходит К о ш а н с к и й. Он пьян. Садится на скамейку. Затем появляется П и л е ц к и й - г у в е р н е р и Ф р о л о в, отставной полковник в темно-зеленом артиллерийском мундире. (Ему лет пятьдесят, лицом апоплексически красен, говорит, как командует на плацу.)
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Еще предшественник ваш, брат мой Пилецкий-Урбанович, Мартин Степанович, инспектор-господин, отмечал с сокрушением — он к учению неспособен…
Ф р о л о в. Кто — он?
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Лицеист Пушкин. Воображение его испорчено мерзейшими произведениями легкомысленной литературы. В нем нет религии и почитания старших. А между тем наши процессоры одобрили его сочинение, и оно предназначено для чтения на переходном экзамене в присутствии особ. В присутствии графа Александра Кирилловича Разумовского и, быть может, самого министра юстиции Гаврилы Романовича Державина…
Ф р о л о в. Сочинение? Какое сочинение?
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(увидел Кошанского). А! Вот! Спросите! Профессор наш, профессор словесности Николай Федорович Кошанский.
(Кошанскому.) Николай Федорович! Э! Николай Федорович!
К о ш а н с к и й. Ась?
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Степан Степанович интересуется… Мне сказывали, что написанное Илличевским-господином и Кюхельбекером отвергнуто вами. И вы одобрили сочинение Пушкина-господина? Он выступит с одой? Поверить не могу! Не от вас ли я слыхивал касательно музы сего лицеиста…
К о ш а н с к и й. От меня. И я одобрил. Будет читать.
(Махнул рукой и отвернулся, еще более помрачнев.)
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(Фролову). Вы слышали? Господи Иисусе наш… Даже такие столпы отравлены лицейским ядом…
Ф р о л о в. Что за вздор! Одобрено начальником по словесной части, — значит, пусть читает! У меня — по-военному! В конце бала соберешь лицеистов — представлюсь.
(И зашагал.)
Пилецкий-гувернер поспешил за ним. В этот момент затрещали чугунные трещотки. Совсем близко. И спины д в у х к а в а л е р г а р д о в выросли в начале аллеи. Фролов и Кошанский замерли. Кажется, вот-вот появится император. Но трещотки удаляются. Фролов и Пилецкий на цыпочках уходят в противоположную сторону. Трещотки смолкли. Кошанский один. Взлетает фейерверк.
К о ш а н с к и й. О прекрасные, исчезнувшие времена! Примите меня под сень вашу! Не хочу видеть вас, светилы, рассыпающие звезды в небе! Их величие несносно для моих глаз. Уйди, луна!
Взявшись за руки, подскакивая, проходят П у ш к и н, Г о р ч а к о в и Д е л ь в и г. Они подтанцовывают и поют:
Мы — нули, мы — нули,
Ай, люли, люли, люли…
П у ш к и н. Ведите меня! Я должен быть ей представлен!
Д е л ь в и г
(оглянувшись на Кошанского). Тише.
Пушкин и Горчаков прячутся за «Грибок».
К о ш а н с к и й. Дельвиг, это вы?
Д е л ь в и г. Я, Николай Федорович.
К о ш а н с к и й. А Пушкин ушел?
Д е л ь в и г. Ушел.
К о ш а н с к и й. Он приплясывал козлом и пел дурацкие куплеты. Непостижимо! Как может ветреник сочинять оды? Что за поэзия рождается? Где я? Перевернулся мир!
Д е л ь в и г. Если он еще и не перевернулся, то по всему видать, что скоро перевернется.
К о ш а н с к и й.
От сердца вылился божественный мой стих,
В вине бо зрел поэт отраду дней своих.
Нет, прочь стихи! Сделан приговор над судьбой моей! Умерла поэзия, которой поклонялся, умерла…
Закрыл лицо руками и, пошатываясь, побрел. Дельвиг, подбежав, взял его под руку.
Д е л ь в и г. Но почему же умерла? Николай Федорович, вам ли это говорить? Изрывши кладези молодых душ, вы подняли стогны нашего пламени, и вот оно вырывается наружу, сжигая мусор допотопных времен…
Ушли. Появляются, продолжая прогулку, Б а к у н и н а, И л л и ч е в с к и й, д в а непроницаемых г у с а р а.
И л л и ч е в с к и й (декламирует).
Раздался гром — и повторенны
Ему катятся громы вслед.
Не се ли молнии священны
Благовестители побед?
Гремят по стогнам шумны клики…
Б а к у н и н а. Прелесть. Но… может быть, немного длинно?
Из-за «Грибка» появляются П у ш к и н и Г о р ч а к о в. Они подмигивают Илличевскому.
И л л и ч е в с к и й
(Бакуниной). Разрешите ли представить вам товарищей моих? Князь Горчаков, Пушкин.
Горчаков и Пушкин кланяются. Пушкин отходит чуть в сторону.
Г о р ч а к о в. Как понравился вам наш скромный бал?
Б а к у н и н а. Очень мило. Мне было весело.
Г о р ч а к о в. В войну устроили мы праздник по случаю Бородина. Поставили спектакль, но было скучно!
Б а к у н и н а. Я не была.
Г о р ч а к о в. Быть может, поэтому и было скучно.
Б а к у н и н а
(смеясь). Вы учтивы, князь, но я должна сказать вам, что многие из вас в манерах неуклюжи и столь неловки в танцах… Нет, нет, я говорю только о том высоком, длинном, с которым я танцевала менуэт.
Г о р ч а к о в. А! Вы танцевали с Кюхельбекером.
Б а к у н и н а. Он так меня кружил, что я едва опомнилась. А потом, вдруг подскочивши и не сказав ни слова, убежал.
Г о р ч а к о в. Быть может, мы, царскосельские отшельники, отвыкли в своем уединении от общества прекрасных дам. А наш учитель танцевания мсье Гюар несколько старомоден. Вы не находите ль, что преподанные им правила более напоминают прошлый век, чем согласны с нынешним?
Б а к у н и н а. Нет, я подумала, что господин Кюхельбекер танцует более по вдохновению, чем следуя правилам, даже старомодным. Но, говорят, он тоже сочиняет стихи?
Г о р ч а к о в. У нас немало стихотворцев. Наша муза лицейская богата. Вот — Пушкин, один из первейших ее служителей, и я скажу, что он соперничает с Илличевским.
И л л и ч е в с к и й
(скромно и с достоинством). Помилуй, брат…
Б а к у н и н а
(повернувшись к Пушкину). Тогда могу ли я попросить и вас написать мне в альбом, как это мне уже сделали…
(Взгляд в сторону Илличевского; тот почтительно наклоняет голову.)
П у ш к и н. Стишками я баловался в детстве, а ныне не занимаюсь. Занимаюсь небесными светилами и езжу верхом.
Г о р ч а к о в. Ты неучтив, Пушкин! Я не узнаю тебя! Уж коли Екатерина Павловна выразила желание, то не долг ли твой немедля броситься его выполнять?
П у ш к и н. Никак нет.
Б а к у н и н а
(делая реверанс). Прошу простить. Ах, сожалею, очень сожалею, что просьба моя столь вам несносна!
П у ш к и н. Прикажите другое. Выполню все.
Б а к у н и н а
(вдруг подбегая к нему). Все? Все? А если я вас попрошу…
(Смотрит на него. Пауза.) Вон там внизу, при выходе из парка, отсюда видно, на цепи сидит медведь…
И л л и ч е в с к и й. Нашего коменданта зверь.
Б а к у н и н а
(Пушкину). Подойдите к нему и передайте от меня вот эту шоколадную пастилку.
Никто не успевает опомниться, как Пушкин, выхватив конфету из рук Бакуниной, исчез.
Б а к у н и н а. Остановите его! Пушкин! Пушкин!
(Бежит к обрыву.) Боже! Он идет прямо на него… Я не могу смотреть…
(Отвернулась, зажмурив глаза.) Но говорите, говорите же, что там происходит?..
Г о р ч а к о в. Он подходит к нему. Медведь поднимает лапу.
Б а к у н и н а. Бог мой!
И л л и ч е в с к и й. Медведь ручной, уверяю вас, не бойтесь, все кончится хорошо.
Гусары выхватывают пистолеты.
Б а к у н и н а. Ах!..
Г о р ч а к о в. Он погладил его по голове! Медведь рычит.
Б а к у н и н а. Ой!
Г о р ч а к о в. Пушкин отскочил.
И л л и ч е в с к и й. Он споткнулся!..
Г о р ч а к о в. Нет, нет, он удержался. Смотрите, он отходит спокойно, не спеша.
Гусары прячут пистолеты. Появляется П у ш к и н. Бакунина подбегает к нему.
Б а к у н и н а. Сумасшедший человек, ведь я пошутила. Он мог вас убить! У вас разорван рукав. Ай! Кровь!
(Она останавливается.) Дайте руку.
(Перевязывает руку своим платком.) Не больно? Не туго?
П у ш к и н
(неотрывно смотрит на нее). Пустое, право же, пустое.
Б а к у н и н а. Сейчас же пойдете в лазарет. Пусть вам хорошенько промоют. Не болит, нет?
П у ш к и н. О, благодарю вас! Но я не до конца выполнил вашу просьбу. Я не отдал пастилки. Вот она. Я сохранил ее на память.
Б а к у н и н а
(тихо). Простите меня.
(И быстро уходит.)
Гусары и Илличевский следуют за ней. Гаснут фонари. Темнеет в парке. Пушкин один. Взлетает зарницей последний фейерверк.
П у ш к и н. Я счастлив был…
Появляется К ю х е л ь б е к е р, потом П у щ и н.
К ю х е л ь б е к е р. Завидую тебе, Пушкин. Мы видели все.
П у щ и н. Сумасбродство, черт знает что, однако же я… я поступил бы так же!
П у ш к и н. Как мила она! Жано!.. Впрочем, нет, ты этого не поймешь!..
К ю х е л ь б е к е р. Я пойму! Уж я-то пойму, Пушкин!
П у ш к и н. Ты? И ты?
П у щ и н. Я.
К ю х е л ь б е к е р. Бог мой! И он!
П у ш к и н
(восторженно). Какой прекрасный бал!
Вбегает Я к о в л е в.
Я к о в л е в. Бал кончился! Шепчетесь тут, вздыхаете… А все огни погасли. Мудрецы! Лицейской республике нашей настал конец!
П у щ и н. Что случилось?
Г о р ч а к о в. Не он, а я отвечу. Мне давно известно, что к нам назначен новый директор — Егор Антонович Энгельгардт, человек достойнейший, был секретарем магистра державного ордена святого Иоанна Иерусалимского, потом директором Педагогического института.
Я к о в л е в. Ну, а пока у нас будет — Фролов.
Г о р ч а к о в. Фролов. Кто такой Фролов?
Я к о в л е в. Ага, не знаешь! Кавалер ордена святыя Анны второй степени и святого Владимира четвертой степени, подполковник артиллерийский, мечет банк и, как боевой картежник, известен в Царском, в Павловске и в Гатчине…
П у щ и н. Он нам покажет республику.
К ю х е л ь б е к е р. Как можно стерпеть, чтобы солдафон и пьяница командовал нами!
Я к о в л е в. Не допустим пьяницу и картежника!
Г о р ч а к о в. Не шуми. Надо понять, что происходит. И не паясничать. Лицей — часть общих дел. Брожение в умах перешло границы. Сколь трудно государю! Нужна крепкая рука. А вы болтаете, болтаете. Вот и будет у вас этот артиллерист.
Появляется П и л е ц к и й - г у в е р н е р, с ним л и ц е и с т ы.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Прошу построиться, лицеисты-господа! Прошу стать смирно!
Входит Ф р о л о в.
Ф р о л о в. Здравия желаю, молодцы!
Л и ц е и с т ы. Честь имеем представиться, ваше высокоблагородие.
Ф р о л о в. Ай-ай-ай! Как стоите? Врассыпную. А надо? В ранжир. За обедом — как сидите? Врассыпную? А надо? В ранжир — по поведению!
П у ш к и н.
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.
Ф р о л о в. Ась?
П у ш к и н. Блажен муж, иже сидит к каше ближе.
Ф р о л о в. Ха-ха! В рифму, молодец! Я сам читал «Эмилию» Руссо.
К ю х е л ь б е к е р. У Руссо — Эмиль, а не
Эмилия.
Ф р о л о в. Женского или мужского полу — запамятовал. Литературу уважаю, но вам надлежит заниматься науками разными, и тем паче не забывать наук военных. На поприще будущего восхождения в чинах мы должны стремиться к кавалерии через плечо или на шею с бантом, но тем не менее маленькое анкураже и в лицее не помешает. Как с верховой ездой?
П у щ и н. Упущением начальства мало обучались, ваше высокоблагородие.
Ф р о л о в. Исправить. По соседству гусарский манеж. Полковник Крокшин возьмет в обучение. А инженер-подполковник Эльснер назначен к вам в преподавание дисциплин артиллерии, фортификации и тактики. Распорядок дня не меняется. Подъем в шесть. Однако же не выкриками возвещающих надзирателей, а — по звонку. Жалобы есть?
Я к о в л е в. Кашица беспримерно обезжирена и не удовлетворяет аппетит, ваше превосходительство.
Ф р о л о в
(гувернеру). Проверить. Доложить.
(Лицеистам.) Все?
Д е л ь в и г. Разрешите надеть очки, дабы возымел я возможность посмотреть на вас, ваше высокопревосходительство.
Ф р о л о в. Посмотрите. Однако же…
(Но тут, неудачно выдернув руку из кармана сюртука, он рассыпает колоду карт.)
Пилецкий-гувернер торопливо их собирает.
(Дельвигу, рассердясь.) И… нечего смотреть! Не поощряется во дворце! Спокойной ночи, господа!
Л и ц е и с т ы. Будем спать по ранжиру, вставать по звонку, без возвещения дядек, и заслужим анкураже, ваша честь.
Ф р о л о в. Хм. Блажен муж, иже он к каше ближе…
(Пушкину.) Фамилия?
П у ш к и н. Пушкин.
Ф р о л о в. Мусин?
П у ш к и н. Нет, просто Пушкин.
Ф р о л о в. Очень хорошо. Артиллерийская фамилия.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р
(на ухо Фролову). Тот самый, сочинение коего допущено к экзамену…
Ф р о л о в. А? Что? Блажен иже… Ха! Пусть читает!
Т е м н о
КАРТИНА ВОСЬМАЯ
«СТАРИК ДЕРЖАВИН НАС ЗАМЕТИЛ…»
8 января 1815 года. Экзамен. Луч прожектора выхватывает фигуру П у ш к и н а. Он в парадном мундире с поднятой рукой, с лицом, обращенным в сторону, где предполагается стол экзаменаторов.
Там — тьма. Пушкин пламенно декламирует.
П у ш к и н.
…Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжены.
Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья,
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь! За святость алтаря!..
Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца,
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая Творца!
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престает в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть срезают,
А с тыла гонит Россов меч!..
Постепенно фигура Пушкина уходит в темноту, хотя голос его не сразу пропадает, он еще слышен: «В Париже росс! Где факел мщенья…» и т. д. И так же постепенно начинает проявляться силуэт Д е р ж а в и н а. Он стар, вял, но вот он выпрямляется, словно оживает. И вот он стоит в луче света, торжественный, лицо в слезах.
Д е р ж а в и н. Я не умер. Чрез звуки лиры и трубы оживут подвиги, торжество свершений, красота деяний!.. Но время мое прошло, мальчики… Скоро, скоро явится миру новый Державин. Это — Пушкин.
Г о л о с П у ш к и н а.
О, скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй,
В кругу товарищей, с душой воспламененной
Греми на арфе золотой!..
Д е р ж а в и н. И все еще слышится, слышится мне его голос!.. Но где же он? Куда убежал?..
Т е м н о
КАРТИНА ДЕВЯТАЯ
НЕ ВРЕМЯ ПТИЦАМ ПЕТЬ
Парк. Беседка «Грибок». Глубокая осень. Сидят: П у ш к и н, П у щ и н, К ю х е л ь б е к е р, Д е л ь в и г, И л л и ч е в с к и й.
П у ш к и н. Нет, мои «Воспоминания в Царском» написаны холодно. Официальная муза. И ничего не видать за одряхлевшим слогом…
К ю х е л ь б е к е р. Одряхлевшим? Чей слог ты называешь одряхлевшим? Державина?
П у ш к и н. Он был моим богом! Но пойми, он поэт другого века. Вот Батюшков уже смеется над мнимой красотой трескучих звучаний:
— «Кто ты?» — «Я виноносный гений,
Поэмы три да сотни од,
Где всюду н о щ ь, где всюду т е н и,
Где р о щ а, р ж у щ а, р у ж и й р ж о т.
(Весело расхохотался.)
П у щ и н. Ваше поэтическое высокопревосходительство, умерьте пыл! Над кем смеетесь?
П у ш к и н. О Державине согласен говорить почтительно. Он — Державин! Ты помнишь, я убежал тогда. Меня искали, а я убежал. Почему? Мне стало стыдно. Перед Державиным стыдно! Ученичество у меня, ученичество, не более того! И как ему не быть? Поэзия не из книг только рождается. А мы, царскосельские отшельники, что видели? Война прошла мимо нас. Я не видел пожара Москвы. А Батюшков видел, он всю кампанию провел в армии. Вот у него и лучше.
К ю х е л ь б е к е р. У Батюшкова — элегия, а у тебя ода, воспевающая победу и торжество России.
П у ш к и н. Не спорь.
(Обхватил руками колени.) Разве не ты говорил о Гомере наших дней? Ответь лучше, как найти живой, а не книжный отзвук времени, сердца, увиденных картин! Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет!
И л л и ч е в с к и й. Плесть рифмы? Пожалуй, можешь посмеяться — мой удел, это все говорят.
П у ш к и н. Олосенька! До шуток ли! Не нам ли решать судьбу поэзии нашей? Ничто не остановит нас! Мы — будущее! И уже не по-мальчишески соперничаем друг перед другом…
И л л и ч е в с к и й. Какое соперничество! Я не Державин. Стихами до чинов — кто дослужится? Вот разве ты…
П у щ и н. Олося — тонкая бестия, чует, кто будет генерал!
Д е л ь в и г. Генералом будет Горчаков.
(Показал на Пушкина.) А этому на роду написано быть в красном колпаке слугою самых нежных муз.
(Вынул листок, читает.)
Уж нет ее… Я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный…
П у ш к и н
(подбегая к нему). Откуда ты знаешь? Откуда у тебя это? Отвечай скорей?
Д е л ь в и г. Ах, бедные рыцари! Каково мне-то, старичку, кхе, кхе, взирать на вас! Она уезжает!
(Пряча листок.) Нет, не отдам! Отстань! Сад сетует, не видя прелестных петербургских дам, он срывает с себя золотые одежды. Вы ходите под печальным шумом опустошенных деревьев! Где музыка гусарского полка? Все молчит. И раскрывается душа.
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов.
П у ш к и н. Отдай.
(Пытается завладеть листком.)
Д е л ь в и г. Не отдам! Ты обронил его в классе! И теперь он мой! Не отдам и не отдам!..
(Отбиваясь, щекочет его.)
П у ш к и н. Перестань, не шали! Я до смерти боюсь щекотки!..
Д е л ь в и г. Защекочу.
(Отошел от Пушкина.) И не подходи близко. У меня еще кое-что есть. Послушайте, мудрецы!
(Пушкину.) Смирно стой!
(Лицеистам.) Это — про нас.
(Читает.)
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Мечты младой души твоей,
Печали, радости, надежды, наслажденья,
Что было и не будет вновь,
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь,
Мой друг! Она прошла…
А дальше — оборвано. Но как все ясно! Он пишет сердцем и простыми словами, как никто еще до него не писал!
П у ш к и н
(сконфужен). Будет тебе…
Входит П и л е ц к и й - г у в е р н е р. С ним сияющий Г о р ч а к о в.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Пушкин-господин, я вас ищу. Подойдите ко мне.
Пушкин подошел.
Не стойте боком. Посмотрите на меня. Вам везет, Пушкин-господин. Ваша ода в прославление победы сделала прекрасное впечатление. Егор Антонович Энгельгардт, новый директор наш, счастлив сообщить вам, что от вас ждут теперь более важных сочинений. С должной красотой и силой воспойте его, нашего государя, руководствуясь мыслями и начертаниями, кои я сейчас и зачту вам. Вот…
(Ищет в карманах и достает листок и читает, как по пунктам.) Он победитель, наш отец родной. Торжество России — это он. Величайший полководец всех времен и народов. Дух воинства непобедимого. Опора всех государей и королей Европы. Друг просвещения. Друг муз крылатых. Его державной воле, и только ей, обязано все сущее и все животворящее в отечестве нашем… Вы что-то сказали, Пушкин-господин? А, понимаю. Тут слов и быть не может. Онеметь. Поздравляю вас, Пушкин-господин.
(Удаляется, торжественно поклонившись.)
Г о р ч а к о в. Ура! Ура, наш Пушкин! Когда я узнал об этом, даже зависть охватила меня! Но я счастлив за тебя, счастлив!
И л л и ч е в с к и й. Я так и знал, что он возвысится!
Пушкин стоит подавленный.
Г о р ч а к о в. Какое блистательное начало! Как это прекрасно наблюдать! В какую эпоху мы живем!
К ю х е л ь б е к е р
(взревел). В эпоху варварства несусветного! Стихи — в ранжир? Анкураже с рифмами? Убийство!..
П у щ и н. Кюхля, помолчи.
К ю х е л ь б е к е р. Молчу.
Г о р ч а к о в. Завидуешь, лапландец, не более как завидуешь! Такое счастье выпадает раз в жизни! (
Пушкину.) Не упусти его. Знаю примеры, когда исправный пиит достигал звезд, почти равных звездам министров первейших и полководцев!
И л л и ч е в с к и й. А нам, смертным, служить и служить…
(Пушкину.) Лепись к тем, что в чинах, кто знаменит. Там наберешься мнений нужных, анекдотцев. А с этим можно кому хочешь в нос тыкать — с тем гулял, а с этим на дружеской ноге, тот поощрил, одобрил, а этому и сам оказал услугу. О, это еще как поможет!
Г о р ч а к о в. Ух, бестия…
П у щ и н
(хмуро). Хватит, мудрецы, пойдемте.
И л л и ч е в с к и й. И верно! У него, поди, уже роятся в голове первые строфы.
(Наклонившись к Пушкину.) А коли что, я подсоблю тебе, ей-богу, подсоблю. Уж это я умею!..
П у щ и н. Оставь его!
Г о р ч а к о в. Он прав, идем. У меня самого мысли кувырком!
К ю х е л ь б е к е р
(вздохнув). Пойдем.
Все, кроме Дельвига и Пушкина, ушли. Они сидят в отдалении друг от друга.
Д е л ь в и г
(негромко, словно бы самому себе).
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит, бедняжка, вместо свисту,
А ей твердят: пой, птичка, пой…
П у ш к и н. Дельвиг… друг…
Темно. И через секунду сцена снова освещается. Уже вечереет. А Пушкин на том же месте. Он так и не уходил отсюда, должно быть. Но он один и сидит не на скамейке, а в укромном углу, словно спрятавшись от всех.
Возникают чугунные трещотки.
П у ш к и н
(прислушиваясь). Гуляет…
Появляются Б а к у н и н а и К ю х е л ь б е к е р.
Б а к у н и н а. Только никому ни слова. Мы завтра утром уезжаем. Мне нужно повидать Пушкина. Найдите его. Во что бы то ни стало найдите! Я буду здесь.
К ю х е л ь б е к е р. Он давеча был тоже тут. А потом исчез. Ему очень грустно было… Понимаете…
Б а к у н и н а. Меня вот-вот схватятся: найдите его как можно скорее!
К ю х е л ь б е к е р. Понимаете… Мы все встревожены…
Б а к у н и н а. Но я должна его увидеть!..
К ю х е л ь б е к е р. Я найду, найду.
(Исчезает.)
Б а к у н и н а. Бог мой, как я решилась! Но его письмо, его стихи! Могла ли не прийти?
(Читает.)
Уж нет ее… Я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный.
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Оставленных ногой ее прекрасной.
Задумчиво бродя в глуши лесов,
Произносил я имя несравненной,
Я звал ее…
П у ш к и н
(стоит перед ней). Я звал ее.
Б а к у н и н а. Пушкин…
П у ш к и н
(пламенно). Звал ее! Но строчки словно оборвались. Стих умер! Если бы вы знали, ч т о я передумал сейчас! В моем сердце все сожжено!
Б а к у н и н а. Я не понимаю, о чем вы говорите… Я решилась на это безумство, а вы…
П у ш к и н. А я закрываю глаза, чтобы не видеть вас, чтобы не потерять мужества. Без него — не жить!..
Б а к у н и н а. О нет, нет, я не намерена слушать! Быть может, я заслужила ваши насмешки, но вы не смеете…
(Резко повернувшись от него, хочет уйти.)
П у ш к и н
(загораживает ей дорогу, падал на колени). Нет, я не пущу вас! Прежде вы должны выслушать…
Б а к у н и н а. Замолчите!
П у ш к и н. Выслушайте, выслушайте меня!.. Я умоляю вас!..
(Осыпает ее руки поцелуями.)
Из-за кустов высовывается голова П и л е ц к о г о - г у в е р н е р а.
Б а к у н и н а
(увидев его). Ах! (Убегает.)
Голова Пилецкого скрывается. Вбегает К ю х е л ь б е к е р.
К ю х е л ь б е к е р. Ты здесь?.. Она тебя искала… Она просила меня… Я бегал по всему парку…
П у щ и н
(выбегает с другой стороны). Где же он? Ах, вот ты где! Видел ее? Она шла сюда. Я сказал, что ты здесь…
И л л и ч е в с к и й
(вбегая). Мудрецы, что произошло? Маман Бакуниной лежит в обмороке у директора. Туда только что прискакал Пилецкий! Там бог знает что делается…
Я к о в л е в
(вбегает). Егоза, тебя ищут! Сюда идет Пилецкий.
Появляется П и л е ц к и й - г у в е р н е р.
П и л е ц к и й - г у в е р н е р. Пушкин-господин! В карцер.
Т е м н о
КАРТИНА ДЕСЯТАЯ
ТЕСНЕЙ, О МИЛЫЕ ДРУЗЬЯ,
ТЕСНЕЙ НАШ ВЕРНЫЙ КРУГ СОСТАВИМ…
В парке, у флигелька, где заперт провинившийся П у ш к и н. Поздний вечер. Появляются тени. Это П у щ и н, Д е л ь в и г, К ю х е л ь б е к е р, И л л и ч е в с к и й. Разговор шепотом.
П у щ и н. Он здесь?
К ю х е л ь б е к е р. Здесь.
Д е л ь в и г. Я ему постучу.
К ю х е л ь б е к е р. Тише! Сейчас придет Зернов с ключами.
П у щ и н. Что за дьявольщина? Куда он пропал?
Д е л ь в и г. Я послал его за корицей.
П у щ и н. За какой корицей?
Д е л ь в и г. Гусарский гоголь-моголь без корицы ни черта не стоит.
И л л и ч е в с к и й. Твои затеи плохо кончатся. Нас всех поймают.
К ю х е л ь б е к е р. Фролов в Гатчине мечет банк.
И л л и ч е в с к и й. Зернов не договорится с буфетчиком.
Д е л ь в и г. С ним Яковлев. Паяс все может.
И л л и ч е в с к и й. Нашли время устраивать пир. Я боюсь.
Д е л ь в и г. Самое подходящее время для пира. Ночь. Темница. Подкупленная стража.
П у щ и н. Сейчас он нам расскажет новую кременчугскую балладу. Давайте лучше посоветуемся. Может, кому-нибудь пойти на помощь?
К ю х е л ь б е к е р. К Зернову и Паясу?
П у щ и н. Да.
И л л и ч е в с к и й. Я пойду.
Д е л ь в и г. Иди, безумец.
Илличевский уходит. Кюхельбекер и Пущин уселись рядом.
Шепчетесь, заговорщики! Отхожу в сторону. При серьезах поэт — всегда лишний. Хотя без него всякая жизнь — пустая штука.
П у щ и н. Ладно, философствуй, ленивец.
Д е л ь в и г. А что есть лень? Лень есть созидание. Молчу. Не слушаю. Вижу сны.
Разговор шепотом.
К ю х е л ь б е к е р. Ты был у них?
П у щ и н. Вчера.
К ю х е л ь б е к е р. Рассказывай, рассказывай…
Пущий. Кюхля, брат, знай же, знай! Уже есть содружество людей. Они собираются тайно. Мы с тобой догадывались, а вчера они открылись мне. И они сказали, Кюхля, что я г о т о в д л я д е л а. А я сказал, что я не один. Я указал на тебя.
К ю х е л ь б е к е р. Клянусь, я жизнь отдам!
П у щ и н. Я знаю. Но слушай. Офицеры гвардии, прошедшие славный путь Отечественной войны, говорят о республике…
К ю х е л ь б е к е р. Я за республику, а ты?
П у щ и н. Я еще не знаю. Но я с ними.
К ю х е л ь б е к е р. Дай руку.
П у щ и н. Вот рука.
Что-то говорят, склонившись друг к другу, понизив голос.
Д е л ь в и г. Если бы еще было озеро и на нем русалки в лунном луче. И тревожный крик ночной птицы. Хотя это уже было у Жуковского. Возникают другие картины… Хорошо. Удивительно. Воображение набирает силу. И ведь правда! Вот… рядом… в сырых подвалах замка томится поэзия… И надо взломать чугунные запоры, выпустить ее на волю — пусть летит!..
К ю х е л ь б е к е р
(Пущину). Слышишь, что он говорит? Он прав! В нашем союзе должен быть и Пушкин!
П у щ и н. Нет. Мы первые. Мы начинаем. Что ждет нас? А он в порывах весь. Он легкомыслен, как ребенок. Он поэт, Кюхля! Не забывай об этом!
К ю х е л ь б е к е р
(обиделся). Я тоже поэт.
П у щ и н. Но ты же знаешь его! Ах, Пушкин! Все, что держит он в сердце, у него так и рвется наружу!
К ю х е л ь б е к е р. Молчу.
Д е л ь в и г. Шептуны! Сумасброды! Тираносвергатели! Шаги во тьме! Замрите!
Появляются З е р н о в, Я к о в л е в, И л л и ч е в с к и й.
К ю х е л ь б е к е р
(Зернову). Ключи принес?
З е р н о в. Вот.
Д е л ь в и г. Корицу, ром?
З е р н о в. О боже мой, погибнешь с вами…
Я к о в л е в
(выкладывая свертки). Вот все, что удалось… Пока я отвлекал Пилецкого чудесными рассказами о ядовитом растении, раствор которого излечивает старость, Илличевский проник в буфет…
И л л и ч е в с к и й. Я едва не умер от страха.
П у щ и н. Не богат улов. Зернов, вскрывай запоры!
З е р н о в. А ну, Илья Степанович хватятся?
Я к о в л е в. Он пьян. Я дал ему еще. Отворяй!
Зажигают ручные фонари. Зернов вставил ключи, и дверь заскрипела. С зажженными фонарями они входят в низкую дверь флигелька. Тесная каморка сразу озаряется ярким светом. А до того там теплилась лишь тусклая лампада у стеклянного киота. П у ш к и н вскакивает с постели и устремляется, как был, к друзьям.
П у ш к и н. Ай, молодцы! Пришли! Постойте, где мои панталоны? Я было уже лег. Такая скука, хоть в петлю! И как устроили? Ну, право! Ну, нет слов! Судьба будет еще не раз со мной проказить — вот угодил в карцер! Рассказывайте, что делается в нашем омуте?..
П у щ и н. Давай одевайся. Новостей множество.
П у ш к и н. Повремени, Жано. Где моя шпага? Где мой пудреный парик, чтобы я мог обратиться к Александру Павловичу Зернову, как вельможа к вельможе! Друг Зернов! Я написал в твою честь возвышенную оду. Не гневись, братец, получай, тут все как надо.
З е р н о в. Мне уже дадено, ваше благородие, не жалуюсь.
П у ш к и н. Нет, нет, мне велено было написать. И вот — прошу!..
(Становится в позу.) «Двум Александрам Павловичам».
Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собой.
Зернов, хромаешь ты ногой,
Романов — головой.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицем?
Сей — в кухне нос переломил,
А тот — под Аустерлицем!
З е р н о в. Ловко.
П у щ и н
(Зернову, настороженно). Что — ловко?
(Сердито дергает Пушкина.)
З е р н о в. Вообще — ловко. Слова на концах сходятся — как одно.
П у ш к и н
(дурачась). То-то вот, что сходятся!
П у щ и н
(Зернову). Ну, а теперь ступай на стражу.
З е р н о в. Как договорились. Иду.
(Ушел.)
П у щ и н. Неосторожен ты, Пушкин.
И л л и ч е в с к и й. Всех нас подводишь. Хромой черт и сюда продаст, и туда продаст.
П у ш к и н. Он ничего не понял.
П у щ и н. Ладно, не понял. Сейчас так и рыщут. Изъяли лекции Куницына.
К ю х е л ь б е к е р. Александр Петрович не говорит уже, а мямлит. В его словах — один страх за их произнесение.
П у щ и н. Он не ради себя, а ради нас доказывает свою благонадежность. А ему совсем худо. Энгельгардт рассказывал Горчакову, что государь в гневе страшном. Кричал, что его стараниями лицей превратился в рассадник крамолы, вольнодумства, разврата…
П у ш к и н. Вот тебе и достославный конец войны! Вот тебе и возвестили свободу!
К ю х е л ь б е к е р. Аракчеев облечен неслыханной властью. Опять Аракчеев! Все тот же Аракчеев! Он стал страшилищем государства!
И л л и ч е в с к и й. Ради бога, тише, Кюхля…
П у щ и н. И решено: прикончить наш курс на полгода раньше.
К ю х е л ь б е к е р
(усмехнувшись). Еще бы! Торчим здесь, как чучелы в гостиной!
П у ш к и н. На полгода? Вот как славно! Лицей мне стал несносен!
Д е л ь в и г. О да! Осточертело вставать по звонку.
И л л и ч е в с к и й. Прощай, прощай, лицей! Прощай, аспидная доска, лекции Кошанского, мои стихи!..
П у ш к и н. Свобода!
П у щ и н
(взглянув на Кюхельбекера). Свобода, брат…
Д е л ь в и г
(сидит на постели, вытянув ноги, мечтательно). Вставать я буду не ранее двенадцатого часа…
П у ш к и н. Бедный Тосенька, выспишься наконец.
Д е л ь в и г. Возвышенней не знаю ничего!
Между тем Яковлев приготовил гоголь-моголь и раздает бокалы.
Я к о в л е в
(голосом Пилецкого-инспектора). Дети! Благостию всевышнего, скоро удостоены вы будете счастия покинуть сие святилище науки, приуготовив себя к службе престолу и отечеству. Дельвиг-господин, очки!
(Поднимает тетрадь.) Книга сия, наполненная скотобратскими песнями лицейских мудрецов, да послужит черным списком шестилетних деяний ваших! Охальники, пихальники, никаких пошептов, никаких!.. Слава те, боже наш, благодарю тя, святая троица — Пушкин, Пущин, Кюхельбекер… И все вы, мудрецы, свят, свят…
Пьют гоголь-моголь, чокаются, целуются. Восклицания.
П у щ и н. Свобода — наш закон! И нет такой палки на свете, которая смогла бы властвовать над нами!
Д е л ь в и г. Свобода! Она в тихом созерцании! Ура!
К ю х е л ь б е к е р. Свобода в битвах! Мы накануне бурь! И есть уже смелые люди…
П у щ и н. Кюхля!
К ю х е л ь б е к е р. Молчу.
П у ш к и н. Нет, говори!
И л л и ч е в с к и й. Затыкаю уши.
К ю х е л ь б е к е р
(Пушкину). Я все сказал.
П у ш к и н. По лицу вижу, что нет!
(Пущину.) Жано! Я лопну от любопытства…
П у щ и н. Право же, нечего рассказывать…
П у ш к и н. Нет, нет! Тебе не отвертеться! То-то ты думаешь, что я как конь необузданный! А хочешь, я сам тебе расскажу…
Входит П е ш е л ь. Его не замечают.
Я расскажу, как попал на пирушку к гусарам. Жано, не делай круглых глаз. Я подружился с ними, и не взыщи — раньше тебя! Что за люди! Чаадаев, Раевский, Каверин!.. Обжигая губы вином, я слушал вольные речи, и от них закипала кровь!.. Потом всю ночь грыз перо как полоумный… Послушайте, мудрецы! Мысль, священный дар божий, не может быть рабой! Словесность наша не может стать жертвой тупоумной Управы, служить царедворцам и невеждам!..
К ю х е л ь б е к е р. Ай, Пушкин!
П у ш к и н. А мы боимся произнести имя Радищева! Вот уж в ком дерзость мысли выходила из всех пределов! Я не почитал его книги за варварство слога, но теперь… теперь готов подражать ему!
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру —
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок…
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!..
Так я начал! Вырвусь из-под опеки лицейской и — напишу!
Он выкрикивает это восторженно, но тут Пешель решительно выходит на середину комнаты. И все замолкли.
П е ш е л ь. Арестованный Пушкин-господин! Температура?
П у ш к и н
(весело). Какая температура?
П е ш е л ь. Вы больны, мой друг. Я принес клистир.
П у ш к и н. Но он мне совсем не нужен, Франц Осипович.
П е ш е л ь. Да, на этот раз не нужен. Но кто это вокруг вас? Тени или люди?
В с е. Тени.
П е ш е л ь. А, да. Очень хорошо. Но… вы же сами знаете, Пушкин, одно лишь упоминание известного имени в сих стенах… Да, да! Руку. Пульс.
(Шепотом считает пульс.) Прекрасно. Я так и знал. И прихватил с собой лекарства.
(Раскрывает дорожную корзинку, извлекая оттуда предметы.) Спиртовка, стальной тазик… Арака, вино, эль, апельсины, яйца…
Я к о в л е в. О, будет пир горой! Это не наш жалкий гоголь-моголь.
П е ш е л ь. Моголь-гоголь… Будет пунш, будет пунш, тень Яковлева-господина!
П у ш к и н. А я знаю, как его делают!
П е ш е л ь. Есть разный пунш. Пунш шотландский, пунш а-ля ромэн, стальной пунш и пунш шведский, замороженный и горячий. Тень господина Илличевского, зажигайте спиртовку. Тень Яковлева, откупоривайте вино! У нас будет горячий, винный… О, тень Кюхельбекера, тень Кюхельбекера, не наступайте мне на ноги…
Все суетятся. Яковлев повязал полотенце, наподобие поварского колпака, засучил рукава, повязал из другого полотенца фартук. Пылает спиртовка. Пешель колдует над тазом, напевая игривую арию Жоконда из популярной в те годы комической оперы Изуара.
Апельсинчики! Коричку! Сахар! И сдобрим аракой…
И л л и ч е в с к и й. Ух, запах какой!..
Д е л ь в и г
(лишь один бездельничает, развалясь на кровати). Приди, сорви с меня венок… Прелесть! Какое нежное прощание с музами любви!..
К ю х е л ь б е к е р
(черпая большой ложкой кипящее вино, разливает его по бокалам). Тираны мира, трепещите! Какое грозное предзнаменование! Ну, Пушкин…
П е ш е л ь. Тень, тень, бога ради, не так громко…
Пушкин нежно обнимает его.
Д е л ь в и г
(встал, с бокалом). Ура! Дадим же клятву друзья! Ежегодно девятнадцатого октября, в день открытия лицея, мы будем собираться. То будет дружеская складчина, веселое пиршество вечных студентов! Франц Осипович, — вы с нами. И даже тогда, когда на земле останется хоть один из нас, все равно, пусть пирует один — в нашу честь, поминая каждого!
П у ш к и н. Да здравствует лицей!
В с е
(поют).
Шесть лет промчались, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: «Шествуйте, сыны!»
Прощайте, братья, рука в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, здесь сроднила нас!
З а н а в е с
1956
ПЕРВЫЙ БОЙ
Сцены в 2-х частях

УЧАСТВУЮТ
У л ь я н о в В л а д и м и р И л ь и ч.
К р у п с к а я Н а д е ж д а К о н с т а н т и н о в н а (Н а д я).
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а — ее мать.
М и н ь к а.
П р о х о р.
В а с е н а — его жена.
С т а р к о в.
Т о н я — его жена.
К р ж и ж а н о в с к и й.
З и н а Н е в з о р о в а — его жена.
Л е п е ш и н с к и й.
О л ь г а — его жена.
Ш а п о в а л о в.
Н и к о л а й О р л о в.
Ж а н д а р м с к и й п о д п о л к о в н и к.
П л е х а н о в Г е о р г и й В а л е н т и н о в и ч.
Р о з а л и я М а р к о в н а — его жена.
З а с у л и ч В е р а И в а н о в н а.
П о т р е с о в.
А к с е л ь р о д.
Р и т м а й е р.
В эпизодах:
Ж а н д а р м (из дорожной жандармерии).
Л а в о ч н и к.
К о з е л к о в.
З ы р я н о в.
В о з н и ц а.
Б о р о д а т ы й м у ж и к.
М е л ь н и к.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а.
П о с е т и т е л и к а ф е, к о р р е к т о р, г о р н и ч н а я.
Действие первой части происходит в Шушенском и в Минусинске, действие второй — в Женеве и в Мюнхене. Время действия — 1898—1901 годы.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВМЕСТО ПРОЛОГА
Мерещится мне угол грязной, закопченной избы. И словно бы тянет оттуда невыветриваемым сивушным духом. В тусклое окно еле пробивается свет. С печи свешивается дикое лицо ж а н д а р м а.
Ж а н д а р м. Рассолу принесла?.. Ксюшка! Оглохла, чертова баба!..
Входят д в е ж е н щ и н ы, одеты по-городскому, поверх шуб закутаны в платки. Одна — молодая, в шляпке-шапочке, какие носили курсистки, шубка перетянута в талии. В руках у нее лампа с фарфоровым абажуром, завернутая в бумагу. Другая — старше, платок на голове завязан узлом.
С т а р ш а я. Здесь дорожная жандармерия?
Ж а н д а р м. Кто такие?
С т а р ш а я. Проездом в Шушенское.
Ж а н д а р м. А-а!
(Спустил ноги, вставил их в валенки.) Ваши проездные документы.
С т а р ш а я. Вот.
Ж а н д а р м
(подошел к оконцу, долго разглядывает бумаги). А ему как приходитесь?
М л а д ш а я. Невеста.
Ж а н д а р м. Разрешение на бракосочетание получили?
М л а д ш а я. Прошение подано.
Ж а н д а р м. Поторопитесь. Вам Уфа назначена?
М л а д ш а я. Уфа.
Ж а н д а р м. Вот то-то. А вы — в Шушенское. Нам эти штуки с невестами известны.
С т а р ш а я. Какие штуки?
Ж а н д а р м. Она знает какие. Предупреждаю: ежели не вступите в брак немедленно, то назад, в Уфу.
М л а д ш а я. То есть как это — назад? А если бумаги задержатся?
Ж а н д а р м. А нас это не касается. Надо было раньше хлопотать. Невеста!
С т а р ш а я. А вы, милостивый государь, не грубите.
Ж а н д а р м. Что?
С т а р ш а я. То, что вы слышали. Где здесь можно переночевать?
Ж а н д а р м. Тут вам не Санкт-Петербург. И не Уфа. Гостиницами не располагаем.
С т а р ш а я. Когда будет пароход?
Ж а н д а р м. На пристани спрашивайте.
С т а р ш а я. А у вас расписания нету?
Ж а н д а р м. Какое расписание? Может — завтра, может — через неделю. А до Минусинска все одно не доехать. Вода низкая.
С т а р ш а я. Так как же?
Ж а н д а р м. Доедете до Сорокина.
М л а д ш а я. Это уже не страшно, мама! Ну, от Сорокина чуть дальше, ну, оттуда верст восемьдесят, не больше… Я все это в Питере изучила…
С т а р ш а я. Легко сказать — восемьдесят верст.
(Жандарму.) А лошадей-то там достать можно?
Ж а н д а р м. Не знаю, не ездил.
С т а р ш а я. Толком-то — сколько оттуда?
Ж а н д а р м. Сказано ведь, что поболе будет, чем от Минусинска. И дорога хуже.
С т а р ш а я. Что значит хуже?
Ж а н д а р м. А может, и нет ее совсем. Какая сейчас дорога — в эдакую распутицу?
(Зевнул.) Слава богу, не этапом погнали, а то многие не доходят.
(Приложил печати.) Вот ваши документы.
Женщины вышли, а он стал взбираться на печь.
Ксюшка! Рассол, говорю, неси!..
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ
На просцениуме л а в о ч н и к, бородатый крестьянин саженного роста, в длинном армяке, в броднях (здешняя обувь) и блестящих галошах. Слышен разноголосый собачий лай.
Л а в о ч н и к
(вглядываясь). Кто ж это там едет? Ух, язви его, никак, Бутов Алешка. С кем это он? Ха-ха! Застрял. Враз завалится. Э, нет. Выгребся. Поди ж ты, а узлов, ящиков наворотил! Кого ж это он везет? А! Две бабы. Две, две, Дормидонтыч!
Появляется К о з е л к о в, он еще не протрезвел от вчерашнего похмелья.
К о з е л к о в. Тут я. Орет ни свет ни заря.
Л а в о ч н и к. Ты вот что… Голову в ведро, обуйся и — к Ульянову. Это к нему. Живо!
К о з е л к о в. Тише, тише, без фамильярностей. Пассэ муа ле мо, лавочник!
Л а в о ч н и к. Ладно. За мной не пропадет, понял! Беги к почтарю, а от него — к ним.
К о з е л к о в. То-то вот, чуть такие дела — Козелкова! Сам бы и ходил, а меня тошнит.
Л а в о ч н и к. Сказано, опохмелка потом. Узнаешь, почему их две, а не одна, как оповещено. Не ровен час, из Минусинска прискачут. Кому отвечать? Мне. Стой! В порядок себя приведи!
К о з е л к о в. Не учи. Знаю, к кому иду.
(Исчез.)
Возникает комната в доме Зырянова. На полу положена домотканая дорожка. Чисто вымыто. Стоят книги на некрашеных, самодельных полках. На столе — перевязанные стопками газеты, горки книг с закладками, рукописи. На табурете расставлены шахматы.
Входят две уже знакомые нам ж е н щ и н ы. У младшей по-прежнему в руках завернутая в бумагу лампа, но бумага уже почти совсем прорвана. Женщин сопровождает З ы р я н о в.
С т а р ш а я. А вещи-то куда, вещи куда нести?
З ы р я н о в. Сюда и нести. Никак не ждали сегодня. Владимир-то Ильич на охоте. Вот это их комната. А справа от сенцев, пожалте за мной, для вас приготовлена.
Уходит со старшей, и младшая остается одна. Снимает шубку, кладет ее на стул. Теперь она в темной кофточке с глухим воротничком, волосы подобраны в пучок. Подходит к столу, приоткрывает тетради, книги в тех местах, где виднеются закладки. Она оглядывается вокруг с улыбкой (и растерянной и счастливой) и снова склоняется над книгами. В дверях появляется м а л ь ч у г а н в огромном треухе и большущих отцовских броднях.
М а л ь ч у г а н. Книг трогать нельзя. И на столе ничего трогать нельзя.
М л а д ш а я. Не буду.
М а л ь ч у г а н. А ты кто?
М л а д ш а я. Я? Я тетя Надя, приехала к Владимиру Ильичу. А ты чей? Хозяйский?
М а л ь ч у г а н. Не. Соседский. Минька я. Миняем меня зовут.
Н а д я. Ну вот. Будем знакомы.
М и н ь к а. И газет не трогайте.
Н а д я. Хорошо, не буду.
М и н ь к а. У него свой порядок. Он раскладывает, а я перевязываю. Вы без меня не касайтеся.
Н а д я. Да что ты! Ни за что!
В дверь протискивается в о з н и ц а, на его спине — тяжелый ящик.
В о з н и ц а
(Миньке). Отойди, чертяка, зашибу.
М и н ь к а. Но, но!
В о з н и ц а
(Наде). Куда ставить-то?
Н а д я. А сюда и ставьте.
Возница опускает ящик на пол и уходит. Минька следует за ним.
М и н ь к а (уходя). Пойду присмотрю.
Из сеней доносятся голоса: «А это куда?» — «Нет, это не к нему. Это сюда».
К о з е л к о в
(появляясь в дверях). Пардон.
Н а д я
(оглянувшись). Кто это?
К о з е л к о в. Позволите?
Н а д я. Пожалуйста.
К о з е л к о в. Имею честь представиться: Артемий Дормидонтыч Козелков. Бывший учитель.
Н а д я. Учитель?
(Идет к нему.) Я ведь тоже учительница. В Питере, в воскресной школе…
К о з е л к о в. Святое дело.
Н а д я. Присаживайтесь.
К о з е л к о в. Мерси.
Н а д я. Вы давно здесь?
К о з е л к о в. О!.. И вот, коллега, пришел с сочувствием. Убиенных духом пребывало здесь немало. Проживали и декабристы, и петрашевцы, друзья писателя Достоевского, и поляки-мятежники… А теперь вот — мы. Я, Владимир Ильич.
Н а д я. Вы с ним дружите?
К о з е л к о в. Одного круга люди. Одного круга. Но… разность мыслей. Он изучает, так сказать, по-книжному, по-научному, с теоретической точки зрения, а я — по жизни, мадам, с головой в неприкрашенных страданиях униженных и оскорбленных…
Н а д я
(сдержанно). Понимаю.
В о з н и ц а вносит второй ящик, надвигаясь на Козелкова и оттирая его.
К о з е л к о в. Ты что, дубина? Гляделки-то открывай!
В о з н и ц а. Уж извини, Артемий Дормидонтыч! Я ненароком и зашибить могу.
(Подмигнул Наде.)
К о з е л к о в. Ну, ладно, ладно… ладно…
Возница поставил ящик и ушел.
Вот с какими, вот с какими приходится жить… Прошу вас, почту вам принес.
Н а д я. Почту? Спасибо. Но позвольте! Ведь это мои телеграммы! Из Питера, потом из Красноярска…
К о з е л к о в. Ваши. Владимиру Ильичу.
Н а д я. Но как же так? Последняя телеграмма пришла сюда неделю тому назад?
К о з е л к о в. Так точно.
Н а д я. А из Питера лежит без малого месяц?
К о з е л к о в. Вот именно. Без малого месяц.
(Понизив голос.) А почтарь на что? Пьяница и доносчик. Ну, он — по добровольной склонности. А вот лавочник при вас — официально, вместо станового, заседатель, называется. Такая скотина, пассэ муа ле мо, интеллигенцию ни в грош не ставит. Какие унижения приходится терпеть!
Н а д я
(сухо). Идите, голубчик.
К о з е л к о в. Миль пардон.
(Подошел к двери и обиделся.) Одну минуточку, прошу простить. Я к вам, собственно, по делу. Вот именно. Вы — Крупская Надежда Константиновна? Прекрасно. А кто же с вами? Кто эта другая, извиняюсь, дама?
Н а д я. Моя мать, Елизавета Васильевна. Это все?
К о з е л к о в. Все. Имею честь.
(Хочет уйти, но снова наталкивается на возницу, который тащит третий ящик.) Ты что вяжешься, ты что вяжешься!..
(Вынырнув из-под ящика, исчезает в сенях.)
Ящик соскальзывает со спины возницы, и в проломы досок вываливаются книги.
В о з н и ц а. Ах ты господи!
Н а д я. Ничего, ничего. Так даже легче доставать будет.
М и н ь к а
(в дверях). Вишь, сколько навезла!
В о з н и ц а. А я думал — что за приданое такое!
Н а д я
(смутившись). Какое приданое…
В о з н и ц а. За всю жизнь не прочтешь!
М и н ь к а. Он прочтет.
В о з н и ц а
(Наде). Уж извиняйте. Счастливо вам. Располагайтесь, отдыхайте. А коли что надо, Бутовы мы, Владимир Ильич нас знают.
Н а д я. Спасибо.
Возница ушел. Входит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а, закуривая.
М и н ь к а. Здесь курить нельзя.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Извини, дружок, не знала.
М и н ь к а. Знайте.
(Ушел.)
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(Наде). Там тебя спрашивают.
Н а д я. Меня?
Елизавета Васильевна вышла, и в комнату вошли В а с е н а, в надеве, похожей на самодельный жакет, П р о х о р, длинный худой мужичишка, и степенный б о р о д а ч, одетый справно, в высоких охотничьих сапогах; он остановился в дверях.
В а с е н а
(певуче). А мы к вам, мы вот к вам…
Н а д я. Ко мне?
В а с е н а. К вам, к вам. Баскаковы мы, Прохор и Васена, мобыть, слыхали?.. Не ко времени, конечно… Потолковать пришли…
Н а д я. Так вы, верно, к Владимиру Ильичу?
В а с е н а. Нет, к вам. Вы жена их будете?
Н а д я
(смутившись). Вот… Только сегодня приехали… Да вы заходите, не стесняйтесь. Не убрано, не разобрались еще…
В а с е н а. Я и говорю — не ко времени мы…
П р о х о р. В разумении, конечно, того, что, мобыть, не бывало такого отродясь, а сам бы ни в жисть не отдал… а теперь, мобыть, о совести говорит…
Н а д я. Не пойму пока.
В а с е н а. С мельницы мы. Хозяин наш мельник, так мы у него третий год задарма…
П р о х о р. Тут, мобыть, дело-то посурьезней.
В а с е н а. А как же! Работали, работали, а он не платит, жила поганая. Сродственники, говорит. Вот и живем — ни кола ни двора, голь перекатная…
П р о х о р. Помолчи. Языком мелешь не разбери что. Тут, мобыть, ясность нужна.
В а с е н а
(Наде). А я не стерпела и — к Владимиру Ильичу, по-нашему, по-бабьи… А он бумагу-то и подсказал, вроде от Проши, в суд. А ныне тот мельник с города — и к нам. С деньгами. Злой. Зачем, грит, через суд, сродственники, грит, и пошел, и пошел… Смех, ей-богу…
Н а д я. Значит, все хорошо?
П р о х о р. В разумении сказать, благодарность требуется.
Н а д я. Какая благодарность?
В а с е н а. Ежели Владимир Ильич капканчиками интересуется или какой другой снастью…
П р о х о р
(мечтательно). Свистульки, к примеру, манки…
Н а д я. Какие манки? Какие капканчики?
П р о х о р. А как же, всякие, разные. На лису — это одно, а на куничку, скажем, опять же другое… Владимир Ильич охотой интересуется, а я, мобыть, в разумении вопроса…
Н а д я. Я передам, спасибо. Я обязательно передам.
(И, заметив бородатого мужика, стоявшего у двери.) А вы тоже ко мне?
Б о р о д а т ы й м у ж и к. Нет, мы с ними. Из дальнего хутора мы. Из лесов. Поглядеть приехали. Уж как Владимир Ильич в энтих делах крепко берет, любо-дорого поглядеть.
Шум в сенях. Голос Зырянова: «Куда прешь, дьявол! Сказано, нет его, на охоте он!» Голос мельника: «А ну, давай в сторонку! Я те трону!»
В а с е н а и П р о х о р
(в ужасе). Он!
(Прячутся за стол.)
Врывается м е л ь н и к, черная борода, глаза как у цыгана.
М е л ь н и к. Где политический?
Н а д я. Что вам угодно?
М е л ь н и к. А это я ему скажу!
(С размаху садится, свалив со стула книги.) Понаехали! Грамотеи! Где он?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(появляясь с метлой в руках). Милостивый государь, извольте не кричать и убирайтесь вон!
М е л ь н и к
(вскочил). Что?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Вон!
М е л ь н и к. Вы… барыня… не того… мы до вас не касаемся… Мы…
Елизавета Васильевна молча показывает ему на дверь, и он, струхнув, пятясь уходит. Она — за ним.
В а с е н а
(вылезая из-за стола и крестясь). Пронесло!
П р о х о р. Фу-ты, батюшки! Чтоб ему околеть! Чтоб у него руки отсохли!
Слышен стук в окно. Прохор и Васена тотчас приседают. Надя подходит к окну. В окне показывается м е л ь н и к.
М е л ь н и к. Э! Барышня! Ну-ка!
Н а д я
(открывая окно). Что вам еще?
М е л ь н и к. Ты вот что, передай своему… Я людям зла не желаю. Но пущай не сует нос в чужие дела. Пущай умней будет. Аблокатством-то ему заниматься запрещено. Гляди, прикинут лишний годок ссылки, а? Так что куда как лучше — по душам да по совести. Пущай сидит, не суется, а мы ему — вот!..
(Выкладывает на подоконник несколько ассигнаций.)
Н а д я. Уберите деньги! Сейчас же уберите!
М е л ь н и к. Чертов дом!
(Сгреб деньги и исчез за окном.)
П р о х о р
(очень расхрабрился). Мобыть, запрыгал, как селезень на солнышке!
В а с е н а
(Наде). Эвон сколько шуму с нами! Так что мы пойдем.
(Подошла к ней.) А что приехали — хорошо. Ой, хорошо как! И стужа, и нужда нипочем, коли вдвоем… Дай-то бог!.. Пошли, мужики!
П р о х о р. Это вот да, в разумении обстоятельств…
Они прощаются и уходят.
Б о р о д а т ы й м у ж и к
(уходя, Наде). Хрупконькая, погляжу… а могешь…
Все ушли.
Н а д я
(одна, про себя). Могешь?..
Входит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Отодвинув стопку книг, кладет на стол перчатки и еще какие-то мелкие вещи.
Книг трогать нельзя.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Да, да. И курить тоже.
Н а д я. Как странно. У меня такое чувство, как будто все в этой комнате мне знакомо. У него так же было в Питере. Книги, рукописи. Интересно, с
кем он здесь играет в шахматы?.. Но он очень много сделал. Когда он пишет мелко-мелко, значит, он увлечен. По-моему, больше половины книги готово. Он начал ее в тюрьме. Ты почему молчишь? А как тебе понравились его визитеры?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Да, он человек не похожий на других.
Н а д я. Вокруг него всегда люди. Он бывает резок, а люди его любят. Может быть, потому, что он о них думает?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Наверно.
Н а д я. Знаешь, на допросах он держался так, что они ничего узнать не могли. А ведь это касалось нас всех, кто был тогда арестован.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Да, я знаю.
Н а д я. Из тюрьмы он ухитрялся писать нам. Среди арестованных были такие, у кого не было родных. Тогда он организовывал им «невесту».
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Что?
Н а д я. Назвавшись невестой, можно было прийти на свидание, принести что нужно…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. А, да! Штуки с невестой, как сказал тот жандарм. Но сейчас-то у вас не это?
Н а д я. Конечно, совсем другое, и ты это знаешь.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Разумеется, знаю, но я не могу не думать о том, что разлука у вас была долгой, очень долгой, и ведь ты его после ареста не видела?
Н а д я
(улыбнулась). Но мне кажется, меня он видел.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Это каким же образом?
Н а д я. Помнишь, когда я каждый день надевала свою лучшую шляпку и куда-то уходила?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Помню.
Н а д я. Это я ходила на свидание. Он написал мне из тюрьмы, что, когда его выводят на прогулку, из окна коридора виден угол Шпалерной. Он сообщил час, в какой его обычно выводят, и я стояла в этот час на углу. А знаешь, как мне он писал? Молоком.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Молоком?
Н а д я. Представь себе! Молоком над строчками книги, которую возвращал на волю. А я проявляла написанное на свечке или на лампе. Этот фокус показывала ему в детстве мама. Но написать в камере тайно было очень трудно…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(думая о своем). Все-таки непонятно. Насколько я понимаю, вы обо всем договорились. Ты послала ему несколько телеграмм. Значит, он знал, что мы едем и когда приезжаем, а его нет, он почему-то уехал на охоту…
Н а д я. А как здесь доставляют телеграммы? К сожалению, это нормально, и к таким недоразумениям надо привыкать.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Вы оба удивительные люди. Что бы ни случилось, у вас все хорошо или по крайней мере нормально. Вот и из тюрьмы ты писала мне записочки: «Я здорова, все идет нормально».
Н а д я. Все и шло нормально.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. А весь Питер шумел, когда курсистка Ветрова, не выдержав тюремных издевательств, сожгла себя в камере.
Н а д я. Но это был исключительный случай, мама.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Да, но он произошел в то самое время, когда ты была в одиночке и тебя таскали на допросы. И его тоже.
Н а д я. Мы были готовы к тому, что нас ждет.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. О да, я уважаю вашу выдержку. Но разве можно все построить на выдержке, на чувстве обязательства, на долге? Можно ли на этом искусственно склеить совместную жизнь?
Н а д я. Искусственно ничего нельзя склеить.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Конечно, это так, иначе разве бы ты поехала? Но ты волнуешься, нервничаешь, я вижу, и это передается мне…
Н а д я. Мама, как же я могу не волноваться? И конечно, я нервничаю. Было бы дико, если бы я была спокойна. Для меня все, все решается сейчас! Неужели это надо объяснять?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Разумеется, нет… Но я не это хотела сказать!
Н а д я
(вдруг). Ой, Володя бежит!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(взволнованно). Да, он, он!
Н а д я. Он бежит, распахнув куртку, как сумасшедший! Иди задержи его, чтобы я привела себя в порядок, потому что я могу сейчас заплакать, потому что я могу сказать не то, совсем не то… Иди, умоляю тебя…
Елизавета Васильевна торопливо выходит. Надя одна. И кажется, что время тянется невыносимо долго. Может быть, громко тикают деревенские ходики, как бы подчеркивая это. Потом распахивается дверь и вбегает В л а д и м и р И л ь и ч.
В л а д и м и р И л ь и ч. Надя!
Н а д я
(резко повернулась к нему). Мои телеграммы! Видишь, вот мои телеграммы!..
В л а д и м и р И л ь и ч. Ах, почтарь! И ведь какая досада! Я уже представлял себе, как я выеду к тебе навстречу…
Н а д я. А вдруг мы бы разминулись?.. Ты… какой-то другой стал…
В л а д и м и р И л ь и ч. Другой? Нет! Ну, смотри — разве не такой, как был?
Н а д я. Потолстел… Честное слово, потолстел.
В л а д и м и р И л ь и ч. Еще бы! Гуляю, охочусь. Воздух — сибирский. После предварилки-то! А вот ты плохо выглядишь.
Н а д я. Ничуть. Это после дороги.
В л а д и м и р И л ь и ч. Нет, плохо, это никуда не годится!
Н а д я. Не преувеличивай, пожалуйста. Не так плохо.
(Торопливо.) А как Глеб? Как Старковы?
В л а д и м и р И л ь и ч. Кржижановские по-прежнему в Теси. Это от нас совсем недалеко. С Глебом я по переписке играю в шахматы. А Старковы недавно перебрались в Минусинск. У Тони дочка родилась.
Н а д я. Дочка?
В л а д и м и р И л ь и ч
(пристально смотрит на нее). Но ты-то как мне ответила?
Н а д я. Я?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, ты. Когда я тебе написал… Последнее письмо…
Н а д я. Сразу ответила…
В л а д и м и р И л ь и ч. Как ответила? «Женой — так женой».
Н а д я. Разве это не ответ?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да уж…
Н а д я. Володя!..
В л а д и м и р И л ь и ч. «Женой — так женой». Пойми тут! Обидеться впору.
Н а д я. Да вот же я, здесь я! Разве это не лучший ответ?
В л а д и м и р И л ь и ч. Лучший!
(Подбегает к ней.) Конечно, лучший!
Появляется М и н ь к а.
М и н ь к а. А вот и я.
Пауза.
Газеты разобрали? Перевязывать?
В л а д и м и р И л ь и ч. Завтра, Миняй, давай уж завтра. А ты что таким волком смотришь?
М и н ь к а. А я ничего.
В л а д и м и р И л ь и ч. Тебе что, тетя Надя не нравится?
М и н ь к а. По мне, жили мы без нее и жили бы, как жили.
В л а д и м и р И л ь и ч. Э, брат, а я думал, ты мне друг!
Входит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(Миньке). Пойдем, братец, я без тебя как без рук. Сейчас возьмемся за посуду. Надя, где у нас уложена посуда?
Н а д я. Там, где теплые вещи. На ящике пометка — четвертый.
В л а д и м и р И л ь и ч. Четвертый? А три — с книгами?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. С книгами.
В л а д и м и р И л ь и ч. Воображаю, как вы меня проклинали! Но я-то без них погибаю.
(Присел на корточки перед ящиком.) Зато теперь богач!
(Смотрит на Надю.) Ноги бы поломать этому почтарю! Маринует телеграммы, и ему наплевать, что люди волнуются.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(Наде). Какие телеграммы?
Н а д я. Мои.
В л а д и м и р И л ь и ч. А сколько книг запросто пропало!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Вы только о книгах и писали, хоть бы слово о себе.
В л а д и м и р И л ь и ч. Э, нет. В одном из писем я подробнейше описал Шушу.
(Достал одну из книг.) «Статистический временник Российской империи…».
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Описали прямо как Швейцарию.
В л а д и м и р И л ь и ч. Да ведь точно же! Вы еще увидите наши горы!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Они отсюда не ближе, чем Монблан от Швейцарии.
В л а д и м и р И л ь и ч. А леса? А климат? Лучший в Сибири! Курорт! Вы не поверите, но я даже стихи здесь начал сочинять. «В Шуше, у подножия Саяна…» Правда, на этой строчке так и застопорилось, но все-таки…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(в сторону Нади). «Я здорова. Все идет нормально». Курорт.
В л а д и м и р И л ь и ч
(не понял). Что?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Я говорю, что, въезжая в вашу знаменитую Шушу, мы завязли в такой грязи, что думали, не выберемся.
В л а д и м и р И л ь и ч. Навоз, Елизавета Васильевна, навоз. И согласитесь, природа тут ни при чем. «Шестой выпуск материалов для статистики фабрично-заводской промышленности Европейской России». Ай да Надя, что за молодец!
(И вдруг.) А почему ты нервничаешь?
Н а д я. Я не нервничаю.
В л а д и м и р И л ь и ч
(он все время наблюдает за ней). Смотри пожалуйста! Еще и Ключевский! Сколько заплатила?
Н а д я. Двадцать пять рублей за четыре тома. У букиниста.
В л а д и м и р И л ь и ч. Так он же разбойник! Четыре целковых — красная цена.
Н а д я. Попробуй найди. Это же литографированное издание.
(Встретилась с ним глазами.) Черствый книжник! Обрати внимание на лампу.
В л а д и м и р И л ь и ч. Лампу?
(Встал, подбежал к столу.) Действительно… лампа. Как я сразу не заметил? Она напоминает мне детство!..
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(Миньке). Ну, чего мы стоим? Брось газеты. У нас дел не перечесть. Пошли, пошли…
(Уходит и тянет за собой Миньку.)
В л а д и м и р И л ь и ч. Совсем такая же, как была у нас в Симбирске.
Н а д я. С Маняшей выбирали.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ты не представляешь, как это мне дорого!.. Кажется, немного успокоилась?
Н а д я. Немного успокоилась.
В л а д и м и р И л ь и ч. А это что? Перчатки?
Н а д я. Да.
В л а д и м и р И л ь и ч. Лайковые?
Н а д я. Ты же писал о них.
В л а д и м и р И л ь и ч. Разве? Ах, да. Это от комаров. Комары здесь злющие-презлющие. Волки, а не комары. Ты не боишься комаров?
Н а д я. Я ничего не боюсь.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ничего?
Н а д я. Ничего.
В л а д и м и р И л ь и ч. И мышей не боишься?
Улыбнувшись, она отрицательно покачала головой.
Вот то-то. А жандармов?
Н а д я. Нет.
В л а д и м и р И л ь и ч. И тюрьмы?
Н а д я. Нет.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ну… а ехать сюда? Вместо Уфы — сюда? Ведь это черт знает где! На краю света! Трусила?
Н а д я. Честно?
В л а д и м и р И л ь и ч. Честно.
Н а д я. Чуть-чуть.
(Совсем тихо.) Боялась, а вдруг ты меня как-то не так встретишь…
В л а д и м и р И л ь и ч. То есть как это — не так?
Н а д я. Молчу. Но не перебивай, не перебивай меня! Я знаю, Володя, не часто у нас будет своя крыша над головой. И что впереди — неизвестно. Где будем — тоже. И будут разлуки, и, может быть, не одна, ведь так?
В л а д и м и р И л ь и ч. Так.
Н а д я. Я знаю и не боюсь.
В л а д и м и р И л ь и ч. Значит — навсегда?
Н а д я. На всю жизнь.
ЭПИЗОД ВТОРОЙ
Зима. Вьюга, метель. В этой метели, в кружении света и снега, постепенно вырисовывается, возникает комната в шушенском доме. Слышно, как завывает вьюга, но здесь тепло, уютно. В л а д и м и р И л ь и ч сидит на низенькой табуретке и сосредоточенно подшивает валенок. Потом откладывает иглу и, аккуратно сложив листки мелко исписанной бумаги, оттягивает вторую половину подошвы и просовывает туда листки. Н а д я, стоя у конторки, пишет.
Н а д я. Я написала так: «Дорогая Лидия Михайловна! Очень беспокоит ваш ревматизм. Носите эти валенки. Они еще хорошие, хотя и не новые, а подошвы у них двойные…»
В л а д и м и р И л ь и ч. Не надо «двойные». «Подошвы подшиты кожей от сырости». Или что-нибудь в этом роде.
Н а д я. Поймет?
В л а д и м и р И л ь и ч. Она опытный конспиратор. Пиши адрес — город Астрахань.
Н а д я. Помню.
В л а д и м и р И л ь и ч. Почерк изменила?
Н а д я. Как смогла. Как будем посылать?
В л а д и м и р И л ь и ч. Оказией через Минусинск, когда поедем на Новый год.
Н а д я. Думаешь, поедем?
В л а д и м и р И л ь и ч. Непременно поедем. Разрешение обещано. Смотри, как метет. Я думаю, Кржижановский с Зиной приедут, Лепешинские, Шаповалов. Ты не представляешь, как сейчас важно нам встретиться. Пойду-ка за дровами на завтра, пока сарай не занесло.
(Надевает куртку, выходит.)
Надя продолжает писать. Входит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а, открывает дорожную корзину, что-то в ней ищет.
Н а д я. Ты не заметила, он шапку надел?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Кажется, нет.
Н а д я. Ну вот, опять.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Понимаешь, Надя, нам надо с тобой поговорить, но лучше без него.
Н а д я. А что такое? Что-нибудь случилось?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Потом, потом…
Возвращается В л а д и м и р И л ь и ч. Он несет охапку дров и складывает их у печки.
В л а д и м и р И л ь и ч. Мне кажется, для того чтобы понять сегодняшний день, надо вырваться мыслью далеко вперед и посмотреть оттуда. А потом отойти назад и посмотреть из прошлого. Тогда-то становится ясно, что делать и с чего начинать. А дрова здорово сырые. К утру немного подсохнут. И я коры хорошей для растопки принес.
Н а д я. А почему шапку не надеваешь? Хочешь простудиться?
В л а д и м и р И л ь и ч. А я бегом — туда и назад. Не представляешь, что делается на дворе, — сбивает с ног. Знаешь, я думал, наивная-то романтика революции кончилась. Наступило другое время. Время мысли и разума. Мы должны жить в трезвой действительности, рассчитывать каждый ход, изучать все условия борьбы. Как в шахматы.
Н а д я. Мамочка, ты куда собираешься?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Я не хотела говорить при Владимире Ильиче, просто неловко. У нас опять не сходятся концы с концами. Мы задолжали лавочнику, на почту…
В л а д и м и р И л ь и ч. Позвольте, позвольте, как же так? Почему я не должен об этом знать?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Вы тут ни при чем!
В л а д и м и р И л ь и ч. А я, изволите ли видеть, ухитрился еще заказать две книги наложенным платежом, не сегодня-завтра принесут.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Владимир Ильич, во всем виновата я! Опять и опять не рассчитала…
Н а д я. Потому что никогда со мной не посоветуешься.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Ну, какая ты хозяйка, Надя, смешно, право.
В л а д и м и р И л ь и ч. Нет уж. Виноват я! Я — растратчик! Назаказал книг, журналов! Разве нельзя было обойтись без «Нивы», без «Финансового вестника»?
Н а д я. К «Ниве» — приложение Тургенева. Ты так хотел.
В л а д и м и р И л ь и ч. Нет, нет! В следующий раз будем на общем совете решать, сколько и что я могу выписывать.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Разве я об этом, Владимир Ильич!
В л а д и м и р И л ь и ч. Что поделать, если меня систематически подводят! Вот смотрите — послал статью в «Новое слово», а журнал закрыли. Написал «К характеристике экономического романтизма», очень важная статья, против теорий народничества, а не печатается и не печатается. Но книгу издадут! Согласитесь, исследование о развитии российского капитализма с ссылками на официальные данные никого не испугает. А пока…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. А пока… Уверяю вас, у нас не такое плохое положение…
В л а д и м и р И л ь и ч. Согласен.
(Прищурился.) Имейте в виду — правительственные чиновники боятся нас гораздо меньше, чем прежних революционеров…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Вы думаете?
В л а д и м и р И л ь и ч. Безусловно. Хотя бы по одному тому, что мы
(патетически) не угрожаем царю бомбами и не стреляем в губернаторов!..
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Прикрой дверь, Надя.
В л а д и м и р И л ь и ч. Как вы заметили, мы и отделались-то сравнительно легко — всего тремя годами. А пока они сообразят, что мы за птицы, мы уже будем на воле. Так что надо перебиться… Что поделать, если с издательствами и журналами такая волынка…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Нормальная волынка. Каждый из вас делает свое дело нормально — и вы, и Надя, а вот я — никуда не гожусь. И не спорьте со мной.
Н а д я. Мама!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Что?
Н а д я
(достает из укромного уголка конторки зелененькую бумажку). Вот… завалялась…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Три рубля?
Н а д я. Хватит?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. За глаза. И в первую очередь отдам лавочнику.
В л а д и м и р И л ь и ч. Преотлично! И лавочнику, в первую очередь лавочнику, вы совершенно правы! Но я-то?.. Хорош литератор! Ни копейки!
(Комически развел руками.) Впору заняться сапожным ремеслом!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(смеется). Этого еще не хватало!
Н а д я
(Владимиру Ильичу). Прогоришь как сапожник, прогоришь!
В л а д и м и р И л ь и ч. А вот нет! А это что? Валенок. А кто подшил? Я! А набойки на твоем башмаке?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Как дети.
(Ушла.)
В л а д и м и р И л ь и ч. Надя!
Н а д я. Что?
В л а д и м и р И л ь и ч. А откуда эти… завалявшиеся?
Н а д я. Видишь ли… Выходит статистический сборник Нижегородской губернии.
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, да, да, да. Я всегда был уверен: если бы не Елизавета Васильевна, то мы бы давно варили суп из «Русской мысли» и закусывали статистическими сборниками Нижегородской губернии…
Н а д я
(сердито). Посмотрю, как ты обойдешься без этого сборника.
(Отвернулась к окну.) Вьюга! Какая вьюга!.. «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий…» Володя, а к утру наш дом совсем занесет с крышей, и останется одно лишь окошечко… «Мутно небо, ночь мутна…»
ЭПИЗОД ТРЕТИЙ
Вьюга за окном стихает. Квартира Старковых и Кржижановских в Минусинске. И чем-то рождественским, предновогодним сразу пахнуло на нас… В углу стоит елка. Ее еще украшают и накрывают на стол — Г л е б К р ж и ж а н о в с к и й, З и н а Н е в з о р о в а, Ш а п о в а л о в, П а н т е л е й м о н Л е п е ш и н с к и й и его жена О л ь г а (в пенсне), С т а р к о в с женой Т о н е й и самый молодой из них — Н и к о л а й О р л о в.
Все празднично одеты, суетятся.
З и н а. Стульев определенно не хватит.
Т о н я. Надо положить гладильную доску.
С т а р к о в. Гениально! Два стула и гладильная доска. Подержите меня, я прикреплю звезду на верхушке. Коля, Пантелеймон, доска в кухне и там еще один стул.
(Прикрепляет звезду.)
К р ж и ж а н о в с к и й
(помогая ему). Елка — как в лучших домах Минусинска.
Ш а п о в а л о в. А эту вилку куда воткнуть?
(Он вообще немного мрачноват.)
Т о н я. Это для рыбы.
С улицы доносится пьяное пение:
Свя-а-тый бо-оже,
Свя-а-тый крепкий,
Свя-а-а-тый бессмертный,
Помилуй на-ас!..
Ух-ха! Ух-ха!
С т а р к о в. Уже! Не дождались двенадцатого часа. Давай-ка гирлянду.
О л ь г а
(Тоне). У тебя очень милая блузочка. Сама шила?
Т о н я. Конечно, сама.
О л ь г а. А я не умею. В наших условиях трудновато без этого.
Т о н я. В два счета научишься. Здесь даже мужчины научились.
З и н а. Воображаю Владимира Ильича с иголкой.
Т о н я. Еще как управлялся, ты бы видела.
З и н а. И рюмок не хватает!
С т а р к о в. У Ольги должны быть медицинские банки.
Ш а п о в а л о в. Из медицинских банок я не пью.
Николай выходит и возвращается с гладильной доской, за ним идет Л е п е ш и н с к и й со стулом и табуреткой.
Н и к о л а й. Надежду Константиновну я знаю хорошо, а его видел раз и честно скажу — побаиваюсь.
Л е п е ш и н с к и й. Что так?
Н и к о л а й. Да говорят, ежели при нем скажешь чего-нибудь не то, так он разделает под орех.
Л е п е ш и н с к и й. Это бывает.
Н и к о л а й. Вот и побаиваюсь. Как будто генерал едет.
К р ж и ж а н о в с к и й. А вот мы его и встретим, как генерала!
(Старкову.) Пропусти-ка, Базиль, еще эту гирляндочку, самолично склеил. Тащи чуть наверх. Еще. Вот так. Красота!
З и н а. Детство, детство, где ты?
Ш а п о в а л о в. Предрассудки все это.
З и н а. Не скажите, в традициях есть своеобразная прелесть. Чем плохо?
Н и к о л а й. Наверно, хорошо, только у нас елки не делали. На какие шиши? Семь душ, один работник.
К р ж и ж а н о в с к и й. Тихо! Бубенцы.
Все бросились к окнам.
О л ь г а. Кто-то подъехал!
Н и к о л а й. Они!
Т о н я. Ильичи! Ильичи подъехали!
К р ж и ж а н о в с к и й. Встречать, живо!
Веселая суматоха. Одни выбегают в переднюю, другие торопливо зажигают свечи на елке. Звенит колокольчик.
Голоса:
«Ух, наконец-то!»
«Сюда, сюда!»
«А мы боялись, что не доберетесь!»
«Глеб, ты?»
«Я, я, Ильич, собственной персоной!»
«Выехали — было тихо, а в поле началось…»
«Держите его, а я стащу валенки…»
В передней и у входа столпились все, так что по-прежнему приехавших не видно.
Голоса:
«А это Николай, тоже наш, питерский».
«Как же, слыхал про него. Здравствуйте!»
«Не бойся, Коль, генерал не кусается!»
Хохот.
«Глеб, укушу, если будешь щекотаться…»
«Ведите ее в комнату, она совсем замерзла…»
С т а р к о в, Т о н я и Н и к о л а й ведут Н а д ю, на ходу продолжая раскутывать навороченные под ее шубкой платки.
Н а д я. Ну, рассказывай про свою малышку, какая она?
Т о н я. Девчонка вся в меня, вот увидишь.
С т а р к о в. Не в нее, а в меня.
Т о н я. Сейчас увидишь. Что делается, Надюша! Тебя-то я еще и не видела в роли жены и хозяйки!
Н а д я. Ой, какая я хозяйка, у меня все вот так, Тоня…
Н и к о л а й. Надежда Константиновна! Неужели вы меня не признаете? Я с Путиловского. Учился у вас в воскресной школе…
Н а д я. Вы…
Н и к о л а й. Не помните! А это я вам сказал: барышня, научите меня настоящие книжки читать…
Н а д я. Кажется, вспомнила…
Н и к о л а й. Нет, нет… В синей косоворотке, в пиджаке…
Н а д я. Николай Орлов! Коля!
Н и к о л а й. Он самый! Я! Я! Только теперь у меня…
Поглаживает бородку, но тут же сконфуженно замолкает, потому что входит В л а д и м и р И л ь и ч.
В л а д и м и р И л ь и ч. У, какие конспираторы! Елка, свечечки!
К р ж и ж а н о в с к и й. А как же! Новый год — не придерутся.
С т а р к о в. Да, Новый год. И все как в лучших домах. Зажглась елка, а на углу у костра мерзнет шпик, наш вечный страж и спутник.
В л а д и м и р И л ь и ч. Откройте штору, пусть любуется.
К р ж и ж а н о в с к и й. Быть может, вынести бедняге чуточку погреться?
Ш а п о в а л о в. Ни в коем случае.
С т а р к о в. Принято единогласно. Продолжаю. Вы все знакомы, и тем не менее по долгу одного из хозяев этой квартиры начинаю торжественную часть. Компанья невеличка, але бардзо знакомита, как говорят наши друзья поляки. Прошу, Владимир Ильич, весьма уважаемый полицией господин Ульянов, не по возрасту прозванный еще в Питере — Старик, хотя я его ничуть не моложе. А это его супруга. Педагог, и у нее такой же адский характер. Кржижановский Глеб Максимилианович, по тужурке видно, что в прошлом он студент-технолог. И кроме всего прочего, поэт и шахматист, единственный из нас, который говорит нашему Старику «ты». Зина Невзорова, его жена, припомните-ка, как она ловко протаскивала листовки на фабрику Лаферм. Пантелеймон Николаевич Лепешинский, прозывался «Лапоть». Побольше бы таких лаптей нашей Расеюшке! Ольга Борисовна, их супруга, она у нас медик, строгая дама. Александр Сидорович Шаповалов, мрачноватый металлист, но и среди текстильщиков свой брат рабочий. Наш молодчага Коленька с трудом нарастил бородку, чтобы казаться старше. Моя половина — Тоня, отчества не надо, хотя она уже мамаша. И, наконец, я — Старков Василий Васильевич, играю на гитаре и прозываюсь в иных случаях по-французски — Базиль.
(Кланяется.)
В л а д и м и р И л ь и ч. Не много нас, конечно. «Компания невеличка». Но все-таки собрались. И это очень важно, что собрались.
К р ж и ж а н о в с к и й. Ефимов еще должен был быть, но он болен, и, пожалуй, всерьез.
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, ты писал. А что с ним?
К р ж и ж а н о в с к и й. Оля?
О л ь г а. Функциональный психоз. Мания преследования, Владимир Ильич. Не знаю, что делать.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но ведь в Минусинске есть больница?
О л ь г а. Есть. Но тут не с кем говорить. Надо везти в Красноярск. Была я вчера у нашего драгоценного подполковника, просила…
В л а д и м и р И л ь и ч. А он?
О л ь г а. Величественно молчит. Не его, дескать, дело.
В л а д и м и р И л ь и ч. Потому что не просить надо, а требовать. Требовать!
(Ходит по комнате.)
Все примолкли.
Не выдержал человек. Вот в чем дело. Не выдержал. А кто виноват?
С т а р к о в. Этап у него был трудный.
Ш а п о в а л о в. Допросы тяжелые.
В л а д и м и р И л ь и ч. Тем более надо было подумать о нем. Поймите — они хотят, чтобы все мы стали живыми трупами. Это их задача, это их цель, а мы будем здоровыми наперекор всему. Так или нет? И душевно и физически.
(Кржижановскому.) На коньках катаешься?
К р ж и ж а н о в с к и й. Загляну к тебе в Шушу — увидишь сам! Наперегонки хочешь?
Н а д я. Смотрите, Глеб, проиграете!
В л а д и м и р И л ь и ч. А я не шучу. Ко всем относится. Режим! Строжайшее расписание на каждый день! Утром гимнастика. Колите дрова. Расчищайте снег, потом — за книги. Потом прогулка и небольшой отдых после обеда. Кто занимается языком — прекрасно. Можно перебить легким чтением. А перед сном — шагать, шагать в любую погоду. В десять, самое позднее в одиннадцать — сон!
Н а д я. А сам перестал спать.
В л а д и м и р И л ь и ч
(слегка сконфузился). А что я могу поделать, если у меня чертовская бессонница?
Н а д я. Нет, не бессонница. То и дело вскакивает ночью и что-то записывает. Называется, живет по расписанию. Режим.
В л а д и м и р И л ь и ч. Не сплю, да, не сплю. Времени не хватает! И чем дальше, тем хуже. Братцы, считаю дни! Раньше этого не было! А сейчас, когда близок срок… Как же не думать? Ведь надо понять до конца, на каком мы свете, решить…
Ш а п о в а л о в. Вот именно. Все неясно. Кругом разброд.
В л а д и м и р И л ь и ч. Вот я и спрашиваю — как же быть? Не сегодня-завтра кончится ссылка. Попробуйте ответить: с чего будем начинать?
С т а р к о в. По-моему, надо готовиться к новому съезду.
В л а д и м и р И л ь и ч. К съезду?
Тут все загалдели.
К р ж и ж а н о в с к и й. Наверно, еще нельзя.
Л е п е ш и н с к и й. То есть как это — нельзя?
О л ь г а. Почему — нельзя?
К р ж и ж а н о в с к и й. «Почему», «почему». Не готовы.
Т о н я. Ой, проснулась!
(Убегает в соседнюю комнату.)
Л е п е ш и н с к и й
(переходя на шепот). Так что же, по-твоему, делать?
Слышно, как Тоня успокаивает ребенка, напевая.
После «Союза борьбы», после арестов снова — кружки?
З и н а. Какие кружки? Разве в них дело?
Ш а п о в а л о в. Правильно, кустарщина!
В л а д и м и р И л ь и ч. А как же от нее освободиться, от кустарщины?
З и н а. Мне вот пишут о питерской стачке…
Н и к о л а й. Да не только у нас в Питере. А в Екатеринославе, в Орехове, не слыхали?
Ш а п о в а л о в. А в деревне что творится?
О л ь г а. Студенты тоже…
Н и к о л а й. Аресты, аресты, а все равно не остановить…
К р ж и ж а н о в с к и й. Не только рабочая, но и крестьянская Россия зашевелилась! Правда, волнения пока стихийны, то там, то здесь, но их надо объединить, возглавить…
Т о н я
(появившись с малышкой на руках). Да!
(Кричит.) Легко сказать — объединить!
О л ь г а. Тише, разбудишь!
Т о н я. А у нас так иногда кричат, что она привыкла. Она от тишины просыпается. О каком объединении можно говорить, когда развелось столько путаников! Кусковы, Струве…
Н а д я. Ты хоть руками не махай.
Т о н я. Тут поневоле размахаешься.
С т а р к о в
(берет у нее ребенка). Распутывать, распутывать надо…
(Уносит его.)
К р ж и ж а н о в с к и й. Вот именно. Ошибка на ошибке едет и ошибкой погоняет.
Н а д я. Это не просто ошибки. Некоторые договорились до того, что рабочим не нужно никаких Марксов и Энгельсов.
Ш а п о в а л о в. Вот те раз! А кто это написал?
Н а д я. Струве. В «Новом слове». Устарела, мол, Марксова теория. Она возникла шестьдесят лет тому назад, а с тех пор изменились-де материальные условия производства. Так и написал. Знакомая песенка. Нет, тут не распутывать надо, а разрубать!
Н и к о л а й
(не выдержав). До чего ж я счастлив, что попал в казематку, а оттуда сюда, в ссылку!
Л е п е ш и н с к и й. Что-что?
Н и к о л а й. До чего здорово, что мы здесь!
Ш а п о в а л о в. Вот те раз! Нашел чему радоваться, чудак!
Н и к о л а й. А как же! Я-то раньше не понимал, что такое эти самые экономисты, или как их там… Думал, они за рабочих. А ведь как хитро! За штраф — воюйте, за копейку — воюйте, а что тебя за человека не считают — это неважно. Не суйся, мол, в калашный ряд. А у рабочего, между прочим, и тут и тут давно пробудилось.
В л а д и м и р И л ь и ч. Вот! Этот разговор мне нравится. Речь, стало быть, о чем? О борьбе за политические права рабочего класса. Нас с самого начала порицают, что мы выбрали путь борьбы, а не путь примирения. А наша задача — создать революционную рабочую партию. Вот нас и тянут со всех сторон в болото. Да, верно, тут дело хитрое, и придется дать бой не только врагам, но и так называемым друзьям.
Л е п е ш и н с к и й. А где? Где этот бой давать?
В л а д и м и р И л ь и ч. Где?
(После небольшой паузы.) На страницах своей газеты.
С т а р к о в. Ого! Своей газеты!
В л а д и м и р И л ь и ч. Да. Общерусской газеты революционных марксистов.
Ш а п о в а л о в. Благодарю. Один раз попробовали. На гектографе. И вот — все здесь. Пять тысяч верст от Питера.
К р ж и ж а н о в с к и й. Считай, пять тысяч с гаком.
Н и к о л а й. Ух ты… Своя газета!
Ш а п о в а л о в. А на чем печатать? Я человек опытный. Опять на гектографе? По пятидесяти экземпляров?
В л а д и м и р И л ь и ч. Нет, зачем же? На гектографе не годится. В типографии.
Л е п е ш и н с к и й. В России это невозможно, вы знаете.
В л а д и м и р И л ь и ч
(опять выдержав небольшую паузу). А — за границей?
Л е п е ш и н с к и й. Что?
И все смотрят на него молча, вдруг поняв, что он не сейчас это придумал, что он с этим и приехал сюда и только сдерживается…
С т а р к о в. За границей?
Н и к о л а й
(весело). Языка не знаю!
В л а д и м и р И л ь и ч. Вот именно — за границей. Вместе с группой Плеханова. Издавать там, а распространять здесь, в России.
Л е п е ш и н с к и й. Плеханов, конечно…
С т а р к о в. Это, безусловно, его участие может решить вопрос об издании.
Ш а п о в а л о в. А как он относится к нам? Не забыл ли в своей эмиграции, как мы выглядим?
К р ж и ж а н о в с к и й. Он не может не считаться с нами. Мы то самое поколение, с которым связано и его будущее.
В л а д и м и р И л ь и ч. Не сомневаюсь, он это понимает.
Ш а п о в а л о в. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое…» А он нас не испугается?
Л е п е ш и н с к и й
(фыркнул). Как бы мы его не испугались!
К р ж и ж а н о в с к и й. Кто из нас не воспитывался на его книгах? А о чем он писал? А о чем пишет теперь? Разве это не наша линия? А его международный авторитет и огромные связи за границей?..
Ш а п о в а л о в
(мрачно). Согласен, мы без него как без рук.
В л а д и м и р И л ь и ч. Я, как и Глеб, уверен, что мы дадим наш первый бой рядом и вместе с ним. Для разногласий поводов нет.
(Посмотрел на часы.) Ого! А время-то, время!
Т о н я. К столу! К столу!
Все шумно рассаживаются. Сутолока.
Г о л о с а. Садитесь осторожно, этот стул сломан!
— Предупреждаю, вилок не хватает!
— Да, да, газета станет собирающим центром! Она станет как бы лесами для всего революционного здания!
— Не садитесь с краю, пока не сядут с другого конца, а то рухнем…
— Наливайте вина!
— Почитай Маркса, сколько раз я тебя тыкал в простейшие вещи…
— А ты не тычь, я сам грамотный…
— У всех налито?
— Не хватайте рыбу, это главный удар!
— Ты только подумай — своя газета!
— Старик недаром страдал от бессонницы.
— Тихо, тихо!
Начинают бить часы. Все стоят. Самому старшему из них чуть более тридцати, а выглядят они моложе — совсем молодые, с молодыми бородками. Стоят в торжественном молчании. Бьет двенадцать ударов.
В л а д и м и р И л ь и ч. С Новым годом, товарищи! Нет, не с Новым годом, а с кануном нового века! Ура! Все. Ура!
Н и к о л а й. Захлестывает душу! Надежда Константиновна, а?
К р ж и ж а н о в с к и й
(запевает).
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут…
В с е
(подхватывают).
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут…
В л а д и м и р И л ь и ч. Нас еще очень мало. Но хорошо организованная малая сила одолеет и намного большую силу.
В с е
(продолжают петь).
Знамя великой борьбы всех народов…
Н и к о л а й. Братцы! Назовем нашу газету «Вестник революционной мысли в бой за пламя!».
С т а р к о в
(постучав пальцем по лбу). Загнул! Сразу не выговоришь!
Т о н я. Нужно коротко, броско — «Гроза»!
Л е п е ш и н с к и й. «Перед грозой».
Ш а п о в а л о в. «Буря».
З и н а. «Огонь». «Взрыв».
Н а д я. «Из искры в пламя».
В л а д и м и р И л ь и ч. А если просто «Искра»?
Т о н я. «Искра»? Одна «Искра»?
В л а д и м и р И л ь и ч. Одна.
Н и к о л а й. Выражает.
В этот момент зазвонил дверной колокольчик.
К р ж и ж а н о в с к и й. Кто-нибудь еще должен прийти?
Т о н я. Нет, никто.
Звонок настойчиво звонит.
К р ж и ж а н о в с к и й. Пойду открою.
(Направился в переднюю.)
Л е п е ш и н с к и й. Старков! Гитару! Падеспань!
С т а р к о в
(взял гитару). Тара-ри-тара-ра-тира-тира-тира!
Встали парами. Танцуют.
К р ж и ж а н о в с к и й
(возвращаясь, негромко). Поздравители.
(В сторону передней.) Прошу.
Входит ж а н д а р м с к и й п о д п о л к о в н и к.
П о д п о л к о в н и к. Извините, господа.
(Оглядывает присутствующих.) Вы — господин Ульянов, если не ошибаюсь?
В л а д и м и р И л ь и ч. Я. А в чем дело?
П о д п о л к о в н и к. Попросил бы остальных присутствующих оставить меня на несколько минут вдвоем с господином Ульяновым.
С т а р к о в. Позвольте, на каком основании? Это мои гости.
З и н а. А мы никуда не уйдем.
П о д п о л к о в н и к. Пройдите в соседнюю комнату.
Т о н я. Там спит моя дочка.
Л е п е ш и н с к и й. Да и вообще, что это такое?
З и н а. Мы никуда не пойдем, и все!
П о д п о л к о в н и к. Извольте, оставайтесь.
В л а д и м и р И л ь и ч. Выйдите лучше, друзья, во избежание шума.
Все потихоньку выходят.
(Подполковнику) Чему я обязан? В столь неурочный час?
П о д п о л к о в н и к. Кто был организатором этой сходки? Вы?
В л а д и м и р И л ь и ч. А почему вы называете встречу Нового года сходкой?
К р ж и ж а н о в с к и й
(высовываясь). У каждого из нас специальное разрешение на приезд в Минусинск.
П о д п о л к о в н и к. Знаю, знаю.
В л а д и м и р И л ь и ч. В чем же незаконность?
П о д п о л к о в н и к. В том, что здесь происходит.
В л а д и м и р И л ь и ч. А что же, собственно, происходит?
П о д п о л к о в н и к. Антиправительственные беспорядки.
В л а д и м и р И л ь и ч. Что?
П о д п о л к о в н и к
(потушил свечу на елке; повысив голос). Антиправительственные беспорядки.
(Показывает на окно.) Видите, костры?
В л а д и м и р И л ь и ч. Вижу.
П о д п о л к о в н и к. Так вот, там все слышно.
(Осторожно икнул и строго посмотрел.) Пение.
В л а д и м и р И л ь и ч. Черт возьми! Неужели из-за этого вы покинули свой праздничный стол? А я вот давеча приезжал и натолкнулся на пьяную ораву, которая пела «Святый боже, святый крепкий, ух-ха-ха!» Богохульство! На что полиция смотрит?
П о д п о л к о в н и к. Я не шучу, господин Ульянов.
В л а д и м и р И л ь и ч. И я не шучу.
П о д п о л к о в н и к
(усаживаясь у стола). А что, ежели мы составим сейчас соответствующий протокольчик?
В л а д и м и р И л ь и ч. Вряд ли, вряд ли, господин подполковник.
П о д п о л к о в н и к. То есть как это? Я его именно составлю, а вы его подпишете.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ни в коем случае.
П о д п о л к о в н и к. То есть?
В л а д и м и р И л ь и ч. Я юрист и люблю доказательства.
П о д п о л к о в н и к
(вспылил). Доказательства? Так вот, без всяких доказательств: завтра, то есть уже сегодня утром, вы уедете по месту пребывания в ссылке.
В л а д и м и р И л ь и ч. Понимаю. Вам так спокойнее. Но я не согласен. Во-первых, мне дано право на трехдневное пребывание в Минусинске. Во-вторых, отсюда, до возвращения к себе, я заеду в Тесь к больному товарищу.
П о д п о л к о в н и к. Вы уедете сразу в Шушенское.
В л а д и м и р И л ь и ч. А мне сдается, что господин подполковник забыл, что, в соответствии с шестнадцатым параграфом положения о ссыльных, в случае необходимости срочной медицинской помощи…
П о д п о л к о в н и к. Хорошо. На один день разрешаю.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но, возможно, мне придется дня через два дополнительно побеспокоить вас.
П о д п о л к о в н и к. Чем же?
В л а д и м и р И л ь и ч. Мы доставим ссыльного Ефимова из Теси сюда, и вам надо будет помочь перевезти его в больницу в Красноярск.
П о д п о л к о в н и к. Напишите прошение.
В л а д и м и р И л ь и ч. Хорошо. Все?
П о д п о л к о в н и к
(встал). Все.
(Направился к выходу, в дверях.) Отнюдь не расположен создавать вам личные затруднения, господин Ульянов, но имейте в виду, что я действую не только по инструкциям своего красноярского начальства, но, увы, и по инструкциям из Санкт-Петербурга.
В л а д и м и р И л ь и ч. Неужели? В чем же еще и там я замечен?
П о д п о л к о в н и к. Не знаю, не знаю. Вам видней. Не знаю.
(Ушел.)
К р ж и ж а н о в с к и й
(входит, за ним остальные, поет).
О бедном гусаре
Замолвите слово…
В л а д и м и р И л ь и ч. Он пришел как нельзя более кстати. Я, кажется, кое-что устроил для Ефимова.
Л е п е ш и н с к и й. Падеспань! Падеспань!
К р ж и ж а н о в с к и й. Тари-ри, тара-ра…
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ
Комната Ульяновых в Шушенском. В л а д и м и р И л ь и ч пишет, стоя за конторкой; Н а д я — за столом.
В л а д и м и р И л ь и ч. Надя! А если на третьей странице зачеркнуть начало?
Н а д я. Зачем?
В л а д и м и р И л ь и ч. Не нужно сразу дразнить противников. Нанесем удар чуть позже. Если начать так: «Автору известно, что с некоторых пор стали модными некие дамские сочинения, так сказать, в духе Карла Маркса…» Карла Маркса… «Но они не имеют никакого отношения к Марксу…» Получается?
Н а д я. Вполне.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ну вот…
(Встал, ходит по комнате.) А в проекте программы надо особенно подчеркнуть слова о росте нищеты, гнета, эксплуатации. Русский капитализм после крепостного права сделал громадные успехи. Внешне мы начинаем выглядеть богаче. Ах, да, собираемся догнать Европу! Ну-с, а нищета масс, а унижение, а бесправие? Можно ли с такой вот мерзостью двигаться вперед? Или лучше закрыть глаза и сделать вид, что не видишь? Недаром мнимые революционеры, мнящие себя марксистами, так тщательно обходят эти гневные Марксовы слова о нищете и бесправии. Это ли не способ примирения с антинародным режимом, прямое скатывание в болото самой откровенной реакции?
Н а д я. Некоторые господа это делают для того, чтобы удержаться на вершинках своего общественного благополучия.
В л а д и м и р И л ь и ч. Бывает и так. Ты почитай, до какой степени самодовольства и шовинизма дошли наши так называемые лидеры. Опошлить можно все, даже самые великие идеи!.. Ты что пишешь? Мучаешься с переводом? Помочь?
Н а д я. Я пишу Марии Александровне.
В л а д и м и р И л ь и ч. Умница. А я только собирался.
(Заглядывает через ее плечо.) Ну что ты там пишешь моей маме? Э! Да тут что-то про меня…
Н а д я. Читай, читай.
В л а д и м и р И л ь и ч. «Володя усиленно занимается всякой философией, это теперь его официальное занятие. Я смеюсь, что с ним скоро страшно будет говорить, так он этой философией пропитается. А об охоте одни разговоры: знаменитое его ружье лежит в чехле». Неблагородно. Не вижу ни малейшего почтения к своей особе.
Н а д я
(смотрит на него, улыбается). Столько почтения, столько уважения, что прямо стыдно.
В л а д и м и р И л ь и ч
(приобняв ее, читает дальше). «Теперь до отъезда осталось совсем мало. Я уже подала прошение в департамент полиции, чтобы меня пустили в Псков, если Володя поедет туда». Туда разрешат.
Н а д я. Ничего лучшего и желать нельзя! Оттуда легко наладим связи с Питером.
В л а д и м и р И л ь и ч. Не только с Питером! Я поэтому и попросился в Псков.
(Раскрыл атлас и углубился в карту.)
Н а д я. Ой-ой-ой! Что я вижу! Он начал изучать географию!
В л а д и м и р И л ь и ч. Вот — Питер. Невская застава. Ты знаешь, она мне по ночам снилась.
Н а д я. И мне. Угу.
В л а д и м и р И л ь и ч
(длинно проводя пальцем по карте). А вот — мы.
Н а д я. Покаюсь, я тайком не раз заглядывала в карту, и сердце падало, как мы далеко…
В л а д и м и р И л ь и ч. Если бы я это увидел, я бы запретил тебе подходить к карте. Знаешь, в начале ссылки я к атласу не притрагивался: такая горечь брала от этих разных черных точек…
Но скоро этому конец. Конец, конец!
Н а д я. А у меня еще год, Володя… А вдруг меня направят в Уфу?
В л а д и м и р И л ь и ч
(нахмурился). Не думаю.
Н а д я. А что, если все-таки направят? Тогда разлука на год? Не представляю себе, как я буду целый год без тебя…
В л а д и м и р И л ь и ч. Ну что такое год! А кроме того, какая им, в конце концов, разница, где ты будешь — в Уфе или в Пскове? Не забывай, ты моя законная жена. В своем прошении я это особенно подчеркнул, и мне почти наверное обещали…
Входит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Почта, почта!
В л а д и м и р И л ь и ч. Ага! Сейчас будем суп варить!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Одну минуту.
(Быстро выходит и вскоре возвращается, неся горячий чайник.) Осторожно, кипяток.
В л а д и м и р И л ь и ч
(уже перебирает конверты). Окно!
Все проходит весело и организованно. Окно прикрывается ставнями и кое-где газетами.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Ну вот, ни одной щелочки. А теперь я посижу на кухне. Мало ли что…
(Уходит.)
В л а д и м и р И л ь и ч
(просматривает конверты, некоторые вскрывает). Из Питера… еще из Питера… От мамы… от Маняши… А это от железнодорожников… Тебе… И это тебе… Из Нижнего… Открытка из Астрахани. «Валенки очень понравились соседям. Если будет возможность, пришлите еще».
Н а д я. Теперь эта возможность будет.
В л а д и м и р И л ь и ч. Надеюсь. А вот из Туруханска.
(Вынимает из конверта листок и передает Наде.) Ну-ка, давай, давай…
Н а д я
(открывает крышку чайника и держит листок над паром и по мере проявления букв над обыкновенными строчками читает). «О вашем проекте газеты сообщил «виконт».
В л а д и м и р И л ь и ч. Это Потресов. Дальше.
Н а д я. «Горячо поддерживаем. Посылаю новые адреса явок».
В л а д и м и р И л ь и ч. Вот, вот, вот…
Н а д я
(продолжает читать). «Там получите письма из Женевы. Очень важные…»
Слышен лай собак. Голоса. Надя опускает письмо, вопросительно глядя на Владимира Ильича, и оба они прислушиваются.
Голос подполковника: «Тысячу извинений, мадам, тысячу извинений… Понимаю, столь поздний визит…»
Голос Елизаветы Васильевны: «Пожалуйста, но не спят ли они?» Голос лавочника: «Не-ет! В окошке свет виден».
В л а д и м и р И л ь и ч. Спокойно, Надя.
(Бросает письмо в чайник и поворачивается к двери.)
Входит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а, за ней ж а н д а р м с к и й п о д п о л к о в н и к, л а в о ч н и к и неизвестный худощавый ч е л о в е к в судейской форме.
П о д п о л к о в н и к. Извините, господа. Вынужден взглянуть. Нарушить, так сказать, уединение. В связи с окончанием, господин Ульянов, срока вашего пребывания здесь счел нужным… И, соблюдая форму… вы, как юрист, поймете… решил произвести осмотр, так сказать, под наблюдением господина помощника прокурора из Красноярска.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а
(наклонил слегка голову). Имею честь.
(И сел на ближайший стул.)
П о д п о л к о в н и к
(лавочнику). Приступайте.
Л а в о ч н и к. С книг, что ли?
П о д п о л к о в н и к. Начните с полочек.
(Подошел к столу. Владимиру Ильичу.) Ключики позвольте.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ящики не заперты.
П о д п о л к о в н и к. А то бывает, бывает…
(Открывает ящики один за другим, выгребая оттуда бумаги и перекладывая их на подоконник, где стоит чайник.) Печальный долг службы…
(Смотрит на чайник.)
Н а д я. Нет ли ответа на мое прошение относительно Пскова?
П о д п о л к о в н и к. Вам запрещено.
(Владимиру Ильичу.) А вам дозволено. У вашей супруги, как известно, остается еще год ссылки, и ей, как было, определена Уфа. Ну-с, а по истечении срока она сможет переехать по вашему местожительству.
Лавочник сваливает книги на пол.
Перетряхните каждую в отдельности, не окажется ли бумажек или записок…
(Снимает абажур с лампы.)
Становится светло и неуютно. Обыск продолжается.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а
(обращаясь главным образом к Наде). В Красноярске в нынешнюю зиму было несколько совершенно столичных балов. Воображаю, как вы стосковались в этой глуши.
(Владимиру Ильичу.) Надеюсь, конечно, что ничего предосудительного у вас не обнаружится и, следовательно, не отразится на сроках вашего отъезда.
П о д п о л к о в н и к
(лавочнику). Корзинки, кровати — все осмотреть. Живей, живей.
(Приподнимает крышку чайника и, обжегшись, роняет ее.)
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Ах, Надя! Когда ты отучишься от беспорядка?
Н а д я. Мама, при посторонних…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. При чем тут посторонние? Здесь же тебе не кухня.
(Берет чайник.)
П о д п о л к о в н и к
(галантно). Не обожгитесь, горячо.
(Подает ей носовой платок.)
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Благодарю вас.
(Уносит чайник.)
П о д п о л к о в н и к
(помощнику прокурора). Сергей Андреевич, взгляните.
(Передает ему перевязанную рукопись.)
П о м о щ н и к п р о к у р о р а (развязал бечевку). А! «Развитие капитализма в России». Извините, в каком смысле?
В л а д и м и р И л ь и ч. Капитализм — от слова «капитал».
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. Ага. По поводу богатства пишете. В том смысле, чтобы его развивать?
В л а д и м и р И л ь и ч. Именно. В том смысле, как сделать нашу страну процветающей и великой державой.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. Однако же, какие еще суждения?
В л а д и м и р И л ь и ч. Можете прочесть. Книга вышла в издательстве Водовозовой, в марте этого года. В Санкт-Петербурге. Четыреста восемьдесят страниц. Цена два рубля пятьдесят копеек.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. Разрешена цензурой?
В л а д и м и р И л ь и ч. Следовательно, разрешена.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. Но это — не книга!
В л а д и м и р И л ь и ч. В этих ученических тетрадях — черновики.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. А книга?
В л а д и м и р И л ь и ч. Книги у меня еще нет, но я прочел о ее выходе в газетах. Должно быть, вы достанете ее в Красноярске.
П о д п о л к о в н и к. Вот это хорошо! Значит, о богатстве и процветании написали? Это правильно, а то отстаем. За границей, говорят, конки на электричестве ходят…
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(вошла, лавочнику). А вы еще в печку, в печку загляните. Может быть, там кто-нибудь прячется.
П о д п о л к о в н и к
(подходит к конторке, выкладывает оттуда вороха бумаг). Вот так… Посмотрим тут…
П о м о щ н и к п р о к у р о р а
(вдруг). А давно ли вы получали корреспонденцию из Женевы?
В л а д и м и р И л ь и ч. Откуда?
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. Из Женевы. От политического эмигранта Плеханова, например?
В л а д и м и р И л ь и ч. Вы без меня знаете, что таковой корреспонденции в адрес Шушенского не поступало.
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. О боже мой, но помимо почты случается и оказия!
В л а д и м и р И л ь и ч. Интересная мысль. Разве вы располагаете данными, подтверждающими факт моего мифического знакомства с эмигрантом Плехановым?
П о м о щ н и к п р о к у р о р а. Мы располагаем многими данными, господин Ульянов.
В л а д и м и р И л ь и ч
(насмешливо). Ах, многими! Ну, это другое дело.
П о д п о л к о в н и к. Мы располагаем всеми данными! А вот ящичек действительно интересный! Тра-ля-ля…
Н а д я. В этом ящичке я рыться не позволю. Там вещи мои личные и никакого отношения к делу иметь не могут.
П о д п о л к о в н и к. Уберите руки.
Н а д я. Я вам сказала, что не позволю!
П о д п о л к о в н и к. Отойдите!
(Оттолкнул ее.)
В л а д и м и р И л ь и ч. Без рук!
П о д п о л к о в н и к. Господин Ульянов! Я произвожу обыск в присутствии помощника прокурора из Красноярска и понятого из местных жителей. Этот обыск направлен против вас, а ссыльная Надежда Крупская пытается оказывать сопротивление власти, и я не намерен оставлять без внимания ее дерзости.
В л а д и м и р И л ь и ч. А я не намерен оставлять без внимания то, что сделано против меня.
П о д п о л к о в н и к. Сколько вам угодно.
В л а д и м и р И л ь и ч
(повышая голос). И подчеркиваю, что грубости, допущенные в отношении моей жены, я считаю в еще большей степени грубостями, чем те, которые направлены против меня. Прошу запомнить и извиниться.
П о д п о л к о в н и к. Что?
В л а д и м и р И л ь и ч. Извиниться перед моей женой прошу.
П о д п о л к о в н и к. Но… я… при исполнении…
П о м о щ н и к п р о к у р о р а
(поморщился). Оставьте этот ящик… Разве не видите? Там женские вещи… и вообще…
В л а д и м и р И л ь и ч. Я жду, милостивый государь…
П о д п о л к о в н и к
(взглянув на прокурора). Извольте…
(В сторону Нади.) Извините.
Владимир Ильич отводит ее в сторону.
(Выгребая двумя руками бумаги.) Тра-ля-ля… Тра-ля-ля…
В л а д и м и р И л ь и ч. Пожалуйста, поаккуратнее. Не смешивайте черновики с рукописями.
П о д п о л к о в н и к
(тотчас роняет все бумаги на пол). Извините.
(И, улыбаясь, разводит руками.)
Лавочник сваливает с полок горку книг, ходит по книгам, зверски трясет их. Комната постепенно уходит в темноту, а когда вновь освещается, то непрошеных гостей уже нет. В полном разгроме, образовавшемся после обыска, сидят В л а д и м и р И л ь и ч и Н а д я. В дверях стоит Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Что это? Как это назвать?
В л а д и м и р И л ь и ч. Одна из обычных процедур. К этому надо привыкать.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Боже мой, по дороге сюда я воочию увидела, что такое наша несчастная страна…
В л а д и м и р И л ь и ч. А раньше не замечали?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. И замечала, и думала об этом. Но когда сталкиваешься непосредственно…
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, разумеется, непосредственно — хуже.
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. И стыдно, понимаете, стыдно!
В л а д и м и р И л ь и ч. Ого! Это хорошо. Знаете, Карл Маркс полушутливо заметил, что стыд — это уже своего рода революция. Это гнев, только обращенный внутрь. А вот если бы целая нация испытала чувство стыда, что она живет пресмыкаясь, в страхе, боясь вымолвить слово наперекор, то она, говоря словами того же Маркса, была бы подобна льву, который сжался и замер, готовясь к прыжку!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Если бы… Но ведь у нас подавляют в людях все человеческое, даже стыд.
В л а д и м и р И л ь и ч. Совершенно верно, подавляют. Дидро говорил, что это именно так, потому что история человечества на протяжении веков есть история угнетения его кучкой мошенников. А уж в России-то мошенников хватает!
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Но должно же это когда-нибудь кончиться?
В л а д и м и р И л ь и ч. А зачем мы с Надей здесь?
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а. Завидую вашему спокойствию.
(Ушла и через секунду вернулась с чайником и поставила его на подоконник.)
В л а д и м и р И л ь и ч
(улыбаясь). А я завидую вашей находчивости.
(Тихонько аплодирует.)
Е л и з а в е т а В а с и л ь е в н а
(уходя). Ну вот еще…
(И ушла.)
В л а д и м и р И л ь и ч. Вот так вот… Не представляю себе, Надя, как я буду без тебя. Целый год!
Н а д я. Всего один год. Ну что такое один год, Володя?
В л а д и м и р И л ь и ч. Го-од!
Осторожный стук в дверь.
Кто еще?
Голос Елизаветы Васильевны: «Входите, входите, они не спят». Входят В а с е н а и П р о х о р.
В а с е н а. Пронесло?
В л а д и м и р И л ь и ч. Угу.
В а с е н а. А мы тут на уголке ждали, пока уйдет.
П р о х о р. Мобыть, в разумении этого беспорядка…
В а с е н а. Ах, головорезы, управы на них нет!.. Что делать-то?
(Наде.) Давай прибираться, что ли?
П р о х о р
(Владимиру Ильичу). В понимании совести, как бы это сказать, без них, вроде как без гнуса в тайге, не обойтиться, не проехать, одним словом, как это говорится, не пройтить, тьфу… А я вам дудочку выстругал и песенку подходящую знаю. Во-от…
(Тихонько проиграл мелодию и тихонько пропел.) «А я мальчонка хитренький, прикинусь сиротой…»
В л а д и м и р И л ь и ч
(веселясь). Да? Хитренький?
П р о х о р. «Где сад густой с малинником и пенье соловья, и путь туда хоть длинненький, но буду там и я…»
В а с е н а. Рехнулся совсем! Слышь, они уезжают от нас, вольная им вышла, слава те, а ты с дудочкой…
(Владимиру Ильичу.) Куда ж вы, коли не секрет?
В л а д и м и р И л ь и ч. Не секрет. Я — неподалеку от Питера, а она — в Уфу.
В а с е н а. Снова опять врозь?
В л а д и м и р И л ь и ч. Пока врозь.
В а с е н а. О-ох!
П р о х о р. Мобыть, это мельник клепает, язви его?..
В а с е н а. Проше все мельник чудится.
П р о х о р. Нет у его весов в нутре, вот о чем думаю.
В а с е н а. Оседайте уж вы поскорей, Владимир Ильич, пора уж, как все люди.
В л а д и м и р И л ь и ч. Попробуем, попробуем, как все люди.
П р о х о р. Без весов — как это можно?
В а с е н а. И там, где поспокойней, Владимир Ильич. Я так скажу — дом поставьте. Надоело небось по чужим-то дворам мыкаться?
В л а д и м и р И л ь и ч. Э, нет, весы не те.
В а с е н а. А вы накапливайте помаленьку. Вон минусинский врач, слыхали, корову заимел. А было у него что? Голь. Корова в хозяйстве — первое дело.
В л а д и м и р И л ь и ч. Думаю, корову не вытяну.
П р о х о р. В разумении таких людей, мобыть, не о корове он думает. Дура ты!
В а с е н а. Хватит. Пошли!
П р о х о р. Пошли.
В а с е н а. На дорогу пельменей заморожу. В дороге это первое дело.
П р о х о р. А на болотцах весной, помните? Мобыть, так и тянет, так тянет… Уж то-то побродили мы с ружьецом-то! Бывайте здоровы, Владимир Ильич.
Заиграл на своей дудочке тихонько, и оба они — Васена и Прохор — чинно вышли.
В л а д и м и р И л ь и ч. Целый год. Да ведь какой год! И врозь…
Н а д я. Все равно, Володя, мы будем вместе. И может быть, даже хорошо, что — в разных концах? Мобыть… хорошо?
В л а д и м и р И л ь и ч. Мобыть.
И словно исчезло все вокруг, ушла куда-то и высветилась только она одна.
Н а д я. Бодрилась, конечно, делала вид, а разлуку переживала очень… Я — в Уфу, он — в Псков… Срок его кончился в феврале. И вот наконец мы выехали. Ехали на лошадях по Енисею триста верст, день и ночь, благо, луна светила вовсю. Он заботливо укутывал меня и маму, на каждой станции по-хозяйски осматривал, не забыли ли мы чего-нибудь, и шутил… Мчались мы вовсю, а он ехал без дохи, уверяя, что ему жарко, и засунув руки в мамину муфту… Думала я потом — а как все было в Шушенском? Боялась взглянуть на карту… Точки, точечки… Куда нас занесло?.. Иногда становилось нестерпимо… Но разве мы жили плохо? Нет, Шушенское теперь — мое! Вспомню — и сжимается сердце… Как он учил меня кататься на коньках? А Новый год? А Глеб, а Зина, а Базиль и Тоня с ее малышкой? А наш особенный сибирский воздух? Он правду говорил — курорт! И Саяны видны оттуда совсем не так издали, как Монблан из Швейцарии!.. Да… Швейцария…
Чуть пошумливала метель в середине ее рассказа, а потом совсем затихла, и только слышался удаляющийся звон-перезвон колокольцев. Может быть, это их тройка без устали мчит их на волю, в Россию и дальше, дальше, дальше…
Т е м н о
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЭПИЗОД ПЯТЫЙ
Женева, август, 1900 год. Кафе. Несмотря на то, что еще утро, п о с е т и т е л е й много. Они говорят на различных языках. Иногда взрывается речь одного, но ее тут же заглушают голоса других. Чаще всего они говорят одновременно — то громче, то переходя на шепот.
По-французски: «Испарились времена мятежного Конвента, когда, поднявшись на трибуну, двадцатипятилетний Сен-Жюст потребовал казни короля во имя великих идей Жан-Жака. Франция! Родина свободы! Неужели она выпустила из своих рук это знамя?..»
По-немецки: «Весь мир твердит, что немецкая социал-демократия — самая передовая. Это верно, но, господа, я доложу вам, что жены некоторых наших лидеров ведут себя, как кухарки! Пошлость их быта…»
По-английски: «Не забывайте, в каком веке мы живем! Это век электричества, это век небывалого расцвета физики! Растут производительные силы, техника. Но может ли управлять всем этим современное буржуазное государство? Нужны абсолютно новые формы! Новые формы общества! Но какие? Какие?»
Входит В л а д и м и р И л ь и ч. Он безукоризненно одет, бородка подстрижена — стала короче, и он сейчас больше похож на портреты, к которым мы привыкли. Снимает котелок и макинтош и под разноязычный гул голосов, прислушиваясь к нему, направляется к самому крайнему столику, за которым одиноко сидит ч е л о в е к, углубившись в газету.
В л а д и м и р И л ь и ч. Без сомнения, это Потресов.
П о т р е с о в
(подняв взлохмаченную голову). Я, я! И уже давно тут.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но я не опоздал ни на одну минуту.
П о т р е с о в. Отнюдь! Отнюдь! Это я забираюсь сюда пораньше и могу часами сидеть, наслаждаясь после России этим воздухом свободы! Вы прислушайтесь только! О чем только не говорят! Такое чувство, как будто попал на другую планету.
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, да… А как вы думаете, здесь много филеров?
П о т р е с о в. Филеров?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, филеров. Притом наших, питерских.
П о т р е с о в. Не-е думаю.
В л а д и м и р И л ь и ч. Стоит подумать. Посмотрите, вон там, в углу. Женева — это такое прекрасное место для всяческих наблюдений! Да еще в кафе, где полно социалистов всех мастей. Болтунов. И неподалеку от Плеханова.
П о т р е с о в. Ай-яй-яй! Это болезнь! Российская действительность приучает к подозрительности.
В л а д и м и р И л ь и ч. К осторожности. Она и тут не помешает.
П о т р е с о в. Согласен. Но рассказывайте, рассказывайте. При мне начались хлопоты насчет паспорта…
В л а д и м и р И л ь и ч. Через псковского губернатора и при помощи медицинских справок, требующих моего лечения за границей, паспорт я выудил.
П о т р е с о в. Мы боялись, что сорвется.
В л а д и м и р И л ь и ч. Как видите, не сорвалось. Но наша страна полна чудес, в ней отсутствует логика. Заграничный паспорт мне выдали, а вот выехать в Уфу не разрешили.
П о т р е с о в. Смешно.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но я побывал в Уфе.
П о т р е с о в. Ой, человек…
Оба смеются.
В л а д и м и р И л ь и ч. Словом, пока в Питере спохватились, я вполне легально пересек границу.
П о т р е с о в. А как считаете, кое-что удалось?
В л а д и м и р И л ь и ч. Кое-что удалось. Вы были в Пскове и знаете, что я выезжал оттуда не раз, и не только в Питер. Могу твердо сказать, что в ряде городов уже образовались группы и они умело законспирированы. Связи, связи — вот что главное, Александр Николаевич. Сила революционной организации в числе ее связей. С этого мы и начали.
П о т р е с о в. Я, пожалуй, знаю больше.
В л а д и м и р И л ь и ч. Говорите тише. Я действительно думаю, что в России мы подготовили почву. Ну, а здесь?
П о т р е с о в. Здесь?
В л а д и м и р И л ь и ч. Не сорвется ли издание? Что слышно от Плеханова?
П о т р е с о в. Не пойму, но там что-то происходит. В двенадцать придет Вера Засулич. Она поехала к нему в Корсье и должна условиться о свидании. Вроде все налаживается, но я волнуюсь.
В л а д и м и р И л ь и ч. Так.
Помолчали.
П о т р е с о в. Надежда Константиновна еще в Уфе?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да. С ней группа наших — Цюрупа, Свидерский, Якутов.
П о т р е с о в. Так что и там ворошат?
В л а д и м и р И л ь и ч. Ворошат по возможности.
П о т р е с о в. Колоссально!
В л а д и м и р И л ь и ч. Ничего колоссального. Самое начало, самое начало. Газеты-то еще нет.
П о т р е с о в. Ну что вы! Плеханов с нами! Газета будет.
В л а д и м и р И л ь и ч. На каждом шагу можно оступиться, не забывайте об этом. Я вот перед самым отъездом выехал из Пскова в Петербург и на всякий случай поехал окружным путем, чтобы отделаться от хвостов, — и, представьте, попался. Выследили. Под самый, как говорится, занавес. Хорошенькое дело! У меня в кармане деньги, собранные на газету, и листок — счет из ресторана «Европа», на обороте которого химией написаны адреса заграничных явок. Если бы они догадались, пропало бы все наше дело. Не догадались. Ресторанный счет — это было выдумано неглупо. А задержать не посмели — я их поставил в тупик, помахав заграничным паспортом.
П о т р е с о в. А вот и Вера Ивановна.
К их столику идет В е р а З а с у л и ч, и Потресов спешит к ней навстречу. Она коротко стрижена. Непрерывно курит и обсыпается пеплом. В ту пору ей уже сорок девять лет. Среди посетителей многие ее знают и, улыбаясь, здороваются с ней.
П о т р е с о в. Ну как? Говорили с ним? Ну что он?
З а с у л и ч. Потресов, подождите. Дайте поздороваться с человеком.
(Владимиру Ильичу.) С приездом, здравствуйте. А я боялась, что вы так и не попадете к нам.
В л а д и м и р И л ь и ч. Почему?
З а с у л и ч. Бог мой, вы вели себя так вызывающе, выезжая из Пскова чуть ли не на глазах у полиции. Или всегда брали разрешения?
В л а д и м и р И л ь и ч. Нет, не всегда. Но я всегда был очень аккуратен.
З а с у л и ч. Настолько, что даже оставались ночевать в Питере.
В л а д и м и р И л ь и ч. Если оставался, то в разных местах.
З а с у л и ч. Нет, нет, вы очень рисковали.
В л а д и м и р И л ь и ч. Помилуйте, Вера Ивановна, приехав нелегально в Россию, вы рисковали гораздо большим.
З а с у л и ч. Я жила под крылышком Александры Михайловны Калмыковой и разъезжала в ее генеральском ландо, и никто не посмел бы меня тронуть.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ну, положим, если бы узнали, что в этом ландо сидит отчаянная террористка, заочно приговоренная к смертной казни…
З а с у л и ч. Бывшая террористка, а теперь плехановка. И я рисковала только собой, а вы — провалить начатое дело.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но разве газету мы собираемся издавать для швейцарского читателя?
З а с у л и ч. Нет, конечно.
В л а д и м и р И л ь и ч. Так вот, не значит ли это, что вся работа, естественно, началась не здесь, а там, то есть в России. Как же я должен был поступать?
З а с у л и ч. Но где вы только не появлялись! И в гавани, и на Путиловском…
В л а д и м и р И л ь и ч. Под разными именами, Вера Ивановна. И иногда наклеивал бороду.
З а с у л и ч. Он еще шутит! За вами шли следом.
В л а д и м и р И л ь и ч. Шли. А я знал.
З а с у л и ч. Но неужели нужно было делать все самому?
В л а д и м и р И л ь и ч. Иногда бывает, что нужно.
З а с у л и ч. Нет, вы были неосторожны. Очень неосторожны.
В л а д и м и р И л ь и ч. И вы.
Оба смеются.
П о т р е с о в
(Засулич). Курите все, курите, спасенья нет. Александра Михайловна жаловалась, что вы ей все одеяла и подушки прожгли.
З а с у л и ч. И от Плеханова мне достается. А что делать? Курю. Много курю. Может быть, от тоски.
(Владимиру Ильичу.) Скажите, а вот… ваши новые, молодые марксисты… они что… все такие же, как вы? И, конечно, не курят?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да нет, почему же? Некоторые курят.
З а с у л и ч. Вы не смейтесь. Мне все интересно, что делается в России. Все мелочи. Я потому и поехала, — хотя Плеханов и ругал меня, — чтобы посмотреть на русского мужика, какой у него нос стал.
В л а д и м и р И л ь и ч. Нос-то у него, пожалуй, понемногу меняется.
З а с у л и ч. Я видела мало, очень мало. Что можно было увидеть из генеральского ландо?
В глубине кафе негромко запели «Марсельезу».
П о т р е с о в
(закрыв глаза от наслаждения, замурлыкал). «Отречемся от старого мира…» Сон, сон… Это я пою!.. Какая страна!
З а с у л и ч
(Владимиру Ильичу). Мы не живем, мы прозябаем здесь… Вам, пожалуй, и не понять, что такое эмиграция. Это не ссылка и даже не тюрьма, это хуже — оранжерея. И как все осточертело! Вы думаете, Плеханов этого не чувствует?
В л а д и м и р И л ь и ч. Представляю себе. Он очень давно здесь.
З а с у л и ч. Но он все понимает! Вот почему ваша «Искра» его заинтересовала, нет, не заинтересовала — заволновала.
П о т р е с о в. Я же говорил.
З а с у л и ч. Но в последнее время он в дурном настроении. Не пойму, что с ним. Он стал подозрителен даже ко мне.
В л а д и м и р И л ь и ч. После вашего возвращения из России?
З а с у л и ч. Да, пожалуй. О вас много расспрашивал.
В л а д и м и р И л ь и ч. Обо мне? Что же именно?
З а с у л и ч. Да обо всем. О вашей полемике с народниками. О вас лично. Вы можете быть у него завтра во второй половине дня?
П о т р е с о в. Мы будем.
В л а д и м и р И л ь и ч. Разумеется.
З а с у л и ч. Он Аксельрода специально вызвал из Цюриха.
(Владимиру Ильичу.) Спрашивал, между прочим, очень ли вы переменились после ссылки.
В л а д и м и р И л ь и ч. Я познакомился с ним в девяносто пятом году. Когда впервые попал за границу. Но тогда я был еще очень мало обстрелян.
(Посмотрел на нее внимательно и, раздумывая, наконец ответил.) Очень ли я переменился? Да. Очень.
ЭПИЗОД ШЕСТОЙ
Кабинет Плеханова в Корсье. Сбоку — выход на веранду. В кабинете — А к с е л ь р о д, В е р а З а с у л и ч, П о т р е с о в и Р о з а л и я М а р к о в н а — жена Плеханова, высокая представительная дама.
А к с е л ь р о д
(переглянувшись с Засулич). Что-то они там задержались в саду…
З а с у л и ч. Георгий Валентинович, очевидно, показывает Владимиру Ильичу свои любимые розы.
Р о з а л и я М а р к о в н а
(Потресову, тихо). Жорж плохо себя чувствует. И он очень нервничал, когда говорил с Верой, ожидая вас.
П о т р е с о в. Розалия Марковна, вы напрасно предупреждаете меня. Ульянов относится к Георгию Валентиновичу с не меньшим пиететом, чем мы все.
А к с е л ь р о д. Любопытно… Любопытно…
Через веранду проходят В л а д и м и р И л ь и ч и П л е х а н о в. Черные густые брови, гордо поставленная голова и манера говорить делают Плеханова величественным. Свободно висящий пиджак небрежностью своей подчеркивает его природное, «барское» изящество. Рядом с ним Владимир Ильич выглядит скромно и кажется моложе своих лет. На веранде они чуть замедляют шаги, продолжая разговор.
П л е х а н о в. Вы знаете, что «Союз русских социал-демократов» был создан по моей инициативе. Тем не менее я и моя группа порвали с ним, как только увидели, что там не только разброд, но и откровенная оппортунистическая линия.
В л а д и м и р И л ь и ч. Мы с вами абсолютно согласны.
П л е х а н о в. Но это нелегко было сделать нам, находящимся вне России, в эмиграции.
В л а д и м и р И л ь и ч. Естественно.
П л е х а н о в
(повысив голос). Однако я думаю, я уверен, что я и моя группа были и остаемся центром русских революционных марксистов.
(Первым пропуская Владимира Ильича в кабинет.) Это именно так и именно потому, что мы — порвали. Вы сказали — естественно? Это так же естественно, как и то, что вы здесь, Ульянов. Прошу, садитесь.
(И сам опустился в кресло за большой письменный стол.)
Розалия Марковна чуть задернула занавеску, чтобы солнце не мешало ему.
Я внимательно следил за вами и искренно радовался тому, с какой великолепной резкостью вы, подхватывая мою линию, выступили против экономистов. Вы просто вышвырнули Кускову и Струве за пределы революционной мысли. Да, да. Вы еще молодой человек, но уже достигли заметного влияния в своей среде, а ваша идея издавать «Искру», как я уже говорил в саду, обнаруживает в вас незаурядные способности организатора. Браво!
В л а д и м и р И л ь и ч
(очень сдержанно). Не так уж я хорош, Георгий Валентинович.
П л е х а н о в. Не собираюсь говорить комплименты…
(Помолчав.) Ну что ж…
(Еще помолчав.) Приступим к делу.
(Взял несколько листков, пробежал их глазами.) Разумеется, я буду участвовать в газете. Вот и Вера Ивановна может подтвердить, как я отнесся к этой вашей затее.
З а с у л и ч. Горячо одобрил. Ведь наши связи с Россией почти совсем потеряны…
П л е х а н о в. Н-нет. И я не придаю газете столь решающего значения, как некоторые.
А к с е л ь р о д. Но, Жорж! Мы не случайно говорили, что именно вы должны ее возглавить…
П о т р е с о в. Георгий Валентинович!..
З а с у л и ч. Конечно! Кто же не понимает, как это необходимо для успеха дела.
Владимир Ильич настороженно молчит.
П л е х а н о в. Вот… Проект заявления от редакции. Это, конечно, написано вами?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да.
П л е х а н о в. Ваша группа вся солидаризируется с этим текстом?
П о т р е с о в. Да, да. Его обсуждали в Питере, в Москве, в Пскове, Нижнем, Уфе… Подольске… Самаре…
П л е х а н о в
(развел руками). Ну, тут, как говорится, после драки кулаками не машут!
В л а д и м и р И л ь и ч. Нет, почему же? Если есть возражения, поправки, мы только этого и ждем.
П л е х а н о в. Но, видите ли… Я беру листок. Читаю. И… не верю своим глазам.
В л а д и м и р И л ь и ч. Что же именно показалось вам странным?
П л е х а н о в. Странным? Нет. Несовместимым. Будущая газета, по вашему же определению, должна служить цели объединения всех русских социал-демократов в одну партию. И тут же вы пишете: в газете необходима полемика между всеми оттенками русской социал-демократии. Не вижу логики.
В л а д и м и р И л ь и ч. Это не так, Георгий Валентинович. Мы отнюдь не намерены сделать наше издание простым складом разнообразных воззрений. Это будет бой. Открытый бой ревизионистам. Наша партия только еще складывается, и надо провести четкую грань. Было бы близоруко замазывать углы и не видеть этого.
П л е х а н о в. Близоруко?
(Он вспыхивает, но сдерживается, улыбается.) В вас так и прорывается, что каждый инакомыслящий чуть ли не злодей. Нельзя же так!
В л а д и м и р И л ь и ч. Когда борьба достигнет решающей силы…
П л е х а н о в. Когда еще будет! А пока… Пока что для нас с вами близоруко поворачиваться спиной даже к либеральной буржуазии. Вы не находите?
В л а д и м и р И л ь и ч. Не нахожу.
П л е х а н о в. Тогда позвольте спросить: кто же окажется читателем вашей газеты?
В л а д и м и р И л ь и ч. Рабочие.
П л е х а н о в
(нервничая). Я задолго до вас утверждал, что в конечном счете — в конечном счете — пролетариат станет решающим фактором. Но я никогда не призывал к скороспелым выводам! Марксизм — трезвая штука, Ульянов. А вы забегаете вперед!
В л а д и м и р И л ь и ч. Я не забегаю.
П л е х а н о в. Нет, забегаете! Даже в деталях, в деталях…
(И опять сдержавшись и мягко, как о пустяках.) Вот, например, вы изволили приглашать меня в руководители газеты, а сами заранее все решили. Вы решили даже, где будет находиться редакция, типография… Как же так?
В л а д и м и р И л ь и ч. Могу объяснить.
П л е х а н о в. Нет, позвольте! Я обретаюсь в Швейцарии, Вера Ивановна и Павел Борисович — тоже, а газета — в Германии?
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, в Германии. В Лейпциге или в Мюнхене. Хотя бы по одному тому, что оттуда легче будет организовать переброску газеты в Россию и легче соблюсти конспирацию, потому что здесь, в ваших кафе, полно осведомителей.
П л е х а н о в
(встал). Но если все-таки вашему редактору невозможно переехать в Мюнхен! Он просто не собирается туда переезжать! Не хочет!..
(Несколько секунд болезненно трет виски.) Прошу извинить меня… Мне нездоровится… Я вынужден покинуть вас на некоторое время…
(Уходит.)
За ним спешит взволнованная Розалия Марковна. В кабинете остаются Владимир Ильич, Аксельрод, Вера Засулич, Потресов. Все сидят молча, напряженно. Потресов расхаживает по кабинету. Темнеет.
На веранде стоит П л е х а н о в. Вечерние цикады начинают свой томительный, неумолчный хор. Р о з а л и я М а р к о в н а нервно накапывает лекарство.
П л е х а н о в. Вот она, новая Россия.
Р о з а л и я М а р к о в н а
(подает ему рюмку с лекарством). Выпей, дорогой.
П л е х а н о в. Нет, нет… Я абсолютно здоров.
Р о з а л и я М а р к о в н а. И ты думаешь, что ни о какой совместной работе не может быть и речи?
П л е х а н о в
(резко). Я этого не сказал!
(И быстро вышел в сад.)
Розалия Марковна осталась на веранде. Двигаясь бесшумно, г о р н и ч н а я зажигает лампы в кабинете, уходит.
З а с у л и ч. Нельзя было не считаться с его самолюбием, я знаю Жоржа…
П о т р е с о в
(взорвался, набрасываясь на Владимира Ильича). Это все вы, вы!.. Не понимаю!.. У нас одна цель, одна — объединение! А вы к чему ведете? К расколу? К дракам?
В л а д и м и р И л ь и ч. Драки будут, и не такие. Привыкайте, Потресов.
П о т р е с о в. Значит, мы для этого ехали сюда из России? Прекрасно, прекрасно… Но что мы будем делать без Плеханова?
В л а д и м и р И л ь и ч
(отвернувшись, перелистывает какой-то журнал). То, что наметили.
А к с е л ь р о д
(Засулич). Это катастрофа для нас.
Все смолкают. Потресов ходит по кабинету взад и вперед. На веранде появляется П л е х а н о в.
П л е х а н о в
(Розалии Марковне). Распорядись, чтобы подали кофе.
(И проходит в кабинет. Он входит как ни в чем не бывало, приветливый, даже веселый.) Гм. Смешно говорить… но когда ваши папеньки еще только ухаживали за вашими маменьками, я уже переводил «Коммунистический манифест». Шучу, конечно… Но я вот нарочно ушел, чтоб поразмыслить. И решил. А не лучше ли, если я буду у вас… просто рядовым сотрудником?
(Повернувшись к Владимиру Ильичу и Потресову.) Вы проделали такую работу, а я много лет не был в России… Да, давно не был! Не знаю, как выглядит мой Тамбов! Отстал в эмиграции. Постарел. Стал б л и з о р у к и м.
П о т р е с о в. Никто из нас на это не пойдет!
Г о р н и ч н а я вносит кофе.
П л е х а н о в. А вот и кофе! Рекомендую! Кофе по рецепту Розалии Марковны. Розы, в отличие от роз в моем саду, — без шипов.
(Сел за письменный стол.) И все же сейчас мы постараемся устранить наши маленькие разногласия.
Все помешивают ложечками в чашках.
Закройте дверь на веранду, налетят бабочки.
(Постукивает по столу карандашом.) Сколько человек у нас намечено в редакции?
П о т р е с о в. Шесть.
П л е х а н о в. Неловкое число. Не находите? А если голоса пополам?
П о т р е с о в. Я полагаю, что если мы предоставим Георгию Валентиновичу два голоса, то все и получится?
П л е х а н о в
(Владимиру Ильичу). А вы как считаете?
В л а д и м и р И л ь и ч. Если это так важно, то — пожалуйста.
П л е х а н о в. В этой меркантильной деловитости не увядают ли прекрасные черты революции? Я шучу.
(Усмехнулся.) А типография все-таки будет в Мюнхене?
В л а д и м и р И л ь и ч. В Германии.
З а с у л и ч
(волнуясь). Мне кажется, Жорж, что в этом вопросе Владимир Ильич прав. Я согласна переехать в Лейпциг или в Мюнхен и представлять там нашу швейцарскую группу.
П л е х а н о в
(сухо). Не возражаю.
Темно.
На просцениуме.
Доносится негромкое пение под мандолину. Голос поет по-итальянски:
Я быстро поднялся наверх,
На гору, в шалаш моей подруги…
Прекрасная пастушка плакала,
Ах, как она плакала…
Медленно проходят В л а д и м и р И л ь и ч и П о т р е с о в.
В л а д и м и р И л ь и ч. Не пойму! Не вмещается в голову!.. Такой блестящий ум… Опыт!.. Знания!.. Такой замечательный человек… И это ячество!
П о т р е с о в. Неверно! Неверно! У каждого человека свои слабости. Ну… а потом, если даже и верно, то ведь это же — Плеханов!
В л а д и м и р И л ь и ч
(прислушиваясь). Хорошо поют. Кто это там? Рыбаки? Прекрасно поют…
П о т р е с о в. И вам это сейчас интересно? Да, Ульянов, вы тоже не сахар. Нашла коса на камень…
В л а д и м и р И л ь и ч. Какая коса? Какой камень? «Виконт», мы с вами думаем о деле, ни о чем больше. А желание Георгия Валентиновича неограниченно властвовать затмило для него все!
П о т р е с о в. Он к этому привык. Это естественно. Я буквально хватался за голову, до того вы были резки, ни с чем не считаясь.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но позвольте, позвольте, в товарищеской беседе между будущими соредакторами всякая дипломатия была бы не только неуместна, но и вредна.
П о т р е с о в. Ах, боже мой! Уже одна постановка вопроса о соредакторстве была для него неожиданна.
В л а д и м и р И л ь и ч. То есть как это?
П о т р е с о в. Неужели вы этого не понимаете? Но он уступил.
В л а д и м и р И л ь и ч. Он не мог не уступить.
П о т р е с о в. Вероятно… И все же, все же это могло кончиться катастрофой.
В л а д и м и р И л ь и ч. Могло. К сожалению, могло… Знаете, Потресов, какое у меня сейчас чувство? Никогда в жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением, как к нему, ни перед кем не держал себя таким смиренцем…
П о т р е с о в. Вы считаете, что держали себя смиренцем?
В л а д и м и р И л ь и ч. Во всяком случае, на его третирование я мог бы ответить иначе.
П о т р е с о в. Слава богу, что этого не случилось.
В л а д и м и р И л ь и ч. Но, увы, может случиться в любую минуту.
П о т р е с о в. Держите себя в руках.
В л а д и м и р И л ь и ч. О нет. Моя влюбленная юность получила горькое наставление от предмета своей любви. Нельзя быть сентиментальным. И камень, оказывается, надо держать за пазухой, если не хочешь оказаться предателем своего дела.
П о т р е с о в. Черт знает, что вы говорите! Как же в таком случае быть? Как быть?
В л а д и м и р И л ь и ч. Вас кидает от восторга к черной меланхолии, оставьте, «виконт». И знаете что — лучше всего не заниматься этой лирикой… Не кажется ли вам, что мне нужен паспорт на другое имя?
П о т р е с о в. Обязательно. Провалим связи. Ах, нехорошо, нехорошо все это, вы правы. О паспорте я уже думал. И, может быть, не один паспорт?..
Голос поет ближе:
О чем ты плачешь, красавица?
О чем плачешь?
В л а д и м и р И л ь и ч. Экая теплынь! Воздух! А в Уфе, поди, дождик сейчас идет, грязь невылазная, темень…
П о т р е с о в. В Уфе?.. Ах, да… В Уфе…
ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ
Мюнхен. Зенефельдерштрассе, 4. Типография в полуподвальном помещении. Рулоны бумаги, ящики с запасным шрифтом и красками образуют узкий проход. За ними виднеются наборные кассы. Небольшая деревянная перегородка отделяет помещение типографии от конторы.
По проходу идут Надя и лысый, полный, веселый человек — Р и т м а й е р. Когда они входят в контору, там никого нет. На спинке стула висит пиджак — это пиджак Владимира Ильича.
Р и т м а й е р. Блюменфельд!
В дверь перегородки выглядывает высокий худощавый ч е л о в е к.
К господину Майеру!
К о р р е к т о р. Он занят. Подождите.
(Исчез.)
Р и т м а й е р
(Наде). Присядьте, пожалуйста.
Н а д я. Я уже потеряла надежду найти его.
Р и т м а й е р. Да, он побывал в разных местах и все время под разными фамилиями.
Н а д я. Так он, значит, не Ритмайер, а Майер?
Р и т м а й е р. Да, он — Майер, а Ритмайер — это я.
Н а д я. В Праге я искала Модрачека, но это был тоже не он. Модрачеком оказался веселый, усатый чех, с ним было очень трудно объясняться, а когда он понял, стал что-то говорить про Париж.
Р и т м а й е р. Совершенно верно. После Праги наша корреспонденция стала поступать через Париж, но мы в Париже не были.
Н а д я. К счастью, по дороге на вокзал я встретила одного нашего товарища из России, который учился у меня в Питере, в воскресной школе, и он сказал мне, что искать надо Ритмайера в Мюнхене и что он содержит пивную.
Р и т м а й е р. Это я, а не он Ритмайер, и это я, а не он содержу пивную.
Н а д я. Теперь я поняла. Он здоров?
Р и т м а й е р. Господин Майер очень много работает. Ферштеен зи, он и редактор, и главный сотрудник, и выпускающий — словом, поспевает всюду, ну и нам тоже достается.
(Улыбается.) Впрочем, как умный «эксплуататор», он превосходно умеет повышать работоспособность каждого из нас, фрау Надя.
Н а д я. О да, эту его способность я знаю. И не думает о себе?
Р и т м а й е р. Нет, не думает, нет. Обедает у одной добропорядочной фрау и терпит ее мучные блюда. А дома у него жестяная кружка, из которой он пьет чай, и она у него висит возле умывальника. Надо наладить его жизнь, фрау Надя.
Н а д я. Где он сейчас живет?
Р и т м а й е р. Он живет пока у меня наверху, в мезонинчике над пивной, под самой крышей! Вдвоем там будет тесно. Вам не понравилась моя пивная, фрау Надя?
Н а д я. Напротив, она мне очень понравилась. У вас так чисто и благородно, как в молочной. И почти никого нет.
Р и т м а й е р. Совершенно верно, мы с господином Майером не очень любим, когда у нас много посетителей. Таких пивных, как моя, вы больше не найдете в Мюнхене. В Лейпциге еще была.
Н а д я. А, понимаю.
Р и т м а й е р. Да, сначала была в Лейпциге. Пришлось переменить адрес. Но мы там делали то же самое «пиво», что и здесь.
Н а д я. Пиво?
Р и т м а й е р
(улыбнулся). Да, искристое «пиво». Вы понимаете? Маленькая конспирация. И оно неплохо идет, наше «пиво». В Марселе его грузят на пароходы, отплывающие в Батум. «Пиво» идет также через Стокгольм. Оно пробирается через Восточную Пруссию, Австрию, через Прагу. А сам он, «главный пивовар», как невидимка. Он исчез, растворился. И это уже большая конспирация. Я прямо поражаюсь, фрау Надя, как вы ухитрились его
найти!
Н а д я. Как видите, нашла. Правда, если бы не этот мой ученик, пришлось бы поплутать чуть ли не по всей Европе.
Р и т м а й е р. Пришлось бы! Не скажешь, что дело у нас поставлено плохо.
Н а д я. Да, «пиво» удивительное.
Р и т м а й е р. Шеф-повар хорош! А сегодня у него праздник: выходит третий номер и приехали вы! Тсс.
За перегородкой показывается В л а д и м и р И л ь и ч. Ритмайер деликатно исчезает. Владимир Ильич в жилетке, оживлен, на ходу вытаскивает из висящего на стуле пиджака толстый карандаш и, скользнув к конторке, делает торопливые заметки на корректурном оттиске.
В л а д и м и р И л ь и ч. Товарищ Блюменфельд!
Появляется к о р р е к т о р.
Надо разогнать строку. Вставьте шпоны.
(Передает корректуру и возвращается к конторке.)
Корректор исчезает.
Н а д я. Герр Майер!
В л а д и м и р И л ь и ч. Надя?!
(Подбегает к ней.) Сумасшествие! Да что же это такое?! Как и тогда, как в Шуше, опять проморгал тебя! Я три раза ходил тебя встречать. По моим подсчетам…
Н а д я
(по-немецки, выговаривая очень тщательно). Вы на редкость плохо рассчитываете, герр Майер.
В л а д и м и р И л ь и ч. Немецкий осилила?
Н а д я
(еще более затрудненно — по-французски). Я вижу, у вас прекрасные организаторские способности, но как жаль, что они не распространяются на меня!
В л а д и м и р И л ь и ч. Французский?
Н а д я
(по-английски). Но я прощаю вам, сэр.
В л а д и м и р И л ь и ч. Когда успела? За год — три языка.
Н а д я. Ну, как видишь, еще очень хромаю. В Уфе разыскала немца, и он согласился разговаривать со мной два раза в неделю. А французскому училась на курсах. Но у меня оставалось мало времени. Посуди сам — шесть часов тратила на учеников. Правда, ребята попались славные, дети одного уфимского богача. Ты же знаешь: учить ребят — мое любимое дело, и я засиживалась. А потом французские курсы или мой немец… Ой, но я, наверно, писала тебе об этом?..
В л а д и м и р И л ь и ч. Писала кое-что. Но ты рассказывай…
Н а д я. Болтаю, не могу остановиться.
В л а д и м и р И л ь и ч
(улыбается). Рассказывай, рассказывай…
Н а д я. Ну… в общем… возвращалась домой уже в темень, а в доме почти каждый вечер народ, хотя я не такая общительная. Гоняли чаи и — разговоры, разговоры. Только к ночи садилась за самоучитель, по английскому…
В л а д и м и р И л ь и ч. Молодец!
Н а д я. Я, наверно, очень неспособная к языкам, Володя, но, право, это было намного легче, чем догадаться, что ты в Мюнхене и что ты — не ты, а господин Майер. Не Модрачек, не Ритмайер, а Майер…
В л а д и м и р И л ь и ч. Позволь, я специально послал тебе книгу, какой-то дурацкий роман, с подробным адресом для тебя.
Н а д я. Ну вот, дурацкий роман, — его и зачитали барышни на почте.
В л а д и м и р И л ь и ч. А я там подробно нарисовал, как пройти с вокзала, ни у кого не спрашивая…
Н а д я. Да, да… Сидя в Уфе, я многого не понимала.
В л а д и м и р И л ь и ч. Еще бы! Но как я мог написать тебе обо всем подробно?
Н а д я. Это я понимала.
В л а д и м и р И л ь и ч. До разрыва с Плехановым дело не дошло, но мы были на грани.
Н а д я. А теперь?
В л а д и м и р И л ь и ч. Машина, как видишь, крутится. Только внутри порвалась какая-то струна, и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом по формуле: если хочешь мира, готовься к войне.
Н а д я. Понимаю. Но зато твое «пиво» течет и течет во все уголки России.
В л а д и м и р И л ь и ч. «Пиво»?
Н а д я. «Пиво».
В л а д и м и р И л ь и ч. Ритмайер, значит, уже ввел тебя в курс наших маленьких тайн?
Н а д я. Немного ввел. И про мучные блюда знаю.
В л а д и м и р И л ь и ч. Нажаловался, толстяк.
(Обнял ее.) В общем, досталось бедной, а?
Н а д я. Досталось. Я выехала из Уфы — там был мороз. Я в шубе. В Праге на меня все оглядываются. Меня тащит извозчик в цилиндре, я ищу Модрачека, а Модрачек — не ты и ни черта не понимает по-русски… Нет, я становлюсь болтушкой, ведь только что то же самое рассказывала Манеру.
В л а д и м и р И л ь и ч. Не Майеру, а Ритмайеру. Майер — это я, а он Ритмайер.
Н а д я. Оговорилась… И знаешь, «то мне дал адрес сюда? Николай с Путиловского, он был вместе с нами в ссылке, мой ученик в Питере — помнишь? Но его не узнать. Он одет пижоном, у него паспорт на имя сына какого-то московского купца, и он якобы скупает дорогие картины. А в этих картинах провозит твое «пиво»… Я так соскучилась, я все болтаю, потому что все время молчала, молчала… Что с тобой?
В л а д и м и р И л ь и ч
(он сидит на стуле, вдруг странно сгорбившись). Ничего, Надя, ничего…
Н а д я. Устал?
В л а д и м и р И л ь и ч
(шепнул). Я сегодня совсем не спал. Но эта ерунда! Не пришло еще время уставать…
(Поднял голову, улыбнулся ей.) А что, лампа моя шушенская цела?
Н а д я. Была со мной в Уфе.
В л а д и м и р И л ь и ч. И абажур?
Н а д я. И абажур.
В л а д и м и р И л ь и ч. Ты не представляешь, как это мне дорого…
К о р р е к т о р
(появляясь). Геноссе Майер, вторая полоса проверена.
В л а д и м и р И л ь и ч. Хорошо. Закрепите шпации и опускайте лист в машину. Проверьте остальные полосы.
К о р р е к т о р. Момент!
(Исчезает.)
В л а д и м и р И л ь и ч. Ну-с, теперь-то мне будет полегче! Принимай хозяйство, Надежда Константиновна! Ты давно уже назначена секретарем редакции первой свободной, бесцензурной газеты русских революционных марксистов. «Искра» заждалась тебя! Пожалуйста!
(Царственно подводит ее к конторке.) Владей всем этим! Всем, что я накопил для тебя! Плоды трудов моих, хлопот, забот, тревог… Тут рукописи, письма, гранки готовых статей… Вот, вот, вот…
К о р р е к т о р
(выглянул). Полосы проверены. Хотите взглянуть?
В л а д и м и р И л ь и ч. Иду. Я сейчас, Надя.
(Уходит вслед за корректором.)
Надя стоит у конторки, просматривает рукописи и гранки. Начинает шуметь печатная машина. Потом появляется оживленный В л а д и м и р И л ь и ч. В руках у него свежий оттиск первой полосы «Искры».
В л а д и м и р И л ь и ч. Печатается. Слышишь? Начали.
Н а д я
(кивнула). Ага…
В л а д и м и р И л ь и ч. Может, хочешь взглянуть?
Н а д я. Конечно! Но ты посмотри, сколько у меня тут дел! Твои труды не пропали даром. Сколько сотрудников! Сколько новых имен! Кто они? Кто это все пишет? Откуда?
В л а д и м и р И л ь и ч. Из Питера, из Риги, из твоей Уфы. Пишут и пишут, только успевай печатать…
Н а д я
(держа в руках гранки). И какая поразительная статья! Значит…
(пробегая глазами строчки), значит… это будет век решающих боев, изменится карта мира, рухнет рабство и колонии?.. И скорее всего это начнется в России?..
В л а д и м и р И л ь и ч. Да, по-видимому.
Н а д я. Но кто это написал? Тут стоит подпись — Н. Ленин. Ты его знаешь? Ленин — кто это?
Голос корректора: «Геноссе Майер!»
В л а д и м и р И л ь и ч. Иду!
(Наде.) Ленин — это я, Надя.
(Убегает.)
С нарастающим ритмом, громче и громче шумит печатная машина. Все постепенно ушло, исчезло, и высветилась Надя одна.
Н а д я. Да, именно в эти дни, в этот год впервые на свете появилось имя — Ленин. Наверно, не все еще запомнили его тогда. Промелькнуло, промелькнуло, но не исчезло… И вот оно стало звучать все громче и громче… А мы скитались, не имея нигде пристанища, переезжали из города в город, из страны в страну. И ни на минуту не обрывалась наша беспокойная, тревожная работа… По-разному было, как на волнах — то вверх, то вниз… И нередко ох как трудно… Но я вспоминаю эти годы, как счастье! Мы были молоды. Нет, не то! Все наши мысли были устремлены к одной цели. Знаете ли вы, что это такое?.. И нам ничего не было страшно!.. Ничего не страшно! У нас была цель, и мы верили в нее!
(Она говорит это, и мы видим, что она почти совсем седая.)
К о н е ц
1968
НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖАЯ ЮНОСТЬ
Трагикомедия в 2-х действиях
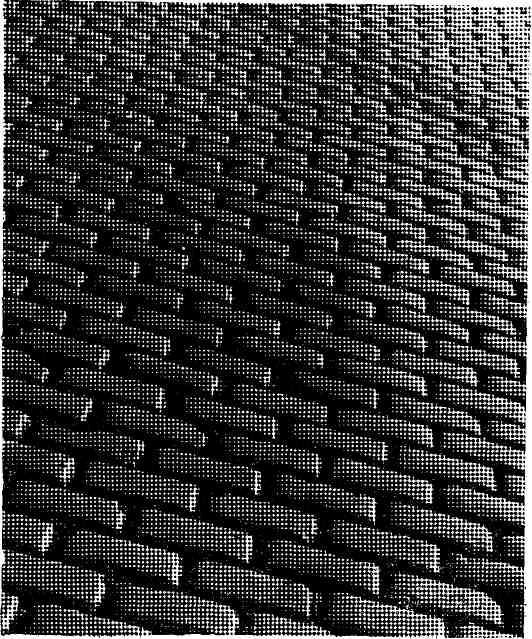
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
С е р е ж а Н е х о в ц е в — заведующий Подотделом искусств, кончает школу 2-й ступени.
М и ш а Я л о в к и н — его друг и одноклассник.
М и т я В о л к о в и ч — бывший ученик той же школы, сотрудник ОРТЧК.
К о с т я Ш е в ч и к — управделами Подотдела искусств, учится в той же школе.
С а м а р о в - С т р у й с к и й Ф о м а А л е к с а н д р о в и ч — директор гортеатра, режиссер, артист и бывший антрепренер.
М а л и н н и к о в Д м и т р и й В а с и л ь е в и ч — преподаватель истории и заведующий краевым музеем, в прошлом — инспектор гимназии.
А н я — его дочь.
Т е т у ш к а М и л а.
К р у м и н ь — председатель ЧК.
А н д р ю х и н (Есаул).
Действие происходит весной 1921 года.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
…И ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, БЫЛА ВЕСНА
Где-то далеко духовой оркестр играет старый вальдтейфелевский вальс, или «Амурские волны», или что-то в этом вкусе и потом постепенно затихает.
Вообразим, что мы на колокольне. С е р е ж а Н е х о в ц е в в гимназической шинельке, из которой уже порядком вырос, в студенческой фуражке, новенькой, из-под которой падают космы давно не стриженных волос. Такая же фуражка и у М и ш и Я л о в к и н а. У Сережи очки (продолговатые, металлические), а у Миши их нет. У Миши голубоглазое, открытое, по-детски восторженное лицо.
С е р е ж а. Это немыслимо! Это глупо! Это, наконец, подло!
М и ш а. Постой, постой! Не накидывайся на меня как полоумный!
С е р е ж а. Зачем ты сказал ей, что я здесь?
М и ш а. Вот те раз! Как будто она не знает! Тебя ждут в Подотделе, в театре, в Губнаробразе, тетушка Мила бегает по всем знакомым в панике, а ты забрался на колокольню…
С е р е ж а. Ага! Никто не знает, а она знает?
М и ш а. Я на секунду забежал к ней, и она сказала, что идет сюда.
С е р е ж а. Так вот сама и сказала?
М и ш а. Так вот и сказала! И если я подтолкнул ее, то на это у меня были серьезные основания.
С е р е ж а. Воображаю, чего только не наговорил.
М и ш а. Ровным счетом ничего. Она сказала, что пойдет к тебе, и сказала, что ты, наверно, сумасшедший, если сидишь здесь чуть ли не второй день как дурак, а я сказал…
С е р е ж а. Она сказала, ты сказал… Болтун!
М и ш а. Ну вот что — кончай немедленно эту бодягу.
С е р е ж а. Ты прекрасно знаешь, что это не бодяга. Да, да! Мы поссорились навеки.
М и ш а. А, как будто в первый раз! Но так или иначе, есть дела поважней. Вечером встретимся, и ты увидишь, какой я болтун.
С е р е ж а. Не говори загадками.
М и ш а. Тихо, тихо, идет!
Оба замолкли, смотрят вниз. Появляется А н я М а л и н н и к о в а.
А н я
(Сереже). Интересуюсь, что это еще за шутки? Или вы хотите, чтобы надо мной смеялся весь город? Надо же выдумать!
С е р е ж а. Кажется, я тебя сюда не звал.
М и ш а
(патетически). Благослови его на подвиг, Анна!
(Исчез.)
А н я. Кажется, мы условились, что при посторонних и на улице ты не будешь говорить мне «ты».
С е р е ж а. А мы одни, и это не улица, а колокольня.
А н я. Ты, может, и спал здесь? Цирк. Ты посинел от холода.
С е р е ж а
(все так же хмуро). А тебе какое дело?
А н я. Если ты считаешь, что мне нет дела, то незачем было лезть на колокольню и что-то доказывать.
С е р е ж а. Я ничего не доказываю.
А н я. Нет, доказываешь. Пришел бы просто, как все люди, и выяснил отношения, если я что-то сделала не так. А ты шпионишь.
С е р е ж а. Я не шпионю.
А н я. Нет, шпионишь. Как будто я не понимаю.
С е р е ж а. Ты что уставилась в одну точку?!
А н я. Ужас, как высоко!
С е р е ж а
(настороженно). Раньше здесь была уйма голубей, а теперь их всех съели. Ты куда смотришь? Гляди, отсюда и на Заречье видно. Понимаешь?
А н я. Понимаю. Отсюда как на ладони виден мой дом и двор, и вечером, наверно, видно, что делается у меня в комнате.
С е р е ж а. Я не для того забрался, пожалуйста, не воображай.
А н я. Глупо. Митя Волкович смеялся, что ты сидишь здесь и предаешься мировой скорби.
С е р е ж а. Откуда он мог узнать, что я здесь? Ты сказала?
А н я. Была охота. Я еще не сошла с ума.
С е р е ж а. То-то он сидел у тебя вчера весь вечер.
А н я. Ага, вот, а говоришь — не шпионишь. Ну и что?
С е р е ж а. Сама знаешь что!
А н я
(улыбнулась, засияла). Боже мой, как ты настрадался!
С е р е ж а. Ничуть.
А н я. Врешь.
С е р е ж а. А ты пойми: должен я тебя оберегать или нет?
А н я. Мерси.
(Книксен.) От кого, собственно?
С е р е ж а. Хотя бы от этого демонического чекиста в красных штанах.
А н я. Ой-ой-ой! Можешь не беспокоиться.
(Смотрит на него.) До сих пор не пойму, как это началось?
С е р е ж а. Что?
А н я. Да у нас с тобой. Понимаешь, все мы считали, что ты среди нас самый умный и на девчонок ноль внимания — фунт презрения, и я очень удивилась, и все удивились, когда ты вдруг пошел провожать меня. А я даже испугалась.
С е р е ж а. Почему?
А н я. Боялась, что тебе будет скучно со мной.
С е р е ж а. А я боялся, что тебе…
А н я. Но ты говорил, говорил без остановки.
С е р е ж а. Это возможно.
А н я. Что-то о футуристах. Дико было. «Угрюмо дождь скосил глаза, и за решеткой четкой…»
Оба смеются. Она приблизила к нему лицо.
«Бабэоми пелись губы, ваэоми пелись взоры, пиээо пелись брови…» Господи, какая чепуха, а ведь запомнила, видишь? Как все сложно в жизни… Хочешь, я прикажу Волковичу, чтобы он больше не приходил ко мне?
С е р е ж а. Хочу.
А н я. Смешной ты. Я так и сделаю. Смотри, а ты прав — как далеко отсюда видно! И если зажмуриться, то можно представить себе даже и то, чего нет совсем! Дай руку. Зажмуримся оба.
(Взяла его за руку.) Не открывай глаз.
(Быстро целует его в щеку.)
С е р е ж а
(шепотом). По-настоящему.
А н я
(деловито осмотрелась, целует его, и некоторое время они задерживаются в этом поцелуе, а потом обалдело смотрят друг на друга). Это ужас.
С е р е ж а. Что?
А н я. Боже мой, что же это?..
С е р е ж а. Нет, не отрывай руки, не пущу…
А н я. Сережа…
С е р е ж а. Не могу я без тебя…
А н я. Кошмар. Ужас.
Целуются.
Ах, Сережка…
Целуются.
С е р е ж а. Мне кажется, ты была всегда. Представить невозможно — мир без тебя… Когда это случилось?.. Ты была всегда. Ты была даже тогда, когда тебя еще не было… Я это чувствовал еще задолго до того, как увидел тебя, а когда увидел…
(Целуются, он обхватил ее.)
А н я. С ума сойти!
(Вырвалась.) Не смей никогда целовать меня т а к!..
(Сбегает на несколько ступенек вниз, остановилась.) Что я делаю?.. Господи…
(Быстро-быстро поправляет волосы.) Мне нужно к портнихе. Зиновия Валентиновна меня ждет… Нет, нет, стой так. Смирно! Я убегаю, а ты потом. Только не сразу. А то увидят, что мы были вместе…
(Убегает.)
С е р е ж а. Осторожно, внизу выломаны две ступеньки!
А н я
(уже где-то внизу). Я знаю!
С е р е ж а. И там абсолютно темно!
А н я
(где-то внизу). Цирк, я была там вчера.
(Исчезает.)
С е р е ж а
(свесившись вниз). Аня! Аня! Подожди меня на углу! К черту все, мы еще погуляем немножко!
(Бежит за ней.)
«МИСТЕРИЯ-БУФФ» В ОСОБНЯКЕ БЫВ. ПОМЕЩИКА БЕЛОГРИВОВА
Подотдел искусств. Во всю стену полотнище с лозунгом: «ИСКУССТВО — ТРУДЯЩИМСЯ». А ниже огромный плакат, раскрашенный от руки: «КРАСНАЯ ПАСХА. В ГОРСАДУ ВЕСЬ ВЕЧЕР РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭСТРАДА. БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ СИЛ. ЛОТЕРЕЯ — РАЗЫГРЫВАЕТСЯ КОРОВА. ТАНЦЫ. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР КОМКУРСОВ. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ — АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ШЕСТВИЕ И ГРАНДИОЗНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ». И еще лозунги, плакаты: «ВОШЬ УГРОЖАЕТ СОЦИАЛИЗМУ», «ВСЕ НА ЗАГОТОВКУ ТОПЛИВА», «МУЗЫКУ — В МАССЫ!»
Золоченая мебель с фарфоровыми медальонами на спинках. Канцелярский стол. Топится чугунная печурка с колонками труб, выходящих в форточку. К трубам подвешены консервные банки. К о с т я Ш е в ч и к сидит в кресле, вытянув ноги к печке, и, аккомпанируя себе на гитаре, напевает.
Ш е в ч и к.
Он говорил мне: будь ты моею,
И стану жить я, страстью сгорая!
Прелесть улыбки, нега во взоре
Мне обещают радости рая…
Зазвонил телефон, висящий на стене, и Шевчик, лениво приподнявшись, дотянулся до него, покрутил допотопную ручку и снял трубку.
Ал-ло! Подотдел искусств. Управделами Шевчик. Он самый. Лично товарища Неховцева нет. Я мыслю, должен сегодня быть. О Боровске знаю. Звонили, звонили уже. Ох, если бы один Боровск! Дел невпроворот. Товарищ, я не глухонемой. Я все понял. Понял, понял.
(Повесил трубку, зевнул и снова взял гитару.)
Бедному сердцу так говорил он,
Но — не любил он, нет, не любил он…
Еще когда Шевчик разговаривал по телефону, вошел В о л к о в и ч и остановился в дверях, закурил, иронически поглядывая на Костю. У Волковича ослепительно красные галифе, щегольские сапоги, он перетянут новенькими ремнями, сбоку в кобуре револьвер.
В о л к о в и ч. А Сергея так-таки до сих пор и нет?
Ш е в ч и к
(сконфуженно откладывает гитару). Ты каким ветром?
(Подозрительно.) Он на коллегии Губнаробраза.
В о л к о в и ч. Что ты говоришь? А я подумал, что он еще на колокольне!
Ш е в ч и к. Ты откуда знаешь?
В о л к о в и ч. Я, голубчик, обязан все знать.
Ш е в ч и к. Понимаю, понимаю, понимаю, Митя, но ты напрасно. Он на заседании. Да, вот так.
(Официально.) Вам что угодно, товарищ Волкович?
В о л к о в и ч. А мне ничего не угодно, товарищ Шевчик. Сколько билетиков ты прислал мне?
Ш е в ч и к. На сегодня?
В о л к о в и ч. Нет, на вчера.
Ш е в ч и к
(подбрасывает щепки в печурку). На улице, понимаешь, теплынь, а тут, понимаешь, промозгло, как в леднике.
(Подошел к столу, роется в ворохе бумаг.) Так-так, значит, — на сегодня. На сегодня, на сегодня… В Чека — двадцать пять, тебе — семь. Согласно требованию и по списку. Но, может быть, Митенька, ты хочешь получить еще?
В о л к о в и ч. Мазила! Мы взяток не берем! И если хочешь знать, эти билетики на сегодня нам вовсе не нужны.
Ш е в ч и к. П-почему?
В о л к о в и ч. А вот это не твоего ума дело. Куришь?
Ш е в ч и к. Н-нет.
В о л к о в и ч. Кури.
Ш е в ч и к. Ого. Папиросы высшего сорта. Лаферм.
В о л к о в и ч. Кури, кури. И знаешь, кому надо передать эти билетики?
Ш е в ч и к
(поперхнувшись от дыма). Право, не знаю.
В о л к о в и ч. Красота! Бывшему офицерью из артдивизиона. Знаешь таких?
Ш е в ч и к. Ага.
В о л к о в и ч. Ну вот и договорились. Кроме того, тебе придется самому заглянуть в театр и переписать точно, кто из них был. Ясно?
Шевчик рывком затянулся и тут же закашлялся до слез.
Да-а, курить ты не мастак.
(В задумчивости покачивается на носках, зажав папиросу в углу рта и пуская кольца дыма.) Странное дело… В общем, сидели когда-то рядком за партой три неразлучных мушкетера — Сережка, Миша Яловкин, я… И вот… Смешно мне с ними. Как были гимназистами, так и остались гимназистами. Да не пыжься ты, брось папироску, пока не стошнил.
Ш е в ч и к
(с облегчением отплевываясь в носовой платок). Ты, Мить, молодец, курил еще до революции.
В о л к о в и ч. С третьего класса. А гимназии, между прочим, уже давно нет.
Ш е в ч и к
(уныло). Нету, Митя. Школа второй ступени.
В о л к о в и ч. Малинников по-прежнему витийствует?
Ш е в ч и к. А что ему делается, у него на уроках — как в старое время. Обносился немного, кокарду снял с фуражки и с сумкой для пайка не расстается, а так все прежнее.
В о л к о в и ч. Зубрите про царей?
Ш е в ч и к. Тебе легко говорить, а мне кончать надо. Я только в университет хочу, как и Сережка.
В о л к о в и ч. Сомневаюсь чтоб.
Ш е в ч и к. Верно. Не подхожу по признакам происхождения.
В о л к о в и ч. Это хорошо, что понимаешь суровый закон революции. Классовый подход. Как здоровье папаши?
Ш е в ч и к
(хмуро). Болеет.
В о л к о в и ч. А то надо бы мне пофасонистее френчик соорудить.
Ш е в ч и к. Это он как раз может, Мить, хотя частных заказов не берет.
В о л к о в и ч. Ах ты! Не берет?
Ш е в ч и к. Теперь он не на себя, а исключительно на советскую власть работает. Но у тебя, Митюша, возьмет, как у моего друга. Он тебя исключительно уважает.
В о л к о в и ч. Да ты что, шуток не понимаешь? Я на казенном обмундировании, шишка стоеросовая!
Входит М и ш а Я л о в к и н.
М и ш а
(как-то мимо Волковича). Здоро́во.
В о л к о в и ч. Привет.
М и ш а
(Шевчику). Сергей просил передать, что он пошел в Наробраз и чтобы ты его ждал.
Ш е в ч и к. Невозможно быть управляющим делами, когда заведующий исчезает неведомо куда и я срываю заседание театральной секции, не говоря уже о том, что не знаю, как быть с гарнитуром, из-за которого идет драка у музея с театром, а у меня никаких распоряжений нет.
Входит С а м а р о в - С т р у й с к и й.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Считайте, что дело с гарнитурчиком я проиграл. Товарищ Малинников, Дмитрий Васильевич, вдвинет его в свой морозильник для обозрения времен и будет торжествовать победу. А кто ходит в его музей? Народ ломится в театр.
(В сторону Волковича.) Здравствуйте, молодой товарищ.
В о л к о в и ч. Привет.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Вижу в вас, так сказать, представителя лучшей части нашего, так сказать, массового зрителя и спрошу: вы против таких пьес, как «Тетка Чарлея», «Трильби», «Дни нашей жизни», «Измена» Сумбатова?
В о л к о в и ч. Да нет. Нормальные пьесы.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Вот! Слышали, Шевчик?
Ш е в ч и к. Что Шевчик? Что Шевчик? Я не знаю, какая муха укусила Сергея, но, вернувшись из Москвы, он буквально заболел Мейерхольдом.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Да, но мои актеры хотят играть роли, а не кувыркаться на сцене. Я с трудом собрал первоклассную труппу — Мартини, Рощина, Шер… Вы представляете Поликсену Михайловну на трапеции?
В о л к о в и ч. Цирк, как говорит одна моя знакомая девица. А впрочем, что вам стоит разок отмочить футуристическую штучку? И потом дуйте свою «Тетку Чарлею», никто не против. Смех тоже нужен в суровые дни революции. Вы не согласны?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Я-то согласен…
В о л к о в и ч. Тогда в чем дело?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. А в том, молодой товарищ, что надо ломать сцену, все декорации выбросить и в центре партера, вместо кресел и стульев, воздвигнуть огромный шар из фанеры.
В о л к о в и ч. Это зачем же?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Таковы пьесочки.
Ш е в ч и к. Учтите — я лично против футуризма. Таким образом, дело упирается в одного Сережу. Разве он один здесь командует?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. А если товарищ Фомичев — за?
Ш е в ч и к. Упаси бог, не думаю.
М и ш а. Все это прекрасно, но и Маяковский уже устарел. Не слыхали? В Москве, говорят, вошли в моду какие-то имажинисты.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Оставьте, и знать не желаю!
М и ш а. Ну, разумеется! Хотите про любовь? Или ковыряние в душе? Душещипательные мелодрамы? Или того хуже — фарсы?.. А что говорил Герцен? Мещанство и обывательщина — вот что задушит революцию. В иных случаях это пострашнее полицейщины. А вы чему потакаете?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Значит, Гоголь, Островский, Чехов — мещанство? Шекспир — мещанство? Да наконец, просто легкое и веселое искусство театра — тоже мещанство?
(Подхватил гитару.) Нет уж, нет! Если хотите, я артист для публики и знаю ее вкусы.
(С необыкновенной для своего возраста легкостью пританцовывая, поет.)
Жизнь наша с горем пополам:
В ней прочности ужасно мало.
Сегодня здесь, а завтра там —
И многих будто не бывало.
Не трудно это разгадать:
Как ни верти, а жить придется —
И нить тонка. Чего ж тут ждать?
Где тонко, там и рвется!..
В о л к о в и ч
(подмигнул Шевчику). Видал миндал?
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(порозовел, веселый стал). Театр есть театр! Э-хе! В Пензе, помню, меня из театра на руках выносили!
(Продолжает.)
Вот что заметил я давно:
Из тонкостей, чего нет легче,
Всех лучше тонкое вино,
Когда за глотку схватят крепче.
А тонкий ум, и тонкий вкус,
И все, что тонкостью зовется, —
Все вздор! И я того держусь —
Где тонко, там и рвется!
(Откинув гитару, опускается в кресло, едва справляясь с одышкой.)
Ш е в ч и к
(испуганно оглядываясь на Волковича). Да как же можно, да нельзя вам так, Фома Александрович…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Еще как можно! Люди! Крокодилы! Нервы, нервы не дергайте.
М и ш а. Наплевать мне на этот ваш театр! Крокодилам надо из Шиллера. Тут пушки нужны, а не водевильчики.
(Декламирует.) «Кто запретит пламени бушевать, когда ему назначено выжечь гнездо саранчи? Как тяготят меня все эти злодеяния! Да посмотрите кругом! Уже трубят трубы! Уже грозно блещут сабли!»
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(автоматически). «Разбойники». Действие второе. Сцена третья. Но вы безбожно путаете текст.
М и ш а. Мне бы ваши заботы, господин артист для публики.
(Шевчику.) Скажи Сергею, что я зайду к нему попозже. Мое тебе с кисточкой.
В о л к о в и ч
(приближаясь к Мише). А ты, между прочим, нахамил уважаемому артисту.
М и ш а. А ты, между прочим, считай, что у меня тоже нервы.
Они стоят лицом к лицу.
В о л к о в и ч. Эх, Миша, Миша, лучше бы ты закрасил свою шинельку, а то ходишь как недорезанный гимназист.
М и ш а. Переживем. Эх, Митя, Митя, не каждый согласится щеголять в гусарских штанах.
В о л к о в и ч. Не в гусарских, Мишенька. Сменял у буденновца.
М и ш а. Я и говорю, красивая жизнь.
В о л к о в и ч. Не жалуюсь.
М и ш а. А ОРТЧК — это то же самое, что Чека?
В о л к о в и ч. То же самое, то же самое, только страшнее, мальчик. Это на железной дороге. А там фронт. Скопище мешочников, спекулянтов, дезертиров, бандитов и всяческих — понимаешь, нет? — контриков.
М и ш а. То-то я видел, как ты расхаживаешь по вокзалу петухом.
В о л к о в и ч. Да вот расхаживаю. Любого могу арестовать.
М и ш а. Молодец.
В о л к о в и ч. Пока еще нет.
М и ш а. Не доверяют?
В о л к о в и ч. Что значит не доверяют? Родился поздновато, не успел понюхать пороху в гражданскую, а то бы…
М и ш а. Наверстаешь.
В о л к о в и ч. Значит, советуешь толкаться в комиссары?
М и ш а. Всенепременно.
В о л к о в и ч. Ха! Попал в точку! Тогда уж и вовсе надо мне поспешать!
М и ш а. Желаю успеха.
В о л к о в и ч. Архивзаимно.
Миша уходит.
Пора и мне.
(Шевчику, наклонившись.) А Сережке насчет билетиков ни гугу. Не пустое дело, товарищ Шевчик, так что лучше всего помалкивай.
Ш е в ч и к. Вопрос абсолютно ясен, товарищ Волкович.
В о л к о в и ч. Очень хорошо, что понимаешь суровые законы революции.
Ш е в ч и к. Не понимаю, что творю, но стараюсь.
В о л к о в и ч. Привет.
(В сторону Самарова-Струйского.) Привет!
(Уходит.)
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Ушел?
Ш е в ч и к. Ушел.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Приятный молодой человек.
(Слабым голосом.) А у меня к вам просьбочка, Константин Иовыч.
Ш е в ч и к. Слушаю.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Ордерок бы на керосинчик.
Ш е в ч и к. Это во дворе. В Райснабгубнаробразраспредотделе.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(смеется). Записочку бы.
Ш е в ч и к. А, пожалуйста.
(Пишет.) Только напрасно вы при нем пели. Не те, понимаете, слова…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. При нем! Именно при нем! Артисту бояться — на сцену не выходить.
Ш е в ч и к
(передает записку). Прошу. Передайте Федюкину, но если будет женщина, то ни в коем случае.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Понял, понял.
(Посмеиваясь.) Трудненько приходится, Константин Иовыч…
Ш е в ч и к. Вам бы говорить! Уж эти артисты! Живете как при царе. И паек вам красноармейский, концерты, а там — мучица, там — повидло…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Я не в материальном смысле, друже. Неуютно стало. Зритель все время разного состава, не разберешь кто. Пьесу смотрят, а какой актер — никому дела нет. А тут еще Мейерхольд, Маяковский, имажинисты какие-то…
Ш е в ч и к. Меня самого тошнит. Говорите — неуютно. А мне каково? Черт бы побрал этот папашин конфекцион готового платья «Иов Шевчик, портной мужской и дамский», а мне теперь всю жизнь страдать?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Надеюсь, это явление временное. Вы знаете, что делается в стране? Что происходит в Москве?
Ш е в ч и к
(испуганно). А что?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Кругом голод и разруха, а театральные студии растут как грибы.
Ш е в ч и к. Ну и что?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Миллион студий. Чудак! Дуйте в Москву и поступайте в одну из них. А еще лучше — на кинокурсы.
Ш е в ч и к. Это еще что такое?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Совсем темное дело. На получастной основе. Так что туда ничего и не требуется! При живости вашего характера… Мне бы ваши годы…
Ш е в ч и к. Побойтесь бога. У вас такое положение. Товарищ Фомичев расплывается, когда видит вас.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Я и говорю, артистов у нас любят. А только вести себя надо ого-го как! Вот, пожалуйста, — наш с вами начальник? Думал, деликатный молодой человек, своего, так сказать, круга, а глядите, в какого товарища начал вывертываться!
Ш е в ч и к. Да наподдайте вы ему без лишних разговоров! Вон, любуйтесь, подкатил в бричке, идет! Звонарь!
Входит С е р е ж а.
Гром победы! Явился!
С е р е ж а. Не балагань. Докладывай, что тут без меня стряслось?
Ш е в ч и к. Билеты на всю неделю распределил в соответствии с утвержденными списками…
С е р е ж а. А! Фома Александрович!
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(напряженно). Здравствуйте, товарищ Неховцев.
С е р е ж а. А я к вам хотел. Всю ночь не спалось.
Шевчик неприлично фыркнул.
О будущем спектакле думал.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(еще более напряженно). Весьма приятно.
С е р е ж а. В золоте и в бархате лож загнивал театр…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Простите…
С е р е ж а. Одну минуточку. А в подвалах, в бескорыстии и нищете, рождалось нахальное искусство нового…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Я бархатом и золотом не избалован.
С е р е ж а. Тем более к черту всю эту допотопную мишуру. Зажмурьтесь и вообразите. Давайте зажмуримся оба. И мы увидим то, чего на самом деле еще нет. Но будет! О какой пьесе мы говорим?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. «Мистерия-буфф». Обозрение и агитка.
С е р е ж а. А если это не так? Если эта пьеса космическая?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Фу-ты…
С е р е ж а. Действие происходит на земле и на не-беси. Семь пар чистых и семь пар нечистых. Трубочист, фонарщик, кузнец, прачка, Лев Толстой, Мафусаил, Жан-Жак Руссо…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Читал, как же…
С е р е ж а. И первое, что мы увидим, войдя в театр, — земной шар.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Совершенно верно. Из фанеры. В центре партера.
С е р е ж а. На фоне кровавого северного сияния — земной шар! Рампы нет, суфлера нет, кулис нет, ничего нет.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Зрителей тоже нет.
С е р е ж а. Зрители — на сцене и вокруг, а над ними, с галерки вниз, перекрещиваются канаты широт и долгот, на них висят и по ним движутся крохотные точки актеров. И — пролог:
Сегодня
Над пылью театров
Наш загорится девиз:
«Все заново!»
«Стой и дивись!»
Ш е в ч и к
(в упоении). Вот именно! Все заново. Стой и давись.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(подавлен). Да, да… А что с оркестровой ямой?
С е р е ж а. Я думал. Нельзя ли залить ее цементом и наполнить водой? Часть действия будет происходить на суше, а часть на воде.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Восхити-тельно.
С е р е ж а
(смеется). Я так и знал, что вам понравится.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Да, но что будет играть, к примеру, Поликсена Михайловна? Она, извините, героиня, немного полновата, у нее низкий с тремолой божественный голос, она привыкла играть трагедии. А Мартини? Прирожденный герой, фрачный артист, каких мало, умеет носить монокль, цилиндр…
Ш е в ч и к. У Маяковского, между прочим, имеется буржуй, как раз для Мартини. Великолепная роль!
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(с сарказмом). Я, знаете ли, как и вы, в восторге от Маяковского.
(Сереже.) Но не забывайте, пожалуйста, у меня не цирк, а театр, и труппа моя воспитана в старом духе, в традициях Щепкина, Мочалова, великого Малого театра, а его пока никто еще не упразднял!
С е р е ж а. Отговорки, Фома Александрович, отговорки.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(торжественно выпрямился). Извините, Сергей Тимофеевич! Я присутствовал в ноябре семнадцатого года на диспуте в Петрограде, где так называемый левый блок деятелей искусства категорически высказался против вмешательства государства в художественную сферу. Я не принадлежу к этому так называемому левому блоку, но тут полностью солидарен. Вы вторгаетесь в мою область. Я старый антрепренер и артист. Меня знает Россия! И вы не смеете так со мной разговаривать! Я умываю руки. Меня лично знает товарищ Луначарский. Я еду к товарищу Фомичеву.
(Ушел.)
Ш е в ч и к
(восторженно). Ох, наскипидарил ты его! Согласен-согласен, старый театр — помойка. После колокольни у тебя всегда взлет. Люблю, понимаешь, когда заварушка. У старика поджилки затряслись.
С е р е ж а. Не беспокойся за него. Старый лис кого хочешь перехитрит.
Ш е в ч и к. Да наподдай ты ему без лишних разговоров. Кто он такой? Бывший антрепренер. Эксплуататор. Фомичев его и не примет.
С е р е ж а. Непременно примет. Но ведь и я пойду.
Ш е в ч и к
(обеспокоенно). Сегодня как раз не ходи. Вот уж сегодня не ходи. В городе — понимаешь, нет? — происходит какая-то круть-верть.
С е р е ж а. Что еще за круть-верть?
Ш е в ч и к. Кто его знает. Митька Волкович заходил.
С е р е ж а. А ему я зачем понадобился?
Ш е в ч и к. Не ты, а я. Странно, понимаешь, как-то. С билетами у меня не подкопаешься. Так что я ему на этот счет вмазал как следует.
С е р е ж а. Тоже еще ревизор выискался.
Ш е в ч и к. Не в этом дело. А вот билеты он мне на сегодня полностью вернул. Ни одного чекиста на спектакле не будет. А идет «Тетка Чарлея».
С е р е ж а. Она уже шла, они ее видели.
Ш е в ч и к. Нет, не то. Хочет, чтобы в театре были офицеры из артдивизиона. И велел мне переписать всех, кто придет.
С е р е ж а. Знает, что ты трус, и разыграл. Он еще в гимназии любил разыгрывать.
Ш е в ч и к. Хорошо бы! Разговаривал со мной намеками, странно. Не пустое, говорит, дело. Недаром поговаривают…
С е р е ж а. Ерунда, слухи.
Ш е в ч и к. Вот-вот — слухи, слухи, а потом оказывается… И еще велел, чтобы я не рассказывал об этих билетах и даже не говорил тебе, что он был у меня. Понял?
С е р е ж а. Опять фокусы. Изображает красного Пинкертона.
Ш е в ч и к. Но ты бы видел, как он схватился с Яловкиным.
С е р е ж а. Мишка тоже заходил?
Ш е в ч и к. Ага, забегал. И тоже какой-то не в себе.
С е р е ж а. Ладно, хватит трепаться. Из Губнаробраза звонили?
Ш е в ч и к. Ты думаешь! За эти два дня я сбился с ног. Ну как там у тебя, на колокольне? Наладилось?
С е р е ж а. Вроде ничего.
Ш е в ч и к. А я не вижу! Стоит только посмотреть на твою рожу! Здорово ты влопался, даже завидно! Только с ними надо знаешь как? Как Митька Волкович. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Главное — виду не показывать.
С е р е ж а. Чепуха на постном масле!
Ш е в ч и к. Не скажи. На вот, подписывай. «Он говорил мне, будь ты моею»…
(Мечтательно.) Сегодня в театр с Лялей Степаницкой пойду!.. Послушай, а что, если мне по театральной части податься?
С е р е ж а
(подписывая). То есть как это? В артисты хочешь?
Ш е в ч и к. Ну какой я артист? А если — в режиссеры?
С е р е ж а. С чем это едят, понятия не имею. Не валяй дурака и добивайся в университет. Что еще?
Ш е в ч и к. Звонили из Боровска. Мужички шумят. Того гляди, подожгут усадьбу, а там ценнющая библиотека!
С е р е ж а. С этого бы и начинал. Ах, дурачина! Надо немедленно выезжать.
Ш е в ч и к. Нет уж, уволь. Хватит с меня пожара в Юхнове, когда мы спасали этот проклятый гарнитурчик.
С е р е ж а. Шурка Громан поедет, успокойся. Скачи в Губнаробраз. Пускай заготовят мандат и свяжутся с местной милицией.
Ш е в ч и к. На бричке можно?
С е р е ж а. Валяй. Она во дворе.
Ш е в ч и к. Черкни записочку. Я мигом. А Шурку где найду?
С е р е ж а. Если не найдешь, возвращайся сюда, я сам поеду.
Ш е в ч и к. Ясно-понятно, товарищ начальник.
С е р е ж а. И не фасонь по городу, а то еще Ляльку Степаницкую вздумаешь катать!
Ш е в ч и к. Не бойся. На колокольню не полезу.
(Схватив шапку, исчезает.)
В дверях — Д м и т р и й В а с и л ь е в и ч М а л и н н и к о в. Он в том самом виде, каким описывал его Костя: в фуражке Министерства просвещения с выломанной кокардой и с сумочкой для пайка. Он давно уже стоит, деликатно не решаясь прервать разговор, и, лишь когда скрылся Шевчик, делает шаг вперед.
М а л и н н и к о в
(не без иронии). Разрешите?
С е р е ж а
(встал). Пожалуйста, Дмитрий Васильевич.
М а л и н н и к о в. Вот тут ведомость на неотложные расходы по музею. Мыши завелись, надо морить. Смета на дрова и освещение.
С е р е ж а. Давайте я подпишу.
М а л и н н и к о в. А вы все-таки ознакомьтесь.
С е р е ж а. Не требуется, Дмитрий Васильевич. Я все равно ничего в этом не смыслю. Кстати, гарнитур, который я вывез из юхновской усадьбы…
М а л и н н и к о в. Там есть прекрасные вещи.
С е р е ж а. Мы решили передать их вам.
М а л и н н и к о в. Весьма благодарен. Я должен сказать, что это разрозненное собрание. Бюро из разноцветного дерева следует отнести к Людовику Пятнадцатому, а шесть золоченых стульев, обтянутых шпалерами Бовэ, разумеется, к более позднему времени. Безусловно, это музейные вещи, и театру они ни к чему, но Фома Александрович все равно будет на вас жаловаться.
С е р е ж а. Он и без того будет жаловаться. Я объявил войну рутине.
М а л и н н и к о в. Войну рутине? Весьма полезно, во все времена. Ну-с, а как же вы собираетесь это делать, ежели не секрет?
С е р е ж а. Для начала заставлю поставить пьесу Маяковского.
М а л и н н и к о в. Маяковского?
С е р е ж а. Да.
М а л и н н и к о в. Когда я его читаю, у меня такое чувство, будто я ломаю и ем забор. «Танго с коровами» — это его?
С е р е ж а. Нет, это Василия Каменского.
М а л и н н и к о в. Извините, я плохо разбираюсь в ваших классиках.
С е р е ж а. У Маяковского «Облако в штанах».
М а л и н н и к о в. Облако? В штанах? Тоже недурственно.
(Достал матерчатый кисет, насыпал махорку, оторвал кусочек газеты и стал свертывать цигарку.) Впрочем, я понимаю, время от времени должны появляться скандальные молодые люди. В иных случаях они отпускают длинные волосы и нарочно одеваются во что попало.
С е р е ж а. Я одет так, потому что у меня нет других штанов.
М а л и н н и к о в. Все мы нищи, все мы голы, аки и земля наша, некогда обильная.
(Свернул и заклеил губами цигарку.) Нет ли у вас спичек?
С е р е ж а. Увы, нет.
М а л и н н и к о в. А у меня советские сернички, сначала вонь, потом огонь.
(Присел на корточки перед печуркой, там чуть тлел огонь. Тут же валялись наполовину оборванные книги, взял одну из них.) Тургенев? Хорошо горит!
(Бросил в печку, выгреб уголек, прикурил.) Знаете, в конце шестидесятых годов в Швейцарии вертелись вокруг Бакунина его поклонницы, разные русские барыньки и девицы, и они окликали друг дружку — думаете как? — «Манька! Лизка! Машка!» — и щеголяли словечками: «лопала», «трескала»… Вспомнил об этом, когда намедни проходил по коридору нашей бывшей гимназии и услышал: «Манька, ты сегодня лопала? А я вчерась ничего не трескала…»
(Смеется.)
С е р е ж а. Так ведь это потому, что к нам в школу влилось много ребят из бывшего городского училища…
М а л и н н и к о в. Тем более я хотел бы, чтобы мои гимназисты, мои мушкетеры… Мушкетеров не забыли?
С е р е ж а
(улыбнувшись). Не забыл.
М а л и н н и к о в. Так вот, не им ли удерживать тот высокий уровень, которым всегда гордилась наша гимназия? А вы и на уроки-то редко заглядываете.
С е р е ж а. Времени не хватает. Но школу кончу и курс по истории сдам не позже чем через десять дней.
М а л и н н и к о в. Эх, Сережа, Сережа, нынче получить аттестат — пустое дело. Особливо вам.
С е р е ж а. Вы напрасно хотите меня унизить, Дмитрий Васильевич. Несуразица, конечно, что я оказался в роли вашего начальника. Время такое удивительное.
М а л и н н и к о в. Даже часовую стрелку передвигают, не считаясь с солнцем. Так что со мной считаться…
С е р е ж а. Тем не менее попрошу экзаменовать меня без всяких скидок.
М а л и н н и к о в
(низко поклонившись). Премного обязан.
С е р е ж а
(с укоризной). Дмитрий Васильевич…
М а л и н н и к о в. Да-да. Когда-то ученики меня боялись, а теперь я их боюсь… Но я историк, друг мой, сиречь многое мне открывается! Город наш древний, помянут еще в завещании Дмитрия Донского. И мало ли лиха сваливалось на его голову? Тушинский вор, гетман Сагайдачный, поляки… Был голод и мор, почище нынешнего, были пожары, чума, холера, почище нашего сыпняка. А он вытерпел, выстоял. И опять выстоит. Могу предположить, поворотов будет множество,
пока не обретет новое государство свою окончательную форму. Не ведаю — какую, но бороться с Совдепами считаю затеей не токмо бессмысленной, но преступной. Лишен иллюзий, ибо понимаю, что идеалы свободы, о которых мечтал девятнадцатый век, закиданы грязью и никто в них уже не верит.
С е р е ж а. То есть как это — никто?
М а л и н н и к о в. Друг милый, считайте, что я попросту ослаб духом… Устал жить, как на бомбе. И смотрю я на вас, Сережа, с грустью.
С е р е ж а. Почему?
М а л и н н и к о в. Как — почему? Неховцевы — фамилия достославная, не моя поповская. Предки ваши и Петру перечить не боялись. Отец у вас был знаменитейший профессор, немыслимый фантазер и чудак. Нынче-то кому такой нужен? Вашим Ванькам и Машкам он не нужен, поелику против тифозной вши ничего не выдумал. Да и вы — помните ли его?
С е р е ж а. Отчего ж не помню? Мне было десять лет, когда он помер и меня привезли сюда, к тетушке Миле.
М а л и н н и к о в. Профессорский сыночек… Не в радость это по нынешним-то временам, Сереженька. Им свои, пролетарские нужны, вот какие пилюли.
С е р е ж а
(сухо). Меня моим отцом не корят.
М а л и н н и к о в. Не осуждаю, ни секунды не осуждаю. Пока суд да дело, продолжайте, голубчик, свою карьеру как руководящее лицо.
С е р е ж а
(расхохотался). Что вы! Я в Москву собираюсь.
М а л и н н и к о в. Ой ли! Оттуда к нам бегут, как в рай небесный. И впрямь, кому охота жить, коли на улицах валяются дохлые лошади и кошки.
С е р е ж а. Ну, про это у нас на базаре болтают. Болтают еще, что в Москве появились прыгунчики, бандиты с пружинами на ногах. Вы верите?
М а л и н н и к о в. От страха и ужаса всегда слухи. А что мерзость запустения там, так уж это правда.
С е р е ж а. А вы вглядитесь без раздражения.
М а л и н н и к о в
(сокрушенно). О господи, пошли свет и мир твоим людям.
С е р е ж а. Какой уж тут мир! Вы вглядитесь, вглядитесь в эту странную Москву! Я прямо ошалел. В нищете, в смраде, в запустении… Лекции, вечера, диспуты… О боге спорят. Протоиерей Введенский и нарком Луначарский. В Политехнический не протолкаться. Битком. А назавтра там — Маяковский, Есенин, Мейерхольд. От прежних кумиров щепки летят. И тоже — битком. А в театрах? Смешно бы, кажется, смотреть в наши дни «Лебединое», но и в Большом полно. Сидят в шинелях, в валенках, в ушанках, руки мерзнут, изо рта пар. А в читальнях, в музеях? В университете? Не поймешь, кто солдат, а кто студент…
М а л и н н и к о в. Вот именно, есть ли он, наш великий Московский университет? Не одно ли название?
С е р е ж а. Жужжит как улей! Только бы скорей туда!
М а л и н н и к о в. Доживают, конечно, кое-кто из старой профессуры.
С е р е ж а. А там и старые и новые. В одной аудитории опровергают то, что говорится в другой.
М а л и н н и к о в. Доколотят и его. Жеребеночек вы еще. Дом-то в Староконюшенном нашли?
С е р е ж а. Нашел. А только не узнать.
М а л и н н и к о в. Нуте-с, что же?
С е р е ж а. Внутри все перегорожено. Из всех форточек трубы торчат. Полно жильцов.
М а л и н н и к о в. Слава богу, помер отец ваш.
С е р е ж а. А может, не слава богу?
М а л и н н и к о в. Каково бы ему!
С е р е ж а. А может, жаль, что не дожил?
М а л и н н и к о в. Да ведь рухнуло все, батенька.
С е р е ж а. Почему же только рухнуло? Нет, Дмитрий Васильевич, нет! А вот то, что вы называете девятнадцатым веком, так это действительно рухнуло.
М а л и н н и к о в. Невозвратимо. Да, да. И помяните мое слово, Сережа, не самое ли это страшное — идеалов гибель? Не нищета, не разор, не унижение наше, а — это?
(Встал.)
И Сережа тоже тотчас встал.
Так вот-с, мои отчетные ведомости и смету, товарищ Неховцев, соблаговолите, прошу прислать в адрес музея со всеми надлежащими подписями.
С е р е ж а. Шевчик пришлет вам их завтра.
М а л и н н и к о в. Благодарствую. Расписочку не беру. Передайте тетушке вашей Людмиле Яковлевне мои поздравления с наступающим светлым праздником Воскресения Христова. Наилучшие пожелания, прошу. И вот ей — яичко.
С е р е ж а. Спасибо, она будет рада.
М а л и н н и к о в
(покашляв). Дщерь моя Анна выражала некоторое беспокойство, но теперь я могу сказать, что вы объявились и находитесь здесь.
С е р е ж а. Она знает.
М а л и н н и к о в. А то пропадали?
С е р е ж а. Два дня отсутствовал.
М а л и н н и к о в
(хмыкнув). А, да, два дня.
(Уходя.) Тиф! Тиф! Почему у вас нет плаката «рукопожатия отменяются»? Нынче всюду висят.
С е р е ж а. У меня не висит.
(Помогает ему собрать три картофелины, выкатившиеся из сумки.)
М а л и н н и к о в. Не беспокойся, дружок, я сам. До свидания.
Едва Малинников ушел, дверь приотворяется и входит М и ш а Я л о в к и н.
М и ш а. Ну и ну! Долго же он у тебя сидел.
С е р е ж а. А ты напрасно ждал. Мог бы войти и принять участие в нашем разговоре о судьбах России.
М и ш а
(подошел к двери, прислушался). Тут никого нет? Никто не может прийти?
С е р е ж а
(складывает бумаги). Я один. Жду звонка из Боровска.
М и ш а. Да, там что-то вроде бунтика.
(Закрыл дверь на крючок.) Ну, и в каком он настроении?
С е р е ж а. Кто? Дмитрий Васильевич? Размышляет и анализирует.
М и ш а. Кончились Малинниковы. Перевернутая страница истории.
(Подошел к Сереже, еще прислушался и — понизив голос.) Я пришел к тебе, потому что нашлись люди, которые решили действовать, а не шушукаться по углам.
С е р е ж а. Это что еще за новые призраки?
М и ш а. Не призраки, а живые люди.
С е р е ж а. И ты их знаешь?
М и ш а. Они очень законспирированы. Я знаю только хвостики — несколько человек, среди них двое из артдивизиона.
С е р е ж а. Офицеры?
М и ш а. Не делай круглых глаз. Вспомни офицеров тысяча восемьсот четырнадцатого года! Они вернулись после победы из вольнолюбивой Франции, и это были будущие декабристы! Они всколыхнули душу Пушкина, Кюхельбекера, Пущина, а через сто лет и нашу с тобой душу!
С е р е ж а. Брось. Не Рылеевы это и не Чаадаевы.
М и ш а. Но ты бы слышал, как говорят они о возрождении России!
С е р е ж а. А ты лучше вспомни белогвардейский мятеж в Рыбинске, в Ярославле. Тоже ведь кричали о возрождении России. То-то и наши обыватели зашушукались, потирая руки. А что из этого вышло? Обман и кровь. Расстрелы.
М и ш а. Теперь не то, теперь не белогвардейский мятеж. И они не наемники интервентов…
С е р е ж а. А кто же?
М и ш а. Лучшая часть русского офицерства, прошедшего плен, войну, и с ними интеллигенция. Они ратуют за свободу личности. Как раз за то, о чем рассказывал нам Дмитрий Васильевич на уроках истории, и ты первый был в восторге!
С е р е ж а
(сухо). Я и теперь не отказываюсь от этих идеалов.
М и ш а. Ага, видишь! Да только теперь не слова, а дело!
С е р е ж а. Дело?
М и ш а. Да! Они образовали единый союз, невидимо раскиданный по всей России…
С е р е ж а. И ты вступил в этот воображаемый союз?
М и ш а. Твоя обычная ирония мне знакома. В строгом смысле — я только вступаю. Видишь ли, сегодня ночью впервые соберется их боевое звено. Место сбора — в Загородном саду, на спуске к бору. Сережа, я очень взволнован, ты поймешь. Ведь это то, о чем мы мечтали. Мы узнаем, что надо делать…
С е р е ж а. Постой, постой. Значит, не мятеж? Но все-таки «боевое звено»? Интересно, что за такое «боевое звено»? Что это за «интеллигенция»? Наши бывшие лавочники? И что это за лучшая часть русского офицерства? Постучи себя по головочке, подумай, на что ты идешь, с кем?..
М и ш а
(не слушая). Да, первая встреча полна опасности. На всякий случай мне даже выдали оружие. Вот.
(Выкладывает револьвер.) Теперь видишь, что это не болтовня? Пользоваться им можно лишь в самом крайнем случае. У меня и для тебя есть.
(Достает второй револьвер.) Придешь туда к половине первого. Пароль: «Как пройти в Ромодановское?»
С е р е ж а. Убери. Мне не надо.
М и ш а. Не пойдешь? Нет, ты отвечай прямо. Я спрашиваю серьезно.
С е р е ж а. А мне не стать говорить о чепухе серьезно.
М и ш а. Значит, не пойдешь? И ничего толком сказать не можешь?
Молчание.
Ты что, постарел в этой конторе? Или просто испугался?
Молчание.
Сергей!
Молчание.
Вот, оказывается, цена всем твоим разглагольствованиям!..
С е р е ж а. Почему ты раньше не сказал мне, что связался с этими людьми?
М и ш а. Я ждал решительного шага с их стороны. Сережка! Помнишь дружбу Герцена и Огарева? Помнишь наши клятвы? Пусть у нас были детские, деревянные шпаги, но это было на всю жизнь! И никто никогда не говорил мне о подвиге во имя будущего так, как говорил ты! Никто так не говорил о свободе духа, о свободе человека! Или ты стал думать иначе?
С е р е ж а. Я такой же, как был.
М и ш а. Фу-ф! Слава богу. Я был уверен в этом. Меня даже пот прошиб. Знаешь, когда я начинал колебаться, я возвращался мыслями к тебе, и сомнения мои исчезали. И когда я услышал: «Пробил час, завтра в полночь», — я ответил: «Я готов». И пошел сюда, за тобой.
С е р е ж а. Напрасно. Неужели ты мог подумать, что я пойду?
М и ш а. Ты шутишь! Я ослышался!
С е р е ж а. Не будь мальчишкой, Монтигомо Ястребиный Коготь.
М и ш а. Значит, то, о чем мы мечтали, теперь для тебя не более как мальчишество, детская болтовня, игра в индейцев?
С е р е ж а. Хорошо, если бы только игра.
М и ш а. И у тебя хватает совести не говорить, а мычать в ответ? То-то сегодня утром к тебе заходил чекист Волкович. Наверно, не зря?
С е р е ж а. Сам знаешь, что говоришь глупости.
М и ш а. Тогда ты просто трус.
С е р е ж а
(еще спокойно). Я не трус.
М и ш а. Трус! Так и знай, я клятву дал за нас обоих. И нет хода назад для тех, кто знает и отказался, тогда — пуля из-за угла.
С е р е ж а. Стреляй. Вот я.
М и ш а. Может, скажешь что-нибудь еще?
Молчание.
Совесть не позволяет?
Молчание.
Трясешься?
С е р е ж а. Это тебя трясет как в лихорадке.
М и ш а. Предатель. Если не трус, то предатель!
С е р е ж а
(закусив губу). Поосторожнее.
М и ш а. Тебя купили за командировочку в университет, Сережа! Тебя купили за директорскую ложу в театре! Тебя купили, купили, Сережечка, за казенную бричку, и ты, Сережа, раскатываешь на ней по городу и пускаешь пыль в глаза Ане Малинниковой, а то как бы Митька Волкович…
С е р е ж а. Замолчи! Я ударю тебя!
М и ш а
(в отчаянии). Сергей!
С е р е ж а
(не поворачиваясь). К черту.
М и ш а. Хорошо. Прощай.
(Ушел.)
С е р е ж а. Миша!
(Выбежал за ним и вскоре вернулся.) Ушел. А может быть, и в самом деле он пойдет туда? Того гляди, угораздит, вот ерунда-то…
Зазвонил телефон.
Слушаю. Да, я. Не будем, не будем говорить об этом сегодня, Фома Александрович. Какая там «Мистерия-буфф»! Все это пустяки, глупости. Ерунда. Давайте уж завтра. Да, хорошо.
(Повесил трубку и задумался.) А что сказал бы отец? Что он сказал бы?.. Помню, вижу… Вот я стою в коридорчике, босой, в ночной сорочке. В щели приоткрытой двери свет лампы, силуэт отца. Вот он: сидит с козлиной бородкой, склонившись над своими фантастическими вычислениями. Эм, эн, эс, ах… Ему всегда было безразлично, что происходит на земле! Он о луне думал!.. Мертвеюще тихий вечер. Я один в коридорчике. Там за окном, в переулках, — немая тьма. А что за нею?.. Мне страшно…
Телефонный звонок.
(Берет трубку.) Шурка? Громан? Ты уже на вокзале? Через десять минут поезд? Отлично. Если один не управишься, тотчас звони. Ну, давай, беги.
(Положил трубку.) …Все двери настежь, и ветер валит с ног!.. Как непохоже это на мое безлюдное детство! Эм, эн, эс, ах… Мишка? А может, не ерунда и он всерьез?.. Кто там?
В дверях появляется А н я. Он смотрит на нее каким-то отсутствующим, ошеломленным взглядом.
А н я. Тсс!
(Пауза.) Ты один? Кто-то вышел от тебя. Я прижалась к стене, и тень исчезла. Я еще и еще постояла и потом решилась. Боже мой, уже так поздно! Я совсем сошла с ума. Папа говорил, что я зайду?
С е р е ж а. А? Что? Да, да, кажется.
А н я
(сняла платок, в который была закутана ее голова, и милым движением поправила волосы). Странно. Ты как будто не рад. Как будто я когда-нибудь приходила к тебе так поздно. Может, мне уйти?
С е р е ж а. Что ты, что ты! Только я еще ничего не разберу. Мишка мне нахамил, но не полезет же он на рожон как дурак? Завтра я с ним поговорю. Ничего еще, слава богу, не произошло. Анечка!
(И подходит к ней.)
А н я
(отстраняя его). Без этого. То есть как это ничего не произошло? Тогда зачем бы я бежала к тебе ночью?
С е р е ж а. Правда, правда.
(Уставился на нее.) Я был как слепень, я не видел.
А н я. О чем ты? Сумасшедший какой-то.
С е р е ж а. Почему я не схватил его за руки?.. Что делается на улице?.. Ты ничего не заметила? А?
(Стоит у окна, прислушивается.) Тихая, тихая ночь…
А н я. Перестань изображать! Говоришь какую-то чепуху!.. А зачем я пришла? Как ты думаешь, зачем я пришла? Как будто бы я пришла, если бы не такие события…
С е р е ж а
(резко повернулся к ней). Какие еще события?
А н я. По-моему, это так интересно, что я полетела к тебе, чтобы поделиться. Ну, что ты уставился на меня, как полоумный индеец? Дикий совсем. Сидит и не знает, что вечер у нас будет, это уже факт!
С е р е ж а. Какой вечер?
А н я. Господи, он не знает! Вечер в школе. Здорово придумали. Он будет называться «Вечно женственное».
С е р е ж а. Как?
А н я. «Вечно женственное». Папа вначале скажет небольшое слово о литературных образах, о Шекспире, о Блоке. А я буду Офелией. Сегодня была первая репетиция. Ставят Мартини и Рощина. Странно, что не пришел Миша. Гоняет и гоняет, как ты. А он как раз должен был изображать Лаэрта.
С е р е ж а. Мишка?
А н я. Свинья такая, вместо него подыгрывал Олег Ковалев. Смотри, вот как было.
(Вскакивает, танцует и напевает.) Это я Мишке, то есть теперь Олегу: «В могилу, в могилу, в могилу его!.. Как идет этот напев к шуму колеса на самопрялке! Вот незабудки, это на память: не забывай, не забывай меня! А вот повилика — она означает верность друга! Вот вам хмель и васильки! А вам полынь — она горька, как горько бывает раскаяние…
Так не придет он к нам опять,
Его нам больше не видать…»
С е р е ж а. Оставь! Я не могу этого слушать…
А н я. Тебе не нравится? Я плохо читаю? Я плохо танцую?
С е р е ж а
(раздраженно). Не то!
А н я. Что — не то? Объясни? Если плохо — объясни!
С е р е ж а. Ну, и еще что?
А н я. Я сказала: живые картины. А потом, конечно, танцы…
С е р е ж а. Почта духов, фанты. Тра-ля-ля, тра-ля-ля…
А н я. Тоже не нравится?
С е р е ж а. Может быть, еще мундирчик с серебряными пуговицами вытащишь, если его еще не обменяли на картошку?
А н я. Умерь пыл. Волковича не будет.
С е р е ж а. Ерунда это, понимаешь? И это сейчас как ножом по тарелке.
А н я. Ты не танцуешь, тебе скучно, вот ты и злишься. Я не такая умная, как ты, и я всегда любила наши гимназические балы. И я уже думала, что они канули в вечность, а они возвращаются. Боже, как все сложно в жизни… Ну, представь себе, я выбегу, у меня будут растрепанные волосы, и я буду разбрасывать цветы…
С е р е ж а. К черту все это, к черту!..
А н я. Цирк. Он вообразил, что если я решилась прийти к нему, вот так взять и прийти, то он может кривляться и изображать какого-то Гамлета. И еще смеешься над Волковичем, что он позер! Сам ты позер! Сам! Как я раньше этого не видела. Вот, на — съел? Я ухожу от тебя и не желаю с тобой разговаривать. Иди выгляни на улицу и посмотри, нет ли там кого-нибудь, а то увидят, как я выхожу от тебя, и начнутся сплетни… Господи, уже половина первого!
Слышны раздельные, одинокие выстрелы.
(Охнув.) Стреляют.
С е р е ж а
(тревожно прислушиваясь). Кажется, у Загородного.
А н я. Неужели опять какая-нибудь банда?
С е р е ж а. Если бы банда…
А н я. А что же, если не банда? Я боюсь.
С е р е ж а. Я тебя провожу.
А н я. Мне страшно.
С е р е ж а. Пустяки. Идем. Мне еще надо забежать к Мишке. Обязательно надо. Он, наверно, дома, как думаешь, а? Наверно — дома, наверно — дома. Идем, идем!
А н я. То есть как это мы выйдем вдвоем? Ты соображаешь? Нет уж, спасибо. Потуши лампу. Посмотри в окно. Ну?
С е р е ж а
(раздраженно). Да нету никого на улице! В конце концов, ты кого боишься? Бандитов или кумушек?
А н я. Посмотрите, как он стал со мной разговаривать! Я не привыкла к этому, слышишь? Здравствуйте пожалуйста, теперь он смеет! А помнишь, как ты в белых наглаженных штанах полез в болото, в тину? Кто приказал?
С е р е ж а. Ты.
А н я. Да, я. Я сказала: «А ведь не полезешь, даже если я попрошу, потому что только так, только хвастаешься, что на все готов ради меня…» Сказала, и ты полез, как дурачок, шагнул и ухнул. Я чуть не лопнула от смеха. Боже мой, что за вид у тебя был, и улыбался еще…
Опять слышны выстрелы.
С е р е ж а
(нервно). Ну, идем же, идем!..
А н я. Оставь меня. Я пойду одна.
(Уходит.)
Он не бежит за ней.
С е р е ж а
(торопливо убирает бумаги в ящик стола. Некоторое время стоит, автоматически повторяя). «Как пройти к Ромодановскому?..»
(Гасит свет и выходит.)
Зловещую тишину прервал еще один выстрел, и все постепенно погружается в полную тьму.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
В ТУ НОЧЬ НА КОСОГОРЧИКЕ…
Вообразим, что мы на спусках Загородного сада, круто сбегающих к темному бору. Мутный, словно из тумана сотканный луч высветил фигуру, и мы узнали в ней М и ш у Я л о в к и н а. Он шарит глазами, не понимая, куда идти дальше… Но вот, кажется, кто-то возникает в призрачном свете…
М и ш а
(шепотом). Как пройти к Ромодановскому?
Появляется человек. Это — М и т я В о л к о в и ч.
В о л к о в и ч. Мишка? Вот не думал, не гадал, что до этого докатишься! Ты? С этим отребьем?
(Схватил его за руку.)
М и ш а. Пусти!
В о л к о в и ч. Допрыгался.
М и ш а. Пусти, я говорю!
(Отбросил его руку.)
В о л к о в и ч. Болван! Даже не сукин сын, а просто болван! Переловили твоих офицеришек поодиночке как кроликов. Давай сворачивай, не до тебя!
М и ш а
(он уже в истерике, отскочил назад). Ни с места! Буду стрелять!
В о л к о в и ч. Брось эти штуки, идиот! Хорошо, что на меня напоролся. Одним словом, давай пока деру, а потом сам придешь с повинной.
М и ш а. Стой, я сказал!
(Вынул руки — в обеих по револьверу, а руки дрожат.)
В о л к о в и ч. Опусти, это тебе не игрушки.
М и ш а. Ни шагу!
В о л к о в и ч
(спокойно). Да ты что, белены объелся?.. Ну, коли так, подымай руки и не вздумай шевелиться. Сам на себя пеняй, тоже мне… деятель… Антанты…
М и ш а. Не подходи! Не подходи, не подходи, говорю!
(Лицо его искажено ужасом, и он стреляет сразу из двух револьверов.)
Волкович падает.
Митька!
(Подбегает к нему.) Митька, Митька!
(Тормошит его.) Да что же это, что же это…
(Силится приподнять его.)
Вбегают два человека: один в красноармейском шлеме — А н д р ю х и н, другой в кожанке — К р у м и н ь. Скрутили Яловкину руки. Круминь бросился к Волковичу.
К р у м и н ь. Митюш… Митя…
(Рванулся было к Яловкину.) Негодяй!
(И, закрыв лицо руками, снова склонился над Волковичем.)
М и ш а
(Андрюхину). Не выкручивай руки. Развяжи.
(В тихом отчаянии.) Не сбегу я…
А н д р ю х и н. А ну молчать! За мной, сволочь!
(Грубо толкает его.)
…И В ТО УТРО У ТЕТУШКИ МИЛЫ
Суетливо поднимается в свою светелку т е т у ш к а М и л а, приобняв, ведет за собой А н ю, усаживает на золотой пуфик, хлопочет, подскакивая достает чашку, трогает кофейник, не остыл ли.
Т е т у ш к а М и л а. Ах, как хорошо, что вы зашли, деточка! Вот сюда, сюда садитесь. Давеча он пришел, когда уже светало, а я притворилась спящей, и он сразу пробрался к себе. Заглянула, а он спит и даже не разделся. Так и лег, прямо в сапогах. Кофий еще не остыл. Вы не знаете, он всегда возвращается сам не свой, если поссорится с вами. Но ведь вы помирились? Не правда ли — вчера утром помирились?
А н я
(неуверенно). Кажется, да.
Т е т у ш к а М и л а. Я вам в эту чашечку.
А н я. Спасибо.
Т е т у ш к а М и л а. Это его чашечка. Помирились — а он опять сам не свой?
А н я. Не пойму, честное слово, на этот раз я на редкость ни в чем не была виновата. Забежала к нему в Подотдел, хотела поделиться насчет нашего вечера, а он вдруг разозлился.
Т е т у ш к а М и л а. Характер у него в отца. Тимоша тоже был кипяток и ужасно ревнив. Кушайте, кушайте. Вот коржики испекла.
(Весело подмигнув.) Съездила обыденкой в Ромодановское, выменяла подсвечники, три вуалетки и Тимошины штаны из-под вицмундира на яйца и масло… Сережечку подкормить надо. Ему по осени в Москву ехать. Он ученым будет, как и Тимоша. Вы маслицем намазывайте, я ведь к вам как к своей.
А н я. Да что вы, мне неловко, право.
Т е т у ш к а М и л а. Ну что неловкого, не стесняйтесь. Я еще и мукой разжилась. Здесь, на базаре. Мон дьё, такой жох попался! Нынче-то пасха! Такой жох, такой жох! Но меня не проведешь! Я ему дырявый оренбургский платок подсунула. То есть как это — я без кулича? И глядите, яйца уже покрасила!
А н я. Чем это вы?
Т е т у ш к а М и л а. Да еще царской краской, в пакетиках.
А н я. Чудесно как.
Т е т у ш к а М и л а. Раньше Сережечка сам красил. Но главное — сахар. При его-то умственной работе?.. Вы кладите, кладите, вы у меня давно как своя. Это от чужих прячешь. С вами я уже примирилась. А что делать? Кушайте.
А н я. Право, так вкусно, Людмила Яковлевна.
Т е т у ш к а М и л а. И коли мы с вами сейчас вдвоем и пока он спит, давайте-ка поговорим. Как же нам быть? Без обиняков скажу, он в вас влюблен до того, что у меня опускаются руки.
А н я. Да нет же, нет, мы с ним друзья. Разве я позволила, если бы что?
Т е т у ш к а М и л а. Ах боже мой, ну назовем это «амитье амурез», влюбленная дружба. Но жениться ему рано, Анечка. Вы это сами понимаете. А теперь он вот-вот уедет в Москву. Как он там издергается, если он тут дергается?!
А н я. Но, может быть, мне удастся поскорее кончить школу и стенографические курсы по системе Животовского, и тогда я тоже поеду в Москву!
Т е т у ш к а М и л а. Ох, да что вы… Это уже совсем безумие!
А н я. Как будто я не понимаю. Когда папа читал на комкурсах, мы хоть военный паек получали. А теперь? Ну какой паек у учителя? Ему бы одному перебиться.
Т е т у ш к а М и л а. Это вам не как до революции, милая моя.
А н я. И не говорите! Больно смотреть, когда он ходит за водой и тащит ведро.
Т е т у ш к а М и л а. Нынче все так. А управляющий Казенной палатой Андерсон? Там у них, у колонки, клуб бывших статских советников. Но вы молодая, у вас все впереди. Сидите пока что дома, слава богу, что хоть так.
А н я. Сережа говорит, что ожидается новая политика. Я в этом ничего не понимаю, но он говорит, что, может быть, даже частную торговлю временно разрешат.
Т е т у ш к а М и л а. Дай-то бог.
А н я. И он говорит, что таким, как мы, студентам, учителям, вначале легче не будет. Торгаши и спекулянты расцветут. Он говорит, что папаша Шевчик, того гляди, свой конфекцион возродит. Так что Косте будет хорошо, а уж нам придется без папенек и маменек. Он так и говорит. И это он заставил меня учить стенографию по системе Животовского, потому что надо уметь и знать, чтобы жить по-человечески, а не на чьей-нибудь шее.
Т е т у ш к а М и л а. Сережечка умный, вы ему верьте. Нет, а с частной торговлей все-таки легче будет. Долго ли можно протянуть на старых штанах?
А н я. Хорошо — у вас вещи, а у нас только книги. Цирк.
(Прислушалась.) Может, будить?
Т е т у ш к а М и л а. Ни-ни-ни. Он заснул часа в четыре, а то и позже. Ночью стреляли. Вы слышали?
А н я. Кажется, в Загородном. Говорят, дезертиров ловили.
Т е т у ш к а М и л а. Прямо кошмар, а не жизнь… А проснется — уж то-то обрадуется, что вы у меня. Значит, помирились? Так отчего ж он такой пришел?
А н я. Помирились или поссорились — не знаю. Что-то случилось, Людмила Яковлевна. Не знаю, не знаю. Что-то случилось…
Т е т у ш к а М и л а. Может, настроение такое, неприятности?
А н я. Не знаю. Наверно, ему не понравилось, как я танцую Офелию. Посмотрите, как я танцую.
(Печально танцует.) А тут я разбрасываю цветы и тихонько пою: «Так не придет он к нам опять, его нам больше не видать…»
(Опустилась на стул, не закончив танца.) Как все сложно в жизни…
Т е т у ш к а М и л а
(поджав губы). Вы что же, Анечка, может, еще и в балерины собираетесь?
А н я. Люблю танцевать. Что тут такого? И рада, обрадовалась, что у нас будет вечер, как было прежде, и теперь я уже не маленькая и буду танцевать Офелию…
Т е т у ш к а М и л а. В гимназии мадам Констан у нас тоже устраивали вечера. Я мелодекламировала по-французски.
А н я. Прибежала к нему поделиться…
Т е т у ш к а М и л а. А он что?
А н я. Я так привыкла, что ему нравится все, что я делаю. Не знаю, не знаю…
(Поднимает голову, и на глазах у нее — слезы.) Знаю только, что не я от него, а он от меня уйдет.
(Пауза.) Вот чем это кончится.
Т е т у ш к а М и л а
(развеселясь). Что вы, деточка! Вы прекрасно танцуете! Может быть, вы и на самом деле Гельцер?
(Суетясь, прибирает на столе.) Нужно антант кордиаль — сердечное соглашение. А ему не понравилось? У него характер. Долой, долой монахов, долой, долой попов… Как у Тимоши. Так-таки не поправилось? Отвернулся — и кончен бал?
Шаги.
Кто там?
Входит Ш е в ч и к.
Ш е в ч и к. Это я.
Т е т у ш к а М и л а. А Сережечка еще спит.
Ш е в ч и к. Спит? И ничего не знает? Фу-у.
(Сел в изнеможении.) Я сейчас заскочил к Мишке, а его, заметьте, так всю ночь и не было, исчез…
Т е т у ш к а М и л а. Болтаешь не разбери что. В чем дело?
Ш е в ч и к. Я думал, что я погиб.
Т е т у ш к а М и л а. Ну вот, пошел-поехал. Погрызи коржик.
Ш е в ч и к. Только что меня таскали в чрезвычайку.
Т е т у ш к а М и л а. Господи!
Ш е в ч и к. Сижу, в горле ком, ничего не вижу. «Фамилия? Имя-отчество?..» И потом: «Вы в курсе?» Ни в каком я не в курсе. «Не притворяйтесь, хватит». В голове туман, несу какую-то околесицу. «Ладно, мы еще поговорим. Уведите его». Иду, шатаюсь. Думаю — в каталажку. Прощай, Шевчик! И представьте — выпускают на улицу. Солнышко светит. Я было подпрыгнул от радости, но не тут-то было: встречаю Валерку Конюса, а уж у него нюх. Несется как паровоз. Завел в подворотню. «Слыхал, Мишка Яловкин арестован? Говорят, убил кого-то…»
А н я. Мишка? Убил?
Т е т у ш к а М и л а. Не слушайте вы его. Дернет же за язык сказать такое! Всегда у него слухи.
Ш е в ч и к. Слухи, слухи, а за Дмитрием Васильевичем уже пришли.
А н я. За папой?
Ш е в ч и к. Не волнуйтесь, Анечка, но его увели.
Т е т у ш к а М и л а. Да замолчи ты…
Ш е в ч и к. Я не видел, но, говорят, под конвоем, трое с винтовками и сзади пулемет.
А н я. Я… бегу… домой…
Ш е в ч и к. Я не утверждаю, но говорят.
Т е т у ш к а М и л а. Сядьте, Шевчик, ни одного слова больше. Спокойно, дети! С вашим отцом, Аня, ничего не может случиться. Все знают в городе, какой он человек…
Ш е в ч и к. Но ведь это чрезвычайка, Людмила Яковлевна. Побыли бы там с полчасика, как я…
Т е т у ш к а М и л а. Тихо, звонок.
Действительно, задребезжал колокольчик.
Ш е в ч и к. Дверь не заперта, я-то ведь вошел…
Т е т у ш к а М и л а. Значит — чужой.
(Заторопилась к двери, вышла.)
А н я. Но папу-то, папу за что?
Ш е в ч и к. Конечно, если под конвоем, то дело совсем швах, меня-то не вели под конвоем, но главное — не надо волноваться, бывает и хуже, хотя до этого еще не докатывалось. Аня, Анечка, что вы, держите себя в руках…
Входит т е т у ш к а М и л а, пропуская вперед А н д р ю х и н а.
А н д р ю х и н. Где он?
Т е т у ш к а М и л а
(Ане, закрывая собой подоконник, на котором лежат крашеные яйца). Ву компрене, Аня?
(Андрюхину.) Он спит, я же говорю — спит.
А н д р ю х и н. Разбудить.
Т е т у ш к а М и л а. Сейчас, голубчик. Садитесь. Может, кофейку? Вот коржики, товарищ.
А н д р ю х и н. Некогда мне, гражданка. Идите за ним.
Тетушка Мила ушла. Аня становится на ее место, закрывая подоконник и с ужасом глядя на богатыря в шишаке, с нашитой матерчатой звездой, угрюмого и словно бы заполнившего собой половину комнаты.
Ш е в ч и к
(робко). А зачем он вам понадобился? Его же ждут на коллегии в Губнаробразе…
А н я
(подыгрывая Шевчику). Он, наверное, у товарища Фомичева будет? У Фомичева, да?
Ш е в ч и к. А как же? Запросто! У самого Фомичева!
А н я
(Андрюхину, который все время молчит). Непонятно все-таки…
(Напевает с нарочитой беззаботностью.) По берегу ходила большая крокодила, она, она зеленая была…
Тягостная пауза. Потом появляются С е р е ж а и т е т у ш к а М и л а.
А н д р ю х и н. Ты — Неховцев?
С е р е ж а. Да, я…
А н д р ю х и н. Пойдешь со мной.
Т е т у ш к а М и л а. Погодите, погодите, я ему сверточек дам — сахару, смену белья.
А н д р ю х и н. А это ни к чему.
(Сереже.) Пошли.
(Уводит Сережу.)
Ш е в ч и к. Андрюхин, Андрюхин его фамилия, я узнал точно. А по прозвищу Есаул. Слышали?
А н я. О боже!
Ш е в ч и к
(шепотом). Губчека. Особняк Елина.
А н я. Есаул!
(Истерически плачет.)
Ш е в ч и к. Нет слов. Это конец.
Т е т у ш к а М и л а. Сырость не разводить, тоже мне еще. Сейчас я сама пойду прямо к этому латышу…
Ш е в ч и к. Вы не знаете, что такое товарищ Круминь, да вас к нему и не допустят!
Т е т у ш к а М и л а. А это мы посмотрим. Я не с такими разговаривала! Он, голубчик, у меня еще попляшет! Чтобы среди бела дня схватить Дмитрия Васильевича, а потом моего Сережечку… Мои дьё, они что, ополоумели?..
(Собирает вещи, кидая их в базарную корзинку.) Дай-ка там бювар, Костик, ты же знаешь, там, на столике. Пускай посмотрят охранную бумагу на библиотеку покойного Тимоши, а потом бумагу на мое имя, когда я сдала книги с Тимошиными экслибрисами в нашу центральную читальню. Вот, гляди, личная мне благодарность от товарища Луначарского…
(Надевает шляпку.) А они — Сережечку!.. Попляшут у меня, попляшут!
(Уходит.)
ТРИ ДОПРОСА
Кабинет Круминя в ЧК. За столом — К р у м и н ь, чуть поодаль и напротив него — М а л и н н и к о в.
М а л и н н и к о в. Насчет своих убеждений я могу сообщить, что придерживаюсь конституционно-демократических принципов, а после Февраля склонялся к республиканскому строю.
К р у м и н ь. Ну что ж, все-таки движение вперед.
М а л и н н и к о в. Видите ли, конкретные события учат многому. Я не собираюсь утаивать, что считал Учредительное собрание наиболее справедливой формой, определяющей дальнейшее развитие России. История рассудила иначе. Тем не менее — и это я подчеркиваю — к советской власти я отношусь лояльно. Нет, пожалуй, теперь могу сказать более определенно. Диктатура Совдепов убедила меня в том, что она справилась с анархией и разнузданностью тех темных сил, которые грозили погубить Россию. Это я признаю.
К р у м и н ь
(не без иронии). Очень приятно.
М а л и н н и к о в
(со смешком). Как говорили в мрачное средневековье: «эрарэ гуманум эст», человеку свойственно ошибаться. Это по-латыни.
К р у м и н ь. Совершенно справедливо. И если не ошибаюсь, вы — преподаватель истории?
М а л и н н и к о в. Нынче в старших классах школы второй ступени, а до революции — в мужской гимназии имени Александра Первого Благословенного. В прошлом полугодии читал лекции по русской истории на комкурсах, но в свете новых агитационных требований мои чтения были прекращены.
К р у м и н ь. Комкурсы готовят командиров Красной Армии, и там у них несколько другая программа.
М а л и н н и к о в. Скорблю, ибо всегда считал и считаю, что вульгарное изложение исторического процесса наносит непоправимый вред. Свести историю к борьбе крестьян с помещиками…
К р у м и н ь. Стоит ли здесь обсуждать этот вопрос? Но разве вы лишены возможности продолжать работу как преподаватель в школе?
М а л и н н и к о в
(сухо). В рамках, мне указанных.
К р у м и н ь. И ведь вы, кроме того, состоите директором недавно созданного краеведческого музея…
Малинников утвердительно наклонил голову.
…являясь одним из его основателей?
М а л и н н и к о в. Да. Не скрою, это моя давняя мечта. Не раз ставил вопрос перед городской думой. Но в те времена…
К р у м и н ь. Ну вот, а теперь — видите?
М а л и н н и к о в
(поджал губы, чуть наклонил голову). Признаю.
К р у м и н ь. Но не мешают ли вам в вашей работе?
М а л и н н и к о в. Нет.
К р у м и н ь. А все-таки? Скажем, Подотдел искусств?
М а л и н н и к о в. Нет, что вы.
К р у м и н ь. В частности, товарищ Неховцев?
М а л и н н и к о в. Помилуйте, как это может быть? Он мой ученик. В фонд музея недавно поступили редчайшие материалы, вызволенные из помещичьих усадеб. Сережа Неховцев проявил при этом немалое мужество и энергию. Там оказались поистине уникальные вещи.
К р у м и н ь. Следовательно, у вас продолжаются дружеские связи с вашими учениками?
М а л и н н и к о в
(сдержанно). Особливо с теми, кто учился у меня в гимназии.
К р у м и н ь. Тогда, наверное, вы можете сказать, что за человек Яловкин?
М а л и н н и к о в. Яловкин?
К р у м и н ь. Да, да, Яловкин, Михаил Яловкин. Кажется, сын железнодорожного кондуктора?
(Заглянул в папку.) Тысяча девятьсот третьего года рождения.
М а л и н н и к о в. Мишу Яловкина я знаю с третьего класса. Хороший юноша.
(Снял пенсне, протер их не спеша.) Романтик. Иной раз, глядя на него, невольно вспоминал я и свое студенчество.
К р у м и н ь. А с кем он дружил?
М а л и н н и к о в. В средних классах — с Дмитрием Волковичем.
К р у м и н ь. С кем? С кем?
М а л и н н и к о в. С Волковичем.
К р у м и н ь. А что собой представляет Волкович?
М а л и н н и к о в. Затрудняюсь ответить. Он ушел из гимназии, и с тех пор я с ним не встречаюсь, хотя иногда он заходит к моей дочери.
К р у м и н ь. Понятно. С кем еще дружил Михаил Яловкин?
М а л и н н и к о в. Видите ли, их была троица. Три мушкетера, так их и называли. Это еще до революции. А третий — Неховцев.
К р у м и н ь. А как же с мушкетерами? Их дружба продолжается?
М а л и н н и к о в. У Неховцева и Яловкина продолжается, а у Волковича, видимо, появились другие интересы.
К р у м и н ь. Вы имеете представление, какие именно и почему это послужило их расхождению?
М а л и н н и к о в. Право, не интересуюсь, чем занимается Волкович, но соседи по их подвалу относятся к нему с подозрением.
К р у м и н ь. Может быть, не только соседи? В этом городе не могло быть иначе. Он работает у меня.
М а л и н н и к о в. Да, я что-то в этом роде слыхал.
К р у м и н ь. Почему же только слыхали? Митя не скрывал, что он работает в ЧК.
М а л и н н и к о в. По-видимому. Поэтому и разошелся с друзьями.
К р у м и н ь. Он — с друзьями или друзья — с ним?
М а л и н н и к о в. Право, не знаю.
К р у м и н ь. Нет, знаете.
М а л и н н и к о в. Могу оказать только, что с тех пор держится он с какой-то нарочитой бравадой.
К р у м и н ь. А вам не приходило в голову, что это вынужденная бравада?
М а л и н н и к о в. Почему же — вынужденная?
К р у м и н ь. Но вы же сами сказали, что к нему стали относиться с подозрением. И он пошел даже на разрыв с прежними товарищами. А ведь это нелегко?
М а л и н н и к о в
(нахмурившись). Согласен.
К р у м и н ь. Отлично. Мы с вами находимся сейчас в особняке бывшего купца Елина, и ваши обыватели, которых вы именуете русской интеллигенцией, обходят этот особняк с опаской и идут по другой стороне. Замечали? Так это не только страх, это — ненависть… Могу пожалеть, что я так мало задумывался, сколь трудно было Мите…
М а л и н н и к о в. Что?.. Да, да…
К р у м и н ь. Хорошо, оставим Митю. Были у него свои мечты, свои планы. А вот какие планы были у вашего романтика Михаила Яловкина?
М а л и н н и к о в. Он избрал благородный путь. Его мечта — стать народным учителем.
К р у м и н ь. Скажи на милость. Вот ведь какая еще вещь…
М а л и н н и к о в. Что именно?
К р у м и н ь. Это не имеет отношения к делу. Но видите ли, сам я тоже в народные учителя готовился. В Курляндии бывали?
М а л и н н и к о в. Не приходилось.
К р у м и н ь. Так вот, я оттуда. Начинал там.
М а л и н н и к о в. Тогда, стало быть, вы Яловкину близкий по духу человек.
К р у м и н ь. Боюсь, вы ошибаетесь. Но меня этот молодой человек интересует.
Малинников настороженно молчит.
Расскажите о нем подробнее.
Малинников молча достает кисет.
А вот, пожалуйста, папиросы. Курите.
М а л и н н и к о в. Благодарю. Я уже привык к махорке.
К р у м и н ь. Спичку?
М а л и н н и к о в. У меня свои. Сначала вонь, потом огонь.
К р у м и н ь. Да, спички у нас плохие. Так вот, меня интересует этот молодой человек. О чем говорит, что думает. Насколько мне известно, в школе имеется исторический кружок. Собираются его товарищи. Они меня тоже интересуют. Кто там у них верховодит? Яловкин? Или кто-нибудь другой? Кто именно? Что за разговоры ведутся? На какие темы?
М а л и н н и к о в. Милостивый государь! Вы за кого меня принимаете?
К р у м и н ь. Ваше право не отвечать, гражданин Малинников.
М а л и н н и к о в. Извольте, я доложу, но только о себе. Я, знаете ли, против всякого насилия, в каком бы виде оно ни проявлялось. Я об этом заявлял и заявляю открыто. И представьте, уверен, что мне ничего не угрожает.
К р у м и н ь. А это?
(Показал на сумочку.) За пайком собрались?
М а л и н н и к о в. В данном случае — нет. Прихватил на всякий пожарный случай.
К р у м и н ь. А!
М а л и н н и к о в. К тому же с утра не лопал.
К р у м и н ь. Что?
М а л и н н и к о в. Не трескал.
К р у м и н ь
(смеется). Ну, советская власть! Довела!
М а л и н н и к о в. Елико могу, стараюсь говорить доходчиво.
К р у м и н ь. А здорово вы нас не любите.
М а л и н н и к о в. Не люблю.
Круминь равнодушно на него глянул и, склонившись над столом, что-то пишет.
Как видите, не зря прихватил сумочку! Припоминаю веселейший случай, когда Николай Первый посадил в кутузку профессора и цензора Александра Васильевича Никитенко за то, что тот пропустил в одном журнале непочтительное употребление слова «бог». Посадил, положим, всего на две недели, однако же…
К р у м и н ь
(не отрываясь от бумаг). У нас за это не карают.
М а л и н н и к о в
(ехидно). Но я сказал «бог» в более широком смысле.
К р у м и н ь. Я понял.
М а л и н н и к о в. История в иных случаях повторяется, и чаще всего не на радость человечеству. Вы не находите?
К р у м и н ь. Не нахожу. Если бы я так думал, то, наверно, не находился бы здесь. Ваши исторические параллели меня не смущают. Скажу более: в условиях смертельной классовой борьбы цензура у нас будет пожестче прежней. Утешить не могу. Пока что и в кутузках, к сожалению, не прошла надобность.
М а л и н н и к о в. Ну что ж, я готов.
К р у м и н ь. Но я не готов! Вот в чем дело.
(Нахмурившись.) Мне надобно разобраться не в вас, Дмитрий Васильевич, а в ваших воспитанниках. И тут я не имею права ошибиться.
М а л и н н и к о в
(подумав). Это вы хорошо сказали.
(Еще подумал.) Гражданин Круминь, могу заверить вас, что это честные, думающие мальчики.
К р у м и н ь. Да?
М а л и н н и к о в. Недавно читал я цикл лекций в педагогическом институте. Новшество в нашем городе. Зал был переполнен. И я приметил почти всех своих учеников…
К р у м и н ь. Вы читали что-нибудь из своих… исторических параллелей?
М а л и н н и к о в. Представьте, нет. О литературе.
К р у м и н ь. О чем именно?
М а л и н н и к о в. Об отрешенности и одиночестве человека. Давно уже модная тема на Западе. И о том, как русская литература, именно русская литература девятнадцатого века врывалась в эту стихию мирового пессимизма своим стремлением к общему добру и слиянию душ. Я читал о Достоевском, о Толстом… И если восемнадцатый век возвеличивал понятие чести, то во второй половине девятнадцатого — совесть возглавила все лучшее в нас!
К р у м и н ь. Сожалею, что не хватает времени побывать на таких лекциях.
М а л и н н и к о в. Не плохо бы. Я говорил о лучших сторонах великой русской интеллигенции, самых светлых и двигательных упованиях нашего общества.
К р у м и н ь. И что же дальше?
М а л и н н и к о в. То есть?
К р у м и н ь. Почему никто из этих ваших мальчиков не спросил вас, как им жить дальше? И что такое честь. И что такое совесть. В смысле упований? В наше-то время? Когда все переворотилось сверху донизу? Ведь ни в одной книге они не найдут ответа на этот вопрос?
М а л и н н и к о в
(хмыкнув). Переворотилось. Толстовское словцо. Н-да. Согласен. Противоречий полно. Не случайно, я думаю, у некоторых из них появились эдакие, я сказал бы, народнические настроения.
К р у м и н ь
(поморщившись). Эсеровщина, что ли?
М а л и н н и к о в. Нет, тут что-то другое. Быть может, это не более как протест против того примитивного мышления, которое им навязывают. Иногда, знаете ли, проглядывают даже, я сказал бы, славянофильские нотки.
К р у м и н ь. Чепуха какая-то… Однако же это я проглядел.
(Угрюмо.) Беда.
М а л и н н и к о в. Почему же — беда? Заблуждения в молодости — веселые заблуждения.
К р у м и н ь. Иные заблуждения приводят нынче к катастрофе.
М а л и н н и к о в. Но речь-то о ком? О юношах. А им сам бог велел витать в небесах. Пусть мечтают, кипятятся…
К р у м и н ь. У нас мечты не в небе, а на земле.
М а л и н н и к о в. Вот как! Тем не менее неясности остаются неясностями, и трудно предугадать, что ожидает каждого из нас.
К р у м и н ь. Схватились за сумочку?
М а л и н н и к о в. Я уже старый человек, мне нечего бояться.
(Взглянув на Круминя.) Пожалуй, скорее боюсь за вас.
К р у м и н ь. За меня?
М а л и н н и к о в. Сколько превратностей, сколько неожиданностей…
К р у м и н ь. Ну, как видите, пуля меня не берет.
М а л и н н и к о в. Пуля — это слишком примитивно.
К р у м и н ь. Я тоже так полагаю.
М а л и н н и к о в. Каждому овощу свое время. Я и с т о р и к, гражданин следователь. Из моего музея далеко видно.
К р у м и н ь. Ах, вот что! Но неужто и ваш Неховцев склонен к таким же историческим предвидениям?
М а л и н н и к о в. О нет! Он весь в современности.
(Усмехнулся.) Даже меня заставляет призадуматься кое о чем.
К р у м и н ь. О чем же?
М а л и н н и к о в. Готов согласиться, постарел я и многого не понимаю. Он увлекается даже футуризмом, утверждая, что это нечленораздельное новое искусство поразит в конце концов мир. И вообще, что мы — начало всех начал. А ужасы, которые переживаем, превратятся в легенду, лишь бы сохранился этот дух.
К р у м и н ь. Дух? Каких же это времен… дух?
М а л и н н и к о в. Ну… этих вот наших с вами лет. Дух бесшабашного новаторства в театре, в литературе…
К р у м и н ь. А!
(Смеется.) На мой взгляд, вы здорово ухватили самое существенное в нашей молодежи.
М а л и н н и к о в. Слава богу, всю жизнь с ними…
К р у м и н ь. Еще бы! Слыхал, слыхал, что вы не только прекрасный лектор, но и замечательный педагог.
М а л и н н и к о в. Был когда-то.
К р у м и н ь. Не скромничайте.
М а л и н н и к о в. Не скрою, они до сих пор ко мне как к старшему другу…
К р у м и н ь. Высшая награда для педагога.
М а л и н н и к о в. Я рад, что вы понимаете. Безусловно, были бы учителем, раз понимаете!
(И даже заулыбался.) Да, я для них как старший друг. Вот Сергей. Доказывает новые идеи, налетает на меня, а чуть схлестнется с «товарищами» из Губнаробраза и тотчас — ко мне. «Товарищам» до его тонкостей дела нет. Что они понимают? Тут есть от чего за голову схватиться. По сути-то целая драма!.. Ведь так? Заведующий Губнаробразом, если не ошибаюсь, слесарь? До культуры скакать и скакать, а командует. Вот какие пилюли. Впрочем, что я?.. Это не он негодует, а я. Прошу отметить — не он, а я!
К р у м и н ь. Отмечу, не извольте беспокоиться.
М а л и н н и к о в. И ежели я здесь высказался…
К р у м и н ь. Как говорили когда-то по-латыни: «и на старушку бывает прорушка». Так. Значит, ваш любимый ученик Сергей Неховцев, надо думать, оказывает влияние на своих приятелей?
М а л и н н и к о в
(прикусив губу). Полагаю.
К р у м и н ь. И на Яловкина?
М а л и н н и к о в
(еще более сдержанно). Полагаю.
К р у м и н ь. И до сих пор?
М а л и н н и к о в. И до сих пор. А что?
К р у м и н ь. Да ничего. Не смею больше задерживать вас.
М а л и н н и к о в. Позвольте, позвольте… Может, вы меня не так поняли?
К р у м и н ь. Нет, почему же? Именно так. Держите пропуск.
(Передает пропуск.) Про нас много треплют, Дмитрий Васильевич, не слушайте кумушек.
М а л и н н и к о в. Между прочим, когда я отправляюсь за водой и встречаюсь с бывшим управляющим Казенной палаты…
К р у м и н ь. Львом Александровичем Андерсоном?
М а л и н н и к о в
(беспокойно). Да, да… Однако же создается впечатление, что здесь что-то произошло… Что-то не так… Нет, нет!.. Отдаю должное вам. Никаких претензий, никаких.
(И уже у двери.) Честь имею.
К р у м и н ь
(вдруг). Одну минутку. Скажите, гражданин Малинников, а если бы вы узнали, что Михаил Яловкин, воспитанный на ваших понятиях чести и совести, убил вашего бывшего воспитанника Дмитрия Волковича, вы не посчитали бы себя…
М а л и н н и к о в. Что, что?
К р у м и н ь
(не меняя интонации). …не посчитали бы себя в какой-то мере виновным в этом убийстве?
М а л и н н и к о в. Вы… шутите! Убийство?..
К р у м и н ь. О нет, мне не до шуток.
М а л и н н и к о в. Значит, то, что вы сказали, правда? Раз вы сказали, то объясните, раз сказали…
К р у м и н ь
(резко). Сказал. И все. Подумайте.
(Поклонился, отвергая всякое продолжение разговора.) С вами говорил следователь. Благодарю вас. Вы очень интересно обрисовали мне своих учеников. Больше вопросов пока не имею.
М а л и н н и к о в. Странно, знаете ли, странно…
(Уходит в смятении.)
А н д р ю х и н
(в дверях). Привел Неховцева.
К р у м и н ь. Отведи в бокс, повежливее только. И бахнешь ему невзначай про убийство. А пока давай сюда актера.
А н д р ю х и н. Предупреждаю. Он весь покрылся пятнами и угрожает кому-то жаловаться.
(Ушел.)
Тотчас появился С а м а р о в - С т р у й с к и й, действительно до крайности взволнованный.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Не могу понять, так сказать, почему меня вызвали? В чем дело? У меня читка революционной пьесы «Мистерия-буфф»…
К р у м и н ь. Читку придется отложить, гражданин. По пустякам сюда не вызывают. И лучше всего — не волноваться.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. То есть как это не волноваться? Того гляди, придется ломать сцену и партер, а я, именно я, отвечаю за сохранность театрального помещения, мало того, я отвечаю за безопасность актеров и зрителей…
К р у м и н ь
(перебивая). Меня вот что интересует. У вас, кажется, произошли столкновения с заведующим Подотделом искусства?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. У меня? С товарищем Неховцевым? С Сергеем Тимофеевичем? Да боже мой! Не было случая, так сказать, чтобы я позволил себе не считаться с его указаниями… Правда, Сергей Тимофеевич несколько увлекается. Увлекается, увлекается. А мои актеры, это известные на всю Россию актеры — Рощина, Мартини, Шер, — они хотят играть серьезные роли.
К р у м и н ь. Нормально.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Вот я и говорю. А в «Мистерии-буфф» им предлагают лазить по трапециям. Пожалуйста, лично я готов, раз уж так…
К р у м и н ь. Зачем же вам лазить, Фома Александрович! Рисковать своей жизнью и безопасностью зрителей? Помилуйте, вы такой прекрасный артист, и не только в драме. Говорят, можете и в музыкальных пьесах…
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(настороженно). Это в каких, так сказать?
К р у м и н ь. Да вот рассказывали мне: так сказать, песенки поете.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. А, да. Пел, пел.
К р у м и н ь. Может, споете?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Давно не пел. Что, что? Извольте. Попробую.
(Протрубил губами наподобие трубы и отчаянно начал.)
Час настал, час настал, час настал.
Всех господ пора повесить.
Час настал, час настал, час настал.
Этот грозный час настал.
Можно их не вешать — пулями дробить,
Можно и без пули — головы срубить…
К р у м и н ь. Нет, это, по-видимому, не то. Был у меня тут Шевчик; между прочим, о каких-то куплетиках говорил.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Куплетиках?..
К р у м и н ь. Не могли бы вы их вспомнить?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Да ведь…
К р у м и н ь. Забыли?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Нет, почему же забыл?
К р у м и н ь. Ну и давайте.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Сухо получится. Гитары нет.
К р у м и н ь. Ну, разве это концерт? Давайте, давайте!
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(весьма напряженно).
Жизнь наша с горем пополам,
В ней прочности ужасно мало.
Сегодня здесь, а завтра там —
И многих будто не бывало.
Не трудно это разгадать:
Как ни верти, а жить придется —
И нить тонка. Чего ж тут ждать?
Где тонко, там и рвется.
К р у м и н ь. Я думаю, на сцене вы исполняете это веселее.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Если угодно, я перепишу все куплетики, не утаив ни одного слова.
К р у м и н ь. Нет, зачем же? А что у вас вчера шло?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. По случаю пасхи — «Тетка Чарлея». Комедия-фарс в канун страстной, а зал битком…
К р у м и н ь. Положим, не битком, но вот что любопытно…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Я весь внимание.
К р у м и н ь. Неховцев был на спектакле?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Вчера не был. А что?
К р у м и н ь. Да так. Спектакль когда у вас кончается?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. В половине первого, иногда чуть позже. По новому времени. Ведь я почему помню, что Сергея Тимофеевича не было? Утром у меня с ним произошел, так сказать, конфликт. Прошу вас, вникните в существо нашей профессии, это не так просто…
К р у м и н ь. Догадываюсь, что не просто, хотя, право, мало сведущ в ваших тонкостях…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Вы? Мало сведущи? Я сразу почувствовал — вот где наконец меня поймут! Вы слушаете?
К р у м и н ь
(потирая виски). Да, да, конечно.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(пламенно). Нет, не футуризма я боюсь, не ломки сцены и оркестровой ямы, не ответственности перед хозяйственными органами Совдепа, я боюсь гибели театра!
К р у м и н ь
(борясь с дремотой). Почему — гибели?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Уходят, понимаете, прекрасные тайны нашего искусства! Обнажается ремесло. Как бы вам объяснить?.. Это крик души!.. Вот уничтожили занавес, и перед нами — отвратительная кирпичная стена вместо задника, как у Мейерхольда. Зритель видит это, и исчез таинственный сумрак кулис! У него артисты с раздетыми лицами, без грима. А я люблю волшебство, я люблю грим и пышные костюмы, люблю веселие и шутку, водевиль, комедию и люблю возвышенную декламацию, люблю ту черту, которая отделяет меня от зрителя, и он глядит на меня как на неземное существо! Поймите, лишая тайн, мы убиваем театр! Если это контрреволюция, арестуйте меня. Извольте, я взойду на эшафот, я умру за это, по так жить не могу!
К р у м и н ь. Зачем же на эшафот? Выпейте воды. Разве есть декрет, чтобы во всех театрах было как у Мейерхольда?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Так сказать, я как раз это и говорил, доказывая гражданину Неховцеву…
К р у м и н ь. Пейте, пейте, это вода кипяченая. Скажите, когда вы вчера заходили к Шевчику, у него кто-нибудь был?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Да, да, я только кипяченую и пью. Кто был? В общем, никого. Впрочем, нет, я встретился там с неизвестным молодым товарищем в красных штанах и револьвером на боку.
К р у м и н ь. А еще?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Очень приятный молодой человек. И еще заходил молодой товарищ, которого товарищ Шевчик называл Мишей…
К р у м и н ь. Короче. Вы этого молодого товарища не знаете?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Кого? Первого молодого товарища или второго молодого товарища?
К р у м и н ь. А вы слушайте внимательно. Второго.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(поспешно). Ну как же не знаю? Он разика два заходил в директорскую ложу, и гражданин Неховцев представил его мне как своего лучшего друга. Мы пропусков кому попало не даем.
К р у м и н ь. Значит, вы точно помните, что Неховцева в театре не было?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Разумеется. Кроме того, в тот вечер я звонил ему в Подотдел, и, представьте, он оказался там.
К р у м и н ь. Это было поздно вечером?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Уже кончался спектакль. Прямо скажу, я очень удивился, что он еще на службе.
К р у м и н ь. Вы звонили ему, когда уже кончался спектакль?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Да. А что? А что?
К р у м и н ь. Не можете ли вы мне сказать, о чем говорил Яловкин, когда днем заходил к Шевчику?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. То есть кто? То есть второй молодой товарищ? Вот уж не припомню, ей-богу, не припомню. А вот первый молодой товарищ сказал Шевчику: «Насчет билетов лучше помалкивай». И когда Шевчик ответил: «Как будто я не понимаю», или что-то в этом роде, то молодой товарищ, то есть первый молодой товарищ, добавил: «Очень хорошо, Шевчик, что ты понимаешь суровые законы революции», или что-то в этом роде…
К р у м и н ь. И это все?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Все. С этими билетами всегда такая кутерьма…
К р у м и н ь
(некоторое время что-то записывал, потом поднял глаза на Самарова-Струйского и усмехнулся). Ну… а как же вы решили с пьесой Маяковского «Мистерия-буфф»?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Да ведь вы сами говорите, что не было такого декрета… А тут сцену ломать… Нет уж, так сказать, покорно благодарю!
К р у м и н ь. Не пойму я вас, Фома Александрович. Вы такой уважаемый артист, а говорите то одно, то другое?
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(вскочил). А вы представляете себе, что такое театр?
Круминь почти умоляюще посмотрел на него.
Нет, вы не представляете себе, что такое театр! Спокон века крутились мы как белка в колесе! Были и народные глашатаи, и придворные шуты! Ставили «Разбойников» Шиллера и «Рука всевышнего отечество спасла»! Бросали гневные слова обличений и тут же ползали, подличали, пресмыкались, как рабы!.. О жалкий жребий! Но все равно, сквозь все намордники, невзирая на все барские милости, награды, подачки, которыми осыпали нас за унижение, несмотря на все это, имя русского актера звучит гордо, слышите вы — гордо! И в нем не умирает трибун!..
(Испугался.) Что? Что?
Пауза.
К р у м и н ь. Странная штука театр… Уж извините, что побеспокоил вас.
(Уткнулся в бумаги.)
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(тихонечко). Простите… а пропуск на выход?
К р у м и н ь. А, да. Пропуск. Вот он. Пожалуйста.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Благодарю вас.
К р у м и н ь. Вы не туда идете. Это шкаф.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Совершенно справедливо, это шкаф.
К р у м и н ь. А дверь правее.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Именно правее. Нервы, знаете, нервы… Благодарю от души. У нас сегодня «Трильби». В роли гипнотизера Свенгали Мартини бесподобен. Приходите обязательно.
К р у м и н ь. Всего хорошего.
(Стоит, провожая глазами уходящего актера, и, когда тот исчез за дверью, быстро выбегает из-за стола.) Фу-ты, ну-ты!
(И начал яростно делать гимнастику.) Раз, два, три, четыре…
(Выбрасывает ногу, руку.)
В таком виде его застает А н д р ю х и н.
(В бешенстве.) Черт те что!.. Наваждение. Фасоль в голове. Кошмар.
А н д р ю х и н. А ты бы еще одни сутки не спал! Что ты с ними валандаешься? Одинаково одна белая контра, и разговор с ними короткий.
К р у м и н ь. А у меня длинный. Постучи себя по головочке, пошевели мозгами… Страшный ты человек, Петро, дай тебе волю.
А н д р ю х и н. Ну, ты бывал и пострашнее меня, комиссар.
К р у м и н ь. Страшным быть не трудно. И рубить сплеча тоже. А только — какой поворот мы сейчас делаем?
А н д р ю х и н. К мирному времени подошли.
К р у м и н ь. Нет, не к мирному. Но к такому времени, когда мы с тобой не имеем права проморгать не то что друга, но и каждого, кто еще по глупости не с нами.
А н д р ю х и н
(сумрачно). Жалко мне тебя, Янис. Допрыгаешься.
К р у м и н ь. Ладно трепаться. Давай-ка сюда Неховцева. Контра — как думаешь?
А н д р ю х и н
(бодрее). Уж этот определенно контра.
(Уходит.)
Круминь углубляется в бумаги, и, когда появляется С е р е ж а, он некоторое время подчеркнуто не обращает на него внимания.
С е р е ж а
(кашлянув). Как прикажете понимать? Я арестован?
К р у м и н ь (не отрываясь от бумаг). Ваша фамилия?
С е р е ж а. Неховцев.
К р у м и н ь. Имя, отчество?
С е р е ж а. Сергей Тимофеевич.
К р у м и н ь. Год рождения?
С е р е ж а. Тысяча девятьсот третий.
К р у м и н ь. Социальное происхождение?
С е р е ж а. Сын профессора Московского университета.
К р у м и н ь
(поднял на него глаза). Вам известно, что ваш друг Михаил Яловкин сегодня ночью убил сотрудника ЧК Дмитрия Волковича?
С е р е ж а (
вспыхнул). Мне об этом только что сказали.
К р у м и н ь
(снова стал перелистывать бумаги. И — как ни в чем не бывало). Давно работаете в Подотделе искусств?
С е р е ж а. Около года. С сентября.
К р у м и н ь. Кто назначил вас на должность заведующего?
С е р е ж а. Товарищ Фомичев.
К р у м и н ь. Товарищ Фомичев?
С е р е ж а. Да.
К р у м и н ь. Забавно. Он вас знает давно?
С е р е ж а. Не думаю. Я прочитал два реферата о современном театре в нашем школьном кружке. Возможно, он об этом слышал.
К р у м и н ь. И вы не удивились этому назначению?
С е р е ж а. Я? Нисколько. Подумал тогда: а из старых на кого опереться?
К р у м и н ь. Значит, на молодых? Так, так.
(И сразу — как оборвал.) Но может быть, вам не известно, что такой же юноша, как вы, и ваш близкий друг, убийца Дмитрия Волковича, был вооружен двумя наганами под номерами, числящимися по артдивизиону, и установлено со всей очевидностью, что сей молодой человек был самым тесным образом связан с охвостьем из бывших офицеров и входил в их контрреволюционную организацию? Вы тоже с ней связаны?
С е р е ж а. Нет.
К р у м и н ь. А про него знали?
С е р е ж а. Я узнал об этом лишь вчера вечером.
К р у м и н ь. Прекратите вранье! Где вы провели эту ночь?
С е р е ж а. У меня были дела, и я допоздна засиделся в Подотделе, а потом пошел домой.
К р у м и н ь. А где вы были в течение двух дней до этого? На службе и дома вас не было.
С е р е ж а. Я был занят личными делами и не обязан отвечать на этот вопрос.
К р у м и н ь. Не хотите отвечать?
С е р е ж а. Отказываюсь.
К р у м и н ь. Вам же хуже. Итак, вы утверждаете, что о существовании контрреволюционной шайки вы узнали лишь вчера вечером?
С е р е ж а. Да.
К р у м и н ь. И что в ней состоит Михаил Яловкин — тоже только вчера?
С е р е ж а. Да.
К р у м и н ь. И настаиваете на том, что не причастны к этой шайке?
С е р е ж а. Да, не причастен.
К р у м и н ь. Следовательно, считаете себя невиновным?
С е р е ж а. Нет, считаю виновным.
К р у м и н ь. То есть?
С е р е ж а
(срывающимся голосом). Я не собираюсь притворяться и лгать. Заявляю, что признаю себя виновным в том, что вовремя не остановил друга, не объяснил и не убедил его, а, обидевшись на его дурацкие оскорбления, отвернулся и лишь промычал, что я не с ним.
К р у м и н ь. Так. Допустим, что это так.
С е р е ж а. Я не сомневаюсь, что вы мне верите. Но мне от этого не легче. Вина моя остается при мне.
К р у м и н ь. Итак, накануне убийства вы исчезаете на два дня и отказываетесь отвечать, где вы были. Вечером в день убийства вы узнаете, что ваш лучший друг связан с контрреволюционной шайкой, которая собирается сегодня ночью в Загородном саду. Вы почему-то остаетесь до утра в Подотделе, объясняя, что у вас были какие-то дела. Не значит ли это, что вы превратили советское учреждение в штаб контриков и ждали там сигнала? Могу я так думать или нет? Как мне поступить с вами?
С е р е ж а. Как вы поступили — арестовать.
К р у м и н ь. Пока я этого не сделал, но разговариваю с вами как следователь. Допустим, я верю вам, что два дня вы пропадали по делам сугубо личным, что о контрреволюционной шайке узнали лишь вчера вечером от вашего Друга Михаила Яловкина и узнали также, что этой ночью состоится сборище этой шайки. Вы отказались участвовать, отвернулись и «промычали». И хотя вам было ясно, что собираются отъявленные контрреволюционеры, вы ничего не сделали, чтобы это предотвратить. Так или нет?
С е р е ж а. Да, так!
(Настороженно.) А что я мог сделать?
К р у м и н ь. Не м о г л и, а д о л ж н ы были! Как бы на вашем месте поступил ваш бывший друг Дмитрий Волкович?
С е р е ж а. Не знаю, как бы он поступил.
К р у м и н ь. Лжете! Знаете! Почему вы не позвонили сюда?
С е р е ж а. Но, видите ли… тут… как бы сказать… разные принципы.
К р у м и н ь. Ах да, принципы!
С е р е ж а. Должно быть, вам непонятно. Но меня не этому учил мой отец… и, наверно, дед, и прадед, наверно…
К р у м и н ь. Не кичитесь. Потомственный интеллигент!
С е р е ж а. Я не кичусь, а горжусь этим!
К р у м и н ь. Пустая фанаберия. В другие времена живем.
С е р е ж а. В другие. Согласен. И даже не в те, что год назад. Понемногу начинают понимать, что без интеллигенции далеко не уедешь. И коли старая не годится — новая нужна? А откуда она вырастет?
К р у м и н ь. Не волнуйтесь. Вырастет.
С е р е ж а. На пустом месте ничего не вырастет. Позади сколько накоплено?
К р у м и н ь. Соль земли! Выходит — гладить по головочке каждого контрика, если у него «накоплено»?
С е р е ж а. Я этого не сказал.
К р у м и н ь. А вы не увиливайте, не увиливайте. Отвечайте прямо.
С е р е ж а
(хмуро). Я не увиливаю. Я размышляю.
К р у м и н ь. Ох уж мне эти мыслители, философы…
С е р е ж а. Да, я понимаю. Пока что такие, как я, не очень нужны. Иногда даже подозрительны. Но ведь уже наступает завтрашний день! И у него будет совсем другой счет! Вот тогда мне, а не вам по этому счету платить.
К р у м и н ь. Вот как!
(Насмешливо.) Значит, я ухожу в прошлое, а вы прокладываете дорогу в будущее?
С е р е ж а. Не прокладываю, но должен быть готов к нему. Требования будут другие.
К р у м и н ь. Отличная мысль! А пока что можно отойти в сторону и не замечать, если рядом совершается преступление против этого самого будущего?
С е р е ж а. Но ведь я пытался объяснить вам, что, например, у вас я служить не могу. Что поделать, если у меня не те моральные принципы?
К р у м и н ь
(грохнул кулаком по столу). Чистюля! А вот я проникал в белогвардейские логова, выведывал и доносил! Этой вот рукой самолично расстреливал врагов революции, видел ужас в их глазах, и рука моя не дрогнула ни разу, и на сердце было ясно и чисто! Вот как было в гражданскую!.. Принципы!
С е р е ж а. Но почему вы кричите, если все было так ясно и чисто?
Круминь, не ответив, подошел к окну и разом распахнул обе створки. Донеслись звуки духового оркестра, — очевидно, из городского сада. Сыгрывались, репетировали что-то старое, какой-то вальдтейфелевский вальс, или «Амурские волны», или что-то в этом вкусе.
К р у м и н ь. Свинский городок. И эта музычка.
С е р е ж а. А что?
К р у м и н ь. Вспоминается, знаете, как в саду гуляли офицеришки нашего гарнизона с барышнями и гимназисты вроде вас, а мы, мальчишки из трехклассного городского, выглядывали из-за забора. Дальше нам хода не было.
С е р е ж а. И все-таки детство…
К р у м и н ь. Что?
С е р е ж а. Какое бы ни было, а остается в памяти на всю жизнь.
К р у м и н ь. Может быть, может быть…
(Прикрыл окно и повернулся к Сереже.) А ведь я ненамного вас старше, Неховцев, хотя и кажусь почти стариком.
С е р е ж а. Какой вы старик! Класса на два, на три старше.
К р у м и н ь. Вот то-то. Думаете, я один такой?
С е р е ж а. Исторически это уже случалось. При Наполеоне семнадцатилетний Антуан Жюльен был комиссаром революционных войск в Пиренеях.
К р у м и н ь. Я хоть и не Жюльен, но тоже был комиссаром, а вот заниматься в его возрасте прелестями великой русской литературы мне уже не пришлось.
С е р е ж а. Понял.
К р у м и н ь. Очень хорошо, что поняли. Позавидовать можно эдаким размышляющим обывателям! Повылезут потом чистенькие, ни в чем не вымазанные, не замаранные… В сторонке-то — легко?
С е р е ж а
(хмуро). Кому как.
К р у м и н ь
(усмехнулся). Впрочем, мы с вами здорово испортили им страстную субботу! В городском саду играем вальсики, в святую ночь под их колокольный звон наши ребята вывалят с песнями «Долой, долой монахов, долой, долой попов» и будут размахивать факелами, запустив фейерверк! Что они — эти с куличами?
С е р е ж а. Злятся.
К р у м и н ь. Пусть! И все-таки надо не слишком шуметь, когда начнется крестный ход. А то в прошлом году черт знает что было.
С е р е ж а. Это не по моему ведомству. Мое дело обеспечивать артистами и музыкантами.
К р у м и н ь. Ну что ж, по вашему ведомству, так сказать, у вас наиболее приятная и безопасная часть работы.
(Подошел к столу.) Если не ошибаюсь, ваш друг, я говорю о Михаиле Яловкине, соответственно подготовленный к размышлениям, мечтал стать народным учителем?
С е р е ж а. Да.
К р у м и н ь. Ну и как, гражданин Неховцев, можно такому человеку доверить воспитание молодого поколения?
С е р е ж а. Мне кажется.
К р у м и н ь
(повышая голос). Того поколения, которое будет создавать, коли на то пошло, наше с вами будущее?
С е р е ж а. Да, можно было.
К р у м и н ь. Думайте, о чем говорите!
С е р е ж а. Я говорю так, потому что знаю Мишу как никто! Он бы жизнь отдал!..
К р у м и н ь. Встречал, встречал и таких. Они нас вешали и расстреливали и клялись декабристами и всеми святыми именами революции…
С е р е ж а. Но ведь Миша…
К р у м и н ь. Бросьте жалкие слова! Мы говорим об убийце!
С е р е ж а
(мучительно сжав губы). Знаю.
К р у м и н ь. Возьмите платок, вытрите нос, у вас, кажется, насморк.
С е р е ж а. Нет у меня никакого насморка.
К р у м и н ь. Ну, значит, у меня насморк. Вот я сейчас с удовольствием высморкаюсь. Да, вот так. Мити нет. Нету Мити.
С е р е ж а
(встал и — как можно тверже и спокойнее, в упор встретившись с глазами Круминя). Я уже сказал вам, гражданин Круминь, что полностью несу ответственность за это страшное убийство и вместе с Мишей Яловкиным, моим другом, стою здесь, перед вами. Извольте продолжать следствие. Что еще не ясно? Я спрашиваю: что еще не ясно? Готов рассказать и про то, где я просидел два дня, и все другое, что только нужно!
К р у м и н ь. Ничего не нужно. Думаю только, что у семнадцатилетнего мальчишки Антуана, наполеоновского комиссара, недоставало бы времени пропадать два дня на колокольне из-за ерунды.
С е р е ж а
(почти шепотом). Я люблю девушку. Это не ерунда.
К р у м и н ь
(буркнул). Ладно, ладно…
(Перелистал бумаги.) И ведь что оказывается? Оказывается, мне все известно. Оказывается, ни одной новой странички заполнять не надо. Без лишних разговоров все чудовищно ясно. Ужасно ясно!
(Пододвинул к Сереже бумагу.) Подпишите.
(Грубо.) Прочитай сначала, что подписываешь.
Сережа читает.
Опять играют этот чертов вальс. Или он мне чудится?.. Если бы вы знали, что в эту проклятую ночь, в Загородном, я мог собственноручно размозжить ему голову рукояткой револьвера, потому что одна мысль была как молния: он убил Митю!.. Вот тут и тут подпишите… Да, мог! И уж не знаю, как сдержался. Что вы на меня смотрите? Подписали?
С е р е ж а. Подписал.
К р у м и н ь. Еще тут: «Зачеркнутому верить».
С е р е ж а. А что тут зачеркнуто?
К р у м и н ь. То, что вносит путаницу. Все эти ваши заявления, что признаете себя виновным.
С е р е ж а. Если бы я не осудил себя, я был бы подлец.
К р у м и н ь. Оставим переживания. Вы не дурак и прекрасно понимаете, что дело Яловкина и без того плохо.
С е р е ж а. Да.
К р у м и н ь. Очень плохо. Невольно задумаешься, как доказать, что все это — мальчишество и идиотство.
С е р е ж а
(потрясенно). Вы хотите спасти его?!
К р у м и н ь. Я не спасаю врагов революции, а караю их.
С е р е ж а. Но вы сказали…
К р у м и н ь. Что я сказал? Его дружков, подлое это офицерье, мы расстреляем без жалости, можете не сомневаться. А вот вам самое время подумать не об Яловкине, а о своем бывшем друге, о Мите Волковиче.
С е р е ж а. Мы давно перестали с ним встречаться. У нас ничего не осталось общего.
К р у м и н ь. Жаль, что не встречались.
С е р е ж а. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Он со всеми разговаривал снисходительно и свысока.
К р у м и н ь. Со всеми? Нет. С вами — может быть. Вам это понятно? Он выбрал ясную и прямую дорогу, как и полагается мужественному человеку в наше время.
С е р е ж а
(хмуро). Дороги разные бывают, даже когда одна цель. И характеры бывают разные.
К р у м и н ь. Насчет характеров — верно. Я его уважал. Этого мальчика я уважал. Редко кого так уважал. Он был воин!
(Метнул взгляд на Сережу.) А ваш мальчишка Яловкин…
С е р е ж а
(почти вскрикнул). Что он? Ну что он?.. Вы же сами сказали, что во всем разобрались… и что все это… и что он…
К р у м и н ь. Мне не только разобраться надо, но и решать надо. Я чекист. Уразуметь можете? Личные чувства — побоку. Я обязан обо всем подумать. И о будущем, между прочим, не меньше, чем вы и ваш учитель истории.
(Выдернул листок.) Возьмите пропуск.
С е р е ж а. Пропуск?
К р у м и н ь. Ну да. Идите. Когда в Москву?
С е р е ж а. Как только придут бумаги.
К р у м и н ь. Значит, в университет?
С е р е ж а. Да.
К р у м и н ь. Добро.
С е р е ж а
(взволнованно). Вы видели, как много я пережил здесь… Но теперь знаю, знаю — я тоже должен быть воином, чтобы не сбиться со своего пути! А путь мой нелегкий, очень нелегкий, вы же понимаете это, товарищ Круминь!
К р у м и н ь. Ты учиться, учиться едешь! Помолчи!
(Нажал кнопку звонка.) Еще подпишите. Обо всем, что здесь говорилось, обязуетесь не разглашать. Ясно?
Вошел А н д р ю х и н.
(Андрюхину.) Яловкина на допрос. А товарища Неховцева пусть проведут через двор на выход.
А н д р ю х и н
(угрюмо). Проходите, товарищ Неховцев. (
Пропустив Сережу, задерживается.) Там ихняя чертова старуха ломится.
К р у м и н ь. Не пускать. Хватит племянничка.
Андрюхин ушел и вскоре вернулся с кружкой чая и ломтем хлеба. Из кармана достал кусок сахару, сдул с него пыль и крошки табака.
А н д р ю х и н. Поесть надо.
К р у м и н ь. А сахар откуда?
А н д р ю х и н. Откуда, откуда… Пайковый.
К р у м и н ь. Мой?
А н д р ю х и н. Наш.
К р у м и н ь. Вот что, Петро…
(Курит, курит, курит.) Михаила Яловкина я, пожалуй, допрашивать сегодня не могу.
…И ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, БЫЛА ВЕСНА
У тетушки Милы. Вечереет. В комнате Ш е в ч и к и только что вошедший С а м а р о в - С т р у й с к и й.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Я сидел в приемной, когда привели Неховцева. В приемной его не оставили, а увели, должно быть, прямо в тюрьму.
Ш е в ч и к. Я это предчувствовал. Только не рассказывайте Людмиле Яковлевне. Ее, конечно, не пустят, и она вот-вот появится. О чем вас спрашивали? Обо мне спрашивали?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Голуба моя, я сразу, с первых слов дал понять, с кем они имеют дело. Круминь произвел на меня впечатление, так сказать, вполне интеллигентного человека. Он проводил меня до дверей, чтобы я не заплутал…
Ш е в ч и к. А вы там ничего не слышали о Мишке Яловкине?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Затыкаю уши. Я ничего не слышал.
Ш е в ч и к. Ох, как я вас понимаю! Еще бы, конечно, испугаешься…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Там никогда не следует показывать, что испугался. Вот тогда-то они начинают думать, что ты виноват.
Ш е в ч и к. В чем я виноват? В чем? В чем?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Это неважно. Все равно у них поменьше надо говорить. Не болтать лишнего.
Ш е в ч и к. А я наболтал, ужас сколько наболтал! И про колокольню, и про…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Про куплеты неблагородно, Константин Иовыч.
Ш е в ч и к. Про какие куплеты? Неужели? Боже ж мой! Я был как во сне. Ужас, ужас! И ничего не помню…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Хорошо еще, что там понимают.
Ш е в ч и к. Пропал, совсем пропал!
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Такие не пропадают. Уверяю вас, вы скорее моего углядите, как ловко можно устраиваться в новых обстоятельствах жизни.
Ш е в ч и к
(озлившись). Учусь у вас: нос по ветру — и не простудишься.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(не без горечи). Реплика шута из «Короля Лира», действие первое, сцена четвертая. Будете артистом.
Вбегает А н я.
А н я. Где Людмила Яковлевна? Где тетушка Мила? Папа вернулся!
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Ни минуты не сомневался в этом.
А н я. А ее еще нет?
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Нормально. Она же ушла совсем недавно.
А н я. И Сережи нет?
Ш е в ч и к. Валерка Конюс определенно говорит…
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(перебивая его). Ничего с ними не случится, поверьте мне.
А н я. Не знаю почему, но и я вдруг как-то успокоилась. Падаю от усталости. Съем коржик. И почему-то уверена. Они сейчас вернутся. Оба. Чувствую. Папа немного нервничает, то есть ходит и цепляет нога за ногу. Это значит, он чуть нервничает, но он все время повторяет: «Не беспокойся, Аня, Круминь умный человек». А когда папа говорит так…
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Уж кто-кто, а Дмитрий Васильевич сразу его раскусил. И верно: тонкий и умный человек.
Ш е в ч и к. Молчу, молчу. Я был как во сне.
А н я
(у окна, вдруг). Я ведьма! Я сказала! Идут! Идут, идут! Тетушка Мила, Сережа…
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(Шевчику). Вот вам ваш Валерка Конюс…
Ш е в ч и к. Оставьте меня.
А н я. Сережа — мрачнее тучи.
Входят С е р е ж а и т е т у ш к а М и л а.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(бросается к Сереже и обнимает его). Сергей Тимофеевич! Душа! Я счастлив, счастлив! Вдвойне счастлив, если, так сказать, и мой разговор там возымел действие!
Сережа молча освобождается от него и отходит в сторону.
Ш е в ч и к. Фу, гора с плеч.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. И вот, слава богу, все целы и невредимы. Нет, жить можно, господа, жить можно!.. Людмила Яковлевна, голубушка, что с вами?
Т е т у ш к а М и л а. Со мной? Со мной ничего. Я ничего.
(Нервно расставляет чашки.)
Аня помогает ей, встревоженно поглядывая на Сережу.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Конечно, поменьше бы таких вызовов, но они, что ни говорите, взбадривают. Господа! Хотя еще для разговления, если можно так выразиться, время не пришло, еще только плащаница распятого бога, но для нас, так сказать, уже — Христос воскрес!
(Берет гитару.) Людмила Яковлевна! Великодушная, роскошная вы моя! Да, да, сегодня страстная суббота, не годится православному человеку, но… не могу я! Не могу не спеть душевно, от переполненного сердца, как певал в кругу друзей в роковые минуты!
(Поет.)
Если жизнь не мила вам, друзья,
Если сердце терзает сомненье,
Вас рассеет здесь песня моя,
В ней тоски и печали забвенье.
Дай, милый друг, на счастье руку,
Гитары звон развеет скуку…
С е р е ж а
(резко повернувшись). Перестаньте! Сегодня ночью на спусках к Заречью Миша Яловкин убил Волковича.
А н я
(вскрикнув). Что?
Т е т у ш к а М и л а. Ах, не надо бы, не надо бы сейчас говорить…
(Присела на краю стола и закрыла лицо руками.)
Ш е в ч и к. Вот вам!.. Валерка Конюс… Слухи…
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(нервно). У вас вечно. Нельзя же так, Шевчик.
Ш е в ч и к. А вам-то что? С вас как с гуся вода.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Нет, дорогой мой, я чувствую беду не меньше, чем вы. Товарищи! Революция не щадит. Ее закон суров! Людмила Яковлевна, Анна Дмитриевна, если бы хоть чем-либо я мог помочь вам, я бы с радостью… Видит бог, этих людей я видел лишь мельком… Сергей Тимофеевич, но ведь это же был ваш друг!.. Как же так, как же так? И что я могу сказать товарищу Круминю в вашу защиту, что?.. Где моя шляпа? Вот моя шляпа. О боже мой…
(Суетясь, уходит.)
С е р е ж а. Крыса.
С а м а р о в - С т р у й с к и й
(неожиданно возвращаясь). Мне послышалось, что кто-то сказал «крыса»?
С е р е ж а. Это я сказал. И могу объяснить.
С а м а р о в - С т р у й с к и й. Нет, позвольте, объяснять буду я! Итак, я — крыса? Схватил, так сказать, шляпу и кинулся спасать себя из этого зачумленного дома?.. Именно так! Но — почему? Потому что я живой, а не мертвец! Потому что у меня не рыбья кровь! И не с тонущего корабля я бегу, нет! Я остаюсь на живом корабле, который плывет дальше, и его кидает из стороны в сторону, и бог знает, что еще с ним будет! Я этого не испугался! Нет! Когда русский актер убегал от своего времени? Милостивый государь, я русский актер, я живу, и я останусь живым навеки! Честь имею. Руку! Руку!
Все сидят, не двинувшись, и он уходит.
А н я. Сумасшедший. Все сумасшедшие. Цирк.
Т е т у ш к а М и л а. Оставьте посуду, Аня. Одну и ту же чашку вы перетираете десять раз.
А н я
(Сереже). Господи, неужели это правда? Не верю, не верю. Да, Митя был в меня влюблен. Был, был. Я это знала. Однажды он очень поссорился с Мишей. Я даже не заметила, из-за чего. Ах, да. Миша начал декламировать что-то из «Анатемы». «Где истина, где истина, где истина, не камнями ли она побита, не во рву ли зарыта она…» А Митя стал над ним насмехаться, ну, знаете, как он умел…
С е р е ж а. Не надо, Аня.
А н я. Господи, неужели и Миша был влюблен? С ума сойти…
С е р е ж а. Я говорю — не надо, Аня. То, что вы говорите, не имеет ни малейшего отношения к тому, что произошло.
А н я. А по-вашему? Что по-вашему? Из-за чего это произошло? Не смеешь ты, не смеешь!.. Я пока еще не твоя жена!
Т е т у ш к а М и л а. О, боже мой!
(Шевчику.) Пойдем, Костик. Это не юность, это бог знает что!..
Шевчик и тетушка Мила ушли.
А н я
(продолжая). Ты можешь грубить сколько хочешь, да еще при всех! А я могу зареветь, потому что только одна я знаю. В последний раз, когда Митя был у меня, он был грустный и какой-то особенный. А когда ушел, я увидела листок. Он оставил записку. Он написал — помню почти дословно: «Я нарочно держусь как циник, потому что презираю всех девчонок, кроме тебя. Но ты обо мне не смей так думать, потому что если я тебя поцеловал тогда в саду, то это совсем по-другому. Знай это, помни!» У меня сжалось сердце. Боже мой, он был так печален! Он словно чувствовал, словно чувствовал! И я чуть не побежала за ним!
(Смотрит на Сережу.)
Отвернувшись, он молчит.
Да! Жалею, что не побежала. Жалею! Потому что никто так не поражал меня, как он…
С е р е ж а. Помолчи.
А н я. Не буду молчать, не хочу, не стану! Теперь ясно, я была влюблена в него! И целовалась, да — целовалась!
С е р е ж а
(с трудом). Зачем ты говоришь мне об этом?
А н я. Потому что… потому что…
С е р е ж а. Особенно сегодня, сейчас?
А н я. Может быть, никогда не сказала бы, а сейчас говорю и буду говорить!..
С е р е ж а. Раз в жизни не думай о себе. Хоть раз не думай, что все только и вертится вокруг тебя. Так не вертится, не вертится!.. Если бы просто ревность… Но есть, оказывается, вещи гораздо более важные. Есть вещи, когда надо пересмотреть всего себя, свое поведение и поступки и оглянуться вокруг, чтобы понять, как и зачем люди живут и сам ты чего стоишь и куда идешь.
А н я. А я, значит, по-твоему, не способна на это?
С е р е ж а. Нет у тебя никакого горя. Выдумываешь.
А н я
(горестно). Цирк… Реветь, реветь хочу! Я думала, что ты мне друг!
С е р е ж а. Я был тебе другом.
А н я. Был?
(Словно опомнившись.) А теперь?
С е р е ж а. Не знаю.
А н я
(растерянно). Не смей говорить — б ы л! Ну… может, я что-то немножко выдумала… ну, глупо… преувеличила, пересолила… Сережечка, а ты вообразил? Бог знает что вообразил…
С е р е ж а. Сейчас другое, Аня. Неужели не понимаешь?
А н я. Что другое?
С е р е ж а. Может быть, когда-нибудь смогу объяснить.
А н я. Нет, говори сейчас! Не смей молчать! Не смей!.. Что-то ничего не соображу… Ты скоро уезжаешь? Да?
С е р е ж а. Да, скоро.
А н я
(упавшим голосом). Боже мой, я так привыкла, что ты есть.
С е р е ж а. Наверно, привыкла.
А н я
(как во сне). Где бы ты ни был, а ты есть. И ты — мой. Какая бы я ни была…
С е р е ж а. Конечно, привыкла. Чересчур привыкла. Помнишь, как я вошел в тину и ты смеялась надо мной, а я был счастлив?
А н я. Значит — потеря? Тебя тоже нет? Еще одна потеря?
С е р е ж а. Все важно в жизни, потери тоже. Без этого мы стали бы окончательно черствыми и слепыми.
А н я
(теперь она может зареветь всерьез). Я была слепой?
С е р е ж а. Не знаю. Сама подумай.
А н я. А ты сможешь — без меня?
С е р е ж а. Трудно. Ты всегда была здесь.
(Показал на сердце.) Выдолблено что-то внутри, и сразу нечем заполнить. Дыра. Но это пройдет. Трудно без Мишки, ты не обижайся. Я уверен, с ним поступят справедливо, но, может быть, я никогда больше с ним не увижусь.
А н я
(в ужасе). То есть как это?
С е р е ж а. Ладно, не будем об этом.
А н я. Ты понимаешь, о чем говоришь?!
С е р е ж а. Я все понимаю. Не будем об этом. Вот еще что… Когда я уеду, обещай заходить к старику Волковичу, он остался совсем один.
А н я. Мне? К отцу Мити?
С е р е ж а. Да, к отцу Мити.
А н я. Сойти с ума.
С е р е ж а. Нас было трое — Митя, Миша и я — три мушкетера. Когда-то мы поклялись в вечной дружбе. Мы ножом полоснули каждый по своей руке, обрызгали кровью кончики наших детских шпаг, склонились голова к голове и прикоснулись к ним губами. Клянусь, дружба наша была бы на всю жизнь.
Резко, так что можно было вздрогнуть, бухнул колокол у ближней церкви, у Георгия за лавочками, и тотчас словно бы проснулись, отзываясь одна за другой, и суетливо затеребенькали звонницы во всех концах города.
А н я. Христос воскресе!
Сережа сердито наклонил голову.
В детстве я обожала пасхальную ночь. А ты? У нас в доме пахло куличами. А у вас?
Сережа молчит.
(Совсем тихо.) Христос воскресе, Сережа.
Торопясь, выходит празднично одетая т е т у ш к а М и л а, и за ней спешит Ш е в ч и к. Он несет прикрытый салфеткой кулич.
Т е т у ш к а М и л а. Сумасшедшие часы! Что делается с часами? На сколько переводить? Опять?
Ш е в ч и к. На два часа, я же сказал.
Т е т у ш к а М и л а. Зачем торопят стрелки? Зачем путают стрелки? Ничего не пойму! Я так и знала — то мы рано, то мы опаздываем… Господи Иисусе, несчастья только от бога. Люди не виноваты. Осторожно, Костик, уронишь кулич. Поставь на стол. Вот сюда. Это тебе куличик, Сережечка. Его и Миша любил. Миша, Миша… Боже мой… Мы уходим в церковь. Костик!
Ушли.
А н я. У нас была одинаковая пасха и одинаковое рождество. Зиму — помнишь? Падает снежок, вечереет. Мы идем на каток. На катке духовой оркестр играет старый вальс. Как сегодня. В городском саду. Офицеры катаются с барышнями, и
гимназисты-старшеклассники… А я еще маленькая. Я еще только с девочками. Помнишь? Ну, ответь, пожалуйста. Ну, ответь…
Сережа молчит.
«Бабэоми пелись губы, ваэоми пелись взоры…» Запомнила, видишь, запомнила?
Окно озарилось взлетевшим белым заревом.
Фейерверк.
С е р е ж а. Это в городском саду.
Молчание.
А н я. Ты слишком много думаешь.
С е р е ж а. Да.
А н я. Больше ничего не скажешь?
С е р е ж а
(ему больно на нее взглянуть, смотрит в зал). Больше ничего.
Колокола затихают. Далеко, далеко, далеко духовой оркестр играет старый вальс.
Т е м н о
1971
АЛЕКСАНДР БЛОК
Романтическое представление в 2-х отделениях с прологом и интермедиями

УЧАСТВУЮТ
В ПРОЛОГЕ
А к т е р, исполняющий роль Блока.
Р е ж и с с е р, именуемый актерами высоким званием Мастер.
ЛЮДИ:
А л е к с а н д р Б л о к.
Л ю б о в ь Д м и т р и е в н а М е н д е л е е в а (Люба).
С е р г е й С о л о в ь е в.
А н д р е й Б е л ы й (Борис Николаевич Бугаев).
М а р и я, молодая девушка.
Д е л ь м а с Л ю б о в ь А л е к с а н д р о в н а (Кармен).
Е в г е н и й П а в л о в и ч И в а н о в (Женя).
1-й м а т р о с.
2-й м а т р о с.
МАСКИ:
В «БАЛАГАНЧИКЕ»:
П ь е р о.
П р е д с е д а т е л ь.
П е р в ы й м и с т и к.
В т о р о й м и с т и к.
Т р е т и й м и с т и к.
К о л о м б и н а.
А р л е к и н.
П а я ц.
В МЕТЕЛИ:
П и с а т е л ь в б о б р а х.
Ч е л о в е к в к р ы л а т к е (он же Евгений Иванов).
В о л о х о в а Н а т а л и я Н и к о л а е в н а.
П р о х о ж и е, п р о с т и т у т к и.
В ИНТЕРМЕДИИ «КАНАТОХОДЦЫ»:
1-й к а н а т о х о д е ц (Писатель в бобрах).
2-й к а н а т о х о д е ц (Критик, знающий толк в том, что нужно).
П ь е р о и П а я ц (те же, что в «Балаганчике»).
В «ДОМЕ ИСКУССТВ»:
П и с а т е л ь в о б л е з л ы х б о б р а х (тот же).
П о э т в о б м о т к а х.
Д е в и ц а с б а н т о м.
П о э т - и м а ж и н и с т.
П о э т ы, п о э т е с с ы, д е в и ц ы, д а м ы, п о ч т е н н ы е с т а р и ч к и и с т а р у ш к и. К р а с н о а р м е й ц ы и д в а м а т р о с а.
«Люди» и «маски» живут рядом, вплотную. «Маски» несколько шаржированы, в гримах и костюмах. Действие протекает непрерывно, время, как и место действия, меняется свободно, мы угадываем это лишь по деталям.
Многие персонажи («маски») могут исполняться одними и теми же актерами. Такая трансформация как нельзя более в духе спектакля, и тогда в финале, прощаясь со зрителями, актеры, каждый в своей манере, разоблачают этот маскарад.
И еще: не вздумайте цепляться за отдельные хронологические вольности. Они вполне допустимы в такого рода произведениях. Это отнюдь не «документальная драма», не «монтаж писем» и т. п. Это — пьеса, в которой использованы самые противоречивые сценические ходы и приемы. Ссылок на источники (а их было много) нигде не делается. Автору нет нужды щеголять ученостью, он не намерен писать диссертацию. Автор — театральный сочинитель, только и всего.
Юность — это возмездие.
Ибсен
(Эпиграф Блока к поэме «Возмездие»)
ПРОЛОГ
В глубине еще не освещенной сцены двигаются тени — по-видимому, рабочие. Они возятся возле декораций, что-то прибивают, укрепляют. А сбоку, высвеченные лучиком из суфлерской будки, сидят Р е ж и с с е р и А к т е р, в дальнейшем играющий Блока. Режиссер обращен лицом к публике, а Актер сидит спиной.
А к т е р. Мастер! Я испуган. Я не могу.
Р е ж и с с е р. Пустой разговор и несерьезный. Вы актер или кто?
А к т е р
(сумрачно). Актер.
Р е ж и с с е р. Тогда о чем раньше думали?
А к т е р. Месяцами ходил, мучился, вы же знаете.
Р е ж и с с е р. Все мы мучились. Поздно, голубчик.
(Рабочим.) Что вы делаете? Эдак у вас все завалится. Что там у вас с пандусом?
(Актеру.) Невозможно работать. Непрофессиональные рабочие сцены. Непрофессиональные актеры. И где чувство ответственности? Неврастеники, истерики.
А к т е р. Я не истерик. Именно потому, что у меня есть чувство ответственности, именно потому я так и говорю.
Р е ж и с с е р. Лжете. А вчера что говорили?
А к т е р. Вчера мне казалось…
Р е ж и с с е р. Вчера казалось! С каким бы я удовольствием вышвырнул вас отсюда!
А к т е р
(ревниво). А кто меня заменит?
Р е ж и с с е р. Любой! Любой, у кого есть магия заражать воображением не только себя, но и зрителя.
А к т е р
(шепотом). Послушайте, но я же на него не похож.
Р е ж и с с е р. Мало, мало похожи.
А к т е р. И по существу я совсем другой человек.
Р е ж и с с е р. Вздор.
А к т е р. Господи! Я преклоняюсь перед ним! Вспомните его прекрасное лицо, лоб, каштановые волосы. Он весь как будто из мрамора…
Р е ж и с с е р. Памятник мне не нужен. Похлопайте его по плечу.
(Всматривается в Актера.) Грим?
А к т е р
(с надеждой). Вы думаете? Попробовать?
Р е ж и с с е р. А! Ну, пожалуй, чуть-чуть. Для обывателей.
(Вскочил.) В дни молодости нашего театра, в первые бурные годы революции, в дни нашего фантастического рождения мы верили в магическую силу актера! Мы мечтали о поэтическом театре! И сегодня для меня не просто спектакль, а воспоминание юности, может быть, последняя встреча с ней! Но для вас, дурачок мой, для вас — разве не открылся целый новый мир взбудораженных мыслей и чувств, сейчас уже не всем понятных? И я вручаю их вам!
(Обнял его.) Вам! Вам!
А к т е р
(чуть отстраняясь). Вы не по годам восторженны, Мастер! И я боюсь уже не за себя, а за вас… Не вы ли еще недавно сокрушались, что пьеса наша разваливается на куски?
Р е ж и с с е р. Ну и что? А сейчас понял. В том-то и суть! Мы сжали в кулак всю жизнь поэта, чтобы сказать о нем самое главное. И каждый эпизод на мгновенном подхвате. На нерве. Сгусток.
А к т е р. Нет, позвольте, возможно ли это?
Р е ж и с с е р. Театр все может. Отвыкайте от привычных переходцев и мотивировочек. Я этому не учил.
А к т е р. Легко сказать…
Р е ж и с с е р
(нервничая). И у вас уже получается, получается!
(Бодро похлопал его по плечу. Рабочим.) Ну что же вы? Давайте заканчивайте!
А к т е р
(в ужасе). Что? Спектакль?
Р е ж и с с е р. Черт его знает, не знаю что: спектакль, генералка, провал, прогон, проба…
А к т е р
(схватившись за голову, торопливо бормоча). Стихи он читал глуховатым голосом, совсем не по-актерски и отнюдь без подвывания, которого терпеть не мог, однако же отчетливо удерживая ритм строки и не теряя назначения рифмы. Так, так. Он терпеть не мог эстрады, но если выходил, то нес с собой всю ответственность поэта! Пожалуй, он был торжественен?.. В выговоре его был некоторый дефект: звуки «д» и «т» особенно выделялись, но он отчетливо произносил все окончания, разделяя слова небольшими паузами…
Р е ж и с с е р. Хватит. Не видите, уже все готово, зал наполняется зрителями, сейчас дадут свет, и нас могут увидеть. А вас еще нет.
А к т е р. Что?
Р е ж и с с е р. Нет еще вас. Вы еще не возникли. Ну-ка, повернитесь чуть в профиль. Конечно, мало похожи. О, разумеется, зритель любит, чтобы было так, как он привык, тогда он осыпает милостями! Но вы не поддавайтесь. Обязаны быть гораздо больше, чем просто похожи.
А к т е р
(уже в полном ужасе). То есть как это?
Р е ж и с с е р
(весело). А вот так! Вы есть вы!
(Увлекает его за собой.) Вперед, без страха и сомнения!.. Куда это я сунул свой валидол?
Скрываются. Медленно загорается свет.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Итак — включили сцену. Б л о к стоит посередине в освещенном круге. У кулис — хищно всматривающийся профиль Р е ж и с с е р а. Мастер словно проверяет еще и еще, готов ли его актер, собран ли? Потом незаметно исчезает. (Впрочем, во время спектакля он еще не раз появится у кулисы, все так же наблюдая.) Позади Блока — затемненная сцена. В дальнейшем, по мере надобности, высвечиваются отдельные детали: стол, диван, кресла — в пятнах электрического света, как бы мерцая на площадках, расположенных не на одинаковой высоте. По ходу действия сцена начинает светлеть. Во втором отделении — сирый, серый, плоский свет: Петроград («Петроградское небо мутилось дождем»). Потом еще более светло, более солнечно, однако же обветшало, неприютно, необжито и вместе с тем суматошно («Дом искусств», 1918—1921 годы). Но по-прежнему сценическое пространство оформлено лаконично, не загромождено и четко вырисовывает фигуры участников представления. Возникновение «Балаганчика» оговаривается особо, равно как и оформление интермедии «Канатоходцы» и поэмы «Двенадцать». Нужна еще метель, которая видится в беспокойном кружении света, световых лучей, создающих впечатление странных, миражных пейзажей города, мостов, воды… В общем — черно-белое. «Балаганчик» и «Двенадцать» — цвет. Но все это лишь воображаемые наметки. А пока… Может быть, вы не сразу примете актера, стоящего перед вами, не сразу согласитесь, что это — Блок. Но очень скоро вы должны забыть это первое впечатление и поверить, что это — Блок, совершеннейший Блок! Именно так должно случиться по законам театрального волшебства. И вот он перед вами. Первые слова его будут негромки, словно бы он находит в них себя и тем самым начинает постепенно убеждать вас в своей подлинности…
Б л о к.
Предчувствую — тебя. — Года — проходят — мимо!
Всё — в облике — одном — предчувствую — Тебя.
Весь — горизонт — в огне — и ясен — нестерпимо, —
И молча — жду — т о с к у я и л ю б я,
Весь — горизонт — в огне — и — близко — появленье, —
Но — страшно — мне: — изменишь — облик — Ты.
Появляется С е р е ж а С о л о в ь е в, друг юности Блока, тоже студент и поэт.
С е р е ж а. Саша! Бог мой, я ничего не знал, я мог только угадывать. Неужели произошло? Пойми мою растерянность. Люба и ты. И так вдруг… о б ы к н о в е н н о. Как-то даже не укладывается в сознание…
Б л о к. Почему?
С е р е ж а. Но ведь мы живем в ожидании. Ты это понимаешь, как никто. Мы живем в эсхатологическую эпоху — то есть в кануны конца! Твои стихи о Прекрасной даме — разве не об этом? Об ожидании прихода Ее! Она — предвестие и знак нового мира. Здесь не может быть не только ничего будничного, но и ничего конкретного. В Москве вокруг твоих стихов тотчас образовался кружок. Мы назвали себя «аргонавтами». А Боря Бугаев, тот самый, ты о нем наслышан, мы нарекли его Андреем Белым… он буквально потрясен твоими стихами. Он потрясен, что в Петербурге возник у него брат. Он так и сказал — брат. Он чувствует каждую твою строчку, как свою собственную…
Б л о к
(радостно). А знаешь, я написал ему!
С е р е ж а. Знаю. И в тот же час, и в тот же день он писал тебе, и ваши письма встретились в Бологом. Встретились, сплелись. Поразительно! А могло ли быть иначе? Послушай! Я только сейчас понял! Меня осенило! Ну конечно же произошло неизбежное, предрешенное! Это — Она. Невозможно назвать ее простым человеческим именем — Люба. Ты понимаешь? Она не разбужена к жизни, и ее не надо будить. Это твой подвиг во имя наших чаяний. Боря так и сказал. И она для всех нас, и для тебя, будет вечная сестра и предвестие… Не пойму твоего настроения. Ты заезжал в Шахматово?
Б л о к. Да. К маме.
С е р е ж а. И бродил вокруг Боблова?
Б л о к. Нет. Я так обалдел от всего, что кружило мне голову, что боялся выйти на дорогу, на которой мы так часто встречались с ней.
С е р е ж а
(восторженно). Тебе казалось, что за зубчатой полоской леса непременно появится она, хотя ее там сейчас нет. Третье виденье!
Б л о к. Нет.
(Засмеялся.) Это у Владимира Соловьева было три видения. А я копался в саду. И между прочим, вдруг понял простую вещь: писать ли стихи, сажать ли деревья — одна и та же работа.
С е р е ж а. Ах, чудак! Ох, чудак! Впрочем, я так и вижу тебя в деревне — в сапогах, в белой косоворотке, вышитой лебедями.
Б л о к. Разве плохо?
С е р е ж а. Но ведь и это символ! Так и вижу мимолетные встречи Данте с Беатриче! Ее скользнувший взгляд, через миг обретающий значение вечности! А ты говоришь об этом так же просто, как говоришь, что сажал деревья.
Б л о к
(удивлен). Просто?
С е р е ж а. Для нас, для посвященных, — потрясающе просто.
Б л о к. А я вот никак не могу прийти в себя.
С е р е ж а. Ну, еще бы! Ведь только по контрасту с реальностью могла появиться Она. Потоки света заливают небо! Какая тут свадьба, не свадьба это, а мистерия! Пробьет вещий час, и мы подкатим к Шахматову на тройке с бубенцами и повезем тебя в старую церковь. Ну, скажем, в Тараканово. Там церковка, помнишь, екатерининских времен. А оттуда — в Боблово, где за зубчатой полоской леса Ее дом… Гряде жених!..
Б л о к. Да будет тебе…
С е р е ж а
(обнимает его). Э, нет, нет!
Над тобою тихо веют
Два небесные крыла.
Слышишь: в страхе цепенеют
Легионы духов зла…
Я буду у тебя шафером! Жаль, что Боря не сможет быть. Боря Бугаев — телесно, Андрей Белый — духовно. Впрочем, нет, духовно он будет с нами. И ты встретишься с ним, когда уже будешь вместе с Любой. Приедешь в Москву, и все московские «аргонавты» сомкнутся вокруг тебя…
Уходят.
Появляется А н д р е й Б е л ы й. Стихи он читает танцуя. Он эксцентричен, но изображать его надо очень осторожно, потому что это не кривлянье, не клоунство — он искренен в своем сомнамбулическом вдохновении. По слову Марины Цветаевой, он «странный, изящный, изысканный, птичий…».
Б е л ы й.
О, поэт, — говори
О неслышном полете столетий:
Голубые восторги твои
Ловят дети…
Говори: о безумьи миров,
Завертевшихся в танцах,
О смеющейся грусти веков,
О пьянящих багрянцах…
Внизу проходят Б л о к и Л ю б а.
Белый замирает. Он их не видит, никто не зовет его и никто к нему не стучит, но он напряжен…
Б е л ы й. Да!.. Войдите!..
Ждет. Ждет, ждет! И вот наконец входит Б л о к, строгий, прямой, даже чопорный. С ним — Л ю б а. Идут торжественно.
(В изумлении.) Это — вы?
Б л о к
(несколько сконфуженно). Я.
Люба смеется, Белый смотрит на Блока.
Б е л ы й. Не таким представлял вас!.. Ах, простите, простите…
(Странный жест над головой.) Был образ иной: роста малого, с бледно-болезненным лицом, в одежде, не сшитой отлично… Ну, словом: «Сам я бледен, как снега»…
Б л о к. Разочарование?
Б е л ы й
(смеясь). И да, и нет.
Б л о к. Но как же, как же иначе! Вместо бледно-болезненного поэта, слагающего неземные вирши, загорелый, розовощекий студент в приталенном сюртуке, похожий на бравого щеголя военного… Не так ли?
Б е л ы й. Не так, не так!
Б л о к. Но ведь это же именно я. И письма наши…
Б е л ы й
(подхватывая). …скрестились на пути между Петербургом и Москвой!
(Отпрыгнул и повернулся к Любе.) Простите.
(Учтиво кланяясь.) Борис Николаевич Бугаев.
Л ю б а. Для меня вы Андрей Белый, и я знаю вас давно, хотя и заочно. Очарована вашими стихами, как и Саша.
Б е л ы й. Шаги ваши я услышал, когда вы были еще на улице, и знал — это ко мне, это — Вы!.. Надолго ли в Москву?
Б л о к. Думаю, не очень.
Б е л ы й. Это невозможно. Никак, никак невозможно! Нам говорить, говорить и говорить. Все «аргонавты» вас ждут. Поклонников ваших не счесть!
(В сторону Любы.) Смотрите, она сделала знак рукой. Это что-нибудь значит?
Б л о к
(улыбнувшись). Она немного устала. Мы только что приехали.
Б е л ы й. О нет, нет! Она тронула шарф. Это — знак!
Л ю б а. Вы думаете? Знак? Чего?
Б е л ы й. Не знаю. Не предрешу.
(Блоку.) Ее земной образ отнюдь не противоречит моим неземным предчувствиям. Я всем существом своим знаю, что мы приближаемся к очистительным бурям, к тем катастрофам, без которых невозможна далее наша жизнь!
Б л о к. Мы думаем с вами одинаково. Для меня, как и для вас, Владимир Соловьев приоткрыл многое.
Б е л ы й
(перебивая). Да, да! Он ясновидец тайного! И я видел его, Александр Александрович! Нет, не только видел, я разговаривал с ним и слушал его. Никогда не забыть его очарованные глаза — серые, и сутулую спину, длинную, с взбитыми седыми космами прекрасную голову, большой, словно разорванный рот. Читая «Повесть об Антихристе», он загорался. При словах: «Иоанн поднялся, как белая свеча» — он весь вытянулся в кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Да! Он — предтеча всех наших будущих исканий. Философских. Поэтических откровений. Смысл жизни нашей.
(В сторону Любы, восторженно.) Смотрите, она улыбается мне!
Л ю б а. Нет, не вам. Я улыбаюсь Саше.
Б е л ы й. Саше?
(Сомнамбулически.) Конечно, Саше!
(Подбегая к Блоку.) Не ясно ли вам?
Б л о к. Что?
Б е л ы й. Я же писал — в братстве мы! Не ясно ли т е б е? Ты — Саша. Я — не в а ш, а я — т в о й!
Л ю б а. Это называется брудершафт! Брудершафт, брудершафт!
Б л о к
(несколько смущенно). Разумеется…
Белый и Блок целуются.
(Блок очень не приспособлен к такому непосредственному, фамильярному изъявлению чувств и произносит стесненно.) Да, да… Конечно, я согласен… Боря…
Б е л ы й
(бурно). Саша! Саша! Навсегда и навеки!
Л ю б а. Ну и все. Больше ни единого слова! Гулять! Вот тут, по кривым арбатским переулкам. Потом — к Новодевичьему, на Воробьевы горы… Не могу, не хочу слушать, зажимаю уши…
Сцена уходит в темноту, и через секунду освещается другой круг. Входит Л ю б а, потом Б л о к. Она опускается на стул, хмурая и сосредоточенная.
Л ю б а. Не могу и не хочу. От этих сумасшедших разговоров как будто голову набивают ватой. «Холодная черта зари, как память близкого недуга, и верный знак, что мы внутри н е р а з р ы в а е м о г о к р у г а…»
Б л о к. Почему ты вспомнила эти стихи?
Л ю б а. Потому что я все чаще и чаще думаю, что была права, когда писала тебе трагическое письмо.
Б л о к. Какое письмо?
Л ю б а. Я тебе его не показала. А я писала тогда, что не могу больше оставаться с тобой в прежних дружеских отношениях. Для того чтобы их продолжать, я должна без конца притворяться.
Б л о к. Почему?
Л ю б а. Потому что ты смотрел на меня, как на какую-то отвлеченную идею. Вы все навообразили обо мне всяких возвышенных вещей, и за этой фантастической фикцией ты не заметил и не увидел меня.
Б л о к. Но, может быть, увидел гораздо больше? Может быть, это и есть единственная любовь? О, память навсегда сохранит наши прогулки в рощицах у твоего Боблова, у нашего Шахматова…
Л ю б а. Разумеется. Был влюблен. Любил.
(Усмехнулась.) Свою фантазию! Свой сумасшедший идеал! А ведь я искренне ждала хоть немного естественного чувства от тебя. Понимаешь ли, о чем я говорю? Однажды, после долгих разговоров, возвратившись домой, я вдруг почувствовала, что не могу больше, что в моей душе что-то оборвалось, умерло. Я почувствовала, что твое отношение ко мне возмущает все мое существо! Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками. Я не отвлеченность. Это оскорбительно. Мне холодно, страшно в этих высотах. Вот об этом и написала…
Б л о к. И не дала мне прочесть?
Л ю б а. Не могла. Но во мне все кипело! Я ждала объяснений, но не таких, не таких! Ну что я такое была? Девчонка, дура.
Б л о к. Да и я не умней. Седьмого ноября шел на курсовой вечер в Дворянское собрание и знал, что этот вечер решающий. Я шел на свидание с тобой, считая, что оно — последнее. В кармане у меня лежала записка…
Л ю б а. В тот вечер я сидела с Мурой Никитиной и Верой Макоцковой на хорах, в последних рядах, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз, слева от входа. Я неотступно смотрела на эту лестницу и знала: сейчас появится Блок.
Б л о к. Я сразу направился туда, хотя прежде на хорах ни ты, ни твои подружки, ни я никогда не бывали. В кармане лежала записка.
Л ю б а
(насмешливо). Роковая?
Б л о к. О да. Сколько помню, там было написано: «Мой адрес — Петербургская сторона, казармы Лейб-гвардии Гренадерского полка, квартира полковника Кублицкого-Пиоттух, № 13. 7 ноября 1902 года. Петербург. В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченные» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют». Что-то еще добавил из божественного и подписался «поэт Александр Блок».
Л ю б а. Записка не понадобилась. Ты отвозил меня домой на санях, придерживая, как принято, за талию. Я спросила: «Не замерзнет ли ваша рука, у вас тонкая шинель». Ты ответил: «О, это невозможно психологически». Помню, мне это ужасно понравилось. Ты склонился к моему лицу. Литературно я знала, вычитала где-то в романах, что нужно повернуться к тебе и приблизить губы. Это было пустое любопытство, и морозные поцелуи ничему меня не научили, но они сковали наши жизни.
Б л о к. На следующий день мы встретились в Казанском соборе.
Л ю б а. Да. Пустынно, сумрак, лампады, свечи. И больше я не сопротивлялась судьбе… Ах, но не прав ли Андрей Белый! Он шепнул мне, когда мы были в Москве, что ему кажется, что в наших с тобой отношениях какая-то ложь…
Б л о к. Неправда! Лжи никогда не было и не будет!
Л ю б а. Не знаю, не знаю, что со мной делается…
(Хочет уйти.)
Б л о к. Люба! А если «навообразили» — разве плохо? И что поделать, если я думаю стихами? Ты же сама этому радовалась! Ведь радовалась? Куда ты уходишь? Постой!
Люба ушла. Но он весел и даже прищелкнул пальцами.
О, милое Шахматово! Мама! Вчера в издательстве «Гриф» мне вручили письмо из Берлина от немецкого поэта Гюнтера.
(Озорно подмигнул.) Вообрази, он, оказывается, в восторге от моей «Прекрасной дамы» и просит позволения переводить мои стихи. Оказывается, они совсем не так загадочны по смыслу! Ах, не стану ли я знаменитым?.. На секундочку представь! Мой большой портрет выставлен на всех вокзалах Германии, Франции, Мексики, Дании, Испании, Сербии (и других славянских земель). Он стоит всего… пятьдесят пфеннигов, и его покупают каждый день тысяча восемьсот двадцать семь человек вместе с изображениями моего друга Вольфганга Гёте и моего учителя Фридриха фон Шиллера. Генрик Ибсен из Норвегии и Лев Толстой из Ясной Поляны шлют мне свой воздушный поцелуй! Не хмурься, не хмурься! Я никогда тебя не разлюблю, несмотря ни на какую славу!
(Чуть помрачнев.) Моя жена… шлет тебе привет. Твой любимый сын Александр Блок.
(Угрюмо.) Но все это в шутку. Если говорить серьезно, я злюсь на себя. Боже мой, что обо мне пишут! Пишут, что стихи мои «мистические надежды великого свершения», что они ждут «прибытия», что они «попытка воплощения сверхидеи современного видения, прорыв к неуловимым формам пространства и времени…». Ты в этом разбираешься? По-моему, тут можно свихнуться, и только тебе я могу признаться, что ни черта не понимаю. Я не мистик. Положительно, это не моего ума дело. Ах, мама, милая мама! Происходит какая-то ошибка.
(Помолчав.) А может, в наше время только так и делаются знаменитыми?…
(Уходит.)
Освещается круг. Это, наверно, квартира Блоков. Сидят Л ю б а и А н д р е й Б е л ы й.
Л ю б а
(глядя затуманенным взором куда-то в пространство). На четырех страницах почтовой бумаги он привез мне свои стихи. Это было в Боблове. Я читала их одна. Не сразу мне все было понятно. Но космизм, космизм, это одна из моих основ. И постепенно трепет охватил меня. «Тяжелый огнь окутал мирозданье…»
Б е л ы й. Да, да, и меня это поразило.
Л ю б а. После грозы, на закате, поднялся сплошной белый туман и над далью и над садом. Он был пронизан огненными лучами уходящего солнца. «Тяжелый огнь окутал мирозданье…»
Б е л ы й. Как вы прекрасно рассказываете…
Л ю б а
(застенчиво). Ну что вы… Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то я не я, но где все певуче, все недосказано и где все эти странные стихи, так или иначе, вдруг идут от меня…
Б е л ы й. Я это давно понял. Только от вас.
Л ю б а. Я не так сказала. Но вам могу и это сказать. Вы пронзающий человек! Разве я одна это говорю?
Б е л ы й Мне важно не то, что все говорят, а то, что это вы говорите.
Л ю б а. Может быть, не надо было…
Б е л ы й. Нет, надо! Ну, а дальше, дальше что?
Л ю б а. Вы толкаете меня на откровенность. А в этом я и себе боюсь признаться.
Б е л ы й. Но что же это, что это?
Л ю б а
(с усмешкой). Боже мой… Как будто и любовь, но в сущности одни литературные разговоры.
Б е л ы й
(весело). Сумасшедшие дети!
Л ю б а. Я вас боюсь.
(Страстно.) Да, я хотела порвать с ним. Прекрасная дама взбунтовалась… Отказать, замкнуться, уйти.
Б е л ы й. Что, что, что?
Л ю б а. И все-таки это стало началом моей судьбы.
Б е л ы й. Началом?! Ловлю вас!
Л ю б а. Не смотрите на меня так.
Б е л ы й. А сами смотрите прямо в мою душу! Кто вам дал право! Кто вам дал эту власть?
Л ю б а. Никакой власти у меня нет.
Б е л ы й. Но вы же знаете, знаете!..
Л ю б а
(усмехнувшись). Чехов напрасно смеется над «душенькой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы — способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад?
Б е л ы й. О нет, вы не «душенька». Не вы меня, а я вас боюсь.
Л ю б а. Ах, во мне есть немалая доля трагичности. Вот я опять теряю свое.
(Смотрит на него.) Вы пронзающий, вы еще более необыкновенный, чем Блок, еще более удивительный, но вместе с тем… вместе с тем вы — земной.
Б е л ы й. Клянусь, это не от меня, это от вас. И это прекрасно, то, что происходит с нами! Сейчас! Сию минуту!
Л ю б а. Молчите!
Б е л ы й. Но как же молчать?.. Хорошо, ничего не скажу, ничего не скажу… Но ведь все равно громче самых громких слов будет это молчание… Я увезу вас! Мы уедем в Италию! Мы будем путешествовать по всему миру… Да, я для вас и земной, и удивительный… И мне не нужно, чтобы вы ответили мне. Без того знаю я, что вы ответите! Я за десятки верст чувствую вас, ваш ответ. Еще не слышны шаги, но я знаю — это Вы! И знаю: это неизбежность!.. Неизбежность, слышите? Я обречен. Я счастлив.
Л ю б а
(тихо). Кажется, и я…
Входит Б л о к. Он стоит, прикрыв глаза, словно вслушиваясь в самого себя.
Б л о к. А, Боря. Я пройду к себе.
Б е л ы й. Ты опять ускользаешь? В последнее время мы так мало говорим с тобой.
Б л о к
(рассеянно). Разве?
Б е л ы й. А я новую статью начал. То, о чем мы говорили. Научное объяснение явлений жизни ведет неминуемо к исчезновению самой жизни. Душа, иссушенная знанием, тоскует о потерянном рае — о детской легкости, о порхающем мышлении.
Б л о к. Да, да… Детская легкость…
(Вдруг, резко.) Боря! А не пора ли нам начать выпутываться из нашего философского сумбура? Ты не находишь? Эта игра уже наносит увечья!
Б е л ы й. Увечья?
Б л о к
(стиснув зубы, но уже спокойно). Да, увечья. И я — о земном, а не о потустороннем.
Б е л ы й. Для того чтобы увидеть земное, нужно увидеть небо. Мир созрел, как золотой, налившийся сладостью плод. Я жду так же, как и ты ждешь! Близится событие… Саша!
Б л о к. Близится? Событие?
Б е л ы й
(вдруг сразу растерялся). Видишь ли… Мне надо бы… То есть не мне, а — надеюсь — н а м… надо… с тобой объясниться… Располагаешь ли временем?
Б л о к
(пожал плечом). Пожалуйста, Боря…
(Усмехнулся.) Располагаю ли временем?..
Б е л ы й. Право, не знаю, Саша, но думаю… Трудно тебе объяснить, приняв во внимание неестественность положения…
Б л о к. Ну и что же?
Б е л ы й. Видишь ли… Я и Люба…
Люба молча опустила голову.
Б л о к
(с ужасающим спокойствием). А!.. И что же, и что же?.. Я рад.
(Вышел.)
Л ю б а
(Белому). Не подходите, не подходите ко мне!
(В ее крике истерические нотки.) Возвращайтесь в Москву! Сидите там, и ни слова, ни слова… Я напишу вам. Слышите! Сейчас я ничего не понимаю. Я должна быть одна. Без вас. Уезжайте сегодня же. Я напишу, я напишу вам…
Сцена уходит в тьму. Слышно, как стучат молотки, заколачивающие гвозди. И деловитые голоса рабочих: «Левый угол чуть выше. Хорош. Натягивай книзу. Поддерживай! Так. Так. Хорош».
Освещается центр сцены, и мы видим закрытый занавес театрика. Рабочие прибивают грубо намалеванное полотнище, на котором написано:
БАЛАГАНЧИК[5]
Занавес театрика раздвигается. Мы видим параллельно рампе длинный стол, до пола покрытый черным сукном. За столом сидят м и с т и к и, так что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Пугаясь, мистики опускают головы, и тогда за столом остаются бюсты без голов. Оказывается, из картона выкроены контуры фигур, и на них сажей и мелом намалеваны сюртуки, манишки, воротнички и манжеты. Руки актеров просунуты в круглые отверстия и головы прислонены к картонным воротничкам. У окна — в белом балахоне П ь е р о, мечтательный, расстроенный, бледный, как все Пьеро.
П е р в ы й м и с т и к. Ты слушаешь?
В т о р о й м и с т и к. Да.
Т р е т и й м и с т и к. Наступит событие.
П ь е р о. О, вечный ужас, вечный мрак!
П е р в ы й м и с т и к. Ты ждешь?
В т о р о й м и с т и к. Я жду.
Т р е т и й м и с т и к. Уж близко прибытие:
За окном нам ветер подал знак.
П ь е р о.
Неверная! Где ты? Сквозь улицы сонные
Протянулась длинная цепь фонарей,
И пара за парой идут влюбленные,
Согретые светом любви своей.
Где же ты? Отчего за последней парою
Не вступить и нам в назначенный круг?
Я пойду бренчать печальной гитарою
Под окно, где ты пляшешь в хоре подруг!..
П е р в ы й м и с т и к. Тише! Слышишь шаги!
В т о р о й м и с т и к. Слышу шелест и вздохи.
Т р е т и й м и с т и к. О, кто среди нас?
П е р в ы й м и с т и к. Кто в окне?
В т о р о й м и с т и к. Кто за дверью?
Т р е т и й м и с т и к. Не видно ни зги.
П е р в ы й м и с т и к. Посвети. Не она ли пришла в этот час?
Второй мистик поднимает свечу. И непонятно откуда появляется у стола необыкновенно красивая д е в у ш к а. Равнодушен взор спокойных глаз. За плечами лежит заплетенная коса. Восторженный Пьеро молитвенно опускается на колени. Мистики в ужасе.
М и с т и к и.
— Прибыла!
— Как бела ее одежда!
— Пустота в глазах ее!
— Черты бледны, как мрамор!
— За плечами коса!
— Это — смерть!
П ь е р о. Господа! Вы ошибаетесь! Это — Коломбина! Это — моя невеста.
П р е д с е д а т е л ь. Вы с ума сошли. Весь вечер мы ждали событий. Мы дождались. Она пришла к нам — тихая избавительница. Нас посетила смерть.
П ь е р о
(звонким, детским голосом). Я не слушаю сказок! Я — простой человек. Вы не обманете меня. Это — Коломбина. Это — моя невеста.
П р е д с е д а т е л ь. Господа! Наш бедный друг сошел с ума. Он никогда не думал о том, к чему мы готовились всю жизнь. Он не измерил глубин и не приготовился встретить покорно Бледную Подругу в последний час. Простим великодушно простеца.
(Обращаясь к Пьеро.) Брат, тебе нельзя оставаться здесь. Ты помешаешь нашей последней вечере…
П ь е р о
(печально). Я ухожу!
(В отчаянии.) Носи меня, вьюга, по улицам! О, вечный ужас! Вечный мрак!
К о л о м б и н а
(идет к Пьеро). Я не оставлю тебя.
П р е д с е д а т е л ь
(умоляюще складывает руки). Легкий призрак! Мы всю жизнь ждали тебя! Не покидай нас!
Появляется А р л е к и н. На нем серебристыми голосами поют бубенцы.
А р л е к и н
(подходит к Коломбине).
Жду тебя на распутьях, подруга,
В серых сумерках зимнего дня!
Над тобою поет моя вьюга,
Для тебя бубенцами звеня!
Кладет руку на плечо Пьеро. Пьеро свалился навзничь и лежит без движения. Арлекин уводит Коломбину. Все безжизненно повисли на стульях. Рукава сюртуков вытянулись и закрыли кисти рук, будто рук и не было. Головы ушли в воротники. Кажется, на стульях висят пустые сюртуки. Пробегает, кривляясь, П а я ц.
П а я ц. Помогите! Истекаю клюквенным соком!
(Исчезает.)
Развинченной походкой входит А р л е к и н.
А р л е к и н.
О, как хотелось юной грудью
Широко вздохнуть и выйти в мир!
Совершить в пустом безлюдьи
Мой веселый весенний пир!
Здесь никто понять не смеет,
Что весна плывет в вышине!
Здесь никто любить не умеет,
Здесь живут в печальном сне!
Здравствуй, мир! Ты вновь со мною!
Твоя душа близка мне давно!
Иду дышать твоею весною
В твое золотое окно!
Прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту.
П ь е р о
(приподнимаясь).
Куда ты завел? Как угадать?
Ты предал меня коварной судьбе.
Бедняжка Пьеро, довольно лежать,
Пойди, поищи невесту себе.
Ах, как светла — та, что ушла
(Звенящий товарищ ее увел).
Упала она (из картона была),
А я над ней смеяться пришел,
Она лежала ничком и бела,
Ах, наша пляска была весела!
А встать она уж никак не могла,
Она картонной невестой была.
И вот, стою я, бледен лицом,
Но вам надо мной смеяться грешно.
Что делать? Она упала ничком…
Мне очень грустно. А вам смешно?
Пьеро задумчиво вынул из кармана дудочку и заиграл песню о своем бледном лице, о тяжелой жизни и о невесте своей Коломбине. Театрик погас, исчез, но дудочка еще слышна — все дальше и дальше, — и когда осветилась сцена, в одном конце стоит Б л о к, а в противоположном — А н д р е й Б е л ы й. Так стоят дуэлянты перед тем, как прозвучит короткая команда: сходитесь. И оба они повернуты вполоборота к зрительному залу.
Б е л ы й. Милостивый государь, Александр Александрович. Какая бы пропасть ни легла между нами, но я надеюсь, что вы, плюнувший в самое святое, что когда-то соединило нас, превративший все это в пошлый балаган, даже не в балаган, а в балаганчик, и кровь живую назвавший клюквенным соком, вы, ничего не пощадивший в нашей вере, как бы ни были вы ужасны сейчас для меня, но все же надеюсь я, хоть немного дрогнете сердцем и не окажетесь тем грядущим хамом, для которого все, что говорю я, лишь кривляние арлекина с бубенчиками, вызывающее смех. Нет, я не допускаю мысли, что будущий наш судья лишь хихикнет над Андреем Белым, и уж каким я окажусь перед этими пошляками пустозвонным клоуном, сумасбродом или сумасшедшим! Мне все равно, я не об этом. Помолчите секунду…
Б л о к. Я пока не сказал ни единого слова.
Б е л ы й. Полагаю, однако, что избавлен от излишних разъяснений. Мы, «аргонавты», объявили вас поэтом, волею судеб призванным оповестить мир о торжестве сверхидеи конца, гибели, смерти ненавистного мира зла и начала начал революции духовной, всемирной, вселенской. Я был ослеплен. Не пойму, хватаюсь за голову, как я не заметил страшных строчек ваших, вдруг прорвавшихся, словно исподтишка:
В своей молитве суеверной
Искал защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются л ж и в ы е у с т а…
Б л о к. Да, это я написал.
Б е л ы й. Чудовищно! В стихах о Прекрасной даме! Вы раздваиваетесь. Вижу ваш черный профиль. Это ваша тень. Она отделилась от вас и живет, неотступно следуя за вами и, по-видимому, действуя помимо вашей воли. Или на миг сознание покинуло вас?
Б л о к. О нет, я писал эти стихи сознательно, если вообще можно сознательно писать стихи. Наверное, нет?
Б е л ы й. А! Но бессознательное преступление страшней и ужасней, ибо значит, что оно гнездится в самой сущности человека.
Б л о к. Я согласен.
Б е л ы й. Тогда мой долг, хотя бы и вопреки торжеству ваших почитателей, для которых высокая страсть ненависти и любви не более чем ваш балаганчик, — тогда не только долг мой, но и честь моя ответить на вашу низкую измену одним словом: вызываю.
Б л о к
(усмехнувшись). Я готов.
Б е л ы й. Мой секундант будет у вас сегодня вечером.
Б л о к. Хорошо.
Отвернулись, теперь они стоят спиной друг к другу. В темном провале сцены мерцают детали едва угадываемых предметов.
Б е л ы й. Насмешки ваши ничтожны. Но я надеюсь, что вы отдаете себе отчет в том, что этот мой вызов отнюдь не продиктован отношениями личными?
Б л о к. К черту.
Б е л ы й. А, это вас бесит! Еще бы! Вам известно, что о н а, кидаясь от меня к вам, не зная, не понимая, кого же она любит и с кем ей быть — то любит меня, то любит вас, то любит меня «по-земному», а вас, как сестра, то наоборот, — издергав, издергав душу мою, в конце концов решилась остаться с вами, поломала, скрутила чувства свои и мои… не знаю уж, под чьим нажимом…
Б л о к. Не советую продолжать.
Б е л ы й. Вы хотите с торжеством бросить мне в лицо, что я не более как слепец? Я не слепец! Я несчастен и одинок, но я не слепец! У меня не клюквенный сок, а кровь, я не паяц и не арлекин с бубенцами, я человек, у которого кровоточит рана. Вам неведомо это, как, может, никогда неведомо будет тем ничтожествам, для коих вы станете божеством, а я посмешищем, но — слышите ли, через муки свои, подминая боль сердца, я скажу без всякой пощады для себя и для вас — вы назвали ее картонной невестой и были близки к истине, но она хуже, она — кукла!
И оба разом повернулись друг к другу.
Б л о к. Я не разрешаю вам так говорить о Любе.
Б е л ы й. О, я готов бы схватить вас в объятья! Ура! Уж то-то всемирные пигмейчики чувств вдосталь похихикают, но уже не надо мной, а над вами, над вами, над вами! Во что превратилась ваша Прекрасная дама? Не возникнет ли она в туманах трущоб и бульваров? В какие бездны проваливается она?
Б л о к. Милостивый государь, Борис Николаевич! Ваше юродство я прекращаю. А то, что вы позволили произнести, заставляет меня, откинув ваше мальчишество, вызвать вас, и это уже не мистический вздор.
Б е л ы й. Извольте. Мой адрес — Караванная, меблированные комнаты. Они вам известны. Я готов.
Опять отвернулись.
Б л о к. Не слишком ли много слов? Как я устал.
Б е л ы й. Жизнь летит. Все скорей, все скорей жизнь летит. Вот золотое кружево пены обливает меня ледяным холодом. Надо плыть дальше. Но как? Но куда?
(И вдруг, сжавшись в комочек, как подкошенный, как-то бочком, падает.)
Б л о к
(подбегая к нему). Что с тобой? Боря! Ты болен?
Б е л ы й. Оставь меня. Не вижу места на земле. Ничего не вижу. Ослеп!
Б л о к. Успокойся, успокойся.
Б е л ы й. Ах, боже мой, как я несчастен!
Б л о к. Вижу. Сейчас мы пойдем к нам. Мы уложим тебя в постель…
Б е л ы й. Что ты, что ты… Я обещал ей, что не появлюсь у вас никогда, не встречусь с ней никогда и никогда, никогда не напомню ей о себе…
Б л о к. Ах, глупости, право. Я провожу тебя на Караванную, оттуда сбегаю к Любе, предупрежу ее, и ты увидишь, как она тебя встретит, и ты поживешь у нас, отдохнешь…
Б е л ы й. Брат мой, враг мой… Пути наши расходятся. И это так же неизбежно, как то, что рушится мир, — но мы с тобой видим это уже по-разному.
Б л о к. Да, Боря, пожалуй, по-разному…
Метель. Блок идет, запахнувшись в пальто, полы которого вздымает вьюга. Он пьян. Но боже избави изображать его пьяным. Он почти такой же; может быть, раскованнее его движения и, как мы увидим, гораздо более разговорчив, чем обычно. Иногда слова прорываются торопливо и бурно, чего никогда с ним не бывает в обычном состоянии. Вот и все.
Б л о к
(словно бы подыскивая, нащупывая строки).
Я — обрываю — нить — сознанья —
И — забываю — что — и как —
Кругом — снега, — трамваи — зданья —
А впереди — огни и мрак…
Позади него тени п р о х о ж и х, куда-то спешащих, и, несмотря на ветер, туман, медленно гуляющие п р о с т и т у т к и — тоже тени. Из снежных туманов вынырнула фигура. Это маститый П и с а т е л ь в б о б р а х. Длинный нос, как картонный, вытарчивает из поднятого воротника, глазки быстрые так и впиваются.
П и с а т е л ь. Хе-хе! Откуда вы, Блок? Ох, вьюга!..
Подхватил его, и оба исчезли. В другом конце сцены появляется А н д р е й Б е л ы й.
О д н а и з п р о с т и т у т о к. Молодой человек, папиросочку…
(И шарахнулась от него.)
Б е л ы й
(лихорадочно). В Мюнхен! В Пинакотеку! К Дюреру, к Грюневальду, к Кранаху!.. И в готике, и в схоластике средневековья отыщу корни Ренессанса, в кабачке Симплициссимуса поднесу розы веселой и глупой хозяйке, и лысый скрипач будет играть на крохотной эстраде глухого Бетховена, и я услышу Ее голос, имени не назову, услышу и забуду, вычеркну, изничтожу! А не хватит сил — в дорогу, в дорогу! Натяну на спину рюкзак и — через Альпы, в Лугано, в Милан, во Флоренцию, смотреть на Джотто в Ассизи, забыть ее и Блока, и Блока…
(Исчез.)
Метель. Идут Б л о к с П и с а т е л е м в б о б р а х, который так и прилепился и никак не отпускает его.
П и с а т е л ь. Ну и крутит, ну и крутит!.. А Люба — что? Любовь Дмитриевна? Жизнь-то как, а?
Б л о к. Весело. Не припомню, чтобы жили когда-нибудь так!
П и с а т е л ь. Помилуй бог, а у Мережковских какие ужасы и толки! Надорвали бы животик от смеха!
Б л о к. Я не Ставрогин и не кусаю генералов за ухо. Нынче я к ним не вхож.
П и с а т е л ь. Так разве же не единоверцы? Уж то-то Зиночка, в хитончике возлежа и потягивая пахитоску, изъязвилась вся, представьте — пиная любимчика Белого, и тот взрывался — пуфф-пуфф — и вскрикивал только! А все, значит, — слухи да шепоточки? Скандальчика как не бывало?
Б л о к. Скандальчик в журнальчиках. Вам ли не знать?
П и с а т е л ь. Как же, как же! Аргонавтики, символистики! Мистики, анархистики! Разодрались! Своя своих не познаша! И не поймешь уже, кто с кем, кто за кого? Ну, а вы? Что, что?
Б л о к. А я сам по себе.
П и с а т е л ь. А все-таки, все-таки?
(Ликуя и кружа его.) Белый-то дал стрекача за границу?
Б л о к. Постойте, так можно упасть. Вы медведь.
П и с а т е л ь
(хохоча). Под сибирское, под кондово-русское работаем, нас не свернешь!.. Ну, а все-таки, все-таки?.. Слыхивал — играет? Любовь-то Дмитриевна? И недурственно, говорят, недурственно… Мейерхольд, говорят…
Б л о к. Да ведь вы сами обо всем знаете, будет вскрикивать!
П и с а т е л ь. Знаю. А кто ж не знает? Все знают! Уехала. И давно? Что, что?
Б л о к. У них вроде театр. Вроде как было в Териоках.
П и с а т е л ь
(хихикнув). Значит, укатила? В Пензу, в Ростов, в Таганрог?.. Ну, а вы-то что ж не с ними? Что, что?
Б л о к
(ткнул его в живот). А я тоже знаменитый, милсдарь!.. Люба умная. Негоже мне, сказала, таскаться за актерами, не по чести моей — да еще за женой и куда-то в Пензу. И верно. Ведь так?
(Его вдруг чуть шатнуло.)
П и с а т е л ь. Так-то так, но…
(Вглядывается в Блока.) Нехорош. Не-хо-рош.
Б л о к. Чем же?
П и с а т е л ь. Из дому-то когда? Эхе! Дело дрянь!
Б л о к. Да чем же? Брожу и брожу. Город призраков, город теней!.. На рассвете оказался в Сестрорецке на вокзале. Припоминаю. Ресторация незаметно опустела, хозяин дремал, но меня не выгнали. Нет, пожалуй, совсем еще рано, чуть брезжило, и я сел на поезд. И вот видите…
П и с а т е л ь. Так, так…
Б л о к. Дело в том, что кажется мне — неотвязна мысль эта, — кажется мне, что я потерял ее следы…
П и с а т е л ь. Следы? Чьи следы? Потеряли? Что, что?
Б л о к. Я сказал — потерял? Пустая тревога. В полночь назначена встреча. Но что мне делать, куда деваться до этого часа?.. Заколдованный город!..
(Решительно.) Беру вас с собой!.. А пробьет двенадцать…
П и с а т е л ь. Что вы! Что вы! Новый романище докатываю. В толстый журнал. Зарез. Да и жена… знаете ли… И еще к Мережковским, к Зинаиде Гиппиус обещал…
Б л о к. К Мережковским? Ну так и скажите им там, что Блок-де поклона не передает. Блок-де нехорош. Самолично видели.
П и с а т е л ь. Нуте-с? Нуте-с?
Б л о к. Что — нуте-с? Пошлите их ко всем чертям! И поволоку я вас, кондово-русского, сквозь все метели, туманы, в лишь ощупью угадываемые переулки, поволоку, поволоку и брошу, и брошу в самый что ни на есть кромешный ад!.. Э! Да где же вы, где?..
Писатель в бобрах растворился, как сдуло его. И Блок побрел дальше, строгий, даже величественный. Туманы скрыли его. Смерчем закрутили белые лучи, взвились и вдруг остановились, стихли. В мутных лунных лучах возникла В о л о х о в а. Она возникла на миг и исчезла. И снова появился Б л о к.
Б л о к.
И каждый вечер в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне…
…И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено…
Появляется человек в крылатке. Это Е в г е н и й П а в л о в и ч И в а н о в, но сейчас, пожалуй, он фантастичен, как все в этот вечер, — фантастична его крылатка и он сам. Но это — друг (мы будем называть его Женей). Он порывисто устремляется к Блоку.
Ж е н я. Сойти с ума! Второй день я мечусь по городу! Тебя нигде нет! Клянусь, я уже не знал, что думать!.. Я догадывался, но пойми…
Б л о к. Тихо, Женя.
(Наклонился к нему.) Пошлость таинственна, но я не боюсь ее. Напротив, я окунаюсь в нее и трезвею от всего, что кружило меня в молодости так глупо и преступно.
Ж е н я. Перестань терзать себя! Нет сил смотреть!
Б л о к. А что я могу поделать, если кидает меня то в одну, то в другую сторону, и я уже не знаю, где мираж, а где жизнь?.. Женя, это… ты?
Ж е н я. Это я, Саша…
Б л о к. Ну да, конечно. Женя, Женя! Тогда скажи мне, трезвый, добрый, ясный, видел ли ты, как…
В соседнем доме окна желты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам…
…Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ…
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули…
Ответь мне! Что это за дурацкая астрологическая башня, на которую я влез?.. Скорей, скорей из этих проклятых розовых кустов, спуститься в ров…
Ж е н я. Успокойся.
Б л о к. Спуститься в ров, в лунную голубую траву. В ров, в траву, к земле, к живому… Ветер волком воет в улицах, проститутки мерзнут, люди голодают, их гнут, душат, вешают, трудно, холодно, мерзко…
(Вдруг.) Смотри! Вглядись! Что это там? Какое светлое, мерцающее пятно! Оно неудержимо тянет к себе! Что это? Большой плещущий флаг? Или сорванный ветром плакат? Пятно растет. Люди идут. Вереницей идут люди. Словно бы движущийся зубчатый лес в Шахматове. А дальше, а дальше?.. А впереди? Какой-то нимб возникает. Странно, странно… Неужели не видишь?
Ж е н я. Там никого нет, там только метель. Тебе мерещится, Саша. Успокойся…
Бьет двенадцать часов. И вновь возникает В о л о х о в а.
В о л о х о в а.
Я в дольний мир вошла, как в ложу.
Театр взволнованный погас.
И я одна лишь мрак тревожу
Живым огнем крылатых глаз.
Они поют из темной ложи:
«Найди. Люби. Возьми. Умчи».
И все, кто властен и ничтожен,
Опустят предо мной мечи.
И все придут, как волны в море,
Как за грозой идет гроза.
Пылайте, траурные зори,
Мои крылатые глаза!..
Б л о к
(Жене). Ты и ее не видишь?.. Сумасшедшая ночь, сумасшедшая ночь… (Идет к ней.)
Женя, уткнув рыжую бороду в воротник крылатки, остается неподвижным. Гаснут расплывчатые фонари над воображаемыми мостами, и весь этот зыбкий городской мираж уходит в тьму. И когда вновь загорается свет, он освещает одну из площадок сцены.
Утро. Петербургское, неяркое солнце высветило серые обои, окно. За столом сидит Л ю б а. Чемодан стоит возле. Входит Б л о к. Он не ждал ее.
Б л о к
(тихо). Люба?
Л ю б а
(подняла на него глаза). О, как ты выглядишь! Не спал? Уже много ночей не спал?
Б л о к. Да. Не спал.
Л ю б а. Вот видишь, приехала.
(Торопливо.) Играла, много играла. Ибсена, Метерлинка…
Б л о к. Да, да.
Л ю б а. Рассказывать нечего. Сцену я бросила.
(Голова ее упала на руки.) Так все отвратительно, так все отвратительно…
Б л о к. Не надо рассказывать. Я все понял.
Л ю б а
(плачет). Понял… понял…
Б л о к. Ну вот, вернулась. Опять ты.
Л ю б а. Нет меня! Нет! Ничего не осталось.
Б л о к. Это пройдет, Люба!
Л ю б а. Никогда не пройдет!
(Вскочила.) Видеть никого не хочу. Делать ничего не хочу!
Б л о к. Устала. Нервы. Пройдет. Ты такая деятельная. Ну, будешь изучать старую архитектуру, фарфор, кружева, книжные знаки, разыскивать старинные журналы…
Л ю б а. Не смей издеваться надо мной…
Б л о к. Но я, Люба…
Л ю б а
(в отчаянии). Если бы ты знал, если бы только знал…
Б л о к. А я все знаю, Люба.
(Вдруг направился к двери, и со спины видно, как он с силой ударился головой о дверь.) Ай!
Л ю б а. Что с тобой?
Б л о к
(не ответил, повернулся к ней как-то странно и — опять к двери, опять головой). Ай!
Л ю б а. Господи, да что же это?
Б л о к
(с коротким смешком). А я нарочно. Я протягиваю вперед руку, а ты думаешь, что я головой. Мне не больно, а тебе смешно.
Л ю б а. Не смешно.
Б л о к. А я думал…
Л ю б а
(вскочила). Ты лучше скажи! Без жалости! Без жалости! Когда я играла здесь, ты смотрел, ты видел — я ужасно играла?
Б л о к. Нет, почему же? Напротив, напротив. Я слишком холоден, чтобы восторгаться. Но… уверяю тебя. Ты была красива. Ну… пожалуй… немного переигрывала от волнения.
Л ю б а. Так, так. Поняла, поняла. И все-таки поехала!.. О боже мой… Что ты смотришь на меня так?
Б л о к. Я… Ничего.
Л ю б а. Так знай же, что бы, как бы ни получилось… И пусть я бездарна, пусть!.. Знай же, знай, что именно т а м я была счастлива, безумно, до самозабвения, как никогда не была и не буду с тобой! Была счастлива! Была, была!
(Стремительно повернувшись, уткнулась в подушку.)
Б л о к
(мягко). Не надо в твоем положении делать резких движений.
Л ю б а
(плечи ее начали вздрагивать, она уже не сдерживала рыданий). Какие ужасные, грязные, грубые люди…
Б л о к
(присел около нее). Вот ты приехала. Видишь, как сразу спокойно. Хорошо. Опять ты.
(Тихонько, как рассказывают сказку малому ребенку.)
На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей…
Она понемногу затихает.
А няня топит печку в детской,
Огонь трещит, горит светло…
Но ангел тает. Он — немецкий.
Ему не больно и тепло.
Она совсем затихла.
Сначала тают крылья крошки,
Головка падает назад,
Сломались сахарные ножки
И в сладкой лужице лежат…
Она приподняла голову и смотрит на него.
Ломайтесь, тайте и умрите,
Созданья хрупкие мечты,
Под ярким пламенем событий,
Под гул житейской суеты!
(Не глядя на нее, немного грустно и очень спокойно.) Знаешь, Люба… Я вот думаю… У нас нет детей… А теперь будет. И может быть, мы назовем его… Митя? Наш — Митя. Если будет мальчик. И все равно — наш. Митенька. Как звали твоего отца.
Т е м н о
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
На сцене — Б л о к. Он — в хаки, форме вольноопределяющегося. В кулисах виднеется Р е ж и с с е р. Некоторое время он настороженно вслушивается, потом незаметно исчезает.
Б л о к.
Рожденные — в года — глухие —
Пути — не помнят — своего.
Мы — дети — страшных — лет — России —
Забыть — не в силах — ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас — надежды ль — весть? —
От дней войны — от дней — свободы —
Кровавый — отсвет — в лицах — есть.
Есть — немота — то — гул — набата —
Заставил — заградить — уста.
В сердцах — восторженных — когда-то —
Есть — роковая — пустота.
И пусть — над нашим — смертным — ложем —
Взовьется — с криком — воронье, —
Те — кто — достойней — боже, боже —
Да у́зрят — Царствие — твое!
Блок ушел. Слева выходит А н д р е й Б е л ы й.
Б е л ы й. Грязно, серо, суетливо, бесцельно, расхлябанно, сыро; на улицах — лужи; коричневатой слякотью разливаются улицы; серенький дождичек, серенький ветер и пятна на серых, облупленных, нештукатуренных зданиях; серый шинельный поток; все — в шинелях; солдаты, солдаты, солдаты — без ружей, без выправки; спины их согнуты, груди придавлены; лица унылы и злы… Изолгано все. Нашутили, исшутили, прошутили. Все разваливается. Страшно. И никто еще не смеет произнести: рухнуло.
(Исчез.)
Скрипит, повизгивает шарманка на дворе: «Все пташки-канарейки так жалобно поют…»
Квартира Блока. Л ю б а ходит по комнате, держа листки, и учит роль.
Л ю б а
(без выражения). «Мне стыдно, право стыдно, я уйду, право уйду, тетушка, посидите за меня.
(Репетирует книксен и — после небольшой паузы.) Нет, право, уйду, уйду, уйду…»
(Отбежала в сторону, высунулась в окно, увидела шарманщика, завернула монетку в бумагу.) Эй! Лови! Только, ради бога, убирайся!
(Монетка брошена, шарманщик заковылял прочь, и она продолжает, повернувшись к зрителям.) «Право, такое затруднение — выбор. Если бы еще один, два человека, а то четыре… а то четыре…»
Выкрик татарина: «Старого платья берем!»
Внизу проходит Б л о к. Останавливается.
Б л о к. Мама! С призывом моим, кажется, все улаживается. Зоргенфрей устраивает меня в Земско-городской состав. Таким образом буду я табельщиком тринадцатой инженерно-саперной дружины. Вышли нотариальную копию моего университетского диплома, и меня аттестуют зауряд-чиновником. Это все же лучше, чем быть солдатом. Направляют меня на станцию Лунинец, Полесских железных дорог, где-то в Пинских болотах. Болота, болота… Вчера у Любы не было спектакля в Михайловском полку, и она играла на станции Обухово. Присутствовали местный пристав и мальчишки на заборе, а вокруг происходило гуляние, так что слова актеров были заглушены, но Люба всех перекричала. Сейчас она готовит роль Агафьи Тихоновны в гоголевской «Женитьбе». Господь с тобой. Твой Саша.
Л ю б а
(ходит по комнате, учит). «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича… Просто даже стала болеть голова…»
Проходит Б л о к. На приступочке сидит М а р и я. При появлении Блока оторопело вскакивает.
Б л о к. Вы ждете меня?
М а р и я. Да.
Б л о к. Почему же вы не прошли ко мне, а сидите на лестнице?
М а р и я. А меня никто не знает у вас. И вы — не помните.
Б л о к. Пожалуй, нет.
М а р и я. Давно, еще до войны, я как-то заходила к вам.
Б л о к. Может быть. Но вы думаете, я не заметил, как вы почти каждый день проходите мимо моих окон и иногда я ловлю ваш вопрошающий взгляд? Зачем же, однако, — на лестнице?
М а р и я. А я с утра здесь.
Б л о к. Вот те раз! Вы, наверно, продрогли? Пойдемте, пойдемте!
Уходят.
Л ю б а
(у себя, продолжая учить роль). «Просто голова стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий… Лучше всего кинуть жребий… Положиться во всем на волю божью, кто выкинется, тот и муж… Положиться на волю божью… Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки… Сверну в трубочки, сверну в трубочки… да и пусть будет что будет…»
(Сворачивает воображаемые бумажки.)
Зажигается свет рядом — там сидят Б л о к и М а р и я.
Б л о к. Когда ко мне приходят со стихами, все как-то проще. Я привык. Говорим о стихах. Чаще всего — плохих. Ну, а вот так?
М а р и я
(неотрывно на него смотрит). Кто вы, Александр Александрович? Если вы позовете, за вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что вы вождь. Ничего, ничего у вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в вас как-то мы все и вы символ всей нашей жизни, даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на вас все свои страшные лучи — и вы за нее, во имя ее, как бы образом ее сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя вас? Что я должна делать? Как жить?
Б л о к. Никакого ответа у меня нет. Нет его у меня.
М а р и я. Но вы же лучше меня чувствуете, что скоро пробьет вещий час. Что — тогда?
Б л о к
(усмехнувшись). «Вещий час»? Наши словечки.
(Посмотрел на нее.) Вот тогда-то я и должен буду ответить — и не только вам. СЕБЕ САМОМУ ОТВЕТИТЬ. НАПРЯЖЕНИЕМ ВСЕХ СИЛ, КАКИЕ ТОЛЬКО ДАНЫ МНЕ.
М а р и я. Как странно вы говорите… А какой же выход у меня?.. А я?.. А мне?.. Хотела бежать, уйти в монастырь… Может, так и сделать?.. Вся Россия корчится в судорогах, а я бессильна. Я бессильна и, бог мой, как хочу тишины!
Б л о к. Тишины не будет.
М а р и я
(в экзальтации).
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь…
…И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…
Я что-то пропустила, но я знаю ваши стихи наизусть. Но главное — эти, эти. Вы понимаете? Все, что о России. Сейчас я не читаю «Снежную маску». Больше она меня не кружит. Вы не обижаетесь?
Б л о к. Напротив.
М а р и я. Я люблю каждую вашу строчку! Но сейчас — эти. Прежде всего — они.
Б л о к
(кивнул головой). Да, да, понимаю.
М а р и я. И если не увидите меня из окна, это не значит, что я вас покинула. Я никогда вас не покину. Где бы ни была, буду рядом.
Б л о к. Спасибо.
М а р и я. Вы не сердитесь, что я караулю вас?
Б л о к. Нет.
М а р и я. Дело в том, что все, что происходит с вами, это не только ваше личное дело. Вы живете в стеклянном доме, и все видно.
Б л о к. Разве? Но это, наверно, ужасно?
М а р и я. Стеклянный дом — это ваши стихи. Если их читать внимательно, то все и видно.
Б л о к. Зачем же их так читать? Нехорошо.
М а р и я
(зло). А иначе нельзя! Вы сами так придумали.
(Смотрит на него.)
Когда под заступом холодным
Скрипел песок и яркий снег,
Во мне, печальном и свободном,
Еще смирялся человек.
Пусть эта смерть была понятна —
В душе, под песни панихид,
Уж проступали злые пятна
Незабываемых обид…
Б л о к
(хмурясь). Это написано давно. Это написано несколько лет тому назад.
М а р и я.
…Я подавлю глухую злобу,
Тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам…
Б л о к. Да. Митенька прожил всего восемь дней.
Сразу врывается Л ю б а.
Л ю б а
(очень резко). Саша, я опаздываю на спектакль. Может, пригласишь девочку выпить чаю?
М а р и я. Нет, нет. Я пойду.
Л ю б а. Подождите, куда же вы?
М а р и я. Я пойду, я пойду, не задерживайте меня!..
(Убегает, со слезами.)
Л ю б а. Сколько у тебя — этих, ненормальных?! Вот именно — стеклянный дом: врываются, ни с чем не считаясь! Подглядывают, караулят, высматривают…
Блок не отвечает.
Я тоже человек! Ответь хоть! Невыносимо! Молчит, молчит, целыми днями молчит. Какое кошмарное одиночество! Сплошной мрак. Можно сойти с ума. Я больна, совсем больна. Боже мой, опаздываю. Вернусь поздно. После спектакля у нас еще репетиция. И еще надо забежать к Олечке Судейкиной, у нее печень.
(Целует его в лоб, крестит.) Главное — не открывай форточку в кухне, а то сквозняк, ветер, простудишься.
(Уходит.)
Видно, как внизу она торопливо пересекает сцену. Сгущаются сумерки.
Б л о к
(один).
Как — океан — меняет — цвет,
Когда — в нагроможденной — туче —
Вдруг — полыхнет — мигнувший — свет —
Так — сердце — под грозой — певучей
Меняет — строй — боясь — вздохнуть…
Сцена почти совсем погружается в темноту.
И кровь — бросается — в ланиты, —
И слезы счастья — душат — грудь —
Перед явленьем Карменситы!..
И вот уже в полной тьме все громче и громче звучит знаменитая Хабанера. Призывно и ликующе ее поет ж е н с к и й г о л о с. Когда высвечивается круг, изображающий театральную уборную, мы видим Б л о к а, сидящего сбоку от гримировального зеркала. Входит разгоряченная успехом Л ю б о в ь А л е к с а н д р о в н а Д е л ь м а с.
Д е л ь м а с. Вы уже пришли? Я ждала вас позже. Я рада.
(Оглядывает свое лицо в зеркале.) Ужас, ужас. А вы видели публику?
Б л о к. Я слушал отсюда. Далеко, далеко, как из другого мира.
Д е л ь м а с. Сплошь офицеры. И никаких парадных мундиров. Хаки, погоны. И все больше юнцы. Как будто вся Россия стала прапорщиками.
Б л о к
(печально). Вроде меня?
Д е л ь м а с. Вас?
(Тронув на подзеркальнике небольшую книжку.) В этом странном журнальчике доктора Дапертутто…
Б л о к. Его издает Мейерхольд. Кажется, в ста экземплярах.
Д е л ь м а с. Это считается мало? Но в нем напечатано восемь стихотворений, которые я слышала от вас раньше…
Б л о к. И как видите, они по-прежнему посвящены вам. Но всего в ста экземплярах.
Д е л ь м а с
(задумывается).
О, Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе…
Б л о к. Там лучше есть.
Д е л ь м а с. Там все прекрасно! Не смотрите на меня, у меня плывет лицо. Колдовские стихи. Вы очень влюбчивы?
Б л о к. О да. Чудовищно.
Д е л ь м а с. Ну, тогда я начинаю понимать.
Б л о к. Не спешите. Я сам про себя расскажу.
Д е л ь м а с. Одну минутку. Я спрячусь за ширму. Антракт будет длинный, но мне же надо успеть переодеться. А вы можете рассказывать. Я спряталась. Рассказывайте.
Б л о к. Я всегда влюблялся в актрис. Мама надо мной смеялась. Если я не влюблялся, значит, что-то не то. Был в Москве у Станиславского, и мы говорили с ним о Гзовской. Она должна была играть Изору в моей пьесе «Роза и крест».
Д е л ь м а с
(за ширмой). Чудесная актриса.
Б л о к. Говорят.
Д е л ь м а с. Но влюбиться не могли?
Б л о к. Да. Со мной это редко бывает.
(Смеется.) Но дело не в этом.
Д е л ь м а с. А в чем же?
Б л о к. Пьесу не поставят, я почти уверен. Именно потому, что мне это так важно и так хочется. Все знают, как ко мне относится Мейерхольд. Он поставил «Балаганчик», «Незнакомку», он любит мои драмы, и эту хочет поставить. А я, представьте себе, прилепился к Станиславскому. Не удивляйтесь, не удивляйтесь…
Д е л ь м а с
(за ширмой). Почему вы думаете, что я удивляюсь?
Б л о к. Я как будто вижу ваше лицо. Закрою глаза и вижу. Вот, слушайте. Меня буквально потрясли «Три сестры» в Художественном театре.
Д е л ь м а с. Меня тоже.
Б л о к. Еще бы! Психологическая правда и глубина этого спектакля были для меня открытием, нет — судьей! Я пишу туманно, расплывчато, борюсь с этим. И мне нужен только Станиславский, хотя он очень сдержанно и путаясь рассуждает о моей пьесе. А все равно мне нужен только он, и Мейерхольду я не отдам. Вы знаете, о чем пьеса?
Д е л ь м а с. Нет.
Б л о к. Так и не поставят. Никогда. Это трагедия о любви на узкой вершине, стоящей между двумя обрывами.
Д е л ь м а с
(испуганно). Что?
Б л о к. Между двумя обрывами: любовью ангельской и любовью животной. Один герой — любовь ангельская, а другой — животная. А между ними — третий. Это — художник. Ну, как бы вам сказать? За его человеческим обликом сквозит все время нечто другое, он, как бы объяснить, прозрачен, что ли, и живет словно бы, как выразилась одна знакомая девушка, в стеклянном доме. Знаете, даже внешность его прозрачна. Весь он серо-синий, шатаемый ветром…
Дельмас вышла из-за ширмы. Сейчас она в черном.
(Он смотрит на нее.) Но почему, собственно, я вам об этом говорю?
Д е л ь м а с. Потому что я вас понимаю.
(Села перед зеркалом. Гримируется.) Не верите?
Б л о к. Нужно отвечать? Мама давно заметила, что только вы приводите меня в равновесие. Возвращаете к жизни. А она совсем не поощряла моей влюбчивости. Напротив, напротив. А вас она любит.
Д е л ь м а с. Я ее тоже. Не смотрите, сейчас я буду подрисовывать глаза и ресницы.
Б л о к. Мне иногда кажется, что у вас с ней сговор. По крайней мере, так казалось, когда вы гостили у нас в Шахматове.
Д е л ь м а с
(смеется). Никакого сговора не было.
Б л о к. Молчаливый.
Д е л ь м а с. А может быть. Но ведь мы совсем по-разному к вам относимся.
Б л о к. Да, разумеется.
Д е л ь м а с. Но где-то, иногда, вдруг — одинаково.
(Улыбнулась.)
Б л о к. Я встретил вас в черные для себя дни. Это было великолепно, когда я впервые увидел вас в Кармен.
Д е л ь м а с
(положив голову на ладони и смотря на него).
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы!..
Б л о к. Может быть, и потрясло потому, что нервы притупились от виденного и слышанного. Кругом — одичание. Другого слова не подберу. Культуру заменили Вербицкая и Игорь Северянин. И растет, растет небывало воссияние чиновных вельмож! А война безнадежно проиграна. Моя бедная Люба права. Я стал невозможен. Разве можно вынести человека с такой беспросветной угрюмостью?.. Но почему, собственно, я вам об этом говорю?
Д е л ь м а с. Потому, что я вам верю. Это ужасно, но это так.
Б л о к. Кажется, ни с кем я так много не говорю, как с вами. Однажды, рассердившись, Люба сказала: «Если ты мужчина, выйди на улицу, найди веревочку, дерни ее и переверни весь мир». Я слаб, но я не безрадостен. О нет! Если вы так думаете, значит, тоже ничего не поняли. Что бы я стоил, если бы было так!
(Понизив голос и даже с какой-то таинственностью.) Ведь я-то знаю, всеми чувствами, всеми нервами, что за этой черной, непроглядной слякотью загорается что-то другое, как чудо! Слышите, может быть, именно потому, что сейчас такое духовное одичание, именно потому, что такое торжество свинства и тупости, именно потому — предстоит великое возрождение, — сдвиг всех сил! Вам кажется, я сумасшедший?
Д е л ь м а с. Нет. Но мне хочется погладить вас по голове.
За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен, —
Пусть эта мысль предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!
Б л о к
(улыбнулся). Сговор, я же сказал — сговор!..
(И закрыл голову руками.) Скажу вам как на духу — поймите меня правильно, — ужас в том, что где-то на дне у меня сидит… Распутин. Не делайте испуганных глаз. Вам не угрожает исповедь блудного сына. Это гораздо страшнее. Он сидит во мне, так же растлевающе гнездясь, как сидит в России и точит ее. Страшный старец. Распутин. Да разве только он? Все они — живые и убитые — дети моего века, бедные, изломанные, исковерканные люди, — все они тоже во мне.
Д е л ь м а с. Я это знаю.
Б л о к
(горячо). Мутное, петроградское небо, дымные тучи в крови, отравленный пар с галицийских полей, эшелоны, взвод за взводом, штык за штыком, пинские болота, и дождь, и дождь, и желтые окна соседнего дома — по вечерам, по вечерам, и распахнутые ворота, откуда выходят серые, серые, сгорбленные люди. И молчание, которое нависает грозно!.. Что вы смотрите на меня, не удивляясь, а только смотрите? Что я, что я? И почему — знаете?
Д е л ь м а с. Потому что… может быть… я люблю вас?..
Громкий стук в дверь.
Голос за дверью: «Госпожа Дельмас! На сцену!»
Слышно, как оркестр уже начал вступление к следующему акту.
Д е л ь м а с. Ой, у меня потекли глаза! Вот до чего вы меня довели…
(Быстро поправляет ресницы, воткнула большой гребень, встает — теперь она Кармен! — и, пробуя, щелкает кастаньетами, искрометно бросив взгляд на себя в зеркало, поведя плечом и обжегши его взглядом, выходит. Издали звучащий оркестр словно подхватывает ее выход.)
Б л о к.
…Но надо плакать, петь, итти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути…
Голос его заглушает бравая ария Эскамильо: «Тореадор, смелее в бой! Тореадор, Тореадор!..» Свет гаснет. Постепенно освещается просцениум, тишина, и Блока уже нет.
ИНТЕРМЕДИЯ «КАНАТОХОДЦЫ»
В полусумраке маячит П ь е р о в белом балахоне с гитарой, а в другом конце сцены появляется П а я ц.
П ь е р о
(бренчит на гитаре, напевая).
Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган…
П а я ц
(меланхолически делает сальто). Алле-ап!
Узкий лучик падает на пол, протянувшись световой дорожкой, как воображаемая проволока. Из-за кулисы появляется 1-й к а н а т о х о д е ц, гладкорозовый старичок, в котором без труда можно узнать П и с а т е л я в б о б р а х — та же грива волос и так же вытарчивает длинный нос. Он движется по лучику, иногда не совсем уверенно балансируя. Из противоположной кулисы показывается 2-й к а н а т о х о д е ц — К р и т и к, з н а ю щ и й т о л к в т о м, ч т о н у ж н о. Это бледноресницый молодой человек с детским подбородком. И ежели приглядеться, то оба они, оказывается, участвовали в «Балаганчике», заседая в качестве мистиков. Теперь же все происходит как в цирке.
П и с а т е л ь
(балансируя на лучике). Почему вы такой веселый-веселый, Кориолан Игнатьич?
К р и т и к
(движется навстречу, тоже балансируя). А я всегда веселый, Веньямин Веньяминович. Ха-ха-ха.
П и с а т е л ь. Ха-ха-ха. В портфеле густо, в журнале пусто?
К р и т и к. Ха-ха! Не унываем! А вы, я вижу, кое-что припасли?
П и с а т е л ь. Живем с того, что пишем. Ха-ха! Ха-ха!
К р и т и к. Ха-ха-ха!
П и с а т е л ь. Пишем, — значит, не умираем. Ха!
К р и т и к
(опасно балансируя портфелем). Проявляю интерес.
П и с а т е л ь. Увы! Не роман, не повесть, не документальная проза…
К р и т и к. О вечный ужас! Неужели — пьеса?
П и с а т е л ь. Я не сошел с ума.
К р и т и к. Исследование, мемуар?
П и с а т е л ь. Нечто вроде.
К р и т и к. О ком же?
П и с а т е л ь
(с трудом удерживая баланс). Вы подаете знак! О Блоке.
К р и т и к
(чуть не падает). Н-да… Но… ведь было, было… Впрочем…
(Быстро делает несколько шажков вперед и останавливается.) Что? Дата на носу? Когда? Не ошибаюсь?
П и с а т е л ь. При чем тут дата? Я не юбилейщик! Речь о ком? Речь о поэте, который…
К р и т и к. Который, который…
(Утверждаясь прочно.) Не поэт важен, а что из него проистекает.
П и с а т е л ь. Извольте, уточню. Блок и Февраль. Блок и Октябрь.
К р и т и к. Осторожно, вы сейчас упадете. Сколько мне известно, он сразу после Февральской революции…
П и с а т е л ь. Совершенно верно. Был привлечен к редактированию стенографических допросов бывших царских министров…
К р и т и к
(нахмурившись). Доносы?
П и с а т е л ь. Не доносы, а допросы.
К р и т и к. Вот это хорошо.
П и с а т е л ь. Редактируя эти допросы, Александр Александрович с интересом вникал в тайны царского режима. Но между прочим, в этих его тетрадочках, где он отмечал свои впечатления, попадаются записи, так сказать, личного, интимного характера…
К р и т и к. Поэт всегда путаник. Не надо этого забывать. Все должно быть ясно, как дважды два четыре.
П и с а т е л ь. Не все же так! Тут дело посложней! Я был его первейшим другом. Что? Что? Он для меня как открытая книга! Эх, молодость! Сколь часто блуждали мы с ним по злачным местам Санкт-Петербурга, просыпаясь утром в опустевшей ресторации Сестрорецкого вокзала…
К р и т и к. Не надо.
П и с а т е л ь
(озлившись). Полагаю, что моя опытность не позволит мне перешагнуть границы. Давайте спрыгнем с этой узкой стежки. Вот так!
Оба спрыгнули.
Упор будет сделан на социальное, политическое. И тут раскрывается прелюбопытная картина…
(Судорожно роется в портфеле.)
П ь е р о
(напевает).
Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Вам стало больно и светло…
П а я ц
(делает свое печальное сальто). Алле-ап!
П и с а т е л ь
(извлек из портфеля то, что нужно, и — бодро). Итак — февраль! Вот что он пишет. Цитирую: «Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищеных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса». Заметьте, эти записи почти все время прерываются темой о Любе, о Любовь Дмитриевне, о своей подруге до конца дней. «Разговор с Любой», «В перерывах был с Любой», «Проводил Любу на вокзал». В этико-моральном смысле не своевременно ли подчеркнуть? Правда, в одном месте, после «как хорошо», он вдруг записывает: «Ночью бледная Дельмас дала мне на улице три розы, взятые ею после концерта, где пела она свою Карменситу».
К р и т и к. Не надо.
П и с а т е л ь. А я, между прочим, на этом и не собираюсь останавливаться. Но вот что ценно. Именно в эти дни он переписывает в ту же тетрадочку, заметьте, не только цыганщину, но и самые пошлые романсики того времени! «Забыты нежные лобзанья»…
К р и т и к. Не надо.
П и с а т е л ь. Но это же факт!
К р и т и к. Напишем в Ленинград, посоветуемся с Иерихоном Иерихоновичем. Он разъяснит, что факт, а что не факт. Я умываю руки.
П и с а т е л ь
(обиделся). Пожалуйста! Хоть самому Иерихон Иерихоновичу. Но я, лично знавший Сашуру, могу подтвердить, что эти дни Временного правительства он уже называл реакцией.
(Понизив голос.) Феноменальная догадка! Переписывая романсики, он именно этим выражал свое презрение к либеральной болтовне Керенского. Что? Чуете? Какая мысль! Поражены?.. Мы были рядышком, и я, понимая не меньше его…
К р и т и к. Вы?
П и с а т е л ь. Что, что? Да, были у меня некоторые блуждания. Но у кого их тогда не было? Даже у Горького…
К р и т и к
(с неприятностью в голосе). Оставим в покое Алексея Максимовича.
П и с а т е л ь. А я о нем и не пишу. Натурально, был с ним знаком, а не пишу. А вот о Саше, простите, хочет Иерихон Иерихонович или не хочет, а пишу, и мне известно чуть поболее, чем ему! Итак, предоктябрьское лето. Как в медиумическом трансе, поэт слышит…
К р и т и к. Ничего медиумического.
П и с а т е л ь. Однако, мой дорогой, я соблюдаю дух эпохи…
К р и т и к. Не надо.
П и с а т е л ь. Но если тема моя «Блок в Октябре» и если, наконец, я выступаю как живой свидетель…
К р и т и к. Не надо.
П и с а т е л ь
(совсем обиделся). Извольте, для широты картины я буду опираться не только на свои воспоминания, но и на воспоминания других. Зинаида Гиппиус, впоследствии подлая эмигрантка, рассказывает о своем телефонном разговоре с ним. Она пригласила его участвовать в антибольшевистской газете. Тогда еще выходили антибольшевистские газеты. Сашка отказался. В доме Мережковских взвизгнули: «Да не с большевиками ли вы?» — «Если хотите, — ответил он, — то скорее с большевиками».
К р и т и к
(задумался). Это вы цитируете по книжке, которая вышла т а м?
П и с а т е л ь. Но в этом-то как раз весь эффект!
К р и т и к. Не надо.
П и с а т е л ь. Что, что? А мои воспоминания о тогда еще подозрительном Шаляпине — какой имели успех? И кто-то умывал руки?..
(Напевая.) «На сердце гнет немых страданий, счастливых дней не воротить…»
К р и т и к
(сдался). Бессмертны вы. Заходите в редакцию. Посоветуемся с народом.
П и с а т е л ь (прощаясь). Можете на меня положиться.
К р и т и к
(смеется). Какие у вас нежные ручки, Веньямин Веньяминович…
П и с а т е л ь. Рук не исправишь, хоть топором руби, Кориолан Игнатьич.
К р и т и к. Восхитительные ручки.
Расходятся в разные стороны.
П и с а т е л ь. Тертый калач, а без году неделя.
К р и т и к. Тертый калач, а пора бы и о душе подумать.
П ь е р о
(бренчит на гитаре).
В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.
П а я ц. Алле-ап!
И оба исчезают, растворяются в темноте. Интермедия кончилась. По просцениуму силуэтами проходят д в е н а д ц а т ь к р а с н о г в а р д е й ц е в с винтовками. И когда они скрываются и затихает их громоздкий шаг, тотчас освещается круг — квартира Б л о к а.
Стоя, он разговаривает по телефону. За столом сидит Е в г е н и й П а в л о в и ч И в а н о в, тот самый рыжебородый литератор, друг Блока, который появлялся в полуфантастической крылатке в метельную ночь. Сейчас он в заношенном френчике. Называть мы его будем по-прежнему — Женей. Он разбирает бумаги.
Б л о к
(в телефон). Продолжаю отвечать на вашу анкету. Вы спрашиваете: «Что сейчас делать?» Этот вопрос, обращенный к интеллигенции, которая до сих пор растеряна, более чем уместен. Но так как «слова писателя суть его дела», позволю себе ответить не вообще «что делать», а что делать сейчас художнику. Первое. Художнику надлежит знать, что той России, которая была, — нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет! То и другое явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Т а цивилизация, т а государственность, т а религия — умерли. Второе. Художнику надлежит пылать гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. Для того, чтобы этот гнев не вырождался в злобу, ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи, которой никакая низкая злоба недостойна. Третье. Художнику надлежит готовиться встретить еще более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними. Все. Пожалуйста.
(Положил трубку.) Женя, надо попытаться получить дрова и какой-нибудь дополнительный паек Михаилу Кузмину. Он сидит в холоде и голодает.
Ж е н я. Саша!
Б л о к. Что?
Ж е н я. Вчера я отнес букинисту книги, которые ты отобрал…
Б л о к. Взяли?
Ж е н я. Вот деньги. На них можно выцыганить на барахолке не менее трех фунтов муки.
Б л о к. Мечта.
Ж е н я. Но ты, я вижу, новую пачку приготовил?
Б л о к. А эти книги мне и вовсе не нужны.
Ж е н я. Так, так. Значит, совсем плохо?
Б л о к. Не выдумывай. Получше, чем у тебя.
Ж е н я. У меня все-таки обстоятельная семья.
Б л о к. А у меня Люба получает за концерты продуктами. И, кроме того, у меня паек. Вот только за стеной вселили мещанина-буржуя. Ужасно раздражает. Послушай, а как помочь Ремизову? Может, провести его в Союз поэтов?
Ж е н я. Но он же не поэт.
Б л о к. Неважно. Он поэт больше, чем кто-нибудь.
Ж е н я. Боюсь, мы опоздали, Саша. Ты же знаешь, против тебя ополчились в союзе, сменили правление. Там полно дельцов и шушеры. В союзе не выйдет.
Б л о к. А если хороший писатель голодает? Как же быть?
Ж е н я. Попробую зайти в Петросовет.
Б л о к. Пожалуй, лучше зайду я сам.
Ж е н я. У тебя и без того хлопот.
Б л о к. Ох, да. А ведь мне и за это многие не подают руки — из тех, с кем прошла моя юность, да нет, едва ли не вся жизнь. Считают меня чуть ли не комиссаром из Москвы.
Ж е н я
(нахмурившись). Ты не один, Саша.
Б л о к. Конечно, конечно.
Ж е н я. Не отмахивайся. Вот — Ахматова написала:
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб речью этой недостойной
Не осквернился скорбный дух.
Б л о к. А разве она могла написать иначе? Она поэт. Ах, друг Женя, ты помнишь, я ведь плакал, когда узнал, что дом наш в моем милом Шахматове сожгли, библиотеку тоже — сожгли или растащили… Защемило сердце. Но ведь это пылинка в сравнении с тем, что происходит вокруг. Разве не так? Разве могло быть иначе? И вот я думаю: человеческая совесть побуждает искать лучшего и помогает отказываться от старого, уютного — в пользу нового, сначала неуютного и немилого, но обещающего свежую жизнь. И все-таки… как бы тебе сказать… Под игом малейшего насилия над собой совесть моя умолкает. И чем наглей это насилие, тем больше совесть моя умолкает. Пойми меня правильно. Тогда совесть моя замыкается в старом. Ужасно. Этому надо сопротивляться, иначе — слепота, бессилие, конец.
Резкий нетерпеливый звонок, и через секунду врывается А н д р е й Б е л ы й. Он в ермолке, из-под которой выбиваются седые, клочковатые волосы.
Б е л ы й. Я только что из Москвы. Прямо к тебе. Меня вызвали в Дом искусств. Буду читать доклад. В Москве, в Пролеткульте, уже читал. Открылось, прозрел, понял, закончил. Не перебивай. Недавно закончил «Глоссолалию». Трактат о звуке как жесте утраченного содержания. Это, если хочешь, звуковая поэма. Критиковать меня научно совершенно бессмысленно. Я проникаю в тайны языка, в глубины его, где нет еще ни образов, ни понятий…
Б л о к. Подожди. Ответь толком, как ты живешь. Писем от тебя давно нет, мы беспокоимся.
Б е л ы й. Кто… кто беспокоится?
Б л о к. Мы. Я и Люба.
Б е л ы й. А, да… да, да… Как живу? То есть — как живу?.. Голодная подагра, как бывает сытая.
(Подскочил и завертелся, как ужаленный.) У меня нет комнаты! Я — писатель земли русской, а у меня нет камня, где бы я мог приклонить голову… Я написал «Петербург»! Я предвидел крушение царской России, я видел во сне конец царя в тысяча девятьсот пятом году!.. Я не могу писать. Это позор! Я должен стоять в очереди за воблой!
Б л о к. Успокойся. Петр Семенович написал мне, что он устроит тебе комнату, и ты будешь получать паек в Доме ученых и где-то еще, кажется, на Поварской, на курсах у Брюсова. Вчера Горький подтвердил мне это.
Б е л ы й. А! Горький! Брюсов!.. А если я — человек? Если я — не дух? Если я хочу есть? Я — пролетарий! Люмпен-пролетарий! Вот, вот! На мне ничего нет. У меня ничего нет! На мне лохмотья! Меня хотят уморить, как и тебя…
Б л о к. Меня не хотят уморить.
Б е л ы й. На моих лекциях битком набито. Какие-то люди в сапожищах, в вонючих шинелях, какие-то смертеподобные девицы. Странно, странно, странно. Слушают — муха не пролетит. Закидывают вопросами. А я падаю от голода. Сумасшедший дом. Что это? Я буду кричать, пока меня не услышат!.. А!.. а… а…
Б л о к
(как можно более спокойно). Мы вот что сделаем, Боря. Ты останешься у меня ночевать. У Любы, наверно, что-нибудь найдется. Нет, правда. Есть хлеб из муки грубого
помола. Пахнет — как в детстве.
Б е л ы й. Хлеб?.. Нет. Ни за что. Оставь, оставь.
Б л о к. Ну, хорошо. Женя проводит тебя в Дом искусств. Там, в Обезьяннике, есть свободные комнаты. А завтра с утра я зайду к тебе. Согласен?
Б е л ы й. Допустим, допустим.
(Вдруг.) А, Евгений Павлович! Здравствуйте.
(Блоку.) Непостижимо! Когда я был в Берлине, я думал именно об этом: пахнет, как в детстве. Но ты бы знал, как я — ехал. Трое суток. Из Москвы — трое суток! Свалка людей, махорка, ругань, мешки. Я едва не задохнулся. Да вот, слушай. Из поэмы. Новой.
(Не танцует, как раньше, хотя с не меньшей экзальтацией.) Россия!.. Страна моя… Ты — та самая… облеченная Солнцем Жена… Вижу явственно я… Россия! Моя богоносица… побеждающая змия… И что-то в горле… у меня… сжимается от умиления…
(Смотрит на Блока, словно бы приходя в себя.) Саша… Я рад, я рад, что ты есть! Ты есть! И ты здоров!
Б л о к. Как видишь — здоров.
Б е л ы й. Как счастлив я!
Б л о к. Ну что ты, Боря…
Б е л ы й
(бросился к нему). Вот… вот… Все-таки — не чужие?
(Обнялись.) Удивительно на душе!.. Как ты сказал? В «Обезьяннике»?
Б л о к. В шутку так называют один из коридоров в общежитии Дома искусств.
Б е л ы й. Обезьянник? В бывшем елисеевском особняке? Понял, понял. Я за большевиков. До завтра.
(Жене, с изысканным поклоном.) И вас не затруднит меня проводить?
Ж е н я. Нисколько. Мне и самому туда надо.
Б л о к. Женя, положи бумаги на место. Сейчас в доме должен быть абсолютный порядок. На улице — хаос, в доме — порядок.
Ж е н я
(аккуратно складывает бумаги и прихватывает стопку книг). Это брать?
Б л о к. Если тебя не затруднит.
Ж е н я. Ну что ты. Пойдемте, Борис Николаевич.
Б е л ы й. Да, да, да. Я помню елисеевскую столовую. В ней были на окнах витражи с рыцарями, ландскнехтами, девами. Чтобы закрыть искусством трущобы гнусного петербургского двора.
(В экзальтации.)
В прежней бездне
Безверия
Мы —
Не понимая,
Что именно в эти дни и часы —
Совершается
Мировая
Мистерия.
(Блоку.) Саша, помнишь нашу молодость? Мою молодость! Каменоломня слов!.. А мою книжку «Золото в лазури», помнишь?
(Негромко, словно самому себе.)
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел…
В Обезьянник! В Обезьянник!
(Быстро вышел, за ним — Женя.)
Стемнело. Зажжена настольная лампа. Блок склонился над рукописью, пишет. Входит Л ю б а.
Л ю б а. Опять будешь не спать всю ночь?
Блок молча кивнул.
Так нельзя. Ты доведешь себя бог знает до чего. Глаза воспаленные, взгляд потусторонний…
Б л о к. Но это мое время, Люба. Другого у меня нет.
Л ю б а. Еще бы! Ужас подумать! Сто комиссий, сто заседаний! Зачем это все, зачем?..
Б л о к
(не отвечает, что-то аккуратно зачеркивает и вписывает, весь ушел в работу). Так… так…
Л ю б а
(присела, сидит молча, тихо, потом начинает плакать). Я не могу больше.
Б л о к
(рассеянно). Что случилось?
Л ю б а. Понимаю, всем сейчас трудно. Вчера забежала к Олечке Глебовой-Судейкиной и застала ее за мытьем кухни. Вечером ей надо было танцевать в «Привале комедиантов», и она плакала над своими красивыми руками, покрасневшими и распухшими. Меня тоже иногда покидает мужество, когда я чищу селедки. Их запах, их противная скользкость. Стою на коленях и потрошу на толстом слое газет, на полу, а потом надо бежать на концерт. А селедки — основа. На них можно опереться. Нет, я не об этом. Все это вынесу. Но пойми, жить больше вместе с твоей мамой я не могу. Надо что-то придумать. Ты пойми. Ну пусть она считает, что я некрасива, зла, неразвита, бездарна…
Б л о к
(так же рассеянно). Она этого не считает.
Л ю б а. Не в этом дело. Перед другими она даже восхищается мной. Я не обращаю внимания. Я понимаю, она недавно из нервной санатории. Но каждый день, каждый день… Ведь у меня тоже нервы! Я в кухне готовлю, страшно тороплюсь, прибежав пешком из Народного дома с репетиции и по дороге захватив паек пуда полтора-два. Несла на спине с улицы Халтурина. Стою у плиты. Тошнит от селедок. Входит Александра Андреевна. «Люба, я хочу у деточки (то есть у тебя) убрать, где щетка?» — «В углу, на месте». — «Да, вот она. Ох, какая грязная, пыльная щетка, у тебя нет чище?» У меня уже все кипит от этой «помощи». «Нет. Вечером обещала принести Матреша». — «Ужас, ужас, — это Александра Андреевна, поводя презрительно носом. — Ты, Люба, не слышишь, как от ведра пахнет?» — «Слышу». — «Надо бы вынести». — «Я не успела». — «Ну да, все твои репетиции, все театр, дома тебе некогда». Трах — терпение мое лопается, я почти выталкиваю ее, я кричу!.. Ты слышишь, ты осуждаешь меня?..
Б л о к
(странно смотрит на нее). Люба, сегодня я — гений.
Часы глухо выбивают полночь.
Д в е н а д ц а т ь.
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!
Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко —
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!..
Л ю б а. Я, я, я буду это читать!..
Она будет читать «Двенадцать» много раз — в клубах, на эстраде, на литературных вечерах, но у нас, в нашем спектакле, поэму прочтут несколько актеров (она будет в их числе). Исчезнет квартира Блока, и на сцене, бликами освещенной, — и там, и здесь, и ближе, и в глубине сцены — они прочтут поэму (не всю, с сокращениями, но так, чтобы сохранился ее ритм и ее сюжет). Это перекрестное чтение будет контрастно, как и сама поэма, ибо тут: и грозное — ШАГ ДЕРЖИ РЕВОЛЮЦЬОННЫЙ, БЛИЗОК ВРАГ НЕУГОМОННЫЙ… КТО ЕЩЕ ТАМ? ВПЕРЕДИ? — и — СНЕГ КРУТИТ, ЛИХАЧ КРИЧИТ, ВАНЬКА С КАТЬКОЮ ЛЕТИТ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИЙ ФОНАРИК НА ОГЛОБЕЛЬКАХ… АХ, АХ, ПАДИ!.. — С ЮНКЕРЬЕМ ГУЛЯТЬ ХОДИЛА, С СОЛДАТЬЕМ ТЕПЕРЬ ПОШЛА — и снова — РЕВОЛЮЦЬОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ, НЕУГОМОННЫЙ НЕ ДРЕМЛЕТ ВРАГ… — и святотатственно, ужасно — ТОВАРИЩ, ВИНТОВКУ ДЕРЖИ, НЕ ТРУСЬ! ПАЛЬНЕМ-КА ПУЛЕЮ В СВЯТУЮ РУСЬ, В КОНДОВУЮ, В ИЗБЯНУЮ, В ТОЛСТОЗАДУЮ!.. ВПЕРЕД, ВПЕРЕД, РАБОЧИЙ НАРОД… ЭХ, ЭХ, БЕЗ КРЕСТА… ТРАХ-ТАХ-ТАХ… ТОЛЬКО ВЬЮГА ДОЛГИМ СМЕХОМ ЗАЛИВАЕТСЯ В СНЕГАХ… И вдруг, перед последнею строфой 12-й главы, возникают Б л о к и Ж е н я в крылатке, как это уже было в метельную ночь (в первом отделении). Они останавливаются, и Блок, всматриваясь, вытягивает вперед руку. Там, наверно, ветер, ветер, метель, метель…
Б л о к. Ты видел? Что это там? Какое-то светлое, мерцающее пятно! Оно неудержимо тянет к себе. Плещущие флаги? Сорванный ветром плакат? Пятно растет. Вереницей идут люди. Ветер, ветер. А дальше?.. А впереди?.. Какой-то нимб возникает… Неужели не видишь?..
Ж е н я. Там ничего нет, Саша, тебе мерещится.
Б л о к. От этого отделаться нельзя.
Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
Но почему опять этот женственный образ? Почему — он? Вспоминается другое — дедовское, простецкое: «Рубили деды сруб горючий и пели о своем Христе»…
Ж е н я. Никто не пел. Мерещится. Страшно.
И оба они исчезают. Темно, тихо. Потом возникает гул голосов. Свет — и теперь почти вся сцена раскрылась перед нами. Это — «Дом искусств» (или нечто другое, похожее и типичное, как в Питере, так и в Москве, в те годы). Непрерывная толчея. Люди, люди. Начиная от центра, тянется длинная очередь с котелками и с сумочками, с бидончиками и банками. Некоторые проходят с мисками и тарелками, уже наполненными кашицею. Кто-то кушает стоя или на ходу. П о э т ы, п о э т и к и, п о э т е с с ы, п о э т е с с и к и, л и т е р а т о р ы, убеленные сединами, с т а р у ш к и и совершенные ю н ц ы, некоторые в полувоенном, в красноармейском, и очень много порхающих, оживленных д е в и ц.
Р а з г о в о р ы в о ч е р е д и. Вы здесь хвоститесь?
— За мною Михаил Кузмин.
— Этой поэмой он плюнул в лицо самому себе, а не нам.
— Интеллигентному человеку читать «Двенадцать» так же неприлично, как читать, простите, Маяковского.
— Что сегодня?
— Пшенная.
— О господи! Опять пшенная!
— Благодарите бога, что не ячневая со жмыхом.
— Чему, чему мы отдавали жизнь, помыслы, мечты?
— Читайте господина Блока!
Торжественно проходит П о э т в рваных солдатских обмотках и во френче из бильярдного сукна, держа миску с кашей. Вокруг него вьется стайка девиц.
П о э т в о б м о т к а х
(притворяясь изысканным).
Когда я кончу наконец
Игру в каш-каш со смертью хмурой,
То сделает меня творец
Персидскою миниатюрой.
И небо, точно бирюза.
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей…
В о ч е р е д и. Вы не скажете, а мне дадут кроме моей собственной порции порцию Михаила Леонидовича Лозинского? Он мне поручил.
— Получают только лично и по талонам.
Появляется Д е в и ц а с б а н т о м. Вокруг нее п о д р у г и. У всех миски с кашей. Они едят на ходу.
Д е в и ц а с б а н т о м.
В те времена дворянских привилегий
Уже не уважали санкюлоты.
Какие-то разбойники и воры
Прикладом раздробили двери спальни
И увезли меня в Консьержери…
В о ч е р е д и. Форменное стиховое умопомешательство!
— Голоду, знаете ли, всегда сопутствует тиф, отсутствие спичек и устная поэзия.
— И за кашицею потерянная честь!
— Совершенно верно.
Снова появляются д е в и ц ы, уже с пустыми мисочками, тщательно их вылизывая, и о чем-то шепчутся, хихикают.
Д е в и ц а с б а н т о м.
Для двадцатидвухлетнего повесы
Невыгодно знакомство с гильотиной,
И я уже припомнил «Патер ностер»,
Но дочь тюремщика за пять червонцев
И поцелуй — мне уронила ключ…
Купцом, ветеринаром и аббатом
Я странствовал. Ниспровергал в тавернах…
Ушли в глубину сцены.
С т а р у ш к а
(вбегая, взволнованно). Где-то выдают талоны! Где выдают талоны?
В о ч е р е д и. Вы с ума сошли! Куда вы идете? Там завершаются занятия литературной «стюдии»!
Слышен разбойный свист. Старушка мечется.
П и с а т е л ь в о б л е з л ы х б о б р а х. Диспут подходит к концу. Утверждаю, без городового русской литературе не обойтись.
Появляется И м а ж и н и с т — напомаженный пробор посередине, в руках цилиндр.
И м а ж и н и с т
(проходя и обрастая девицами).
Вижу, женщина над тротуаром юбками прыс-нула,
И калитка искачалась в матчише.
Вижу, женщина руки в муфту втис-нула,
И муфта ничего не слышит.
Слушай, муфта! Руки я свои порочные
На молитву вознесу.
Не позволю трубы водосточные
Резать вам на колбасу!
(Повернувшись к очереди.) В истории отметится особо, что в Москве неозаумник и филолог Некий провозгласил анафему заумнику Крученых: «Траклен-тракли-баба́, та́ба, дзи́н гитара, дли́нга, ди́нга, Калужа!..»
(Надел цилиндр и вышел.)
В очереди. Ну, знаете, это уже полный маразм.
— Не скажите. В нем что-то есть. Это московский имажинист.
— У нас в Питере, по крайней мере, сохранилась хоть видимость царскосельского изящества, а там…
— Во всех случаях предпочту любую нахальную версификацию политическому предательству.
— Совершенно справедливо.
— Я выйду на секунду. Запомните, я за вами.
— Сделайте одолжение, мадам, прошу.
— Все шумят — Блок, Блок! А вот Андрей Белый, знаете ли, тоже хорош — читает лекции в Пролеткульте!
П и с а т е л ь в о б л е з л ы х б о б р а х. Сумасшедший остается сумасшедшим. А вашему Блоку я лично руки не подаю. Демонстративно отворачиваюсь, когда он входит.
В о ч е р е д и. Совершенно логично. Я тоже не подам ему руки как гражданину, но считаю возможным поздороваться с ним как с человеком.
— Вот-вот-вот! Наши вечные интеллигентские нюансы!
— Он истерик! Я всегда говорила, что он истерик. Но я уверена, он одумается и напишет «Антидвенадцать». Время заставит его понять и сделать это.
П и с а т е л ь в о б л е з л ы х б о б р а х. Но простим ли мы? Кому из нас не ясно, что все это временно? Мы увидим еще сияющие фонари на Невском! Мы еще будем завтракать у Альбе́ра, мы еще будем ездить бриться к Молле́, мы еще…
С т а р у ш к а. Святой Георгий, я всю жизнь преклонялась перед Блоком. Ведь он женат на Менделеевой!
В о ч е р е д и. Зинаида Гиппиус ловко его отделала:
Впереди 12-ти не шел Христос,
Так мне сказали сами хамы,
Но зато в Кронштадте пьяный матрос
Танцевал польку с Прекрасной дамой…
— Совершенно изумительно.
— Но, говорят, он будет читать реферат о Пушкине!
П и с а т е л ь в о б л е з л ы х б о б р а х
(взрываясь от гнева). Что?
Пальнем-ка пулею в Святую Русь!
Эх, эх, без креста!
Так, что ли?
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи?..
Революцьонный держите шаг?..
Нет уж, извините, я не желаю слушать речь большевика о Пушкине! Сыт по горло!..
Но тут совсем рядом забарабанили на расстроенном рояле — из Гуно, из «Фауста». Какие-то парочки тотчас начали вертеть вальс. И поднялось несуразнейшее веселие! Гремел голос Н и ч е в о к а. ТРАКЛЕН ТРАКЛИ-БАБА, ТАБА, ДЗИНЬ ГИТАРА, ДЛИНГА, ДЗИНГА, ДИНГА, ГОМЕРОМ СРАЗУ СРАЗИТЬ ХОЧЕТ В ПРОЛЕГОМЕНАХ НОЧИ… И вперемешку: НИСПРОВЕРГАЛ В ТАВЕРНАХ ВЫСОКОМЕРИЕ ЛУИ КАПЕТА, В ТЕ ВРЕМЕНА ЕЩЕ ВСЕ ЗНАЛИ МИРАБО… А потом И м а ж и н и с т в цилиндре: КРОВЬ, КРОВЬ, КРОВЬ В МИРУ ХЛЕЩЕТ, КАК ВОДА В БАНЕ ИЗ ПЕРЕВЕРНУТОЙ ЛОХАНИ… И вперемешку: ПЕРЕШАГНИ, ПЕРЕСТУПИ, ПЕРЕ… ЧТО ХОЧЕШЬ!.. И вальс все громче и ужаснее. Крутятся д е в и ц ы с п о э т а м и разных и вычурных мастей. Завихрилось вокруг, сбивая степенную очередь за кашицею…
В этот момент входит Б л о к.
Все сразу оборвалось и смолкло. Д е в и ц а с б а н т о м, взлетевшая в небо на руках П о э т а в о б м о т к а х, застыла в восхищении: «Блок!» Прокатился шепот: «Блок, Блок!..» Но большинство в очереди, тотчас сомкнувшись, демонстративно повернулось к нему спиной. Шепот замер. Спины, спины.
Б л о к
(танцующим). Послушайте, я обращаюсь к вам, неужели вас ничего, кроме этого, не интересует?
И м а ж и н и с т. Чего — этого?
Б л о к
(нахмурившись). Стихов. Танцев.
О д н а и з д е в и ц. Здесь холодно, вот мы и танцуем, чтобы согреться.
П о э т в о б м о т к а х
(сбросив Девицу с бантом на пол). Ха! А может, есть и такие, кому абсолютно негде ночевать? И кроме того…
(веселясь).
Уж взбухнувшие треснули
И развалились башмаки!..
Д е в и ц а с б а н т о м. Стихи, стихи, стихи! Ничего, кроме стихов, нас не интересует!
В т о р а я д е в и ц а. Ничего, кроме стихов!
И м а ж и н и с т
(Блоку). Вас удивляет? Нас влечет к себе образ вне всякого смысла: как таковой.
Б л о к. Простите, не понял?
И м а ж и н и с т. Вы устарели, Александр Александрович, не пугайтесь. Еще в начале восемнадцатого мы прокричали: «Кровью плюем зазорно богу в юродивый взор…»
Д е в и ц а с б а н т о м
(продолжая). «…Сам попригрел периной мужицкий топор…»
В т о р а я д е в и ц а
(восторженно).
Метлами ветру будет
Говядину чью подместь.
В этой черепов груде
Наша красная месть!..
Б л о к. Ради бога, не надо. Кощунство это.
И м а ж и н и с т. Но зато абсолютно в стиле эпохи. Освободитесь от идей. Они напрасны.
Т р е т ь я д е в и ц а. Мы ничевоки! Да здравствует пустота!
И м а ж и н и с т. Слышите, Александр Александрович! Устами младенца глаголет истина! Устарели ваши астральные дамы, полувидения, полутени, полуужасы. Они, как бумеранг, придавили вас самого!
О д н а и з д е в и ц. Блок! Вы душка!
И м а ж и н и с т. Как видите, вас еще обожают, но после вас уже проветривают комнаты.
П о э т в о б м о т к а х
(торжествующе декламирует). Отчего я такой органный, величественный, простой и радостный?..
(Обхватив двух девиц.) О женщины! Двухсполовиноаршинные куклы! Хохочущие, бугристотелые, носящие весело-желтые распашонки и матовые висюльки-серьги, любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки… О, как меня волнуют такие женщины!..
Спины, спины, спины. Они надвинулись на Блока и уж то-то пришли в движение, восстанавливая наконец нарушенную очередь! В глубине сцены снова начинается вальс, но уже тихий, под сурдинку. Музыка катится. Танцуют.
Б л о к. Мертвецы! Они разговаривают со мной, как с того света… Да… Да, да… Юность — это возмездие.
Все происходящее словно бы расплывается, исчезает — полутени, полувидения…
И вот вселили ко мне буржуя-мещанина. Откуда? Как уцелел?.. Уцелел, уцелел! Поднимает голову!.. И я сталкиваюсь с ним в коридоре, на лестнице, в кухне, у отхожего места, и он кружится всюду, наступает, лезет… Едва поднял голову, а уже заполняет собой все живое пространство… Мне мерзко, мне душно… Но все равно через весь этот торжествующий поток бесшабашных, безбожных слов, через всю эту муть — вижу, знаю и верю, потому что…
Сцена гаснет, но голос его еще слышен. И когда снова вспыхивает луч прожектора, то уже высвечивает только одного Блока. Он другой! Он светел лицом, как никогда. И первые же его слова звучат с такой чистотой и такой неприподнятой, естественной возвышенностью, как может прозвучать Моцарт после всех ужасающих дисгармоний. В абсолютной тишине говорит он, как бы продолжая:
Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта — не легкая и не веселая: она трагическая.
Луч прожектора притемняется и через секунду опять фиксирует лицо Блока.
Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы… Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорил Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» и прочее. Однако дело поэта совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные; его дело — историческое. Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. «Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…»
Луч погас.
Г о л о с и з т е м н о т ы. Нечего прикрываться Пушкиным! Позор!
Е щ е г о л о с. Ти-ше! Ти-ше!
Тишина воцарилась сразу. Прожектор снова высветил лицо Блока, но некоторое время он молчит.
Б л о к. Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы», как сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха.
Свет резко выключен, постепенно загораясь у рампы.
Появляется Р е ж и с с е р.
Р е ж и с с е р. Эту свою сокровенную речь он произнес за полгода до смерти, одиннадцатого февраля тысяча девятьсот двадцать первого года в Петроградском Доме литераторов. Некоторые ученые по литературной части писали, что наступило-де в ту пору у него затемнение разума. Эка ведь, затемнение! Я видел, как, несмотря ни на что, несмотря на всех его поносителей, гром оваций потряс зал! Но он ушел с эстрады, никому не поклонившись… А летом, в Москве, состоялось его последнее публичное выступление. Мне не пришлось его слышать, но я знаю, он был тогда уже совсем слаб. Тут уж ничего не скажешь: его душа темнела, это правда — томили предчувствия…
Режиссер ушел, и если задержался, то лишь на секунду, чтобы удостовериться — все в порядке и можно продолжать спектакль.
Осветился круг — квартира Блока. Б л о к проходит одну комнату и входит в свою. Он в халате, идет, поддерживаемый Л ю б о й. Лег на диван и не сразу продолжает рассказывать.
Б л о к. А в Москве, за Ходынкой, рвались снаряды на Артиллерийских складах. Было душно и тревожно. Я выступал в Политехническом, читал: «Все, что память сберечь старается», «Русь моя, жена моя», «Голос из хора», а хотелось читать… знаешь что? «Последнее напутствие»:
Боль проходит понемногу,
Не на век она дана.
Есть конец мятежным стонам,
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.
Ты слушаешь?
(Гладит ее по руке.)
Лесть, коварство, слава, злато —
Мимо, мимо навсегда…
Человеческая тупость
Все, что мучило когда-то,
Забавляло иногда…
И опять — коварство, слава,
Злато, лесть, всему венец —
Человеческая глупость
Безысходна, величава,
Бесконечна… Что ж, конец?
Нет!.. Еще леса, поляны,
И проселки, и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе…
Народу было много. Читал я плохо. Что-то сжимало в горле. Но, знаешь, было очень тихо, так что, наверно, все слышали… Я думаю, Люба, в Москве меня не совсем забыли. Нет, правда…
(Занервничал.) Если здесь, в Питере, мне крикнули: «Вы устарели, Александр Блок, вы устарели», то там… Кажется, после того, как я прочитал «О, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней», в минутной паузе кто-то коротко и отчетливо бросил: «Вы — труп!» Да, да, я слышал, я узнал этот голос, я знаю его, это поэт, я знаю его в лицо, я знаю его имя!..
Люба обеспокоенно склонилась над ним.
(Шепотом.) Если можно… сделай укол… чтобы уснуть… Пожалуйста…
В соседнюю комнату бесшумно вошла Д е л ь м а с с цветами. Поставила букет в вазу и опустилась на стул.
От Блока вышла Л ю б а. Они молча поцеловались.
Л ю б а. По-моему, опять начал бредить. Но сейчас, кажется, уснул.
Д е л ь м а с. Это хорошо.
Л ю б а. Ой, господи…
Обе сели. Одна с одной стороны, другая — с другой. Помолчали. Потом Люба встала.
Л ю б а. Вы простите, Люба, что я не зову вас к нему. Я думаю, его нельзя волновать.
Д е л ь м а с. Конечно, Люба, я понимаю. Идите к нему.
Л ю б а
(встревоженно). Кажется, звонят?
Д е л ь м а с. Да.
Л ю б а. Боже мой, час ночи! Кто бы это мог быть?
Д е л ь м а с. Да ну, пустяки. Я пойду открою.
Выходит и вскоре возвращается, за ней д в а в о о р у ж е н н ы х м а т р о с а.
1-й м а т р о с
(грубо). Проверка документов. Обыск.
Л ю б а. Прошу вас, тише.
1-й м а т р о с. Что?
Д е л ь м а с. Она просит тише: в доме больной.
1-й м а т р о с. Я сам простуженный. А вы кто такая?
Д е л ь м а с. Я здесь не живу. Актриса Андреева-Дельмас.
2-й м а т р о с. Непрописанным положено до часу. Арестуем до уяснения личности.
Д е л ь м а с. Но я…
1-й м а т р о с. А прописанные — кто?
Д е л ь м а с
(показав на Любу). Вот.
Л ю б а. Да, я. Любовь Дмитриевна Басаргина. Это моя артистическая фамилия.
1-й м а т р о с. Документы.
Л ю б а. Сейчас, сейчас.
2-й м а т р о с. Погодка, скажу. Нева прямо-таки бушует.
Л ю б а
(1-му матросу). Еще приехала к нам мать моего мужа Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух. А он болен.
1-й м а т р о с. Кто болен?
Л ю б а. Мой муж.
2-й м а т р о с. Знаем мы этих больных!
1-й м а т р о с. Документы!
Л ю б а. Одну минуточку, сейчас найду. Только, пожалуйста, говорите тише.
2-й м а т р о с. А ежели он привыкши на ветру кричать?
1-й м а т р о с. Удостоверение, что трудящий. Где работает? Отметка в домовом комитете?..
2-й м а т р о с. Самого давайте.
Л ю б а. Я же сказала — он болен.
1-й м а т р о с
(рассматривая документы). Блок Александр Александрович…
Возникает небольшая пауза.
2-й м а т р о с
(вглядываясь в Любу). Входную-то заперли? А то глядите, так и садит. Ведь больной?
Д е л ь м а с. Это из форточки, из кухни дует. Ему без воздуха нельзя.
1-й м а т р о с
(посмотрев на 2-го матроса, Любе). Товарищ Блок?
Л ю б а. Да. Любовь Дмитриевна. Была у вас в Кронштадте, читала «Двенадцать».
1-й м а т р о с
(опять переглянувшись со 2-м). Товарища Блока просим не беспокоить.
Д е л ь м а с. А мне — идти с вами?
2-й м а т р о с. Не для чего.
(1-му матросу, шепотом.) Кругом поворот — пошли.
Уходят, стараясь не шуметь, тихонько прикрыв за собою дверь.
Д е л ь м а с. Видите — как?
Л ю б а
(возбужденно). Они узнали меня по моему чтению в Кронштадте. Непременно расскажу ему.
Д е л ь м а с. Только сейчас не надо, пока у него жар. А я еще немножко посижу. Можно, Люба?
Л ю б а. Конечно, Люба. Я думаю, он уснул.
Люба ушла.
Дельмас опустилась на стул. На столе стоят ее цветы, и она смотрит на них.
Люба вошла в комнату Блока, подошла к дивану, на котором он лежал, и села рядом на краешек стула. Он приоткрыл глаза.
Б л о к. Это ты, Люба?
Л ю б а. Я, Саша.
Б л о к. Ну вот, опять ты. А я дремал, и мне почудились голоса.
Л ю б а. Это от соседей заходили…
Б л о к
(как бы продолжая свои мысли). Давеча опять кто-то не подал мне руки.
(Возбуждаясь.) А если бы подал? Да я бы сам показал ему спину! Ведь это о ком я писал, о ком? О них! И, может, еще недостаточно резко! О них, о них! «Что вы думали? Что революция — идиллия? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людишек, любящих нагреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И наконец, что так бескровно, так безболезненно и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью?..
Где-то в ночи короткие выстрелы, и опять все стихает.
(Некоторое время он молчит. Потом — стараясь говорить внятно.) Лунинец. Полесских железных дорог. Болота… Нет, нет, жизнь, все будет по-новому!.. Люба? Ты здесь?
Л ю б а. Да, Саша.
Б л о к
(тревожно). А рядом кто, в столовой кто? Там кто-то есть!
Л ю б а. Там никого нет.
Б л о к. А мама где?
Л ю б а. Александра Андреевна уже спит, Саша.
Б л о к. Что-то душно мне. Открой окно.
Л ю б а. Боюсь, ты простудишься. Я открыла в кухне.
Б л о к. Все-таки — душно. Ты не плачь. Я думаю, у каждого… свое… время… Люба…
(Пытается приподняться, что-то еще хочет сказать, но голова его обессиленно падает на подушку.)
Она склонилась над ним, потом медленно отошла и направилась в столовую.
Л ю б а
(в дверях, каким-то деревянным голосом, без всяких интонаций). Он уснул. Я сложила его руки на груди. Руки у него худые и желтые.
Дельмас беззвучно плачет.
Свет гаснет, постепенно возникая у рампы. Еще в полутьме безмолвно выходят на сцену а к т е р ы, участники спектакля. Они растерянно выстраиваются в шеренгу. Выбегает Р е ж и с с е р.
Р е ж и с с е р
(не обращая внимания на зрителей, актерам). Не так! Не так! Не так! Неужели вы не понимаете, что тут нужен другой финал, торжественный, величавый! Или не умеете, разучились, забыли? Но я же показывал! Ведь это о Блоке! И я повторял его слова: только то, что было исповедью художника, только то создание, в котором он сжег себя дотла, только оно продолжает жить и будет нужно людям!.. И ведь это же не только его исповедь!.. Мое детство, моя юность!.. Вслушайтесь, вслушайтесь! Шум времени, блуждания и ошибки, предчувствия и надежды, взлеты и падения! А вы — шепотом!.. Нет! Нужен другой финал!..
(Обеспокоенно всматривается в зрительный зал, но еще актерам.) Вам не кажется, что здесь душно? У меня колотится сердце, стало трудно дышать. Вам не кажется, нет?
(Зрителям.) А вы, вы что думаете?..
(Держась за голову.) Вспомнил строчки из Ахматовой:
Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит —
Как памятник началу века,
Так этот человек стоит…
А к т е р, и г р а в ш и й Б л о к а
(негромко). Окна, окна там у него настежь! Гасите прожектора, занавес.
К о н е ц
1971
Примечания
1
Прошу прощения
(англ.).
(обратно)
2
Что вы делаете?
(франц.)
(обратно)
3
Не обращайте внимания
(франц.).
(обратно)
4
Все три сцены в классах должны идти непрерывно, и, мне кажется, в перерыве между этими сценами, чуть притемненном, лицеисты, толкаясь и озорничая, сами убирают или расставляют мебель, нужную или ненужную для очередного класса.
(обратно)
5
Воспроизводится принцип постановки «Балаганчика» Вс. Мейерхольдом (1906 год).
(обратно)
Оглавление
СИНЕЕ МОРЕ
Пьеса в 2-х частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГРИБОЕДОВ
Пьеса в 3-х действиях
ПРОЛОГ
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
МОЙ МОЛОДОЙ ПУШКИН
Сцены из лицейской жизни в 2-х частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЕРВЫЙ БОЙ
Сцены в 2-х частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖАЯ ЮНОСТЬ
Трагикомедия в 2-х действиях
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
АЛЕКСАНДР БЛОК
Романтическое представление в 2-х отделениях с прологом и интермедиями
ПРОЛОГ
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ
*** Примечания ***