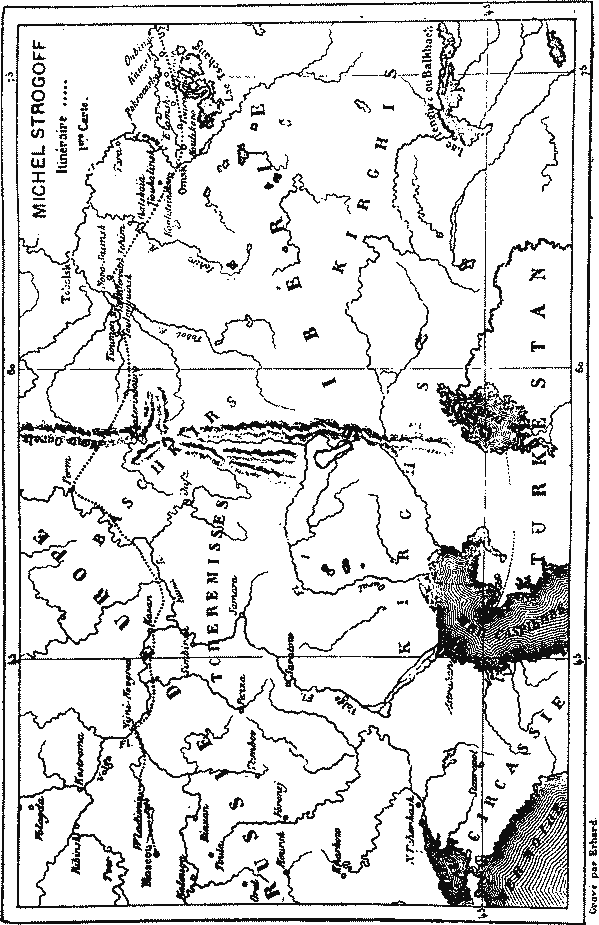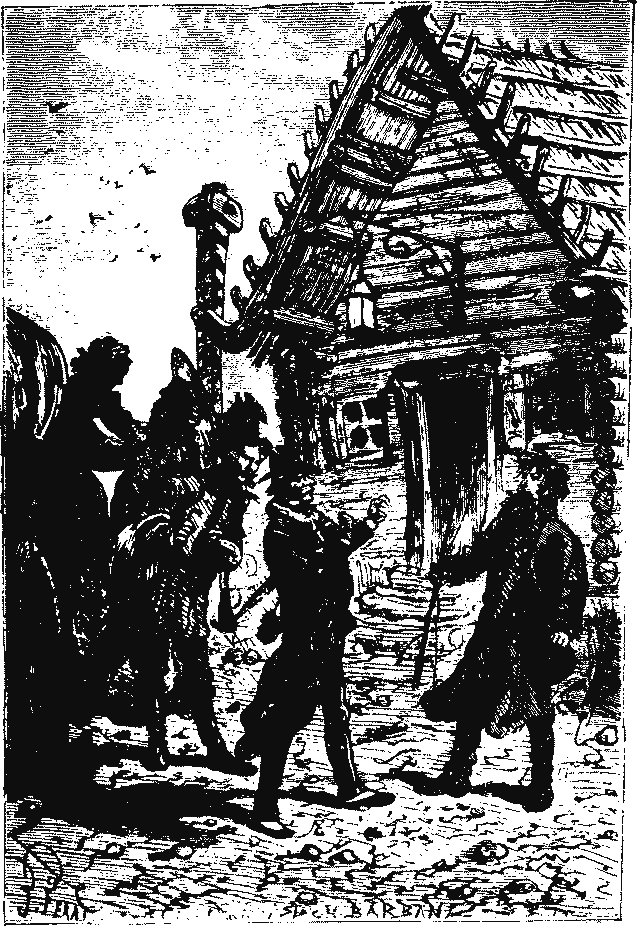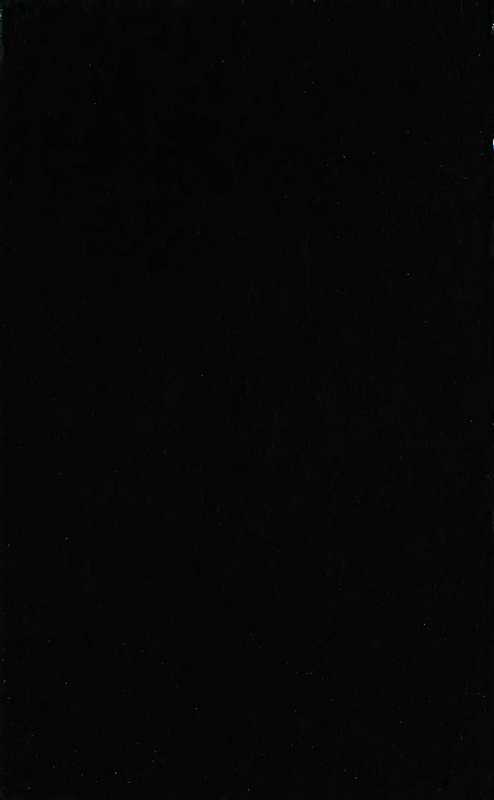Жюль Верн
МИХАИЛ СТРОГОВ
От издателя
Уважаемый читатель,
Едва ли можно оспорить утверждение о том, что француз Жюль Верн является одним из самых знаменитых писателей мира. Более шестидесяти произведений на десятках языков всех континентов Земли — это Жюль Верн. Поколения удивленных, восхищенных, просветленных мальчишек и девчонок всех рас и народов — это тоже Жюль Верн. Блестящий фантаст и гениальный Выдумщик — все Жюль Верн…
О предлагаемой Вашему вниманию книге хочется сказать в добром старинном стиле, чуть торжественно и высокопарно:
Восточно-Сибирское книжное издательство имеет честь представить на Ваш суд новую книгу великого Жюль Верна, его единственный «русский» роман — «Михаил Строгов».
Вы удивлены, читатель? Вам показались странными слова «новая книга»? Но и мы не оговорились. Произведение, которое Вы прочтете, действительно новое для россиян. За сто семнадцать лет своего существования — впервые книга была издана в Париже в 1875 году — «Михаил Строгов» лишь дважды небольшими тиражами выходил на русском языке. В последний раз его опубликовал известный издатель Сойкин в 1907 году.
Запрещали «Михаила Строгова» тоже дважды: сначала цензоры российского государя в 1876 году — запрет продлился до 1900 года; затем в 1917 году и на все годы советской власти.
Вот мы и подошли к главному вопросу: почему? Почему в России был запрещен роман, который по отзывам многих, в том числе И.С. Тургенева, считался одним из лучших у писателя?
И тут необходимо хотя бы вкратце коснуться сюжета.
Роман начинается с тревожного сообщения: министр внутренних дел докладывает российскому императору о том, что прервана связь с Иркутском. И даже более того, со всей Восточной Сибирью. Линия телеграфной связи повреждена не случайно: по всей Сибири идет восстание. Местные инородческие племена — для Жюль Верна почти все они «татары» — плюс среднеазиатские ханства под предводительством грозного Феофар-Хана задались целью отчленить, отрезать от России Сибирь… Блестящий российский офицер, курьер царя Михаил Строгов, спешит в далекий Иркутск с важнейшей императорской депешей; его цель — спасти находящегося в Иркутске брата царя, Великого князя, и, таким образом, сорвать заговор…
То есть, перед нами беллетристика в чистейшем виде, неправдоподобный, но талантливый вымысел. Даже по замечанию того же И. С. Тургенева — «…неправдоподобие книги Верна заключается в нашествии бухарского хана на Сибирь. Это все равно, как если бы я захотел изобразить захват Франции Голландией». А такого, понятно, не может быть.
Все признают, что неправдоподобно, что «не может быть» — и, тем не менее, запрещают.
Причин для запрета как минимум две. Во-первых, русская цензура всегда с невероятной осторожностью рассматривала все, что имело даже косвенное отношение к императору и его семье. Во-вторых — и это самое главное! — в романе французского писателя затрагивался чувствительнейший российский нерв: у политиков он называется «национальным вопросом». Впрочем, нерв даже не «затрагивался», за нерв порой немилосердно дергали. Проблемы инородцев, их недовольство, их неповиновение наконец…
Дальше продолжать, видимо, не следует. Не дело издателей раскручивать и смаковать политические проблемы. Куда важнее объяснить, почему мы решили издать спорный с политической точки зрения и даже в чем-то болезненный для нас, россиян, роман?
Ответ может быть кратким и однозначным: потому, что написал его
ЖЮЛЬ ВЕРН
Затем еще, что написан он с глубокой симпатией и даже с любовью к России. Затем, наконец, что «Михаил Строгов» не столько даже «русский», сколько «сибирский» роман, и не нам ли, жителям сибирским, первым издавать его и прочитывать?!..
Итак, перед Вами, читатель, — неизвестный Жюль Верн. Вам судить, насколько он интересен или сведущ в наших российских проблемах. Мы со своей стороны более всего заботились о том, чтобы перевод романа был как можно более точным и близким к оригиналу; понятно, что в предлагаемом тексте пет ни малейших сокращений. Мы же постарались сохранить даже неточности, которые допустил великий писатель, касались ли они географии или этнографических вопросов. Неточности тоже по-своему интересны, они позволяют лучше понять, как смотрит на нас талантливейший из европейских Выдумщиков. Не будем забывать и о том, что несмотря на запрет у нас, в Европе, особенно во Франции «Михаил Строгов» популярен необычайно вот уже целых сто лет. Поколения европейских туристов, выезжая в Россию, в Сибирь, начинали и начинают знакомство с нами с помощью «Михаила Строгова».
Последуем же и мы их примеру: вслед за удивительным российским офицером отправимся в далекий Иркутск.
А. Просекин
Часть первая

Глава I
Праздник во Дворце
— Ваше величество, свежая депеша!
— Откуда?
— Из Томска…
— А есть ли связь с городами восточнее Томска?
— Прервана со вчерашнего вечера.
— Посылайте, генерал, телеграммы в Томск ежечасно и держите меня в курсе всех событий.
— Слушаюсь, государь! — ответил генерал Кисов.
Разговор этот случился в два часа ночи, в самый разгар придворного бала, даваемого а Новом Дворце. Весь вечер музыканты Преображенского и Павловского полков не переставали играть польки, мазурки и вальсы лучшего репертуара. Изысканные пары танцующих заполнили роскошные залы дворца, недавно воздвигнутого рядом со старыми каменными палатами, пережившими в прошлом Столько ужасных драм, что отзвуки их, взбудораженные веселыми мелодиями, и сейчас, казалось, витали в воздухе.
Церемониймейстер дворца имел прекрасных помощников. Великие князья, их адъютанты, камергеры, старшие офицеры умело руководили танцами. Великие княгини, блистающие бриллиантами, статс-дамы и камер-фрейлины в роскошных бальных платьях демонстрировали безукоризненное танцевальное искусство перед московским высшим обществом. Но вот зазвучала мелодия полонеза, непременного танца для подобного торжества, и все приглашенные медленно заскользили по паркету; под светом сотен люстр, многократно отраженных в зеркалах, проплывали белые кружевные платья, чередуясь с мундирами, украшенными орденами, — это было ослепительное зрелище. Большой зал, самый великолепный из всех залов Нового дворца, являл собою как бы роскошную раму, обрамляющую это блестящее общество. Богато расписанный позолотой свод, чуть тронутый налетом времени, сверкал огнями. Портьеры из парчи с пышными складками были окрашены в теплые алые тона, которые резко ломались в углах тяжелой ткани.
Яркий свет, проходивший сквозь чуть запотевшие стекла широких арочных проемов, походил на отблески пожара и еще сильнее подчеркивал черноту ночи, окутавшей сверкающий дворец.
Контраст тьмы и света не мог не привлечь внимания тех, кто не мог танцевать. Задерживаясь ненадолго у высоких окон, они видели смутно вырисовывавшиеся купола церквей на фоне ночного неба, мерно шагающих под резными балконами часовых с ружьями на плече, в остроконечных шлемах с пышными султанами, пламенеющими от блеска огней, и слышали чеканные шаги патрульных, отбивающих такт на каменных плитах, пожалуй, отчетливее танцоров на паркете. Время от времени часовые перекликались, а иногда резкий сигнал трубы вплетался в звучание оркестра, привнося тревожную нотку. Прямо перед фасадом в столбах оконного света виднелись темные громады кораблей, плывущих вниз по течению реки, воды которой, усеянные мерцающими отсветами сигнальных огней, омывали опоры террас.
Главное лицо на балу, тот, кто давал этот праздник и кому генерал Кисов оказывал самые высокие почести, был одет просто — в мундир гвардейского офицера. И это было не позерством, а скорее привычкой человека, равнодушного к роскошным костюмам. Его внешний вид особо бросался в глаза, когда он появлялся в сопровождении эскорта казаков, грузин и лезгин в ярких кавказских мундирах.
Высокий, с приветливым, спокойным, в то же время озабоченным лицом, человек переходил от одной группы людей к другой, однако сам говорил мало, и казалось, он пропускает мимо ушей и беззаботный разговор молодежи, и важные речи государственных мужей и дипломатов всех крупных стран Европы. Двое, а может, трое самых проницательных политиков — физиономистов по роду своей деятельности — отметили на лице хозяина дворца симптомы беспокойства, но причина его была им неизвестна, а спросить никто не осмелился бы. Как бы там ни было, но человек в гвардейском мундире явно не желал, чтобы его потаенные тревоги нарушили плавный ход этого великолепного праздника, и так как он был одним из немногих государей, которого привык слушаться весь мир, ничто не могло остановить бал ни на минуту.
Тем временем генерал Кисов передал офицеру очередную депешу из Томска и ждал приказа удалиться, но тот медлил. Изучив телеграмму, он еще больше нахмурил лоб. Рука его машинально легла на эфес сабли, но он тут же поднял ладонь к глазам и на минуту прикрыл их. Казалось, сильный свет мешает ему, и он ищет темноты, чтобы сосредоточиться на своих мыслях.
— Что же, — отвел он генерала Кисова к одному из окон, — со вчерашнего вечера у нас нет связи с Великим князем, моим братом?
— Так точно, связи нет, Ваше величество, и боюсь, что скоро мы лишимся возможности посылать в Сибирь и депеши.
— Но ведь войска Амурской и Якутской провинций, а также Забайкалья получили приказ незамедлительно идти на Иркутск?
— Этот приказ мы успели передать в последней телеграмме за Байкал.
— Имеем ли мы постоянно действующую связь с Енисейском, Омском, Семипалатинском и Тобольском с начала мятежа?
— Так точно, Ваше величество, наши депеши доходят туда, и мы уверены, что татары
[1] пока не продвинулись за Иртыш и Обь.
— Есть ли какие известия о предателе Иване Огареве?
— Никаких, — отметил генерал Кисов. — Министр внутренних дел не может подтвердить переход им границы.
— Пусть немедленно отправят описание его личности в Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Еланск, Колывань и Томск, во все телеграфные отделения, с которыми у нас еще есть связь.
— Сию минуту будет исполнено, Ваше величество! — ответил генерал Кисов.
— И хранить обо всем молчание!
Генерал почтительно склонил голову в знак согласия, смешался с толпой, а вскоре незаметно покинул бальный зал. Офицер еще несколько минут оставался задумчивым, но когда вернулся к гостям, оживленно беседующим в разных уголках зала, лицо его вновь обрело спокойствие и уверенность, которых он лишился на какое-то время.
И все же важное событие, которое они только что обсуждали, вовсе не составляло такой тайны, как думали офицер и генерал Кисов. О нем еще не говорилось в официальных кругах, его еще не обсуждали досужие языки, но некоторые высокопоставленные чины были более или менее точно проинформированы о событиях, происходящих в Сибири. Еще удивительнее было другое — то, о чем они знали довольно приблизительно, о чем боялись говорить даже в дипломатическом корпусе, сейчас подробно обсуждали вполголоса двое приглашенных, не выделяющихся ничем, без мундиров и без единого ордена.
Какими путями двое простых смертных овладели информацией, о которой не могли подозревать куда более важные персоны? Может быть, они имели дар предвидения? Или обладали сверхчувствительными способностями, позволяющими проникать за пределы человеческих возможностей? А может, имели особый нюх на самые секретные новости? Во всяком случае, привычка жить для информации и посредством информации существенно изменила их человеческую сущность.
Из двух этих мужчин один был англичанин, другой — француз. Оба высокие и худые. Южанин из Прованса — брюнет, а джентльмен из Ланкастера — рыжий. Англичанин, чопорный, холодный, флегматичный и экономный в словах и движениях, словно бы говорил или жестикулировал при помощи некоего механизма, включающегося через равные промежутки времени. Напротив, француз, живой и бойкий на язык, одновременно двигал губами, глазами, руками и, казалось, имел про запас не менее двадцати способов выражения мысли, тогда как его собеседник обладал одним, и то стереотипным.
Несходство их наружностей без труда бы обнаружил и самый ненаблюдательный человек, но опытный физиономист, вглядевшись в этих иностранцев, тут же определил бы их сущность: если француз, был «весь глаза», то англичанин — «весь уши».
Зрение француза было отточено постоянной практикой. Сетчатка его глаз улавливала малейшие изменения, как у фокусников, успевающих выделить нужную карту в быстро мелькающей колоде. Разумеется, у француза было в высшей степени развито свойство, которое называют зрительной памятью.
Англичанин же, как будто был специально создан, чтобы слушать и слышать. Слух его, уловив чей-то голос, более уже не забывал его и мог через десять, через двадцать лет отличить из тысячи других. Уши англичанина, конечно, не могли быть такими же чуткими и подвижными, как у животных, но поскольку ученые установили, что человеческие уши лишь условно неподвижны, можно было утверждать, что он всегда держал их на макушке.
Отметим, что совершенные слух и зрение этих двух мужчин прекрасно служили им, помогая в работе, так как англичанин был корреспондентом «Дейли Телеграф», а француз — корреспондентом… какой-то газеты или нескольких газет, он о том умалчивал. Когда же его спрашивали, любезно отвечал, что состоит в переписке со «своей кузиной Мадленой». На самом деле этот, на первый взгляд, легкомысленный французик был проницательным, умным и хитрым человеком. Болтая обо всем без разбора, он тщательно скрывал свое страстное желание узнавать, в то же время никогда не открывал ни кому своей души. Красноречие помогало ему молчать о главном. Пожалуй, он был даже более скрытен и осторожен, чем его коллега из «Дейли Телеграф».
Оба они присутствовали на балу во Дворце в ночь с 15 на 16 июля в качестве корреспондентов, и, само собой разумеется, были увлечены своей миссией. Они были без ума от своей профессии, им нравилось нестись, подобно гончим, по следу самых горячих новостей, и ничто не могло ни испугать, ни остановить в их неуемном стремлении достичь успеха. Это были люди хладнокровные и смелые. Подобно жокеям, ведущим бег с препятствиями, охотясь за информацией, они преодолевали заграждения, переплывали реки, прыгали в седла и обходили своих соперников с несравненной горячностью чистокровных скаковых лошадей, которые или приходят первыми, или погибают!
Впрочем, их издания не жалели денег — и это был самый совершенный, самый верный способ добычи информации, известный до настоящего дня. К чести их, они никогда не подглядывали в замочные скважины за личной жизнью и действовали только тогда, когда были затронуты политические или общественные интересы. Словом, они готовили то, что уже несколько лет именуется «большим военно-политическим репортажем».
Однако, узнав их поближе, вы бы обратили внимание на то, что каждый из них имел свою манеру оценивать события и их последствия, свою особую точку зрения на факты. Но порицать их за это было нельзя, работали они всерьез и не щадили себя.
Француза звали Алсид Жоливе. Имя английского корреспондента — Гарри Блаунт. Они встретились впервые. О празднике в Новом Дворце каждому было поручено дать отчет в своей газете. Несходство характеров в соединении с профессиональной завистью заставило их не испытывать особой симпатии друг к другу. Однако они и не избегали общения, каждый по-своему предугадывая грядущие события. Два стрелка охотились в одних и тех же заповедных местах. То, что упускал один, мог добыть другой. Таким образом, существовал общий интерес, заставляющий их обмениваться информацией и договариваться.
В этот вечер оба были настороже. В воздухе что-то чувствовалось. «Был бы это перелет уток, — говорил Алсид Жоливе, — стоило бы пострелять!»
После ухода генерала Кисова репортеры поделились ощущениями, заодно прощупывая, что знает о событиях Другой.
— Правда, месье, сегодняшний бал очарователен! — любезно сказал Алсид, посчитав нужным начать разговор этой в высшей степени французской любезностью.

— Я уже телеграфировал, великолепно! — холодно ответил Гарри, употребляя универсальное английское слово, словно специально изобретенное гражданами Великобритании для выражения восхищения.
— Однако, — добавил Алсид, — я посчитал необходимым в то же время передать моей кузине…
— Вашей кузине?.. — удивленно переспросил Гарри.
— Да, — повторил Алсид, — моей кузине Мадлене… Именно с ней я переписываюсь. И ей нравится получать самые свежие новости! Так вот, я не мог не сказать ей, что лицо монарха на этом балу, показалось мне, было чем-то омрачено.
— Мне же он показался сияющим, — проговорил Гарри, видимо, не желая выказывать своих мыслей на этот счет.
— Конечно же, вы заставили его «сиять» и на страницах «Дейли Телеграф»!
— Вот именно.
— Не припомните ли вы, месье Блаунт, — сказал Алсид, — что произошло в Закрете в 1812 году?
— Еще бы, помню, как если бы сам там был, — ответил англичанин.
— Тогда, — продолжал Алсид, — вам известно, что во время бала, данного в его честь, императору Александру сообщили, что Наполеон только что форсировал Неман. Но император и не подумал покинуть бал и не выказал большого беспокойства по поводу чрезвычайной вести, а ведь оно могло стоить ему империи…
— Беспокойство удалось скрыть и нашему хозяину, когда генерал Кисов сообщал ему о том, что телеграфная связь с Иркутском прервана.
— Верно.
— Ах, и вы знаете это?
— Почему бы нет?
— Что касается меня, то как бы я мог не знать, если моя последняя телеграмма ушла в Удинск, — удовлетворенно заметил Алсид.
— А моя только в Красноярск, — ответил Гарри тоном менее довольным.
— Тогда вы должны знать, что войскам в Николаевске уже отданы приказы?
— Да, сэр, в то же самое время, когда казакам Тобольска передали приказ о мобилизации.
— Все уже изменилось, месье Блаунт, но, поверьте, эти меры мне также были известны, и о них моя любезная кузина будет знать уже завтра!
— Точно так же, как и мои читатели, сэр Жоливе.
— Чертовски интересно наблюдать за всем, что происходит!
— И слышать, что говорится обо всем этом!
— Разворачивается интересная кампания.
— Буду за ней следить.
— Тогда, возможно, мы встретимся снова на территории не такой надежной, как паркет этого зала.
— Менее безопасной, да, но…
— И менее скользкой! — подхватил Алсид своего коллегу, который, сделав шаг назад, оступился и потерял равновесие.
На этом репортеры распрощались, вполне довольные, что никто из них не опередил другого. В этой игре они были на равных.
В это время распахнулись двери в соседние залы, заставленные длинными столами, богато сервированными дорогой фарфоровой с позолотой посудой. Посредине стола, предназначенного для царствующих особ и дипломатического корпуса, сверкала бесценная ваза, изготовленная на лондонской фабрике, а вокруг этого шедевра переливались в свете люстр тысячи предметов самого восхитительного сервиза, который когда-либо появлялся на фабриках Севра. Приглашенные направились в залы, где был подан ужин. В ту же минуту вернулся генерал Кисов и быстрым шагом подошел к гвардейскому офицеру.
— Что еще? — нетерпеливо, так же как и в первый раз, спросил тот.
— Ваше величество, телеграммы более не проходят Томск.
— Курьера ко мне сию же минуту!
Офицер покинул зал и удалился в расположенный за его стеной рабочий кабинет, обставленный простой дубовой мебелью. Лишь несколько картин Горация Верне украшали его стены. Офицер распахнул стеклянную дверь, словно ему было душно, и вышел на балкон подышать свежим воздухом, который изливала прекрасная июльская ночь.

Взошла луна, и в призрачном свете была видна кремлевская стена, окружающая два собора, три дворца и оружейную палату. За стеной четко вырисовывались Китай-город, Белый город, Земляной город, дальше шли кварталы в европейском стиле, соседствующие с азиатской архитектурой и китайскими поселениями, — над ними возвышались башни, колокольни, купола трехсот церквей, увенчанных серебристыми крестами. Неширокая река плавно несла свои воды, отражающие лунный свет. И все это тянулось на сорок километров.
Это была Москва-река, это был город Москва, и эта крепость была Кремлем, и офицер в гвардейском мундире, стоящий на балконе со скрещенными руками, с нахмуренным челом и слушающий долетающий из залов Нового Дворца шум, был русский царь.

Глава II
Русские и татары
Государь имел веские причины в разгар бала покинуть своих подданных, среди которых были самые именитые люди Москвы, — за Уралом происходили слишком важные события. Опасное нашествие угрожало отнять у России ее сибирские провинции.
Азиатская Россия, или Сибирь, занимает площадь около одиннадцати миллионов квадратных верст и насчитывает приблизительно два миллиона жителей. Простирается она от уральских гор, отделяющих ее от европейской части Тихого океана. На юге она граничит с Туркестаном и Китаем, а на севере ее берега омывает Ледовитый океан — от Карского моря до самого Берингова пролива. Вся она поделена на губернии: Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую, Омскую, Якутскую, а кроме этого, включает два отдаленных округа: Охотский и Камчатский и имеет две области московского подчинения: Киргизскую и Чукотскую.
Это огромное дикое пространство, включающее более ста десяти градусов с запада на восток, является в то же время и местом ссылки для преступников.
Два сибирских генерал-губернатора представляют царскую власть на этих необозримых просторах. Один находится в Иркутске, столице Восточной Сибири, другой — в Тобольске, столице Западной Сибири. Река Чуна, приток Енисея, разделяет эти две Сибири.
На этих богатых и плодородных равнинах не проложены еще железные дороги. Ни она из них еще не дотянулась до сибирских рудников, делающих тот край более богатым под землей, чем на ее поверхности. Летом здесь путешествуют в тарантасах или телегах, а зимой — в санях. И только телеграфный провод, длиной более восьми тысяч верст, — единственная связь между Западной и Восточной Сибирью. От Урала он проходит через Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Еланск, Колывань, Томск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Нерчинск, Стрелинск, Албазин, Благовещенск, Николаевск, каждое переданное до конечного пункта слово стоит шесть рублей девятнадцать копеек. Телеграфное отправление связывает Иркутск с Кяхтой, что находится на монгольской границе, а оттуда, всего за тридцать копеек, депеши отправляются почтой в Пекин и доходят за две недели.
И вот теперь эта телеграфная связь между Екатеринбургом и Николаевском прервалась, сначала не доходя до Томска, а спустя несколько часов — где-то между Томском и Колыванью. Потому, получив очередное донесение генерала Кисова, царь немедленно распорядился: «Курьера ко мне, сию же минуту!»
Государь неподвижно стоял у раскрытого окна своего кабинета, пока привратник не открыл двери и на пороге не появился шеф жандармов.
— Входите, генерал, — коротко сказал царь и добавил, — расскажите все, что вам известно об Иване Огареве.
— Он чрезвычайно опасный человек, Ваше величество, — ответил министр внутренних дел.
— Кажется, он был в чине полковника?
— Так точно, Ваше величество.
— Умен ли этот бывший офицер?
— Очень, но необуздан, крайне самолюбив. Ввязался в опасные интрига, был разжалован лично Его высочеством Великим князем и сослан в Сибирь.
— Давно?
— Два года назад, но вернулся в Россию через полгода, помилованный Вашим величеством.
— И с тех пор больше не бывал в Сибири?
— К сожалению, возвращался, но на этот раз по своей воле, —ответил министр внутренних дел. И добавил, снизив голос:
— Государь, было время, когда сосланные в Сибирь обратно уже не возвращались!
— Пока я жив, Сибирь будет краем, откуда возвращаются!
Царь имел полное право произнести эти слова, он не раз проявлял свое милосердие, доказывая, что русское правосудие справедливо.
Министр внутренних дел промолчал, но было очевидно, что он не сторонник полумер. По его мнению, кто пересек Уральские горы под конвоем, уже никогда вновь пересекать их не должен. Однако при этом царе дело обстояло совсем не так, и шеф жандармов искренне жалел об этом. Как, отменено пожизненное заключение для уголовников? Как, политические ссыльные возвращаются из Тобольска, Якутска, Иркутска? По правде говоря, министр внутренних дел, привыкший к неограниченной власти и не умеющий прощать, не мог принять этого мягкотелого правления! Он продолжал молчать, ожидая расспросов государя. И они не замедлили последовать.
— Что ж, Иван Огарев так и не вернулся в Россию из своего сибирского путешествия? — спросил царь. — И цель его поездки, до сих пор неясна?
— Он вернулся.
— Полиция потеряла его след?
— Никак нет, государь, ведь каторжанин становится по-настоящему опасным лишь когда помилован!
Царь нахмурился. Шефу жандармов не следовало бы заходить так далеко в своих высказываниях. Впрочем, его упрямство по крайней мере было равным его безграничной преданности престолу. Царь же был выше осторожных упреков в свой адрес по поводу его внутренней политики и продолжал задавать вопросы:
— В конце концов, где же находился Огарев?
— В Пермской губернии.
— Где именно?
— В самой Перми.
— Что же он там делал?
— Вроде бы ничего, и его поведение не вызывало подозрений.
— Разве он не был под нашим наблюдением?
— Нет, государь.
— Когда он покинул Пермь?
— Еще в марте.
— Чтобы отправиться..?
— Этого не знает никто.
— Ну а я знаю! — неожиданно сказал царь. — Мне лично были адресованы несколько анонимных донесений, миновавших полицию. И теперь, когда а Сибири происходят известные события, есть все основания верить в их достоверность.
— Государь, вы хотите сказать, что Иван Огарев причастен к вторжению татар? — воскликнул шеф жандармов.
— Да, генерал, и я сейчас расскажу то, чего ты не знаешь. Огарев, покинув Пермь, пересек Урал и подался в киргизские степи, где попытался, правда, безуспешно, поднять на бунт кочевников. Тогда он проник на юг, в Туркменистан. И там, в Бухаре, Коканде, Кундузе, нашел сообщников, ханов, согласившихся послать свои отряды в сибирские провинции и попытаться отторгнуть эту часть моей империи. Восстание готовилось в тайне, потому и разразилось как гром в ясном небе. Оттого теперь и пути, и средства связи между Западной и Восточной Сибирью прерваны! Более того, Огарев жаждет мести и готовит покушение на жизнь моего брата!..

Царь говорил взволнованно, быстрым шагом расхаживая по кабинету. Министр внутренних дел, ничего не отвечая, думал про себя, что во времена, когда императоры России не миловали преступников, планы Огарева не могли бы воплотиться в кровавые дела. Так он молчал несколько минут, затем приблизился к царю, опустившемуся в кресло.
— Ваше величество, — спросил он, — вы уже, несомненно, отдали приказ о немедленном подавлении восстания?
— Конечно, — ответил царь, — в последней телеграмме, дошедшей до Нижнеудинска, был отдан приказ о выдвижении войск Енисейской, Иркутской, Якутской губерний, а также из Забайкалья и с Амура. Одновременно подразделения из Перми и Нижнего Новгорода форсированным маршем направляются на Урал, где соединятся с казаками. Но потребуется несколько недель, чтобы они настигли противника.
— Значит, брат Вашего величества, Светлейший князь, изолирован в Иркутске и не имеет прямой связи с Москвой?
— К сожалению, нет.
— Но, должно быть, ему известно из последних депеш, какие меры приняты Вашим величеством для его спасения и какую помощь ждать со стороны?
— Обо всем этом он осведомлен, но не знает, что Огарев — предатель и мятежник, и что в его лице он имеет опаснейшего, озлобленного врага. Ведь впервые он попал в опалу именно к моему брату. А тот даже не знает его в лицо. Думается, план Огарева состоит в том, чтобы пробраться в Иркутск и там под вымышленным именем предложить Великому князю свои услуги. Войти в доверие, а когда татары осадят Иркутск, сдать город, а, с ним и моего брата. Жизнь Великого князя находится в большой опасности. Вот что мне известно из анонимных посланий. Этого не знает Великий князь, а знать должен!
— Государь, потребуется умный и смелый курьер…
— Я уже жду его.
— Необходимо торопиться, Ваше величество, — добавил шеф жандармов, — так как, позвольте заметить, сибирские земли благоприятствуют мятежам!
— Не хотите ли вы сказать, генерал, что ссыльные встанут на сторону мятежников? — вскричал государь, не совладав с собой при столь явном намеке министра внутренних дел.
— Прошу прощения, Ваше величество… — пробормотал тот, так как эта мысль действительно уже витала в его неспокойном и недоверчивом уме.
— Я не сомневаюсь в истинном патриотизме ссыльных!— сказал Царь.
— Но в Сибири живут не только политические ссыльные, но и осужденные по другим статьям, — заметил шеф жандармов.
— Уголовники? Этих, генерал, я оставляю на ваше попечение. Они — подонки. У них нет родины. Этот мятеж направлен даже не против императора, а против самой России, той страны, которую ссыльные надеются когда-нибудь вновь увидеть… и которую снова увидят! Нет, никогда ни один честный русский не вступит в союз с инородцами на погибель земли российской!
Царь был вправе рассчитывать на патриотизм тех, кого его политика временно держала в Сибири. Милосердие, ставшее основой его власти, немалые послабления, внесенные им в некогда ужасные законы, гарантировали ему преданность оступившихся подданных — тут он ошибиться не мог. Но это обстоятельство не облегчало, однако, положения дел, следовало опасаться, что значительная часть киргизских племен присоединится к захватчикам.
Киргизы делятся на три ханства: большое, среднее и малое, вместе это приблизительно четыреста тысяч юрт, два миллиона душ. Одни из ханств являются независимыми, другие признают господство России или Хивы, Коканда, Бухары. Самая богатая и многочисленная Средняя орда кочует между реками Сара-Су, Иртыш,
Верхний Ишим. Большая орда раскинулась на пространствах восточнее, и ее владения упираются в границы Омской и Тобольской губерний. Следовательно, если восстанут эти племена, азиатская часть России окажется отрезанной от империи.
Киргизы, совершенно неопытные в военном искусстве, — были скорее ночными грабителями и захватчиками караванов, чем солдатами регулярной армии. Как сказал об этом русский историк: «…каре хорошо обученных пехотинцев отбивает атаку в десять раз превосходящей их массы киргизов, а одна пушка может уничтожить их в невероятном количестве».
Все это так, но ведь еще нужно, чтобы это каре опытных пехотинцев прибыло в восставший край, чтобы пушки покинули артиллерийские парки в русских провинциях, удаленных от места схватки на две-три тысячи верст. Однако, кроме единственного тракта, соединяющего Екатеринбург с Иркутском, других удобных путей в заболоченных степях нет, и пройдет несколько недель, прежде чем русские войска смогут отбросить татарские орды.
Омск — военный центр Западной Сибири — предназначен сдерживать нашествие киргизских племен. Здесь проходит граница, которую неоднократно нарушали эти непокорные кочевники, и в военном министерстве имели все основания полагать, что Омск находится в большой опасности и, что вполне вероятно, казачьи заставы, растянутые между Омском и Семипалатинском, уже атакованы во многих местах. Итак, возникла реальная опасность, как бы «великие султаны», управляющие киргизскими уездами, не приняли добровольно господство южных соседей, таких же мусульман, как и они, или подчинились им силой; и как бы к ненависти, вызванной порабощением, не добавилось ненависти религиозной.
И в самом деле, с давних пор Туркестан, и особенно Бухарское, Кокандское, Кундузское ханства, пытались как силой, так и убеждением освободить киргизские племена от московского владычества.
Этот обширный край разделен на несколько государств, которыми управляют ханы, отсюда и название — ханства. Крупнейшие из них: Бухарское, Хивское, Кокандское, Кундузское и другие.
Самое значительное и грозное — Бухарское ханство. России уже не раз приходилось бороться с его правителями, которые стремились навязать киргизам свое владычество и поддерживали их борьбу за освобождение от господства Москвы. Нынешний правитель Феофар-Хан следовал по стопам своих предшественников.
Бухарское ханство простирается с севера на юг, между 37-й и 41-й параллелями, с Востока на запад между 61° и 66° долготы, то есть на площади, равной примерно 40 000 квадратных миль. Это государство насчитывает два миллиона пятьсот тысяч жителей, имеет шестидесятитысячную армию, которая утраивается во время войны, и кроме того — тридцать тысяч всадников. Эта богатейшая страна, имея всяческие полезные ископаемые, разнообразный животный и растительный мир, увеличивала свои владения, присоединяя сопредельные территории.
В государстве насчитывается двадцать девять крупных городов. Бухара, окруженная восьмимильной крепостной стеной с башнями, прославленная еще Авиценной и другими учеными X века, считается центром мусульманской культуры и относится к числу самых известных в Центральной Азии. Самарканд, владеющий могилой Тамерлана и знаменитым дворцом, где хранится голубой камень, на котором должен посидеть каждый новый хан, также защищен мощной крепостью. Карачи, обнесенный тройной оградой, раскинулся в оазисе, к тому же окруженном топью, и потому почти неприступен. Чарджоу находится под защитой двадцатитысячного населения; и наконец, города Катта-Курган, Нурата, Джизах, Пайканд, Каракул, Хузар входят в число труднодоступных с военной точки зрения. Бухарское же ханство, защищенное горами, изолированное от мира глухими степями, — по-настоящему опасное государство, и Россия вынуждена противопоставлять ему крупные силы.
Итак, именно честолюбивый, свирепый Феофар правил этим уголком Центральной Азии. Опираясь на других правителей — особенно на Кокандского и Кундузского ханов, жестоких воинов, грабителей, легко вступающих на путь войны по одному лишь зову горячей крови, — поддерживаемый всеми повелителями орд, он возглавил нашествие. Правой рукой его был Иван Огарев.
Этот предатель, подталкиваемый безрассудным честолюбием и ненавистью, направил движение войск так, чтобы перерезать Великий сибирский путь. Безумец, неужто он считал возможным и в самом деле отрезать кусок Московской империи! Под его влиянием эмир — это титул Бухарских ханов — устремил свои орды в русские пределы. Он захватил Семипалатинскую губернию, и казакам, которых было слишком мало в этих местах, пришлось отступить. Затем продвинулся дальше озера Балхаш, увлекая за собой киргизские племена, грабя, разрушая, забирая в свое войско тех, кто сдался, и в плен тех, кто сопротивлялся. Он перемещался от города к городу в сопровождении обоза, достойного восточного монарха и представлявшего собою по сути целый дом с гаремом и рабами, — все это он совершал с бесстыдной дерзостью современного Чингис-Хана.
Где он находится в данный момент? Как далеко продвинулись его войны на тот час, когда известие о вероломном нападении достигло Москвы? До каких рубежей Сибири вынуждены были отступить русские войска? Этого в столице никто не мог знать. Связь прервана. Или провод перерезан лазутчиками ханской армии, или враг добрался до окрестностей Енисейска? Вся ли юго-западная Сибирь полыхает в огне? Перекинулось ли восстание на восточные районы? Никто ничего не мог сказать.. Единственный связной, не боящийся ни жары, ни холода, которого не могут остановить ни зимняя стужа, ни летний зной и который летит со скоростью молнии — электрический ток, — был бессилен пересечь степь. И не было никакой возможности предупредить Великого князя, застрявшего, в Иркутске, об опасности, угрожавшей ему в результате предательства Ивана Огарева.
Теперь только курьер мог заменить прерванную, связь. Но этому человеку требовалось определенное время, чтобы пройти пять тысяч двести верст (5 523 км), отделяющих Москву от Иркутска. Преодолеть земли, захваченные повстанцами, он мог только при наличие необыкновенного мужества и ума. Лишь обладающие светлой головой и незаурядной смелостью идут далеко!
«Найдется ли такая храбрая голова?» — спрашивал себя царь.
Глава III
Михаил Строгов
Дверь императорского кабинета отворилась, и дворецкий доложил о прибытии генерала Кисова.
— И где же это курьер? — живо спросил государь.
— Он здесь, Ваше величество! — ответил генерал Кисов.
— Это нужный нам человек?
— Осмелюсь за него поручиться, Ваше величество! — ответил генерал Кисов.
— Служил ли он при дворе?
— Да, государь.
— Ты с ним знаком?
— Лично. Многажды с успехом выполнял труднейшие поручения.
— За границей?
— И в Сибири тоже.
— Откуда же он родом?
— Сибиряк, из Омска.
— Хладнокровен, умен, смел?
— Да, государь, он обладает всеми качествами, чтобы преуспеть там, где любой провалил бы дело.
— Сколько ему лет?
— Тридцать.
— Хватит ли ему сил?
— Государь, этот человек способен вынести самые невообразимые холод, голод, жажду, усталость.
— Уж не железный ли он?
— Да, государь.
— А его сердце?
— Сердце у него золотое.
— Как его имя?
— Михаил Строгов.
— Готов ли он отправиться в путь?
— Он ждет в караульном помещении приказаний Вашего величества.
— Пусть войдет, — сказал государь.
Через несколько минут курьер Михаил Строгов переступил порог императорского кабинета.
Михаил Строгов был высоким, широкоплечим, крепко сложенным мужчиной. Тонкие азиатские черты просматривались на его красивом лице. Должно быть, этому могучему человеку, твердо стоящему на ногах, нелегко было передвигаться, ибо казалось, едва он опускал ступню на землю, она тут же врастала в нее. Над широким лбом курчавилась пышная шевелюра, и кудри выбивались из-под картуза, когда случалось надевать его. Лицо его, обычно бледное, редко менялось, лишь в случаях из ряда вон, заставляющих сердце учащенно биться, а кровь — быстрее бежать под слегка порозовевшей кожей. Прямой, честный, невозмутимый взгляд темно-голубых глаз блистал из-под нахмуренных бровей и свидетельствовал о благородстве, мужестве, или «о спокойном мужестве героя», как любят выражаться филологи. Крупный нос, правильно очерченный рот с полными губами дополняли образ человека великодушного и доброго.
Михаил обладал решительным характером и был быстр в действиях, никогда не мучаясь неопределенностью, не терзаясь сомнениями, не топчась на месте. Скупой на слова, сдержанный, он умел долго оставаться неподвижным, как солдат перед командиром, но когда шел, походка его была легка и замечательно четка в каждом движении, что свидетельствовало как о доверчивости, так и о большой силе воли. Это был человек, рука которого умела «схватить случай за волосы», — образ, скажем, надуманный, но точно характеризующий его.
Одет он был в элегантный военный мундир, схожий с походной гусарской формой: сапоги, шпоры, полуоблегающие панталоны, гусарская венгерка, подбитая мехом, украшенная желтым сутажем на коричневом фоне. Его широкую грудь украшали крест и несколько медалей.
Строгов служил в специальном отряде курьеров государя и имел офицерский чин среди себе достойных. Царь без труда нашел в его походке, лице, во всем его облике то, что хотел, — исполнителя приказаний. А это было одно из наиболее ценимых и России качеств, которое, по замечанию известного писателя Тургенева, позволяет достичь самых высоких постов в Московской империи.
В самом деле, если кто-либо и мог успешно совершить путешествие из Москвы в Иркутск через захваченные земли, преодолевая всяческие препятствия, пренебрегая всевозможными опасностями, то только Михаил Строгов. Он прекрасно знал край, который ему предстояло пересечь, понимал местные наречия — не по тому, что бывал здесь раньше, но потому, что был родом из этих мест.
Отец его, Петр Строгов, всю жизнь прожил в городе Омске и умер десять лет тому назад, а мать, Марфа Строгова, живет там до сих пор. Здесь, посреди диких степей Омской и Тобольской губерний, бывалый охотник воспитывал своего сына, как говорят в народе, в строгости. Не зная другого дела, кроме охоты, Петр Строгов летом и зимой, в жару и стужу, когда, бывает, температура падает ниже 50°, бродил по застывшей равнине, по березовым рощам и сосновым чащам: ставил ловушки, подстерегал с ружьем мелкую дичь, встречал крупного зверя с рогатиной, а случалось, и с одним ножом в руках. Нет опаснее зверя в сибирских лесах, чем медведь — такой же крупный и хищный, как его сородичи в Ледовитом океане. Петр Строгов добыл их более тридцати девяти, а это значит, что он убил и сорокового медведя. А если верить русским охотничьим легендам, многие охотники были удачливы до этого рокового числа, но сороковой их задирал!
Петр Строгов преодолел страшный рубеж без единой царапины. С этого времени он стал брать с собой на охоту одиннадцатилетнего Михаила, доверял ему рогатину и свою жизнь, потому что обычно он был вооружен лишь ножом. В четырнадцать лет Михаил добыл своего первого медведя, что само по себе не пустяк, но, ободрав его, он тащил на себе несколько верст шкуру гигантского зверя до отцовского дома, а это свидетельство незаурядной силы. Суровая жизнь закалила его; став взрослым мужчиной, он стойко переносил холод, жару, голод, жажду, усталость. Выносливый, как якут, он мог сутками не есть, не спать по
десять ночей, умело укрываясь в голой степи, где неопытный человек мигом околел бы под открытым небом. Обладая тонким чутьем и инстинктом индейца, он всегда находил дорогу в заснеженной степи, даже когда морозная дымка скрывала горизонт и даже когда оказывался в северных широтах, где полярная ночь длится долгие месяцы.
Михаил познал все секреты своего отца. Он умел ориентироваться по неуловимым приметам: расположению веток на дереве, запаху ветра, принесенному издалека, следам на траве, неясным звукам, полету птиц в тумане — любая мелкая деталь становится приметой для знающего человека. Закаленный в снегах, как дамасская сталь в сирийских реках, он славился железным здоровьем и, как верно заметил генерал Кисов, имел золотое сердце.
Всю свою любовь Михаил отдавал старой матери, не захотевшей продать свой дом в Омске, на берегу Иртыша, где она прожила с мужем долгую жизнь. С тоской расставаясь с матерью, сын обещал навещать ее при малейшей возможности и обещание свое свято выполнял.
На службу к русскому императору, в курьерский отряд, Михаил Строгов поступил в возрасте двадцати лет. Молодой, умный, смелый сибиряк отличился уже в первой своей поездке на Кавказ, в край мятежный, бунтующий под влиянием горячих наследников Шамиля. Позднее — при выполнении важного поручения, приведшего его в Петропавловск, на Камчатку, на окраину азиатской России. В этих поездках он в полной мере выказал хладнокровие, осторожность и храбрость, заслужил одобрение и покровительство начальников, что и позволило ему быстро сделать карьеру.
Каждый отпуск, заслуженный отличным выполнением важных миссий, он проводил в доме своей старой матери, и его не могли остановить тысячи верст трудных дорог. Но вот впервые Михаил, занятый делами на юге империи, не навещал мать три года, которые показались ему тремя веками! Через несколько дней ему должны были предоставить отпуск, он уже приготовился к отъезду в родной город, когда случились известные события! Михаил Строгов был представлен государю и находился в полном неведении относительно своей дальнейшей судьбы.
Царь молча рассматривал его несколько минут проницательным взором. Михаил стоял не шелохнувшись. Затем царь, без сомнения удовлетворенный своими наблюдениями, вернулся к столу, усадил за него министра внутренних дел и тихо продиктовал тому несколько строк какого-то письма.
Перечитав с большим вниманием составленное письмо, он поставил под ним свою подпись, предварив ее словами: «Быть по сему» — сакраментальной фразой российских императоров. Письмо тут же вложили в конверт и запечатали печатью с императорским гербом.
Государь поднялся и велел Михаилу Строгову подойти ближе. Тот сделал несколько шагов, остановился и приготовился отвечать. Царь внимательно вглядывался в его лицо. Не отводя глаз, громко спросил:
— Как тебя зовут?
— Михаил Строгов, государь.
— В каком ты чине?
— Капитан специального отряда курьеров.
— Хорошо ли ты знаешь Сибирь?
— Я — сибиряк.
— В каком ты месте родился?..
— В Омске.
— И у тебя там есть родственники?
— Да, государь!
— Кто же они?
— Одна старая мать.
Царь прекратил расспрашивать Строгова и указал ему на письмо, которое не выпускал из рук.
— Это письмо я поручаю тебе вручить лично Великому князю и никому другому.
— Я сделаю это, государь.
— Великий князь сейчас находится в Иркутске.
— Я поеду туда.
— Тебе предстоит пробираться через мятежный край, враги очень заинтересованы в том, чтобы перехватить это письмо.
— Я проберусь.
— Ни в коем случае не доверяй предателю Ивану Огареву, он может встретиться на твоем пути.
— Я поостерегусь его.
— Твой путь лежит через Омск?
— Да, государь. — Но если ты навестишь мать, тебя могут узнать. Тебе нельзя видеться с ней!
Михаил на секунду дрогнул и ответил:
— Я не увижусь с ней.
— Дай клятву, что никакие обстоятельства не заставят тебя признаться, кто ты и куда идешь!
— Клянусь.
Государь подал письмо молодому курьеру.
— Возьми его, но помни, что от него зависит спасение Сибири, а может быть, и жизнь моего брата, Великого князя.
— Письмо будет вручено Его высочеству Великому князю!
— Ты уверен, что проберешься?
— Я дойду или погибну.
— Ты нам нужен живым!..
— Я останусь жив и выполню поручение, — ответил Михаил.
Государь с удовлетворением выслушал простой и уверенный ответ.
— Ступай же, Михаил Строгов, — сказал он, — с Богом, ради России, ради моего брата и меня!

Строгов отдал честь и покинул императорский кабинет, а через несколько минут и царский дворец.
— Я думаю, что нам повезло, генерал, — вымолвил царь.
— Надеюсь, государь, — ответил генерал Кисов. — Ваше Высочество может быть уверено, что Строгов сделает все, что в человеческих силах.
— Да, это настоящий мужчина, — закончил разговор царь.
Глава IV
Из Москвы в Нижний Новгород
Расстояние, которое предстояло преодолеть Михаилу Строгову от Москвы до Иркутска, как известно, составляет пять тысяч двести верст (5 523 км). В те времена, когда телеграфные провода еще не были протянуты от Урала до восточной границы Сибири, депеши доставляли курьеры. Самому быстрому из них требовалось восемнадцать дней, чтобы преодолеть путь из Москвы в Иркутск. Сейчас дорога занимала от четырех до пяти недель, хотя все средства передвижения были в распоряжении посланцев царя. Как человек закаленный, Михаил предпочитал бы ехать в суровое зимнее время, когда весь путь он мог бы проделать в санях. Бескрайние степи выравнивались снежным покровом, отпадала надобность в переправах через реки — сани легко и быстро скользили по ледяной дороге. Были в это время свои опасности: частые густые туманы, сильные морозы, долгие, страшные бураны, сбивающие с пути и губящие целые караваны. К тому же стаи голодных волков рыскали по обе стороны санного пути. Но это были природные опасности, их одолевать легче, зато суровой зимой передвижение татарских орд стало бы невозможным, их воины квартировали бы в селениях, а мародеры не носились по степям. И Михаилу Строгову было бы проще пробраться сквозь вражеские кордоны. Однако ему не дано было выбирать ни время, ни погоду. Невзирая ни на какие обстоятельства, он должен был ехать и был готов к любым неожиданностям.
Ведь он был необычным царским курьером. Но об этом никто не должен даже догадываться, а охваченный восстанием край кишел шпионами. Любая неожиданная встреча с людьми, знавшими его. ставила под угрозу выполнение миссии. Вот почему, вручая курьеру немалую сумму денег на весь долгий путь, генерал Кисов не выдал никакого письменного приказа с надписью «Царская служба», открывавшего перед ним любые двери по первому предъявлению. Он дал ему лишь подорожную грамоту.
Эта подорожная была выписана на имя Николая Корпанова, купца, проживающего в Иркутске. Она гласила, что купцу Корпанову разрешается взять с собой одного или нескольких попутчиков. Кроме того, имелось примечание, что грамота действительна даже в случае, если московское правительство запретит всем другим подданным покидать Россию.
По сути дела подорожная была лишь разрешением на получение почтовых лошадей, но пользоваться ею Михаил мог очень осторожно, не вызывая подозрений. И если на европейской территории он еще мог пустить ее в ход, то в Сибири, пробираясь по мятежным провинциям, он уже не имел возможности по-хозяйски распорядиться на почтовых станциях: ни потребовать лучших лошадей в первую очередь, ни реквизировать экипаж. Теперь Строгов обязан был постоянно помнить, что он больше не курьер царского отряда, а простой купец Николай Корпанов, едущий из Москвы в Иркутск, а значит, подверженный всяким случайностям обычного путешествия.
Незаметно и как можно быстрее добраться до конечного пункта — все должно было служить одной этой цели.
Уже тридцать лет назад эскорт знатного путешественника обычно состоял из двухсот верховых казаков, двухсот пехотинцев, двадцати пяти башкирских всадников, трехсот верблюдов, четырехсот лошадей, двадцати пяти повозок, двух переносных лодок и двух пушек. Ему же не полагалось иметь ни пушек, ни всадников, ни пехотинцев, ни вьючных животных. Он поедет в обычной повозке или верхом, а если будет нужно, то и пойдет пешком.
Первые тысяча четыреста верст не должны были представлять особых трудностей. Железная дорога, почтовые карсты, пароходы были в распоряжении любого путешественника, а значит и царского курьера.
Итак, утром 18 июля Михаил Строгов, сменил мундир на обычную одежду: кафтан, подпоясанный кушаком, широкие штаны, сапоги, перетянутые в голенищах ремешками, пришел на вокзал и стал дожидаться первого поезда. Он не держал оружие открыто, под кушаком был спрятан револьвер, а в кармане — широкий тесак, что-то сроднее между ножом и ятаганом, которым сибирские охотники аккуратно свежуют убитого медведя, не портя его драгоценной шкуры. На московском вокзале, как обычно, было много народа — так уж повелось, что российские железнодорожные станции стали местом встреч людей, тех, кто провожает, и тех, кто уезжает, и давно превратились в своеобразную биржу новостей.
Поезд, в который сел Михаил Строгов, довозил его до Нижнего Новгорода. Там заканчивалась железная дорога, которая со временем будет проложена до российской границы. Расстояние до конечной станции составляло примерно четыреста верст, и поезд шел до нее около двенадцати часов.

По приезде в Нижний Новгород Михаил намеревался сразу же отправиться дальше, в зависимости от обстоятельств, лошадьми или на пароходе по Волге, надо было, как можно быстрее достичь Урала.
В купе Михаил тут же лег спать, как достойный мещанин, который может себе позволить не тревожиться за дела и старается убить время в дороге сном. Но в купе он был не один, поэтому спал вполглаза, а слушал в оба уха.
Слух о восстании киргизских племен и нашествии ханских орд уже широко распространился. Попутчики, с которыми его свел случай, обсуждали эти события не без некоторой осторожности. Они, как и большинство пассажиров этого поезда, были купцами и ехали на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Народ собрался разноплеменный: евреи, русские, казаки, турки, грузины, калмыки и другие, но почти все свободно говорили на русском языке. Высказываясь за и против развернувшихся за Уралом событий, они, казалось, побаивались одного: как бы русское правительство не приняло вынужденных ограничительных мер, особенно в приграничных районах от которых пострадает их торговля.
Надобно отметить, что торговые люди эгоистически смотрели на военные действия — на подавление мятежа и борьбу с нашествием, лишь с точки зрения своих интересов. Одного только присутствия солдата в форме — а известно, как велико значение мундира в России — было достаточно, чтобы они попридержали языки. Но в купе, где ехал Михаил, никто и не подозревал о том, что он военный, — курьер царя был не из тех людей, кто способен неосторожно выдать себя. И он внимательно слушал.
— Утверждают, что цены на чай падают, — говорил перс в каракулевой папахе и коричневом потертом халате с широкими складками.
— О, нет! Чаю не грозит падение цен, — отвечал старый еврей с нахмуренным лицом. — Чай на Нижегородской ярмарке легко продать на запад, иначе обстоят дела с бухарскими коврами!
— Как?! Вы ожидаете груз из Бухары? — тут же спросил его перс.
— Нет, но жду, груз из Самарканда, хотя и он подвергается не меньшей опасности. Вот и рассчитывай на поставки из страны, взбаламученной ханами от Хивы до китайской границы.
— Так-то так, — вставил перс, — но если ковры прибудут, не будет и затрат, как я полагаю!
— А прибыль, Бог Израиля! — воскликнул маленький еврей. — Она для вас не важна?!
— Вы правы, — сказал еще один пассажир, — среднеазиатских товаров может оказаться на ярмарке мало, и не только самаркандских ковров, а и шерсти, жиров, восточных шалей.
— Эй, поосторожнее, папаша! — насмешливо проговорил русский купец. — Если смешаете ваши шали с жирами, вы можете их ужасно засалить!
— Вам смешно! — о горечью возразил тот, всем видом показывая, как ему не нравятся подобные шутки.
— Да хоть рвите на голове волосы и посыпайте ее пеплом, — послышался ответ, — изменится ли что-то от этого! Нет! Как не изменятся цены на товары.
— Сразу видно, что вы не купец! — заметил маленький еврей.
— Сказать по правде, нет, достойный потомок Авраама! Я не продаю ни хмель, ни гагачий пух, ни мед, ни воск, ни конопляное семя, ни соленое мясо, ни икру, ни лес, ни шерсть, ни ленты, ни пеньку, ни лен, ни сафьян, ни пушнину!..
— Значит, вы их покупаете? — прервал его перс.
— Совсем мало, только для личного потребления, — ответил русский и подмигнул.
— Шутник! — обратился еврей к персу.
— Или шпион, — прошептал тот ему на ухо, — будем осторожными, не сболтнуть бы лишнего. Полиция свирепствует, никогда не знаешь, с кем путешествуешь.
В другом углу купе меньше говорили о торговле, все больше о нашествии татар, о его пагубных последствиях.
— Лошади в Сибири будут реквизированы, — высказывался один из пассажиров, — передвигаться по Средней Азии станет трудно.
— Правда ли, — спросил его сосед, — что киргизы действуют заодно с южными ханствами?
— Говорят… — понизив голос, ответил пассажир. — Но кто в этой стране может похвалиться, что знает что-то точно!
— Я слышал, что войска накапливаются на границе. Донские казаки уже собрались на Волге, и их выставят против восставших киргизов.
— Если киргизы сплавились по течению Иртыша, то дорога на Иркутск уже небезопасна. — ответил сосед. — Впрочем, вчера я пытался отправить телеграмму в Красноярск, и она не прошла. Как бы азиаты не отрезали всю Восточную Сибирь!
— В общем, — вернулся к началу разговора первый собеседник, — купцам надо беспокоиться о торговле и коммерческих сделках. Реквизируют лошадей — купцы перейдут на пароходы, повозки, на все средства передвижения. И так будет, пока не запретят делать хотя бы шаг на всей территории империи.
— Боюсь, что Нижегородская ярмарка закончится не так пышно, как была открыта! — покачал головой купец. — Безопасность и целостность Российской империи прежде всего. Дела — всего лишь дела.
Темы разговоров не отличались разнообразием ни в этом купе, ни в других вагонах поезда; повсюду можно было заметить чрезвычайную осторожность в словах беседующих. И если они еще осмеливались говорить о событиях, то ни в коем случае не высказывали своих оценок действиям правительства, что очень верно подметил один из пассажиров головного вагона поезда. Этот путешественник — очевидно, иностранец — смотрел по сторонам во все глаза и задавал в минуту двадцать вопросов, на которые попутчики ему отвечали очень уклончиво.
Высунувшись в правое окно купе, открытое им к большому неудовольствию соседей, он не пропускал ни одной точки на горизонте! Выспрашивал названия самых малых населенных пунктов, чем в них занимаются, чем торгуют, сколько там жителей, сколько в среднем живут мужчины к женщины и так далее, занося выуженные сведения в блокнот, порядком уже исписанный.
Это был журналист Алсид Жоливе. Задавая столь много вопросов, он питал надежду выловить какую-либо интересную информацию «для своей кузины». Естественно, что его принимали за шпиона и не произносили не единого слова касающегося последних азиатских событий. Не услышав о ханском нашествии ничего, он записал в своем блокноте:
«Пассажиры очень скрытны. О политике почти не говорят».
Пока Алсид Жоливе подробно записывал свои впечатления о путешествии, его коллега, ехавший тем же поездом и с той же целью, занимался той же работой в соседнем купе. В день отправления они не встретились на московском вокзале и еще не знали, что вместе едут смотреть театр военных действии.
Гарри Блаунт, говоривший мало, а больше слушавший, в отличие от Алсида Жоливе, не вызывал у попутчиков болезненной подозрительности. Его не принимали за шпиона, и соседи откровенно беседовали между собой, выбалтывая порою больше, чем позволяла обычная осмотрительность. Поэтому корреспондент «Дейли Телеграф» не мог не заметить, как сильно беспокоят эти события купцов, ехавших в Нижний Новгород, и какой опасности подвергается торговля со Средней Азией. И сделал очень верное наблюдение, записав в блокноте:
«Пассажиры чрезвычайно встревожены. Говорят только о войне, и так раскованно, что не может не удивлять в местах между Волгой и Вислой!»
Было очевидно, что русское правительство понимало всю серьезность возможных последствий нашествия и принимало решительные меры даже внутри империи. Восстание пока не перекинулось за сибирскую границу, но в Поволжье, близком к киргизским степям, надо бы остерегаться его опасного влияния.
Полиция еще не напала на след Ивана Огарева и не знала, где находится предатель, призвавший иноверцев отомстить за свои личные обиды: может быть, присоединился к Феофар-Хану, а может, уже пытаемся подстрекать к смуте Нижегородскую губернию, куга в это время года стекался пестрый люд. Нет ли у него среди этих персов, армян, калмыков, прибывающих на ярмарку, сообщников, имеющих поручение разжечь восстание в глубине России? В этой стране могли исполниться любые предположения.
Обширная империя, насчитывающая двенадцать миллионов квадратных километров, не имела единства, присущего западноевропейским государствам. Между многочисленными народами, населяющими ее, неизбежно существовали большие различия. Российские земли в Европе, Азии, Америке простираются между 15° восточной долготы и 133° западной долготы, то есть протяженность достигала почти двухсот градусов
[2], и от 38-й параллели на юге до 81-й параллели на севере, что составляло сорок три градуса
[3]. В них проживают более 70 миллионов человек, говорящих на тридцати языках. Славянская раса преобладает в империи, но включает в себя и поляков, и литовцев, и курляндцев. А если для полноты картины добавить финнов, эстонцев, лопарей, чувашей, пермяков, немцев, татар, кавказские и монгольские племена, калмыков, самоедов, камчадалов, алеутов, становится ясным, как сложно сохранять единство такого огромного государства, сотворенного временем и мудростью его правителей.
По-видимому, Ивану Огареву удалось уйти от всех облав, и он, вероятно, добрался до татарской армии. Тем не менее на каждой станции, где останавливался поезд, тут же появлялись проверяющие, внимательно вглядывавшиеся в каждого пассажира и при необходимости подвергавшие их тщательному досмотру. Полиция продолжала искать Ивана Огарева.
Правительство полагало, что предатель еще не покинул пределов европейской части России. Случалось, что подозрительного пассажира задерживали и уводили в полицейский участок, нимало не заботясь об отставшем от поезда. И бесполезно было перечить русской полиции, совершенно не терпящей возражений. Ведь се чины беспрекословно подчиняются воинской дисциплине. Да и как не подчиниться приказам, исходящим от самого монарха, который имеет право формулировать начало своих указов следующим образом:
«Мы, Божьей милостью, император, самодержец всея Руси,самодержец Московский, Киевский, Владимирский и Новгородский, царь Казанский, Астраханский, царь Польши, Сибири, Херсонеса таврического, господин Пскова,Великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, Князь эстонский, ливонский, курляндский, Белостокский, Карельский, Пермский, Вятский, Болгарский и многих других губерний, господин и великий князь Нижегородский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский. Ярославский, Белозерский, Витебский, Мстиславский, покоритель северных стран, господин Иверии, Грузии, Кабардинии, Армении. Наследный князь черкасский и других горских князей, наследный принц Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштинский, Шторморнский, Дитмарсенский и Ольденбургский…»
Это могущественный монарх, на гербе которого изображен двуглавый орел, окруженный гербами всех его земель.
Документы у Михаила Строгова были в полном порядке и не могли вызывать подозрения у полиции.
Во Владимире, где поезд стоял всего несколько минут (кстати, этого времени хватило корреспонденту «Дейли Телеграф», чтобы составить полное мнение об этом древнем городе), в вагон вошли новые пассажиры. В дверях купе, занимаемого Михаилом, появилась девушка и уселась на свободное место как раз напротив него. Весь ее багаж был — красная кожаная сумка. Опустив глаза, словно боясь взглянуть на попутчиков, она приготовилась к поездке, которая должна была продлиться несколько часов. Михаил внимательно разглядывал новую соседку. В какой-то миг ему показалось, что ей неудобно сидеть спиной к ходу поезда, и он предложил ей свое место, но она, поблагодарив, отказалась от его предложения.

На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Чисто славянское очаровательное лицо, сейчас чуть хмурое, обещало из хорошенького превратиться в красивое. Из-под косынки выбивались белокурые с золотистым отливом волосы. Карие глаза таили нежный взгляд. Но ее изящный рот, казалось, давно уже разучился улыбаться.
Высокая, стройная, насколько можно было судить о ее комплекции под просторной накидкой, скрывающей фигуру, она была еще очень молода. Но высокий лоб, четко очерченный подбородок указывали на большую нравственную силу — и эта деталь не ускользнула от Михаила. Очевидно, она много страдала в прошлом и будущее уже не рисовалось ей в розовых тонах, тем не менее было ясно, что девушка готова перенести любые житейские трудности и умеет бороться с ними. За хрупкой внешностью скрывалась большая сила воли, и она сохраняла невозмутимость даже в случаях, где мужчина мог упасть духом или потерять выдержку. Такое впечатление произвела девушка на Михаила с первого взгляда, и он, сам будучи сильным человеком, был поражен выражением ее лица. Стараясь не надоедать ей своим взглядом, он с интересом наблюдал за соседкой.
Платье юной путешественницы отличалось простотой и аккуратностью. Легко угадывалось, что она не богата, но напрасно было искать в ее одежде следы бедности. Весь свой багаж, умещавшийся в кожаной сумке, запертой на ключ, за неимением места, она держала на коленях. Одета она была в длинную темного цвета накидку без рукавов, стянутую у ворота голубой каймой, длинное, до щиколоток, платье, понизу украшенное неброской вышивкой. Маленькие ноги были обуты в крепкие кожаные полусапожки, которые могли быть выбраны лишь для долгого путешествия.
Одежда ее напоминала покрой ливонских костюмов, и Михаил подумал, что, должно быть, его соседка родом из прибалтийских краев. Но куда она направлялась одна в таком возрасте, когда девушке еще требуется поддержка отца или матери, защита брата? Долго ли она путешествует? И едет ли только в Нижний Новгород, а может быть, путь ее лежит дальше — за восточные границы империи? И кто ее встретит по прибытии поезда: родственник, друг? А вероятнее всего, покинув вагон, она окажется еще более одинокой, чем в этом купе, где никто (как казалось ей) не замечал ее.
Печать одиночества лежала на всем облике молодой девушки. И то, как она вошла в вагон, и как устроилась в купе, никому не помешав, никого не стеснив, — все это выказывало привычку быть одной и рассчитывать только на свои силы. Наблюдая за ней с интересом, Михаил, сам сдержанный человек, не искал случая заговорить с нею, хотя до прибытия поезда в Нижний Новгород оставалось еще много часов.
Но когда сосед девушки — тот самый купец, что небрежно смешивал в разговоре жиры и шали — заснул и его голова начала крениться то влево, то вправо, беспокоя девушку, Михаил не выдержал и потряс его за плечо, давая понять, что не следует валиться на соседей. Купец, грубиян по натуре, спросонья пробурчал что-то вроде: «Не лез бы ты не в свои дела», но развить свою мысль не успел: стальной взгляд Михаила остановил его, и он привалился к другой стенке, освободив юную путешественницу от неудобного соседства. Она бросила на молодого человека мимолетный взгляд, и он прочел в нем немую благодарность.
Но скоро случай, позволивший Михаилу составить более точное представление о характере девушки, представился. За двенадцать верст до Нижнего Новгорода, на крутом повороте, состав содрогнулся и на бешеной скорости покатился по рельсам. В момент удара пассажиры полетели кубарем со своих мест, раздались истошные крики, возникла сумятица. В любой миг можно было ожидать крушения. Люди бросились открывать двери вагонов, готовились на ходу выпрыгивать на насыпь.
Михаил сразу подумал о своей соседке. Но в то время, как пассажиры, толкаясь и крича, выбегали из купе, она, не шелохнувшись, сидела на скамье со слегка побледневшим лицом. Она выжидала, и Михаил выжидал. Она не торопилась покинуть вагон, и он тоже не двигался. Оба оставались бесстрастными.
«Ну и характер», — подумал Михаил.
Меж тем опасность исчезла. Оказалось, что лопнула ось у багажного вагона. Скоро поезд замедлил ход и остановился, но если бы продвинулся вперед еще на какое-то расстояние, мог оказаться под откосом.
Случилась задержка на час. Наконец поломанный вагон отцепили, поезд тронулся дальше и в половине девятого вечера прибыл на вокзал Нижнего Новгорода.
Здесь у вагонов стояли полицейские и внимательно осматривали пассажиров. Михаил протянул подорожную на имя Николая Корпанова и беспрепятственно ступил на перрон. Пока никто из пассажиров, к их счастью, не вызывал подозрений. Девушка вынула из паспорта, которые теперь не требуют в России, специальный пропуск. Инспектор внимательно изучил его, затем придирчиво глянул на девушку.
— Вы из Риги? — спросил он.
— Да, — ответила девушка.
— Следуете в Иркутск?
— Да.
— По какой дороге?
— Через Пермь.
— Хорошо, — закончил разговор инспектор. — Не забудьте отметить визу в нижегородской полиции.
Девушка слегка наклонила голову. Услышав это, Михаил испытал одновременно удивление и жалость. Как?! Эта одинокая девушка тоже едет в Сибирь, да еще когда к обычным тяготам далекого пути добавились опасности мятежного края! Как же она сможет добраться и что с нею будет? Он хотел шагнуть ей навстречу, но молодая ливонка вышла из вагона и исчезла в толпе, заполнившей перрон вокзала.
Глава V
Приказ из двух параграфов
Нижний Новгород стоит на слиянии Волги и Оки и является центром губернии. Здесь оканчивался железнодорожный путь. Чем дальше продвигался Михаил Строгов, тем средства передвижения становились вначале менее быстрыми, потом менее безопасными. Город, в обычное время насчитывающий 30-35 тысяч жителей, сейчас вмещал в десять раз больше и этим был обязан знаменитой ярмарке, длившейся целых три недели. Если раньше город Макарьев гостеприимно принимал купцов, то с 1817 года место проведения ярмарки перенесли в Нижний Новгород. И город в обычное время довольно скучный, оживал, так как со всей Европы и Азии съезжались сюда купцы для продажи и покупки товара.
Когда Михаил покинул вокзал, было уже поздно, но в обеих частях города, разделенного Волгой, было очень оживленно. Верхний город, построенный на крутом берегу, был защищен крепостью, которую в России называют Кремлем. Если бы Михаилу понадобилось надолго остановиться в Нижнем Новгороде, то найти гостиницу или приличный постоялый двор было бы крайне сложно. Все они были переполнены. Но и уехать сразу он не мог, так как должен был плыть по Волге на пароходе, и волей-неволей ему приходилось беспокоиться о ночлеге. Однако прежде он хотел уточнить время отплытия и направился в контору компании, чьи пароходы ходили между Нижним Новгородом и Пермью.
Там, к своему огорчению, он узнал, что пароход «Кавказ» отправится в Пермь только на следующий день, через семнадцать часов! Досадно для спешащего человека, но ничего не оставалось, как смириться. Михаил никогда напрасно не мучился. Впрочем, никакая кибитка, телега, тарантас или карета, никакая верховая лошадь не могли доставить его скорее в Пермь или в Казань. Лучше подождать отплытия парохода — на нем он мог наверстать упущенное время.
И Михаил отправился на поиски какого-либо постоялого двора, где бы он мог провести ночь. Нимало не беспокоясь, он бродил по улицам города, и если бы не голод, он бродил бы по ним до утра. Он искал скорее ужина, чем постели, а нашел то и другое под вывеской «Константинополь». Хозяин постоялого двора предложил ему приличную комнату, скромно обставленную, но с иконой Богородицы и изображениями нескольких святых, вставленных в рамки, обтянутые позолоченной тканью. Ему тотчас же подали фаршированную утку, смазанную густой сметаной, ржаной хлеб, простоквашу, сахарную пудру с корицей и горшок кваса. Чтобы утолить голод, столько пищи ему не требовалось. Он скоро насытился, и даже гораздо успешнее, чем его сосед по столу. Тот, будучи старовером, дал обет воздержания, поэтому убирал из своей тарелки картофель, пил чай без сахара.
После ужина, вместо того чтобы подняться в свою комнату, Михаил вновь отправился на прогулку. Город окутывали густые сумерки, улицы опустели, толпа поредела, каждый торопился в свое жилище.
Отчего же Михаил не завалился спать, что следовало бы сделать после целого дня, проведенного в поезде? Вспоминал ли он о молодой ливонке, на несколько часов ставшей, его попутчицей? Вынужденно бездельничая, он думал о ней. Тревожился ли, что, затерянная в этом шумном городе, она может быть обижена кем-то? Он имел все основания бояться этого. Надеялся ли встретить ее, а, при необходимости, стать ее покровителем? Наверное, нет. Встретить ее не было никакой надежды. Защищать ее… по какому праву?
«Ведь она одна, — думал он, — одна среди этих бродяг! Но что эти опасности по сравнению с тем, что готовит ей будущее! Сибирь! Иркутск! То, что я стараюсь сделать ради России и царя, она делает ради… кого? Или чего? Ей разрешено пересечь границу, а там лежит восставший край! По степям носятся татарские банды!..»
Михаил останавливался, размышляя, и снова шел. «Конечно же, — думал он, — мысль об этом путешествии пришла к ней еще до мятежа. А возможно она и не знает об нем! Нет, не может быть, ведь купцы при ней говорили о смуте в Сибири… а она и не высказала удивления… Не попросила разъяснений… Не значит ли это, что она знала о волнениях, и, зная, едет!.. Бедняжка! Должно быть, имеет на то серьезные причины! Но как бы смела она ни была, — а она, безусловно, смела, — ей не хватит сил на дорогу, не сможет она вынести всех тягот такого путешествия, даже если отбросить поджидающие ее опасности и препятствия!.. Никогда ей не добраться до Иркутска!»
В это время Михаил шел наугад, нисколько не тревожась, поскольку хорошо знал город и без труда мог найти обратную дорогу. После часа ходьбы он присел на скамейку возле большого деревянного дома, одного из множества стоящих на большой площади. Не прошло и пяти минут, как чья-то тяжелая рука легла ему на плечо.
— Что ты тут делаешь? — грубо спросил его высокий, мужчина, незаметно подойдя сзади.

— Отдыхаю, — просто ответил Михаил.
— Ты что, собрался переночевать на скамейке? — задал мужчина другой вопрос.
— А почему бы и нет, если захочу, — ответил Михаил, тоном, не терпящим возражений, какой не подобает простому купцу.
— Подойди-ка поближе, дай я взгляну на тебя! — приказал мужчина.
Михаил, вспомнив, что нужно быть предельно осторожным, инстинктивно отступил назад.
— Нечего на меня смотреть, — ответил он. И, сохраняя хладнокровие, отошел от незнакомца на десяток шагов. Присмотревшись, он понял, что имеет дело с цыганом, какие встречаются на всех ярмарках и с которыми лучше не иметь никакого дела. Всмотревшись, он заметил в сгущающейся темноте недалеко от дома кибитку — обычное цыганское жилище на колесах, что в избытке кочуют по всей России в надежде заработать какие-нибудь копейки.
Тем временем цыган сделал несколько шагов навстречу, явно пытаясь вновь заговорить с Михаилом. Но тут отворилась дверь дома, какая-то женщина быстро подошла к цыгану и на невообразимом диалекте из монгольских и сибирских слов сказала: «Еще один шпион. Оставь его и пошли ужинать».
Михаил не смог сдержать улыбки — его приняли за шпиона когда сам он больше всего их опасался. На том же наречии, хотя и, с другим акцентом, чем у женщины, цыган проронил несколько слов, которые означали: «Ты права, Сангарра! Впрочем, завтра мы уезжаем!»
— Завтра? — вполголоса повторила женщина с нескрываемым удивлением.
— Да, Сангарра, — ответил цыган, — завтра, и сам Отец посылает нас… куда мы и хотим поехать!
Мужчина и женщина вошли в дом и плотно затворили двери.
«Прекрасно! — подумал Михаил. — Цыгане думали, что я не понимаю их, но не советовать же им говорить при мне на другом языке».
Как уже было сказано, детство его прошло в степи, и он понимал почти все наречия, бытующие от Средней Азии до Ледовитого океана. Смыслу разговора цыгана со своей спутницей он не придал особого значения. Да и чем они могли заинтересовать его?
Спохватившись, что время и впрямь позднее, Михаил решил вернуться на постоялый двор и немного отдохнуть. Возвращался он берегом Волги, воды которой даже не проблескивали под сплошным покровом бесчисленных судов. И он понял, какое место только что покинул. Это нагромождение повозок и самых разных построек приходилось на ту самую площадь, где каждый год проводится Нижегородская ярмарка — потому тут и скапливались разного рода шарлатаны и цыгане со всего света.
Час спустя Михаил забылся неспокойным сном на обычной русской кровати, которые кажутся иностранцам такими твердыми. Утро 17 июля разбудило его ярким солнечным светом. Ему предстояло провести в Нижнем Новгороде еще пять часов, и они могли показаться вечностью.
Что еще оставалось ему делать, как не бродить по улицам города. Всех дел только и было, что позавтракать, поставить визу на подорожную в полиции и уехать. Будучи человеком, который поднимается с постели рано, он встал, оделся, аккуратно положил письмо с императорским гербом в карман, вшитый в подкладку поддевки, затянул пояс и, завязав котомку, закинул ее через плечо. Собравшись, он расплатился, не желая более возвращаться в «Константинополь», решил позавтракать на берегу Волги, у причалов, и покинул постоялый двор.
Перестраховавшись, Михаил отправился вначале в пароходную компанию и удостоверился, что «Кавказ» отходит в точно указанное время. И тут ему неожиданно пришла в голову мысль, что поскольку молодая ливонка едет в Пермь, то вполне вероятно, тоже на этом судне, и, возможно, они проделают этот путь вместе. Верхний город, окруженный стенами кремля, так похожего на московский, в этот час был совершенно пуст. Теперь даже губернатор не жил тут. И насколько он был безлюден, настолько Нижний город был оживлен!
Михаил перешел через Волгу по понтонному мосту, охраняемому казаками на лошадях, и добрался до того места, где накануне встретился с цыганом. Нижегородская ярмарка, с которой не могла соперничать даже Лейпцигская, располагалась за чертой города. На просторном поле, за Волгой, возвышался дворец генерал-губернатора, где временно, пока идет ярмарка, размещалась его резиденция.
Это равнинное место было заставлено деревянными постройками, выстроенными ровными рядами, так что между ними оставались широкие, свободные проходы. Вся ярмарка разбивалась на отдельные кварталы, предназначенные для торговли каким-то одним товаром. Здесь были кварталы изделий из металла, торговли мехом, шерстью, лесом, тканями, сухой рыбой и так далее. Но были постройки, сооруженные из необыкновенного, фантастического материала: из кирпичей чая, туш соленого мяса, то есть из образцов товаров, которые хозяева предлагали покупателям. Реклама, пожалуй, оригинальнее американской!
Этим ранним утром — было всего четыре часа утра, хотя солнце уже высоко стояло над горизонтом, — на аллеях и целых проспектах ярмарки толпилось уже много народа. Русские и немцы, казаки и туркмены, персы и грузины, греки и турки, индийцы и китайцы представляли из себя необыкновенное скопление европейцев и азиатов, торгующихся друг с другом. Казалось, на этой площади было собрано все, что продается и покупается в мире. Меха и драгоценные камни, шелка, индийские кашемиры и турецкие ковры, кавказское оружие и разные сорта чая, европейские изделия из бронзы и швейцарские часы, лионский бархат и шелк, английские ткани из хлопка, кареты, фрукты, овощи, уральские самоцветы и афганская лазурь, ароматические вещества, духи и лекарственные травы, лес, деготь, такелаж, рога, тыквы и арбузы и еще множество других товаров из Индии, Китая, Америки и Европы.
Непросто даже представить себе эту пеструю картину, это непрерывное движение: возбуждение, толкотню, неумолкающий гомон. Не сдерживали чувств даже новгородские крестьяне, а что же говорить об иностранцах! Некоторые купцы, например из средней Азии, целый год везли свои товары по бескрайним степям, чтобы попасть на ярмарку, и еще очень не скоро им предстоит увидеть свой дом. О чисто коммерческом же значении ярмарки говорила такая цифра: на каждой из них заключались сделки на сумму не менее 100 миллионов рублей.
Проходы между кварталами этого импровизированного города заполняли фокусники всех мастей; бродячие актеры и акробаты, оглушающие завыванием оркестров и воплями балаганных представлений; цыгане, непрерывно гадающие постоянно обновляющейся толпе, и цыгане, поющие свои колоритные песни танцующие под них; артисты ярмарочных театров, играющие драмы Шекспира, приспособленные под вкусы неискушенных зрителей. Еще дальше по длинным проходам водили медведей-эквилибристов дрессировщики, а рядом, в зверинце, слышалось хриплое рычание других зверей, подстегиваемых бичом или раскаленным прутом укротителя. Наконец, в центре площади, окруженной в четыре ряда слушателями, располагался хор волжских речников, сидевших на земле, как на скамейках своих лодок, и гребущих веслами, как бы взаправду под руководством рулевого этой воображаемой лодки!
А вот странное и очаровательное действо: вдруг над толпой взмывает в небо множество птиц, шумно вырывающихся из раскрытых клеток, в которых их сюда принесли. Добрый обычай Нижегородской ярмарки: ловцы птиц в обмен на несколько копеек милосердных людей освобождали своих заключенных, и те сотнями разлетались с радостным гомоном.
Так выглядело это приволжское место, и таким оно должно было оставаться все шесть недель. А после стихнет, как по волшебству, ярмарка, и верхний город вновь примет официальный вид, а нижний вернется к обычной повседневной жизни, и схлынет поток купцов из всех уголков Азии и Европы, и не останется ни одного продавца, которому было бы еще что продать, и ни одного покупателя, у которого было бы еще на что купить.
Не забыть бы отметить, что на этот раз Франция и Англия были представлены на великой Нижегородской ярмарке двумя самыми изысканными продуктами европейской цивилизации, господами Гарри Блаунтом и Алсидом Жоливе. Оба корреспондента прибыли на нее исключительно ради впечатлений для своих читателей и использовали эти часы наилучшим образом — они тоже отправлялись на пароходе «Кавказ».
Встретившись на ярмарке, они не очень удивились этому — журналистское чутье вело их по одному и тому же следу, — но не заговорили друг с другом, а ограничились сдержанными поклонами. Алсид Жоливе, оптимист по натуре, находил, что все идет как надо, и так как нашел приличный кров и сытный стол, то записал в свой блокнот несколько правдивых замечаний о Нижнем Новгороде. Гарри Блаунт, напротив, остался без ужина и провел ночь под звездным небом, и потому видел город в ином свете. Он уже задумал разгромную статью о негостеприимстве содержателей нижегородских гостиниц, отказывавшихся принимать путешественников, которые только того и желают, чтобы их ободрали.
Михаил Строгов гулял по ярмарке, держа одну руку в кармане, а из другой не выпуская длинную трубку из дикой вишни, и мог показаться самым безразличным и невозмутимым из людей. Однако по движению бровей, мимике наблюдательный человек легко бы заметил, каких трудов ему стоит сдерживать свое нетерпение. Вот уже около двух часов ходил он по улицам, возвращался на ярмарку и опять уходил в город. Толкаясь в толпе, оп не мог не заметить нарастающее беспокойство у купцов, приехавших из краев, граничащих с азиатскими ханствами. Их торговые дела шли хуже, чем у других. Бродячие актеры громко шумели около этих лавок, им было не о чем беспокоиться, они здесь ничем не рисковали. Но торговые люди опасались связывать себя обязательствами с купцами — выходцами из мятежного края.
Есть еще один отличительный признак — в России военные мелькают везде. В любой толпе можно увидеть солдат, а уж на такой ярмарке и подавно. Полицейским здесь обычно помогают казаки, с пиками на плечах поддерживающие порядок в многотысячном скоплении людей. Однако в этот день солдат и казаков было непривычно мало. Очевидно, их держали на казарменном положении на случай немедленного выступления в поход. Между тем, если младшие чины не показывались на улице, офицеров можно было увидеть повсюду. Со вчерашнего дня адъютанты без конца выходили из дворца генерал-губернатора и устремлялись во всех направлениях.
Необычное оживление военных можно было объяснить лишь серьезностью обстановки. Все больше прибывало курьеров из Владимира, а также с Урала. Шел беспрерывный обмен телеграммами между Москвой и Санкт-Петербургом. Нижний Новгород не так уж далек от сибирских границ, чтобы не принять в нем особых мер предосторожности. Нельзя забывать и того, что в XIV веке город дважды захватывался предками тех кого вел сейчас Феофар-Хан по киргизским степям.
Не менее озабоченным, чем генерал-губернатор, высокопоставленным лицом был начальник полиции. Он сам и его подчиненные, кому было поручено следить за порядком в исполнением предписаний, принимать жалобы, не бездействовали. Участки и учреждения, открытые днем и ночью, осаждались как жителями города, так к приезжими.
Михаил Строгов как раз находился на центральной площади, когда разнесся слух, что
начальник полиции только что вызван во дворец генерал-губернатора. Говорили, что из Москвы пришла важная телеграмма. Тут же пронесся слух, что будут приняты какие-то непредвиденные меры. Михаил запоминал все, что говорилось, что хоть как-то могло ему пригодиться в дальнейшем.
— Прикроют ярмарку! — кричал один.
— Нижегородский полк только что получил приказ об отправке! — добавлял другой.
— Говорят, что татары подошли Томску!
— Начальник полиции, начальник полиции! — закричали со всех сторон разом.
Шум толпы постепенно стих, наступила абсолютная тишина. Каждый чувствовал, что сейчас должно прозвучать важное сообщение. Начальник полиции только что покинул дворец генерал-губернатора. Отряд казаков, сопровождавший его, раздвигал толпу, щедро раздавая налево и направо тумаки. Выехав на середину ярмарочной площади, начальник полиции поднял, и вое увидели в его руках депешу. Громким голосом он зачитал ее содержание:
«Постановление губернатора Нижнего Новгорода.
§ 1. Запрещается любому русскому подданному покидать губернию под каким бы то ни было предлогом.
§ 2. Предписывается всем иноземцам азиатского происхождения покинуть губернию в 24 часа».
Глава VI
Брат и сестра
Сложившиеся обстоятельства оправдывали эти суровые меры, но для каждого приехавшего на ярмарку это было трагедией. «Запрет на выезд из провинции любому русскому» значил, что если Иван Огарев находится еще в провинции, то ему будет чрезвычайно трудно выехать из нее и присоединиться к Феофар-Хану. «Приказ всем иноземцам азиатского происхождения покинуть провинцию в 24 часа» означал очищение русской земли от торговцев из Средней Азии, а также толп цыган, других бродяг, так или иначе симпатизирующих мятежникам. Решение «сколько голов, сколько шпионов» диктовала обстановка.
Двойной удар постановления больно задел интересы Нижнего Новгорода. Коренные жители его, которых дела могли позвать за пределы провинции, теперь должны были оставаться на месте, по крайней мере временно. Первый параграф постановления не содержал никаких исключений. Любой частный интерес уступал государственному. Второй параграф был также категоричным, не терпящим возражений. Выдворялись только лица азиатского происхождения. Они должны были тут же упаковать свои товары и отправиться назад, по дороге, по которой они только что прибыли. Хуже всего было бродячим артистам, которым предстояло проделать около тысячи верст до ближайшей границы, истратив последние припасы. Среди них прежде всего поднялся ропот против жестких мер, раздались отчаянные крики, но тут же смолкли, подавленные казаками и полицейскими.
И почти тотчас же началось выселение. Сворачивались тенты, натянутые у ларьков, вразброд уходили ярмарочные театры, смолкли песни и прекратились танцы, умолкли балаганные зазывалы, сматывали канаты эквилибристы, вернулись из конюшен и впряглись в оглобли повозок старые замотанные лошади. Полицейские чины и солдаты нагайками и палками подгоняли медливших, сбивали тенты, прежде чем бедные цыгане успевали выскочить из них. Делалось все для того, чтобы к вечеру ярмарочная площадь была полностью очищена, угас бы шум людской толпы и воцарилась тишина пустыни.
И еще необходимое замечание — всем этим лицам, которых касалось постановление о высылке, запрещено было направляться в Сибирь, ехать можно было либо на юг Каспийского моря, либо в Персию. Турцию, на равнины Туркменистана. По реке Урал и в горах по русской границе требовалось пройти тысячу верст, прежде чем оказаться на разрешенном месте.
Едва начальник полиции закончил чтение постановления, Михаил поразился одному неожиданному сопоставлению. «Странное совпадение», — подумал он, — между услышанным и ночным разговором двух цыган. «Это сам Отец отсылает нас туда, куда мы хотим уйти!» — сказал тот мужчина. Отец — это же император! Именно так называют его в народе! Но как эти бродяги могли предвидеть меры, принятые против них, как узнали обо всем заранее и куда же они хотят уйти? Этим подозрительным людям, похоже, постановление губернатора более полезно, чем вредно!»
Но тут его размышления были прерваны новой мыслью, и с этой минуты Михаил ни о чем другом думать не мог. Он забыл о цыганах, их подозрительных речах, о странном совпадении… Образ ливонской девушки неожиданно всплыл в его памяти заслонил все другое.
«Бедное дитя! — воскликнул он про себя. — Теперь она не сможет пересечь границу!».
Раз девушка из Риги, а значит русская подданная, она не могла покинуть российскую территорию. Ее пропуск, выданный на поездку, теперь становился недействительным. С этого часа все дороги, ведущие в Сибирь, были закрыты для нее, какими бы важными ни были причины, побудившие ее ехать в Иркутск.
Эти раздумья всецело заняли голову Михаила. И он подумал, сначала робко, потом более определенно, что, может быть, стоит помочь этой храброй девушке, почти ребенку, не в ущерб интересам своей секретной миссии. Мысль эта улыбалась ему. Хорошо представляя опасности, которые он, будучи человеком энергичным и сильным, встретил бы без боязни, Михаил не мог не признать, что они крайне опасны для девушки. Поскольку она стремилась в Иркутск, то не могла объехать стороной и опасные районы, где свирепствовали повстанцы. Хватит ли ей необходимых для предпринятого путешествия средств, ведь происходящие события сделали его не только опасным, но и крайне дорогостоящим? «Итак, — думал он, — если она поедет в Пермь, невозможно, чтобы мы не встретились. А значит, я смогу позаботиться о ней, не вызывая ее подозрения. Как мне кажется, она тоже торопится попасть в Иркутск, а значит, не послужит причиной моей задержки».
Одна мысль всегда влечет за собой другую. До сих пор Михаил рассуждал, охваченный одним лишь благородным чувством. Но мысль, только что зародившаяся в его голове, высветила проблему с другой стороны. «В сущности, — озарило его, — я нуждаюсь в ней даже больше, чем она во мне. Будь она рядом во мной, сами собой отпадут лишние подозрения на мой счет. Ведь в любом одиноком мужчине, пересекающем степь в одиночку, можно угадать курьера государя. И если я буду вдвоем с девушкой, моя подорожная на имя Николая Корпанова будет выглядеть достовернее. Итак, решено, она поедет со мной! Теперь необходимо разыскать се любой ценой! Маловероятно, что за вчерашний вечер она смогла достать какое-то средство передвижения и покинуть Нижний Новгород. Начну искать, и пусть Бог ведет меня!»
Михаил покинул ярмарочную площадь, где шум и суматоха, поднятые оглашением постановления, достигла апогея. Со всех сторон неслись упреки, жалобы, обвинения, слышны были препирательства ссылаемых полицейскими и казаками, которые вытесняли толпу — хаос был неописуемый. Но девушки, которую он искал, здесь не было.
Было всего девять часов утра. Пароход отходил в полдень, и у Михаила в запасе было приблизительно два часа времени, чтобы отыскать ту, которая должна была стать его попутчицей. Он вновь пересек Волгу и пошел по кварталам другого города, где толпа была пореже. Улица за улицей обошел верхний, затем нижний город, заходил в церкви, обычное убежище для страдающих и плачущих. Но нигде не встретил молодой девушки. «Ничего, — твердил он себе, — она не могла еще уехать из города. — Буду искать!»
Так Михаил пробродил два часа. Шагал без остановки, не ощущая усталости, подчиняясь властному чувству, не позволяющему расслабиться. Но все тщетно. Тогда ему в голову пришла мысль, что девушка, возможно, не знает о постановлении, хотя это и было маловероятно, — постановление разразилось над городом подобно грому, услышать который не мог бы только глухой. А при ее заинтересованности в мельчайших известиях из Сибири она не могла не узнать о принятых губернатором мерах, касающихся ее непосредственно.
В конце концов, если она остается в неведении, то скоро пойдет к пароходу, на посадку, какой-нибудь безжалостный полицейский отправит ее восвояси. Надо было любой ценой отыскать ее и помочь избежать недоразумений. Но поиски были напрасны, и вскоре он потерял всякую надежду найти девушку. Было уже одиннадцать часов, и Михаил решил, хотя это было вовсе необязательно, предъявить свою подорожную в полицию. Лично его постановление не касалось, но хотелось лишний раз удостовериться, что ничто не помешает ему покинуть город.
Михаил вернулся на противоположный берег Волги, где находилось здание полиции. Здесь было огромное течение народа, многие иноземцы, прежде чем уехать, улаживали некоторые формальности, связанные с отъездом. Меры предосторожности не были лишними — каждый русский, так или иначе связанный с мятежниками, переодевшись, мог уйти за границу. Получалось что вас насильно в выслали, но при этом вы были обязаны иметь разрешение на свою высылку.
Все эти фокусники, бродяги, цыгане, с.мешавшись с купцами из Персии, Туркменистана, Китая, заполонили двор и все кабинеты здания полиции. Каждый спешил, понимая, что вот-вот толпа ринется искать средства передвижения, а кто опоздает, вовремя не уедет… будет наказан.
Михаил, усиленно работая локтями, пересек двор, но попасть в нужный ему кабинет и пробиться к окошку служащего не смог. Однако слово, сказанное на ухо одному из чиновников, и несколько рублей, перекочевавших в его карман, распахнули перед ним двери. Полицейский чин ввел его в приемную и попросил подождать, пока он докладывает начальству. Михаилу ничего не оставалось как подчиниться. В ожидании он огляделся вокруг и не поверил своим глазам.
На скамье у стены сидела девушка, которую, он так долго искал, лицо ее выражало немое отчаянье. Нет, он не мог ошибиться, это была она. Не зная о постановлении губернатора, она пришла сюда, чтобы отметить визу. И ей отказали. Никто не сомневался, что ей было разрешено поехать в Иркутск, но сегодняшнее категорическое постановление закрыло перед ней дорогу Сибирь.

Обрадованный Михаил подошел к ней. Она пристально посмотрела на него и узнала, и лицо сена миг просветлело. Как утопающий, она цеплялась соломинку и хотела было попросить помощи у случайного попутчика… Но тут чиновник тронул Михаила за плечо.
— Начальник полиции ждет вас!
— Хорошо, — коротко ответил Михаил и, не перемолвившись словом с девушкой, не ободрив се жестом, последовал за чиновником, протискиваясь сквозь толпу. Девушка, увидев, что ее знакомый исчез, потеряла последнюю надежду и бессильно опустилась на скамью. Но не прошло и трех минут, как Михаил в сопровождении все того же чиновника появился в приемной. В руке он держал подорожную, открывающую путь в Сибирь. Подойдя к девушке, он протянул ей свою ладонь:
— Сестра… — только и сказал он, и она все поняла и без малейшего колебания поднялась с места.
— Сестра, — повторил Михаил, — нам разрешено продолжить наше путешествие в Иркутск. Ты готова?
— Пойдем, брат, — ответила девушка и взяла Михаила за руку.
И они покинули полицейский участок.
Глава VII
Вниз по Волге
Около полудня на пароходе отбили склянки и звук колокола привлек на пристань огромное множество народа, тех, кто уезжал, и тех, кто хотел уехать. Котлы «Кавказа» были уже под парами, из трубы вился белесый дым.
Полиция внимательно следила за отправлением парохода и безжалостно пресекала попытки отъезда из города людей, не имеющих на то разрешения. Пристань патрулировало много казаков, готовых в любой момент прийти на помощь полицейским, но их вмешательство не потребовалось, посадка прошла спокойно.
В указанный час раздался последний удар колокола, отданы швартовы, мощные многоступенчатые колеса парохода ударили по воде лопастями, и «Кавказ», набирая ход, пошел между берегами, оставляя за бортом Нижний Новгород.
Михаил и его юная спутница сели на пароход без всякого труда. Слава Богу, подорожная на имя Николая Корпанова позволяла иметь сопровождающих его во время поездки в Сибирь.
Теперь с разрешения царской полиции путешествовали брат и сестра. Они сидели на корне и глядели, как остается позади взбаламученный правительственным постановлением город. Михаил ни о чем не спрашивал девушку. Она так спешила покинуть Нижний Новгород, пленницей которого стала бы, если бы не чудесное провидение, пославшее ей нежданного покровителя.
Волга считается самой крупной рекой в Европе, ее протяженность — не менее четырех тысяч верст. Волжские воды, довольно мутные, разбавляются у Нижнего Новгорода светлыми струями быстрой Оки, текущей из середины России. Существует верное сравнение всех русских рек и речушек с гигантским деревом, ветви которого покрыли всю империю. Так вот именно Волга может считаться его стволом. И если следовать дальше за воображением, корни этого дерева пронизывают побережье Каспийского моря. Остается добавить, что эта могучая река судоходна от Ржева, что в Тверской губернии, то есть на своей большей части.
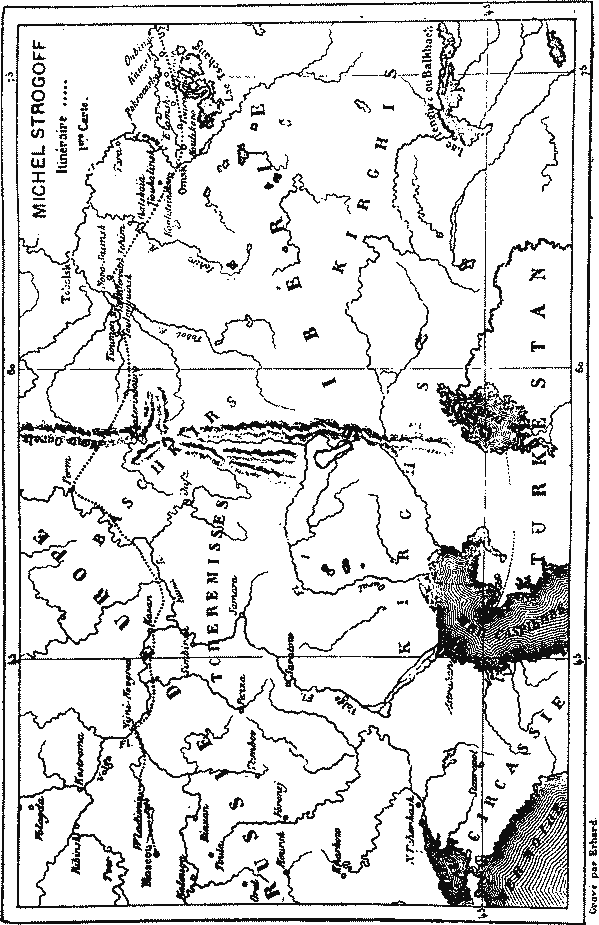
Суда пароходной компании на линии Нижний Новгород — Пермь довольно быстро проходят триста пятьдесят верст до Казани. Справедливости ради надо сказать, что пароходы плывут вниз по течению и добавляют к своей скорости по две мили в час, но до той поры, пока не достигнут слияния Волги с Камой и, свернув в нее, не пойдут вверх по течению, до самой Перми.
«Кавказ» считался быстроходным судном, однако, преодолевал не более шестнадцати верст в час. А с учетом часовой стоянки в Казани путешествие от Нижнего Новгорода до Перми занимало приблизительно шестьдесят два часа. Пароход был комфортабельным, и пассажиры, в соответствии со своим положением, занимали каюты трех классов. Михаил Строгов взял две первоклассные каюты, никоим образом не желая стеснять свою юную спутницу. В любое время она могла уйти к себе и побыть одна.
«Кавказ» был перегружен пассажирами. Большинство торговцев из Азии посчитали разумным немедленно покинуть Нижний Новгород. И в этой части парохода, считавшейся первым классом, можно было встретить армян в длиннополом платье: евреев, легко узнаваемых по их шапочкам; богатых китайцев в национальных одеждах: голубых, фиолетовых, черных, открытых спереди и сзади, на которые было надето еще одно платье с просторными рукавами, чем-то похожее на рясу священника; турок, носивших традиционную чалму; индийцев в квадратных шапочках и подпоясанных простыми веревочками, — некоторые из них были очень влиятельными торговцами во всей Средней Азии; и наконец, татар, носивших расшитые нагрудники и сапоги, украшенные разноцветным сутажем. Купцы завалили всю палубу и трюм своим нераспроданным товаром, перевозка которого влетела им в копеечку, так как по правилам они могли провезти с собой всего по двадцать фунтов багажа.
В носовой части судна среди иноземцев было немало и русских, которым дозволялось вернуться в родные города. Большей частью мужики в картузах, сорочках в мелкую клетку или волжские крестьяне в голубых шароварах, заправленных в сапоги, и в розовых рубахах, перехваченных поясами, и тоже в картузах или шляпах. Среди них несколько женщин в цветастых ситцевых платьях с яркими фартуками поверх, в узорчатых платках. Это были пассажиры в основном третьего класса, и их не беспокоила дальняя дорога. В третьем классе яблоку негде было упасть, потому пассажиры побогаче сюда даже не заходили.
Тем временем «Кавказ» набрал полный ход и, вздымая воду лопастями, скользил меж волжских берегов. Навстречу многочисленные суда со всевозможными товарами, доставляемыми в Нижний Новгород, плыли плоты леса, издали похожие на пучки длинных бурых атлантических водорослей, тяжело нагруженные баржи, утопленные по самую ватерлинию. На борту этих судов никто еще не знал, что везут они свои грузы напрасно, поскольку ярмарка, едва начавшись, тут же была закрыта.
Берега Волги, размытые поднимаемой пароходом волной. Были усеяны стаями уток, то и дело с заполошными криками взмывающих в небо. На заливных лугах, осушенных жарким солнцем, паслись пестрые коровы, отары темношерстных овец, бродили стада черно-белых свиней. Поля, засеянные гречихой и рожью, тянулись до самых холмов и не представляли собой ничего примечательного. Вряд ли среди этих однообразных пейзажей художник смог бы найти место, достойное его кисти.
Прошло два часа с момента отправления «Кавказа», прежде чем девушка решилась обратиться к Михаилу Строгову:
— Брат, ты тоже едешь в Иркутск?
— Да, сестра, — отвечал тот. — Нам предстоит один и тот же путь. И если я пройду его, значит пройдешь и ты.
— Завтра, брат, ты узнаешь причину, заставившую меня покинуть Латвию и отправиться за Урал.
— Я ни о чем тебя не спрашиваю, сестра.
— Но ты узнаешь все, — отвечала девушка с грустной улыбкой. — Ведь сестра не должна что-то скрывать от своего брата. Я чувствую себя разбитой. Пережитое отчаяние совсем обессилило меня.
— Ты бы хотела отдохнуть в своей каюте?
— Да, да… а завтра…
— Ступай же… — он не смог закончить свою фазу, спохватившись, что не знает имени своей попутчицы.
— Надя, — назвалась она и протянула руку.
— Ступай же, Надя, — проговорил Михаил, — и помни, что твой брат Николай Корпанов всегда к твоим услугам.
Михаил отвел девушку в каюту, расположенную в кормовой части судна. Вернувшись на палубу, он, жадный до новостей, смешался с пассажирами, внимательно слушал, но не принимал участия в разговорах. Впрочем, он ничем не рисковал, даже если бы его случайно вынудили представиться, — в этом случае Михаил назвался бы купцом Николаем Корпановым, добирающимся на «Кавказе» до границы Сибири. Он не хотел, чтобы кто-то заподозрил, что у него есть специальный пропуск, позволяющий пересечь ее.
Иноземцы на пароходе обсуждали только последние события: само постановление Нижегородского генерал-губернатора и его последствия. Эти несчастные люди, только-только оправившиеся от тягот долгого пути через Среднюю Азию, были вынуждены возвращаться, и если не выражали свой гнев и отчаянье в полный голос, то только потому, что боялись. Вековечный страх пополам с уважением к власти удерживал их от безрассудных поступков. Вполне возможно, что полицейские агенты, следившие за посадкой на пароход, сейчас тайно ехали на его борту, и лучше было придержать язык — ведь высылка все же не заключение в тюрьме. Поэтому пассажиры или отмалчивались, или говорили с такой предосторожностью, что из их слов было совершенно невозможно извлечь хоть какую-нибудь полезную информацию.
Михаилу долго не удавалось ничего разузнать — люди замолкали при появлении незнакомца, и как же он был поражен, когда услыхал чей-то раскатистый голос, вовсе не обеспокоенный тем, услышат его или нет. Человек весело говорил по-русски, хотя и с иностранным акцентом, а его более сдержанный собеседник отвечал на том же языке, также явно не родом ему.
— Как? — удивлялся первый. — И вы на этом пароходе, мой дорогой коллега, тот, кого я встретил на императорском балу в Москве и, кажется, заметил в Нижнем Новгороде?
— Да, я, — тихо отвечал второй.
— Ну, никак не ожидал, что вы будете следовать по моим пятам.
— Я вовсе не следую за вами, сэр, а иду впереди вас!
— Впереди! Вы идете впереди! Могу допустить, что мы, как два солдата на параде, идем плечо к плечу, но если вы желаете, давайте условимся: что один не станет обгонять другого.
— Непременно вас обойду!
— Подождем, пока не окажемся среди воюющих, но до тех пор, черт побери, будем попутчиками! Позднее найдем время и повод посоперничать!
— Стать врагами.
— Стать врагами! Ваши слова отличаются предельной точностью, которая мне импонирует. По крайней мере, знаешь, с кем имеешь дело.
— Не вижу в том ничего плохого.
— Совершенно верно. Потому разрешите уточнить наш совместный маршрут.
— Уточните.
— Вы, как и я, едете в Пермь!
— И, вероятно, из Перми направитесь в Екатеринбург, поскольку нет лучше и надежней дороги через Уральские горы?
— Вероятно.
— Перевалив их, мы окажемся в Сибири, в эпицентре нашествия.
— Безусловно.
— И только тогда наступил момент сказать: «Каждый за себя, а Бог за…»
— А Бог за меня!
— Хорошо, Бог только за вас! Но поскольку у нас впереди восемь дней нейтралитета и поскольку совершенно ясно, что новостей пока не предвидится, проживем их друзьями, а потом уж станем соперниками.
— Врагами.
— Верно, врагами! Но до того будем действовать сообща, а не в раздоре. Обещаю вам держать при себе все увиденное…
— А я все, что услышу.
— Договорились?
— Договорились.
— Вашу руку!
— Вот моя рука!
И ладонь первого собеседника энергично потрясла два пальца, флегматично протянутые вторым.
— Кстати, — заметил первый, — я умудрился сегодня утром, в 10 часов 13 минут, телеграфировать моей кузине полный текст постановления.
— А я отправил его в «Дейли Телеграф» в 10 часов 13 минут.
— Браво, месье Блаунт!
— Вы слишком добры, сэр Жоливе. — Итак, услуга за услугу!
— Нам придется нелегко!
— Но попытаемся!
Сказав это, французский журналист дружески распрощался с английским коллегой, который ограничился чопорным, чисто британским поклоном головы. Постановление губернатора не касалось, этих двух охотников за новостями — они не были ни русскими, ни иноземцами азиатского происхождения. Без помех покинули они Нижний Новгород, а оказались вместе только потому, что их толкала вперед одна и та же цель. Вполне естественно, что оба корреспондента сели на один и тот же пароход и следовали одной и той же дорогой. Попутчики, друзья или враги — не все ли равно, впереди у них было еще восемь дней, прежде чем начнется «охота» в сибирских степях. И тогда удача достанется более ловкому! Алсид Жоливе первым пошел навстречу, и Гарри Блаунт, не без прохладцы, но принял его предложение.
Как бы там ни было, но за обедом всегда и всем открытый, немного болтливый француз и всегда замкнутый, чопорный англичанин сидели за одним столом и чокались бокалами с настоящим Клико аж по шесть рублей за бутылку, приготовленного уж не из свежего ли сока соседних берез.
Выслушав разговор Алсида Жоливе и Гарри Блаунта, Михаил подумал: «Эти не в меру любопытные и настырные люди будут встречаться на всем моем пути. Благоразумнее держаться от них подальше». Юная ливонка не пришла обедать. Она спала в своей каюте, и Михаил не решился ее разбудить. Меж тем наступил вечер, но девушка так и не поднялась на палубу «Кавказа».
Длинные сумерки пропитали воздух желанной свежестью, которой пассажиры, изныв от дневной жары, жадно дожидались. Хотя было уже поздно, большинство из них и не думало возвращаться в душные салоны и каюты. Откинувшись на скамейках, о удовольствием ловили разгоряченными лицами прохладный ветерок, поднимаемый набравшим скорость пароходом. В это время года и в этих широтах ночи были светлыми, и рулевой легко лавировал среди многочисленных судов, плывущих вниз и вверх по Волге.
Самое темное время было между одиннадцатью часами вечера и двумя часами ночи — настало новолуние. Почти все пассажиры на палубе уже спали, и тишина нарушалась лишь шумом мерно хлопающих по воде лопастей. Смутное беспокойное чувство не давало уснуть Михаилу. Он ходил взад и вперед по корме парохода, пока не зашел в машинное отделение, а оттуда уже не попал во второе и третье отделения.
Здесь люди спали не только на полках, но и на тюках, ящиках и даже на полу. На баке стояли вахтенные. Зеленый и красный отблески, посылаемые бортовыми фонарями, отражались на воде. Приходилось пробираться очень осторожно, чтобы не наступить на спящих вповалку людей. В большинстве своем это были мужики, привычные спать на твердом, и дощатая палуба вполне заменяла им постель. Но никто из них не потерпел, если бы среди сна кто-то наступил на руку или ногу сапогом. И Михаил старался никого не задеть. Пробираясь в другой конец судна, он пытался избавиться от бессонницы.
Так Михаил дошел до носа корабля и стал подниматься на бак, как вдруг услышал голоса. Он остановился. Разговаривали пассажиры, закутанные в шали и покрывала, а кто, в темноте узнать было невозможно. Но иногда над пароходной трубой, низвергающей клубы дыма, взвивались красные языки пламени, и тогда кровавые отсветы ложились на одежду беседующих.
Михаил хотел было пройти мимо, но внезапно расслышал несколько слов, четко сказанных на том странном наречии, поразившем его слух еще ночью в Нижнем Новгороде. Интуитивно он прислушался. Михаил стоял, скрываемый тенью бака, и был незаметен, но и не мог видеть разговаривающих. Оставалось только слушать.

Первые слова, которыми обменялись неизвестные пассажиры, мало что значили, по крайней мере для него, но позволили ему опознать голоса женщины и мужчины, встреченных им на ярмарке при столь странных обстоятельствах. Внимание его удвоилось. Несомненно, это были те самые цыгане, и теперь они оказались вместе с остальными своими соплеменниками, высланными из Нижнего Новгорода, на борту этого корабля. Михаил насторожился, так как довольно отчетливо расслышал вопрос, произнесенный на одном из азиатских языков:
— Говорят, что царский курьер уже выехал из Москвы в Иркутск?
— Говорят, Сангарра, но курьер прибудет или слишком поздно, или не прибудет совсем!
Строгов невольно вздрогнул, услышав этот ответ, впрямую касающийся его. Он попытался рассмотреть тех, в ком на слух узнал знакомых цыган, но сгустившаяся тьма не позволила ему этого сделать. Спустя несколько минут Михаил, никем не замеченный, вернулся на корму судна и, обхватив голову руками, сел в сторонке. Можно было подумать, что он спит. Но он и не думал спать. Испытывая серьезные опасения, он думал: «Кто знает о моем отъезде, и кому выгодно об этом знать?»
Глава VIII
Вверх по Каме
На следующий день, 18 июля, в шесть сорок утра, «Кавказ» прибывал на Казанскую пристань, отстоящую от города на семь верст. Казань стоит при слиянии рек Волги и Казанки. Этот большой губернский город имеет даже свой университет. Население губернии довольно разнообразно; черемисы, мордва, чуваши, татары; последние, пожалуй, лучше других сохранили азиатский характер.
Хотя город расположен достаточно далеко от пристани, на причале собралась внушительная толпа. Ждали новостей. Местный губернатор издал точно такое же постановление, как и его нижегородский коллега. Здесь были татары в кафтанах с короткими рукавами и остроконечных шапках с широкими полями. Закутанные в длинные широкие плащи, в маленьких ермолках на головах, стояли люди, напоминающие польских евреев. Оживленно беседовали женщины в платьях, украшенных бисером.
Офицеры полиции мелькали в толпе, а несколько казаков с пиками поддерживали порядок у парохода: пропускали пассажиров, садившихся на судно и сходивших с него, тщательно проверяя тех и других. На палубу поднимались азиаты, высылаемые по постановлению, а на берег сошли прибывшие в Казань мужицкие семьи.
Михаил Строгов равнодушно смотрел на это оживление, свойственное любой пристани по прибытии парохода. Здесь «Кавказ» стоял целый час, заправлялся углем. Он и не подумал сойти на берег. Не хотелось оставлять в одиночестве девушку, таи и не покинувшую своей каюты.
Оба журналиста, как и полагается прилежным охотникам, встали с зарей и поодиночке сошли на пристань, сразу смешавшись с толпой. Михаил сверху видел, как в одном месте Гарри Блаунт зарисовывает в блокнот каких-то типов и делает пометки, а в другом — живо беседующего с кем-то Алсида Жоливе, полагающегося на свою память и только на нее.
По всей границе России с Сибирью ползли слухи о мятеже и нашествии, разгоравшемся на востоке. Сообщение между империей и сибирскими городами было уже чрезвычайно затруднено. Такие разговоры вели вновь прибывшие, и Михаил получал последние новости, не покидая палубы. Однако они мало беспокоили его, скорее возбуждали страстное желание немедленно оказаться за Уралом, самому оценить происходящее и противостоять разным неожиданностям, связанным с этими событиями. Он собрался было расспросить более подробно кого-либо из местных жителей, но отвлекся.
Среди пассажиров, покидавших «Кавказ», Михаил узнал цыган, встреченных им на Нижегородской ярмарке. В цыганской толпе он увидел и мужчину с женщиной, назвавших его шпионом. Вместе с ними сходили около двадцати молоденьких танцовщиц и певиц, закутанных в цветные лохмотья, юбки, усыпанные блестками. Под солнечными лучами ткани посверкивали, напоминая Михаилу вчерашнюю ночь, когда труба парохода выбрасывала языки пламени и отблески его ложились на цыганские одежды.
«Очевидно, — думал он, — этот табор весь день провел в трюме, а ночью выбрался на бак. По всей видимости, они не хотели привлекать к себе лишнего внимания. Но это не в характере их расы!»
Михаил более не сомневался, что вчерашний разговор в темноте, касающийся его, произошел среди них и что вели его старый цыган и женщина, которую он называл монгольским именем Сангарра. Михаил машинально подошел к трапу, где толпились цыгане, готовые покинуть пароход. Старик стоял в смиренной позе, такой неестественной для его соплеменников. Похоже было, что он старательно избегает любопытных взглядов. Жалкая шляпа, выгоревшая под солнцем разных сторон света, прятала его морщинистое лицо. На согбенное тело была наброшена плотная и теплая, несмотря на жару, одежда. Но этот жалкий наряд надежно скрывал его наружность и комплекцию.
Бок о бок с ним стояла Сангарра, молодая женщина, лет тридцати, смуглая, высокая, с красивыми глазами, густыми косами, в замечательно изящной позе. Среди молодых танцовщиц многие были удивительно красивы. Цыганки вообще очень привлекательны, и немало русских вельмож, соперничающих в эксцентричности с англичанами, без колебания женились на них.
Одна из девушек напевала песенку на необычный мотив, первые ее строки звучали приблизительно так:
Коралл блестит на моей смуглой коже,
Золотая шпилька в моей прическе!
Я иду искать счастье
В стране…
Веселая цыганка продолжала напевать, но Михаил уже перестал ее слушать. Ему показалось, что Сангарра пристально вглядывается в него. Так, будто навсегда хочет запечатлеть его облик в своей памяти. Но через несколько минут, вслед за своей труппой и стариком, она покинула «Кавказ». «Нахальная цыганка!» — подумал Михаил.
«Неужто признала во мне человека, которого обозвала шпионом в Нижнем Новгороде? У этой проклятой породы кошачий глаз! Они и ночью видят, как днем. Неужто узнала?..»
Михаил чуть не шагнул вслед за Сангаррой и ее табором, но удержался. «Нет, — сказал он себе, — никаких необдуманных поступков! Если я попытаюсь приказать арестовать эту цыганскую банду, меня могут раскрыть. Впрочем, они сошли с парохода, и прежде чем покинут Россию, я буду уже далеко за Уралом. Правда, они могут отправиться по дороге от Казани до Ишима, но тарантас, запряженный выносливыми сибирскими лошадьми, всегда обгонит цыганскую кибитку. Успокойся, друг Корпанов, все будет в порядке!» И в это время старый цыган, Сангарра, их девушки исчезли в толпе.

Если Казань справедливо называют «дверьми в Азию» и она считается центром, через который перевозятся все сибирские и бухарские товары, то только потому, что из нее выходят два пути, ведущие за Урал. Михаил выбрал самый разумный из них — через Пермь, Екатеринбург, Тюмень. Столбовой почтовый тракт с ямщицкими станциями, которые содержит государство, тянулся от Ишима до самого Иркутска.
Второй же путь, о котором тоже думал Михаил, пролегал, не заходя в Пермь и соединяя Казань с Ишимом, через Елабугу, Мензелинск, Бирск, Златоуст, покидал Европу и шел дальше на Челябинск, Шадринск и Курган. Даже если он и был короче первого, это преимущество терялось из-за, отсутствия на нем почтовых станций, плохого содержания дороги и редких деревень на всем его протяжении, где можно было отдохнуть. Выбор Михаила Строгова был предпочтителен, ибо, а это было вероятно, если цыгане отправятся по второй дороге от Казани в Ишим, у него был шанс обогнать их.
Через час на «Кавказе» пробил колокол, возвестив об отправлении. Погрузка топлива закончилась. Котлы держали под давлением. В семь часов утра пароход был готов отправиться дальше. Пассажиры занимали свои места. И тут Михаил заметил, что из двоих журналистов на борт поднялся только Гарри Блаунт. Неужто Алсид Жоливе опоздает к отплытию?
Француз появился на пристани, когда уже убрали якорь, трап был поднят и судно начало отчаливать. Такая малость не могла смутить Алсида Жоливе, с цирковой легкостью он перемахнул на палубу и попал чуть не в объятия своего коллеги.
— А я уж думал, что «Кавказ» отправится без вас, — с усмешкой сказал тот.
— Вот еще, — ответил Жоливе, — да я все равно догнал бы вас. Зафрахтовал бы лодку, конечно, за счет моей кузины, или помчался на почтовых, платя по двадцать копеек за версту и за лошадь. Ничего не поделаешь. Телеграф таи далеко от пристани!
— Вы были на телеграфе? — воскликнул Гарри Блаунт, поджимая губы.
— Да уж так получилось, — ответил Алсид Жоливе с самой что ни на есть очаровательной улыбкой.
— И что же, сообщения по-прежнему доходят до Колывани?
— Не могу сказать, но зато могу заверить, что от Казани до Парижа действует безотказно!
— Тая вы отправили депешу… вашей кузине?
— И с большим энтузиазмом.
— Значит, вы что-то узнали?..
— Папаша, как говорят русские, — улыбнулся Алсид, — я добрый малый и не скрою от вас ничего. Орды Феофар-Хана прошли Семипалатинск и спускаются по Иртышу. Пользуйтесь моей добротой!
Как же так! Гарри Блаунт упустил такую важную новость, а его соперник, выудив ее, вероятно, у кого-то из жителей Казани, тотчас же передал в Париж! Обошли английскую газету! Огорченный Гарри Блаунт, скрестив руки за спиной, ни сказав ни слова, ушел на корму.
Около десяти часов утра юная ливонка покинула, наконец, свою каюту и поднялась на палубу. Михаил подал ей руку и, подводя к носовой части судна, сказал:
— Взгляни, сестра.
В самом деле, вид здешней местности заслуживал внимания. «Кавказ» подходил к месту слияния Волги и Камы. Здесь пароход покинет великую реку, вниз по течению которой он прошел более четырехсот верст, и начнет подниматься вверх по другой, тоже полноводной и широкой, на расстояние четыреста шестидесяти верст. Тут воды двух рек, различные по цвету, смешивались, и Кама оказывала левому берегу Волги ту же услугу, что Ока ее правому — разбавляла мутные струи своими прозрачными.
Кама текла привольно, и ее берега, заросшие лесом, были живописны. На ее волнах покачивались пронизанные солнцем белые паруса. Холмы, заросшие ольхой, осиной, редкими дубами, скрывали линию горизонта, а там, где ее было видно, она сливалась с небесной глубиной.
Но все эти красоты природы даже на мгновение не могли отвлечь юную ливонку от беспокойных мыслей. Казалось, она видела только одну цель своего путешествия, и Кама всего лишь позволяла, легче ее достичь. Ее глаза взволнованно блестели, когда она смотрела на восток, как если бы страстно желала проникнуть взглядом за этот непроходимый горизонт. Не выпуская руку из ладони своего спутника, Надя повернулась и нему и спросила:
— Как далеко мы от Москвы?
— Девятьсот верст, — ответил Михаил.
— Девятьсот из семи тысяч, — прошептала девушка.
Склянки отбили время завтрака. Надя с Михаилом спустились в ресторан. Здесь она и не подумала заказать себе отдельные закуски, такие как икра, мелко порезанная сельдь, или анисовой водки, подаваемой для возбуждения аппетита во всех северных странах и в России тоже. И съела совсем немного, из чего можно было заключить, что она очень стеснена в средствах, а попросту — бедна. Михаил, чтобы не смущать спутницу, ограничился скромным меню: немного кулебяки с яйцами, рисом и рубленым мясом, а также красная капуста, фаршированная икрой, и единственный напиток — чай. Завтрак был недорогим и недолгим, и через двадцать минут они уже вновь поднялись на палубу «Кавказа».
Когда они устроились на корме, Надя без лишних слов, шепотом сказала:
— Я дочь сосланного. Полное мое имя — Надя Федор. Нет еще месяца, как умерла в Риге моя мать, и теперь я добираюсь в Иркутск к отцу, чтобы разделить с ним тяготы ссылки.
— Я тоже еду в Иркутск, — отвечал Михаил, — и буду считать своим долгом передать тебя здоровой и невредимой в руки отца.
— Спасибо, брат, — тихо поблагодарила Надя.
Михаил подбодрил девушку, рассказав, что добился специальной подорожной грамоты на поездку в Сибирь и что теперь со стороны российских властей их путешествию не будет помех. Наде и не нужно было большего. В чудесной встрече с добрым человеком она видела лишь милость Божью, позволяющую ей добраться до отца.
— У меня, — говорила она ему, — был пропуск в Иркутск, но постановление губернатора перечеркнуло его, и без тебя, брат, я не смогла бы покинуть Нижний Новгород. Если бы ты меня не нашел, я бы умерла!
— Как же ты в одиночку осмелилась отправиться через Сибирь?
— Это мой долг, брат.
— Но разве ты не подозревала, что этот мятежный край почти непроходим?
— Об азиатском нашествии еще не было известно, когда я выехала из Риги, — ответила девушка. — Эту новость я услышала только в Москве!
— И несмотря на это, продолжала путь?
— Меня вел мой долг.
Эти упрямо повторяемые слова точно отражали характер смелой девушки.
Она подробно поведала о своем отце, Василии Федоре. В Риге он был уважаемым врачом. Успешно практиковал и был счастлив в семье. Но когда полиция установила его связь с тайным заграничным обществом, жандармы тут же арестовали его, а потом отправили в Иркутск, в ссылку. Василий Федор успел только обнять на прощание свою уже тяжело больную жену и дочь, оставляемую без поддержки, — два любимых и единственных родных существа.
Вот уже два года жил он в столице Восточной Сибири, практиковал как врач, но очень мало зарабатывал. Наверное, он был бы счастлив, насколько это возможно для ссыльного, если бы рядом находились жена, и дочь. Но госпожа Федор была слишком слаба, чтобы покинуть Ригу. Через год и восемь месяцев после отъезда мужа она скончалась на руках дочери, которую оставила одну-одинешеньку и без средств к существованию. Тогда-то Надя обратилась за разрешением выехать к своему отцу в Сибирь и легко получила его у русских властей.
Она написала отцу, что выезжает, и пустилась в долгое путешествие. Средств у нее было в обрез, но она не колебалась в своем решении. Она делала, что было в ее силах. Бог поможет довершить остальное!
«Кавказ» тем временем шел вверх по течению реки. Вновь пала ночь, и воздух опять стал давно свеж и пахуч. Тысячи искр сыпались из трубы парохода, котлы которого работали на дровах. К шелесту тугой волны, разрезаемой носом судна, иногда примешивался далекий вой волков, к ночи выходивших из леса на берег Камы.
Глава IX
Сутки, проведенные в тарантасе
На следующий день «Кавказ» остановился у пристани города Перми, конечной точки своего маршрута. Пермская губерния была одной из самых обширных в Российской империи и, выходя за Уральские горы, захватывала часть Сибири. Мраморные карьеры, соляные рудники, залежи платины и золота, угольные шахты вовсю работали на благо государства.
В будущем Пермь благодаря своему положению обещала стать первоклассным городом, но сейчас была запущена, грязна, без всяких удобств. Отсутствие комфорта мало задевало едущих из России, они были снабжены всем необходимым для сносной жизни в поездке. Но выдержавшие длительное и утомительное путешествие приезжие из Средней Азии, конечно, желали бы, чтобы первый европейский город империи снабжался лучше.
Здесь, в Перми, путешественники продают повозки, проделавшие долгий путь по степям и горам Сибири. А те, кто едет из Европы в Азию, покупают эти изрядно изношенные повозки летом и сани — зимой, готовясь пуститься в многомесячный путь. Михаил уже продумал маршрут дальнейшей поездки, теперь оставалось лишь воплотить его в жизнь. Обычно он пользовался почтовой службой, которая довольно быстро позволяла пересечь Уральские горы. Но сейчас она была нарушена, и он предпочел купить повозку и ехать на ней от одной почтовой станции до другой, меняя лошадей и подхлестывая рвение ямщиков дополнительной платой — на «водку».
К несчастью, из-за принятых правительством мер многие азиаты уже повернули свои повозки обратно и покинули Пермь, и выбирать средство передвижения было не из чего. Пришлось довольствоваться тем, что осталось. Насчет лошадей Михаил не беспокоился, пока не въехал в Сибирь. Он предъявлял свою подорожную, и все станционные смотрители впрягали ему лошадей прежде всего. Но едва он покинет европейскую Россию, сразу лишится этой привилегии и сможет рассчитывать лишь на власть рубля. Но в какую повозку впрячь лошадей? В телегу, в тарантас?
Телега — это всего-навсего открытая повозка на четырех колесах, которая вся — от оглобли до чеки в оси колеса — изготовлена из дерева. Более примитивной и менее удобной повозки нет, но также нет и ничего более легкоисправимого, если случится поломка. Именно на телегах, которым все дороги хороши, перевозится большая часть грузов, этот способ по-русски называется — на перекладных. Бывает, что веревки, скрепляющие детали телеги, рвутся, и тогда ее задняя часть застревает в какой-нибудь грязной рытвине, а передок на двух колесах въезжает на почтовую станцию, — и это еще ладно, бывает и хуже.
Михаилу Строгову пришлось бы использовать для поездки телегу, если бы не посчастливилось приобрести тарантас. Нельзя сказать, что тарантас является последним достижением каретного производства. У него, как и у телеги, нет рессор; за неимением железа также используется дерево; но все его четыре колеса насажены на осях на расстоянии 8 — 9 футов и обеспечивают некоторое равновесие на ухабистых дорогах. Крепкий откидной кожаный верх, который можно опустить и почти герметично закрыть, защищает путешествующих от дорожной пыли, спасает от жары, дождя и порывов ветра. Кроме того, тарантас так же прочен, как и телега, и так же легко ремонтируется, причем гораздо реже оставляет задок на дороге.
Тарантас Михаилу удалось найти в Перми
после долгих поисков, и второго такого в городе не было. Не показывая вида, что он доволен находкой, Михаил долго торговался, как и полагается простому купцу из Иркутска Николаю Корпанову.
Надя всюду ходила со своим спутником в поисках повозки. Цели у них были разные, но спешили они оба одинаково. Воодушевляло их одно и то же желание — побыстрее уехать.
— Сестра, — говорил Михаил, — мне бы хотелось найти для тебя более удобную повозку.
— И это ты говоришь мне, брат? Той, которая пошла бы даже пешком, чтобы повидать отца!
— Не сомневаюсь в твоей смелости, Надя, но есть тяготы, которые женщине не под силу.
— Я перенесу их, чего бы мне это ни стоило, — ответила девушка. — Если хоть одна жалоба вырвется из моих уст, оставь меня на дороге и продолжай путь в одиночку!
Через полчаса, по первому предъявлению подорожной, в тарантас впрягли трех лошадей. Кони, покрытые длинной шерстью, скорее были похожи на длинноногих медведей. Низкорослые и горячие, как все их сибирские сородичи, они отличались большой выносливостью.
Вот как ямщик запрягает лошадей: самую крупную ставит в оглобли, соединенные дугой с колокольчиком, две другие ставятся по бокам и называются пристяжными, сбруя иногда просто заменяется веревкой.

Ни у Строгова, ни у молодой ливонки не было никакого багажа. Скорость, которая требовалась в путешествии одному, и более чем скромные средства другой не позволяли им обременять себя сундуками. И это было им на руку, ибо тарантас и не вместил бы никакого багажа. Он был двухместным, и сам ямщик ютился на узком сиденье, чудом не сваливаясь с облучка.
Впрочем, ямщики менялись на каждой станции. Тот, кому выпало везти их на первом отрезке пути, оказался сибиряком; длинноволосый, скобкой подстриженный надо лбом, в шляпе с затянутыми краями, подпоясанный красным кушаком и в плаще с отворотами, застегнутом на металлические пуговицы с вытесненным на них императорским орлом.
Подогнав упряжку, он прежде всего бросил внимательный взгляд на пассажиров тарантаса.
— Где багаж? Куда они, черт побери, его засунули? — недовольно поморщился он. — Ясно, вороны, — продолжал он, нимало не заботясь о том, услышат его или нет, — вороны по шесть копеек за версту!
— А если орлы? — бросил Михаил, прекрасно изучивший жаргон ямщиков, — Орлы! Понятно тебе? Девять копеек за версту и сверху, на водку!
Ответом ему было лишь азартное пощелкивание бича. Необходимо пояснить, что «ворона» на ямщицком жаргоне — это бедный или жадный пассажир, дающий за лошадей по две-три копейки за версту. «Орел» же — тот, кто не постоит за ценой да вдобавок щедро отвалит чаевые. Потому понятно, что ворона не может лететь быстрее императорского орла.
Надя и Михаил уселись в тарантас. С собой они взяли лишь немного провизии про запас в небольшом ящичке, на случай, если в пути случится непредвиденная задержка, — чтобы добраться до следующей станции, не голодая в дороге. Стояла невозможная жара, откидной верх убран назад — тройка лошадей уносила тарантас из Перми в облаке пыли.
То, как ямщик управлял лошадьми, не могло не заинтересовать любого путешественника, не будь он русским или сибиряком. Коренник, ведущий упряжку, шел крупной, изумительно ровной рысью, не меняя бега ни на каких неровностях дороги. Две пристяжные лошади, казалось, не умели бежать, кроме как галопом, и старались изо всех сил. Ямщик не трогал их. Самое большое, что он делал, — это раскатисто щелкал кнутом. Но каких только ласковых слов не расточал он в их адрес, если шли они послушно и добросовестно! Вожжи ему были вроде ни к чему, гораздо большее воздействие, чем удила и уздечка, на разгоряченных лошадей оказывали его гортанные выкрики: «Направо!», «Налево!»
Ах, сколько самых любезных обращений посылал ямщик несущимся лошадям!
— Н-ну! Голубчики мои! — кричал он. — Ну, ласточки мои милые! Голубчики сизокрылые! Наддай, каурка! Вперед, моя звездочка!
Но когда кони замедляли бег, поток оскорблений несся с облучка на бедных животных, которые, казалось, чутко внимали им.
— Ну, чертовы улитки! Ну, берегись, черепаха! Я сдеру с тебя заживо шкуру, кляча, гореть тебе в аду!
Тем не менее, независимо от способов управления упряжкой, требующих от ямщика скорее крепкой глотки, чем сильных рук, тарантас летел по дороге, пожирая двенадцать — четырнадцать верст в час.
Михаил давно привык к таким тарантасам и таким поездкам, и его нисколько не беспокоила скачка по ухабам. Ему было известно, что упряжка не избежит всех камней, рытвин, выбоин, валяющихся на дороге бревен, он привык к этому. Его спутница рисковала заболеть от такой тряски, но крепилась и не жаловалась. Первые минуты Надя молчала, находясь в плену одной мысли: доехать, доехать…
— Я насчитала триста верст от Перми до Екатеринбурга, брат! — сказала она. — Я не ошиблась?
— Нет, не ошиблась, — ответил Михаил, — когда мы попадем в Екатеринбург, то окажемся по ту сторону Уральских гор.
— Сколько же мы будем ехать через горы?
— Двое суток, если станем гнать лошадей день и ночь. День и ночь, — повторил он, — потому что я не могу задерживаться нигде, я должен мчаться без отдыха в Иркутск.
— Я не задержу тебя, брат, ни на час, будем ехать и днем и ночью.
— Хорошо, Надя, если татары не перережут дорогу, мы доберемся вовремя, не пройдет и двадцати дней!
— Тебе уже приходилось ездить так?
— Много раз.
— Зимой мы доехали бы гораздо быстрее и безопаснее, не правда ли?
— Это так, но ты страдала бы от жестокого холода!
— Это не так важно, ведь зима дружит с русским человеком!
— Так-то так, Надя, но какой твердый характер нужно иметь, чтобы выдержать такую дружбу. Мне часто приходилось переносить в сибирских степях температуру ниже сорока градусов мороза. Чувствовал, как застывает мое сердце под оленьей дохой, коченеют руки и ноги в трех шерстяных носках! Я видел лошадей, покрытых коркой льда, ноздри у которых заросли сосульками и не давали им дышать. Бывало, что водка в моей фляге превращалась в лед, и я не мог добыть ее даже носом. Но мои сани мчались вперед, как ветер. Ведь на ровной необозримой равнине нет препятствий. Нет рек, и не нужно искать брода. Нет озер, и не нужно переплывать их на лодке. Везде крепкий лед, свободная дорога, надежный путь! Но какими страданиями он достается, Надя! Обо всем б могли бы рассказать только те, кто не вернулся, чьи трупы тотчас же замела метель.
— Но ты же жив, ты же вернулся! — сказала Надя.
— Да, но не забывай, что я сибиряк и еще малым ребенком ходил с отцом на охоту, привыкая к суровым испытаниям. Когда ты говорила мне, что даже зима не остановила бы тебя, что ты готова пуститься в путь в одиночку и перенести самые ужасные испытания, мне представилось, что я вижу тебя, затерянную в снегах, лежащую в сугробе и не имеющую уже сил встать!
— Сколько раз ты пересекал степь зимой? — спросила Надя.
— Трижды, когда ездил в Омск.
— А что ты делал в Омске?
— Я ездил повидаться с матушкой, которая там живет.
— А я еду в Иркутск, где меня ждет отец. Это значит, брат, и мне ничто не помешает доехать!
— Ты хорошая девушка, Надя, — ответил Михаил, — тебя ведет сам Бог!
Этим днем тарантас мчался без непредвиденных остановок, ямщики менялись на каждой почтовой станции. Высокая цена, уплаченная за лошадей, щедрые чаевые сослужили путешественникам хорошую службу. Может быть, кое-кто и посчитал бы странным, что постановление не распространялось на молодого человека и его сестру, очевидно, русских людей, свободно едущих по Сибири, тогда как другим это было запрещено, но документы у них были в порядке и разрешение имелось. Полосатые километровые столбы все оставались и оставались позади тарантаса.
Оказалось, что Михаил и Надя на дороге из Перми в Екатеринбург были не единственными ездоками. На первых же почтовых станциях царский курьер узнал, что чья-то повозка едет впереди; но лошадей хватало, и он не особенно беспокоился. В этот день сделали несколько остановок, чтобы подкормить лошадей. Люди могли найти приют и пищу на почтовых станциях. Впрочем, не было бы их, любая изба русского крестьянина встретила бы не менее гостеприимно. В этих деревеньках, так похожих одна на другую, с обязательной белой церковкой под зелеными куполами, путешественник может смело стучаться в каждую дверь. И она откроется.
Встретит мужик, улыбнется и протянет гостю руку. Предложат хлеб-соль, поставят самовар, и путешественнику покажется, что он у себя дома. Семья потеснится, чтобы гостю нашлось место. Гостя в русской избе почитают за родственника — его Бог послал.
Приехав вечером на очередную станцию, Михаил, подталкиваемый смутным чувством, спросил станционного смотрителя, как давно проехала здесь повозка,, шедшая впереди него.
— Так часа два назад, господин, — ответил тот.
— Дорожная карета?
— Нет, телега.
— Сколько в ней ездоков?
— Двое.
— Быстро ли они едут?
— Орлы! — Немедленно запрягайте!
И вновь Михаил и Надя, решившие не задерживаться ни на час, ехали всю ночь напролет. Стояла ясная погода, но чувствовалось, что в воздухе накапливается гроза. Пока ни одно облачко не закрывало ночного звездного неба, и казалось теплый пар поднимался с земли. Как бы в горах не разразилась гроза, а здесь они очень опасны. Михаил, умевший распознавать признаки ненастья, чувствовал его приближение и не мог не беспокоиться.
Ночь, однако, прошла спокойно. Не обращая внимания на тряску, Надя умудрилась поспать несколько часов. Но в полуоткрытом кожаном верхе в эту душную ночь было трудно дышать. Михаил бодрствовал всю ночь, следя за ямщиками, незаметно засыпающими на облучке, и за тем, чтобы не был потерян ни один час при смене лошадей и ни один час в дороге.
20 июля, к 8 часам утра, показались очертания Уральских гор. Однако они находились еще на довольно значительном расстоянии, и добраться до них можно было не ранее конца дня. Переход через горы выпадал на следующую ночь. Весь день небо хмурилось, стало прохладнее — чувствовалось приближение грозы. Благоразумнее было бы не пускаться в путь по горным склонам ночью, что и сделал бы Строгов в любом другом случае, но ему нельзя было ждать у моря погоды. И когда при очередной смене лошадей новый ямщик обратил его внимание на доносившиеся с вершин хребтов раскаты грома, он только и сказал:
— Телега все еще впереди нас?
— Да, сударь!
— И насколько же она нас опережает?
— Примерно на час.
— Так чего же мы стоим, вперед! Чаевые в тройном размере, если к утру ты нас доставишь в Екатеринбург!
Глава X
Гроза в Уральских горах
Уральские горы простираются почти на три тысячи верст, отделяя Европу от Азии, и не случайно носят это емкое имя — Урал, имеющее как азиатское происхождение, так и русское, и обозначающее не что иное, как ж пояс. Взметнувшись на побережье Арктического моря, они постепенно сходят на нет у берегов Каспия.
Вот что представляла из себя природная граница, которую предстояло пересечь Михаилу Строгову, чтобы попасть из России в Сибирь, и он поступил мудро, отправившись по дороге, ведущей из Перми в Екатеринбург, проходившей по восточному склону гор. Это был самый легкий и верный путь, по которому следовали почти все торговые грузы из Центральной Азии. Нужна была еще одна ночь, чтобы преодолеть горы, если, конечно, ничто не задержит в дороге. К несчастью, громкий раскат грома уже известил, что гроза на подходе. Наэлектризованная атмосфера в любой момент могла разразиться мощным ударом молнии.
Михаил проследил, чтобы его спутница устроилась как можно удобнее. Заставил ее даже крепко-накрепко завязать капор на голове, чтобы его не сорвало ветром. Велел укрепить постромки лошадей и набить во втулки колес соломы, чтобы смягчить удары о камни на ухабистой дороге, избежать которых было невозможно из-за кромешной тьмы. Наконец, оси передка и задка тарантаса надежно скрепили деревянной перекладиной с помощью болтов и гаек. Эта перекладина заменила кривую поперечину, которая в дорожных каретах связывает колесные оси.
Надя заняла место в глубине тарантаса, Михаил — рядом с ней. Верх, защищающий путешественников, был полностью опущен, а спереди путников прикрывали две кожаные шторы, укрывающие их от дождя и ветра. Два фонаря были укреплены слева от облучка, и их бледный свет наискосок освещал дорогу. Но скорее они были сигнальными огнями и могли помешать столкновению с другой повозкой, двигающейся навстречу в темноте, чем освещали путь.
— Надя, все готово! — сказал Михаил.
— Едем, — ответила та.
И тарантас тронулся, одолевая первый откос гор. Было уже восемь часов вечера, солнце вот-вот должно было закатиться. Сумерки долго длятся на этой широте, но из-за пасмурной погоды темнело быстро. Огромные тучи клубились над самой головой, и никакой ветер не мог их разогнать. Набухшие непролившимся дождем, они опускались все ниже, прижимая небо к земле! В отблесках фонарей колыхались дуги. Чудилось, что облака, плотным кольцом облепившие горы, скоро коснутся земли и что ураган идет сверху. К тому же еще и дорога поднимала путников к этим тяжелым грозовым тучам, готовым разверзнуться в любой миг. Вскоре дорога слилась с ними, и если бы в этот момент хлынул дождь, тарантас очутился бы в таком тумане, что не смог продолжать двигаться дальше, ежеминутно рискуя свалиться в пропасть.
Однако Уральские горы невысоки. Самая большая вершина не превышает и пяти тысяч футов. Урал не знает вечных снегов, выпав зимой и задержавшись на склонах, снег полностью тает под летним солнцем. Трава, кусты и деревья растут тут на всякой высоте. Поскольку разработка железнорудных и меднорудных шахт, месторождений драгоценных камней требует немало рабочих рук, то деревни, называемые здесь заводскими, довольно часто встречаются по дороге, проложенной через горные теснины.
Но то, что легко преодолевается в ясную солнечную погоду, трудно сделать, когда стихия разбушевалась и человеку приходится вступать в борьбу с ней. Михаил уже не раз испытывал, что такое гроза в горах, и потому с полным основанием считал ее не менее опасной, чем, скажем, зимний буран.
Но дождь все не шел. Михаил, приподняв кожаный полог, наклонился вперед, разглядывая по обе стороны дороги причудливые очертания скал, подсвеченных слабыми фонарями. Надя, скрестив руки, сидела неподвижно, в то время как ее попутчик едва ли не наполовину высовывался из тарантаса.
Воздух был спокоен, но спокойствие это было угрожающим. Ни ветерка. Природа словно замерла, а ее легкие — мрачные густые тучи — уже не могли дышать. Стояла тишина, которую можно было бы назвать непроницаемой, если бы не громыханье колес тарантаса, хрустящих по гравию дороги, не поскрипывание ступиц и обшивки самой повозки, надсадное дыхание лошадей да стук их подков о камни, высекающих иногда искру.
Дорога была пустынна. Никто, ни пешеход, ни всадник не повстречались путникам в узких ущельях Урала в эту грозовую ночь. И на всем протяжении пути ни огонька, ни хижины. Все это подсказывало, что нельзя ни медлить, ни задерживаться, случись что — помочь будет некому. Одна мысль особенно занимала Михаила: что за путешественники тряслись в телеге впереди него и какие причины заставили их быть столь неосмотрительными?
Михаил продолжал наблюдать за дорогой. К одиннадцати часам молнии уже без перерыва вспыхивали во всем небе. Вспышки бело-голубого света вырывали из тьмы лохматые ели, стоящие у дороги. Тарантас накренился и чуть было не съехал на обочину, за которой был обрыв, но вовремя вспыхнул небесный свет и выказал опасность. Время от времени колеса тарантаса постукивали по бревенчатому мосту, переброшенному через расщелину, и тогда казалось, что это гром перекатывается под ним. Все пространство кругом полнилось непрекращающимся, все более нарастающим шумом. К нему примешивались и крики ямщика: то льстивые, то бранные, подстегивающие лошадей, более уставших от тяжелой погоды, чем от крутизны пути. Колокольчики под дугой их уже не подбадривали, а временами у них подгибались ноги.
— В котором часу мы достигнем вершины? — спросил Михаил у ямщика.
— К часу ночи… — ответил тот, покачивая головой. — Если только мы вообще доберемся до нее!
— Скажи-ка, друг, тебе не впервой бывать в горах в грозу?
— Нет, и, даст Бог, не в последний раз!
— Так ты боишься?
— Я не боюсь, но еще раз скажу, что ты зря поехал в ночь.
— Еще хуже было бы, если бы я не поехал.
— Пошли, родные! — вскричал ямщик, дело которого было не спорить, а слушать и подчиняться.
И тут все вокруг затряслось. Послышался оглушительный свист, раздирающий тишину. Полыхнула молния, и тут же последовал ужасающий раскат грома. Михаил разглядел на одной из вершин высокие ели, раскачиваемые ветром. Разбушевавшийся ветер шел поверху. Долгий треск донесся до его слуха: падали старые или непрочно стоящие деревья. Стволы поломанных ветром елей преградили путь. А одно из них, подпрыгнув на скалах, рухнуло в пропасть.
Лошади встали как вкопанные.
— Нн-о, вперед, голубки! — крикнул ямщик, сплетая удары кнута с раскатами грома.
Михаил взял Надю за руку.
— Ты спишь, сестра?
— Нет, брат.
— Будь готова ко всему, вот и гроза!
— Я готова.

Михаил едва успел задернуть кожаные шторы откидного верха, как тут же обрушился шквал ветра. Ямщик, соскочив с облучка, подхватил лошадей под уздцы, удерживая их. Тарантас застыл на повороте дороги, по которой надвигался шквал. Необходимо было развернуть повозку и лошадей лицом к ветру, иначе ветер столкнул бы их в глубокую пропасть слева. Лошади, сшибаемые ветром, встали на дыбы, и ямщик не мог их успокоить. Ни уговоры, ни ругательства не помогали. Несчастные животные, ослепленные вспышками молний, испуганные раскатами грома, схожие с залпами пушек, могла порвать постромки и убежать. Ямщик уже не был хозяином упряжки.
На помощь пришел Михаил. Но даже ему, наделенному от природы незаурядной силой, с трудом удалось усмирить лошадей. Ураган усиливался. Дорога же в этом месте расширялась, и ветер врывался туда, будто в вентиляционную трубу парохода. Вдруг со склона покатилась лавина камней и обломков деревьев.

— Нам нельзя оставаться здесь! — крикнул Михаил.
— А мы и не останемся! — воскликнул ямщик, кланяясь ветру. — Нас скоро сбросит к подножью гор.
— Держи правую лошадь, трус! — рявкнул Михаил. — А я возьму левую!
Рев ветра заглушил слова Михаила. Оба они пригнулись, чтобы не быть сбитыми с ног, а повозка, удерживаемая лошадьми и ими, чуть откатилась назад.
— Не бойся, Надя! — крикнул Михаил.
— Я не боюсь, — спокойно сказала девушка.
На мгновение раскаты грома стихли, и сбивающий с ног ветер стих.
— Может быть, спустимся вниз? — сказал ямщик.
— Нет, надо подниматься! Нужно пройти этот поворот! Там выше, мы укроемся за склоном!
— Но лошади не слушаются!
— Делай, как я, тяни их вперед!
— Ветер сейчас усилится!
— Ты будешь слушаться меня или нет!
— Ты что мне приказываешь!
— Отец приказывает! — ответил Михаил, впервые упомянув имя императора, известное во всех частях света.
— Ну, пошли-пошли, ласточки! — схватил ямщик правую лошадь, в то время как Михаил повел левую.
Лошади с трудом сдвинули повозку. Теперь они не могли свернуть в сторону от дороги, а коренник шел ровно по середине пути. Продвигались очень медленно — три шага вперед, один или два назад. Скользили, падали, поднимались. При таком движении тарантас мог сломаться.
Михаил и ямщик потратили на участок дороги в полверсты два часа хода. Опасность заключалась не только в том, что этот путь насквозь продувался страшным ветром, но и в том, что сверху летели град камней и обломки деревьев, которые, казалось, швыряла вниз сама гора. Вдруг со скалы покатился в сторону тарантаса огромный валун. Заметив его при очередной вспышке, ямщик вскрикнул. Михаил резким ударом кнута подстегнул лошадей, но те отказались повиноваться. В какую-то долю секунды Михаил представил себе, что обломок скалы рухнул на тарантас и его спутница погибла!
Бросившись назад, противопоставив этой огромной опасности сверхчеловеческую силу, он уперся спиной в повозку и сумел столкнуть ее на несколько футов вперед. Громадный валун, падая, вскользь задел Михаила по груди и ударился о дорожный камень, подобно пушечному ядру.
— Брат! — испуганно закричала Надя, видевшая это при вспышке молний.
— Надя! — выдохнул Михаил. — Надя, не бойся, я с тобой!
— Я испугалась за тебя!
— Бог с нами, сестра!
— Со мной непременно, потому, что он дал мне в дорогу тебя! — прошептала девушка.
Толчок, заданный Михаилом тарантасу, позволил обезумевшим лошадям вновь стронуть его с места. Понукаемые и поддерживаемые с обеих сторон людьми, они поднялись по дороге до расщелины, где можно было укрыться от бури. Справа на склоне выступала огромная скала, прикрывающая поворот. Здесь не так бушевал ветер. А совсем рядом верхушки нескольких елей, возвышающихся над гребнем скалы, исчезли в один миг. Словно гигантская коса подстригла склон.
Гроза была в самом разгаре. В ущелье сверкали молнии, не прекращались раскаты грома. Казалось, сама земля стонала под яростными ударами и тряслись все Уральские горы. К счастью, тарантас удалось затащить в расщелину, и теперь ветер бил его в один бок. Но и здесь он не был настолько защищен, чтобы резкие порывы, смягченные выступом, не доставали его. Раскачивая, ветер бил повозку о каменную стену.
Надя вылезла из тарантаса, и Михаил нашел для нее выемку в скале, выдолбленную чьей-то упорной кайлой — там она могла укрыться. В это время — а был уже час ночи — хлынул дождь. Вскоре ветер пополам с ливнем достиг наивысшей силы, неспособной, впрочем, погасить небесный огонь. Ехать было невозможно.
Как бы велико ни было нетерпение Михаила тотчас же отправиться в путь, пришлось задержаться. От этого ущелья, пересекающего дорогу, ведущую в Екатеринбург, оставалось только спуститься по склону гор, но сделать это было невозможно, тысячи потоков изрезали их. Ехать дальше было равносильно смерти.
— Надо ждать, — сказал Михаил, — иначе мы рискуем опоздать еще больше. Такая гроза не может длиться долго. Часа в три ночи уже начнет светать, и мы отважимся на спуск. Это будет нелегко, но что делать!
— Подождем, брат, — отвечала Надя, — но если ты откладываешь отъезд, это не должно быть следствием моей усталости или страха.
— Надя, я знаю, что ты решила ничего не бояться, но я рискую большим, чем моя жизнь, и даже, чем твоя жизнь, прежде всего я должен выполнить порученное мне задание. Это мой долг!
— Долг, — прошептала Надя.
Яркая молния разрезала небо, раздался сильный сухой удар. В воздухе запахло серой, и роща огромных сосен в двадцати шагах от тарантаса, куда попал электрический заряд, вспыхнула гигантским факелом.
Ямщик, сброшенный на землю мощным ударом, к счастью, отделался лишь легкими ушибами. Едва последние раскаты грома затерялись в горах, Михаил ощутил, что рука Нади сильно сжимает его руку, и услышал, что она шепчет ему на ухо:
— Кричат, брат! Послушай!..

Глава XI
Брошенные на произвол судьбы
Во время короткого затишья откуда-то сверху действительно донеслись чьи-то крики — совсем близко от их укрытия. Это был зов отчаявшегося, попавшего в беду путника. Михаил насторожился. Ямщик тоже слышал крик, но только покачивал головой, показывая, что прийти на помощь у них нет никакой возможности.
— Кто-то зовет на помощь! — крикнула Надя.
— Неужто они рассчитывают только на нас! — сказал ямщик.
— Почему бы нет? — воскликнул Михаил. — Разве они не помогли бы нам, окажись мы в подобной ситуации?
— Но не рисковать же повозкой и лошадьми!..
— Я пойду пешком, — оборвал Михаил ямщика.
— И я с тобой, брат, — поддержала его девушка.
— Нет, ты останешься, Надя. Присмотри за ямщиком, я не хочу оставлять его одного…
— Хорошо, — сказала Надя.
— И что бы ни случилось, не покидай своего укрытия!
— Я буду на месте!
Михаил тронул ее руку и исчез за поворотом.
— Твой брат не прав, — сказал ямщик девушке.
— Нет, прав, — ответила та.
Михаил быстро шел по дороге. Он спешил оказать помощь тем, кто так отчаянно взывал о ней и в то же время желал узнать, кто они, эти путешественники, кому даже гроза не помешала отправиться в горы. Несомненно, это были те, кто ехал впереди него на телеге.
Дождь перестал, но ветер усилился. Крики доносились все отчетливее. Дорога петляла, а вспышки молний освещали лишь выступ, нависший над ней. Ветер бился о скалы, закручивался, и потребовалась вся незаурядная сила Михаила, чтобы преодолеть это пространство.
Крики раздавались совсем рядом. Михаил еще не видел людей; то ли они были сброшены на обочину дороги, то ли кромешная тьма не позволяла это сделать, но слышал их все отчетливее. То, что он расслышал, не удивило его:
— Ты вернешься?
— Я тебя выпорю на следующей станции!
— Чертов ямщик, ты слышишь меня! Эй! Там!
— Вот как возят в этой стране!
— И вот что они называют телегой!
— A-а! Чудовище! Лошадь удирает от нас!
— Я не позволю, чтобы со мной, аккредитованным англичанином, так обращались! Я буду жаловаться, я заставлю, чтобы его повесили!
Один из голосов был страшно разгневанный. А его собеседник, как показалось Михаилу, примирился с происходящим, так как вдруг раздался взрыв смеха:
— Ну, нет! Это даже забавно!
— Вы еще способны смеяться? — язвительно ответил гражданин Объединенного королевства.
— Конечно, дорогой коллега! И делаю это от всего сердца, а что еще остается? И приглашаю вас присоединиться ко мне! Честное слово, эта ситуация очень забавна, ничего подобного я еще не переживал!
В это мгновение сильнейший удар грома наполнил ущелье грохотом, и горное эхо многократно усилило его. Едва затих последний раскат, тот же голос весело возвестил:
— Да, чрезвычайно забавно! Наверняка ничего подобного не могло случиться во Франции!
— И уж, конечно, в Англии! — ответил англичанин.
Сверкнула молния и высветила на дороге двух странников, примостившихся шагах в двадцати от Михаила, на остатках странной повозки, глубоко увязшей в колее. Михаил подошел поближе к этим людям, из которых один безудержно смеялся, а второй бурчал, и узнал в них корреспондентов, которые плыли с ним вместе на «Кавказе» от Нижнего Новгорода до Перми.
— О, здравствуйте, месье! — воскликнул француз. — Рад вас видеть! Позвольте представить вам моего близкого недруга, месье Блаунта!
Английский журналист сдержанно поздоровался и, видно, в свою очередь собрался представить Алсида Жоливе, согласно этикету, но Михаил не дал ему это сделать:
— Господа, не тратьте попусту время, мы уже знакомы, так как путешествовали вместе по Волге.
— А! Очень хорошо! Прекрасно, господин…
— Николай Корпанов, купец из Иркутска, — ответил Михаил. — Не расскажете ли, что за приключение, такое удручающее для одного и такое забавное для другого, вы пережили?
— Будьте нашим судьей, господин Корпанов! — ответил Алсид Жоливе. — Представьте, что наш ямщик уехал на передке своей адской повозки, бросив нас посреди дороги. Нам осталась худшая половина телеги. Нет проводника. Нет лошадей! Не правда ли. Эта ситуация очень забавна!
— Вовсе не смешно! — ответил англичанин.
— Коллега, взгляните на ситуацию с другой, менее мрачной стороны!
— Но как, скажите, мы сможем продолжить наш путь? — спросил Гарри Блаунт.
— Нет ничего проще, — отвечал Алсид, — впряжем вас в обломки телеги, я возьму вожжи, назову вас голубчиком, как всамделишный ямщик, и вы побредете, как самый настоящий почтовый ломовик!
— Сэр Жоливе, — проговорил англичанин, — ваши шутки переходят все границы…
— Успокойтесь, коллега. Когда вы изнеможете, я заменю вас, и тогда вы будете обращаться со мной, как вам угодно, обзывая запаленной улиткой, черепахой, если я не смогу везти вас с головокружительной скоростью!
Алсид Жоливе говорил это с таким мягким юмором, что Михаил не смог сдержать улыбки.
— Господа, — сказал он, — есть лучший вариант. Мы забрались на самую вершину гор, и теперь нам осталось только спуститься вниз. Мой тарантас в пятистах шагах сзади. Я одолжу вам одну из лошадей, мы впряжем ее в остаток вашей телеги, а завтра, если ничего не произойдет за ночь, мы вместе доедем до Екатеринбурга.
— Месье Корпанов, — сказал Алсид Жоливе, — это благородное предложение!
— Добавлю, — отвечал Михаил, — что я не предлагаю продолжить ваше путешествие в моем тарантасе только потому, что в нем лишь два места: для меня и моей сестры.
— Но как, месье, — спросил Алсид, — мы с коллегой отправимся на край света на задке телеги, впряженной в вашу лошадь?
— Сэр, — сказал Гарри Блаунт, — мы принимаем ваше любезное предложение. А что станет с ямщиком?
— О, поверьте, подобное приключение он переживает не в первый раз, — ответил Михаил.
— Тогда почему же он не возвращается? Ведь он прекрасно знает, что бросил нас беспомощными, негодяй!
— Да он даже не подозревает о том!
— Как? Ямщик не знает, что телега раскололась пополам?
— Думаю, он прилежно везет передок в Екатеринбург, не подозревая, что вы остались далеко позади.
— Что я вам говорил, коллега, это ли не забавно! — воскликнул Алсид Жоливе.
— Господа, если вы принимаете мое предложение, — начал Михаил, — то прошу идти за мной, к моей повозке…
— А наша телега? — заметил англичанин.
— Не бойтесь, она никуда не денется, мой дорогой Блаунт, — воскликнул Алсид. — Она так крепко засела, что если ее оставить здесь, следующей весной она покроется листьями!
— Так идемте же, господа! — позвал Михаил. — И приведем сюда тарантас.
Француз и англичанин покинули свое сиденье и последовали за ним. Алсид шагал, не прекращая балагурить:
— Честное слово, месье Корпанов, вы вытаскиваете нас из крайне трудного положения!
— Я делаю то, что сделал бы на моем месте любой другой путник, — отвечал Михаил. — Если бы путешественники не помогали друг другу, пришлось бы закрывать все дороги!
— Услуга за услугу, месье. Если вы отправитесь дальше, то, возможно, наши пути еще пересекутся…
Алсид Жоливе не стал уточнять, куда едет Михаил, но тот, не желая делать из этого тайну, тотчас ответил:
— Мой путь лежит в Омск, господа.
— А месье Блаунт и я, — начал Алсид, — едем туда, где, возможно, нарвемся на пулю, но уж наверняка и на какую-нибудь новость.
— В мятежные губернии? — быстро спросил Михаил.
— Точно, месье Корпанов, и по всему видно, что мы там встретимся!
— Почему бы нет, господа, — ответил Михаил. — Но я не люблю ружейной пальбы и размахивания пиками, я очень мирный по натуре человек, чтобы отважиться окунуться в драку!
— Сожалею, месье, сожалею, но поистине можно сожалеть только о том, что мы так скоро расстанемся! Но после Екатеринбурга счастливая звезда, возможно, вновь сведет нас хотя бы на несколько дней.
— Так вы тоже направляетесь в Омск? — спросил Михаил, чуть поразмыслив.
— Точно сказать не можем, — ответил Алсид, — может быть, мы проедем прямо до Ишима, и как только там окажемся, решим, куда последуем дальше.
— Итак, господа, — сказал Михаил, — мы вместе едем до Ишима.
Лучше было бы путешествовать одному, но Михаил не хотел вызывать подозрений тем, что старается избавиться от спутников, двигающихся по той же дороге. Но поскольку Алсид Жоливе и его коллега намеревались остановиться в Ишиме и не сразу направляться в Омск, почему бы часть пути не проехать вместе?
— Хорошо, господа, — ответил он, — решено, едем вместе!
Затем с самым безразличным видом спросил:
— Не известно ли вам, где сейчас находятся татары?
— Честное слово, господин, последние известия об этом мы получали в Перми, — ответил Алсид. — Орды Феофар-Хана полонили всю Семипалатинскую губернию и вот уже несколько дней форсированным маршем спускаются вниз по течению Иртыша. Следовательно, вам надо спешить, если вы хотите беспрепятственно попасть в Омск.
— В самом деле, — задумчиво ответил Михаил.
— Говорят также, что полковнику Огареву удалось перейти границу, переодевшись в чужие одежды, и что он скоро присоединится к хану в центре восставшего края.
— Но как вам удалось узнать это? — спросил Михаил. Новости крайне заинтересовали его.
— Ну, как узнают все эти новости, — отвечал Алсид, — они ведь носятся в воздухе.
— И вы серьезно полагаете, что полковник Огарев уже в Сибири?
— Более того, я слышал, что он едет по дороге от Казани на Екатеринбург.
— Ага, вы это знали, сэр Жоливе? — вскричал Гарри Блаунт, не в состоянии спокойно перенести последнее замечание француза.
— Знал, — ответил тот.
— А известно ли вам, что он переоделся цыганом? — выпалил в свою очередь Гарри.
— Цыганом! — помимо своей воли выкрикнул Михаил, вспомнив старого цыгана в Нижнем Новгороде, плавание на «Кавказе» и высадку цыган в Казани.
— Я узнал о том достаточно точно, чтобы тут же сообщить это известие моей кузине, — улыбнулся Алсид.
— Вы не теряли даром время в Казани, — сухо заметил англичанин.
— Конечно, нет, дорогой коллега, и пока «Кавказ» запасался продуктами, я тоже пополнял свои запасы.
Михаил уже не слушал реплики двух корреспондентов. Он думал о цыганской труппе, о старике-цыгане, лица которого он так и не рассмотрел, о странной женщине, сопровождавшей его и бросившей на Михаила пристальный взгляд, — все это он мысленно старался собрать воедино. Вдруг неподалеку раздался выстрел.
— Вперед, господа! — закричал Михаил.
«Странно, — подумал Алсид, — этот купец, страшащийся выстрелов, что-то очень быстро бежит к тому месту, откуда они раздаются».
И устремился следом за ним, сопровождаемый Гарри Блаунтом, который никогда не отставал. Скоро они втроем оказались у выступа скалы, где скрывался тарантас. Сосны, вспыхнувшие от молнии, еще догорали. Дорога же была пуста. Но Михаил не мог ошибиться. Звук выстрела был. Совсем рядом послышалось грозное ворчание, и раздался еще один выстрел.
— Медведь! — крикнул Михаил, узнав ворчание опасного зверя. — Надя, Надя! — И выхватил из-за пояса, тесак, одним прыжком оказался за выступом, где его должна была ждать девушка. Сосны, пожираемые пламенем от комля до самых вершин, хорошо освещали это место. В тот самый момент, как Михаил достиг тарантаса, от него отшатнулась гигантская туша. Это был огромный медведь. Гроза выгнала его из леса, и он искал убежища, где его нашли люди.
Две лошади, смертельно напуганные, оборвали постромки и убежали, а ямщик, забыв обо всем, оставил девушку и бросился за ними в погоню. Но храбрая девушка не потеряла головы. Медведь, не видя ее в укрытии, набросился на коренную лошадь. Тогда она подбежала к повозке, схватила один из револьверов Михаила и в упор выстрелила в медведя. Пораненный зверь развернулся и бросился на девушку, но та юркнула за повозку, в постромках которой билась, пытаясь отвязаться, лошадь. Если и она затеряется в горах, путешествие можно считать законченным. Надя, проявляя удивительное хладнокровие, вышла на медведя и в тот момент, когда он уже готов был схватить ее, выстрелила в него вторично.
Этот второй выстрел раздался, когда Михаил был уже в нескольких шагах от Нади. В один прыжок он встал между девушкой и зверем. Его рука заученным движением ударила снизу вверх, и медведь с распоротым животом опустился на землю. Это был прекрасный удар настоящего сибирского охотника.
— Ты не ранена, сестра? — бросился Михаил к девушке.
— Нет, брат, — отозвалась та.
И тут появились оба журналиста. Алсид Жоливе подбежал к лошади и сдержал ее, продемонстрировав крепость руки. Оба видели мастерский удар ножом Михаила.
— Черт побери! — вскричал Алсид. — Для простого купца вы, месье Корпанов, великолепно владеете охотничьим ножом!
— Блестяще проделано! — добавил Гарри Блаунт.
— В Сибири, господа, — ответил Михаил, — надо уметь понемногу делать все!
Алсид вгляделся в молодого человека. Тот стоял в колеблющемся свете горевших деревьев с окровавленным ножом в руке, с решительным взглядом, наступив ногой на поверженного зверя, и был прекрасен.
«Силен!» — подумал он про себя и, сняв головной убор, почтительно поздоровался с девушкой. Надя слегка поклонилась. Алсид, не удержавшись, повернулся к своему попутчику и заметил:
— А сестра стоит брата! Если бы я был медведем, я бы ни за что не приблизился к этой прекрасной, но опасной особе!
Гарри Блаунт будто аршин проглотил и стоял в отдалении с шапкой в руке. Развязность коллеги заставляла его замыкаться еще больше. Тут появился ямщик, которому удалось поймать обеих лошадей. Бросив взгляд на убитого зверя, которого, к сожалению, пришлось оставлять стервятникам, он занялся упряжкой.
Михаил коротко рассказал, что случилось с двумя путешественниками, и предложил отдать им одну лошадь.
— Как вам будет угодно, — отвечал ямщик, — только вместо одной моей повозки получается две…
— Хорошо, брат, — сказал Алсид, мгновенно понявший намек, —ты получишь двойную оплату!
— Пошли, родимые! — закричал ямщик.
Надя сидела в тарантасе, а мужчины шли следом за ним. Было уже три часа ночи, гроза стихла, и путники быстро одолели дорогу до обломков телеги, которая увязла в грязи по самые, ступицы. Одна из лошадей была тут же впряжена в кузов телеги. Журналисты заняли свое законное место и сейчас же тронулись в путь. Впрочем, им оставалось лишь спуститься по склонам гор.
Шесть часов спустя обе повозки, одна за другой, прибыли в Екатеринбург, на, этот раз без приключений. Первым, кого увидели журналисты на пороге станционного дома, оказался их ямщик, который, казалось, только и делал, что поджидал их здесь. Этот достойный русский прекрасно выглядел, не обнаруживая на лице никакого смущения и, улыбаясь, протянул руку, требуя чаевые.
Ярость Гарри Блаунта не имела границ, и если бы ямщик из-за предосторожности не сделал шага назад, удар кулака, нанесенный по всем правилам английского бокса, заменил бы ему чаевые. Алсид Жоливе хохотал как сумасшедший.
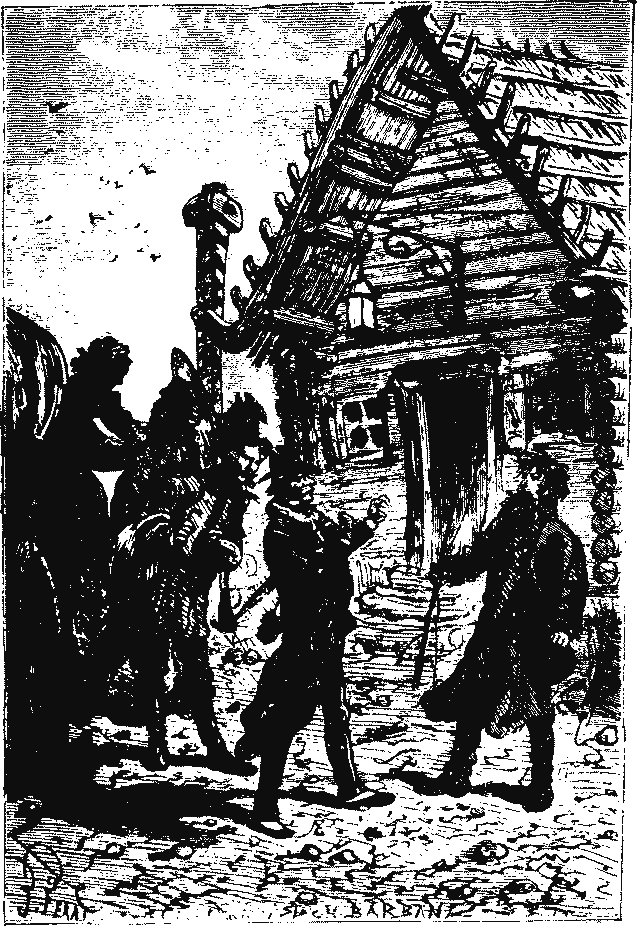
— Но он же прав, этот бедняга! — крикнул Алсид. — Он же не виноват, мой дорогой коллега, а мы не смогли следовать за ним!
Проворный француз уже успел отыскать свободный тарантас. Вытащив из кармана несколько копеек, он вручил их ямщику со словами:
— Держи, братец, если ты и не заработал чаевых, то не по своей вине!
Этот жест только усилил раздражение Гарри Блаунта, обвинявшего во всем хозяина повозки и собиравшегося устроить тому судебный процесс.
— Процесс в России! — воскликнул Алсид. — Но если в этой стране ничего не изменилось, конца этому процессу не будет. Разве вам не известна история одной русской кормилицы, потребовавшей грудного ребенка за то, что она год его кормила?
— Она мне неизвестна, — холодно ответил Гарри.
— И вам неизвестна дальнейшая судьба этого ребенка, в пользу которого было решено это дело?
— И кем же он стал, скажите на милость?
— Полковником гвардейских гусар!
Все расхохотались. Довольный Алсид вытащил из кармана блокнот и, улыбаясь, записал в него замечание:
«Телега — русская повозка на четырех колесах, когда она отправляется в путь, и на двух — когда прибывает в пункт назначения».
Глава XII
Провокация
Екатеринбург вполне можно причислить к типу азиатских городов, так как он расположен за Уральскими горами. Но, несмотря на это, он входит в состав Пермской губернии — одной из самых крупных губерний европейской России. Это чисто административное решение проблемы имеет свой смысл. Что бы ни случилось, этот кусок Сибири остается в зубах империи.
Ни у Михаила, ни у двух журналистов не было затруднений в поисках повозки в таком большом городе, основанном еще в 1723 году. В то время здесь находились первый в России монетный двор, управление рудниками. Этот город был важным промышленным центром в краю металлургических заводов и месторождений золота и платины. Теперь население Екатеринбурга значительно выросло. Сюда бежали из провинций, захваченных ордами Феофар-хана, как русские, так и другие сибиряки, в основном из киргизского края. Потому-то не хватало повозок, чтобы добраться сюда, и было их в избытке, чтобы покинуть его. Мало кто в сложившихся обстоятельствах рискнул бы сейчас пуститься в поездку по сибирским дорогам.
Из этого следовало, что Гарри Блаунт и Алсид Жоливе сумели без помех заменить свою знаменитую полутелегу на целую. Михаилу было проще — тарантас принадлежал ему и не очень пострадал в горах, оставалось лишь перепрячь лошадей и вновь помчаться по дороге в Иркутск.
До Тюмени и даже вплоть до Ново-Заимской эта дорога изобиловала крутыми подъемами и спусками, так как шла по земле, где уже зарождались Уральские горы. За Ново-Заимской начинались бескрайние степи, тянущиеся почти до самого Красноярска, без малого 1700 верст.
Журналисты намеревались доехать до Ишима, преодолев шестьсот тридцать верст. Там они, тщательно выяснив обстановку, отправятся через захваченные районы — вместе или отдельно, в зависимости от обстоятельств. Но путь от Екатеринбурга до Ишима и дальше на Иркутск был единственным. Михаил не гонялся за новостями, он хотел бы вообще объехать разоренный захватчиками край и решительно настроился не задерживаться нигде более.
— Господа, — говорил он своим спутникам. — Я был бы рад продолжать свое путешествие в столь приятной компании, но обязан предупредить, что стану гнать лошадей и ночью, и днем, поспешая в Омск, так же как и моя сестра. Мы едем к матери и очень волнуемся, успеем ли приехать до того, как его захватят азиаты. Так что будем останавливаться только для смены лошадей на станциях.
— Мы станем делать то же самое, — заметил Гарри Блаунт.
— Хорошо, — продолжал Михаил, — но не теряйте ни минуты. Наймите, а еще лучше купите повозку, у которой…
— Задок бы прибыл в Ишим вместе с передком, — добавил Алсид Жоливе.
Через полчаса проворный француз отыскал тарантас, чем-то схожий с повозкой Михаила. Михаил и Надя устроились в тарантасе, то же самое сделали и
репортеры, и скоро обе упряжки покинули Екатеринбург. Наконец-то Надя попала в Сибирь и очутилась на этой бесконечно длинной дороге, ведущей в Иркутск. О чем же она думала? О том, что три быстрых коня уносят ее в место ссылки отца, где ему, возможно, придется жить очень долго и так далеко от родины! Едва ли она замечала степные красоты. Казалось, ее взгляд проникал далеко за горизонт и искал там лицо узника. Ехали они со скоростью пятнадцать верст в час, но Надя ничего не замечала вокруг. Земля была на первый взгляд скудна и бедна, почти не возделана, но в недрах ее хранились в избытке железо и медь, платина и золото. Всюду виднелись промышленные предприятия и очень редко — хутора или деревни. Где было отыскать рабочие руки, способные пахать землю, засеивать ее и собирать урожай, когда куда более выгодно рыхлить эту землю киркой или взрывать ее? Крестьянин уступил рудокопу, и кирка встречалась чаще, чем мотыга.
Мысли девушки блуждали, и она легко переносилась из воображаемых ею мест — Прибайкалья — сюда, в степи, по которым неслась их повозка. Образ отца расплывался, и она вновь разглядывала своего великодушного попутчика, встреченного на Владимирской железной дороге, несомненно, по чудесному Божьему промыслу! Она принялась вспоминать все знаки его внимания по отношении к ней, его появление в полицейском управлении, его сердечную простоту, с которой он заговорил с нею, назвав ее сестрой, его предупредительность во время плавания по Волге и наконец все то, что он сделал для нее в ту страшную грозовую ночь, подвергая свою жизнь опасности ради ее спасения!
Надя благодарила Бога, за то, что он послал ей Михаила, такого смелого и великодушного покровителя. Рядом с ним она чувствовала себя в полной безопасности. Наверное, даже настоящий брат не смог бы сделать для нее больше, чем этот скромный друг. Теперь она не боялась никаких препятствий и была уверена, что вскоре достигнет своей цели.
И Михаил мало говорил, больше думал. И тоже благодарил Бога за встречу с Надей, позволившей ему одновременно благополучно скрывать свое настоящее имя и делать доброе дело. Отважная девушка нравилась ему. Почему бы ей и в самом деле не быть его сестрой! Он испытывал к Наде не только уважение, но и нежность и чувствовал, что она из породы тех редких и чистых людей, на которых можно положиться в любой ситуации.
Между тем они ехали уже по мятежной сибирской земле. И если журналисты были правы, что Иван Огарев уже перешел границу, следовало действовать с предельной осторожностью. В здешних краях наверняка кишмя кишат азиатские шпионы. А если раскроется, что он царский курьер, миссия его будет провалена, а сам он, возможно, погибнет. Груз ответственности тяжко давит на его плечи.
А что же происходило в это время во второй повозке? В ней ехали, как и прежде. Алсид Жоливе произносил целые тирады, а Гарри Блаунт отвечал сухо и односложно. Каждый по-своему видел окружающее и высказывал замечания о редких, однообразных происшествиях. На каждой почтовой станции они подходили к Строгову. Надя оставалась в тарантасе, если не нужно было завтракать или обедать. Но и за столом она вела себя очень сдержанно и почти не вмешивалась в мужской разговор.
Алсид Жоливе был очень внимателен к девушке, считая ее очаровательной особой, но никогда не выходил за рамки приличия. Он не мог не восхищаться ее спокойствием и внутренней силой, которые она проявляла, перенося все тяготы путешествия.
Каждая остановка беспокоила Михаила, и он всячески торопил отправку тарантаса, неизменно подбадривая смотрителей и ямщиков щедрыми вознаграждениями. Быстро перекусив, — всегда слишком быстро, по мнению Гарри Блаунта, который любил откушать не торопясь, — они тут же отправлялись в путь. Теперь и журналисты летели орлами, так как платили золотыми, или, как говорил Алсид Жоливе, — «русскими орлами».
Само собой разумеется, что Гарри не обращал на девушку ни малейшего внимания. Пожалуй, это была одна из немногих тем, которой он не касался в разговоре. Этот почтенный джентльмен не имел привычки делать две вещи одновременно. Когда Алсид однажды спросил его: сколько лет может быть юной ливонке? — тот с полузакрытыми глазами переспросил самым серьезным тоном:
— Какой ливонке?
— Черт вас побери, да сестре Николая Корпанова!
— Что же, это его сестра?
— Нет, бабушка! — резко отвечал Алсид, возмущенный таким безразличием. — Так сколько же лет вы бы ей дали?
— Если бы я присутствовал при ее рождении, наверняка бы знал! — ответил Гарри, не желая продолжать этот никчемный разговор.
Местность, которую проезжали оба экипажа, была пустынна. Погода установилась, но было еще довольно пасмурно, хотя и не холодно. Если бы повозки имели еще и мягкий ход, путешественники были бы вполне довольны своей поездкой. Они неслись с той же скоростью, что и почтовые дилижансы.
Эти края казались полузаброшенными. На полях они уже почти не встречали сибирских крестьян, серьезность лиц которых отмечала еще одна известная путешественница, справедливо сравнив их с кастильцами, правда, без обычной для них надменности. Кое-где деревни были уже пустынны, что говорило о приближении татарских орд. Жители отогнали свои отары овец, стада верблюдов, табуны лошадей на северные равнины. Несколько племен киргизских кочевников остались верными правительству и также перевезли свои юрты за Иртыш и Обь, чтобы избежать безжалостных грабежей захватчиков.
К счастью, почтовая служба работала бесперебойно, как и телеграфная в лучшие времена. И на каждой станции смотрители бесперебойно доставляли лошадей, принимали телеграммы или доверенности, и преимущество имели только правительственные сообщения. Поэтому пока была возможность, Гарри Блаунт и Алсид Жоливе широко пользовались телеграфом.
До сих пор поездка Михаила, складывалась удачно. Курьер не опаздывал, а если удастся благополучно миновать войска Феофар-Хана на подступах к Красноярску, он сможет достичь Иркутска раньше орд и в кратчайший срок.
Путешественники ехали с той скоростью, которая может быть лишь следствием обещания хорошо оплатить проезд. 22 июля, в час ночи, оба тарантаса прибыли в Тюмень. Обычно население этого города не превышало десяти тысяч человек, а сейчас увеличилось вдвое. Еще никогда Тюмень, этот первый русский промышленный город в Сибири, с современными металлургическими заводами и литейным заводом по изготовлению колоколов, не был так оживлен.

Журналисты тут же отправились за новостями. Но беглецы из мятежных земель не могли сообщить ничего утешительного. Говорилось, что орды Феофар-Хана вот-вот войдут в долину Ишима и что скоро к нему присоединится Иван Огарев, если он уже не с ним. Можно было сделать вывод, что вал татарских войск быстро катится в сторону Восточной Сибири.
Русские войска, переправляемые из европейских провинций России, были еще далеко. Но была надежда на тобольских казаков, шедших форсированным маршем на Томск и способных преградить путь мятежникам.
К восьми часам вечера, преодолев семьдесят пять верст, тарантасы въехали в Ялуторовск. Тут же поменяли лошадей и переправились через Тобол на пароме. Плавное течение реки облегчало переправу, но дальше по пути следования трудности, связанные с нею, увеличатся.
В полночь путешественники, проехав 55 верст, прибыли в Ново-Заимск, оставив далеко позади холмы, покрытые лесом, — последние ступени Уральских гор. Отсюда начиналась безбрежная степная равнина, тянущаяся почти до окрестностей Красноярска. Местами глазу было не за что уцепиться, кроме телеграфных столбов по обеим сторонам дороги, провода которых при ветре пели как струны арфы. Да и сама дорога не отличалась от равнины, разве что выделялась клубами пыли, катящимися вслед за тарантасами. Если бы не она, белой лентой тянущаяся по степи, насколько хватало взора, могло бы показаться, что ты очутился в пустыне.
Михаил со своими спутниками мчался по этой степи с еще большей скоростью. Лошади, подстегиваемые кнутом ямщика, были неудержимы и пожирали версты. Тарантасы мчались прямо в Ишим, туда, где оба журналиста должны были остаться, если никакое неординарное событие на заставит их изменить маршрут.
Двести верст, что отделяют Ново-Заимск от Ишима, если не терять ни минуты, должны быть преодолены к восьми часам вечера следующего дня. У ямщиков складывалось впечатление, что если их пассажиры и не являются высокопоставленными вельможами, то они достойны ими называться хотя бы потому, что не скупились на чаевые.
Еще через день, 23 июля, оба тарантаса находились верстах в тридцати от Ишима. И тут Михаил Строгов разглядел впереди едва различимую в клубах пыли повозку. Поскольку его лошади были свежее, скоро он должен был догнать ее. Это был не тарантас и не телега, а почтовая карета, запыленная до самой крыши, значит, она проделала длинный путь. Ямщик изо всех сил погонял лошадей, несущихся галопом. Очевидно, этот дилижанс не проезжал через Ново-Заимск и выехал на тракт, ведущий в Иркутск, по какому-то затерянному в степи проселку.
Михаил и его спутники думали об одном и том же — обогнать этот экипаж, мчавшийся в Ишим, и получить лучших лошадей. Они шепнули на ухо ямщикам какое-то заветное слово, и вскоре их повозки поравнялись с неизвестной упряжкой. Михаил догнал ее первым. В этот момент кто-то выглянул из кареты, и Строгов едва успел взглянуть на пассажира. Тем не менее он расслышал, проезжая мимо, чей-то властный голос, приказавший ему: «Остановитесь!»
Но он не подумал этого сделать, и карета осталась далеко позади обоих тарантасов. Тут было началось своеобразное соперничество, так как лошади, тащащие карету, воспряли духом, увидя, как обошли их соперники, но их хватило лишь на несколько минут. Три повозки летели в клубах белесой пыли, слышались пощелкивания кнутов, перемешанные с гневными выкриками.
Преимущество оставалось за Михаилом и его попутчиками, и оно могло стать очень значительным, если на станции нет лишних лошадей. Известно, что запрячь в короткий срок две повозки — это все, что сможет станционный смотритель. Через полчаса, карета, оставшаяся далеко позади, была едва различимой точкой на степном горизонте. В восемь часов вечера оба тарантаса приехали на станцию, стоящую при въезде в город Ишим.
Но новости о нашествии становились все тревожнее. К городу выдвигались передовые силы азиатов, и власти вынуждены были вот уже два дня как эвакуироваться в Тобольск. Теперь в Ишиме нельзя было найти ни одного солдата или чиновника. Строгов, прибыв на станцию, тут же спросил лошадей и еще раз убедился в том, что правильно сделал, обогнав карету. В его распоряжении было только три отдохнувших лошади. Все остальные приходили в себя после долгого перегона. Смотритель распорядился запрягать. Журналисты же, решившие задержаться в Ишиме, приказали поставить свой тарантас в сарай. Еще через десять минут Строгову сообщили, что его повозка может отправляться дальше.
— Хорошо, — произнес он и добавил, подойдя к репортерам:
— Теперь, господа, поскольку вы остаетесь здесь, позвольте распрощаться!
— Как, месье Корпанов, — удивился Алсид Жоливе, — разве вы не задержитесь в Ишиме даже на час?
— Более того, господа, я хочу покинуть станцию до прибытия кареты, которую мы только что обогнали.
— Вы опасаетесь, что тот путешественник попытается забрать ваших лошадей?
— Я бы хотел избежать любых затруднений!
— Тогда нам, месье Корпанов, остается поблагодарить вас за оказанную помощь и выразить удовольствие, доставленное нашим совместным путешествием, — сказал Алсид.
— Возможно, мы встретимся через несколько дней в Омске, —добавил Гарри.
— Вполне возможно, — отвечал Михаил, — потому что я направляюсь прямиком туда.
— Ну что ж, счастливого пути, месье Корпанов, — сказал Алсид, — и да упаси вас Бог от телег!
Оба репортера протянули ему руки, собираясь от всей души выразить свое расположение, и в этот миг послышался стук колес почтовой кареты. Почти тотчас же распахнулась дверь станции, и ее порог переступил незнакомый человек. Это был тот самый пассажир, приказывавший Михаилу остановиться, лет сорока, с военной выправкой, высокий, крепко сложен, широкоплеч, густые усы соединялись с рыжими бакенбардами. Одет он был в мундир без знаков отличия. Кавалерийская сабля болталась на ремне, а в руке он держал хлыст.
— Лошадей! — потребовал он с властным видом человека, не привыкшего к возражениям.
— Свободных лошадей нет, — отвечал с поклоном смотритель.
— Мне они нужны немедленно!
— Это совершенно невозможно!
— А что это за лошади впряжены в тарантас, который стоит во дворе?
— Они принадлежат этому господину, — почтительно отвечал смотритель, указывая на Михаила Строгова.
— Пусть выпрягают! — сказал тот властно.
Михаил сделал шаг навстречу.
— Эти лошади взяты мной, — сказал он.
— Какое мне дело до того! Они нужны мне! Живее же!
— Я тоже не могу терять времени! — возвысил голос Михаил, с трудом сдерживая гнев.
Надя стояла рядом, с виду спокойная, но в душе сильно взволнованная ситуацией.
— Довольно! — повторил пассажир кареты. — Немедленно выпрячь тарантас и поставить лошадей под мою карету! — надвинулся он на смотрителя.
Смотритель растерялся, не зная, кому подчиняться, и с надеждой глянул на Михаила, который имел полное право выступить против несправедливого требования.
Михаил заколебался лишь на мгновение, не желая пускать в ход свою подорожную, которая, несомненно, привлекла бы ненужное внимание, но и не хотел терять лошадей. Эта нежелательная стычка могла поставить под угрозу всю его миссию. Журналисты не спускали с него глаз, готовые в любую минуту прийти на помощь.
— Эти лошади не будут выпряжены из моей повозки, — чуть повысил голос Михаил, как, впрочем, и полагалось простому иркутскому купцу.
Путешественник схватил Михаила за плечо.
— Ах, так! — вскричал он. — Ты не уступишь мне лошадей?
— Нет, — спокойно ответил Михаил.
— Тогда они достанутся тому, кто сможет на них уехать. Берегись!
Выкрикнув это, он вынул из ножен саблю и приготовился к бою. Надя бросилась к Михаилу, а Гарри Блаунт и Алсид Жоливе стали рядом.

— Я не буду драться, — просто сказал Михаил и в знак этого скрестил руки на груди.
— Ты не станешь драться!
— Не стану!
— Даже после этого! — и путешественник ударил Михаила по плечу рукояткой хлыста.
Михаил побледнел. Его могучие руки поднялись, готовые в порошок стереть обидчика, но нечеловеческим усилием воли он сдержал себя. Дуэль значила больше, чем опоздание, и делала его миссию невозможной! Уж лучше потерять несколько часов! Да, но как проглотить это оскорбление!
— Так ты будешь драться, трус? — нагло повторил путешественник.
— Нет, — отвечал Михаил, не шевельнувшись, глядя тому прямо в глаза.
— Лошадей! И тотчас же! — крикнул пассажир кареты и вышел вон.

Станционный смотритель кинулся вслед, пожав плечами и недоуменно взглянув на Михаила. Этот инцидент шокировал журналистов. Их разочарование было велико — этот здоровяк позволил себя ударить и не ответил на оскорбление! Сухо поклонившись, они отошли в сторону. Алсид, недоумевая, сказал Гарри:
— Вот уж не ожидал, что человек, бросившийся с ножом на медведя, спасует! Неужто и правда, что для храбрости есть свое время и место? Я ничего не могу понять! Мы никогда не были крепостными!
Чуть позже грохот колес и щелканье бича возвестили, что карета, запряженная лошадьми Михаила, покинула почтовую станцию. Невозмутимая Надя и едва себя сдерживающий Михаил остались вдвоем в помещении. Царский курьер, не отымая скрещенных рук от груди, сел. Застывший как статуя, он лишь слегка покраснел, но это не была краска стыда. Девушка и не сомневалась, что только чрезвычайные обстоятельства заставили его проглотить унижение. Подойдя к нему, подобно тому,как он подошел к ней в Нижегородском полицейском управлении, она сказала:
— Возьми мою руку, брат! — и вытерла материнским движением слезу, выступившую на его глазах.
Глава XIII
Долг превыше всего
Надя догадывалась, что была тайная сила, руководившая поступками Михаила, и что он, по неизвестным пока ей причинам, должен был сдерживать себя и только ради своего долга сумел подавить приступ гнева и не ответить на смертельное оскорбление. Впрочем, она не требовала от него никаких объяснений. Разве ее рука, протянутая ему, не отвечала на все возможные вопросы?
Михаил промолчал весь вечер. Им предстояло провести целую ночь, прежде чем смотритель мог выделить лошадей. Наде приготовили комнату, где она смогла бы отдохнуть. Девушка предпочла бы не покидать своего спутника, но понимала, что ему хочется побыть одному, и прежде чем уйти, решила попрощаться с ним.
— Брат… — прошептала она, но Михаил жестом остановил ее.
Девушка вздохнула и покинула помещение. А Михаил даже не прилег. Он не смог бы уснуть даже на час. Словно от ожога горело плечо, куда пришелся удар хлыстом этого наглеца.
— Терплю за родину и за царя, — прошептал он, закончив вечернюю молитву. Он испытывал непреодолимое желание разузнать, кто он, этот человек, осмелившийся ударить его, откуда он был и куда ехал? Черты его лица прочно впечатались в память, так что теперь Михаил никогда бы не смог забыть обидчика. Михаил кликнул смотрителя. Тот не замедлил явиться и, будучи человеком, много чего повидавшим, свысока смотрел на молодца.

— Ты местный? — спросил Михаил.
— Да.
— Знаешь ли ты человека, который взял моих лошадей?
— Нет.
— Ты никогда прежде не видел его?
— Никогда.
— А как ты думаешь, кто он может быть?
— Господин, умеющий заставить подчиняться ему!
Взгляд Михаила полоснул ножом по смотрителю, но тот не опустил глаза.
— Кто тебе позволил судить обо мне! — воскликнул Михаил.
— Есть вещи, которые не должен снести даже простой купец!
— Удар хлыстом?
— Удар хлыстом, парень, скажу тебе по старшинству!
Михаил приблизился к смотрителю и положил тому на плечи свои могучие кулаки. Необыкновенно спокойным голосом вымолвил:
— Уходи, дружище, уходи! Или я прибью тебя!

До смотрителя дошло.
— Вот так-то лучше, — прошептал он и удалился.
В восемь часов утра 24 июля в тарантас Михаила впрягли самых выносливых лошадей. Он и Надя сели в повозку, и Ишим, о котором у обоих осталось самое ужасное впечатление, скоро исчез за поворотом. На всех станциях, где Михаил останавливался в тот день, он мог убедиться, что карета его обидчика едет впереди, следуя на Иркутск, и что тот не теряет ни минуты.
К четырем часам дня, не проехав и 75 верст, около станции Абатской им предстояло переправляться через Ишим, крупнейший приток Иртыша, и эта переправа оказалась более трудной, чем через реку Тобол. Течение Ишима в этом месте быстрое. Не было бы проблемы зимой, когда степные реки замерзают и становятся легкопроходимыми для путников, которые пересекают их, не замечая, что подо льдом скрывается глубина. А летом переправиться через эти реки весьма затруднительно.
И в самом деле, два часа потребовалось на переправу, и это привело Михаила в отчаяние. Кроме того, паромщики сообщили ему чрезвычайно тревожные новости. Разведчики Феофар-Хана уже появлялись в нижнем течении Ишима и в южных районах Тобольской губернии. Омску также угрожала опасность. Рассказывали, что схватка русских с татарами, произошедшая на границах киргизских племен, окончилась не в пользу первых, слишком слабых и малочисленных. Русские отступили, а вместе с ними бежали и крестьяне. Сообщили об ужасных зверствах захватчиков: грабежах, мародерствах, пожарах и убийствах. Эта война велась по-азиатски. Все отступали перед нашествием Феофар-Хана. На каждом шагу Михаил, встречая опустевшие деревни, опасался, как бы бегство их жителей не лишило его средств передвижения. Он очень торопился доехать до Омска. Надо было опередить татарских разведчиков, раньше их попасть в Омск, а потом выбраться на свободную дорогу, ведущую в Иркутск.
В том месте, где тарантас переправился через реку, стояла так называемая «ишимская цепь» — башни и деревянные укрепления, растянутые по южной границе Сибири на четыреста верст. Раньше их занимали казаки, защищающие эти края от нашествий, но были заброшены, когда царское правительство посчитало, что азиатские орды раз и навсегда подчинены воле империи. Теперь большинство этих фортов было сожжено, и клубы дыма затмевали горизонт в том направлении, куда указывали паромщики, свидетельствующие, что орды Феофар-Хана на подходе.
Едва паром коснулся противоположного берега Ишима, тарантас быстро побежал по степной дороге. Вечерело. Было пасмурно. Несколько раз налетал грозный шквал, прибивший дорожную пыль. Михаил ехал молча, но по-прежнему старался уберечь Надю от тягот поездки. Девушка не жаловалась. Она, если бы могла, дала лошадям крылья. Надя понимала, что ее спутник торопится в Иркутск даже больше, чем она сама. А до него было еще так далеко!
Она думала также, что если Омск уже захвачен татарами, мать Михаила подвергается немалым опасностям — и это не могло не беспокоить ее сына и объясняло его нетерпение. И решила поговорить о его старой матери, об одиночестве, в которое ее могло повергнуть восстание.
— Ты не получал весточки от матери с начала нашествия? — спросила она его.
— Никакой, Надя. Последнее письмо я получил от нее еще два месяца назад, но в нем были только хорошие новости. Она смелая женщина и, несмотря на возраст, сохраняет силу духа.
— Я обязательно навещу ее, брат, — горячо сказала Надя. — Если ты зовешь меня сестрой, то пусть я стану ей дочерью!
Михаил не отвечал, и она добавила:
— Возможно, твоя мать сумела уехать из Омска?
— Может быть, — отвечал Михаил, — я надеюсь, что ей удалось добраться до Тобольска. Моя старая мать ненавидит захватчиков, но она не боится их, потому что хорошо знает степь, и я хочу, чтобы она, взяв посох, спустилась вниз по Иртышу. Тут ей известен каждый уголок, она исходила эту землю вдоль и поперек с отцом, и я, еще ребенком, следовал за ними повсюду. Я надеюсь, Надя, что моя матушка вовремя покинула Омск!
— И когда же ты сможешь повидаться с ней?
— Только на обратном пути…
— А разве ты не заедешь в Омск хотя бы на часок, чтобы обнять ее?
— Нет, не заеду.
— Так ты не повидаешься с ней?
— Нет, Надя, — вздохнув, ответил Михаил, понимая, что не может больше отвечать на расспросы девушки.
— Как ты можешь! О, брат, какие же причины побуждают тебя это сделать?
— По какой причине! Ты, Надя, спрашиваешь по какой причине! — воскликнул Михаил таким голосом, что девушка вздрогнула. — Да все по той же, что заставила меня быть выдержанным до трусости в случае с тем мерзавцем…
Он оборвал себя на полуслове.
— Успокойся, брат, — мягко сказала Надя. — Я знаю только одно, вернее не знаю, но чувствую! То, что тобой руководит чувство долга, более святое, чем даже сыновья любовь к матери.
Надя замолчала и с той минуту избегала разговоров на эту тему. Тут была какая-то тайна, и ее надо было уважать.
На следующий день, 25 июля, в три часа ночи, тарантас путешественников прибыл на почтовую станцию Тюкаминск, проехав от переправы через Ишим сто двадцать верст. Здесь им быстро поменяли лошадей. Однако впервые за весь путь ямщик не желал выезжать немедленно, утверждая, что татарские разъезды рыскают по степи и повозка с лошадьми станет желанной добычей для грабителей.
Михаил склонил упрямого ямщика немалой суммой, как и в других случаях, не желая пользоваться своей подорожной. Последнее распоряжение, переданное по телеграфу, было уже известно в сибирских провинциях, и царский курьер должен был избегать любого внимания. Что же касается ямщика, то он, возможно, лишь набивал цену, спекулируя на нетерпении пассажира. А возможно, и в самом деле боялся.
Наконец тарантас отправился в путь, и с такой скоростью, что уже в три часа дня, миновав восемьдесят верст, въехал в Кулачинское, а через час был на берегу Иртыша. До Омска оставалось не более двадцати верст.
Иртыш — одна из великих сибирских рек, несущая свои воды на север Азии. Зародившись в горах Алтая, он впадает в Обь, пройдя около семи тысяч верст. В это время сибирские реки чрезвычайно полноводны, и уровень Иртыша очень высок. Бурное, стремительное течение делает переправу через него опасной. Никакой самый хороший пловец не рискует переплыть реку, ведь даже паром может перевернуться на стремнине.
Михаил сказал Наде, что вначале на тот берег переправится только он с повозкой и лошадьми, так как груз делает паром менее устойчивым, а уж потом, налегке, вернется за Надей. Но она отказалась, не желая задерживать его. Не без труда погрузив тарантас и трех лошадей, — из-за подтопленных берегов паром не мог подойти ближе, — Михаил, Надя и ямщик отчалили.
Поначалу все было спокойно. Течение делилось песчаной косой и паром легко пересек этот участок, двое паромщиков ловко орудовали длинными шестами. Но по мере того как выходили на середину реки, где она становилась глубже, грести становилось все труднее. Шест выступал из воды всего лишь на вершок. Михаил и Надя, сидевшие на корме, с беспокойством наблюдали за паромщиками.
— Берегись! — крикнул один из них своему товарищу.
Паром с бешеной скоростью понесло вниз по течению. Теперь надо было с помощью шестов изменить его направление. С большими усилиями им удалось это сделать, и паром медленно, но верно стал приближаться к правому берегу. Можно было прикинуть, что причалят они верстах в пяти-шести ниже места погрузки, но это было уже неважно, главное — достичь берега. Впрочем, казалось, что сильные на вид паромщики, к тому же подбодренные хорошим вознаграждением, не сомневаются в успехе. Но они рассчитывали лишь на свои силы, смекалку и ловкость и не могли предвидеть случайностей. Паром шел уже по середине реки, на одинаковом расстоянии от берегов, со скоростью две версты в час, когда Михаил привстал, внимательно вглядываясь куда-то вверх по течению. Несколько лодок стремительно неслись к ним, гребцы ритмично взмахивали веслами. Лицо Михаила исказилось, и он вскрикнул.
— Что случилось? — повернулась к нему Надя.
Но прежде чем Михаил успел ответить, кто-то из паромщиков закричал:
— Татары! Татары!
Лодки быстро настигали паром, слишком перегруженный, чтобы уйти от преследователей. Паромщики отчаянно закричали и побросали было шесты.
— Только вперед, братцы! — крикнул Михаил. — Не падайте духом! Плачу пятьдесят рублей, если мы вперед лодок достигнем берега!
Паромщики наддали, паром наискосок заскользил по стремнине, но скоро стало ясно, что от погони не уйти. Было маловероятно, что татары не тронут их. От этих грабителей можно было ожидать всего.
— Держись, Надя, — сказал Михаил, — но будь ко всему готова!
— Я готова, — отвечала та.
— Даже броситься в воду по моему приказу?
— Да!
— Доверься мне, Надя!
— Полностью!
Вражеские лодки были уже совсем рядом, и в них сидели, по всей вероятности,бухарские разведчики, определяющие подступы к Омску.
До берега оставалось еще далеко. Паромщики удвоили усилия, Михаил присоединился к ним и действовал шестом с невероятной силой. Только бы успеть выгрузить тарантас и умчаться от татар, у которых не было лошадей! Но все усилия оказались бесполезными!
— Сарын на кичу! — завопили из первой лодки.
Михаил знал этот азиатский клич, после которого все должны были упасть ничком на землю. Но ни он, ни паромщики не подчинились. Раздался выстрел, и две лошади забились на пароме. И тут же толчок — лодки взяли паром на абордаж.

— Надя, ко мне! — крикнул Михаил, приготовившись к прыжку за борт.
Девушка метнулась к нему, но в тот же миг Михаила поразило копье, и он упал в воду. Его подхватило течение, на мгновение мелькнула рука, и он исчез. Надя закричала, но ее схватили и бросили в лодку. Через мгновение оба паромщика были убиты ударами копий, паром, не управляемый никем, поплыл наугад, а татары — дальше, вниз по течению.
Глава XIV
Мать и сын
Омск был официальной столицей Западной Сибири. Но это был не самый большой город губернии, в Томске жило больше населения, и он был крупнее. Но в Омске находился губернатор, управляющий половиной азиатской России. Сам Омск в сущности состоял из двух поселений, в одном проживало начальство, чиновники, а во втором жили преимущественно купцы.
Купеческий город, насчитывающий от двенадцати до тринадцати тысяч человек, был окружены поясом укреплений, насыпанных из земли, и, конечно, неспособных долго сдерживать натиск врага. Зная это, татары после нескольких дней осады овладели городом. Гарнизон храбро сопротивлялся, но скоро от него осталась не больше двух тысяч человек, и войска эмира мало-помалу вытеснили их из купеческой части города. Оставшиеся укрылись там, где окопались губернатор, его офицеры и солдаты. Верхняя часть Омска была превращена в нечто вроде цитадели. Дома и церкви превратились в маленькие крепости, откуда и оборонялись осажденные, не очень надеясь на своевременную помощь. Татарские войска, спускавшиеся по Иртышу, постоянно получали свежее подкрепление, кроме того, ими руководил предатель своей родины и, чего нельзя было сбрасывать со счетов, человек незаурядный и отважный. Это был Иван Огарев.
Огарев, грозный предводитель азиатских орд, был образованным военным. К тому же в нем текла и монгольская кровь — по материнской линии, и он владел умением хитрить, интриговать, пуская в ход любые средства, чтобы достичь цели: «вызнать ли какой секрет, устроить ли ловушку». Коварный по природе, он охотно прибегал к любым ухищрениям, переодевался нищим, бродягой, в совершенстве копируя их повадки, и был так жесток, что вполне мог бы стать палачом. Феофар-Хан имел в его лице достойного помощника в этой дикой войне.
Итак, когда Михаил Строгов стоял на берегу Иртыша, Огарев уже наполовину овладел Омском, спеша покорить и административную часть города, чтобы без промедления пойти на Томск. Вскоре и Томск постигла та же участь. Отсюда была прямая дорога на Иркутск — главную цель коварного плана Огарева. В планы предателя входило втереться в доверие Великому князю, выступив под вымышленным именем, и в подходящий момент сдать город и самого князя татарам. С такой добычей вся азиатская Сибирь попадала под их влияние. Однако, как известно, царь знал о заговоре, потому и доверил Строгову важное послание своему брату, оттого-то курьеру были отданы самые строгие инструкции держать миссию в тайне. Он безукоризненно исполнял их до этих пор, но что он мог сделать теперь?
Удар, нанесенный Михаилу, оказался не смертельным. Он незаметно доплыл до правого берега и упал в камышах без сознания. А когда пришел в себя, обнаружил, что лежит в какой-то хижине, рядом с ним — мужик, который ухаживает за ним. После он узнал, что тот подобрал его на берегу и выходил. Сколько времени пробыл Михаил у этого сибиряка, он не знал. Но когда, впервые открыл глаза, увидел доброе бородатое лицо, склонившееся над ним. Мужик, опередив его вопросы, сказал:
— Ничего не говори, сударь. Ты еще очень слаб. Я объясню тебе, что произошло и где ты находишься.
И мужик пересказал Михаилу все перипетии борьбы, свидетелем которой нечаянно оказался: атаку парома лодками, гибель паромщиков.
Но Михаил перестал слушать его, испуганно тронул рукой рубашку на груди и нащупал царское письмо. Он облегченно вздохнул и тут же спросил:
— Но со мной была девушка!
— Нет-нет, они ее не убили! — воскликнул мужик. — Они увезли ее с собой, их лодки пошли вниз по Иртышу. У них уже много полонянок, которых они везут в Томск.
Михаил потерял дар речи. Рука его упала на грудь и, казалось, хотела приглушить удары сердца. Но, несмотря на такое тяжкое известие, чувство долга преодолело порыв души.
— Где я? — спросил он.
— В пяти верстах от Омска, — ответил мужик.
— Как я был ранен? Выстрелом?
— Нет,ты получил удар пики в голову, но теперь рана почти зарубцевалась. Через несколько дней, сударь, ты сможешь продолжать свой путь. Скажу еще, что тебе повезло, — ты упал в реку, и татары не могли тебя отыскать, так что твой кошелек в кармане.
Михаил пожал своему спасителю руку и, приподнявшись, спросил:
— Сколько же дней провел я у тебя, друг?
— Трое суток.
— Я потерял целых три дня!
— Но все это время ты был без сознания!
— Сможешь ли ты продать мне лошадь!
— Ты хочешь уехать?
— И немедленно!
— Нет у меня ни лошади, ни повозки, сударь. Где прошли чертовы татары, остается пустыня.
— Тогда ж пойду пешком в Омск и там найду лошадь!
— Отлежись еще несколько часов, и тебе полегчает. Вот тогда и двинешься в путь.
— Не останусь и часа.
— Ступай, — сказал мужик, не в силах сломать волю нечаянного гостя. — Я буду тебе проводником. Впрочем, русских еще немало в Омске, и ты сможешь пройти незамеченным.
— Небо отблагодарит тебя за сделанное, друг, — отвечал Михаил.
— Только глупцы ждут Божьего вознаграждения на земле!
Михаил вышел из избы. Но не успел сделать нескольких шагов, как чуть не лишился чувств, и упал, если бы не помощь мужика. Свежий воздух, однако, отрезвил его. И только тогда он почувствовал, как саднит на голове рана от удара пикой, который смягчила лишь прочная шапка.
Единственная цель была сейчас перед ним — попасть в Иркутск. И ему предстояло пройти Омск, не задерживаясь в нем. «Да, хранит Бог матушку и Надю, — шептал он. — Я еще не могу позаботиться о них.»
Вскоре Михаил вместе со своим проводником вошли в торговую часть города, и хотя вокруг бродили отряды захватчиков, они смогли пройти без затруднений. Земляной вал был во многих местах разрушен, и в эти проломы легко проникали мародеры, рыскающие вслед за ордой Феофар-Хана. Внутри же города, на улицах и площадях, татарские воины встречались на каждом шагу, но было заметно, что ими руководит железная рука и принуждает к дисциплине, которой они никогда прежде не знали. Об этом говорило хотя бы то обстоятельство, что поодиночке они не ходили, а только группами, и были в состоянии отразить нападение.
На центральной площади, превращенной в лагерь, многочисленные постовые охраняли две тысячи воинов, расположенных в правильном порядке. Лошади стояли под седлом и были готовы тронуться в путь немедленно. Видимо, Омск был лишь временной стоянкой азиатов.
Их больше привлекали богатые равнины Восточной Сибири, где и города были роскошнее, и деревни богаче, где, следовательно, и грабеж был бы успешнее.
За торговым городом, на горе, начинался административный центр Омска, его Иван Огарев еще не покорил. Непрерывные атаки храбро отбивали обороняющиеся. На стенах с башнями по-прежнему развивался трехцветный российский флаг. Михаил и мужик внутренне приветствовали его.
Михаил прекрасно знал свой город, но стремился пройти самыми малолюдными улицами. И не потому, что боялся быть узнанным. Здесь теперь только одна мать могла назвать его настоящим именем. Но ведь он дал клятву не видеться с нею, и выполнял ее. Впрочем, — этого он желал всем сердцем — может быть, она схоронилась в каком-нибудь безопасном, глухом месте в степи.
К счастью, мужику был известен хозяин одного из постоялых дворов, у которого можно было попытаться купить или взять напрокат повозку с лошадьми. Тогда оставалось бы только нырнуть в проем и уйти из города.
Проводник Михаила шел напрямик к своему знакомому, когда его гость внезапно остановился на одной из узких улиц и спрятался за выступ стены.
— Что с тобой? — спросил мужик, удивившись, с какой быстротой он это проделал.
— Тише, — прошептал Михаил и приложил палец к губам.
Татарский отряд вышел с площади и направился по улице, где только что прошли Михаил и его попутчик. Во главе конного разъезда, состоящего из двадцати всадников, ехал офицер в простом мундире. Он беглым взглядом смотрел по сторонам, но Михаила заметить не успел. Отряд шел крупной рысью, не обращая внимания на попадавшихся на пути людей. Эти несчастные едва успевали уворачиваться от копыт. Слышались приглушенные вскрики, мелькали пики, и улица быстро опустела. Когда конный разъезд исчез, Михаил повернулся к мужику и спросил:
— Ты не знаешь этого офицера?
Пока он произносил этот вопрос, лицо его мертвенно побледнело. «Ведь это Иван Огарев» — прошептал он, холодея от ненависти.
— Он, — закричал Михаил. Он узнал в этом человеке путешественника, ударившего его на почтовой станции Ишим. И тут же его озарило, что и старый цыган, встреченный на ярмарке Нижнего Новгорода, был он же. Михаил не ошибался. Переодевшись цыганом и смешавшись с труппой Сангарры, Огарев смог покинуть Нижегородскую губернию. Он приехал туда, чтобы найти среди разноплеменных торговцев на ярмарке сообщников для своих гнусных деяний. Сангарра и ее цыганки состояли на его жаловании и были ему абсолютно преданы. Да, именно он произнес ту странную фразу ночью на ярмарке, смысл которой Михаил понял только сейчас, именно он путешествовал на борту «Кавказа» со своей цыганской шайкой, именно он добрался до Омска дорогой через Казань и Ишим, через Уральские горы, а теперь вот повелевал здесь.
Огарев прибыл в Омск дня три назад, и если бы не роковая встреча, в Ишиме, если бы не нападение на пароме и вынужденная задержка, Михаил обогнал бы его по дороге на Иркутск. И кто знает, сколько несчастий можно было избежать в будущем!
Во всяком случае, теперь Михаил должен был с большой осторожностью добираться до Иркутска, всячески избегая встречи с Огаревым. Когда придет время встретиться, он разыщет его — пусть даже тот будет повелителем всей Сибири.
Мы остановились на том, что Михаил и его проводник прошли через город и добрались до постоялого двора. Отсюда с наступлением ночи ему нетрудно было уйти из Омска через проломы в укреплениях. Оказалось, что повозку купить невозможно, нельзя было ее и нанять. Да и нужна ли она теперь? Увы, он остался один! Ему хватит и лошади. К счастью, он смог ее достать. Хозяин предложил Михаилу быструю, выносливую лошадь, как раз такую, какая требовалась ловкому наезднику. Он уплатил за нее высокую цену, и она тут же была готова к пути.
Было четыре часа пополудни. Михаил вынужден был дожидаться ночи, чтобы пройти укрепления, и, не желая рисковать, остался на постоялом дворе. Коротая время, он решил перекусить. В общем зале толпился народ. Сюда, как и на все вокзалы России, люди приходили, чтобы узнать новости, здесь же обсуждались тревожные известия. Говорилось о скором подходе царских войск, но не в Омск, а в Томск — будто его станут отбивать у орд Феофар-Хана.
Михаил внимательно слушал. Вдруг раздался крик, заставивший его вздрогнуть и пронзивший его до глубины души. Всего два слова ударили ему прямо в сердце:
— Сын! Мой сын!

Перед ним стояла его старая мать. Улыбаясь и дрожа, она протягивала, к нему руки. Михаил встал и собирался уже броситься к ней навстречу. Но мысль о долге, опасение за их жизни из-за этой невероятной встречи остановили его. И ни один мускул не дрогнул на его лице. Ведь в этом зале было не меньше двадцати человек, и нельзя было утверждать, что среди них не окажется шпиона. А в городе многим было известно, что сын Марфы Строговой — царский курьер.
Михаил даже не пошевелился.
— Миша! — еще раз крикнула мать.
— Кто вы, добрая женщина? — одними губами спросил Михаил.
— И ты еще спрашиваешь, кто я? Мой ребенок, разве ты не узнаешь свою мать?
— Вы ошибаетесь! — холодно ответил Михаил. — Вы с кем-то меня путаете…
Мать подошла к нему вплотную и, глядя прямо в глаза, спросила:
— Разве ты не сын Петра и Марфы Строговых?
Михаил готов был отдать свою жизнь, чтобы прижать ее к своей груди, но если бы он так сейчас поступил, это означало бы конец, провал его миссии и измена клятве! Взяв себя в руки, он прикрыл глаза, чтобы не видеть невыразимое страдание, написанное на лице любимой матери, и спрятал руки, чтобы ненароком не взять ее, дрожащие, с мольбой протянутые к нему.
— По правде сказать, я не знаю вас, добрая женщина! — ответил он и отступил на несколько шагов.
— Михаил! — вновь закричала старая женщина.
— Меня зовут не Михаил. Я никогда не был вашим сыном! Я — Николай Корпанов, купец из Иркутска. — И быстро вышел из общего зала, а за спиной в последний раз раздалось:
— Мой сын! Мой сын!
Измученный Михаил вскочил на лошадь и уехал. Он не мог видеть, как его старая мать безжизненно опустилась на скамью, как хозяин двора устремился к ней, чтобы помочь, но она вдруг оправилась от потрясения. Ее осенило. Быть отвергнутой собственным сыном, это невозможно! И так же невозможно, чтобы она спутала его с кем-то другим. Нет, это его она только что повстречала, дорогого сыночка, и если он не признал ее, значит, на то были важные причины. И материнские чувства заглушились страхом: неужели я погубила его, сама того не желая!
— Я — сумасшедшая! — ответила она тем, кто бросился к ней с расспросами. — Мои старые глаза обманули меня. Этот парень не мой сын, даже не стоит сомневаться. Скоро мне будет казаться, что я встречаю его повсюду!
Не прошло и десяти минут, как на постоялый двор вошел татарский офицер.
— Марфа Строгова? — спросил он.
— Да, это я, — отвечала старая женщина так спокойно, что все присутствующие удивились перемене, произошедшей с ней на их глазах.
— Пошли, — сказал офицер.
Марфа Строгова твердой поступью пошла за ним из дома. Чуть позже Марфа оказалась в лагере на центральной площади, перед Иваном Огаревым, которому уже были переданы все подробности случая.
Иван Огарев, заподозрив неладное, решил сам допросить старуху.
— Как тебя зовут? — грубо спросил он.
— Марфа Строгова.
— У тебя есть сын?
— Да.
— И он царский курьер?
— Да.
— Где же он?
— В Москве.
— Пишет ли он тебе?
— Нет.
— С каких пор?
— Вот уже два месяца.
— Так кто же тот молодец, которого ты назвала своим сыном только что?
— Какой-то парень, которого я приняла за сына, —
отвечала Марфа, — вот уже второй раз я путаю его с кем-то, ведь город полон иноземцев. Мне чудится, что я встречаю его повсюду!
— Так этот молодец — не Михаил Строгов?
— Нет, не он.
— Знаешь ли ты, старуха, что я могу пытать тебя до тех пор, пока не вытащу из тебя правду?
— Я не обманываю, и муки не заставят меня сказать другое.
— Еще раз повторяю, это был не Михаил Строгов? — спросил Огарев.
— Нет же, это был не он, — опять отвечала Марфа. — Вы думаете, что я бы отказалась от своего сына, которого мне дал Бог?
Иван Огарев зло посмотрел на старую женщину, не боящуюся его. Он почти не сомневался в том, что она встретила сына. Но если сын открещивается от своей матери, а следом то же самое делает и сама мать, значит, на то существуют серьезные причины.
Отсюда Огарев сделал важный для себя вывод, что так называемый Николай Корпанов и есть Михаил Строгов, царский курьер, скрывающийся под вымышленным именем и выполняющий какую-то миссию, неизвестную ему. И Огарев приказал немедленно снарядить за ним погоню. Затем повернулся к Марфе Строговой и сказал:
— Отправить старуху в Томск!
Солдаты грубо потащили старую женщину к выходу, а Огарев добавил ей вслед сквозь зубы:
— Ничего, придет время, и я заставлю эту старую ведьму заговорить!
Глава XV
Барабинские болота
К счастью, Михаил Строгов тут же покинул постоялый двор. Но приказ Ивана Огарева уже был передан по всему городу, как и приметы разыскиваемого. К этому времени он уже проскочил в один из проемов разрушенной стены и мчался по степи, уходя от погони.
Михаил покинул Омск 29 июля, в восемь вечера. Этот город находился на полпути от Москвы до Иркутска, куда ему следовало добраться не более чем за десять дней, если он хотел обогнать татарские орды. По всей вероятности, понимал он, нелепый случай выдал его инкогнито. Теперь Огарев наверняка знает, что через Омск проехал царский курьер и направляется он в Иркутск, что депеши, которые он везет, должны были составлять чрезвычайную ценность. И Михаил знал, что Огарев сделает все, чтобы завладеть ими.
Но Михаил не мог знать, что его мать была в руках Огарева и что она могла дорого заплатить за свой невольный порыв, когда случай столкнул ее лицом к лицу с сыном. По счастью, он не знал этого, иначе смог бы выдержать и не повернуть назад?
Михаил подстегивал лошадь, и ей передавалось его нетерпение, лихорадочное возбуждение, пожиравшее его, — скорее, скорее до следующей почтовой станции, где он сменит коня на быструю упряжку.
В полночь он отмахал семьдесят верст и остановился на станции… Но здесь он не нашел ни лошадей, ни повозки. Несколько татарских отрядов уже прошли этим степным путем, разворовав, разграбив деревни и почтовые станции. Михаилу с огромным трудом удалось достать кое-какой еды для себя и корм коню.
Теперь надо было пуще глаза беречь эту лошадь, поскольку неизвестно было, где и когда он ее заменит. Тем временем надо было отправляться в дальнейший путь, увеличивать разрыв между собой и погоней, посланной Огаревым. Отдохнув час, он возобновил свой путь.
Погода пока благоприятствовала его путешествию. Ночи были теплыми, короткими и светлыми, да к тому же еще и лунными, и можно было скакать, не опасаясь за лошадь. И Михаил ехал уверенно. Печальные мысли одолевали его, но он сохранял ясность ума и стремился к цели, как если бы она была, уже видна на горизонте. Если он и останавливался на минуту, то только для того, чтобы дать коню перевести дух. Спрыгнув на землю, он падал ниц, прижимал ухо к дороге и слушал, не доносится ли глухой гул степной погони. Не услышав подозрительного шума, вскакивал в седло и летел дальше. Эх, если бы вся сибирская земля погрузилась сейчас в полярную ночь! Тогда он бы сумел проскочить незамеченным!
В девять утра 30 июля Михаил Строгов проехал станцию Турумово и оказался в болотистых барабинских
степях. Теперь почти на триста верст шли труднопроходимые места. Он знал это, но знал и другое — что сумеет преодолеть их. Эти обширные болота раскинулись с севера на юг между 60-й и 52-й параллелями и втягивают в себя все дождевые воды, не попадающие в Обь или Иртыш. Земля здесь целиком глинистая, а следовательно, влагонепроницаемая, и даже в жаркое лето здесь трудно проехать, чтобы не увязнуть.
Но именно тут проходит Иркутский тракт — среди топей, болот, озер, выделяя в жару нездоровые испарения, изнуряющие путешественников. Зимой, когда, мороз превращает все жидкое в стекло, и снег ровняет землю, и грязь твердеет, сани легко и надежно скользят по барабинским степям. Охотники постоянно промышляют здесь куниц и соболей, лисиц, мех которых так ценится. Но летом, когда вода прибывает, болота становятся топкими, зловонными и почти недоступными.
Михаил Строгов пустил свою лошадь по торфянистому лугу, почти не покрытому зеленым дерном, на котором так любят кормиться здесь стада. И это был небольшой луг, больше похожий на заросли кустарника. Трава здесь была задавлена гигантскими болотными растениями, пышно разросшимися при достатке влаги и тепла. Это был в основном камыш, густо переплетенный, наподобие сетки, земля была усеяна замечательно яркими лилиями и ирисами, их аромат усиливался парящим теплом.
Лошадь Михаила, шедшая галопом, была не видна в болотах, обрамляющих дорогу. Травы были выше его головы, и его путь можно было отметить только по взлетающим стаям птиц, которые с гомоном рассеивались в небе. Сама же дорога была проложена четко, она тянулась через густую чащу болотных растений, огибая извилистые берега широких озер, некоторые из них насчитывали помногу верст в длину и ширину. В других местах, где не удавалось их обойти, укладывались даже не мосты, а шаткие настилы, бревна дрожали под колесами, как тонкие доски, перекинутые через пропасть. Некоторые из настилов тянулись на двести — триста футов, и бывало, что пассажиры, а уж пассажирки точно, чувствовали на них приступы, подобные морской болезни.
Михаил по-прежнему мчался без остановок — была ли почва твердой или прогибалась под ногами, посылал лошадь в прыжке через расщелины порушенных настилов.

Но как бы быстро он ни мчался, ни лошадь, ни всадник не могли не страдать от полчищ комаров, которыми изобилуют эти места.
Путешественники, пересекающие Барабинские степи, летом обязательно запасаются волосяными масками, к которым крепится тонкая проволочная кольчуга, прикрывающая плечи. И, несмотря на эти предосторожности, мало кто покидает болота неискусанным. Казалось, сам воздух был колюч и жалящ, и, наверно, даже царские доспехи не могли бы защитить от злых насекомых. Это гибельный край для человека, который платит своим здоровьем за то, что вторгся в царство комаров, слепней, мошки, миллиардов других мелких насекомых, не видимых невооруженным взглядом. Но если даже не видишь их, то чувствуешь их невыносимые укусы, к которым не привыкают даже закаленные сибирские охотники.
Лошадь Михаила, искусанная до крови, неслась как оглашенная, как будто тысячи шпор вонзались в ее бока. Обезумев, закусив удила, она пролетала версту за верстой с быстротой скорого поезда, на ходу стегая себя по бокам хвостом и ища в беге спасения от этой пытки.
Нужно было быть таким наездником, как Михаил, чтобы не вылететь из седла, когда она вдруг прыгала в сторону или резко останавливалась, чтобы сбить насекомых. А он, не чувствуя боли от укусов, находясь как бы под наркозом, жил только одной мыслью — достичь своей цели во что бы то ни стало, и видел в этой безумной скачке лишь стремительно несущуюся дорогу под копытами лошади.
Кто бы мог подумать, что зловредная Барабинская степь могла дать приют для каких-то селений. Но это было так. Изредка среди высоких камышей мелькали одинокие сибирские деревеньки. Мужчины и женщины, дети и старики, одетые в звериные шкуры, с лицами под пузырями, намазанными смолой, пасли небольшие отары овец, а чтобы защитить животных от комарья, день и ночь жгли — с подветренной стороны — костры из сырого дерева, и едкий дым стлался над огромным болотом.
Время от времени Михаил, чтобы не загнать лошадь, останавливался в каком-нибудь из этих селений и там, забыв об усталости, растирал искусанного коня теплым жиром, как это всегда делали сибиряки, давал ему хорошую порцию овса и только после думал о себе: съедал кусок мяса и хлеба и выпивал кружку кваса. А через час или два отправлялся дальше по бесконечному Иркутскому тракту.
Проехав еще восемьдесят верст от Турумово, 30 июля, в четыре часа дня, он прибыл в Еламск. Там он был вынужден провести целую ночь, давая роздых лошади, иначе она не могла бы продолжать путь. В Еламске, как и везде, нельзя было найти никаких средств передвижения. Все по тем же причинам не было ни лошадей, ни повозок. Маленький городок, где еще не побывали татары, почти опустел — он был плохо защищен с севера и легко мог быть взят с юга. Поэтому смотрители почтовых станций, сотрудники полиции, чиновники городской управы и все жители, кто мог, по приказу свыше, покинули Еламск и эвакуировались в Камск, что стоит в самом центре Барабинских степей.
Михаилу ничего не оставалось, как провести ночь в Еламске, чтобы дать отдохнуть коню хотя бы двенадцать часов. Он хорошо помнил рекомендации, данные ему в Москве: проехать Сибирь инкогнито, любым способом добраться до Иркутска; но понимал, что быстрота передвижения — еще не успех, а из этого следовало, что надо беречь своего коня.
На следующий день он покинул Еламск, как только узнал, что татарские разведчики появились в десяти верстах от города, на барабинской дороге, и вновь устремился вперед по болотистому краю. Скакать по ровной дороге коню было легче, в то же время она была очень извилистой, и это удлиняло путь. Но что оставалось делать, нельзя же съехать с нее и мчаться по прямой через непроходимые болота?
В полдень 1 августа, проскакав сто двадцать верст, Михаил Строгов въезжал в поселок Спасское, а уже в два часа для остановился в Покровском. Его лошадь, загнанная в пути, больше не могла сделать ни шага. Здесь Михаил был вынужден сделать передышку на всю ночь, но на следующий день он уже опять мчался по заболоченной земле. 2 августа, в четыре часа дня, проехав семьдесят пять верст, он въехал в Камск.
Этот городок, пожалуй, единственный живой и здоровый островок посреди малообитаемого края. И находится он в самом центре Барабинской низменности. Сеть каналов, проведенных в реку Томь, на которой и стоит городок, позволили превратить зловонные болота в окрестные богатые пастбища. Однако мелиоративные работы еще не были сделаны полностью и не могли избавить людей от лихорадки, которая особенно опасна для них осенью. Но именно в этом городе спасаются жители Барабинского края, когда вспыхивает малярийная эпидемия.
Паника, вызванная татарским нашествием, еще не опустошила город. Его жители считали себя в относительной безопасности, находясь посреди болот, или думали, что успеют скрыться, возникни прямая угроза. При всем желании Михаил не смог бы узнать здесь ничего нового. Скорее к нему мог бы обратиться сам губернатор, знай тот истинное лицо купца из Иркутска. В самом деле Камск из-за своего особого положения, казалось, был вне сибирского мира, и серьезные события обходили его стороной.
Впрочем, Михаил Строгов почти не показывался в городе. Ему мало было быть незамеченным, он желал бы стать невидимым. Опыт подсказывал ему, что надо постоянно быть острожным — и сейчас и в будущем. Поэтому он не только не гулял по улицам Камска, но даже не выходил с постоялого двора. Ему ничего не стоило бы найти здесь упряжку лошадей и повозку и заменить лошадь, на которой он проскакал от Омска. Но после здравых размышлений он побоялся, что покупка тарантаса привлечет к нему внимание, и пока ему не удалось пересечь линию, занятую татарами, которая перерезала Сибирь приблизительно по долине Иртыша, ему не хотелось давать повод для подозрений.
Был и другой довод: чтобы пробраться через барабинские болота, если возникнет прямая угроза и его настигнет погоня, чтобы спрятаться в самой гуще камыша, лошадь подходила больше, чем целая упряжка. Может быть, позднее, за Томском или даже Красноярском, удастся вернуться к повозке.
Ему и в голову не приходило поменять свою лошадь на другую. Он привязался к выносливому скакуну, знал, на что он способен. Ему повезло при покупке, когда в Омске великодушный мужик предложил ему его. Кроме того, эта лошадь уже привыкла к тяготам необычного пути, а если давать ей отдыхать по нескольку часов, то есть надежда выбраться с захваченной территории живым-здоровым.
Так Михаил провел вечер и ночь со 2 на 3 августа, не выходя с постоялого двора, стоящего на въезде в город, в тихом месте, вдали от назойливых глаз. Проследив за тем, чтобы его лошадь ни в чем не нуждалась, совершенно разбитый, он лег спать, но часто просыпался. Слишком много воспоминаний и тревог теснились в голове. Всплывали то образ матери, то образ его юной и смелой спутницы, часто они соединялись в один.
Затем он снова думал, как выполнить поручение, которое поклялся исполнить. Все, что он видел после своего отъезда из Москвы, свидетельствовало, что ему поручена важная миссия. Нашествие азиатских орд было чрезвычайно опасным, а пособничество Огарева усугубляло опасность. И когда он смотрел на письмо, запечатанное императорской печатью, которое, очевидно, содержало средство спасения от этой беды, спасения всего этого края, терзаемого захватчиками, Михаил чувствовал отчаянное желание тут же напрямую ринуться на Иркутск, подобно орлу пролететь над всеми препятствиями, ураганом промчаться по земле и, представ перед Великим князем, отчеканить: «Ваша светлость, от Его величества государя императора!»
В шесть утра следующего дня он выехал, намереваясь проскакать не менее восьмидесяти верст, которые отделяли Камск от деревни Убинск. Но через двадцать верст снова оказался в болотах, не знающих осушения, где земля была покрыта водой примерно на один фут. Путь был едва различим, но благодаря своей осторожности он проехал его без происшествий.
Прибыв в Убинск, Михаил поставил лошадь в стойло на целую ночь, так как на следующий день ему предстояло проскакать сто верст до станции Икульской. Выехал на заре, но участок дороги был отвратительный. Между Убинском и Камаковой в тесной котловине стояла вода — здесь недавно прошли сильные ливни. Бесконечной цепью тянулись болота, озера, разливы. Одно из этих озер Михаилу пришлось объезжать более двадцати верст и с огромными трудностями. Из-за того и случилась задержка, но что он мог сделать?
Как осмотрительно он поступил, не взяв в Камске тарантаса! Ведь его лошадь прошла там, где засела бы любая повозка. В девять часов вечера Михаил прибыл в Икульское и провел там всю ночь. В этом глухом селении никто ничего не знал о нашествии. Так случилось, что Икульское оказалось в полосе между двумя азиатскими колоннами, из которых одна пошла на Омск, другая — на Томск, и тем станция избежала пока ужасов войны.
Михаил ждал, что скоро путь, станет полегче, и, если ничего не случится, он должен будет выехать из Барабинских болот, сможет двигаться по нормальной проезжей дороге и, преодолев еще сто двадцать пять верст, окажется в Колывани. От этого крупного поселка, ему останется проехать такое же расстояние до Томска. Но, взвесив все обстоятельства, он подумал, что лучше, пожалуй, объехать этот город, уже занятый Феофар-Ханом, если сведения о том точны.
Поселки Икульское и Каргинск, которые он проехал на следующий день, были спокойны благодаря тому, что азиатским войскам было трудно маневрировать в болотах. Но не ждет ли его опасность на правом богатом берегу Оби, где будет трудно укрыться? Вероятнее всего. Если понадобится, он вынужден будет свернуть с удобного Иркутского тракта, и, пробираясь по степи, рискует остаться без помощи. Там нет дорог, нет ни городов, ни сел, разве что одинокие выселки или домишки бедных людей, конечно, гостеприимных, но едва ли у них найдутся необходимые припасы. Однако выбирать не приходилось!
Наконец, около половины четвертого, проехав станцию Каргатск, Михаил выехал из болот Барабы, и твердая сухая земля вновь застучала под копытами коня. Он выехал из Москвы 15 июля, а сегодня было 5 августа. Значит, он путешествует уже три недели, включая сюда и трое суток, потерянных на берегу Иртыша.
Тысяча пятьсот верст еще отделяли его от Иркутска.
Глава XVI
Последнее усилие
Михаил Строгов был прав, когда опасался встреч на этой удобной для поездки равнине, начавшейся сразу за Барабинскими степями. Поля были вытоптаны копытами лошадей, это говорило — здесь прошли варвары, о которых можно было сказать то же, что и о турках: «Там, где турок прошел, трава больше не вырастет!»
Михаил теперь ехал настороже. Клубы дыма висели над горизонтом, указывая, где горят поселки и деревни. Кто зажег эти пожары: передовые отряды, или армия эмира уже достигла границ провинции? Находился ли сам Феофар-Хан в Енисейской губернии? Всего этого Михаил не знал и ничего не мог предпринять, не выяснив ситуации. Неужто этот край уже так опустошен, что он не найдет здесь ни одного жителя, чтобы как следует расспросить обо всем?
Михаил проскакал по дороге две версты и никого не встретил. Он искал глазами какой-нибудь непокинутый дом, но все они были пусты. Вскоре он заметил между деревьями избу, которая еще дымилась. Подойдя, он увидел в нескольких шагах от пожарища старика, окруженного плачущими детьми. Молодая еще женщина, без сомнения, его дочь и мать малышей, стояла на коленях на земле и потерянно смотрела на эту скорбную сцену. Она кормила грудью самого маленького из ребятишек.
Михаил подошел к старику.
— Можешь отвечать мне? — спросил он его глухим голосом.
— Говори, — ответил старик.
— Татары были здесь?
— Да, раз мой дом сожжен!
— Здесь прошла армия или только один отряд?
— Армия, потому что наши поля, насколько хватает глаз, опустошены!
— Под командованием эмира?
— Эмира, потому что вода в Оби стала красной.
— А Феофар-Хан вошел в Томск?
— Томск захвачен.
— А не знаешь ли, в Колывани есть татары?
— Нет, ведь Колывань еще не горит!
— Спасибо, отец. Могу ли я сделать что-нибудь для тебя и твоих близких?
— Ничего.
— До свидания.
— Прощай.
Михаил положил на колени несчастной женщине двадцать пять рублей, она даже не нашла сил его поблагодарить, вскочил на коня и возобновил свой путь. Теперь он знал наверняка, что поедет мимо Томска. Ненадолго заскочить в незахваченную Колывань, где запастись продуктами на долгую дорогу, затем, свернув с Иркутского тракта, переправиться через Обь и объехать Томск — другого пути у него не было.
Теперь, когда новый маршрут был обдуман, Михаил не колебался ни минуты. Он пустил коня рысью по дороге, которая прямиком вела на левый берег Оби, до него было еще сорок верст. Найдет ли он там какую переправу или все лодки уже уничтожены? Надо ли будет переправляться вплавь? Там будет видно.
Лошадь его была совсем измучена, ее придется оставить в Колывани, заменив на другую. Он видел, что еще немного, и она падет бездыханной. Колывань должна была стать новой отправной точкой, оттуда начнется другое путешествие. По опустошенному краю придется пробираться с большими трудностями, но, объехав Томск, он вновь сможет выбраться на тракт, проходящий по Енисейской губернии, которую еще не разграбили орды, и тогда сумеет добраться до Иркутска за считанные дни.
Погас жаркий день, наступила ночь. В полночь густая тьма окутала степь. На закате ветер стих и установилась полная тишина. На пустынной дороге слышались лишь топот копыт да слова, которыми Михаил подбадривал лошадь. В такой темноте надо было быть очень внимательным, чтобы не сбиться с дороги, по краям которой тянулись болота и бежали речушки, торопясь в Обь.
Михаил скакал на коне быстро, но и очень осторожно, полагаясь на зоркость своих глаз да на интуицию осторожной лошади. Но когда он в очередной раз соскочил с коня, пытаясь определить, куда ехать, послышался неясный гул, доносящийся откуда-то с запада, похожий на топот лошадей. Сомнений не было — в одной или двух верстах от него кто-то скакал. Приложив ухо к земле, Михаил внимательно прислушался. «Это отряд всадников, и идет он по Омской дороге, — подумал он, — скачет быстро, потому как гул нарастает. Русские это или татары?»
Михаил прислушался. «Да, — сказал он себе, — они мчатся галопом! Не пройдет и десяти минут, как они будут здесь! А мой конь уже не может уйти от них. Если это русские, я присоединюсь к ним. А если татары, как избежать встречи с ними? Где же схорониться в этой степи?»
Михаил осмотрелся, и его острый глаз заметил в стороне какую-то смутно чернеющую кучу — в ста шагах впереди него, по левую сторону дороги. «Какие-то заросли, — подумал он. — Спрятаться там, но их могут прочесать, и тогда меня схватят. Но выбора нет! Они уже рядом!»
Ведя коня на поводу, Михаил забежал в небольшую рощу, находящуюся близ дороги. Кругом больше деревьев не было, дорога тянулась между болотами и озерками, заросшими по берегам низкорослым кустарником. Следовательно, отряд не минует этого леса и проедет мимо на расстоянии примерно с милю.
Михаил скрылся под кронами лиственниц и, углубившись шагов на сорок, наткнулся на речку, подковой огибавшую этот лес. Ночь была хоть глаз выколи, и Михаил не опасался быть замеченным, если, конечно, всадники не обыщут рощу. Привязав коня к дереву на берегу речки, он вернулся и залег на опушке, желая вызнать, с кем имеет дело. И едва только укрылся, блеснул слабый свет — то там, то здесь мелькали яркие точки.
«Факелы!» — подумал он.
Он быстро отполз назад, как дикарь, прячась в спасительной темноте и гуще леса. По мере приближения топот лошадей замедлялся. Всадники, освещая дорогу, высматривали каждый поворот. Михаил насторожился и еще дальше отступил назад, до самого берега речки, готовый, если придется, нырнуть в нее с головой. Поравнявшись с лесом, отряд остановился. Всадники спешились. Их было около пятидесяти. С десяток из них факелами освещали довольно большой кусок пространства.
По их приготовлениям Михаил, к своей радости, понял, что всадники не собираются обыскивать лес, а хотят сделать тут привал. И в самом деле, лошади принялись пощипывать траву, а люди, присев у дороги, достали из притороченных к седлам сумок еду. Сохраняя все свое хладнокровие, прячась в высокой траве, Михаил подполз ближе, пытаясь разглядеть их, а потом и расслышать.
Этот отряд двигался из Омска. И состоял в основном из узбеков. Люди были хорошо сложены, выше среднего роста, с резкими чертами лица, носили шапки из черных овечьих шкур, а обуты были в желтые на высоких каблуках сапоги с загнутыми остроконечными носками. Их халаты, подбитые ватой, в талии были стянуты кожаными ремнями. Все были вооружены, для защиты имели щиты, для нападения — кривые сабли, тесаки и пращи для метания камней. На плечах были наброшены накидки тонкого войлока.
Лошади особой узбекской породы паслись на опушке. Их прекрасно было видно в отблесках факелов, воткнутых в стволы лиственниц. Лошади были немного ниже турецких, но, вероятно, необычайно выносливы и не знали другого бега, кроме галопа.
Отрядом командовали два офицера, вынужденные дать своим воинам отдых после длинного перехода. Беседуя и покусывая гашиш, который азиаты очень любят, офицеры ходили взад и вперед по лесу, и Михаил, не видимый ими, смог уловить нить разговора, так как говорили они на знакомом ему наречии. С первых же понятных слов внимание его удвоилось. Речь шла именно о нем!
— Этот курьер не мог далеко уйти, — говорил главный командир, — опять же не мог он ехать и другой дорогой, кроме как через Барабу.
— Кто знает, покинул ли он Омск? — отвечал младший по званию.
Может, скрывается в какой-нибудь избе?
— Этого можно было бы лишь пожелать! Полковник Огарев тогда мог бы не бояться, что депеши, которые, очевидно, везет этот курьер, дойдут в срок!
— Говорят, он коренной житель, сибиряк, — продолжал второй, — и наверняка отлично знает эти места. Возможно, он свернул с Иркутского тракта, чтобы вскоре вернуться на него.
— Тогда мы опередили его, — ответил старший командир. — Мы покинули Омск уже через час, как он выехал, скакали быстро. Или он остался в Омске, или мы окажемся в Томске раньше, чем он, и перережем ему путь. В обоих случаях он не доедет до Иркутска.
— Храбрая женщина эта старая сибирячка, она, очевидно, его мать!
При этих словах сердце Михаила заколотилось.
— Да, — отвечал старший по чину, — она утверждала, что этот так называемый купец ее сын, но было поздно. Полковника Огарева не проведешь, и, как он сказал, эта старая ведьма заговорит, когда придет срок.
Каждое слово кинжалом вонзалось в Михаила. Известно, что он царский курьер! За ним послана погоня! И, наконец, наиболее мучительное — его матушка в руках Огарева, и тот похваляется, что заставит ее заговорить, когда сам того пожелает!
Михаил знал, что она не заговорит и заплатит за это жизнью. Он был уверен, что нельзя ненавидеть сильнее, чем он ненавидит этого человека, но тут новая волна ненависти захлестнула его. Подлец, предавший страну, теперь угрожал пытками его матери!
Двое офицеров продолжали разговор, и Михаил выяснил, что в окрестностях Колывани неизбежно столкнутся русские войска, прибывающие с севера, и орда. Небольшой корпус русских всего из двух тысяч человек форсированным маршем направлялся в Томск. Если он будет двигаться тем же направлением, то его встретит ядро сил Феофар-Хана и неизбежно разобьет, а иркутский тракт окажется под контролем азиатов.
О себе Михаил узнал еще и то, что его голова высоко оценена, и дан приказ взять его живым или мертвым. По всему выходило, что надо было опережать этот узбекский отряд и попасть на Иркутский тракт раньше них, оставив их за Обью. Но для этого надо было незаметно исчезнуть, прежде чем они снимутся с привала.
Приняв решение, он начал действовать. Не могла же долго длиться их передышка, старший начальник не мог им позволить отдыхать более часа, хотя у них лошади были не свежее, чем у Михаила. Нельзя было терять ни минуты. Уже час ночи и по темноте, до первой зорьки, надо убраться из этого леса. Но как убежать? Казалось, сделать это невозможно.
Михаил не мог полагаться на случай и напряженно думал, взвешивая все за и против. Убежать по задам леса, выгнутого луком, тетивой которого была дорога, нельзя. Речка, окаймляющая дугу лиственниц, глубока и довольно широка, к тому же еще и топкая. Высокий ерник непроходим. Мутная вода скрывает тинистое дно, которое не удержит ни человека, ни тем более лошадь. Кроме того, за речкой идет кочкарник. И если будет поднята тревога и его будут преследовать, то рано или поздно догонят, и он неминуемо окажется в руках врагов.
Оставался единственно доступный путь — большая дорога. Надо было попытаться, обогнуть опушку леса, выбраться на нее и тихо пройти четверть версты, чтобы его не заметили, а потом гнать коня, выжимая из него оставшиеся силы, пока он не упадет замертво. Добравшись до берега Оби, на лодке или вплавь переплыть широкую реку. Вот что необходимо было исполнить Михаилу, чтобы спастись.
Опасность удесятеряла его смелость и силы. Ведь речь шла о жизни, о его задании, о чести страны и, может быть, о спасении его матушки. Не колеблясь, он принялся за дело. Нельзя было терять ни минуты. В отряде наблюдалось оживление. Кое-кто из всадников бродил взад и вперед по кромке опушки. Другие лежали под деревьями, а их лошади добрались уже почти до центра леса.
Михаил было подумал завладеть одной из этих лошадей, но решил, что не стоит менять шило на мыло — все они были такими же усталыми. Уж лучше довериться своему коню, который столько раз выручал его. Скрытый высокой травой, он не был виден узбекам. Впрочем, они и не заходили далеко в лес. Михаил подполз к коню, лежащему в траве, погладил, тихонько заговорил с ним и так же бесшумно поднял лошадь.
В тот самый момент счастье улыбнулось Михаилу — факелы затрещали и потухли. Под лиственницами темнота была особенно плотной. Подтянув сбрую, Михаил легонько потянул лошадь за уздечку. Умное животное как будто понимало, чего от него хочет хозяин, послушно пошло вслед, не издав даже короткого ржания. Но несколько узбекских лошадей подняли головы и неторопливо направились к опушке. Михаил на выпускал из руки пистолета, готовый прострелить голову первому же всаднику. Но тревоги никто не поднял, и он спокойно добрался до поворота, где лес соединялся с дорогой. Он не торопился сесть в седло, чтобы как можно дольше оставаться незамеченным. На его беду в тот самый момент, когда Михаил собирался пересечь кромку опушки, одна из лошадей заржала и помчалась к ним.
Хозяин бросился за ней, но, заметив какой-то силуэт, смутно вырисовывавшийся на фоне светлеющего неба, закричал:
— Тревога!
При его вопле всадники вскочили и выбежали на дорогу, А Михаилу оставалось лишь прыгнуть в седло и помчаться галопом. Офицеры бежали впереди и подгоняли своих воинов. Но Михаил уже был в седле. Грянул выстрел, и он почувствовал, как пуля прошила полу его кафтана. Не оглядываясь и не отвечая выстрелом на выстрел, он пришпорил коня, и тот, одним махом перелетев опушку, помчался во весь опор к Оби.
Лошади узбеков были распряжены, и у него было некоторое преимущество, пока те не бросятся по его следам. Но менее чем через две минуты он услышал топот копыт и понял, что его догоняют. Начинало светать, и окрестные очертания приобретали все большую видимость. Оглянувшись, Михаил увидел, что к нему приближается первый всадник. Это был младший командир, и скакал он на прекрасной лошади.
На полном ходу Михаил прицелился и выстрелил недрогнувшей рукой. Узбекский офицер с пулей а груди упал на землю, но другие всадники даже не остановились возле него. Распаляя себя воплями, вонзая шпоры в бока лошадей, они все ближе приближались к Михаилу. И все же почти полчаса он шел вне досягаемости их оружия, но чувствовал, как слабеет лошадь, и боялся, что в любое мгновение она, споткнувшись, рухнет, чтобы больше уже никогда не подняться. Было уже светло, хотя солнце еще не встало. И показалась, самое большее в двух верстах, какая-то бледная полоса, окаймленная редкими деревьями.

Это и была Обь, текущая почти без берегов, почти по самой степи. По Михаилу постоянно стреляли, но ни разу не попали, и он томе непрерывно отвечал из своего пистолета, целясь в ближайших преследователей, и каждый раз какой-нибудь узбек валился под копыта, под яростные вопли товарищей.
У Михаила не было шансов спастись. Его лошадь уже не могла бежать, но все-таки дотянула до берега. Узбекский отряд был от него всего в пятидесяти шагах. Обь была пустынна — ни парома, ни лодки, которые могли бы ему помочь переправиться.
— Вперед, мой храбрый скакун! — закричал Михаил. — Ну же! Еще немного!
И лошадь вместе с всадником влетела в воду. Ширина реки тут достигала примерно полверсты, а быстрое течение было трудно преодолеть. Лошадь не достала ногами дна и поплыла, подхваченная бурным потоком. Преследователи остановились на берегу, не решаясь броситься в реку. И тут старший командир, схватив ружье, прицелился в беглеца, плывущего уже на стремнине. Грянул выстрел, и конь Михаила, раненный в бок, завалился и стал тонуть.

Михаил успел освободить от стремян ноги в тот миг, когда лошадь погрузилась в воду. Увертываясь, ныряя и выныривая, под градом пуль доплыл он до правого берега и скрылся в камышах.
Глава XVII
Строфы и песни
Михаил Строгов оказался в относительной безопасности. Однако его положение было ужасным. Лошадь, служившая ему верой и правдой, погибла в реке, и без нее он не сможет продолжить путь. Теперь ему предстояло пешком, без пищи добираться до цели по разоренному татарами краю.
— Боже, как я доберусь! — воскликнул он, отгоняя минутную слабость. — Бог храни святую Россию!
Узбекский отряд не осмелился преследовать Михаила, вплавь перебираясь через реку. К тому же они могли подумать, что он утонул, так как, нырнув, проплыл под водой до самого берега незамеченным. Михаил долго пробирался сквозь пустые камыши, пока не выбрался на более высокий берег — на это ему потребовались немалые усилия, потому как толстый слой тины, оставленный половодьем, густо устилал весь берег. Оказавшись на тверди, он обдумывал, что ему следует делать дальше. Прежде всего — не заходить в Томск, занятый татарами, а добраться до какого-то селения, почтовой станции, может быть, и раздобыть лошадь. И на ней по нехоженым тропкам выйти к Иркутскому тракту близ Красноярска, который должен быть свободным, и по нему добраться почти до самого Байкала.
Он сориентировался, и пошел по течению реки, но не прошел и двух верст, как увидел, что на невысоком холме раскинулся живописными ярусами город. Несколько зеленых и золотых куполов церквей красовались на фоне серого неба. Это была Колывань, куда съезжались чиновники и служащие Камска и других городов, чтобы укрепить здоровье, подпорченное гнилым климатом Барабы. Колывань, по сведениям царского курьера, еще не была захвачена. Орда, поделившись на две колонны, направилась налево — в Омск и направо — в Томск, не тронув местность посередине.
План у Михаила Строгова был простой — попасть в Колывань прежде, чем там окажутся узбеки, едущие сейчас по левому берегу. Он готов был уплатить в десять раз большую плату, но купить себе одежду и коня, чтобы отправиться через южные степи в Иркутск.
Было три часа ночи. В окрестностях Колывани не слышно и звука, казалось, что здесь никого нет. Очевидно, жители близлежащих деревень, спасаясь от нашествия, которому они не могли сопротивляться, убежали в Енисейскую губернию. Михаил быстрым шагом направился к городу, как вдруг до него донеслась канонада. Он остановился и отчетливо различил глухие раскаты, от которых содрогался воздух, и сухой треск, происхождение которого не могло его обмануть.
«Бьет пушка! Перестрелка! — подумал он. — Неужели русский корпус попал в окружение ордынской армии! Боже, помоги мне добраться до Колывани раньше их!»
Михаил не ошибался. Вскоре выстрелы мало-помалу затихли, а позади города повис густой дым — и это были не тучи, а огромные белые клубы, очень четкие, которые образуются только при залпах артиллерии. В это время на левом берегу спешился узбекский отряд, дожидающийся исхода сраженья. Находясь на противоположном берегу, Михаил мог не бояться их и заспешил в город. Но вскоре выстрелы усилились и стали приближаться. И это были не слабые раскаты, а громкие, чередующиеся удары пушек. Пороховой дым, поднятый ветром в небо, показывал, что бой откатывается к югу. Стало очевидным, что Колывань будет атакована с востока. Михаил, не понимал, что происходит: то ли русские защищали Колывань от ордынских войск, то ли пытались отбить город у армии Феофар-Хана.
Он был уже в полуверсте от Колывани, как высокий столб огня взлетел над домами и колокол одной из церквей рухнул в клубах пыли и пламени. Что же получается? Бой идет уже в самом городе? Выходит, русские и татары дерутся на его улицах, а он хотел найти в нем укрытие? Стоит ли рисковать быть схваченным, удастся ли ему выбраться отсюда, так же, как из Омска? Все эти мысли промелькнули в его голове разом. Он было заколебался, остановился. Может быть, лучше добраться пешком до какого-нибудь селения на юге или востоке и там достать лошадь, пусть любой ценой.
Это было единственное правильным решением, и Михаил, покинув берег реки, пошел, обходя Колывань справа. Перестрелка ожесточилась. Вскоре огонь замелькал в левой части города, пожар ухе пожирал целый его квартал. Теперь Михаил бежал, укрываясь под деревьями, растущими там и сям. И вдруг направо он заметил отряд кавалерии — это были татары. Михаил не мог бежать прямо на них, всадники летели к городу и неминуемо натолкнулись бы на него.
И тут он заметил на краю густой рощи одинокий дом, до которого можно добраться незамеченным. Добежать до него, спрятаться, восстановить силы, ведь он изнемогал от усталости и голода, и попросить все ему необходимое — вот что он должен делать! И Михаил устремился к дому, стоящему от него в полверсте. Подбегая к нему, он понял, что это телеграф. Два провода тянулись из здания на запад и восток, а третий — в Колывань.
Можно было надеяться, что станция брошена и Михаил сможет в ней укрыться, дождаться наступления ночи и снова отправиться по степи, простреливаемой передовыми отрядами врага. Михаил подскочил к двери, рывком открыл ее. В зале станции находился человек, это был телеграфист. Спокойный, флегматичный, безразличный к тому, что сейчас происходило за стенами дома. Верный своему долгу, он дожидался за своим окошечком, что публика вот-вот пойдет к нему.
Михаил вбежал и спросил хриплым от усталости голосом:
— Что вам известно?
— Ничего, — улыбнулся телеграфист.
— Русские дерутся с татарами?
— Говорят.
— И кто побеждает?
— А почем я знаю.
Такое невозмутимое спокойствие, даже безразличие среди всего, что сейчас творилось вокруг, были невероятны!
— Связь есть? — спросил Михаил.
— Прервана между Колыванью и Красноярском, но есть между Колыванью и русской границей.
— А правительственная?
— Правительственная когда угодно. Для публики же, если есть чем платить, десять копеек слово. Как пожелаете, господин?
Только Михаил собрался объяснить телеграфисту, что у него нет необходимости слать депешу, а нужно лишь немного хлеба и воды, как дверь распахнулась. Михаил, опасаясь, что сейчас сюда ворвутся татары, приготовился прыгнуть в окно, но двое мужчин, вошедших на телеграф, не походили на захватчиков. Один из них держал в руке депешу, написанную карандашом, и, опережая другого, бросился к окошечку невозмутимого телеграфиста.
В этих людях Михаил с изумлением узнал тех, о ком вовсе уже не думал и кого больше никогда не надеялся увидеть. Это были корреспонденты Гарри Блаунт и Алсид Жоливе, сейчас вовсе не попутчики, а соперники, почти враги, и теперь они действовали, как на поле боя.
Они выехали из Ишима спустя несколько часов после того, как оттуда отбыл Михаил, и если прибыли в Колывань раньше его и той же дорогой, то только потому, что он потерял три дня на берегу Иртыша.
После того как они наблюдали схватку русских и азиатов на подступах к городу и покинули его, когда бой разгорелся на улицах, оба они примчались на телеграф, чтобы срочно послать в Европу свои депеши один вперед другого и выхватить пальму первенства. Михаил стоял в сторонке, в тени и все отлично видел и слышал. Конечно, он хотел узнать важные для себя новости, и прежде всего — стоит ли попадать в Колывань.
Гарри Блаунт вперед коллеги подскочил к окошечку и протянул, поспешая, депешу, в то время как Алсид Жоливе, против своего обыкновения, вовсе не торопился.
— Десять копеек за слово, — беря депешу, сказал телеграфист.
Гарри Блаунт выложил на стойку стопку рублей, на которую его коллега уставился с нескрываемым удивлением.
— Хорошо, — оказал телеграфист и хладнокровно начал передавать следующий текст:
«Дейли-Телеграф, Лондон.
Из Колывани, Омской губернии, Сибири, 6 августа.
Битва войск русских и татарских…»
Обычно депеши читали громко, и Михаил, стоя в своем углу, мог слышать дословно, что передавал английский журналист в свою газету.
«Русские войска отброшены с большими потерями. Татары вошли в Колывань в этот же день…»
Этими словами депеша заканчивалась.
— Теперь моя очередь! — воскликнул Алсид Жоливе, которому так хотелось отправить депешу, как всегда, адресованную его кузине в предместье Монмартр. Но это не устроило английского корреспондента, не собиравшего уступать место у окошечка и намеревавшегося передавать другие, самые свежие новости. Поэтому он не сдвинулся ни на шаг.
— Но вы же закончили! — закричал Алсид.
— Не закончил, — отвечал Гарри, продолжая писать слова и тут же передавая их телеграфисту. А тот спокойным голосом читал:
«В начале Бог создал небо и землю!»
Это были строки из Библии, которые Гарри передавал лишь для того, чтобы потянуть время и ни за что не уступить место своему коллеге. Это наверняка будет стоить его газете несколько тысяч рублей, но ее читатели будут первыми проинформированы о важных событиях. А Франция подождет!
Понятна была ярость Алсида, который в любых других обстоятельствах посчитал бы, что это по-честному. Он попытался сунуть телеграфисту свою депешу и заставить не передавать чужую.
— Это право господина, — невозмутимо отвечал телеграфист, указывая на Гарри и любезно ему улыбаясь.
И продолжал передавать «Дейли Телеграф» первую строфу святой книги. Пока он телеграфировал, Гарри спокойно смотрел из окна в бинокль на то, что там происходит, пополняя тем самым информацию. Спустя несколько минут он вновь подошел к окошечку и добавить:
«Две церкви в огне. Кажется, пожар перекинулся на правую сторону города. Земля бесформенна и оголена; сумерки накрыли город».
У Алсида возникло дикое желание придушить почтенного корреспондента «Дейли Телеграф». Он еще раз обратился к телеграфисту, который с прежней невозмутимостью отвечал:
— Это его право, господин, это его право… десять копеек за слово.
И начал передавать очередную новость, добытую Гарри:
«Русские беженцы покидают город. Итак, Бог сказал, да будет свет и появился свет!..»
Алсид негодовал от бессилия. А Гарри Блаунт вернулся к окну и на этот раз надолго увлекся, без сомнения, интересным зрелищем, развертываемым перед его глазами. Но как только телеграфист закончил передавать третью строфу, Алсид незаметно приник к окошечку, так же как и коллега, положил внушительную стопку рублей и вручил телеграфисту свою депешу, которую служащий прочел вслух:
«Мадам Жоливе.
10, предместье Монмартр, Париж.
Из Колывани, Омской губернии, Сибири, 6 августа. Беглецы покидают город. Русские разбиты.
Ожесточенное преследование татарской конницы…»
И когда Гарри вернулся, он услышал, как Алсид дополняет свою телеграмму, насмешливо
напевая:
Был маленький мужчина,
Весь одетый в серое
В Париже…
Считая возможным мешать святое с мирским, Алсид, по примеру коллеги на строфы из Библиии ответил веселым припевом Беранже.
— А! — выдохнул Гарри.
— Так-то! — ответил Алсид.
Тем временем обстановка в Колывани накалялась. Сражение приближалось, и пальба слышалась совсем рядом. И тут взрыв потряс станцию. Снаряд, пробил стену, и пыль заколыхалась в зале. Алсид заканчивал писать стихи:
Толстощекий, как яблоко,
У которого ни су
На счету…
Но остановился, бросился на снаряд, схватил его обеими руками и выбросил в окно, чтобы тот разорвался там, вернулся к окошечку — все это было делом одной минуты. Через пять секунд снаряд грохнул на улице. Продолжая хладнокровно составлять депешу, Алсид писал:
«Снаряд шестого калибра пробил стену телеграфной станции.
В ожидании других снарядов того же калибра…»
Михаил уже не сомневался, что русские оставили Колывань. Последнее, что ему оставалось, это броситься бежать через южные степи. Но открылась ужасная стрельба, и град пуль изрешетил окна. Гарри Блаунт, раненный в плечо, упал на пол. Алсид Жоливе собирался в этот момент передать такое дополнение к своей депеше:
«Гарри Блаунт, корреспондент «Дейли Телеграф», падает возле меня, раненный осколком при обстреле…»
Но невозмутимый телеграфист заявил ему с завидным спокойствием:
— Связь прервана, господин!
Выйдя из-за стойки, он спокойно взял шапку, отряхнул ее о локоть и, улыбаясь, вышел в маленькую дверь, которой Михаил не заметил. В телеграф ворвались воины. Алсид с теперь уже ненужной депешей бросился к Гарри, распростертому на полу, и, будучи добросердечным человеком, взвалил его себе на плечо, собираясь бежать… Но было поздно!
В последний момент Михаил пытался выскочить в окно, но попал в руки врагов.

Часть вторая


Глава I
Татарский лагерь
В одном дне езды от Колывани, не доезжая нескольких верст до поселка Дьячинск, простирается широкая долина, обрамленная соснами и кедрами. Летом на ней пасутся многочисленные стада под присмотром бдительных пастухов. Но сейчас невозможно было встретить ни одного из этих кочевников. И не оттого, что долина была пуста. Напротив, здесь наблюдалось необычайное оживление.
На этом месте быт разбит лагерь Феофар-Хана, свирепого бухарского эмира, и именно сюда привели на следующий день, 7 августа, пленных, взятых при Колывани. Русский корпус был разгромлен, а оставшиеся в живых провели ночь на поле битвы, охраняемые татарами. Из двух тысяч человек, вступивших в бой с огромными силами, осталось лишь несколько сотен.
События для царского правительства принимали плохой оборот за Уральскими горами, куда не скоро прибудут регулярные войска, чтобы отбросить орды завоевателей. Нашествие достигло уже центра Сибири и будет распространяться и дальше, а вот куда — в восточные, а может, и в западные провинции, не было ясно. Иркутск уже был полностью отрезан от европейской части. Вся надежда была на войска с Амура и Якутских провинций, но успеют ли они войти в город вовремя? Если нет, то столица Восточной Сибири окажется в руках татар, и пока будет отвоевана, Великий князь, брат императора, попадет в руки мстительного Ивана Огарева.
Но что стало с Михаилом Строговым? Дрогнул ли он под тяжестью испытаний? Посчитал ли себя побежденным после стольких неудач, сыпавшихся на него после Ишимской трагедии и с тех пор становившихся все катастрофичнее? А может быть, он решил, что его миссия провалена?
Михаил Строгов был из тех людей, которые сдаются только тогда, когда падают мертвыми. А он был жив и даже не ранен, и письмо императора по-прежнему было при нем, и настоящее имя его не раскрыто. Конечно, он был среди пленников, которых татары уводили, словно рабочую скотину, но вели в Томск, а значит, он приближался к Иркутску. Наконец, как бы там ни было, он опережал Ивана Огарева.
— Все равно доберусь! — твердил он себе.
Все его душевные силы были теперь сконцентрированы на единственной мысли: как вновь обрести свободу? Как сбежать от воинов эмира? Он поджидал подходящего момента.
Лагерь Феофар-Хана представлял собою великолепное зрелище. Многочисленные юрты из шкур, войлока или шелковых тканей под лучами яркого солнца отливали разными цветами. Высокие султаны из конских хвостов украшали их остроконечные верхушки и развевались под ветерком среди пестрых вымпелов, флажков и знамен. Самые богато украшенные шатры принадлежали первым лицам ханства. Воинские значки, увенчанные конскими хвостами, указывали на высокое положение этих вождей. А дальше, на сколько хватало глаз, тянулись тысячи юрт, перевозимых на верблюдах.

В лагере находилось не менее ста пятидесяти тысяч пеших воинов и всадников. Основные силы татарской армии составляли прежде всего таджики: с правильными чертами лица, высокие, с черными глазами и волосами люди. Их Кокандское и Кундузское ханства поставили столько же солдат, что и Бухарское ханство. Кроме таджиков, в орде можно было встретить немало других национальностей, живущих в Туркестане и соседних землях. Узбеки с выкрашенными хной бородами, подобные тем, кто гнался за Михаилом. Киргизы с плоскими, как у калмыков, лицами, одетые в кольчуги; одни из них были вооружены только копьями и луками, другие — саблями, ружьями и небольшими топориками на коротких ручках, способными наносить страшные раны. Были и монголы: среднего роста, черноволосые, с заплетенной косичкой, висевшей на спине, смуглолицые, с живыми узкими глазами и редкой бородой, в халатах, отделанных черным плюшем, перепоясанные ремнями с серебряными застежками, обутые в сапоги, украшенные ярким шнуром, и, наконец, в шапки, отделанные мехом с тремя развевающимися лентами сзади. Кого только здесь не было: афганцы, арабы, туркмены — все они были завербованы в армию эмира, армию поджигателей и грабителей.
Радом с ними находились и другого рода воины — рабы. В основном это были персы, которыми командовали офицеры их же национальности, пользующиеся доверием в орде. Добавим сюда евреев, находящихся на положении слуг, в платьях, подвязанных веревкой и носящих вместо запрещенного тюрбана шапочки темного сукна, а также нищих верующих в лохмотьях, поверх которых были натянуты звериные шкуры. Перечислив всех их, можно иметь почти полное представление об этом разноплеменном скоплении воинов, которые назывались татарской армией.
Пятьдесят тысяч были конными, и их лошади были отличны друг от друга не менее, чем люди. Кони были привязаны по десятку к двум параллельно натянутым веревкам, хвосты подвязаны, а на круп наброшена черная шелковая сетка. Лошади туркменской породы выделялись среди всех: тонконогие, длиннотелые, с блестящей шерстью и благородной посадкой головы. Были и узбекские очень выносливые лошади, кокандские, способные везти на себе кроме всадника, еще и две разборные юрты и утварь, киргизские светлой масти, пойманные арканом на берегах Эмбы, и множество других лошадей смешанных кровей.
Тысячами насчитывались вьючные животные. Это были низкорослые верблюды, но ладные и крепкие, с длинной шерстью и густой гривой, очень послушные, которых куда легче запрягать, чем дромадеров — одногорбых верблюдов огненно-красной масти, шерсть которых обыкновенно скручивалась в завитки. Наконец, здесь были выносливые ослы, чье мясо высоко ценилось татарами.
Все это шумное скопление людей и животных, тысячи шатров и юрт прятались в тени раскидистых кедров и сосен. Трудно подыскать что-либо более живописное, чем эта картина, на которую, наверное, даже у самого умелого художника вряд ли хватило бы красок.
Едва пленные, взятые под Колыванью. приблизились к лагерю Феофар-Хана, барабаны отбили, а трубы пропели — в поход! К этим громким звукам тут же примешалась ружейная пальба и оглушительный грохот четырех-шестидюймовых пушек, составляющих артиллерию эмира.
Вокруг поляны полумесяцем стояли юрты высоких бухарских военачальников. В них жили: главный конюх, имеющий право следовать за эмиром на коне во дворе его дворца; главный сокольничий; хранитель печати; главный мастер артиллерии; предводитель совета, имеющий право на поцелуй эмира и могущий предстать перед ним без пояса; глава улемов, то есть священников, которые в отсутствие эмира разбирают спорные вопросы, возникшие между военными; и наконец, главный звездочет, главное дело которого — советоваться со звездами всякий раз, как эмир собирается в поход.
В тот момент, когда пленных привели в лагерь, эмир находился в своем походном дворце, но даже не показался, к счастью побежденных, ибо любой его жест и любое его слово могли начать кровавую бойню. Эмир не нарушил своего одиночества, которое является непременным условием величия восточных владык. Восхищаются теми, кого не видят, а главное — их боятся.
А пленники никуда не денутся, их разместят в каком-нибудь загоне, где они, измученные, голодные и холодные, будут терпеливо ожидать милости Феофар-Хана. Самым послушным и терпеливым из всех был, конечно же, Михаил Строгов. Он мог себе это позволить, ведь его вели туда, куда он сам стремился, да еще в безопасности, которой он на свободе ни за что бы не имел на всем пути от Колывани до Томска. Убежать до прихода в этот город значило — снова попасть в руки татарских разъездов, рыскающих по степям. Восточная линия земель, захваченных ордой, не доходила до 82-го меридиана, проходящего через Томск, Михаил прикидывал, что, перебравшись за эту линию, он окажется вне вражеской территории и сможет безопасно переправиться через Енисей, а там добраться до Красноярска до того, как Феофар-Хан захватит и эту провинцию.
«Только доберемся до Томска, — повторял он себе, успокаивая свое нетерпение, с которым не всегда мог совладать, как через несколько минут я уже буду за сторожевым постом. И я выиграю часов двенадцать у Феофара, часов двенадцать у Огарева, мне этого времени хватит, чтобы раньше их прибыть в Иркутск».
То, чего Михаил опасался больше всего, так это присутствия в татарском лагере Ивана Огарева. Тот мог узнать его, а главное, именно его, этого предателя, важно было опередить. Он понимал, что соединение войск Феофара и Огарева создаст опасную численность войск, которые беспрепятственно двинутся на столицу Восточной Сибири. Поэтому все его опасения крутились вокруг одного: каждую минуту он ждал, что вот-вот завоют трубы, возвещая, что прибыл подручный эмира.
К этим мыслям примешивалось беспокойство за матушку и Надю. Одна задержана в Омске, другая схвачена татарами на Иртыше, и, конечно, такая же пленница. Но что он мог сделать для них сейчас? Увидит ли он их когда-нибудь? Не было ответов на эти вопросы, и сердце его сжималось в тоске.
Вместе с Михаилом и другими пленными в лагерь привели и Гарри Блаунта и Алсида Жоливе. Их бывший попутчик, к тому же схваченный вместе с ними на телеграфе, знал, что они находятся тут же, в большом загоне, но не пытался сблизиться вновь. Нет, ему было безразлично, какое мнение у них осталось о нем после той стычки на почтовой станции в Ишиме. Просто он хотел быть один и действовать в одиночку, когда представится случай, — потому и держался в стороне.
Алсид Жоливе с той минуты, как его коллега был ранен, не отходил от него. Весь путь от Колывани до лагеря, несколько часов, Гарри Блаунт мог идти, опираясь на плечо своего соперника по перу. Вначале он попытался сообщить охранникам, что он английский подданный, но это не произвело никакого впечатления на варваров, которые разговаривали с пленными только языком кнута и копья. Корреспондент «Дейли Телеграф» вынужден был покориться общей участи, рассчитывая заявить протест и получить удовлетворение за скотское обращение позже. Он лелеял эту мысль, но от этого путь его не стал легче, он очень страдал от раны, и если бы не помощь Алсида, вряд ли добрел до лагеря.
Алсида никогда не покидала практическая сметка, и он поддерживал Гарри всеми доступными средствами: физически и морально. Первое, что он сделал, как только их заперли в этом загоне, взялся осматривать рану Гарри. Ом ловко снял с него одежду и обнаружил, что плечо лишь слегка задето осколком.
— Это не страшно, — сказал он. — Простая царапина! Две-три перевязки, мой друг, и все заживет, не оставив следа!
— Но эти перевязки!..
— Я их сделаю сам!
— Как сам, вы что же, врач?
— Каждый француз немного врач!

Сообщив это, Алсид разорвал носовой платок и сделал из него бинт и тампон, зачерпнул воды из колодца, вырытого посреди загона, промыл рану и очень ловко наложил повязку на плечо Гарри.
— Я лечу вас водой! — заявил он. — Она самая из самых болеутоляющих средств, известных для лечения ран. Врачам понадобилось шесть тысяч лет, чтобы сделать это открытие! Да-да! Целых шесть тысяч лет!
— Благодарю вас, господин Жоливе, — отвечал Гарри, устраиваясь на постель из опавших листьев, которую ему устроил в тени дерева его спутник.
— О, что вы! Ни за что! Вы на моем месте сделали бы то же!
— Не знаю, не знаю…— наивно отвечал Гарри.
— Ну вы и шутник! Как все англичане, вы великодушны!
— А как же, а разве французы?..
— Ну, французы добры, даже глупы, если хотите! Но что их оправдывает, так это то, что они французы! Не стоит о том говорить, и даже, поверьте мне, нужно совсем перестать разговаривать. Вам непременно нужно отдохнуть.
Но Гарри и не помышлял о молчании. Хотя бы из осторожности раненый должен подумать об отдыхе, но корреспондент «Дейли Телеграф» был непослушным человеком.
— Господин Жоливе, — спросил он, — как вы думаете, наши последние депеши успели пересечь границу?
— А почему бы и нет? — ответил Алсид. — Уверяю вас, что в данный момент моя кузина знает, как относиться к событиям б Колывани.
— И в скольких же экземплярах размножает ваша кузина эти депеши? — спросил Гарри, впервые задав этот вопрос напрямую.
— О,— отвечал Алсид. — кузина очень скромна, и не любит, чтобы обсуждали ее дела, к тому же она была бы в отчаянии, если б нарушила ваш сон, в котором вы так нуждаетесь.
— Да не хочу я спать, — отвечал англичанин. — Интересно, что думает ваша кузина о делах в России?
— То и думает, что, кажется, дела идут плохо. Но! Московское правительство могущественно, и нельзя же ему в самом деле опасаться нашествия татар, и Сибирь никуда не уйдет от него.
— Непомерное властолюбие пожрало даже самые великие империи! — говорил Гарри, будучи несвободным от чисто английской зависти по части российских притязаний в Средней Азии.
— Только не о политике! — воскликнул Алсид. — Это запрещают медики. Нет ничего более вредного для раненого плеча! Ну разве что только для того, чтобы вас усыпить!
— Тогда поговорим о том, что же нам делать! — ответил Гарри. — Господин Жоливе, я вовсе не намерен бесконечно быть пленником этих татар.
— Так я тоже, черт побери!
— Сбежим при первой же возможности?
— Да, если не найдем другого способа обрести свободу.
— И вы знаете это другое средство? — спросил Гарри, не спуская глаз с Алсида.
— А как же! Мы не воюющие стороны, мы представляем нейтральные государства и заявим протест!
— Кому, этому зверю Феофару?
— Нет, он не поймет, — отвечал Алсид, — но его подручному Ивану Огареву.
— Так он же мерзавец!
— Без сомнения, но этот мерзавец по происхождению русский. Уж он-то знает, что с правами человека не шутят. И у него нет никакого расчета нас удерживать, а даже напротив. Вот только просить этого субъекта мне совсем не хочется!
— Но его же нет в лагере, по крайней мере я не видел его тут, — заметил Гарри Блаунт.
— Он приедет. Никуда не денется. Ему необходимо соединиться с эмиром. Сибирь поделена пополам, и армия Феофара только и ждет подхода сил Огарева, чтобы тут же двинуться на Иркутск.
— Освободившись, что станем делать?
— Продолжим нашу командировку и отправимся вслед за татарами, пока не сможем перебраться к русским! На кой черт нам пасовать! Мы только начинаем. Вам, коллега, посчастливилось пролить кровь на службе «Дейли Телеграф», тогда как я еще ничем не отличился на службе у моей кузины! Так что вперед! Тише, — прошептал Алсид, — да он же засыпает! Несколько часов сна и несколько компрессов с чистой водой, и больше ничего не нужно, чтобы он встал на ноги. Такие люди склепаны из железа!
Пока Гарри отдыхал, Алсид сидел рядом и делал записи в записной книжке, решив впоследствии поделиться ими с коллегой, к удовольствию читателей «Дейли Телеграф». Последние события объединили их. Теперь им не нужно было завидовать друг другу.
Получалось, что того, чего больше всего опасался Михаил, как раз горячо желали оба журналиста. Прибытие Ивана Огарева могло пойти им на пользу. Как только станет известно, что они английский и французский журналисты, вероятнее всего, их сразу же освободят. Подручный эмира сумеет урезонить Феофара, который всех и всякого считал шпионом. Интересы журналистов и Михаила Строгова явно не совпадали. Он заранее просчитал и этот вариант, и это стало еще одной причиной, почему он не шел на сближение со своими старыми знакомыми, потому и устроился так, чтобы они его не заметили.
Прошло четыре дня, но ничего не изменилось. Пленники ничего не знали о снятии татарского лагеря. Их строго охраняли, а пройти через кордон часовых, которые были начеку ночью и днем, было невозможно. Еды не хватало. Два раза в день им бросали по куску овечьих кишок, поджаренных на углях, и несколько кусочков сыра из овечьего молока. И это все. К тому же погода портилась. Налетел ветер с дождем. Несчастные, не имея крыши над головой, вынуждены были терпеть холод и сырость. Никто не мог облегчить их страданий. Уже умерло несколько раненых, женщин и детей — их похоронили сами пленные, охранники не желали даже выкопать для них могилу.
Во время этих испытаний Алсид Жоливе и Михаил Строгов, каждый со своей стороны, разрывались на части. Они помогали страждущим как только могли. Меньше других пострадав, здоровые и сильные, они лучше других сопротивлялись невзгодам и смогли стать полезными для больных и отчаявшихся.
Как долго это могло продолжаться? Феофар-Хан, довольный первыми военными успехами, видимо, выжидал, прежде чем двинуться на Иркутск.
Событие, которого так ждали Алсид и Гарри и которого так опасался Михаил Строгов, случилось утром 12 августа. Разом взревели трубы, забили барабаны, поднялась пальба. Огромная туча пыли покатилась по дороге из Колывани. Иван Огарев и вместе с ним тысячи солдат входили в лагерь татар.
Глава II
Поведение Алсида Жоливе
Иван Огарев привел эмиру целый армейский корпус. Это его всадники и пехотинцы захватили Омск. Но Огарев так и не смог взять верхнюю часть города, где укрывались губернатор и остатки гарнизона, и решил уйти, не желая откладывать планы завоеваний Восточной Сибири. В Омске он оставил лишь достаточные для его удержания силы и увел свои орды, укрепив их по дороге отрядами, разорившими Колывань, прямо в лагерь Феофар-Хана.
Воины Огарева остановились перед лагерем и пока не получали приказа на привал. В планах их предводителя, без сомнения, было сразу же двинуться дальше и в самые краткие сроки войти в Томск, важного с его точки зрения города, необходимого для всей дальнейшей кампании.
Огарев привел с собой целую колонну пленных, взятых в Омске или в Колывани. Эти несчастные не поместились в загоне, а остались в голом поле и без еды. Какую участь уготовит им Феофар? Погонит ли дальше в Томск или уничтожит каждого десятого, по обычаю татар? Никто не мог предвидеть капризов эмира.
Войско из Омска и Колывани прибыло в сопровождении толп нищих, мародеров, торговцев и цыган. Весь этот сброд шел впереди армии и грабил, что мог, мало что оставляя для поживы солдатам. Потому-то и была необходимость пойти вперед, чтобы обеспечить продовольствием действующие войска. Регион между Ишимом и Обью был уже полностью опустошен, там нечего было взять. Татары оставили после себя пустыню, и русским не без труда предстояло пройти ее.
В числе цыган, прибывших из западных провинций, была и та самая труппа, что сопровождала Михаила до Перми. С ними была и Сангарра. Шпионка, беззаветно преданная Огареву, не покидала своего хозяина, их не случайно видели вместе в центре России, в Нижнем Новгороде, где они занимались темными делишками. После перехода через Урал они расстались лишь на несколько дней. Огарев быстро домчался до Ишима, в то время как Сангарра и ее труппа направились в Омск южной дорогой.
Легко понять, какие услуги оказывала цыганка Огареву. С помощью своих подручных она проникала в любое место, где собирала сведения и передавала их предателю, потому тот всегда был в курсе всех дел, происходящих в занятых губерниях. Для своих замыслов он имел сто раскрытых глаз и сто настороженных ушей. Впрочем, он щедро платил за эту работу, из которой извлекал огромную для себя пользу, и Сангарра, замешанная в прошлом в какой-то крупной афере, была спасена русским офицером и, никогда не забывая, что он для нее сделал, отдала ему душу и тело. Иван Огарев, став на путь предательства, очень скоро понял, какую пользу можно извлечь от этой цыганки. Любой приказ Сангарра выполняла безукоснительно. Необъяснимое чувство, еще более сильное, более властное, чем признательность за спасение, толкнуло ее на то, что она стала рабыней этого предателя, привязавшись к нему еще в первые годы его ссылки в Сибирь. Став его доверенным лицом и соучастницей дел, она,не имеющая ни родины, ни семьи, полюбила тратить свою бродячую жизнь на службу у иноземцев, которых Огарев собирался бросить на Сибирь. Кроме необычайной изворотливости, свойственной ее расе, она обладала еще неукротимой энергией и не ведала жалости. Этой дикарке больше подошло бы разделить вигвам апачи или хижину жителя Анд.
С тех пор как Сангарра прибыла в Омск, она уже не оставляла Огарева. Она-то и вызнала подробности встречи Михаила с матерью. Сангарра разделяла опасения Огарева насчет царского курьера. Именно она должна была мучить пленницу Марфу Строгову со всей изощренностью дикарки, чтобы вырвать у нее секрет. Но еще не пришел час, чтобы заставить старуху говорить. Сангарра ждала. Не сводила глаз, следила за малейшими движениями старухи, за каждым словом, день и ночь без ее ведома наблюдая за ней, пытаясь услышать слово «сын», но до сих пор ничего не узнала. Марфа Строгова неизменно оставалась безучастной и невозмутимой.

Едва раздались первые звуки хриплых труб, главный мастер артиллерии и главный конюх эмира, сопровождаемые блестящим эскортом узбекских наездников, выехали навстречу Ивану Огареву. Отдав ему большие почести, они тут же пригласили его следовать за ними к шатру Феофар-Хана. Невозмутимый, как всегда, Огарев холодно отвечал на почтительность направленных к нему высоких чинов. По сравнению с ними он был одет очень просто — Огарев все еще носил форму русского офицера и цинично бравировал ею.
В тот самый момент, когда он собирался понукнуть лошадь и проехать полевые укрепления, между всадниками эскорта прошла Сангарра и застыла перед ним.
— Ничего? — спросил Огарев.
— Ничего.
— Наберись терпения.
— Когда же наступит час и ты заставишь говорить эту старуху?
— Он близок, Сангарра.
— И где она заговорит?
— В Томске.
— Когда это?
— Через три дня.
Большие черные глаза Сангарры сверкнули, и она спокойно удалилась. Огарев пришпорил коня и в сопровождении почетного эскорта направился к эмиру.
Феофар-Хан ждал своего подручного. Вместе с ним в шатре расположился его совет из высокопоставленных чинов. Огарев слез с лошади, вошел и предстал перед эмиром.
Феофар-Хану было лет сорок. Высок, с суровой внешностью, со злыми глазами на бледном лице. Черная борода, подстриженная лесенкой, опускалась на грудь. На нем была кольчуга с бляшками из золота и серебра. портупея, сверкающая драгоценными камнями и ножнами для кривой сабли, также в богатом уборе, сапоги с золотыми шпорами, шлем, украшенный бриллиантом, отражающим тысячи огней. В этом уборе он выглядел, по крайней мере, странно, но вовсе не походил на могущественного властелина, распоряжающегося по одной прихоти жизнями своих подданных, власть которого безгранична и имя которому — эмир.
Когда Огарев вошел в шатер, окружение эмира восседало на вышитых подушках, но Феофар-Хан поднялся с богато украшенного дивана и пошел ему навстречу, ступая по бухарскому ковру. Подойдя к Огареву, он поцеловал его. Этот поцелуй многое значил, этот поцелуй делал Огарева главой военного совета эмира. И, обращаясь к нему, сказал:
— Я не стану расспрашивать тебя, говори, Иван. Здесь собрались только те, кто готов тебя выслушать.
— Повелитель, — отвечал Огарев, — вот что я хочу сказать…
Он свободно говорил по-татарски, пересыпая свою речь напыщенными оборотами, по обычаю азиатов.
— Властелин, теперь не время тратить слова. Ты знаешь, что я сделал во главе твоих войск. Земли по Ишиму и Иртышу теперь в наших руках, и твои всадники могут купать лошадей в водах, ставших татарскими. Киргизские орды поднялись по зову Феофар-Хана, и сибирский тракт принадлежит тебе от Ишима до Томска. Теперь ты можешь продвигать свои войска как на восток, где встает солнце, так и на запад, где оно заходит. — А если я пойду вслед за солнцем? — спросил эмир, который все это время слушал с бесстрастным лицом, не выдававшим ни одной его мысли.
— Идти за солнцем, — отвечал Огарев, — значит бросить свои войска в Европу и завоевать в короткий срок губернии от Тобольска до Урала.
— А если я пойду навстречу небесному факелу?
— Это значит подчинить себе, вместе с Иркутском, самые богатые края, едва ли не во всей Центральной Азии.
— А как же армия султана из Петербурга? — спросил Феофар-Хан, величая странным титулом императора России.
— Тебе нечего их бояться ни на востоке, ни на западе, — отвечал Огарев. — Мы напали внезапно, и прежде чем русская армия попытается спасти Иркутск и Тобольск, они уже будут в твоей власти. Как царские войска разбиты под Колыванью, так они будут разбиты повсюду, где появятся твои войска.
— К какому решению склоняешься ты, преданный татарскому делу? — спросил эмир, помолчав.
— Думаю, — живо ответил Иван Огарев, — что надо идти навстречу солнцу! Это значит накормить обильными травами восточных степей твоих коней. Это значит овладеть столицей Восточной Сибири Иркутском, а заодно и взять заложника, обладание которым стоит целой страны. Вместо царя в твои руки должен попасть его брат, Великий князь!
Иван Огарев высказал свое потаенное желание. Глядя на него, можно было подумать, что это один из потомков жестокого Степана Разина, известного разбойника, опустошившего южную Россию в восемнадцатом веке. Захватить Великого князя, расправиться с ним — это ли не полное удовлетворение ненасытной ненависти! Кроме всего, взятие Иркутска означало покорение всей Восточной Сибири.

— Будет так, Иван, — сказал Феофар.
— Каковы будут приказы, властелин?
— Сегодня же ставка переводится в Томск.
Огарев поклонился и поспешил выполнять приказ эмира. Но когда он собрался вскочить в седло, какое-то замешательство произошло в загоне, отведенном пленникам. Послышались крики, раздались выстрелы. Что это: волнения, побег, в любом случае следовало тут же подавить их. Иван Огарев направился в ту сторону, и почти тут же перед ним появились два человека, которых не смогли сдержать часовые.
Татарский офицер, сопровождавший Огарева, сделал жест, означавший: смерть ослушникам, и их головы должны были уже покатиться по траве, но Огарев приостановил сабли, занесенные над ними. Он сразу понял, что перед ним иностранцы, и приказал, чтобы их подпустили к нему. Это были Гарри Блаунт и Алсид Жоливе.
Едва Огарев прибыл в татарский стан, они стали проситься отвести их к нему. Сторожевые воины не пускали. Они пытались бороться, вырвались, побежали, им вслед прогремели выстрелы, но, к счастью не задели, но их казнили бы все равно, не вмешайся подручный эмира.
Теперь он внимательно рассматривал пленных. Они были ему незнакомы. Журналисты присутствовали при стычке на почтовой станции, когда Огарев ударил Строгова: но грубиян не обратил внимания на окружающих. А Гарри и Алсид хорошо его запомнили и сразу узнали.
— Посмотри, кажется, полковник Огарев и тот драчун из Ишима — один и тот же человек, — вполголоса сказал Алсид. И добавил на ухо своему коллеге: — Изложите наше дело, Блаунт. Вы мне окажете большую услугу. Полковник русской армии посреди татарского лагеря внушает мне отвращение. Хотя именно благодаря ему моя голова еще на плечах. Глаза б мои не смотрели!
Все это Алсид Жоливе проговорил равнодушно и без страсти. Вряд ли Огарев понял, что пленник оскорбил его, во всяком случае вида не показал.
— Кто вы, господа? — спросил он по-русски очень холодно, но без обычной грубости.
— Корреспонденты английской и французской газет, — лаконично ответил Гарри Блаунт.
— У вас, конечно, есть документы, удостоверяющие ваши личности?
— Вот письма, аккредитирующие нас в России при английской и французской миссиях.
Иван Огарев взял письма, протянутые Блаунтом, и внимательно их прочел. Затем сказал:
— Вы просите разрешения освещать военные события в Сибири?

— Мы просим, чтобы нас освободили, вот и все, — сухо ответил англичанин.
— Вы свободны, господа, — ответил Иван Огарев, — и мне будет крайне любопытно прочесть вашу хронику в «Дейли Телеграф».
— Но, господин, — возразил Гарри с самым невозмутимым видом, — это ведь шесть пенсов за номер, не считая почтовых расходов. — И повернулся к своему коллеге, судя, по всему, оценившему по заслугам его ответ. Иван Огарев и глазом не моргнул, вскочил на коня и, махнув эскорту, исчез в облаке пыли.
— Ну, господин Жоливе, что вы думаете об Иване Огареве, главнокомандующем татарскими войсками? — спросил Гарри.
— Я думаю, мой дорогой коллега, — улыбнулся Алсид, — что этот подчиненный полковника сделал хороший жест, отдавая приказ обезглавить нас!
Как бы там ни было и какими бы мотивами не руководствовался Огарев, журналисты были свободны и могли как им разумеется обозревать театр военных действий. И они намеревались не выходить из игры. То, что можно назвать антипатией, которую они недавно питали друг к другу, уступило место искренней дружбе. Нечаянно сблизившись, теперь они и не помышляли о расставании. Мелкого соперничества отныне не существовало. Разве мог забыть Гарри, чем он обязан Алсиду, который даже не напоминал о том.
— А теперь, — сказал Гарри, — что мы станем делать с нашей свободой?
— Черт побери, злоупотреблять ею! — воскликнул Алсид. — И ехать спокойно в Томск, чтобы посмотреть, что же там происходит.
— Надеюсь, ненадолго, пока не сможем перебраться в русские войска?
— Не говорите так, мой дорогой Блаунт! Мы не можем надолго превратиться в татар! Своего слова еще не сказали те, оружие которых вразумляет! Очевидно же, что народы Центральной Азии ничего не выиграют, а все потеряют от этого нашествия. Русские отразят его. Это дело времени!
Но прибытие Ивана Огарева в ордынскую ставку представляло для Михаила Строгова грозную опасность. Если бы случай свел их сейчас, Огарев тут же узнал бы в нем путешественника, с которым он так грубо обошелся на почтовой станции в Ишиме, и хотя Михаил не ответил на оскорбление, как встретил бы б любом другом случае, к нему бы стали приглядываться, а это затруднило бы выполнение его замыслов.
Это была неприятная сторона присутствия Огарева. Но была и другая — в тот же день был отдан приказ свернуть лагерь и перевести ставку в Томск. Это было самым большим желанием Михаила. Теперь, с изменившимися обстоятельствами, он спрашивал себя: не лучше ли отказаться от первоначального плана и попытаться сбежать по дороге? Он уже было решил так и сделать, когда узнал, что Феофар-Хан и Иван Огарев уже уехали в Томск и увели с собой несколько тысяч всадников.
«Значит, я подожду, — думал он, — разве что представится какой-то исключительный случай бежать. По эту сторону больше плохих шансов, по ту — хороших, поскольку я смогу за несколько часов пробраться сквозь татарские посты. Еще три дня терпения, и да поможет мне Бог!»
Пленники должны были совершить трехдневный переход под присмотром многочисленного конвоя. Сто пятьдесят верст отделяли лагерь от города. Переход не тяжелый для воинов эмира, которые ни в чем не нуждались, но неимоверно трудный для ослабленных несчастных. Своими трупами они должны были устлать степную дорогу. Приказ отправляться был отдан 12 августа в два часа дня пополудни, по жаре, при безоблачном небе.
А Гарри и Алсид, купив лошадей, уже ехали по дороге в Томск, где логика событий должна была собрать вместе всех главных действующих лиц этой истории.
В числе пленников, уводимых Огаревым из татарского лагеря, была старая женщина, молчаливость которой выделяла ее среди всех, кто разделял с ней горькую участь. Ни одна жалоба не срывалась с ее губ. Но была она само страдание. Эта женщина, охраняемая тщательнее других, была под присмотром цыганки Сангарры, но, казалось, она не подозревает и не беспокоится о том. Несмотря на преклонный возраст, она тоже следовала в колонне пленников.
Но провиденье ниспослало ей мужественное и милосердное существо, казалось, созданное только для того, чтобы внимать и помогать ей во всем. Среди спутниц по несчастью была девушка замечательной красоты и бесстрашная, как сибирячка. Она-то и взяла на себя задачу заботиться о ней. Пленницы не обменялись ни одним словом, но девушка непостижимо оказывалась рядом, когда старой женщине была необходима помощь.
Старая женщина сначала не без подозрения отнеслась к непрошенным заботам девушки. Однако постепенно ее прямой открытый взгляд, сдержанность, необъяснимая симпатия, присущая товарищам по несчастью, растопили холодность Марфы Строговой. Надя — а это была она, — сама не зная того, смогли позаботиться о матери человека, который так помог ей. Заботясь о ней, Надя обеспечивала своей молодости и красоте еще и защиту. Среди толпы озлобленных страданиями и несчастных людей эти две молчаливые женщины, из которых одна казалась бабкой, а другая внучкой, внушали невольное уважение.
После того как она была захвачена татарами на Иртыше, Надя была переправлена в Омск. Там она разделяла судьбу всех, кого захватили войска Ивана Огарева, а следовательно и Марфы Строговой. Будь Надя менее выносливой, она не выдержала бы постигшего ее двойного удара. Задержка поездки, гибель Михаила привели ее в отчаянье. Теперь она, может быть, никогда уже не увидит отца, от которого была уже близко, а в довершение несчастья, она лишилась бесстрашного спутника, которого, казалось, сам Бог послал ей в пути. Она враз все потеряла. Образ Михаила, которого на ее глазах поразили копьем в голову, исчезнувшего в водах Иртыша, не покидал ее. Разве должен был мужчина погибнуть так? Для кого же Бог приберег свои чудеса, если благородное намерение продвигаться вперед, могло быть так скверно остановлено? А иногда злость брала верх над страданиями. Однажды ей пришла на память ужасная сцена оскорбления, так странно перенесенная ее спутником на почтовой станции в Ишиме. Кровь ее кипела при одном воспоминании. «Кто отомстит за него?» — думала она.
В своем сердце она обращалась к Богу и восклицала: «Господь, сделай так, чтобы на его месте была я!»
Если бы, прежде чем погибнуть, Михаил выдал ей свой секрет и если бы она, девушка, смогла довести до благополучного конца прерванное дело названного брата, которого Бог не должен был ей давать, поскольку тотчас же забрал!..
Погруженная в свои мысли, Надя оставалась бесчувственной к собственным невзгодам в плену. И вот тогда случай свел ее с Марфой Строговой. Но разве могла она подозревать, что эта старая женщина, такая же пленница, как и она, мать ее попутчика, которого она знала как купца Николая Корпанова? И разве Марфа Строгова могла догадываться, что связывает незнакомку с ее сыном?
То, что поразило Надю в поведении Марфы Строговой, так это схожая с ней манера поведения, они обе одинаково переносили беду. Эти стоическое отношение старой женщины к страданиям повседневной жизни, презрение к страданиям тела она могла черпать лишь в такой же скорби, какая была у Нади. Об этом думала она и не ошибалась. Гордой душе девушки было симпатично умение сносить боль и страдания, не выказывая их другим. Не предложи она этой женщине свои услуги, та никогда бы ни о чем бы не попросила. Собственно, она не отказалась от них, но и не приняла. В трудном переходе девушка всегда шла рядом. Во время раздачи пищи Марфа даже не пыталась получить свою долю, и Надя делилась с ней.
Так и проходил этот нелегкий для обеих путь. Если бы не молодая попутчица, Марфа давно бы уже следовала за конвоиром, привязанная веревкой к седлу, как другие несчастные, едва передвигающие ноги.
«Бог отблагодарит тебя, дочь моя, за то, что ты для меня делаешь!» — сказала ей однажды Марфа Строгова, и это были единственные слова, сказанные ею за все время.
За эти дни, которые им показались длиною в век, девушка и старуха, казалось, должны были обсудить свое положение. Марфа Строгова из понятной осмотрительности все же сухо сообщила о себе, но не сделала ни одного намека на роковую встречу с сыном, А Надя, долгое время молчавшая или очень скупая на слова, однажды не выдержала. Почувствовав, что перед ней простая и возвышенная душа, она со слезами стала рассказывать, не подозревая, кто перед ней, обо всех событиях, произошедших с ней со времени отъезда из Владимира и до гибели Николая Корпанова. Ничего не утаивая, она рассказывала о своем попутчике, и он больше всего заинтересовал старую женщину.
— Николай Корпанов? — сказала она. — Расскажи-ка поподробнее об этом Николае. Я знавала только одного такого молодца в наше время, чье поведение не удивило бы меня! Ты точно помнишь его имя? Николай Корпанов? Ты уверена в этом, дочь моя?
— А зачем бы он стал меня обманывать? — ответила Надя. — Он же меня ни в чем не обманул.
Дрожащим от волнения голосом Марфа Строгова расспрашивала девушку об этом человеке до самого вечера.
— Ты говорила мне, что он был отважен, дочь моя? Да, ты доказала мне это!
— Он бесстрашный!
«И мой сын такой же», — повторяла про себя Марфа Строгова.
И начинала сызнова:
— Так ты говорила, что ничто его не останавливало, ничто не удивляло, что он был сильным и нежным, что вы были как брат и сестра, а о тебе он заботился, как заботится только мать?
— Да, да! — отвечала Надя. — Он был для меня и братом, и сестрой, и матерью!
— А также защитником?
— Защитником! Героем! — отвечала она.
«Мой, мой сын», — думала Марфа Строгова.
— Но ты, однако, говоришь, что он стерпел страшное оскорбление на почтовой станции?
— Он стерпел, — говорила Надя, опустив голову.
— И он его стерпел? — пролепетала вся дрожа Марфа Строгова.
— Мама! Мама! — воскликнула Надя. — Не осуждайте его. Тут есть какая-то тайна, и один Бог ему судья!
Подняв голову, глядя на Надю, словно хотела прочесть в глубине ее души, что она чувствовала в минуту тяжкого оскорбления брата, женщина спросила Надю:
— Ты возненавидела этого Николая?
— Не знаю почему, но я любовалась им, — отвечала девушка. — Я чувствовала: он больше достоин уважения, чем тот…
Марфа Строгова на мгновение замолчала, потом спросила:
— Он был высок?
— Очень высокий.
— И очень красивый, да? Ну, скажи, моя дочь.
— Очень, — покраснела Надя.
— Так это был мой сын! Я тебе точно говорю, что это был он — вскрикнула старая женщина и обняла девушку.
— Твой сын? — изумленно сказала Надя. — Твой сын?
— Ну же, рассказывай до конца, мое дитя! — сказала Марфа. — У твоего попутчика, у твоего друга и защитника ведь была мать! Разве он никогда не рассказывал тебе о ней?
— О своей матери? — переспросила Надя. — Он так же рассказывал мне о ней, как я ему о своем отце. Свою мать он обожал!
— Надя, Надя, ты только что рассказала мне о моем сыне, — сказала она и добавила: — Не должен ли был он увидеть свою мать, проезжая Омск, которую, как говоришь ты, он обожал?
— Нет, — отвечала Надя, — нет, он не должен был этого делать.
— Нет? — вскрикнула Марфа. — И ты осмеливаешься говорить мне, что нет?
— Я тебе это сказала, но есть причинны, которых я не знаю, по которым он не мог этого сделать. Я думала, вы поняли, что Николай Корпанов должен был пересечь край секретно. Для него это был вопрос жизни и смерти. И более того — вопрос долга и чести.
— Долга, действительно всевластного долга, — сказала Марфа, — есть причины, ради которых жертвуют всем, отказываются от всего, даже от радости, может быть, в последний раз поцеловать свою старую мать! Все то, чего не знаешь ты, Надя, все, чего не знала я, теперь мне понятно! Ты позволила мне это понять! Ты тот свет, который осветил сумерки моей души в глубине моего сердца. Я же не могу сделать это в ответ. Тайну моего сына, поскольку он ее тебе не сказал, Надя, я должна сохранить ради него самого. Прости меня, старую. Все добро, что ты для меня сделала, я не могу тебе вернуть.
— Мама, я ничего не прошу у вас, — ответила Надя.
Чудесным образом все прояснилось для старой женщины — это необъяснимое поведение сына на постоялом дворе в Омске. Не было сомнений и в том, что попутчиком девушки был Михаил и что он вез какую-то секретную депешу через захваченный край, а потому не мог открыться, что он курьер царя.
«Ах, мой храбрый ребенок, — думала она. — Нет, я его не выдам, никакие пытки не вырвут у меня признания, что я видела его в Омске!» Марфа Строгова могла бы одним словом отплатить Наде за все, что она сделала для нее. А всего-то надо было сказать, что ее попутчик Николай Корпанов, или теперь уже Михаил
Строгов, не погиб в Иртыше и что она видела его, разговаривала с ним спустя несколько дней после нападения на них…
Но удержалась, замолчала, ограничилась тем, что проговорила:
— Не теряй надежды, мое дитя! Несчастье над тобой развеется! И ты вновь увидишь своего отца, у меня есть предчувствие, что, может быть, тот, кто назвал тебя сестрой, не умер! Бог этого не может допустить! Надейся, дочь моя! Живи надеждой, как я! Мне еще рано носить траур по своему сыну!
Глава III
Удар за удар
Такими были сейчас отношения Марфы Строговой и Нади. Старая женщина все поняла, а девушка если и не знала, что оплакиваемый ею спутник жив, то по крайней мере узнала, кем он был для той, кого она считала своей матерью. И она благодарила Бога за то, что он позволил ей заменить пленнице сына, которого та потеряла.
Но обе они не могли подозревать, что Михаил Строгов, схваченный в Колывани, тем же конвоем направляется в Томск. Пленных, приведенных Иваном Огаревым, соединили с теми, кого эмир уже держал в своем лагере. Этих несчастных сибиряков, солдат и мирных жителей, насчитывалось уже несколько тысяч, и они брели по дороге, растянувшись на много верст. Наиболее опасные или склонные к побегу были прикованы к длинной цепи. Обессилевших женщин и детей привязывали к седлам и волокли по земле.
С пленными обращались хуже, чем со скотом. Конвоиры заставляли их поддерживать определенный темп, и те, кто отставал, уже больше не поднимались. Михаил Строгов шел в первых рядах среди пленных из Колывани и никак не мог смешаться с теми, кого пригнали из Омска. И он также не мог предположить, что его матушка и Надя идут вместе с ним. Переход из полевого лагеря в Томск под плетьми жестоких татар для многих стал последним и ужасным — для всех.
Шли они по степной дороге, ставшей после проезда эмира и его авангарда еще более пыльной. Приказано было идти быстро, и короткие передышки случались редко. Эти сто пятьдесят верст под палящим солнцем, как бы быстро они ни были преодолены, показались бесконечными.
Край этот бедный, и простирается он по почти до самых Саян. Однообразие степи нарушал лишь какой-то тощий, будто выжженный кустарник. Посадок никаких, потому что не хватает воды, как не хватает ее пленным, страдающим от жажды. Ближайшая от этих мест речка протекала верст за пятьдесят отсюда, у отрогов гор, осуществляющих водораздел между Обью и Енисеем. Там-то и течет Томь, небольшой приток Оби, который пробегает Томск, прежде чем раствориться в одной из великих рек Сибири.
Там, где есть вода, степь плодороднее и нет такой изнуряющей жары. Но начальнику конвоя был дан приказ вести пленных кратчайшим путем — у эмира существовали опасения, что, возможно, он будет обойден и отрезан неожиданно подошедшей с севера русской армией. Большой сибирский тракт не касался берегов Томи, по крайней мере между Колыванью и небольшим поселком с неизвестным названием.
Бесполезно описывать нескончаемые страдания пленных. Многие сотни их пали в степи и останутся лежать при дороге, пока с наступлением зимы волки не подберут их останки. Как Надя, всегда готовая прийти на помощь старой женщине, так и Михаил помогал ослабевшим товарищам по несчастью. Одних он подбадривал, других поддерживал, не жалея сил ходил от одного к другому, пока копье всадника не указало ему его место.
Почему он не пытался бежать? Он решил сделать это тогда, когда степь станет для него безопасной. Он упорно придерживался мысли добраться до Томска «за счет эмира» и был прав. Кругом рыскали конные отряды, и было очевидно, что он не пробежал бы и двух верст, как был бы схвачен. Татарские разъезды, казалось иногда, возникали прямо из-под земли, а солдаты конвоя были бдительны, за побег пленника они могли заплатить головой. Наконец 15 августа, на закате дня, конвой вошел в маленький неизвестный поселок в тридцати верстах от Томска. Здесь дорога выходила на берег реки Томь. Первым желанием пленников было броситься в воды этой реки, но стража не позволила нарушать строя. Хотя течение Томи после бурных дождей было быстрым, могли найтись смельчаки или отчаявшиеся, которые рискнут на побег, потому были приняты самые строгие меры. Лодки, реквизированные в деревне, приковали на цепи. Границы стоянки охранял усиленный кордон воинов.
Михаил, который уже мог попытаться убежать, тщательно обдумав ситуацию, пришел к выводу, что побег сейчас невозможен. И он ждал. Пленные должны были всю ночь провести на берегу реки.
Только на следующий день эмир решил приступить к размещению своих войск в городе. Открытие татарской ставки он посчитал нужным отметить военным праздником. Сам Феофар-Хан уже занял крепость, а верные ему войска расположились под городскими стенами, ожидая часа, чтобы торжественно войти в Томск.
Иван Огарев оставил эмира здесь, а сам вернулся в лагерь военнопленных. Отсюда он должен отправиться в число передовых частей орды,на парад, на следующий день. Для него в поселке был приготовлен дом для ночлега. На восходе солнца всадники и пешие воины под его командованием промаршируют до Томска, где эмир хотел им устроить по-восточному пышную встречу.
Наконец-то пленные смогли утолить жажду и немного отдохнуть. Солнце уже зашло, но горизонт еще светился, когда Надя, поддерживая Марфу Строгову, добралась до берега. До того они не могли пробиться сквозь толпу, и только теперь настала их очередь напиться.

Надя, зачерпнув воды ладошкой, напоила старую женщину, потом уже напилась сама. Благотворная вода придала им сил. Надя выпрямилась, и невольный вскрик вырвался у нее. Михаил Строгов стоял в нескольких шагах от нее! Это был он! Закатный свет освещал его лицо. При этом вскрике Михаил вздрогнул… но он достаточно владел собой, чтобы не показать своего изумления. В тот же миг он узнал и свою мать! Но он только прикрыл глаза ладонью и тотчас отошел. Надя инстинктивно хотела броситься за ним, но Марфа выдохнула ей на ухо:
— Остановись, дочь моя!
— Это он! — прерывисто отвечала Надя. — Он жив, матушка! Это он!
— Да, это мой сын, — сказала Марфа Строгова, — Михаил, но ты же видишь, что я и шагу не сделала ему навстречу. Поступай же, как я!
Михаил только что испытал сильнейшее потрясение, которое когда-либо дано пережить человеку. Его мать и Надя были здесь.
Образы двух пленниц соединились в его сердце, и только Бог мог соединить их в общем несчастье. Знала ли Надя, кто он? Вряд ли. Он заметил жест матери, удерживающей ее, когда она собралась броситься к нему. Значит, матушка все поняла и хранит его тайну.
Этой ночью Михаил десятки раз пытался пойти к матери, но каждый раз сопротивлялся огромному желанию обнять ее и повидаться со своей юной спутницей. Малейшая неосторожность могла погубить его. Впрочем, ведь он дал клятву не встречаться с матерью. Как только они попадут в Томск, раз уж он не может бежать этой ночью, он сразу уйдет в степь, даже не обняв мать и Надю, в которых теперь заключалась вся его жизнь и которые находятся в такой опасности.
Михаил надеялся, что эта новая встреча обойдется без всяких последствий для матери и для него, но он не мог знать, что все видела шпионка Ивана Огарева Сангарра.
Цыганка была всего в нескольких шагах от них, как всегда, шпионя за Марфой Строговой, которая и подозревать не могла о том. Она не успела заметить Михаила, который тут же исчез, но жест матери, удерживающий девушку, не ускользнул от нее, а глаза Марфы сказали ей обо всем. Отныне не было сомнений, что сын. ее, царский курьер, находится здесь, среди пленников Ивана Огарева! Сангарра не знала его в лицо, но была уверена, что он здесь! Она и не пыталась немедленно отыскать его, это было невозможно в темноте и в такой многочисленной толпе. Очевидно, теперь обе будут настороже и вряд ли можно будет узнать что-то новое.
У цыганки было теперь одно желание — предупредить Ивана Огарева. И она тут же покинула лагерь. Через четверть часа она была уже в доме подручного эмира. Огарев тут же принял ее.
— Что тебе надо, Сангарра? — спросил он ее.
— Сын Марфы Строговой в лагере, — ответила та.
— В плену?
— В плену!
— Ах ты! Я его найду! — воскликнул Огарев.
— Никого ты не найдешь, ведь ты даже не знаешь его в лицо!
— А ты, ты знаешь? Ты видела его?
— Не видела, но я видела, как его мать выдала себя движением, которое мне все объяснило.
— Ты не ошибаешься?
— Нет.
— Ты понимаешь, какое значение я придаю аресту этого курьера? — сказал Огарев. — Если пакет, врученный ему в Москве, дойдет до Иркутска, если он попадет в руки Великому князю, то тот насторожится, и я не смогу добраться до него! Мне нужно это письмо, и любой ценой! А ты только что сказала, что владелец его у меня в плену! Спрашиваю еще раз, Сангарра, ты не ошиблась?
Огарев говорил возбужденно, и его волнение подтверждало то чрезвычайное значение, которое он придавал этому письму. Сангарра и глазом не повела.
— Я не ошиблась, Иван, — ответила она.
— Но Сангарра, в лагере тысячи пленных, а мы не знаем Строгова!
— Не знаем, — отвечала та, и во взгляде ее светилась радость, — но его знает мать! Иван, заставь заговорить его мать!
— Завтра она скажет все! — выкрикнул Огарев и протянул цыганке руку, она поцеловала ее почтительно и без тени раболепства.
Сангарра вернулась в лагерь, пристроилась рядом с Надей и Марфой Строговой и всю ночь наблюдала за ними. Пленницы не спали, хотя и были очень усталыми. Тревога мешала сомкнуть глаза. Михаил был жив, но, как и они, — в плену! Знал ли о том Огарев, а если не знал, то узнает ли? Надя же не могла думать Ни о чем другом, кроме того, что ее спутник жив! Но его мать умела заглядывать в будущее, и если не дорожила собой, то боялась за сына.
Сангарра лежала рядом с ними в темноте и внимательно слушала, но ничего не могла узнать. Надя и Марфа Строгова не перекинулись ни единым словечком.
На следующий день, 16 августа, рядом с лагерем раздались оглушительные звуки труб. Войска начали строиться. Иван Огарев, покинув поселок, ехал в сопровождении своего штаба. Лицо его было мрачнее, чем обычно, а искаженные черты выказывали скрытый гнев, готовый разразиться по любому поводу.
Михаил, затерянный в толпе пленников, увидел его. У него возникло предчувствие, что грядет катастрофа, ведь Огарев знал, кто мать Михаила Строгова — капитана царских курьеров.
Прибыв в центр лагеря, Огарев спешился, а всадники из эскорта окружили его. Тут к нему подошла Сангарра и сказала:
— У меня нет для тебя известий, Иван!
Огарев отдал краткий приказ одному из офицеров. Тотчас же по радам пленников побежали солдаты. Подгоняемые ударами кнутов и древками копий, несчастные поспешно вставали и выстраивались по окружности лагеря. Кордон пехотинцев и всадников, плотно выстроенный сзади, пресекал малейшую попытку побега.
Тотчас установилась тишина, и по знаку Огарева Сангарра направилась туда, где стояла Марфа Строгова. Видя, как та идет к ней, старая женщина поняла, что сейчас произойдет. Пренебрежительно усмехнувшись, она наклонилась к Наде и шепнула на ухо:
— Ты меня больше не знаешь, дочь моя! Что бы ни случилось и каким бы суровым ни было это испытание, не выдавай себя ни словом, ни жестом. Речь идет о нем, а не обо мне!
Сангарра положила руку ей на плечо.
— Что тебе надо? — спросила Марфа Строгова.
— Пошли, — ответила та и подталкивая, вывела ее на середину круга к Ивану Огареву.
Михаил прикрыл глаза, боясь, что они выдадут его.
Мать его стояла перед Огаревым прямо, скрестив руки, и ждала.
— Ты — Марфа Строгова? — спросил Огарев.
— Да, — ответила она.
— Ты по-прежнему не хочешь сказать мне то, о чем я тебя спрашивал в Омске?
— Мне нечего сказать.
— Значит, ты не знаешь, что твой сын Михаил, царский курьер, был в Омске?
— Не знаю.
— И человек, в котором, тебе показалось, ты узнала своего сына, на постоялом дворе, не он?
— Не он.
— И ты не видела его среди пленных?
— Не видела.
— А если его покажут тебе, ты узнаешь?
— Нет.
При этом решительном ответе по рядам пленников пошел шепот.
Огарев пригрозил, приказывая молчать.
— Послушай, твой сын здесь, и ты тотчас же укажешь на него!
— Нет.
— Все мужчины, взятые в Омске и Колывани, пройдут перед тобой, и если ты не укажешь на Михаила Строгова, получишь столько ударов кнутом, сколько пройдет человек!
Огарев понимал, что никакие угрозы, никакие пытки не сломят старую женщину, она не заговорит и не выкажет царского курьера, но он на нее и не рассчитывал. Невозможно, чтобы они, увидев друг друга, не выдали себя. Если бы он хотел завладеть царским письмом, он дал бы приказ всех обыскать, но Михаил мог успеть уничтожить его, предварительно прочитав, и, не будучи узнанным, может добраться до Иркутска и расстроить его планы. Предателю нужен был сам курьер.
Надя слышала допрос и поняла теперь, кем был Михаил и почему он ехал скрытно по захваченным провинциям. По приказу Огарева, пленные один за другим пошли перед старой женщиной, которая застыла как статуя, и взгляд ее выражал полное безразличие к происходящему. Ее сын в последних рядах. Когда он проходил мимо матери, Надя закрыла лицо руками. Внешне Михаил оставался бесстрастным, но ногти до крови врезались в ладони. Огарев был посрамлен. Сангарра, стоявшая рядом, произнесла только одно слово:
— Кнут!
— Да! — крикнул Огарев, не владея собой. — Кнут этой старой мерзавке, и пороть, пока не помрет!
Татарский воин с кнутом в руках подошел к Марфе Строговой. Орудие пыток состояло из вплетенных кожаных ремешков, на конце его болталась свинцовая пуля. Не случайно считается, что приговор к ста двадцати ударам кнута равен приговору к смерти. Марфа Строгова знала об этом, но также знала, что никакая пытка не заставит ее говорить — и она принесла в жертву свою жизнь.
Два воина схватили Марфу и бросили ее на колени. Сквозь разорванное платье просвечивала голая спина. В нескольких дюймах от ее груди воткнули в землю саблю. Если она повалится или резко наклонится от боли, ее грудь пронзит острое лезвие.
Татарин ожидал.
— Начинай! — приказал Огарев.
Кнут засвистел в воздухе… но опуститься не успел, так как чья-то могучая рука вырвала его из рук воина. Это был Михаил Строгов. Это он выскочил на середину пыточного круга. И если гам, на постовой станции в Ишиме, он был в состоянии сдержать себя, когда его ударил Огарев, то вынести, чтобы били его мать, не мог. Иван Огарев добился своего.
— Строгов! — воскликнул он.
И, подходя ближе, заметил:
— О, да это тот самый человек из Ишима!
— Он самый! — ответил Михаил.
И удар кнута ожег лицо Огарева.

— Удар за удар! — сказал Михаил.
— Достойная расплата! — выкрикнул кто-то из зрителей, но его голос тут же потонул в шуме. Воины набросились на Михаила и хотели зарубить его. Но Огарев, заорав от бешенства и боли, остановил их.
— Пусть его судит эмир, — сказал он. — Обыскать!
Письмо с императорским гербом нашли на груди Михаила и подали Огареву. Зритель, выкрикнувший слова про расплату, был не кто иной, как Алсид Жоливе. Он и его коллега в этот момент оказались у лагеря пленных.
— Черт побери! — заметил Алсид Гарри Блаунту. — Эти сибиряки — смелые люди! Признайтесь, что мы были не правы. Корпанов и Строгов стоят друг друга! Прекрасный реванш.
— В самом деле реванш, — ответил Гарри, — но Строгов — мертвец. Ему надо было, может быть, еще подождать.
— И позволить матери погибнуть под кнутом?
— А вы считаете, что он, вспылив, уготовил ей и своей сестре лучшую участь?
— Я ничего не считаю и ничего не знаю, — ответил Алсид, — только я не смог бы сделать ничего лучшего на его месте. Какой рубец! Ах, черт побери! Хоть иногда надо горячиться! Бог влил бы в наши артерии
воду, а не кровь, если бы хотел, чтобы мы всегда оставались невозмутимыми.
— Прекрасный случай для хроники! — заметил Генри. — Если бы только Огарев захотел сообщить нам содержание этого письма!
А Иван Огарев, стерев с лица кровь, срывал печать с пакета. Он долго читал и перечитывал его, как будто хотел впитать в себя его содержание. Затем, отдав приказ, чтобы связанного Строгова вместе с другими пленными везли в Томск, принялся командовать войсками, направившимися под оглушительный грохот барабанов и визг труб в город, где их ожидал эмир.
Глава IV
Триумфальный въезд
Томск, основанный в 1604 году почти в центре сибирских провинций, считается одним из самых значительных городов азиатской России, но не считается столицей этого края. Генерал-губернатор, как мы знаем, и его резиденция находились в Омске. Но этот большой город стоял на землях, соприкасающихся с горами Алтая. А на их склонах до самых долин Томи добывают платину, золото, серебро, медь, золотоносный свинец. А раз край богатый, то и город богатый. Поэтому роскошь его домов и меблировки, экипажей на его улицах могли вполне поспорить с роскошью европейских столиц. Этот город миллионеров, сколотивших состояние благодаря кирке и лопате, если и не удостоился чести стать резиденцией представителя царской власти, то вполне утешается тем, что среди самых именитых горожан имеет и главного управляющего шахтами и рудниками, подчиненного правительству.
Раньше считалось, что Томск стоит на краю света. А если кто хотел поехать туда, то расценивал это как большое путешествие. Теперь такую поездку можно расценить как прогулку, если, конечно, дорога не захвачена разбойниками. К тому же скоро планировалось протянуть сюда дорогу от Перми через Уральские горы.
Красив ли город Томск? Нужно признать, что на этот счет у путешественников складываются разные мнения. Мадам де Бурбулон, проведшая там несколько дней во время своего путешествия из Шанхая в Москву, описывает его не очень живописно. Если верить ей, это неброский город со старыми домами, сложенными из камня и кирпича, с узкими улицами, отличающимися от проспектов двух крупных сибирских городов, с грязными кварталами, где в тесноте живут татары, в котором полно тихих пьяниц, — «даже их опьянение апатично, как у всех северных народов».
Путешественник Генри Рассел-Киллоу был совершенно очарован Томском. Может быть, потому, что увидел его зимой в снежном убранстве, а мадам Бурбулон гостила в нем летом? Возможно, есть соль в утверждении, что некоторые холодные страны могут быть оценены по достоинству только в холодное время года, впрочем, как и некоторые жаркие страны — в жаркое время.
Как бы там ни было, господин Рассел-Киллоу заявляет, что Томск не только самый красивый город Сибири, но еще и мира: с его домами, украшенными резьбой, с деревянными тротуарами, широкими и прямыми улицами и пятнадцатью прекрасными церквями, отражающимися в водах Томи, более широкой, чем любая река Франции.
Наверное, истина находится посередине. Томск, насчитывающий 25 тысяч жителей, расположился на крутом холме живописными ярусами. Но даже самый красивый город превращается в безобразный, если его берут в полон захватчики. Кто сможет восхищаться им в такое время? Имея для защиты несколько батальонов пеших казаков, не находящихся там постоянно, как мог он устоять перед натиском войск эмира! Тем более, что немалая часть горожан татарского происхождения оказала незваным гостям радушный прием. В эти дни Томск не смотрелся ни русским, ни сибирским, будто его перенесли в центр Кокандского или Бухарского ханства. Здесь-то эмир и собирался принять парад своих войск. В их честь готовился праздник с песнями и танцами, джигитовкой, который должен был закончиться шумным пиршеством.
Место, выбранное для церемонии в соответствии с азиатским вкусом, представляло собою широкое плато на одном из холмов, возвышающихся над Томью. Панорама с длинным проспектом элегантных домов и церквей, пушистые сосны и огромные кедры представляли из себя изумительную картину.
Слева на плато, на широких террасах, была построена какая-то ослепительно-пышная декорация в виде дворца странной архитектуры: по образцу то ли бухарских, то ли полумавританских или полутатарских памятников. Над иглами минаретов, окружающих его, над верхушками деревьев, накрывающих плато тенью, кружили сотни ручных аистов, привезенных подручными эмира из Бухары.
Это место было предназначено для двора эмира, его ханов, союзников, высших лиц ханств и гаремов каждого из правителей Туркестана. Жены их были в основном рабыни, купленные на рынках Закавказья и Персии; одни ходили с открытыми лицами, другие носили паранджу, скрывающую их от чужих глаз. И все были одеты с чрезмерной роскошью. Элегантные одежды с ленточными рукавами не скрывали их обнаженных рук, украшенных браслетами в виде соединенных цепочками драгоценных камней, ногти на тонких пальцах были выкрашены хной. При малейшем движении одежд, шелковых ли, сравнимых с паутинкой, мягких хлопковых ли в узкую полоску, слышался приятный шелест. Под платьем переливались разноцветные юбки, надетые поверх шелковых шаровар, перевязанных чуть выше тонких сапожек с изящным вырезом и расшитых жемчугом. Те женщины, что не прятались за паранджою, восхищали длинными косами, выбивающимися из-под тюрбанов, прекрасными глазами, великолепными зубами, белоснежными лицами, подчеркнутыми чернотой их бровей.
У этих террас развевались флаги и знамена, под ними стояли личные стражники эмира с кривыми саблями, с кинжалами за поясом, с длинными копьями в руках. Некоторые из них держали белые жезлы, другие — огромные алебарды, украшенные кистями из золотых и серебряных нитей.
Вокруг, до конца этого огромного плато, по крутым склонам, под которыми бежала Томь, собралась разноязычная толпа. Тут были узбеки в больших черных каракулевых шапках, с рыжими бородами и серыми глазами, в накидках, скроенных по татарской моде. Толпились туркмены в широких ярких шароварах, в халатах из верблюжьей шерсти, красных островерхих шапках, высоких юфтевых сапогах, с кривыми тесаками и ножами, привязанными у талии. Возле них, своих господ, сидели туркменские женщины, в их волосы были вплетены длинные нити из козьей шерсти, они были в открытых рубашках в голубую, алую, зеленую полоски, икры ног были обмотаны яркими лентами крест-накрест вплоть до кожаных башмаков.
Были здесь и маньчжуры с бритыми лбами и висками, заплетенными к косу волосами, в длинных халатах и шелковых рубашках под ними, в шапках из атласа вишневого цвета с черной каймой и красной бахромой. Рядом с ними находились великолепные маньчжурские женщины, кокетливо причесанные, на их черных волосах золотыми шпильками крепились искусственные цветы и бабочки.
Наконец, монголы, бухарцы, персы, китайцы дополнили толпу приглашенных на татарский праздник. Только сибиряков не было на этом большом приеме завоевателей. Те, кто не смог убежать, боялись покидать свои дома, опасаясь грабежей, которые вполне могли начаться по приказу Феофар-Хана, чтобы достойно закончить эту триумфальную церемонию.
Только в четыре часа эмир выехал на праздничную площадь под звуки труб, грохот барабанов, пушечных и ружейных залпов. Он ехал на своей любимой лошади, голова которой была убрана бриллиантовым султаном. Эмир был в походном костюме. Рядом с ним ехали кокандские и кундузские ханы, высшая знать, многочисленный генеральный штаб.
В эту минуту на террасе появилась первая и любимая жена Феофара. Эта женщина персидского происхождения была изумительно красива. Вопреки мусульманскому обычаю и, конечно, по воле эмира, лицо ее было открыто. Волосы ее, заплетенные в четыре косы, ласкали ослепительные плечи, едва прикрытые шелковой вуалью с золотыми блестками, которая сзади крепилась к шапочке, усыпанной драгоценными камнями. Из-под юбки голубого шелка в широкую темную полоску, вился шелковый газ, а над поясом нависала блузка из той же ткани с чудесным полукруглым вырезом вокруг шеи. Вся она, с головы до ног, была обряжена в украшения: золотые цепи с вплетенными в них серебряными нитями, четки из бирюзы, ожерелья из сердолика, агата, изумруда, опала и сапфира — казалось, вся ее одежда соткана из драгоценных камней. Тысячи бриллиантов сверкали на ее руках, ногах, на поясе — не хватило бы многих миллионов рублей, чтобы их выкупить. Они блистали так, что можно было подумать, что в центре каждого вспыхивает солнечный луч.

Эмир, ханы и другие спешились и ступили на землю. Все заняли места под великолепным открытым шатром, поставленным в центре правой террасы. Перед шатром, как принято, на священном столе лежал Коран. Подручный Феофара не заставил себя/ ждать, и около пяти часов оглушительный рев труб возвестил о его прибытии.
Иван Огарев, или Меченый, как уже успели его прозвать, был на этот раз одет в форму татарского офицера и подъехал на коне прямо к шатру эмира. Небольшой эскорт сопровождал его и выстроился по краям площадки, в центре которой оставалось лишь место для представления. След от кнута наискосок перерезал лицо предателя. Огарев представил эмиру своих офицеров, и Феофар-Хан с обычной холодностью (непременное условие восточного достоинства) принял их, но так, что они были удовлетворены приемом.
По крайней мере так это истолковали Гарри Блаунт и Алсид Жоливе, объединившиеся в охоте за новостями. Покинув поселок, они быстро доехали до Томска. Они твердо решили как можно быстрее оставить татар и соединиться с русскими войсками, и если это возможно, направиться с ними в Иркутск. То, что они увидели — пожары, грабежи, убийства, — не могло не вызвать у них отвращения, и им не терпелось оказаться у русских.
Однако Алсид дал понять своему коллеге, что он не может вот так сразу покинуть Томск, не сделав нескольких замечаний о триумфальном въезде татарских, войск — хотя бы ради удовлетворения ненасытного любопытства своей кузины. И Гарри ничего не оставалось, как задержаться на несколько часов. Но в тот же вечер они должны были непременно отправиться по Иркутскому тракту.
Алсид Жоливе и Гарри Блаунт, смешавшись с толпой, смотрели во все глаза, не упуская ни единой детали, — этот праздник должен был дать им по сто строк интересной хроники. Они восхищались Феофар-Ханом, его великолепием, его женами и его офицерами, стражниками, всей этой восточной пышностью, о которой европейские церемонии не способны дать ни малейшего представления. Но презрительно отвернулись, когда перед эмиром предстал Иван Огарев, и нетерпеливо стали ожидать начала праздника.
— Видите ли, мой дорогой Блаунт, — сказал Алсид, — мы пришли слишком рано, как добрые буржуа, которые за свои деньги хотят увидеть все! Это всего лишь начало, одноактная пьеска, не лучше ли было бы прийти сразу на балет?
— Какой балет? — спросил Гарри.
— Обязательный балет, черт побери! Но я думаю, что занавес поднимется скоро.
Алсид изображал, будто он в опере, и, вынув бинокль, приготовился как знаток смотреть на «первых актеров труппы Феофара». Сколько будет длиться эта мучительная церемония, прежде чем начнутся развлечения? Но какой триумф победителя без унижения побежденных! Их видом должны были насладиться взоры властелина и его приближенных, прежде чем их втолкнут в тюрьму.
В первом ряду пленных стоял Михаил Строгов, охраняемый взводом солдат. Его мать и Надя были рядом. Старая женщина, неизменно решительная и смелая, когда речь шла только о ней, сейчас была страшно бледна. Она ждала самого ужасного. Не случайно ее сына привели к самому эмиру. Иван Огарев, которого публично ударили кнутом, был не из тех, кто прощает, и его месть будет беспощадной. Одна из чудовищных пыток, принятая у азиатов, несомненно, грозила Михаилу. Если Огарев не дал его убить солдатам сразу, то только потому, что хорошо знал, для чего он оставляет его, — отдать на суд эмиру.
Мать с сыном так и не смогли поговорить с той самой роковой минуты. Их разлучили. Дополнительное добавление к их мукам! Эти несколько дней, проведенных вместе в плену, какое бы они дали им облегчение! Марфа Строгова испросила бы прощения у сына за зло, невольно причиненное ему, она так корила себя за то, что дала волю материнским чувствам. Сумей она сдержаться на постоялом дворе в Омске, и скольких бы несчастий они избежали!
Михаил думал по-своему — если его мать здесь и ей уготована участь видеть его страшные муки, то не заготовил ли Огарев и для нее мучительную смерть?
Надя спрашивала себя, что она может сделать, чтобы спасти их обоих. Она не знала, что придумать, но подсознательно понимала, что прежде всего не должна привлекать к себе внимания. Ей нужно было сделаться маленькой и незаметной. Может быть, тогда она сможет перегрызть цепь, на которой держат льва. Если ей представится случай действовать, она пойдет на любые жертвы, чтобы спасти сына Марфы Строговой.
Большая часть пленников уже прошла перед эмиром, и каждый обязан был пасть перед ним лицом в пыль в знак рабской покорности. Рабство начинается с унижения! И если несчастный медлил это сделать, тяжелая рука охранника бросала его на землю.
Алсид Жоливе и его спутник не могли выносить подобного зрелища и возмущались.
— Это подло! Уйдем, чтобы не видеть, — сказал Алсид.
— Нет! — отвечал Гарри. — Нужно посмотреть до конца!
— Видеть все! О!.. — вскрикнул вдруг Алсид, хватая за руку своего товарища.
— Что с вами? — спросил тот.
— Взгляните, Блаунт! Это она!
— Она?
— Сестра нашего попутчика! Одинокая пленница!
— Нужно ее спасти…
— Охолоните, — ответил Гарри. — Наше вмешательство может больше навредить, нежели помочь.
Алсид, уже готовый броситься на помощь, остановился, и Надя, не заметив их, в свою очередь прошла перед эмиром, прикрывая взлохмаченными волосами лицо, а потому и не привлекла внимания. За ней шла Марфа Строгова, но замедлила упасть ниц, и грубый толчок в спину уложил ее на землю.
Михаил могучим движением едва не вырвался из рук стражников, но те сумели удержать его. Старая Марфа поднялась, но уйти не успела. Иван Огарев вмешался и сказал:
— Пусть эта женщина останется!
Надю оттеснили в толпу пленных. Огарев не обратил на нее внимания. Тут Михаила Строгова подвели к эмиру, и он стоял, не опуская глаз.
— Лицом в землю! — закричал Огарев.
— Никогда, — отвечал Михаил.
Двое стражников хотели было силой заставить его поклониться, но сами легли на землю, сброшенные могучей рукой Строгова.
Огарев приблизился к Михаилу.
— Сейчас ты умрешь! — сказал он.

— Я умру, — ответил Строгов, — но твое лицо предателя от этого не перестанет носить, отныне навсегда, позорное клеймо кнута!
Услышав это, Огарев страшно побледнел.
— Кто этот пленник? — спросил эмир спокойным, но от этого еще более страшным голосом.
— Русский шпион, — ответил Огарев.
Пытаясь сделать из Строгова шпиона, он знал, что приговор, вынесенный ему, будет ужасен. Михаил двинулся на Огарева, но его остановили солдаты. Эмир сделал одно движение, и вся толпа почтительно склонилась перед ним. Затем рукой указал на Коран, который ему тут же подали. Он открыл священную книгу и положил палец на одну из страниц. По мысли восточных народов, сам Аллах решал сейчас судьбу Михаила. Истолковав смысл стиха, на который указал палец, выносился приговор, каким бы он ни был.
Эмир держал палец на странице Корана. Быстро подошел Глава улемов и прочитал стих, который заканчивался словами:
И не увидит он больше земных вещей.
— Русский шпион, — сказал Феофар-Хан, — ты пришел, чтобы увидеть то, что происходит в татарском лагере! Смотри же во все свои глаза!
Глава V
Смотри во все глаза!
Михаил Строгов со связанными руками стоял теперь напротив трона эмира у основания террасы. Его мать, не выдержав мук, бессильно опустилась на землю, не в силах ни смотреть, ни слушать.
— Смотри во все глаза! Смотри же! — сказал Феофар, угрожая Михаилу. Несомненно, Огарев, зная татарские нравы, понял значение этих слов, на мгновение зловещая ухмылка появилась на его губах. Затем он сел рядом с Феофар-Ханом. Тотчас раздался зов труб. Это был сигнал к началу праздничных развлечений.
— Ну вот, начинается балет! — сказал Алсид Жоливе. — Но вопреки всем обычаям, они дают его перед драмой!
Михаилу приказали смотреть, и он смотрел.
Множество танцовщиц закружились на площадке. Различные азиатские инструменты: дудар — типа мандолины с длинным грифом из тутового дерева и двумя шелковыми струнами, кобуз — что-то похожее на виолончель со струнами из конского волоса, которые вибрируют под смычком, трубы, барабаны в соединении с гортанными голосами певцов создавали странную музыку. Сюда следует добавить и воздушный оркестр из двенадцати бумажных змеев, висевших над головами и звеневших под ветерком, как эоловы арфы.
Тотчас начались танцы. Эти танцовщицы были персиянками. И они не были рабынями, а свободно выполняли свою работу. Прежде они участвовали в официальных церемониях при Тегеранском дворе, но с возвышением на престол другой династии их изгнали оттуда, и они вынуждены были искать счастья на стороне. Одеты они были в национальные костюмы с множеством различных украшений. Маленькие золотые треугольные подвески раскачивались в ушах в такт танцу, тонкие кольца черненого серебра обвивали шеи, двойные браслеты из драгоценных камней позванивали на запястьях и лодыжках, жемчужные, бирюзовые, сердоликовые бусы, вплетенные в волосы, дрожали на концах длинных кос. Пояски, стягивающие их талии, были застегнуты блестящими пряжками, похожими на орден Почетного легиона.

Танцовщицы поодиночке и группами грациозно исполняли танцы. Свои открытые лица они время от времени прикрывали легкой вуалью, и казалось, прозрачное облако набегало на эти сияющие глаза, как легкий дымок на звездное небо. У некоторых персиянок через плечо была переброшена кожаная перевязь, расшитая жемчугом, на ней висели треугольные мешочки остриями вниз, которые в нужный момент открывали. Из мешочков, отделанных золотой филигранью, вылетали узкие длинные ленты ярко-красного шелка, на них были вышиты стихи из Корана. Эти ленты они натягивали между собой, образуя полог, и скользили под него беспрерывно друг за другом, не минуя ни одного стиха, а оттого, что они содержали, зависело и их поведение: они то падали ниц, то взлетали в легком прыжке, как будто стремились занять место среди гурий на небе у Магомета.
Но вот что удивило Алсида — эти персиянки оказались скорее томно-медлительными, чем порывистыми и горячими. Им не хватало пылкости. По танцам и по манере исполнения они напоминали скорее спокойных индианок, чем страстных египтянок.
Едва закончилось первое представление, суровый голос сказал:
— Смотри во все глаза, смотри!
Человек, который повторял слова эмира, высокий татарин, был палачом Феофар-Хана. Он стоял позади Михаила и держал в руке кривую с широким лезвием саблю из дамасской стали, закаленную известными на весь мир оружейными мастерами Карачи и Хиссара.
Рядом с ними стражники поставили треножник, на котором укрепили жаровню, — в ней бездымно тлели угли. Легкий пар вился над ней — это сжигались какие-то смолистые и ароматические смолы. А тем временем персиянок сменила группа танцовщиц, расу которых безошибочно и сразу определил Михаил. И надо думать, оба журналиста тоже, потому как Гарри сказал своему коллеге:
— Цыганки из Нижнего Новгорода!
— Они самые! — воскликнул Алсид. — Мне кажется, их глаза приносят больше денег, чем их ноги.
Предполагая, что они шпионят для эмира, Алсид не ошибался.
В первом ряду цыганок выступала Сангарра, великолепно выглядевшая в своем странном и красочном костюме, подчеркивающем ее красоту. Сама она не танцевала, но будто управляла танцовщицами, невероятные телодвижения которых заимствованы во всех странах, по которым они бродят: Богемии, Египте, Италии, Испании. Они позвякивали браслетами на руках и отбивали в такт на бубнах — другой музыки им не требовалось. Сангарра держала в руках один из бубнов, мелкой дрожью бившийся в ее руках, и возбуждала цыганок.
Тут вышел вперед цыган лет пятидесяти с дутаром в руках, который зазвучал обеими струнами, а он запел. И пока он пел, рядом стояла танцовщица и не шелохнувшись слушала, но каждый раз, когда он начинал куплет, она начинала плясать, ударяя по бубну. А едва он закончил песню, танцовщицы окружили и опутали его замысловатым узором огненной пляски.
И тут пролился золотой дождь из рук эмира и его приближенных, и звуки монет, ударяющихся о бубны, смешались с восточной музыкой.
— Расточительны, как все грабители, — шепнул на ухо своему коллеге Алсид.
Что это были наворованные, награбленные деньги, было видно, потому что вместе с азиатскими туманами, цехинами в изобилии падали дукаты и московские рубли. Когда на одно мгновение установилась тишина, голос палача, положившего руку на плечо Михаила, вновь повторил слова, которые от частого повторения приобретали все более зловещий смысл:
— Смотри во все глаза, смотри!
Но на этот раз, заметил Алсид, у палача в руках уже не было обнаженного клинка.
Солнце садилось за горизонт. На далекие равнины уже опускалась тьма. Потемнели кедры и сосны и приглушили блеск волн Томи, и в низинах закурился туман. Вот-вот и ночь должна была опуститься на плато.
Сотни рабов с зажженными факелами вступили на площадку. Увлекаемые Сангаррой, цыганки и персиянки вновь появились перед троном повелителя, показав, как различны их танцы. Неистовствовали резкие азиатские инструменты, сопровождаемые гортанными выкриками певцов. Бумажные змеи, спущенные на землю, вновь взлетели, унося за собой созвездие разноцветных фонариков, и под усиливающимся ветерком зазвучали сильнее.
С танцовщицами вдруг смешались воины, темп танца все убыстрялся, и без перехода началась джигитовка. Замелькали обнаженные сабли, раздались выстрелы из пистолетов под дробь барабанов и скрежет дутар. По китайскому обычаю, их оружие было заряжено цветным порохом и выбрасывало длинные струи красного, зеленого, голубого огня. И казалось, что люди движутся в гуще фейерверка. Это слегка напоминало военные танцы древних, когда лучшие из лучших плясали среди остроконечных шпаг и кинжалов, возможно, что эта традиция передалась и среднеазиатам. Но в татарском варианте эти танцы были еще страннее — из-за разноцветных огней, змеившихся над танцорами и танцовщицами, чьи юбки, покрытые блестками, горели тысячами огненных точек. При каждом движении их возникал целый калейдоскоп искр, и комбинации их никогда не повторялись.
Как бы ни был пресыщен разного рода эффектами парижский журналист, но и он не мог не покачать головой, а это от бульвара Монмантр до Мадлены означало: «Неплохо! Неплохо!»
Как по сигналу огни погасли, джигитовка и танцы прекратились, танцоры исчезли. Церемония закончилась, и лишь факелы освещали плато, только что залитое ярким разноцветным светом. По сигналу эмира Михаила Строгова вывели на середину площадки.
— Блаунт, — сказал Алсид своему спутнику, — вы хотите видеть конец этого человека?
— Меньше всего на свете, — ответил Гарри.
— Надеюсь, читатели «Дейли Телеграф» не падки на описание казни по-татарски?
— Не более, чем ваша кузина.
— Несчастный малый, — добавил Алсид, глядя на Михаила Строгова. — Храбрый солдат заслуживает смерти на поле битвы!
— Можем ли мы хоть как-то помочь ему спастись? — спросил Гарри.
— Ничего мы не можем.
Оба журналиста вспомнили великодушное поведение Михаила и знали, через какие испытания он должен был пройти, верный своему долгу. Чем они могли помочь ему, находясь среди татар, не знающих жалости! Не желая присутствовать при казни, уготованной этому несчастному, они вернулись в город. А через час уже ехали по Иркутскому тракту и надеялись среди русских дождаться срока, который Алсид определил как «кампанию реванша».
Тем временем Михаил стоял, свысока глядя на эмира и с презрением — на Огарева. Он ждал смерти, но не обнаруживал ни намека на слабость. Оставшиеся зрители и окружение эмира, для которых казнь была дополнительным развлечением, дожидались, чем же все это закончится. Они уже предвкушали безудержное пьянство.
Эмир подал знак, Михаил, подталкиваемый стражей, приблизился к нему, и тот сказал на татарском, который Михаил понимал:
— Ты пришел, чтобы смотреть, русский шпион. Так ты видел в последний раз. Через мгновение твои глаза навсегда закроются для света!
Не к смерти, а к слепоте был приговорен Михаил. Но утрата зрения едва ли не страшнее утраты жизни. Несчастный, он был приговорен к ослеплению!
Но, услышав приговор, Михаил не потерял выдержку. Оставаясь невозмутимым, он широко раскрытыми глазами смотрел перед собой, словно хотел вобрать последним взглядом всю эту красочную жизнь. Просить пощады у этих извергов бесполезно, да и недостойно, он даже не помышлял о том. Все его мысли сосредоточились на проваленной миссии, на матери, Наде, которых он больше не увидит. Но ни один мускул не дрогнул на его лице. И чувство мести вспыхнуло в нем с новой силой.
— Предатель, — сказал он угрюмо,т- последний гневный взгляд — тебе.
Огарев пожал плечами. Но Михаил ошибался. Его глаза угаснут навеки, глядя не на предателя. Перед ним встала Марфа Строгова.
— Матушка моя, — вскричал Михаил. — На тебя взгляну я в последний раз, а не на этого презренного негодяя! Стой здесь, не отходи. Я хочу видеть твое любимое лицо! Пусть мои глаза, закроются, глядя на тебя!
Старая женщина шла к нему, не произнося ни слова.
— Прогоните эту женщину! — приказал Огарев. Два воина оттолкнули старуху. Она попятилась, но осталась стоять в нескольких шагах от сына. Появился палач. Теперь он держал обнаженный клинок в руке, и был он раскален добела в жаровне, где пылали угли. Михаил Строгов будет ослеплен по-азиатскому обычаю раскаленным лезвием, проведенным у самых глаз.
Михаил и не пытался сопротивляться. Ничего более не оставалось в его глазах, кроме образа матери, с которой он не спускал взгляда. Вся его жизнь теперь была в этом образе.
Марфа Строгова, широко раскрыв глаза и протянув к нему руки, смотрела на него. Раскаленный клинок скользнул перед глазами Михаила. Раздался отчаянный крик, старая женщина упала бездыханной.
Михаил Строгов был слеп.
![]()
src="/i/84/551684/pict_045.png">
После приведения приговора в исполнение эмир со своей свитой удалился. На площадке остались лишь Огарев и факельщики. Негодяй, возможно, хотел еще раз оскорбить свою жертву или нанести последний удар. Он медленно подошел к Михаилу, который, почуяв его приближение, выпрямился. Огарев вытащил из кармана письмо императора, открыл его и издевательски помахал им перед потухшими глазами царского курьера:
— Читай, Михаил Строгов, читай и отправляйся в Иркутск, там ты перескажешь, что прочел! Теперь настоящий царский курьер — это Иван Огарев!
Сказав это, предатель спрятал письмо на груди. Не оглядываясь, он покинул площадь, и факельщики последовали за ним. Михаил остался в одиночестве, в нескольких шагах от безжизненной, а может быть, уж и мертвой матери.
Вдали слышались крики, песни, шум, гам, музыка — весь набор звуков ночной оргии. Томск сверкал, будто праздничный. Михаил прислушался. На площади было тихо и пустынно. Наощупь он подполз к тому месту, где лежала его мать. Нащупал ее, наклонился, приблизил лицо к ее лицу, слушал биение сердца, тихонько разговаривал с ней. Была ли она еще жива и слышала ли она то, что говорил ей сын? Но она даже не пошевелилась. Михаил поцеловал ее в лоб, в седые волосы. Затем поднялся и, нащупывая ногами дорогу, вытягивая вперед руки, мало-помалу побрел к краю площади.
Тут появилась Надя. Подбежала к нему. Ножом разрезала веревки, связывающие руки Михаила. Не видя, он не знал, кто освобождает его от пут. Надя молчала и, только развязав его, сказала:
— Брат!
— Надя! — прошептал Михаил. — Надя!
— Иди сюда, брат, — ответила она, — отныне мои глаза станут твоими, и я поведу тебя в Иркутск!
Глава VI
На тракте
Через полчаса Михаил и Надя оставили Томск. Оказалось, что в эту ночь вместе с ней убежали еще несколько пленников, воспользовавшись тем, что охранники перепились и потеряли бдительность, чего не могли позволить себе в лагере и во время перехода. Надя скоро отстала от других и вернулась на площадь в тот момент, когда Михаила подвели к эмиру.
И вместе со всеми видела, как его ослепили. Она нашла в себе силы не закричать, когда перед глазами ее друга провели раскаленным клинком. Она стояла неподвижно и молча. Провидение подсказало ей выждать, не потерять свободу, а уж потом вести сына Марфы Строговой к цели, которой он поклялся достичь. На одно мгновение замерло ее сердце, когда старая женщина упала на землю, но одна мысль влила в нее новую энергию.
«Я стану поводырем слепого!» — сказала она себе.
После ухода Огарева Надя скрылась в темноте. Дождалась, пока на площади не останется ни одного человека. Михаил был брошен, как никчемное существо, которого больше не следует бояться. Она видела, как он дополз до своей матери, наклонился над ней, поцеловал ее в лоб, поднялся и побрел на ощупь…
А несколько минут спустя они, взявшись за руки, спускались по крутому склону и, пройдя берегом реки в самый конец города, удачно покинули его через пролом в крепостной стене.
Тракт на Иркутск был единственным, ведущим на восток. Ошибка была исключена. И Надя быстро вела за собой Михаила. Надо было торопиться, ведь, возможно, завтра, закончив гульбу, воины эмира снова бросятся в степь и перережут дорогу. Важно было опередить их и попасть в Красноярск, до которого было пятьсот верст. И как можно дольше идти по тракту. Свернув с него, они попадали в неизвестность, а это означало скорую гибель.
Как могла Надя вынести усталость этой ночи с 16 на 17 августа? Где нашла силы пройти столько верст? Как несли ее ноги, кровоточащие еще с того времени, как их гнали в колонне пленных из Омска? Это было невероятно. Тем не менее на следующее утро, через двенадцать часов после ухода из Томска, она и Михаил добрались до поселка Семиловское, проделав пятьдесят верст.
Михаил молчал. Надя держала его за руку, а он ее и не выпускал всю ночь. Но благодаря ее руке, которая вела его, чуть трепеща, он шагал своей обычной упругой походкой.
Семиловское было заброшено. Жители, опасаясь татар, бежали в Енисейскую губернию. Лишь в двух-трех домах оставались люди. Все мало-мальски полезное было увезено на телегах. Но Наде необходимо было хоть несколько часов отдохнуть, а обоим им — поесть. И девушка повела своего спутника на край поселка. Там стоял пустой дом. Дверь была приоткрыта. Они вошли в него. Посреди комнаты у русской печи стояла грубо сколоченная скамья. Они сели на нее.
Надя внимательно вглядывалась в лицо слепого, так, как она еще никогда не осмеливалась это делать. И в ее взгляде было большее, чем признательность или жалость. Если бы Михаил мог ее видеть, он прочел бы в ее прекрасных опечаленных глазах выражение бесконечной преданности и нежности.
Веки слепого, покрасневшие от жара раскаленного клинка, наполовину закрывали глаза, и были они абсолютно сухие. Обычно влажные, они были слегка сморщены и как бы покрыты роговой оболочкой, зрачок странно расширен. Радужная оболочка казалась более синей, чем была раньше. Ресницы и брови немного обгорели. Но с виду его пронзительный взгляд остался та1 им же. Если его слепота была полной, то это оттого, что сетчатка глаза и его оптический нерв были выжжены раскаленной сталью.
Михаил протянул руки.
— Ты здесь, Надя? — спросил он.
— Да, — ответила девушка, — я рядом с тобой и не оставлю тебя больше никогда, Михаил.
Услышав свое имя, впервые произнесенное Надей, он вздрогнул. Он понял, что его спутница знает все: кто он, что его связывает с Марфой Строговой.
— Надя, нам нужно расстаться!
— Расстаться? Но почему, Михаил!
— Я не хочу быть препятствием на твоем пути. Твой отец ждет тебя в Иркутске. Тебе нужно добраться до него!
— Мой отец проклянет меня, если я брошу тебя после того, что ты сделал для меня!
— Надя, Надя, — ответил Михаил, сжимая ее руку в своей, — ты должна думать только о своем отце.
— Михаил, — говорила она, — ты еще больше нуждаешься во мне, чем отец! Разве ты отказываешься от мысли идти в Иркутск!
— Никогда! — закричал Михаил тоном, показывающим, что он не потерял энергии.
— Но у тебя же нет письма!..
— Это письмо у меня выкрал Огарев! Ну да я сумею обойтись без него! Они посчитали меня за шпиона! Так я и буду действовать как шпион! Я доберусь до Иркутска и сообщу все, что видел, что слышал. Клянусь тебе Богом! Предатель однажды встретится со мной лицом к лицу. Но я должен попасть в Иркутск раньше него.
— И после этого ты говоришь, что нам надо расстаться?
— Надя, эти негодяи забрали у меня все!
— У меня есть несколько рублей и мои глаза! Я буду видеть вместо тебя и вести туда, куда ты не можешь идти один.
— А как же мы будем добираться?
— Пешком.
— А на что жить?
— Побираясь.
— Пошли, Надя!
— Идем!
Молодые люди уже не называли себя братом и сестрой, но чувствовали, что беда еще теснее сплотила их. Отдохнув часок, они покинули дом. Надя, обежав улицы поселка, достала несколько кусков черного хлеба и немного меда. За это она не заплатила ни копейки, она уже начала просить милостыню.
Этот хлеб и мед немного утолили голод Михаила. Надя отдала ему почти весь хлеб. Он ел кусок за куском, которые она подавала ему, пил из дорожной фляги, которую она подносила к его губам.
— Ты сама ешь, Надя? — спрашивал он то и дело.
— Ем, Михаил, — отвечала она, подъедая то, что осталось.
Покинув Семиловское, они двинулись вновь по трудной дороге на Иркутск. Девушка стойко переносила усталость. Если бы Михаил мог видеть, насколько она утомлена, у него не хватило бы духу идти дальше.
Но Надя не жаловалась, Михаил не услышал от нее ни одного вздоха. Он шагал быстро, не останавливаясь. Зачем? Неужто он надеялся обогнать татар? У него не было лошади, не было денег, он был слепой, и если бы не Надя, ему ничего бы не оставалось, как лечь на обочину дороги и помереть. Но если бы хватило сил дойти до Красноярска, может быть, было бы не все потеряно, губернатор, которому он представится, без промедления выделил бы ему все необходимое, чтобы доехать до Иркутска.
Так Михаил шел, держа девушку за руку, мало говоря, погруженный в свои мысли. Обоим казалось, что они не нуждаются в словах, чтобы понимать друг друга. Иногда, Михаил говорил:
— Скажи мне что-нибудь, Надя.
— А зачем, Михаил? Мы думаем вместе, — отвечала она голосом, не выдававшим ее усталости. Но время от времени сердце ее обмирало, ноги подгибались, и рука тянулась за быстро шагающим Михаилом. Михаил останавливался, словно пытался сквозь темноту разглядеть бедную девушку. Его грудь вздымалась. И они снова шагали вперед.
Но не бесконечны же беды и несчастья, в этот день должно было произойти счастливое обстоятельство, избавляющее их от изнурительной усталости. Через два часа после того, как они покинули Семиловское, Михаил остановился.
— На дороге никого нет? — спросил он.
— Совсем пусто, — отвечала Надя.
— И позади не слышишь никакого шума?
— Слышу!
— Если татары, нам надо прятаться. Посмотри внимательнее!
— Подожди, Михаил! — ответила Надя и взбежала на подъем дороги, где она круто поворачивала направо.
Михаил с минуту оставался один, вовсю напрягая слух.
Надя тут же вернулась и сказала:
— Это повозка. В ней какой-то парень.
— Не один?
— Один.
Михаил заколебался. Может быть, лучше спрятаться? Или попытать счастья найти место в этой повозке если не для себя, так хоть для нее? Достаточно будет, если он уцепится за какой-нибудь выступ, ведь он еще крепко держится на ногах. Он чувствовал, что Надя за восемь дней пеших переходов совсем выбилась из сил.
И он решил ждать. Вскоре повозка появилась из-за поворота. Это была старая, разбитая кибитка, способная лишь в крайнем случае вместить трех человек. В нее можно запрягать трех лошадей, но у этой была всего одна: длинноногая, лохматая, с примесью монгольской крови, дающей ей силу и выносливость. Правил ею парень, рядом с ним сидела собака.
Надя пригляделась и увидела, что он русский и у него мягкое, спокойное лицо, внушающее доверие. Казалось, он ничуть не спешит. Он ехал тихим, размеренным шагом, чтобы зря не утомлять лошадь. Глядя на него, никто не подумал бы, что он едет по дороге, по которой в любую минуту могли промчаться татары.
Надя, не выпуская руки Михаила, посторонилась. Кибитка остановилась, ездок посмотрел на девушку и улыбнулся.
— Куда это вы направляетесь? — округлил он глаза.
Услышав этот голос, Михаил подумал, что он знаком ему. Одного голоса было достаточно, чтобы узнать ездока, и он тотчас же просиял.
— Так куда же вы идете? — повторил парень, обращаясь к Михаилу.
— В Иркутск, — ответил он.
— Батюшки-светы, разве ты не знаешь, сколько верст до Иркутска?
— Знаю.
— И ты пустился пешком?
— Как видишь.
— Ну ладно ты, а барышня!..
— Это моя сестра, — сказал Михаил, посчитав благоразумным вернуть родственные отношения.
— Ну и что из того, что сестра! Поверь, она никогда не дойдет до Иркутска!
— Друг, — ответил Михаил, подходя поближе, — нас ограбили татары, и у меня не осталось ни копейки, чтобы предложить тебе. Возьми на повозку сестру, а я пойду вслед и побегу, когда нужно, я не задержу тебя ни на час…
— Брат, — вскричала Надя, — я не хочу… не хочу! Сударь, мой брат слепой!
— Слепой! — взволнованно ответил парень.
— Татары выжгли ему глаза! — отвечала Надя, протягивая руки, словно взывая к жалости.
— Выжгли глаза? Несчастный! Я еду в Красноярск. Почему бы и тебе не сесть вместе с сестрой в кибитку? Потеснившись, мы войдем в нее втроем. Я думаю, моя собака не откажется идти за нами пешком? Только вот я не еду быстро, берегу лошадь.
— Как тебя звать, друг? — спросил Михаил.
— Николай Пигасов.
— Я никогда не забуду тебя, — ответил Михаил.

— Да, садись же, мил-человек. Твоя сестра устроится рядом с тобой в кибитке, а уж я буду править впереди, Там, внутри, есть березовые ветки и ячменная солома, можно зарыться, как в гнездо. Ну-ка, Серко, уступи место!
Собака выскочила без уговоров. Это была лайка серой масти,, среднего роста, с большой добродушной мордой, очень привязанная к своему хозяину.
Михаил и Надя устроились в кибитке. Михаил тут же протянул руки, чтобы отыскать руку Николая.
— Ты хочешь пожать мою руку? — сказал тот. — Вот она. Жми, сколько тебе хочется!
Кибитка тронулась с места. Лошадь, которую Николай ни разу не ударил кнутом, шла иноходью.
Надя была настолько измождена, что едва кибитка тронулась, ее стало укачивать, и она вскоре уснула сном, который приходит при полном упадке сил. Михаил с помощью Николая уложил ее на березовые ветки как можно удобнее. Михаил был так растроган, что если ни одна слеза не выкатилась из его глаз, то только потому, что раскаленное железо выжгло его слезы.
— Она славная, — сказал Николай.
— Да, — ответил Михаил.
— Ей хочется быть сильной и мужественной, но в сущности все они слабы. Вы идете издалека?
— Из далека-далека.
— Бедные люди. Наверное, было очень больно, когда они тебе выжигали глаза?
— Страсть как больно, — ответил Михаил, повернувшись к Николаю, словно он его мог видеть.
— Ты не плакал?
— Плакал.
— И я бы тоже плакал. Только подумаешь, что уже больше никогда не увидишь тех, кого любишь, жуть возьмет! Но может быть, они тебя видят, все какое-то утешение.
— Да, может быть. А скажи-ка мне, друг, — спросил Михаил, — ты меня раньше нигде не видел?
— Тебя? Что ты, нет, никогда.
— Дело в том, что мне знаком твой голос.
— Что ты! — улыбнулся Николай. — Это надо же, он знает мой голос! Может быть, ты спрашиваешь меня об этом, чтобы узнать, откуда я? Так я тебе скажу — из Колывани.
— Из Колывани? — переспросил Михаил. — Тогда я там тебя встречал. На телефонной станции?
— Это может быть, — отвечал Николай. — Я там и работал. Отвечал за связь.
— И оставался на посту до последней минуты?
— Так и есть, именно в этот момент мне и надо было там быть!
— В этот день англичанин и француз делили с пачками денег в руках место у второго окошка. Англичанин еще телеграфировал строфы из Библии?
— Возможно, но я этого не помню!
— Как? Ты не помнишь этого?
— А я никогда не запоминаю депеш, которые передаю. Мой долг их тут же забыть.
И этот ответ лучше некуда живописал Николая Пигасова.
Тем временем кибитка двигалась очень медленно, лошадь тащилась шагом, а Михаил страстно желал ехать быстрее. Но Николай и его конь привыкли к такому ритму и ни за что бы не отказались от него — ни тот, ни другой.
Лошадь шла часа три, потом отдыхала час — и так день и ночь. Во время остановок она паслась, а путники ели в компании верного Серко. Оказалось, что в кибитке было заготовлено провизии едва ли не на двадцать человек. И хозяин ее великодушно предоставил свои запасы гостям, которых искренне считал братом и сестрой.
Через день отдыха Надя восстановила часть сил. Николай следил, чтобы ей было как можно удобнее. Поездка была терпимой, конечно, медленной, но зато без непредвиденных остановок. Случалось, среди ночи Николай, управляя повозкой, засыпал и начинал храпеть так уверенно, что становилось ясно: совесть его чиста, и тогда рука Михаила нащупывала вожжи, понукала, и лошадь бежала быстрее, к большому удивлению Серко, который тем не менее молчал. С рыси лошадь переходила на иноходь, только когда просыпался хозяин, но за это время они выигрывали несколько верст.
Таким образом они переехали через реку Мару, поселки Мариинск, Богостольское и, наконец, небольшую речку Чула, отделяющую Западную Сибирь от Восточной. Дорога то шла по песчаным степям и кругом было видно на много верст, то уходила в непроходимую тайгу, из которой, казалось, никогда не выбраться. Везде было пустынно. Деревни как вымерли. Крестьяне ушли на ту сторону Енисея, полагая, что эта широкая река может остановить татар.
22 августа кибитка въехала в Ачинск, что в 380 верстах от Томска. До Красноярска оставалось еще 120 верст. За все это время с ними не случилось ни единого происшествия. В течение шести дней, что они были вместе, Николай, Михаил и Надя оставались прежними: один — погруженный в свое непоколебимое спокойствие, двое других — обеспокоенные тем, что с ними будет, когда они расстанутся.
Михаил видел край, по которому они ехали, глазами Николая и Нади. Они по очереди описывали ему места, где проезжала их кибитка. Рос ли здесь лес или лежала равнина, стояла ли хижина в степи, появился ли кто на горизонте. Николай был неистощимый рассказчик. Он любил беседовать, и как бы он ни смотрел на вещи, его любили слушать.
Как-то Михаил спросил у него, какая сегодня погода.
— Пока теплая, — отвечал он, — но это последние погожие деньки. Осень у нас короткая, и скоро придут первые холода. Может быть, они заставят татар стать на постой?
Михаил с сомнением покачал головой.
— Ты не веришь в это? — спросил Николай. — Думаешь, они отправятся на Иркутск?
— Боюсь, что это так, — ответил Михаил.
— Да… ты прав. У них есть плохой человек, он не даст им остыть по дороге. Ты слышал что-нибудь об Иване Огареве?
— Да.
— Это подло — предавать свою страну!
— Да… подло, — отвечал Михаил, стараясь выглядеть безучастным.
— Слушай, — вновь начал Николай, — мне кажется, тебя не очень возмущает, когда при тебе говорят об Огареве, тогда как каждое русское сердце должно обливаться кровью при одном его имени.
— Поверь мне, друг, я ненавижу его больше, чем ты когда-нибудь сможешь это сделать, — сказал Михаил.
— Ну, это невозможно, — отвечал Николай, — нет, совершенно невозможно! Когда я думаю об Огареве, о той беде, которую он принес святой России, меня охватывает злоба, и если бы он только попал в мои руки…
— И что, если бы он был в твоих руках?..
— Думаю, я убил бы его.
— А я в этом уверен, — спокойно ответил Михаил.
Глава VII
Переправа через Енисей
25 августа, ночью, кибитка приближалась к Красноярску. Путешествие от Томска заняло восемь дней. Можно было бы доехать и быстрее, но Николай мало спал, поэтому нельзя было ускорить темп, но будь лошадь в других руках, понадобилось бы всего часов шестьдесят на этот путь.
К счастью, о татарах еще ничего не было слышно. Ни один их разведчик не появлялся на дороге, по которой следовала кибитка. Это казалось необъяснимым, но, очевидно, какое-то важное обстоятельство помешало войскам эмира без промедления направиться на Иркутск.
Такое обстоятельство действительно имело место. Еще один русский корпус, наскоро собранный в Енисейской губернии, выступил на Томск. Но взять город нечего было и думать, и, не имея достаточно сил, корпус отступил. Феофар-Хан собрал под свои знамена двести пятьдесят тысяч человек, столько русское правительство еще не могло ему противопоставить. Казалось, нашествие остановить невозможно, и оно тотчас же покатится на Иркутск.
— Что же, все в городе уснули? Ни один звук не долетает до моего слуха!
— И ни один огонек не светится в темноте, ни один дымок не вьется над трубами, — добавила Надя.
— Странный город! — сказал Николай. — В нем не шумят, видно, рано ложатся спать!
Михаила охватило недоброе предчувствие. Он не говорил Наде, что связывал с Красноярском столько надежд, что здесь он рассчитывал найти средства для дальнейшей поездки. Он так не хотел, чтобы эта надежда рассыпалась в прах. Надя догадывалась о его мыслях, хотя никак не могла взять в толк, почему ее попутчик так спешит в Иркутск, когда у него нет при себе царского письма. Она пыталась выведать об этом у него:
— Я дал клятву добраться до Иркутска, — только и всего сказал он ей.
Но выполнить государево задание было немыслимо без упряжки горячих лошадей, запряженных в легкую повозку.
— Ну и чего же мы стоим? — спросил Михаил Николая.
— Боюсь разбудить жителей города шумом колес своей кибитки!
И легким ударом кнута Николай стронул лошадь с места. Серко залаял, кибитка медленно покатилась по дороге, ведущей в Красноярск и через минуту выкатилась на широкую улицу. Красноярск был пуст. В этих «Северных Афинах», как назвала город мадам де Бурбулон, не было ни одного «афинянина». Ни один экипаж не пролетал по мостовой. Ни один прохожий не шел по тротуарам вдоль величественных деревянных и каменных зданий. Ни одна элегантная сибирячка, одетая по последней французской моде, не прогуливалась в прекрасном березовом парке, спускающемся до берега Енисея. Молчал большой колокол собора, не слышался перезвон церквей — а какой русский город без малинового звона! В городе царила заброшенность и пустота. Хоть бы одна живая душа показалась на глаза в еще недавно таком оживленном Красноярске.
Они не могли знать, что до того, как была прервана телеграфная связь, сюда была направлена правительственная телеграмма, в которой содержался приказ градоначальнику, гарнизону, всем жителям покинуть город, захватив с собой все ценное или все то, что могло пригодиться татарам, и укрыться в Иркутске. Это приказание касалось и жителей всех деревень и поселков. Захватчикам должна была достаться пустыня.
Приказы не обсуждались, и они были выполнены, без рассуждения, вот почему в Красноярске нельзя было найти ни одной живой души.
Михаил, Надя и Николай, оцепенев от изумления, ехали по улицам. Во всем городе стучала колесами одна их кибитка. Михаил не выказывал своих чувств, но внутри клокотал от ярости, направленной на тех, кто породил это несчастье — в какой раз его надежды не оправдались!
— Бог ты мой! — воскликнул Николай. — Кто же мне станет платить в этом мертвом городе!
— Что же делать, — сказала Надя, — поедем с нами в Иркутск!
— Ничего не остается, — отвечал Николай. — Надеюсь, что связь между Удинском и Иркутском работает. Так едем, сударь?
— Переждем до завтра, — ответил Михаил.
— Твоя правда, — согласился Николай. — Ведь нам предстоит переправа через Енисей, а как это сделать, надо еще посмотреть…
— Посмотреть, — прошептала Надя, думая о своем слепом спутнике.
Николай услышал ее и, повернувшись к Михаилу, сказал:
— Прости, сударь. Забыл, что для тебя и ночь и день едины.
— Не упрекай себя, друг, — ответил Михаил и провел рукой по глазам. — Пока ты у меня проводником, мне нечего бояться. Отдохни, и пусть Надя отдохнет. Будет день, и будет пища!
Им не требовалось много времени, чтобы найти себе кров. Первый же дом, в двери которого они толкнулись, оказался пуст, что и следовало предполагать. Но в кладовой нашлось несколько охапок березовых веников, сгодившихся на корм лошади. Провизия в кибитке еще оставалась, и каждый получил свою долю сполна. Преклонив колени перед скромным образом Богоматери, освещенным тусклым догоравшим огоньком лампады, Надя и Николай заснули. А Михаил бодрствовал, сон никак не шел к нему.
На следующий день, 26 августа, еще до зари, запряженная кибитка проехала березовым парком на берег Енисея. Михаил был озабочен. Как переправиться через реку, если все лодки и паромы разрушены? А он хорошо знал Енисей, не раз переправляясь через него. Знал все его коварство: бурное течение, опасное двойное русло между островами, наконец необыкновенную ширину. На подготовленном пароме, специально оборудованном для перевозки людей, лошадей и повозок, переправа через реку занимала не менее трех часов и то он утыкался в правый берег с большими трудностями. А как переправить туда кибитку, когда под рукой нет даже бревна?
— И все-таки переправимся! — сказал Михаил.
День только-только занимался, когда они прибыли на берег, куда их привела одна из больших аллей парка. Берег был в добрую сотню футов высотой, и Енисей просматривался на большое расстояние.
— Не видно ли парома? — спросил Михаил, жадно вглядываясь то в одну, то в другую сторону скорее по привычке, чем из-за надобности.
— Чуть рассвело, — отвечала Надя. — Туман еще не рассеялся и скрывает реку.
— Но я слышу, как она ревет!
В самом деле, под толстым слоем тумана слышалось глухое ворчание — это с шумом сталкивались быстрые струи. Вода сильно прибыла и текла стремительно и грозно. Втроем они с волнением слушали ее рев и ждали, когда поднимется завеса тумана. Солнце уже поднималось над горизонтом, и его первые лучи вот-вот очистят реку.
— Ну как? — спросил Михаил.
— Туман поднимается, брат, — ответила Надя, — становится светлее.
— Ты еще не видишь волн, сестра?
— Нет еще.
— Подождать надо немного, — сказал Николай. — Туман скоро растает. Вот и ветер кстати! Он разгонит его. Уже видны сосны на скалистых горах напротив, на том берегу. Как быстро он улетучивается! Спасибо солнцу! Ах, как это красиво, бедный ты мой слепой, как плохо, что ты не можешь с нами видеть это чудо!
— А видно ли какое-нибудь судно? — спросил Михаил.
— Ни одного, — ответил Николай.
— Посмотри хорошенько, мой друг, и на этом и на том берегу, насколько хватит глаз! Паром, плоскодонка, плот, хоть что-нибудь!
Николай и Надя, уцепившись за березы, растущие на самом краю, жадно вглядывались в реку. Огромное пространство открылось их взору. Енисей в этом месте разливался на полторы версты и распадался на два рукава, но в обоих вода неслась с безумной скоростью. Между этими рукавами были разбросаны острова, заросшие ольхой, ивой, диким тополем, издали они казались зелеными кораблями, ставшими на якорь посреди реки. На том берегу громоздились таежные горы, на вершинах которых высились могучие лиственницы и сосны, их верхушки уже позолотило солнце. Что вверх, что вниз по течению Енисей был необозрим.
Но ни одной лодки ни на берегу, ни на островах! Все они или были угнаны или сожжены по приказу. Если татарам не удастся привезти с собой необходимых материалов для постройки понтонного моста, их поход на Иркутск будет остановлен на какое-то время Енисеем.
— Я помню, — сказал Михаил, — что выше, на окраине Красноярска, есть небольшой порт для отправки грузов. Именно там причаливают все паромы. Друг, поднимись выше по берегу и глянь, нет ли там какой-нибудь заброшенной лодки.
Николай направился туда. Надя взяла Михаила за руку и быстрым шагом повела следом. Они были согласны на любую плоскодонку, куда вошла бы кибитка, а если нет, то хотя бы ее пассажиры. Минут через двадцать все трое дошагали до маленького порта, приземистые дома которого осели от ветхости. Это была по сути деревенька близ города. Но и здесь на песчаном берегу не было ни одной лодки, ни одной плоскодонки на пристани, и никаких бревен или досок, чтобы сколотить плот на трех человек.
Михаил спросил Николая, что тот думает делать, и получил обескураживающий ответ — переправа через реку ему кажется невозможной.
— Переправимся! — твердо сказал Михаил.
Поиски продолжались. Они уже обыскали несколько домов, стоящих у самой воды и брошенных, как и весь Красноярск. Что им оставалось делать, как не открывать двери в эти бедные лачуги. Все они были пусты.
Николай заходил в один дом, Надя в другой. Сам Михаил не пропускал ни один из них и в каждом на ощупь пытался распознать предметы, которые могли им пригодиться.
Николай и девушка напрасно рылись в лачугах и собрались было бросить поиски, как услышали, что Михаил зовет их и бросились бежать к нему по песчаному берегу. Михаил сидел на пороге одной из изб.
— Идите сюда! — кричал он.
Надя и Николай вслед за ним вошли в избу.
— Что это? — спросил Михаил, ощупывая кучу каких-то предметов.
— Бурдюки, — отвечал Николай, — и здесь их, по-правде сказать, с полдюжины!
— Полные?..
— Под завязку налиты кумысом, и это кстати, разнообразит нашу еду!
Кумыс — напиток, изготавливаемый из молока кобылиц или верблюдиц — тонизирует, укрепляет и даже пьянит, как Николаю было не радоваться такой находке.
— Отложи один бурдюк в сторону, — сказал Михаил, — и опорожни остальные.
— Сию минуту, сударь.
— Вот на чем мы переплывем Енисей.
— А плот?
— Кибитка станет нам плотом, она легка и может плыть. Но ее и лошадь мы поддержим этими бурдюками.
— Ловко придумано! — воскликнул Николай. — С Божьей помощью мы благополучно доплывем… может быть, не по прямой, течение-то быстрое.
— Не все ли равно! — ответил Михаил. — Сначала переправимся, а потом разберемся и сумеем найти дорогу на Иркутск.
— Так за работу, — сказал Николай и начал выливать из бурдюков кумыс и носить их к кибитке.
Лишь один полный бурдюк был оставлен про запас, остальные накачаны воздухом и тщательно связаны, превратившись таким образом в понтоны. Два бурдюка, привязанных по бокам лошади, помогут ей преодолеть течение. Два других, прикрепленных между колесами, у оглоблей, должны были нести кузов кибитки, ставшей теперь плотом. Вскоре работа была завершена.
— Не испугаешься, Надя? — спросил Михаил.
— Нет, брат, — отвечала та.
— А ты, друг?
— А чего я! — воскликнул Николай. — Наконец-то осуществится моя мечта поплавать в кибитке!
Берег в этом месте был покатым и удобным для спуска кибитки в воду. Лошадь ступила в реку и вскоре поплыла, а за ней закачался на волнах необычный ковчег. Рядом храбро плыл Серко. Путники, стоя в кузове, разулись, но вода не доходила и до щиколоток.
Михаил держал вожжи и по указаниям Николая правил очень осторожно, чтобы кибитку не захлестнуло течение. Пока они двигались по течению все было хорошо. Скоро мимо проплыла набережная Красноярска и стало очевидным, что их вынесет гораздо ниже, чем они предполагали. Но это было не столь важно.
Переправа могла, пройти совсем удачно, если бы течение везде было таким ровным. Но, к несчастью, го тут, то там возникали бурные водовороты, и кибитка, несмотря на все старания Михаила пройти мимо, втянулась в одну из огромных воронок.
Опасность резко увеличилась. Кибитка не плыла к противоположному берегу, не дрейфовала, она быстро кружилась, наклоняясь к ее центру, подобно наезднику на скаковом кругу в цирке. Лошадь с трудом держала голову над водой и могла задохнуться. Серко вцепился в кибитку.
Михаил понял, что происходит, — их несло по спирали, которая суживалась книзу и из которой нельзя выбраться. Он молчал. Его глаза хотели бы видеть опасность, чтобы решить, как избежать ее…
Надя тоже не проронила ни словечка. Ее руки вцепились в борт повозки, которая, вихляясь, все больше и больше клонилась к центру водоворота. Понимал ли всю серьезность положения Николай? Во всяком случае его улыбающееся лицо не изменилось. Было ли это хладнокровие или презрение к опасности, мужество или безразличие? Жизнь, по восточной мудрости, «гостиница на пять дней, а на шестой ее поневоле приходится покинуть».
Кибитка кружилась, лошадь выбивалась из сил. И тут Михаил неожиданно сбросил одежду и бросился в воду, схватил сильной рукой лошадь за узду и резко осадил. Это позволило ей вырваться из губительного плена воронки, и подхваченная течением, кибитка вновь быстро поплыла.

— Ура! — закричал Николай.
Только спустя два часа после отплытия кибитка пересекла широкий рукав реки и пристала к одному из островов, в шести верстах ниже. Пошатываясь, лошадь выволокла кибитку на берег и целый час отдыхала. Проехав по острову под березами, путники оказались на берегу малого рукава Енисея.
Эта переправа оказалась куда легче. Ни одна воронка не встретилась им на пути, но течение было столь быстрым, что кибитку снесло еще на пять верст вниз по течению. Одиннадцать верст несло их по могучей реке!
Огромные реки Сибири, через которые не переброшен еще ни один мост, — серьезные испытания для путешественников. Для Михаила Строгова каждая такая река была более или менее роковой. На Иртыше на их паром напали татары. На Оби, после того как в его лошадь попала пуля, он лишь чудом спасся от преследователей. Переправу через Енисей, пожалуй, следовало считать удачнее других.
— Это было бы забавно, — воскликнул Николай, потирая руки, когда они причалили на правом берегу, — если бы не было так трудно!
— То, что для нас было трудно, мой друг, — ответил Михаил, —может быть, станет невозможным для татар!
Глава VIII
Заяц, перебежавший дорогу
Михаил Строгов наконец-то поверил, что дорога на Иркутск свободна. Он сумел опередить татар, задержавшихся в Томске, а когда солдаты эмира прибудут в Красноярск, то увидят мертвый город и не найдут подручных средств для переправы. Значит, потратят еще некоторое время, чтобы построить понтонный мост, а это не так-то просто.
Впервые после той роковой встречи с Огаревым в Омске царский курьер почувствовал себя спокойнее и мог надеяться, что на его пути не возникнет новых препятствий. На своей кибитке они наискосок проехали пятнадцать верст в юго-восточном направлении и выехали на степную дорогу.
Тракт между Красноярском и Иркутском считался лучшим на всем протяжении пути по сибирским землям. Мало ухабов, густые леса, которые защищают от палящего солнца, сосняки и кедрачи, тянущиеся на сотни верст. Это вам не безбрежная степь, где горизонт сливается с небом.
Но и этот богатый край был пуст. Повсюду виднелись покинутые деревни. Не видно было крестьян, чаще всего выходцев из славян. Это была земля, вымершая по приказу.
Погода стояла солнечная, но воздух, остывая ночами, согревался медленно. Приближались первые дни сентября, в это время дни здесь становятся заметно короче. Осень тут короткая, хотя эта местность и расположена по карте не выше 55-й параллели, на которой значатся Эдинбург и Копенгаген. Бывает, что зима наступает внезапно и почти без перехода. Трудно представить, какими бывают зимы в этой части России, когда температура опускается до точки замерзания ртути, а вполне терпимой считается температура в 20 градусов Цельсия ниже нуля!
Погода благоприятствовала путешественникам. Дождей не было. Стояло тепло. Ночи свежие, но не холодные. Здоровье Михаила и Нади поправилось после того, как они покинули Томск, постепенно отстали и треволнения. Николай же еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Для него эта поездка была едва ли не приятной прогулкой, на которую он потратил свои вынужденные каникулы.
— Определенно, — говорил он, — это гораздо лучше, чем сидеть на стуле по двенадцать часов в день, стуча телеграфным ключом.
Михаил все же сумел убедить его ехать побыстрее. Для этого пришлось доверительно рассказать Николаю, что Надя и он едут к отцу, сосланному в Сибирь, и очень торопятся. Жалко было загонять лошадь, да и вряд ли где они отыщут другую, но, останавливаясь почаще — например, через каждые пятнадцать верст, — можно свободно проезжать в сутки по шестьдесят верст. Впрочем, эта порода лошадей вынослива.
Вдоль всей дороги лежали тучные пастбища, некошеная сочная трава росла в изобилии, а обилие корма предполагало потребовать от лошади прибавки в работе. Эти доводы убедили Николая, он проникся еще большим сочувствием к молодым людям, едущим разделить ссылку своего отца. Что может быть более трогательно, считал он, поэтому с блаженной улыбкой говорил Наде:
— Боже мой! Какую радость испытает господин Корпанов, когда увидит вас, когда его руки обнимут вас! Если я доберусь до Иркутска — а это мне кажется теперь вероятным, — вы позволите мне присутствовать при вашей встрече, не так ли?
И, хлопнув себя по лбу ладонью, добавил:
— Как я забыл, какую боль он испытает, когда узнает, что его бедный сын ослеп! Ах, все смешалось в этом мире!
Словом, кибитка ехала быстрее и, по подсчетам Михаила, делала не менее десяти-двенадцати верст в час. Уже 28 августа они проехали поселок Балайск, что в восьмидесяти верстах от Красноярска, а на следующий день — Рыбинск, отстоящий от Балайска на сорок верст. Еще через день, проехав тридцать пять верст, прибыли в Канск.
Это небольшой город. Деревянные дома в нем стояли вокруг площади, над которой высилась колокольня собора. Сверкали на солнце позолоченные кресты.
И здесь та же картина: покинутые дома, пустая церковь. Ни одной почтовой станции, ни одного постоялого двора, где бы приняли путника. Ни единой лошади в конюшнях, ни единой овцы в степи. Правительственный приказ был выполнен строжайшим образом. То, что нельзя было увезти, было уничтожено.
Въезжая в Канск, Михаил сообщил Наде и Николаю, что теперь до Иркутска они увидят только один значительный город — Нижнеудинск. Николай ответил, что он знает его, тем более что там есть телеграфная станция. И если тот покинут так же, как и Канск, ему ничего не останется, как искать себе работу в столице Восточной Сибири.
Кибитка переехала вброд и без особого труда маленькую речку, перерезающую дорогу сразу за Канском. Между Енисеем и Ангарой, одним из крупнейших его притоков, не встретится больше на их пути водных преград. Значит, задержек по дороге не будет.
От Канска до следующего поселка расстояние было большим, почти 130 верст. Но остановки на отдых скрупулезно соблюдались. «Без этого, — говаривал Николай, — мы навлекли бы на себя справедливый гнев нашей лошади!» С терпеливым животным было заключено негласное соглашение, что она будет отдыхать каждые пятнадцать верст. А когда о чем-то договариваешься, пусть даже с животным, требуется соблюдение условий договора.
Переправившись через Бирюсу, путешественники в четыре часа прибыли в Бирюсинск. Здесь, на их счастье, Николай в печи заброшенной избы нашел дюжину пирогов с начинкой из риса и бараньим Жиром — их съестные припасы таяли на глазах. Это была хорошая прибавка к найденному в Красноярске кумысу.
После обеда они снова отправились в путь. До Иркутска оставалось не более пятисот верст. Ничто не предвещало, что их настигают татары, и Михаил справедливо полагал, что дней через восемь, самое большое десять он предстанет перед Великим князем.
Но при выезде из Бирюсинска внезапно перебежал дорогу, шагах в тридцати от кибитки, заяц.
Николай охнул.
— Что с тобой? — быстро спросил Михаил, как сделал бы каждый слепой, которого настораживает любой звук.
— Ты не заметил?.. — спросил Николай, и его всегда улыбающееся лицо омрачилось. — Ах, ты же не мог этого видеть, к своему счастью.
— И я ничего не видела, — сказала Надя.
— Тем лучше, тем лучше. Но я-то… я видел!
— Да что же ты видел? — спросил Михаил.
— Заяц только что перебежал нам дорогу!
В России существует поверье, что если заяц пересекает тебе дорогу — это верный признак скорого несчастья. Николай, суеверный, как и большинство русских, остановился. Михаил понимал его сомнения, хотя не разделял эту легковерность и решил подбодрить его:
— Тебе нечего бояться, — сказал он ему.
— Нечего бояться тебе и ей, я это знаю, а вот для меня это страшно!
И чуть погодя продолжил:
— Видать, это судьба моя!
И пустил лошадь рысью. Однако вопреки примете день прошел удачно.
На другой день, 6 сентября, в полдень, кибитка остановилась в поселке Алсалевск, таком же пустынном, как и все другие. Здесь на крыльце одного дома. Надя нашла два ножа с широкими лезвиями, которыми пользуются сибирские охотники. Один она отдала Михаилу, второй оставила себе. До Нижнеудинска оставалось не более 75 верст.
Николай за это время так и не смог прийти в себя. Плохое предзнаменование омрачило его обычно хорошее настроение и подействовало на него сильнее, чем можно было предполагать. Он, не умеющий молчать более часа, теперь с трудом выдавливал из себя лишнее словечко.
От Екатеринбурга иркутский тракт идет почти параллельно 55-му градусу широты, но при выходе из Бирюсинска он резко поворачивает на юго-восток, так что пересекает сотый меридиан и идет кратчайшим путем до Иркутска, преодолевая отроги Саянских гор.
Кибитка мчалась по дороге! Именно мчалась, потому что Николай и не думал больше беречь лошадей, он тоже торопился доехать. Покорность судьбе покорностью, но в безопасности он почувствует себя только за стенами Иркутска. Многие русские поступили бы так же, а некоторые и вовсе развернули бы свою лошадь и вернулись назад, если заяц перебежал дорогу.
Но похоже было, что их испытания еще не кончились. Если пока на всем пути они не видели и следа человека, то теперь вдруг стали попадаться в лесу кострища, порубки топорами, а сочные луга у дороги были опустошены — было очевидно,- что здесь прошло какое-то войско.
В тридцати верстах от Нижнеудинска появились первые признаки, доказывающие, что здесь прошли татары. Тут уже попадались не только вытоптанные лошадьми поля, порубленные леса. Придорожные избы были не только пусты и разрушены, но и частично сожжены. На стенах были видны следы пуль.
Понятны тревоги Михаила. Больше нельзя уже было сомневаться, что какая-то часть татар прошла этой дорогой. Это не могли быть воины эмира, они не обгоняли их по дороге. Но кто же были они, эти новые завоеватели, и каким окольным путем вышли на Иркутский тракт? С каким новым врагом столкнется еще царский курьер?
Михаил не говорил спутникам о своих тревогах, не желая их лишний раз беспокоить, и решил идти до конца, пока их не остановит уж вовсе непреодолимое препятствие. А там он разберется.
На другой день следы войска стали заметнее. На горизонте поднялись дымы от пожарищ. Кибитка теперь двигалась очень осторожно. Некоторые дома в покинутых деревнях еще догорали, а это значило, что прошло не более суток, как они были подожжены. Днем, 8 сентября, кибитка внезапно остановилась на полдороге, лошадь ни в какую не желала идти вперед. Жалобно взвыл Серко.
— Что случилось? — спросил Михаил.
— Труп, — ответил Николай и выскочил из кибитки.
Это был уже застывший труп страшно изуродованного мужика. Николай перекрестился. Вдвоем с Михаилом они перенесли его на обочину дороги. Николай хотел выкопать могилу и похоронить человека, чтобы хищники не терзали останки мученика, но Михаил не позволил это сделать.
— Едем, друг, едем! — воскликнул он. — Мы не можем задерживаться даже на час!
И они продолжили путь. Впрочем, если бы Николай захотел отдавать последний долг всем мертвым, которых они станут встречать на тракте, у него не хватило бы на то ни времени, ни сил. Уже на подступах к Нижнеудинску по обе стороны дороги лежало двадцать мертвецов;
Однако ничего не оставалось делать, как продвигаться дальше. Опустошения и развалины преследовали их в каждой деревне, и их становилось все больше. Все эти деревни, основанные переселенцами, были подвергнуты грабежу и преданы огню. На жертвах еще не запеклась кровь. Но нельзя
было узнать что же произошло здесь. Ни одного живого свидетеля ужасных событий!
Около четырех часов того же дня Николай указал на появившиеся на горизонте высокие колокольни церквей., Они были окутаны клубами, которые никак нельзя было принять за облака.
Нижнеудинск. Николай и Надя разглядывали его издали и сообщали свои наблюдения Михаилу. Надо было принимать решение. Можно было проехать через него, если город покинут, но если татары еще там, то лучше искать пути объезда.
— Поехали осторожно вперед! — сказал Михаил.
Так они продвинулись еще на одну версту.
— Да это не облака, а дым! — воскликнула Надя. — Брат, город горит!
Это было очевидно. Копоть и сажа летели среди белого дыма. Он становился все гуще и все выше вздымался в небо. Но ни одного беглеца не попалось им на пути. Вероятнее всего, татары нашли этот город уже пустым и сожгли его. Но так ли это? А может быть, это русские выполнили высочайший указ? Может быть царское правительство решило не оставить захватчикам ни один город, ни одну деревню от Красноярска до Иркутска целыми и тем лишить пристанища солдат эмира? Что было делать в такой обстановке: остановиться или двигаться дальше?
Михаил растерялся. Взвесив все за и против, он подумал, что лучше поехать по бездорожью, испытывая все его тяготы, чем рисковать еще раз оказаться в руках татар. И собирался предложить Николаю объехать Нижнеудинск. Но тут грянул выстрел, просвистела пуля и попала лошади в голову. Лошадь упала замертво.
В тот же миг дюжина всадников вылетела на дорогу из леса и окружила кибитку. Ни Михаил, ни Надя, ни Николай даже не успели растеряться, как были пленены.
Михаил не потерял хладнокровия, но, не видя врагов, он не собирался защищаться. Да даже если бы и видел, не стал бы этого делать. Это означало верную смерть. Но он мог слушать, что творилось вокруг, и понимать разговоры. По говору он тут же понял, что перед ним татары, а из обрывков фраз понял, что они идут впереди татарской армии. Это все, что покуда удалось вызнать Михаилу.
Эти воины непосредственно не подчинялись эмиру, задержавшемуся за Енисеем. Они входили в третий поток завоевателей, состоявший в основном из уроженцев Кокандского и Кундузского ханств, с которыми армия Феофара должна была в скором времени встретиться в окрестностях Иркутска.
Эта колонна захватчиков была создана по совету Огарева, чтобы обеспечить скорейший успех в восточных провинциях Сибири и, перейдя границу Семипалатинской губернии южнее озера Балхаш, прошла у подножия Алтайских гор. Грабя и сжигая все на своем пути, войско достигло верховьев Енисея. Предупреждая приказ русского царя и чтобы пресечь то, что было уже сделано в Красноярске, Кундузский хан, командующий этим войском, собрал у жителей все лодки и отправил эту флотилию по Енисею, чтобы воины Феофара использовали их для переправы через реку.
Затем войско, обогнув горные отроги, спустилось по долине Енисея, и вышло на тракт возле Алсалевска. Начиная с этого городка, потянулась ужасная цепь развалин и пожарищ. Нижнеудинск не избежал подобной участи, и сейчас пятьдесят тысяч татар уже оставили его догорать, торопясь занять позиции на подступах к Иркутску. И там уже дожидаться подхода основных сил эмира.
Таково было положение в этой далекой части России, теперь уже полностью отрезанной, очень опасное для ее малочисленных защитников.
Михаил получил важную информацию: к окрестностям Иркутска подошло третье войско татар, и там они дожидаются соединения с армиями Феофар-Хана и Ивана Огарева. Следовательно, окружение Иркутска и его сдача — дело времени. Можно понять, какие мысли терзали Михаила. Неудивительно было бы, если бы в этой ситуации он растерялся и потерял всякое мужество и всякую надежду. Однако этого не случилось, и он только одно произнес шепотом: «Я доберусь!»
Через полчаса их привезли в Нижнеудинск. Верный пес бежал следом, но держался на расстоянии. Похоже было, что их не оставят в городе, который пылал и из которого спешно уходили последние мародеры. И верно — пленников опять посадили в седла и повезли. Покорного всему Николая, не утратившую веры в Михаила Надю и его самого, безразличного с виду, но готового воспользоваться любой оплошностью конвоиров.
Татары не могли не заметить, что один из пленников — слепой и тут же, по врожденной жестокости, превратили его в игрушку. Скакали быстро. Конь Михаила мчался как попало, дергаясь то влево, то вправо, внося беспорядок в скачку. В его адрес летели оскорбления, проклятья, его стегали плетьми — это разрывало сердце девушки и возмущало Николая. Но что они могли поделать? Заступиться за несчастного они не имели возможности, кричать было бесполезно.
Вскоре кому-то из солдат пришла в голову изощренная, чисто по-варварски, мысль заменить коня, на котором скакал Михаил, на слепую лошадь. И родилась она после того, как один из татар заметил, и это замечание услышал Михаил:
— А может быть, этот русский видит?
Это случилось верстах в шестидесяти от Нижнеудинска, между деревнями Татан и Шибарлинское. Михаила усадили на слепую лошадь, вручили поводья, и ожегши ее плетьми, кидая в нее камни, пустили в галоп. Слепой всадник не мог удерживать слепую лошадь на дороге, и она то налетала на какое-нибудь дерево, то сбегала на обочину. Падала вместе с ездоком, и оба они рисковали сломать себе шеи. Михаил не протестовал и не жаловался, а терпеливо дожидался, когда поднимут лошадь. Ее поднимали, и жестокая игра продолжалась.
Николай не сдержался и бросился было на помощь. Но с ним тут же расправились. Эта игра еще долго бы продолжалась, к великому удовольствию татар, если бы ей не положило конец серьезное происшествие. Слепая лошадь вдруг дернулась и понесла Михаила прямо в глубокий овраг, тянущийся подле дороги. Николай попытался догнать ее, но его остановили. А неуправляемая лошадь полетела прямо в огромную яму.

Надя и Николай закричали от ужаса. Они подумали, что их товарищ разбился. Но он успел выпрыгнуть из седла, и когда его подняли, на нем не обнаружили ни единой раны. Зато у несчастной лошади были переломаны ноги. Не дорезав, ее бросили там подыхать, а Михаила привязали к седлу татарина и заставили идти пешком. И снова от него не услышали ни жалобы, ни возмущения. Он шел быстро, слегка поддергиваемый веревкой, которой был привязан к седлу. Это был все тот же «железный человек», как говорил о нем царю генерал Кисов.
На следующий день, 11 сентября, отряд проезжал Шибарлинское. Наступила ночь. Татары сделали остановку, перекусили и основательно выпили. И уже собирались ехать дальше. Но тут к Наде, которую каким-то чудом никто не трогал, пристал солдат. Михаил не видел, как это случилось, но Николай заметил. Спокойно, а может быть, не осознавая своего поступка, он подошел прямо к нему, и прежде чем тот сделал хотя бы одно движение, выхватил из седельной кобуры пистолет и разрядил тому прямо в грудь.
Офицер сразу же прибежал на выстрел и успел остановить солдат, готовых изрубить Николая. По его приказу Николая связали, бросили поперек коня, и отряд поскакал галопом.
За время остановки Михаил перегрыз веревку, и когда лошадь резко дернулась, она порвалась, а ее полупьяный всадник даже не заметил этого. Михаил и Надя, которую татары бросили, остались на дороге одни.
Глава IX
В степи
Теперь Михаил и Надя опять оказались на свободе, почти так же, как в то время, когда ехали от Перми до Иртыша. Но какая разительная перемена! Тогда они летели на комфортабельном тарантасе, постоянно меняя упряжки, отдыхали на почтовых станциях. Теперь остались пешими, без средств, не имея возможности достать лошадь, без пищи, а им предстояло пройти еще четыре сотни верст. И к тому же Михаила вели глаза Нади!
И самое печальное, они потеряли друга, которого им даровал случай, при самых роковых обстоятельствах. Михаил бросился ничком на обочину дороги. Надя стояла и ждала, когда он встанет, чтобы снова идти вперед.
Было десять часов вечера. Уже три с половиной часа, как солнце село за горизонт. И ни единой избы, никакой лачуги не видно вокруг. Татары давно скрылись вдали. Михаил и Надя были одни.
— Что они сделают с нашим другом? — вырвалось у девушки. — Бедный Николай! Встреча с нами была для него гибельной.
Михаил молчал.
— Михаил, — снова начала Надя, — знал бы ты, как он тебя защищал, когда над тобой издевались татары, что он жизнью рисковал из-за меня!
Из Михаила нельзя было вытянуть ни слова. Неподвижно лежал, уткнув лицо в руки, и о чем-то думал. Да слышал ли он, что ему говорила девушка? Наверняка слышал, потому что, как только она спросила:
— Куда мне тебя вести?
Он ответил:
— В Иркутск.
— По тракту?
— Да, Надя.
Михаил не изменял себе. Идти по тракту значило стремиться к цели наикратчайшим путем. А если появятся передовые отряды Феофар-Хана, всегда можно успеть свернуть на проселок.
Надя взяла руку Михаила, и они пошли.
Наутро 12 сентября, пройдя двадцать верст, они передохнули в поселке Тулун. Тут тоже все было сожжено дотла и разграблено. Всю ночь, пока они шли, Надя искала по обочинам мертвого Николая, но напрасно. Его не было ни в развалинах, ни среди мертвых. Может быть, Николай избежал злой участи? Но не приготовили ли для него какой-нибудь изощренной пытки и для этого увезли его в свой иркутский лагерь?
Надя и Михаил страдали от голода и бродили от дома к дому в поисках съестного, пока в одном из них, на свое счастье, не нашли сушеное мясо и сухари. Они взяли с собой столько, сколько могли унести. Едой теперь они были обеспечены на несколько дней вперед, а с водой проблем не было — на каждом шагу они встречали ручей или речку, текущие в Ангару.
Михаил шагал уверенным шагом, замедляя его лишь ради своей попутчицы. И Надя, стараясь не отставать, спешила изо всех сил. Хорошо, что попутчик не мог видеть, как плачевно она выглядит.
Но Михаил чувствовал это.
— Ты обессилела, бедная, — говорил он иногда.
— Совсем нет, — отвечала она.
— Если не сможешь идти дальше, скажи, и я понесу тебя.
— Хорошо, Михаил.
В этот день они перешли вброд небольшую реку Оку и двинулись дальше. Было не очень холодно, но все небо застлали тучи. Вот-вот мог пойти, в довершение всех бед, дождь. Раньше он уже проливался, но проходил очень быстро. Они шли рука к руке, почти не разговаривая. Надя часто посматривала назад. Останавливались всего два раза в день и спали по шесть часов ночью. Иногда в брошенных домах Надя находила немного баранины, обычной в этом краю, стоившей здесь не более двух с половиной копеек фунт.
Как ни надеялся Михаил на то, что им удастся раздобыть лошадь, этого не случилось. В разоренном краю все кони были угнаны или зарезаны. И идти приходилось по нескончаемым полям и лесам. И на каждом шагу встречались следы татар. Там валялась дохлая лошадь, здесь — сломанная повозка. На околицах деревень попадались трупы убитых. Надя, пересиливая себя, осматривала каждый из них. Но главная опасность была не впереди, а сзади. Передовые отряды войск эмира, которыми командовал Иван Огарев, могли появиться с минуты на минуту. Лодки, сплавляемые по Енисею, должны были уже прибыть в Красноярск, а дорога была открыта. Ни один русский полк не мог преградить путь татар между Красноярском и Иркутском. Михаил ждал, что вот-вот появятся татарские разведчики. Надя часто забиралась на пригорок или какой-нибудь холм и долго глядела на запад, чтобы вовремя заметить столб пыли, извещающий о приближении татар.
И снова они шли и шли, пока Михаил не чувствовал, что почти тащит за собой обессилевшую девушку. Они мало говорили, разве что о Николае. Надя часто вспоминала, какой он был и кем стал для них за эти дни. Михаил старался внушить ей надежду, хотя сам мало верил в благоприятный исход, понимал, что вряд ли их друг избежит смерти.
Однажды он заметил:
— А почему ты не расскажешь мне о моей матери, Надя?
О, его мать! Надя не хотела бы бередить рану. К чему новые страдания! Ведь Марфа Строгова умерла. Разве сын не поцеловал ее в последний раз в Томске?
— Расскажи мне о ней, Надя, — настаивал Михаил. — Сделай одолжение!
И тогда девушка рассказала ему все, что произошло с ними со дня встречи в Омске, где они впервые увидели друг друга. Она поведала, как необъяснимое чувство толкнуло ее к этой пленнице, и как она стала заботиться о ней, и как та ободряла ее. Надя не могла знать, что она мать Михаила, ведь в те дни он был для нее Николаем Корпановым.
— Кем и должен был быть, — нахмурился Михаил. — Надя, ведь я нарушил клятву, я клялся не встречаться с матерью, — помолчав, добавил он.
— Ты и не встречался с ней, Михаил, — отвечала та. — Случай, только случай свел тебя с ней.
— Но я клялся, что бы ни случилось, не выдавать себя!
— Михаил, да разве ты мог устоять при виде занесенного над ней кнута? Нет! И нет клятвы, .которая могла бы помешать сыну прийти на помощь своей матери!
— Я нарушил клятву, и пусть Господь и государь простят меня за это!
— Михаил, я хочу спросить тебя. Не отвечай, если не считаешь нужным. Я не обижусь.
— Спрашивай, Надя.
— Зачем ты так спешишь теперь добраться до Иркутска? Ведь царского письма у тебя нет.
Рука Михаила крепче сжала руку попутчицы, но он промолчал.
— Значит, ты знал, о чем оно, когда уезжал из Москвы?
— Нет, не знал.
— Тогда я могу подумать, что ты стремишься в Иркутск, чтобы передать меня в руки моего отца?
— Нет, Надя, — неторопливо отвечал Михаил. — Я обманул бы тебя, если позволил так думать. Туда меня зовет мой долг. И в Иркутск ты ведешь меня, а не я тебя. Разве не твоими глазами я вижу, не твоя рука направляет меня? Разве не ты мне помогла во сто крат больше, чем смог тебе помочь я? Я не знаю, перестанет ли испытывать нас судьба, но наступит день, когда ты поблагодаришь меня за то, что я передам тебя в руки твоего отца, а я низко поклонюсь за то, что ты привела меня в Иркутск.
— Бедный Михаил, — сказала Надя взволнованно. — Не говори так! И не отвечай на мой вопрос, если не желаешь, но я все же повторю его: «Зачем ты так спешишь в Иркутск?»
— Мне надо оказаться там раньше Огарева! — воскликнул Михаил.
— Даже теперь?
— Даже теперь, и я там буду!
Сказав последнее, Михаил не сказал всей правды, его вела не только ненависть к предателю. И Надя поняла, что он не может сказать ей всего.
15 сентября, три дня спустя, они добрались до поселка Куйтун, в семидесяти верстах от Тулуна. Девушка шла из последних сил. Она едва держалась на натруженных ногах. Она боролась с усталостью, как могла, и все время думала: «Поскольку он меня не видит, я буду идти, пока не упаду».
За все время, пока они шли сюда, ничто не помешало им, казалось, татары унесли опасность на хвостах своих лошадей. Одна только усталость была главным их врагом. Было понятно, что за эти три дня татары ушли далеко вперед, на восток. Лучше всего об их продвижении говорили руины, пепел, уже остывшая зола да разложившиеся трупы, разбросанные по земле. И с запада не накатывала волна захватчиков. Михаил терялся в догадках. Может быть, русские придвинули к Томску или Красноярску значительные силы и угрожают отбить татар? А может быть, эта третья колонна войск рискует быть отрезанной от основных сил? Если бы это было так, то Великому князю легко организовать оборону Иркутска и выиграть время.
Михаил допускал такие мысли, но скоро понял, насколько эти надежды хрупкие, приходилось рассчитывать только на себя и поступать так, словно спасение Великого князя было делом исключительно его рук.
Шестьдесят верст отделяют Куйтун от Кимильтея, небольшого поселка, стоящего на какой-то реке. Михаил не без боязни думал о переправе через этот приток Ангары. О том, чтобы найти паром или лодку, не приходилось и думать. Он уже однажды переправлялся через эту реку, она и в спокойные времена была опасна и почти непроходима вброд. Но она была последней на их пути, и если они благополучно пройдут ее, ничто им уже больше не может грозить. До Иркутска оставалось двести тридцать верст.
Три дня они шли до Кимильтея, Надя едва передвигала ноги. Как бы ни был высок ее дух, но физические силы вот-вот могли ее оставить. Михаил хорошо понимал это. Если бы он не был слепым, Надя, конечно же, заявила бы ему: «Иди, Михаил, оставь меня в какой-нибудь хижине. Добирайся до Иркутска один. Выполни свой долг. Повидайся с моим отцом и расскажи ему, где я! Скажи ему, что я его жду. Вдвоем вы сумеете меня отыскать. Иди! Я не боюсь! Я спрячусь от татар. И я сохраню себя для него и для тебя! Иди же, Михаил, у меня нет больше сил!»
Уже несколько раз она останавливалась, не в силах идти. И тогда Михаил брал ее на руки, и нес, шагая быстрым неутомимым шагом.
18 сентября в десять часов вечера они появились в Кимильтее. С высокого холма Надя увидела вдали темную полоску — это и была река, последняя на их пути. Надя вела Михаила по разрушенному поселку. Пепел пожарищ давно остыл. Татары прошли тут по крайней мере дней пять или шесть назад. На околице поселка Надя присела на каменную скамью.
— Мы остановились? — спросил Михаил.
— Уже ночь, Михаил, — отвечала та. — Разве ты не хочешь отдохнуть?
— Я хотел бы переправиться через реку, — ответил Михаил. — Будет лучше, если она отделит нас от войск эмира. Но ты не можешь сделать и шага, моя бедная!
— Пошли, Михаил, — сказала Надя и, взяв его за руку, повела за собой.
Река текла в двух-трех верстах отсюда. Они шли при свете зарниц. Ни деревца, ни холмика не было видно на просторной равнине. Ни малейшего ветерка. Раздайся сейчас любой звук, и он разнесся бы далеко окрест. Вдруг Надя и Михаил остановились как вкопанные. Будто лай собаки послышался невдалеке.
— Ты слышишь? — спросила Надя.
И тут раздался жалобный крик, отчаянный и безнадежный, крик человека, который вот-вот умрет.
— Николай! Николай! — крикнула девушка, мучимая мрачным предчувствием.
Михаил, прислушавшись, покачал головой.
— Пойдем же, пойдем, Михаил, — тянула его Надя.
И откуда только силы взялись, ведь едва передвигала ноги.
— Мы сошли с дороги? — спросил Михаил, чувствуя под ногами не твердую землю, а мягкую траву.
— Да, так нужно… — отвечала Надя. — Оттуда, справа слышался этот крик!
Спустя несколько минут они уже были в полуверсте от реки. Вновь раздался лай собаки, но уже ближе. Надя остановилась.
— Похоже, это лает Серко, — сказал Михаил. — А он убежал за своим хозяином!
— Николай! — крикнула девушка.
Но зов остался без ответа. Лишь несколько хищных птиц, вспугнутых ее голосом, нехотя поднялись в небо. Михаил прислушался, Надя смотрела на равнину, подсвеченную зарницами, отсверкивающими как зеркало, и ничего не видела.
Голос послышался опять, он будто прошептал с жалобным стоном:
— Михаил…
Вдруг к Наде кинулась окровавленная собака. Это был Серко. Значит, и Николай должен быть рядом. Кто еще мог прошептать его имя? Да где же он? У Нади голос пропал от волнения. Михаил ползал по земле и искал руками. Тут Серко взвыл и бросился к огромной птице, скользящей над землей. Это был коршун. Собака вспугнула его, но он взмыл и ударил Серко сверху. Он попытался достать его лапой, рванулся… Но страшный удар могучего клюва обрушился на голову собаки, и она распростерлась на земле.
— Там… Там! — вырвался крик ужаса у Нади.
Из земли торчала голова. Она чуть не запнулась б нее, но яркий свет зарницы осветил в этот момент степь. Надя упала на колени перед головой.

Николай, закопанный в землю по шею, по жестокому татарскому обычаю, был брошен в степи погибать медленной мучительной смертью от голода и жажды, а может быть, от зубов волков или клюва хищной птицы. Ужасная пытка для жертвы, которую, как в тюрьму заключила в себя земля: и давит, и давит, и нельзя разбросать ее, и отрыться, потому что руки связаны и прижаты к телу, будто у мертвеца в гробу! Подвергнутый ужасной пытке, еще живой в этой глиняной форме, которую он бессилен разбить, несчастный только и может теперь молить, чтобы Бог послал ему скорую смерть.
Татары закопали здесь своего пленника три дня назад!.. Уже три дня Николай ждал помощи, но она подоспела слишком поздно! Коршуны заметили эту голову, торчащую над землей, и собака несколько часов отбивала атаки кровожадных птиц.
Михаил разрывал землю ножом, откапывал из могилы живого! Закрытые глаза Николая приоткрылись. Он узнал Михаила и Надю. Затем прошептал:
— Прощайте… Я счастлив, что снова увидел вас! Молитесь за меня!..
Это были его последние слова.
Но Михаил продолжал рыть твердую, утрамбованную землю. Наконец вынул тело несчастного из земли. Послушал, бьется ли у него сердце. Оно молчало. Надо было похоронить Николая, и он расширил и углубил ту же яму, из которой только что вынул его и в которую он был закопан живым, так, чтобы можно было положить в нее мертвого. Верный пес был погребен рядом. И тут на дороге примерно в полуверсте от них послышался сильный топот. Михаил прислушался. По шуму он определил, что отряд конных всадников идет прямо к реке.
— Надя, Надя! — сказал он тихо.
Надя молилась, но, услышав его голос, поднялась с колен.
— Гляди, гляди!
— Татары! — прошептала она.
Передовой отряд татарской орды быстро мчался по дороге в Иркутск.
— Я не уйду отсюда, пока не похороню его, — сказал Михаил.
И продолжил свою скорбную работу. Вскоре тело Николая со сложенными на груди руками было опущено в могилу. Михаил и Надя, стоя на коленях, помолились за душу усопшего, человека доброго и великодушного, поплатившегося жизнью за свою преданность им.
— Теперь, — сказал Михаил Строгов, засыпая его землей, — волки его не достанут!
И погрозил рукой в сторону проезжавших всадников.
— Пошли, Надя!
Теперь они уже не могли идти по тракту, занятому татарами. Не нужно было и переправляться через эту реку. Надо было обогнуть Иркутск. Надя больше уже не могла вести Михаила, и он взял ее на руки и пошел на юго-запад. Ему оставалось пройти еще двести верст. Как он их преодолел? Как не погиб от лишений? Чем питался в пути? И каким сверхчеловеческим усилием воли преодолел отроги Саян? О том ни он сам, ни тем более Надя не смогли бы сказать!
Но еще через двенадцать дней, 2 октября, в шесть часов вечера огромная водная гладь лежала перед Михаилом. Это было озеро Байкал.
Глава X
Байкал и Ангара
Озеро Байкал расположено на высоте 1700 футов над уровнем моря. Его длина составляет примерно 900 верст, а ширина — сто. Его глубина неизвестна. Мадам де Бурбулон сообщает, что по рассказам моряков, оно требует, чтобы его называли «господин море». Если же называют «господин озеро», Байкал тотчас приходит в ярость. Однако, по легендам, ни один русский не утонул в нем.
Это громадное хранилище пресной воды, подпитываемое более чем тремястами речек, обрамлено великолепными горами вулканического происхождения. Одна лишь Ангара выбегает из него и, пройдя через Иркутск, впадает в Енисей, немного выше города Енисейска.

В это время уже чувствовалось наступление холодов. Осень собиралась перейти в раннюю зиму. Стояли первые дни октября. Солнце уходило за горизонт в пять часов вечера, а длинными ночами температура падала до нуля. Первый снег белел на вершинах прибрежных гор. Зимой это море промерзает на глубину в несколько футов, и тогда по нему без опаски идут караваны и скользят кошевки курьеров.
Оттого ли, что люди редко соблюдают приличия, называя его обидным «господин озеро» или по какой другой, природной причине, — Байкал славен еще и свирепыми штормами. Его упругие воды, как и на всех внутренних морях, очень опасны для плотов, лодок, пароходов, бороздящих его летом и осенью.
Михаил Строгов вышел на юго-западный берег озера, неся Надю на руках. Что могли они оба найти в этом глухом медвежьем углу, если не смерти
от истощения и изнеможения? Однако сколько же оставалось пройти им от длинного пути в 6000 верст, чтобы царский курьер наконец-то достиг своей цели? Всего лишь 60 верст по побережью озера до истока Ангары и 80 верст от устья Ангары до Иркутска: всего 140 верст, или три дня пути здоровому и сильному человеку пешком. Был ли таким человеком сейчас Михаил Строгов?
Но, видно, небо не хотело подвергать его еще одному испытанию. Рок, который преследовал его, казалось, отступил.. Этот край Байкала, который он считал безлюдным и каковым являлся он во все времена, на этот раз не был пустынен. Человек пятьдесят находились на берегу, Надя заметила их. Михаил только что вынес ее на руках из горного ущелья.
Девушка на мгновение замерла, подумав, что это отряд татар, посланный прочесать побережье Байкала, и если это было бы так, то им бы несдобровать. Но Надя облегченно вздохнула.
— Русские! — воскликнула она.
На это она потратила свои последние силы, ее глаза закрылись, и голова упала на грудь Михаила. Их уже заметили, и несколько человек подбежали к ним, и привели на песчаный берег, у которого качался на волнах плот. Они как раз собирались отчалить. Все эти русские были беглецами, которых собрала и объединила одна цель — побег.
Преследуемые татарами, они пытались укрыться в Иркутске, но не могли в него попасть, потому что оба ангарских берега были уже перекрыты захватчиками, и теперь надеялись спуститься вниз по течению реки, протекающей по городу.
Их планы заставили биться сердце Михаила. Появился последний шанс, и его надо было использовать. Но внешне он сохранял невозмутимость, и больше, чем когда-либо, он хотел остаться инкогнито.
План беглецов был очень прост. На Байкале есть течение, идущее вдоль берега до самого истока Ангары. Именно на этом течении они намеревались «проехаться» до реки. А от истока стремительное течение понесет их со скоростью 10-12 верст в час. Таким образом, через полтора дня они должны были увидеть город.
Лодок здесь, в нежилых местах, было не найти. Тогда-то и был построен плот из сплавного леса, выброшенного на берег осенними штормами. Пихтовые стволы, связанные ивовыми прутьями, уместили бы на себе и сотню человек.
Девушка пришла в себя уже на плоту. Их накормили. Затем она вновь прилегла на постель из листьев и провалилась в глубокий сон.
На расспросы Михаил отвечал осторожно. Он и словом не обмолвился о событиях, происшедших в Томске, а выдал себя за жителя Красноярска, который не может попасть в Иркутск, и добавил, что, возможно, основные татарские войска уже заняли подступы к Иркутску.
Значит, нельзя терять ни минуты. К тому же наступали холода. Ночью температура опускалась уже ниже нуля, и широкие забереги схватывали воду. По самому озеру плот может еще свободно двигаться, но не загромоздит ли лед исток Ангары? Потому надо отправляться в путь немедленно.
В восемь вечера плот снялся с места и поплыл, влекомый течением вдоль берега. Несколько крепких мужиков ловко орудовали длинными шестами, направляя плот, куда надо. Руководил ими старый байкальский рыбак лет шестидесяти пяти, загорелый и обветренный всеми ветрами озера. Седая, очень густая борода лежала у него на груди. На голове была меховая шапка. Широкий и длинный армяк был затянут поясом. Этот суровый, степенный и молчаливый старик, сидевший сзади, командовал одними жестами, за десять часов едва ли произнося десяток слов. Впрочем, все управление плотом сводилось к его удержанию в нужном направлении, следуя по течению и не отклоняясь в открытое море.

Все это были русские люди разного происхождения. Местные жители: женщины, старики, дети и мужчины, два-три странника, несколько монахов и священник. У странников все имущество состояло из посоха и фляги, привязанной к поясу. Они нараспев читали псалмы жалобными голосами. Один из них пришел с Украины, другой с берегов Желтого моря, третий из финских провинций. Этот последний был уже очень стар и носил на поясе небольшую кружку для пожертвований, запертую висячим замочком, — такие же висят на столбах и в русских церквях. Ни копейки из собранного им ему не принадлежало, и у него даже не было ключа от этого замка, отмыкаемого лишь по его возвращении.
Монахи пришли с севера. Три месяца назад они покинули город Архангельск, который некоторые путешественники справедливо называют, построенным на восточный лад. Они посетили Святые острова у берегов Карелии, Соловецкий монастырь, Троицкий монастырь, монастыри Святого Антония и Святой Феодосии в Киеве, Симеонов монастырь в Москве, Казанский монастырь, а также побывали у староверов. Одеты они были просто — в платье с капюшоном.
Простой деревенский священник был одним из тех шестисот тысяч пастырей народа, которые насчитывала Российская империя. Он был одет так же бедно, как и мужики, и в самом деле ничем не выделялся: не имел ни звания, ни власти в церкви, так же как и крестьяне, обрабатывал свой надел земли да еще крестил, женил, отпевал умерших. Он избавил своих детей и жену от тягот татарского нашествия, заблаговременно отправив их в северные края. Но в своем приходе оставался до последнего. Потом бежал, пока дорога на Иркутск не оказалась закрытой; и добрался до берега Байкала.
Все они, служители Бога, собрались на носу плота и усердно молились, и их голоса громко раздавались в ночной тишине, особенно в конце каждого стиха молитвы, когда с их губ срывалось: «Слава Богу!»
Плаванье проходило без происшествий. Надя спала глубоким сном. Михаил бодрствовал, сидя рядом с ней. Временами он проваливался в дремоту, но и тогда его разум не спал.
На рассвете плот, сдерживаемый встречным ветром, который замедлял течение, был еще в сорока верстах от истока Ангары. Похоже было, что он не сможет дойти до него раньше трех-четырех часов дня. Это нельзя было считать помехой в их затее, потому что тогда беглецы станут вниз по реке спускаться ночью, а по темноте плыть безопаснее.
Единственное, что беспокоило старого рыбака, так это лед. Ночь выдалась очень холодной. И уже было видно, как плывут на восток отдельные отколовшиеся от берегового припоя льдины, подгоняемые ветром. Они были не страшны; миновав исток, их уносило в открытое море. Но надо было опасаться льдин, пригнанных с восточного берега озера, которые при смене ветра могли попасть в реку и наделать бед.
Это не могло не волновать и Михаила, он часто спрашивал у проснувшейся Нади, какое сейчас море.
Любопытные явления происходили в это время на поверхности Байкала. Из глубины били великолепные фонтаны кипящей воды, с силой вырывавшиеся из артезианских колодцев, пробуренных природой на самом дне озера. Эти струи взлетали на большую высоту и рассыпались на мелкие брызги, отливающие на солнце всеми цветами радуги, которые холод тут же превращал в мельчайшие льдинки. Это любопытное зрелище изумило бы любого путешествующего по сибирскому краю в свое удовольствие.
В четыре часа дня старый рыбак указал на исток Ангары, лежащий между скалистыми горами. На правом берегу виднелся маленький порт Лиственичное, его церквушка, несколько домов, поставленных на берегу. Первые льдины уже дрейфовали между берегами реки и плыли вниз по течению. Но их было еще мало, чтобы помешать людям сплавляться на плоту.
Плот пристал в этом небольшом порту. Старый рыбак решил сделать остановку на час, чтобы подремонтировать его: волны разболтали стволы и они грозили распасться, надо было покрепче связать их перед тем, как их испытает Ангара. Летом порт Лиственичное служит в основном путешественникам, едущим в Кяхту, последний русский город на границе, или возвращающимся оттуда. Именно здесь пристают пароходы и все небольшие каботажные суда, имеющиеся на Байкале.
Но сейчас Лиственичное было пустынно. Жители не хотели подвергнуться грабежу татар, разъезжающих по обоим берегам Ангары. Флотилию судов и лодок они отправили в Иркутск, взяв с собой все, что можно было на них увезти, и вовремя укрылись там.
Старый рыбак и думать не думал, что встретит в порту новых беглецов. Но едва плот причалил к пристани, из пустого дома выскочили два человека и сломя голову прибежали на берег. Надя сидела на корме и рассеянно смотрела на поселок. И чуть не вскрикнула. Схватила Михаила за руку, и тот сразу поднял голову.
— Что с тобой, Надя?
— Двое наших попутчиков, Михаил.
— Те француз и англичанин, которых мы повстречали в ущелье Урала?
— Они самые.
У Михаила заныло сердце, он так старался сохранить свое имя и дело в тайне, и вот теперь подвергался риску быть раскрытым. Теперь он для Алсида Жоливе и Гарри Блаунта уже не Николай Корпанов, а Михаил Строгов, царский курьер. Журналисты встречались с ним еще два раза после расставания в Ишиме. Первый раз в лагере, когда он располосовал кнутом лицо Ивана Огарева, и в Томске, когда был приговорен эмиром к жестокой казни. Значит они все знали о его положении и его важной миссии.
— Надя, — сказал он, — как только француз и англичанин взойдут на плот, попроси их подойти ко мне!
Это и в самом деле были Гарри Блаунт и Алсид Жоливе, которых в порт Лиственичное привело стечение обстоятельств, так же как и Михаила Строгова. Известно, что побывав на празднике татар по случаю военных успехов, они уехали еще до дикой казни. Они не сомневались, что их попутчик убит, но не могли знать, что он был лишь ослеплен по приказу эмира.
Добыв лошадей, они покинули Томск в тот же вечер с вполне определенным намерением писать хронику лишь из расположения русских войск. Алсид и Гарри быстро направились в Иркутск. Они очень надеялись опередить Феофар-Хана, и им удалось бы это сделать, не появись войска с юга. И пошли они тем же путем, что чуть позже совершил Михаил.
Прибыв в Лиственичное, они обнаружили, что порт пуст, Иркутск же окружен захватчиками. Они жили здесь уже три дня и были в отчаянии, когда вдруг увидели плот.
Им объяснили, что собрались предпринять беглецы, и они, тут же поняв, что есть шанс прорваться в Иркутск, решили попытать счастья. Алсид тут же упросил старого рыбака взять их с собой и предложил за это любую цену.
— Здесь не платят, — сурово ответил тот. — Тут рискуешь, вот и все!
Оба журналиста устроились, Надя это видела, на носу плота. Гарри по-прежнему оставался холодным англичанином, который даже не заговорил с ней за всю дорогу через Уральские горы. Алсид стал чуть серьезнее, чем обычно, но это объяснялось, видимо, лишь серьезностью обстоятельств. Он сидел, наблюдая за рекой, когда вдруг чья-то рука легла на его плечо. Он обернулся и узнал Надю, сестру того, кто, оказалось, был не Николаем Корпановым, а Михаилом Строговым, курьером царя. Возглас удивления едва не вырвался у него, но девушка поднесла к губам палец.
— Пойдемте, — твердо сказала она ему.
Алсид с безразличным видом пошел за ней, махнув Гарри, чтобы тот шел следом. Но, если журналисты так удивились встрече с Надей, удивление стало безграничным, когда они увидели Михаила Строгова. Его-то они уж никак не могли считать живым. При их приближении он даже не шевельнулся. Алсид повернулся и посмотрел на девушку.
— Он не видит, господа, — сказала Надя. — Татары выжгли ему глаза. Мой бедный брат слепой!
С жалостью Алсид и Гарри смотрели на Михаила. И тут же присели рядом, пожали его руки и приготовились слушать.
— Господа, — начал Михаил Строгов, — вы должны забыть, кто я и зачем приехал в Сибирь. Я прошу вас сохранить мою тайну. Обещаете ли вы мне сделать это?
— Клянусь честью! — ответил Алсид.
— Слово джентльмена, — добавил Гарри.
— Спасибо, господа.
— Чем мы можем быть вам полезны? — спросил Гарри Блаунт. — Может быть, помочь вам выполнить вашу миссию?
— Я предпочитаю действовать в одиночку, — ответил Михаил.
— Но эти негодяи сожгли вам глаза? — сказал Алсид Жоливе.
— У меня есть Надя, и ее глаз мне достаточно!
Через полчаса плот, покинув порт Лиственичное, вошел в реку. Было пять часов дня. Вот-вот наступит ночь. И она грозила быть не только очень темной, но и очень холодной — температура уже упала ниже нуля.
Алсид и Гарри, пообещав хранить тайну Михаила, так и не покинули его. Они тихо беседовали, и слепой дополнял те сведения, которые они уже знали о событиях, и смог составить точное представление о положении дел.
Было ясно, что татары окружили Иркутск и что все три потока войск соединились. Нечего было и сомневаться, что эмир и Иван Огарев находятся на подступах к городу. Но к чему же тогда спешка,- зачем так настойчиво стремился туда царский курьер, если письмо, содержания которого он не знал, не могло быть передано Великому князю — этого Алсид и Гарри не понимали так же, как и Надя.
О прошлом они в своей беседе не вспоминали, пока Алсид не счел нужным сказать Михаилу:
— Мы должны извиниться за то, что не пожали вам руку перед тем, как расстаться на почтовой станции Ишима.
— Полноте, вы имели полное право считать меня трусом!
— Во всяком случае, — продолжал Алсид, — вы превосходно наказали этого мерзавца, хлестнув его кнутом по лицу. Он долго будет носить это клеймо!
— Нет, недолго! — просто ответил Михаил.
Через полчаса после отплытия из Лиственичного журналисты знали обо всех жестоких испытаниях, сквозь которые прошли Михаил и его спутница. Они восхищались его мужеством, с которым могла сравниться разве что преданность девушки. О Строгове они теперь думали почти так же, как царь в Москве: «Настоящий человек!»
Плот быстро плыл среди льдин. Движущиеся картины возникали по обоим берегам Ангары, но из-за оптического обмана казалось, что плот стоит на месте. Только что перед ними был высокий гранитный утес со странным профилем, а вот уже дикое ущелье, из которого вырывается бурливая река; следом наплывает широкая поляна с еще дымящейся деревней, а еще дальше полыхают сосновые леса. Но если следы татар видны были повсюду, то их самих они еще не видели, так как те стояли у самого Иркутска.
Все это время странники читали вслух молитвы. Старый рыбак отталкивал льдины, трущиеся о бревна, и невозмутимо удерживал плот на стремнине.
Глава XI
Между берегами
К восьми вечера густая тьма окутала все кругом. Луна только народилась и еще не могла появиться в небе. И уже не были видны берега. Утесы слились с тяжелыми облаками, едва двигавшимися над вершинами. Временами порывами налетал ветерок, который угасал в узкой, тесной долине Ангары. Темнота была на руку беглецам. Даже если татарские посты и стояли по берегам, то у тех, кто плыл на плоту, были шансы проскочить незамеченными. Маловероятно было, что осаждающие патрулируют и реку выше Иркутска — оттуда русские не ждали никакой помощи. Но вскоре, впрочем, природа могла сама выставить преграду, забив льдом Ангару от берега до берега.
На плоту царила полная тишина. Не слышно было голосов странников, они продолжали молиться, но их молитвы вышептывались и не могли долететь до берегов. Беглецы, ничком лежавшие на плоту, едва ли не сливались с водой. Старый рыбак, лежа на носу, бесшумно отталкивал льдины.
Плывущие по воде льдины тоже помогали беглецам, лишь бы только в дальнейшем они не стали непреодолимым препятствием. Одинокий плот все-таки мог быть замечен на ровной поверхности реки, а здесь он скрывался среди них, а их шум и шорох, когда они терлись друг о дружку, перекрывал любой случайно оброненный беглецами звук.
Холодало. Беглецы жестоко мерзли, прикрываясь только березовыми ветками, и прижимались теснее друг к другу, сохраняя остатки тепла. Температура этой ночью должна была упасть никак не меньше, чем на десять градусов ниже нуля. Ветерок, слетавший с восточных гор, покрытых снегом, пронизывал насквозь.
Михаил и Надя, лежа на корме, безропотно сносили страдания. Алсид и Гарри изо всех сил пытались согреться. Каждую минуту могло что-то случиться и привести плот к катастрофе, из которой вряд ли кому-нибудь удалось бы выбраться невредимым.
Для человека, который вот-вот должен достичь своей цели, Михаил был слишком спокойным. Но его редко покидало самообладание и в более отчаянных положениях. Он уже предвидел, что скоро наступит час, когда он сможет наконец подумать о своей матери, о Наде, о самом себе! Боялся он сейчас только одного — что лед остановит плот, прежде чем он достигнет Иркутска. И он решительно настраивался, если произойдет такое, рискнуть на последнее испытание.
Надя очнулась после нескольких часов сна, и к ней вновь вернулись силы. Она понимала, что надо быть готовой к тому, что Михаил может пойти на новый решительный шаг, а она должна вести его. Чем ближе становился Иркутск, тем отчетливее всплывал образ отца в ее воображении. Она представляла его в окруженном городе, вдали от тех, кого он любил, но и — она в том не сомневалась — борющимся против захватчиков. Ведь он любил свою родину. Через несколько часов, если небеса будут им покровительствовать, она окажется в его объятиях и передаст последние слова матери. И уж ничто больше не разлучит их. А если ссылка отца окажется бессрочной, она безропотно разделит с ним судьбу. Потом ее мысли естественным образом возвращались к тому, кому она будет обязанной встрече с отцом, к великодушному спутнику и брату. После изгнания татар он, вероятно, вернется в Москву и вряд ли они еще когда-нибудь увидятся!
Алсид Жоливе и Гарри Блаунт мыслили примерно одинаково: драматичная ситуация, и если ее хорошенько подать, получится любопытный репортаж. Англичанин думал о читателях «Дейли Телеграф», а француз — о читателях своей кузины Мадлен. Но в глубине души они оба испытывали трепет.
«Тем лучше, — думал Алсид. — Надо быть взволнованным, чтобы волновать! Кажется, даже есть известное стихотворение на эту тему, но к черту! Все это, если я знаю…»
Своими острыми глазами он пытался раздвинуть густую темноту, окутывающую реку. Время от времени слабые вспышки света озаряли горы, и они приобретали фантастические очертания. Это горели какие-то леса, деревни, и эти пожары казались еще мрачнее, и зловещее, чем днем. Бывало, Ангара вдруг освещалась полосой от берега до берега. Льдины, как зеркала, отражали огни под всякими углами и на разные цвета и двигались по течению. Плот, смешавшись с ледяным полем, шел незамеченным.
Опасность другого характера угрожала теперь беглецам. Они не могли ее предвидеть, а уж тем более предотвратить. Раскрыл ее Алсид Жоливе. Лежа на правой стороне плота, он окунул руку в воду и удивился необыкновенному ощущению — она оказалась вязкой, как
нефть. Он понюхал и убедился, что не ошибается. Слой нефти спускался вниз по течению.
Так неужели плот плыл на этом в высшей степени горючем веществе. Откуда эта нефть? Был ли это естественный выброс, или ее использовали для поджога татары? Может быть, они задумали поджечь Иркутск этим варварским способом?
Такие вопросы задал себе Алсид, но сообщил о том лишь Гарри. И оба они уговорились не тревожить попутчиков, не открывать им этой новой опасности.
Известно, что земля Средней Азии, как губка, пропитана нефтью. В Бакинском порту, на персидской границе, на полуострове Апшерон, на Каспийском море, в Малой Азии, в Китае нефтяные источники выходят на поверхность земли. Это край нефти, похожий на тот, что есть в Северной Америке.
Во время некоторых религиозных праздников в Бакинском порту, например, местные огнепоклонники бросают в море нефть, которая всплывает на поверхность. Ночью, когда нефть тонким слоем растечется по воде, ее зажигают, создавая зрелище пылающего моря, вздымающего огненные волны. Но то, что было развлечением в Баку, может стать бедствием на Ангаре.
Если по злому умыслу или по неосторожности поджечь это горючее, огонь в один миг полетит до Иркутска, и дальше. На плоту огня не было и не могло быть, но следовало опасаться береговых пожаров, близко подходящих к воде. Достаточно одной головешки или искры, упавшей в реку, чтобы она превратилась в поток огня. Легче понять, чем описать опасения Гарри и Алсида. Но может быть, было бы разумнее причалить к берегу, высадиться и переждать эту новую опасность? Они обсудили и это.
— Что бы там ни было, — сказал Алсид, — какой бы ни была опасность, я знаю, кто не сойдет на берег!
Он имел в виду Михаила Строгова.
Тем временем плот быстро несся среди льдин, теснивших друг друга.
Пока ни один татарин не был замечен на берегах, значит плот еще не поравнялся с их постами. Но около десяти часов вечера Гарри показалось, что множество черных теней двигается по льдинам. Прыгая с одной на другую, они приближались.
«Татары!» — подумал он, подполз к старому рыбаку, лежавшему на носу, и показал на подозрительно двигающиеся фигурки. Тот всмотрелся и сказал:
— Это волки! Лучше уж они, чем татары. Будем отбиваться, но без лишнего шума!
Хищников гнал через весь край голод и холод, и беглецам надо было отразить их набег. Волки видели плот и теснее сжимали кольцо. Но ружьями пользоваться было нельзя, могли услышать татары. Тогда женщин и детей собрали в центре плота, а мужчины, вооруженные шестами и ножами, а большинство палками, стали отбиваться от зверей. Люди молчали, но вой волков разрывал воздух.
Михаил Строгов не мог оставаться не у дел, он лег на край плота, вытащил нож, и каждый волк, что приближался к нему, падал с разорванным горлом. Гарри и Алсид были вместе со всеми. Отчаянная борьба происходила в темноте, и многим беглецам не удалось избежать серьезных ран. Сколько могла продолжаться эта резня? Стая волков не уменьшалась, должно быть, весь правый берег был наполнен ими.
— Похоже, этот кошмар никогда не кончится, — говорил Алсид, размахивая кинжалом, липким от крови.
Волки, казалось, сотнями носились по льдинам. Измученные беглецы заметно ослабели. Сражение складывалось не в их пользу… В этот момент десяток крупных хищников, рассвирепевших от голода, с горящими в темноте глазами запрыгнули на плот. Алсид со своим коллегой бросился в самую гущу зверей, и уже Михаил шел им на помощь, как вдруг что-то случилось.
В несколько минут волки спрыгнули с плота и кинулись вслед за своими сородичами, которые по льдинам удирали на берег. Злобные и бесстрашные в темноте, они испугались огня — все русло реки освещалось ярким светом, отсветом огромного пожара. Горел поселок Поскавск. Татары в нем делали свое черное дело. С этого места они занимали оба берега Ангары до самого Иркутска. Беглецы вплыли в опасную зону, но до города им было еще далеко — тридцать верст.
Было двенадцать ночи. Плот все еще скользил во тьме, сливаясь со льдинами, но широкие полосы света уже дотягивались и до него. Люди лежали, не шелохнувшись, боясь что одно движение может выдать их.
Огонь в поселке пожирал дом за домом с необычайной скоростью. Избы, срубленные из смоляных бревен, вспыхивали как спички. Теперь примерно 150 домов полыхали одновременно. Но треск и гул пожара не мог загасить воплей татар. Старый рыбак, опершись о льдину, сумел оттолкнуть плот ближе к правому берегу, теперь их отделяли от пылающего места 300 — 400 футов.
Плот беглецов, конечно, заметили бы, если бы поджигатели не были так заняты уничтожением поселка, и не ослепли от огня. Можно представить, что пережили Алсид и Гарри, знающие о горючей жидкости, по которой плыл плот.
Снопы искр вырывались из домов, когда рушилась крыша, а сами они напоминали раскаленные печи. Вместе с клубами дыма искры взлетали на высоту 500 — 600 футов. Даже на правом берегу деревья и скалы, стоящие напротив горящего поселка, казались охваченными огнем. Хватило бы одной искры, чтобы вспыхнула Ангара и пожар перекинулся на тот берег. А уж плот бы вместе со всеми, кто на нем плыл, сгорел в мгновение ока.
Но, к счастью, ветер дул по-прежнему с востока и заворачивал огонь влево. Была надежда, что он минует беглецов. Скоро и в самом деле полыхающий поселок оказался позади. Гул пожара уменьшился. Свет от него постепенно слабел, и скоро его последние отблески исчезли за высокими скалами, стоящими на крутой излучине Ангары.
Было около полуночи. Темнота, вновь ставшая густой, надежно укрыла плот. Но татары были везде, передвигались по обоим берегам. Если их не было видно, то слышно было прекрасно. А где стояли посты, там ярко горели костры.
Льдин становилось все больше, и надо было маневрировать очень осторожно и точно. Старый рыбак встал, и мужики вновь взялись за свои шесты. Всем хватало работы, управлять плотом становилось все труднее.
Михаил Строгов проскользнул на нос. Алсид последовал за ним. Оба слушали команды старого рыбака и разговоры его людей.
— Смотри направо!
— Льдины цепляются слева!
— Отталкивай! Толкай шестом!
— Не пройдет и часа, как мы застрянем!
— На все воля господа! — отвечал старый рыбак. — Ничего не поделаешь!
— Вы слышите, что они говорят? — сказал Алсид.
— Слышу, — ответил Михаил, — но Бог с нами!
Положение осложнялось. Если плот застрянет, беглецы не только не доберутся на нем до Иркутска, но вынуждены будут оставить его, и он тут же пойдет на дно. Ивовые прутья не выдержат, и бревна уйдут под лед. А у беглецов не останется другого пристанища, кроме ненадежного льда. И едва рассветет, их обнаружат татары и перережут всех без жалости.
Михаил вернулся на корму, где его дожидалась Надя. Подошел к ней, взял ее руку и задал все тот же вопрос: «Надя, ты готова?», — на который она неизменно ответила:
— Я готова!
Еще несколько верст плот плыл среди льдин. Если дальше русло Ангары сузится, образуется затор, плот остановится. Итак, двигались очень медленно. Каждую минуту слышались удары льда о бревна. Рулевой постоянно маневрировал, вынужденно придерживая плот.
До утра оставалось не так уж много времени. Если беглецы не доберутся в Иркутск до пяти часов утра, они потеряют всякую надежду попасть туда.
В половине второго ночи плот уперся в сплошную преграду льда и остановился. Льдины наползали на него, как если бы он налетел на риф. В этом месте русло Ангары было едва ли не вполовину уже обычной ширины реки. И здесь образовался затор, накрепко спаянный сильным напором и усиливающимся морозом. Но шагах в пятистах ниже по течению Ангара снова расширялась, и льдины, отрываясь от края, медленно уплывали к Иркутску. Ясно было, что если бы не это узкое место, преграда бы не образовалась, и плот смог бы и дальше спускаться по реке. Несчастье были непоправимо, и беглецы должны были отказаться от дальнейшего пути.
Был бы у них под рукой инструмент, подобный тому, что используют на китобойных судах, чтобы пробивать проходы во льдах, и если бы они смогли это сделать, добраться до того места, где река опять растекалась привольно, может быть, им и хватило времени! Но у них не было ни кайлы, ни пилы, ничего, чем можно было бы разбить корку льда, схваченную морозом до крепости камня.
Что было делать? И тут с правого берега прогремели выстрелы. Град пуль полетел в их сторону. Несчастные были замечены. Это подтвердили выстрелы и с левого берега. Беглецы, оказавшись меж двух огней, превратились в мишень для татарских стрелков. Уже были раненые, хотя в такой темноте можно было попасть только случайно.
— Пошли, Надя, — прошептал Михаил ей на ухо.
Надя молча взяла его за руку.
— Нужно пройти по затору, — добавил он тихо. — Веди меня, но только чтобы никто не заметил, что мы покидаем плот.
Михаил и Надя проскользнули на ледяное поле в полной темноте, которую то тут, то там разрывали выстрелы. Надя ползла впереди Михаила. Пули шлепались вокруг, будто крупный град, и шипели, остывая. Пробираясь по этому шероховатому, режущему до крови руки, полю, они медленно продвигались вперед и через десять минут добрались до нижнего края затора. Вода шумела и устремлялась дальше свободной. Льдина за льдиной отрывались и подхватывались течением. И Надя поняла, что хочет сделать Михаил. Увидев одну из таких льдин, готовую вот-вот оторваться, она сказала ему:
— Иди сюда.
Оба они легли на этот ненадежный кусок льда, который после легкого толчка отошел от крепкой плотины. Некоторое время они еще слышали выстрелы, крики отчаяния, вопли татар… Затем постепенно этот смешанный шум безнадежности и жестокой радости стал отдаляться, пока совсем не затих…
— Бедные люди! — прошептала Надя.
С полчаса льдину быстро несло по течению. В любой момент Надя и Михаил могли ждать, что она проломится под ними. Они плыли по середине реки, теперь главное — не прозевать момент, вовремя повернуть ее и причалить к набережной Иркутска. Михаил, сжав зубы и навострив слух, молчал. Он еще не был так близок к цели, как сейчас, и чувствовал: вот-вот и он добьется своего.
К девяти часам утра двойной рассвет встал на горизонте. Направо горели огни города, а налево — татарского лагеря. Михаил был в полуверсте от города.
— Наконец-то, — прошептал он.
Но Надя вдруг закричала. Услышав ее, Михаил выпрямился на льдине, закачавшейся под ним. Его рука непроизвольно указала назад, а лицо, освещенное голубыми отблесками, было страшным. Потом он, будто прозрев и что-то увидев, закричал:
— А, сам Бог против нас!
Глава XII
Иркутск
Иркутск — столица Восточной Сибири, город с населением в обычные времена до тридцати тысяч. На высоком берегу Ангары красуются церкви, над которыми возвышается величавый собор и живописно расставленные дома. Если смотреть на Иркутск с вершины горы, отстоящей от него на двадцать верст по сибирскому тракту, то город с его острыми, как минареты, спицами колоколен и округлыми, как японские вазы, куполами церквей имеет немного восточный вид. Но это впечатление тотчас пропадает, едва путешественник войдет в него. Византийско-китайский город превращается в европейский благодаря своим улицам с щебеночным покрытием, тротуарами, каналом, обсаженным огромными березами, благодаря зданиям из кирпича и дерева, среди которых есть и многоэтажные, благодаря оживленному движению экипажей и не только тарантасов и телег, но и двухместных карет и колясок, наконец, благодаря немалой части жителей, держащих руку на пульсе времени и для которых последние парижские новинки не являлись диковиной.
Сейчас Иркутск был переполнен, он стал убежищем для беглецов из всех провинций. Но всевозможных запасов здесь было в изобилии. Город, кроме того, еще и являлся как бы огромной кладовой разных товаров, которыми торгуют Китай, вся Центральная Азия и Европа. Потому-то так смело отозвали сюда крестьян из долин Ангары, хакасов, тунгусов и бурят, оставив завоевателям пустыню.
В Иркутске находится резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири. Он руководит гражданским губернатором, управляющим провинцией, шефом полиции, всегда очень занятым в городе, изобилующем ссыльными, и главой купечества, лицом уважаемым благодаря своему состоянию и влиянию на торговый мир.
Гарнизон города состоял из одного полка пеших казаков, насчитывающего две тысяч человек, и корпуса жандармов, отличающихся голубыми мундирами и касками.
Но мы знаем, что в Иркутске вследствие важных обстоятельств, находился брат царя, где его и застигло нашествие татар. Ситуацию эту необходимо прояснить.
В отдаленные провинции восточной Азии Великого князя привели дела политической важности. Великий князь совершал поездку по всем главным сибирским городам не как царствующая особа, а скорее как военный инспектор, сопровождаемый офицерами и отрядом казаков. Николаевск, расположенный на берегу Охотского моря, стал последним городом, удостоенным высочайшего визита.
Побывав на самой окраине огромной империи, Великий князь возвращался в Иркутск, откуда он собирался трактом быстро добраться до столицы, но в пути его застало известие о неожиданном и грозном нашествии. Прибыв в Иркутск, он узнал, что связь с Россией прервана. Еще несколько телеграмм каким-то чудом были получены из Петербурга и Москвы, и он даже успел на них ответить. Но затем телеграф замолчал окончательно.
Иркутск был отрезан от остального мира, и Великому князю ничего не оставалось делать, как организовывать оборону, что он исполнил твердой рукой и хладнокровно. Сведения о взятии татарами Ишима, Омска и Томска одно за другим достигали Иркутска. Теперь нужно было любой ценой предотвратить захват и этого города. Нечего было и рассчитывать на быструю помощь. Немногочисленные войска, расквартированные в Амурской и Якутской провинциях, были не в силах остановить татарскую орду. Поскольку Иркутску грозило окружение, прежде всего надо было подготовить город к осадному положению. Эти работы были начаты в тот самый день, когда Томск оказался в руках захватчиков. Вместе с этой новостью Великий князь узнал, что во главе нашествия стоят эмир Бухары и его влиятельные в Азии союзники, но чего он не мог знать, так это того, что подручным варваров был некто Иван Огарев, русский офицер, которого он, не зная лично, разжаловал и лишил всех наград.
Прежде всего по приказу Великого князя все жители иркутских провинций покинули города и поселки. Те, кто не укрылся в самом Иркутске, должны были перебраться за Байкал, куда, была надежда, не докатится свирепое войско эмира. Собранный урожай зерновых и овощей реквизировали для города, и этот последний оплот русского государства на востоке теперь мог сопротивляться в течение долгого времени.
Иркутск, основанный в 1611 году
[4], расположен при слиянии Иркута и Ангары, на правом берегу этой реки. Два деревянных моста на сваях, разводящиеся для прохода судов, соединяют город с предместьями на левом берегу реки. Эту сторону защитить не представляло труда: «предместья были покинуты, а мосты разрушены. Переправа в этом широком месте Ангары под огнем защитников города была невозможна. Но через нее можно было переправиться выше или нише, и городу грозило нападение в той части, где он не был защищен никакой стеной. Потому прежде всего люди взялись за строительство укреплений и работали день и ночь. Великий князь нашел, что народ здесь в труде усердный, а позже убедился и в том, что мужественный. Солдаты, торговцы, ссыльные, крестьяне жертвовали собой во имя общего спасения. За восемь дней до появления татар вокруг Иркутска выросли земляные стены. Между их откосами образовался ров, заполненный водами Ангары. Теперь город не мог был взят с налета. Но ему грозила осада.
Третья колонна войск эмира, пройдя долиной Енисея, появилась у Иркутска 24 сентября и немедленно заняла покинутые предместья, где все дома были снесены, чтобы не мешали стрельбе артиллерии Великого князя, к сожалению, явно недостаточной для отражения натиска врага.
Татары укрепились и ждали подхода двух других колонн войск, под командованием самого эмира и его союзников. Соединение их произошло 25 сентября здесь, в лагере на Ангаре, и теперь вся армия, за исключением гарнизонов, оставленных в завоеванных городах, была сосредоточена в руках Феофар-Хана.
Переправа через Ангару в виду Иркутска была расценена Иваном Огаревым как самоубийственная, и потому большая часть войск переправилась через реку на несколько верст ниже по течению, по понтонным мостам, специально для того построенным. Великий князь и не пытался помешать этой переправе. Да и, по правде говоря, он смог бы только замедлить ее, так как в его распоряжении не было походной артиллерии. И для полной справедливости надо признать, что он оказался заточенным в Иркутске.
Татары, заняв правый берег Ангары, поднялись к самому городу, по пути сжегши летнюю резиденцию генерал-губернатора, расположенную в лесу на берегу Ангары, и полностью окружили Иркутск. Иван Огарев, талантливый военный инженер, был в состоянии грамотно организовать осаду, но у него не хватало необходимых материалов, чтобы достичь быстрого успеха, и он сделал ставку на то, чтобы захватить город врасплох.
Расчеты Огарева не оправдались. С одной стороны, задержались татарские войска под Томском, подошли поздно, а с другой — местные жители под руководством Великого князя успели возвести мощные укрепления. Этих двух причин было достаточно, чтобы его первоначальные планы провалились. Город надо было осаждать по всем правилам воинской науки.
И все же под его давлением эмир попытался дважды ворваться в город, но заплатил за это ценой огромных потерь. Он направлял отряды на наименее укрепленные участки, но те не могли одолеть защитников города, боровшихся с беспримерным мужеством. Великий князь со своими офицерами, рискуя собой, руководил боем. Горожане и крестьяне бились не на жизнь, а на смерть. При втором штурме татарам удалось взломать одни из ворот крепости. Сражение разгорелось в самом начале улицы Большой, ведущей к берегу Ангары. Но казаки, жандармы, простые люди с такой яростью набросились на них, что те спешно вернулись на свои позиции.
И тогда Иван Огарев подумал, что там, где не годится сила, пригодится предательство. Ведь известно, что в его планы входило проникнуть в город, добраться до Великого князя, втереться в доверие и в нужный момент открыть ворота осаждающим. И после этого выместить на брате царя все накопленное зло.
На это подталкивала Огарева и Сангарра, сопровождавшая его на всем пути. Действовать следовало без промедления. Стало известно, что русские войска Якутской губернии направились в Иркутск и сосредоточились в верхнем течении реки Лены, по долине которой они двигались. Через шесть дней они должны были достичь Иркутска. А значит, через шесть дней Иркутск должен быть предан. Иван Огарев больше не колебался.
Вечером 2 октября в большом зале дворца генерал-губернатора состоялся военный совет. Его вел Великий князь. Дворец этот, построенный в конце улицы Большой, возвышался на берегу реки. Окна его фасада смотрели на татарский лагерь, который артиллерия осажденных сделала нежилым. Великий князь, генерал-губернатор Воронцов, он же градоначальник, Глава купечества и с ними большое количество высших офицеров только что вынесли решение.
— Господа, — говорил Великий князь, — вы прекрасно знаете наше положение. Я твердо уверен, что мы продержимся до прибытия войск из Якутска. Только тогда мы сможем отогнать эти орды. И пусть меня никто не обвиняет, что они дорого заплатят за вторжение на русскую землю.
— Ваше Высочество, вы можете рассчитывать на население города, — ответил генерал Воронцов.
— Знаю, генерал, — говорил Великий князь, — и я воздаю, должное его патриотизму. Слава Богу, что нет еще эпидемий и голода, и я уверен, что мы избежим этих несчастий. На крепостной стене я не надивуюсь мужеству людей. Вы слышите меня, господин Глава купечества? Я прошу донести мои слова до народа.
— Благодарю вас, Ваше Высочество, от имени города, — отвечал тот. Смею ли я узнать, когда прибывает войско из Якутска?
— Не больше, чем через шесть дней, — отвечал Великий князь. — Ловкий и находчивый лазутчик смог проникнуть сегодня утром в город и сообщил, что пятьдесят тысяч русских форсированным маршем под руководством генерала Киселева идут на выручку. Два дня назад они были на берегах Лены, в Киренске, и теперь ни ранние холода, ни снег уже не смогут им помешать. Пятьдесят тысяч хорошо обученных солдат, обойдя татар по флангу, ударят по ним и освободят нас.
— Добавлю, — сказал Глава купечества, — со своей стороны, Ваше Высочество, мы будем готовы выступить по первому вашему приказу!
— Благодарю вас, — ответил Великий князь, — дождемся, когда головные части войск появятся на высотах и ударим со своей стороны.
И, повернувшись к генералу Воронцову, заметил:
— Завтра необходимо посмотреть, как ведутся работы по укреплению правого берега. Ангара уже гонит лед и скоро встанет, и тогда татары попытаются прорваться с этого направления.
— Позвольте заметить, — сказал Глава купечества.
— Слушаю вас.
— Я не раз видел, как Ангара катила свои волны и при температуре в 30-40 градусов ниже нуля, обмерзая лишь по берегам. Если татары не найдут другого способа переправиться через реку, я могу гарантировать Вашему Высочеству, что они не войдут в Иркутск с той стороны.
Генерал-губернатор подтвердил сказанное.
— Это нам на руку, — ответил Великий князь. — Тем не менее надо быть готовым к любому повороту событий.
Повернувшись к полицмейстеру, он спросил:
— У вас есть, что сказать мне?
— Следует довести до сведения Вашего Высочества прошение, адресованное через моего посредника, — ответил полицмейстер.
— Адресованное кем?..
— Ссыльными в нашем городе, которых, как известно, насчитывается у нас пятьсот душ.
Политические ссыльные, раскиданные по всем провинциям губернии, с начала нашествия были сосредоточены в Иркутске. Они тут же подчинились приказу и покинули поселки и города, где работали врачами, учителями в гимназиях и разных школах. Великий князь, полагаясь на их патриотизм, вооружил их и оказался прав — они показали себя храбрыми защитниками.
— Чего же хотят ссыльные? — спросил он.
— Они просят Ваше Высочество, — ответил полицмейстер, — разрешения создать специальный отряд и быть в первых рядах наступающих.
— Что ж, — не скрывал волнения Великий князь, — они — русские, и это их право — драться за свою страну!
— Смею утверждать, Ваше высочество, что храбрее солдат, чем ссыльные, не отыскать, — отвечал генерал-губернатор.
— Но им нужен командир, — говорил Великий князь. — Кто им станет?
— Они просят Ваше высочество, — сказал полицмейстер, — назначить одного из них, особо отличившегося в сражении.
— Он русский?
— Русский, из балтийских провинций.
— Как его зовут?
— Василий Федор.
Это был отец Нади. Врач по профессии, он был образованным, милосердным и в то же время мужественным человеком. Он успевал лечить своих больных и организовывать сопротивление татарам. До этого ссыльные бились в одних рядах с местными жителями, но и там не могли не привлечь внимание Великого князя. В лихих вылазках многие из них своей кровью оплатили долг перед святой Россией! Василий Федор вел себя героически. Его имя не раз упоминалось в приказах, но он никогда не просил для себя особых милостей или благосклонности. И когда ссыльные задумали сформировать в Иркутске специальный отряд, он даже не подозревал, что они решат назначить его своим командиром.
Едва полицмейстер назвал это имя, Великий князь сказал, что оно ему известно.
— А почему бы нет, — сказал генерал-губернатор Воронцов, — Василий Федор доказал свою храбрость и доблесть. Его влияние на товарищей огромно,
— А с какого времени он живет в Иркутске? — спросил Великий князь.
— Уже два года.
— А чем отличается его поведение?
— Это поведение, — отвечал полицмейстер, — есть поведение человека, подчинившегося закону и следующего предписанным ему правилам.
— Генерал, — сказал Великий князь, — будьте добры, доставьте мне его немедленно!
Не прошло и полчаса, как приказ Великого князя был выполнен и Василий Федор предстал перед лицом царствующей особы. Это был мужчина лет сорока, высокий, со строгим и печальным лицом. Глядя на него, можно было подумать, что вся его жизнь была сплошная борьба, что он только и делал, что боролся и страдал. Черты лица были поразительно схожи с чертами лица его дочери Нади.
Татарское нашествие ударило по нему, как ни по кому другому, лишило его отцовской любви и разрушило последние надежды. Из последнего письма, полученного из родного города, за восемь тысяч верст отсюда, он узнал о смерти жены и о том, что его дочь выехала к нему, исхлопотав разрешение на проезд в Иркутск.
Надя должна была отправиться из Риги еще 10 июля, нашествие же началось 15 июля. Если к этому времени она успела переехать сибирские границы, страшно подумать, что с нею может случиться среди захватчиков. Несчастного отца раздирали мучения, поскольку с той поры он не получил от дочери ни единой весточки.
Василий Федор остановился перед Великим князем, поклонился в ожидании вопросов.
— Василий Федор, — начал Великий князь, — твои товарищи по ссылке испрашивают разрешение сформировать отборный отряд. Они знают, что в таких отрядах нужно биться до последнего человека?
— Знают, — ответил Василий.
— Они хотят, чтобы командиром стал ты.
— Я, Ваше высочество?
— Ты согласен возглавить отряд?
— Да, если это на благо России.
— Командир, — сказал Великий князь, — ты больше не ссыльный!
— Благодарю, Ваше высочество, но могу ли я теперь командовать ссыльными?
— Все они уже больше не ссыльные!
Брат царя даровал помилование всем ссыльным, а с этой минуты они стали для него товарищами по оружию. Василий с волнением пожал руку, протянутую Великим князем, и вышел. Великий князь повернулся к офицерам и, улыбаясь, оказал:
— Государь не откажется принять письмо о помиловании, которое я направлю ему! Нам нужны герои для защиты Иркутска.
Помилование, великодушно дарованное ссыльным, было актом доброй справедливости и умной политики.
Наступила ночь. Из окон дворца были видны огни далекого татарского лагеря за Ангарой. Река несла на себе льдины, которых становилось все больше, и некоторые из них задерживались у свай деревянных мостов. Те же, что держались на стремнине, плыли о большой скоростью. И это вселяло уверенность, что Ангара здесь замерзнет еще не скоро. А это значило, что опасность нападения с этой стороны пока отпадала.
Пробило десять часов вечера. Великий князь собирался отправить своих офицеров отдыхать и самому удалиться, когда послышался шум у дворца. Почти тотчас же дверь в залу отворилась, на пороге возник адъютант и, подойдя к Великому князю, объявил:
— Ваше высочество, царский курьер!
Глава XIII
Царский курьер
Все члены военного совета безотчетно придвинулись к двери. Царский курьер, пробравшийся в Иркутск! Если бы эти офицеры имели время поразмыслить над этим фактом, они, конечно же, решили бы, что это невероятно.
Великий князь быстро подошел к адъютанту.
— Сюда курьера! — приказал он.
Вошел мужчина усталого вида. На нем была изношенная, кое-где даже порванная и со следами пуль крестьянская одежда. На голове шапка-ушанка. Плохо зарубцевавшийся шрам пересекал его лицо. По всему было видно, что он прошел долгий и опасный путь. Сапоги его почти разваливались и указывали на то, что немалую часть дороги он прошел пешком.

— Ваше высочество, Великий князь! — воскликнул он, войдя. Тот подошел к нему ближе.
— Ты курьер царя?
— Да, Ваше высочество!
— Откуда же ты идешь?
— Из Москвы.
— Когда ты ее покинул?
— 15 июля.
— Как тебя зовут?
— Михаил Строгов.
Но это был Иван Огарев, укравший имя и полномочия того, кого он полагал, если не уничтожил, то превратил в немощного. Ни сам Великий князь, никто в Иркутске не знали его в лицо, и не было никакой нужды маскировать его. Никто не мог усомниться в том, что он подлинный курьер, на это у него имелось доказательство. Железная воля привела его сюда, чтобы ускорить с помощью предательства и убийства развязку драматического нашествия.
Выслушав Ивана Огарева, Великий князь подал знак, и офицеры удалились. Лже-Строгов и князь остались одни а зале. Несколько минут брат царя внимательно рассматривал Огарева. Затем спросил:
— Значит, ты был 15 июля в Москве?
— Так точно, Ваше высочество, и в ночь с 14-го на 15-е встречался с государем в Новом Дворце!
— Его послание при тебе?
— Вот оно.
И Иван Огарев вручил Великому князю письмо, уменьшенное до невероятно малых размеров.
— Это письмо было дано тебе в таком состоянии?
— Никак нет, Ваше высочество, но я вынужден был вскрыть конверт, чтобы запрятать его от солдат эмира.
— Так ты побывал в плену?
— Да, Ваше высочество, несколько дней, — отвечал Огарев. — Выехав из Москвы, как указано в письме, 15 июля, я прибыл в Иркутск только 2 октября, после семидесяти девяти дней путешествия.
Великий князь взял письмо, развернул его, узнал подпись царя и обычное его обращение к брату. Никакого сомнения в подлинности послания и личности курьера! Поначалу его нелюдимое лицо внушило некоторую подозрительность, но князь не выказал ее, и вот теперь она окончательно растаяла.
Великий князь медленно вчитывался в послание, стараясь лучше понять его смысл. Затем снова заговорил:
— Михаил Строгов, тебе известно содержание этого письма?
— Да, Ваше высочество. Были ситуации, когда я мог уничтожить его, чтобы оно не попало в руки татар, но хотел донести точный текст до Вашего высочества.
— В этом письме говорится, чтобы мы стояли до последнего и скорее умерли, чем сдали Иркутск.
— Я знаю это.
— И тебе известно, что в нем указана дислокация войск, их передвижение и взаимодействие, чтобы противостоять нашествию?
— Да, Ваше Высочество, но все эти передвижения окончились неудачей.
— Что ты хочешь сказать этим?
— Только то, что Ишим, Омск и Томск, главные города Сибири, были один за другим сданы Феофар-Хану.
— Но были ли сражения? Наши казаки встретили татар?
— Много раз, Ваше высочество!
— И отступили?
— Силы были неравные.
— В каком месте происходил бой?
— В Колывани, в Томске…
До сих пор Иван Огарев говорил только правду, но чтобы поколебать решимость защитников Иркутска, добавил не без умысла:
— И в третий раз у Красноярска…
— И чем же закончилась эта схватка? — произнес князь сквозь сжатые губы.
— Это была больше, чем стычка, — ответил Огарев, — Ваше высочество, это была битва.
— Битва?
— Двадцать тысяч русских из приграничных провинций и Тобольской губернии столкнулись со 150-тысячной армией татар и, несмотря на все их мужество, были уничтожены до одного человека.
— Ты лжешь! — воскликнул Великий князь, напрасно пытаясь побороть гнев.
— Я говорю правду, Ваше высочество, — холодно ответил Огарев. — Я участвовал в этой битве, и там меня взяли в плен!
Великий князь остыл и знаком дал понять Огареву, что он не сомневается в его правдивости.
— И когда же произошла эта битва? — спросил он.
— 2 сентября.
— Значит, теперь все татарское войско сосредоточено вокруг Иркутска?
— Все.
— И какова же его численность, как ты думаешь?
— Четыреста тысяч человек…
Это новое преувеличение татарских сил преследовало все ту же цель.
— Что же, я не дождусь никакой помощи от западных провинций? — спросил князь.
— Никакой, Ваше высочество, по крайней мере до начала зимы.
— Так вот, Михаил Строгов. Даже если никакой помощи мне не будет ни с запада, ни с востока, даже если у этих варваров будет 600-тысячная армия, Иркутска я не сдам!
Злые глаза Огарева еще больше потемнели. Казалось, что у предателя сейчас вырвется сокровенное и он вслух скажет, что это могло бы произойти, если бы он не помогал татарам.
Великий князь обладал горячим темпераментом и с трудом сохранил спокойствие, узнав эти гибельные новости. Он ходил взад и вперед по салону перед Огаревым, который следил за ним глазами, как зверь за добычей. Князь останавливался у окон, смотрел на огни татарского лагеря, прислушивался к шуму, долетающему с улицы, но все заглушали треск и шуршание плывущих льдин.
Прошло четверть часа, а он больше не задал ни одного вопроса.
Затем вновь взял письмо и перечел еще раз одно место.
— Ты знаешь, Строгов, что в этом письме идет речь об одном предателе, которого я должен опасаться?
— Да, Ваше высочество.
— Он попытается проникнуть в Иркутск, переодевшись, и постарается войти ко мне в доверие, а в нужный момент сдать город.
— Я все это знаю, Ваше высочество, а также и то, что Огарев поклялся отомстить брату царя лично.
— Почему?
— Говорят, что этот офицер был приговорен Великим князем к разжалованию и лишению всех наград.
— Да… я припоминаю… Но он то заслужил, негодяй, а теперь и привел в свою страну варваров!
— Его Величество государь, — ответил Огарев, — считал особенно важным предупредить вас о замыслах Ивана Огарева, который что-то задумал против вашей персоны.
— В послании об этом говорится.
— Государь лично говорил мне об этом, предупреждая, что во время моей поездки по Сибири я особо должен остерегаться этого предателя.
— И ты его встретил?
— Да, Ваше высочество, после битвы в Красноярске. Если бы он заподозрил, что я везу письмо Вашему высочеству, в котором его планы раскрыты, он бы меня не помиловал.
— Да, ты был бы обречен, — ответил князь. — Как же тебе удалось бежать?
— Бросившись в реку…
— А как ты пробрался в Иркутск?
— Воспользовался вылазкой наших людей, которые предприняли ее, чтобы отбросить татар. Я смешался и так проник в город, где назвался и меня тотчас же привели к Вашему высочеству.
— Хорошо, — сказал князь, — ты проявил смелость и усердие, выполняя эту трудную миссию, и я тебя не забуду. У тебя есть какие-то просьбы ко мне?
— Никаких, кроме как сражаться рядом с Вашим высочеством!
— Пусть будет так. С этого часа считай себя на службе у меня лично и оставайся в этом дворце.
— А если появится Иван Огарев под вымышленным именем?
— Мы его разоблачим благодаря тебе, знающему его в лицо, и я запорю этого мерзавца. Ступай.
Иван отдал честь Великому князю, ни на минуту не забывая, что он капитан отряда курьеров царя, и удалился.
Итак, Огарев успешно разыграл им же написанную роль и получил доверие брата царя. Теперь он мог злоупотреблять им всегда и везде. Он даже будет жить во дворце и получит доступ ко всем секретам и планам защитников города. Он владел ситуацией полностью. Никто в Иркутске не мог раскрыть его. Он решил действовать без промедления.
Время торопило. Важно было, чтобы город пал до подхода русских сил с севера и востока, а они должны были появиться через несколько дней. Овладев городом, татары не смогут долго удерживать его. Во всяком случае, они не уйдут из него, пока не разрушат все до основания и пока голова Великого князя не упадет к ногам Феофан-Хана.
Огарев имел право беспрепятственно передвигаться где угодно, что угодно осматривать и посещать, и он тут же воспользовался этим, чтобы попасть на укрепления. Повсюду его сердечно встречали офицеры и солдаты. Этот царский курьер соединил их с матушкой-Россией. А он присущей ему самоуверенностью сочинял подробности якобы трудного путешествия. И в то же время ловко вворачивал, не заостряя на том внимания, какая серьезная ситуация грозит им, преувеличивал силы татар и их успехи, так же как делал это в разговоре с Великим князем. Послушать его, так ожидаемых сил будет явно недостаточно, и надо ждать, что битва будет проиграна так же, как под Колыванью, Томском или Красноярском.

Иван Огарев осторожно сеял панические слухи среди защитников Иркутска. И только тогда, когда казалось, что от ответов уже нельзя уйти, он делал это с большим сожалением. На всякий случай он обязательно добавлял, что надо защищаться до последнего человека скорее взорвать город, чем сдать его врагу.
Много зла могла причинить паника. Но гарнизон и жители Иркутска не были бы сибиряками, если бы позволили себе поддаться ей и дрогнуть. Никто из окруженных в этом городе и не подумывал о капитуляции. Презрение русских к варварам было безграничным.
К сожалению, никто не подозревал, какую гнусную роль играет этот человек, никто и в голову не мог взять, что царский курьер может оказаться шпионом.
Обстоятельства сложились так, что вскоре после прибытия Огарева в Иркутск между ним и одним из самых смелых защитников города Василием Федором установились тесные отношения.
Мучительное беспокойство терзало отца Нади. Если его дочь и впрямь покинула Россию в указанный срок, о котором он узнал из ее письма, то где она и что с нею стало? Пыталась ли она и сейчас пробираться по захваченным провинциям или уже давно была в плену? Василий Федор избавлялся от своей душевной боли только тогда, когда дрался с татарами на укреплениях. Но после боя страдания просыпались вновь.
И когда он узнал о столь неожиданном прибытии царского курьера, у него появилось предчувствие, что тот может сообщить ему что-то о судьбе Нади. На это было мало надежды, но он ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку. Может быть, он встречал ее в плену?
Василий нашел Огарева, и тот стал каждый день встречаться с командиром бывших ссыльных. Зачем ему это было надо? По-видимому, отступник судил обо всех людях по себе. Он, видимо, рассчитывал, что ссыльный, пусть даже помилованный, может пойти на подлость и изменить своей стране. Как бы то ни было, но Огарев поспешно пошел на сближение, ловко прикрывая свои намерения.
Отец Нади появился во дворце на следующий день после того, как прибыл царский курьер, и здесь рассказал Огареву о том, что его дочь отправилась к нему из европейской России, при каких обстоятельствах это произошло, и поделился с ним своими опасениями.
Иван Огарев не знал Надю, хотя и видел ее на почтовой станции в Ишиме. Но обратил он тогда внимание не на нее, а только на двух журналистов-иностранцев, бывших там же, и ничего не мог сообщить Василию о судьбе девушки.
— А когда ваша дочь, — спрашивал Огарев, — должна была покинуть русскую территорию?
— Примерно в то же время, что и вы, — отвечал Василий.
— Я выехал из Москвы 15 июля.
— И Надя должна была покинуть Москву в то же время. Об этом я узнал из ее письма.
— Она была в Москве 15 июля? — спросил Огарев.
— Да, конечно.
— Ну, да… — произнес Огарев и, спохватившись, добавил: — Возможно, я ошибаюсь… Я спутал даты… Вероятно, к несчастью, ваша дочь перешла границу, и можно лишь надеяться на то, что остановилась в пути, узнав о нашествии татар!
Василий опустил голову. Он хорошо знал Надю, ее не могло остановить ничто. Иван Огарев жестоко мучил бедного отца. Ему ничего не стоило одной фразой ободрить Василия, и тогда тот, сопоставив дату пребывания дочери в Нижнем Новгороде и дату выхода правительственного постановления, запрещающего выезд, мог бы подумать, что Надя не могла попасть в Сибирь и что она, против своей воли, все-то еще находится за Уралом.
Огарев мог сказать это, но такой уж это был человек, что его мало волновали страдания других людей. Василий ушел с разбитым сердцем. После этого разговора рухнула последняя надежда.
Два дня подряд, 3 и 4 октября, Великий князь неоднократно вызывал к себе лже-Строгова и заставлял его заново повторять все, что он слышал в кабинете государя в Новом Дворце. Иван был готов и без колебаний отвечал на любой вопрос. Он преднамеренно не скрывал, что царское правительство нападение татар застало врасплох, что оно было тщательно и в строжайшем секрете подготовлено, что они хозяйничали уже на Оби, когда о восстании узнали в Москве, и, наконец, что в провинциях войска не были готовы к быстрой переброске в Сибирь, чтобы остановить войска эмира.
Полностью свободный в своих действиях, Огарев изучал Иркутск, в основном осматривая укрепления и выявляя слабые места, чтобы позже воспользоваться вызнанным, если случай помешает ему совершить предательство. Особенно тщательно он осматривал ворота в конце Большой.
За это время он дважды, вечером, приходил на земляной вал у этих ворот и безбоязненно, на виду осаждающих, находящихся в версте, прогуливался по откосу. Он хорошо знал, что ему ничто не угрожает, что его видят и узнают. И замечал, как чья-то тень скользила у подножья укрепления…
Верная Сангарра, рискуя жизнью, пыталась связаться с ним!
Осажденные вот уже два дня наслаждались передышкой, которой татары не давали им с первого дня окружения. Делалось это по приказу Огарева. Подручный Феофан-Хана хотел, чтобы попытки захвата города силой были пока отложены. Потому-то со дня его прибытия в Иркутск татарские пушки замолчали. Он надеялся, что бдительность осажденных притупится. На передовых позициях тысячи воинов были готовы броситься на штурм неохраняемых ворот по первому приказу Ивана Огарева.
Медлить было нельзя. Взять город требовалось до подхода русских войск. Огарев принял решение, и в этот вечер с откоса полетела записка и попала в руки Сангарры.
Послезавтра, в ночь с 5 на 6 октября, Иван Огарев решил сдать Иркутск.
Глава XIV
Ночь с 5 на 6 октября
Свой план Огарев продумал самым тщательным образом, и он, несомненно, удастся, если, конечно, не случится чего-то из ряда вон выходящего. Упор он сделал на то, что ворота на улице Большой в момент нападения должны быть свободны. А это можно было сделать, только отвлекая защитников на другой участок обороны. Поэтому они с эмиром и задумали ложную атаку.
Со стороны предместья, вверху и внизу по течению реки, на правом берегу, в одно и то же время и сразу в двух точках должна была начаться эта атака. Кроме того, с левого берега будет предпринята попытка переправиться через Ангару. Ворота на Большой должны были остаться без надежной защиты, тем более что в целях маскировки татары сняли свои посты, расположенные напротив них.
Настало 5 октября. Меньше, чем через сутки, столица Восточной Сибири должна была оказаться в руках эмира, а Великий князь — во власти Огарева.
Весь этот день в татарском лагере на левом берегу происходило необычайное оживление. Из окон дворца и домов на набережной была хорошо видно, как за рекой велись приготовления. Отряды воинов стекались в лагерь и все шли, шли на подкрепление войскам эмира. Это и был условленный отвлекающий маневр, старательно подчеркиваемый противной стороной.
Иван Огарев открыто говорил князю, что следует опасаться атаки с этой стороны. Говорил, что ему известно о намерении татар предпринять штурм города выше и ниже течения Ангары, и советовал укрепить эти две позиции.
Наблюдения подтверждали сказанное Огаревым, и надо было срочно принимать меры. Поэтому военный совет, собравшийся во дворце, решил усилить защиту по правому берегу и на концах города, где земляные валы подходили к реке. Это и было нужно Огареву. Конечно, он не мог рассчитывать, что ворота на Большой останутся вовсе без защитников, но их силы будут ослаблены. Огарев выложил все, что умел, но постарался, чтобы этот маневр защитники приняли едва ли не за последний штурм города. По приказу Великого князя основные силы стянулись в указанные точки.
Пока все шло по задуманному Огаревым плану. И даже если бы Иркутск не был атакован, одних только приготовлений было достаточно, чтобы отвести солдат от ворот. Катастрофа надвигалась. Тысячи татар скрывались в густых лесах и ждали, чтобы в назначенный час ринуться к незащищенным воротам.
Весь этот день гарнизон и жители Иркутска провели начеку. Были приняты все меры, чтобы прикрыть позиции, которые враг до сих пор не трогал, а вот теперь собирался неизбежно атаковать. Великий князь и генерал Воронцов объехали посты, усиленные по приказу.
Отборный отряд Василия Федора занимал северную часть города, но был готов отправиться в любой миг туда, где могла появиться угроза прорыва. На правом берегу сосредоточили имеющуюся артиллерию. Меры были приняты своевременно, и все надеялись, что благодаря рекомендациям «царского курьера» готовящийся штурм не удастся. К тому же с часу на час ожидалось прибытие войск с севера. Судьба Иркутска висела на волоске.
В этот день солнце взошло в шесть часов двадцать минут и зайти должно было в пять часов сорок минут вечера, совершив за одиннадцать часов свой дневной путь. Еще пару часов над городом будут висеть сумерки, а потом навалится густая тьма, так как все небо было затянуто тучами и луны не было видно. Даже природа благоприятствовала планам Огарева.
Вот уже несколько дней было студено, и не за горами были суровые морозы. В этот вечер холод был собачий. Но солдаты, занимавшие правый берег, вынужденные скрывать свое присутствие, даже не зажигали костров. Рукой подать от них, проплывали льдины. Весь день они шли вниз по реке, заполняя собой поверхность воды от берега до берега. Осенний ледоход рассматривался Великим князем и его офицерами как благоприятное обстоятельство. Ведь если русло Ангары забьет зыбкий лед, переправа станет невозможной. Татары не смогут использовать ни лодки, ни плоты. Не смогут они и перебраться по льду, если мороз скует его, слишком он еще тонок и опасен.
Иван Огарев, напротив, сожалел бы, если б Ангара встала, поскольку это было на руку защитникам. Но предатель знал, что татары и не сунутся в реку и что с этой стороны будут только делать вид, что атакуют.
Но к десяти вечера, к огорчению осажденных, река вдруг очистилась ото льда. И только что немыслимая переправа стала возможной. Льдины, которым, казалось, нет конца, исчезли по течению, и только несколько их плыло сейчас между берегами. И даже не льдины, а куски ледяного припоя, на что указывали характерные четкие надломы в местах отрыва.
Офицеры, заметив, что русло реки освободилось, немедля доложили о том Великому князю и сделали вывод, что в каком-то узком месте Ангары образовался затор. Нам известно, что так и случилось Переправа в этом месте Ангары, напротив набережной города, стала возможной, и это заставляло русских удвоить бдительность.
До полуночи, однако, ничего не произошло. За воротами на Большой, выходящими на восточную сторону, царила полная тишина. Ни один огонек не мигал в глухой тайге, сливавшейся с низкими тучами. Зато в лагере за Ангарой мелькали факелы, указывающие на перемещение войск. А в версте от тех мест, где земляные валы упирались в реку, слышался приглушенный шум, выдававший присутствие татар, готовых броситься на штурм по сигналу.
Прошел еще один час. Все было тихо. Скоро на колокольне Иркутского собора должно пробить два часа, но ничто не свидетельствовало о враждебных намерениях татар. Великий князь и офицеры спрашивали себя, не были ли они введены в заблуждение и в самом ли деле армия эмира попытается сегодня застать их врасплох? Даже предыдущие ночи были менее спокойными, чем нынешняя. Не проходило и часа, чтобы не гремела стрельба* не визжали в воздухе осколки, а сейчас — ничего.
Великий князь, генерал Воронцов и их адьютанты ждали, чтобы отдать необходимые приказы.
Иван Огарев занимал во дворце комнату на первом этаже, окна из нее выходили на боковую террасу. Достаточно было открыть одно из них, сделать несколько шагов, и ты окажешься на террасе с видом на Ангару. В комнате было темно. Огарев, стоя у окна, ждал, когда придет время действовать. Сигнала ждали от него. Как только он его подаст и защитники города кинутся к местам, где татары якобы начали штурм, он покинет дворец и отправится выполнять свое дело.
Так он ждал в полной темноте, будто хищник, готовый броситься на жертву. И вдруг за несколько минут до условленного часа его вызвали к Великому князю. Адьютант подошел к его комнате, дверь ее была заперта. Тогда он позвал его… Иван Огарев, затаив дыхание, не шелохнувшись стоял у окна и не откликнулся. Великому князю доложили, что царского курьера во дворце нет.
Пробило два часа. Наступил миг, когда татары должны были начать свой маневр. Огарев открыл окно комнаты и встал в северном углу боковой террасы.
Совсем рядом текли воды Ангары, с ревом бились о столбы разрушенных мостов. Он вытащил из кармана запал, выбил искру, поджег кусок пакли, пропитанный порохом, и бросил ее в реку…
Это по его приказу потоки нефти уже разлились по Ангаре. Нефтяные источники разрабатывались выше Иркутска на правом берегу, между поселком Пскавском и городом. Огарев решил использовать их, чтобы поджечь Иркутск. Огромные резервуары с горючей жидкостью были в его распоряжении, достаточно было пробить их, чтобы нефть хлынула из них потоками, что и было сделано этой ночью несколькими часами ранее. Вот почему плот, на котором находился настоящий царский курьер, Надя и остальные беглецы, плыл по слою нефти. Через дыры в резервуарах, содержащих миллионы кубометров жидкости, нефть хлынула в реку.
Вот так Огарев понимал войну! Вот так он действовал против своих соотечественников!
Пакля была брошена. В одно мгновение, как если бы это тек спирт, вся река вспыхнула сверху донизу, будто по ней проскочила электрическая искра. Клубы голубоватого дыма взметнулись над берегами. Огромные тучи сажи поднялись на воздух. Редкие льдины, охваченные пылающей жидкостью, таяли как воск на плите, шипела испаряющаяся вода.
В тот же миг началась перестрелка на севере и юге города. Начали бить татарские батареи с того берега. Тысячи воинов эмира бросились на штурм укреплений. Дома близ воды разом вспыхнули на обоих берегах. Яркий свет разогнал ночную тьму.

— Наконец-то! — сказал Иван Огарев.
Он с полным правом мог себе аплодировать. Отвлекающий маневр, задуманный им, был ужасен по своей силе. Защитники Иркутска оказались между двумя огнями: нападавших и горевшей реки. Зазвонили колокола, и все, кто мог, бежали или на атакованные позиции, или к горящим домам, пожар от которых грозил перекинуться на весь город.
На воротах по Большой осталось всего несколько защитников. Но даже тут приложил руку предатель, по его наущению они были выбраны из числа ссыльных. Случись какая неудача, нападение можно будет объяснить политическими причинами и отвести от себя все подозрения.
Огарев вернулся в свою комнату, теперь ярко освещенную пламенем с Ангары, которое едва ли не доставало до перил террасы. И уже собрался было выйти, и уже открыл дверь, как какая-то женщина в мокрой одежде с растрепанными волосами ворвалась к нему.
— Сангарра! — воскликнул Огарев, не представляя, чтобы другая женщина, не цыганка, могла появиться здесь.
Но это была не Сангарра. Это была Надя.
В тот самый момент, когда, спасаясь на льдине, девушка закричала, увидев бегущий огонь, Михаил схватил ее на руки и нырнул в Ангару. Льдина, на которой они плыли, была всего в тридцати саженях от набережной. Проплыв под водой, ему удалось выкарабкаться на берег. Михаил Строгов был в Иркутске!
— Вот дворец генерал-губернатора! — сказал он Наде.
Через десять минут они уже стояли у входа во дворец, каменный фундамент которого едва ли не лизало пламя с Ангары. Пожар не доставал до здания, зато дальше по берегу пылали все деревянные дома.
Михаил и Надя без затруднения проникли во дворец, сейчас открытый для каждого. Среди общего смятения никто не обратил на них внимания, хотя они были с ног до головы мокрыми.
Офицеры, прибывшие за приказами, и солдаты, бегущие их исполнять, заполняли большой зал на первом этаже. В бурлящей толпе Михаил и Надя потеряли друг друга, и девушка побежала под низкими сводами, окликая спутника, умоляя кого-то по дороге отвести ее к Великому князю.
Вдруг дверь распахнулась в одну из ярко освещенных огнем с улицы комнат, и она неожиданно оказалась лицом к лицу с тем, кого впервые увидела в Ишиме, потом в Томске, того, чья преступная рука уже собралась сдать город врагу!
— Иван Огарев! — крикнула она.
Услышав свое имя, предатель вздрогнул. Ведь если его имя откроется, все его планы рухнут. Ему ничего не оставалось, как тут же убить ту, которая только что назвала его, кем бы она ни была.
Он бросился на Надю, но та, зажав а руке нож, оперлась спиной о стену и приготовилась защищаться.
— Иван Огарев! — крикнула она изо всех сил, зная, что это ненавистное имя скорее всего пошлет ей помощь.
— Да замолчи ты! — заорал предатель.
— Иван Огарев! — еще раз крикнула девушка необыкновенно громким голосом, силу которого удесятеряла ненависть.
Взбешенный Иван Огарев выхватил из-за пояса кинжал и бросился за Надей. Загнал ее в угол, и через секунду с ней было бы покончено. Но тут мерзавец, отброшенный неведомой силой, покатился по полу.
— Михаил! — крикнула Надя.
Это был он, Михаил Строгов.
Услышав крик Нади, он побежал на него, ворвался в открытую дверь и попал в комнату Огарева.
— Ничего не бойся, Надя! — сказал он, вставая между ней и предателем.
— Осторожно, брат! — воскликнула та. — Он вооружен! И он прекрасно видит!
Огарев поднялся с пола и кинулся на Михаила, надеясь легко одолеть слепого. Но тот одной рукой поймал руку зрячего, а другой, увернувшись от кинжала, еще раз швырнул его на пол. Бледный от ярости Огарев вспомнил, что у него есть сабля. Он выдернул ее из ножен и замахнулся. Он тоже узнал, кто перед ним. Слепой! Перед ним стоял всего лишь слепой! Удача была на его стороне!
Перепуганная Надя бросилась было к двери, зовя на помощь брату, которому грозила смертельная опасность в этой неравной борьбе.
— Закрой дверь, Надя! — сказал Михаил. — И никого не зови. Позволь мне самому рассчитаться. Царскому курьеру больше не нужно опасаться этого негодяя. Пусть подойдет ко мне, если осмелится. Я жду его!
Огарев, сжавшись, как тигр перед броском, не произнес ни слова. Он хотел бы, чтобы не только шума шагов, но даже его дыхания не услышал слепой. И хотел ударить без предупреждения. Ударить наверняка. Изменник вовсе не захотел драться, хотел только убить того, чье имя он похитил.
В Наде перемешались все чувства: испуг и вера, ужас и восхищение, с которым и она наблюдала эту сцену. Казалось, что спокойствие Михаила перелилось в нее. У Михаила был только охотничий нож, и он не видел, а у его зрячего противника была сабля. Но что за небесная благодать возвышала его над предателем? Почти не двигаясь, он противостоял острию сабли.
Огарев с видимым страхом наблюдал за своим странным противником. Это сверхчеловеческое спокойствие действовало и на него. Напрасно, призывая весь свой разум, убеждал он себя, что в этой неравной схватке преимущество на его стороне. Неподвижность слепого словно парализовала его. Глазами он искал, куда бы нанести смертельный удар… И нашел. Но что-то еще мгновение удерживало его от замаха.
Наконец он прыгнул и нанес удар прямо в грудь Михаила Строгова. Незаметным движением ножа слепой отвел клинок. И даже не был задет, а хладнокровно ждал еще одной атаки.
Холодный пот струился со лба Огарева. Он сделал шаг назад и вновь бросился вперед. Но и второй удар провалился. Ну и балаган! Ему и одного ножа достаточно, чтобы отбивать саблю!
Похолодев от ярости, он в ужасе смотрел на эту живую статую, в ее широко раскрытые слепые глаза. Эти глаза, казалось, проникали в самую его душу, они не могли видеть, но как бы гипнотизировали его.
И тогда Огарев крикнул. Неожиданное просветление нашло на его помраченный происходящим ум.
— Да он же видит! — и повторил: — Он видит!..
И, как хищник, пытающийся скрыться в своем логове, попятился в глубину комнаты. И тогда статуя ожила. Слепой двинулся на Огарева и встал перед ним.
— Да, я вижу, — сказал он. — Я вижу удар кнута, которым я пометил предателя и труса! Я даже вижу место, куда я теперь ударю тебя! Защищайся! Я даже иду на дуэль! Мне хватит ножа, чтобы совладать с твоей саблей!
— Он видит! — сказала про себя Надя. — Боже милосердный! Возможно ли это?
Огарев понял, что он обречен, но собрал себя в кулак и, распаляясь, кинулся на бесстрастного противника. Два лезвия скрестились, и сабля разлетелась от удара ножа на куски, и в тот же миг предатель, пораженный в сердце, упал замертво.
Дверь распахнулась от удара снаружи. Великий князь, сопровождаемый офицерами, появился на пороге. Подошел поближе, наклонился и узнал в мертвом того, кого считал царским курьером. Угрожающим голосом он спросил:
— Кто убил этого человека?

— Я, — ответил Михаил Строгов.
Кто-то из офицеров приставил к его виску пистолет.
— Кто ты? — спросил Великий князь, прежде чем отдать приказ разнести ему голову.
— Ваше высочество, — ответил Михаил, — спросите лучше имя человека, лежащего у ваших ног!
— Его я знаю! Это верный слуга моего брата! Царский курьер!
— Этот человек, Ваша светлость, не царский курьер. Это Иван Огарев!
— Иван Огарев? — удивленно воскликнул Великий князь.
— Да, это он, предатель!
— А ты, кто же ты?
— Михаил Строгов.
Глава XV
Заключение
Михаил Строгов не ослеп. Необъяснимые моральные и физические силы защитили глаза от жара раскаленного клинка, которым палач Феофар-Хана провел совсем близко у его лица.
Во время пытки Марфа Строгова стояла рядом и протягивала руки к сыну. Михаил смотрел на нее как будто в последний раз. Обильные слезы, поднимаясь от самого сердца, прихлынули к самым глазам, и вся его гордость не могла сдерживать их. Слезы, заполнившие глаза, спасли ему зрение. Превратившись в пар, они защитили роговицу и зрачки, и этого тонкого слоя хватило, чтобы жар сабли не успел проникнуть вглубь глаз.
Подобное происходит, когда рабочий-литейщик, окунув руку в воду, умудряется пронести ее сквозь поток расплавленного металла без серьезных последствий для себя.
Михаил тотчас же понял, что подверг бы себя смертельной опасности, раскрой он свой секрет кому бы то ни было. И сообразил, какую пользу можно извлечь из положения слепого. Его потому и бросили, что думали — он ослеп. Раз так, пусть он будет слепым для всех, и даже для Нади, слепым всегда и везде, пока не доберется до цели! И ни один жест не выдаст его! Решение было принято, и он рисковал жизнью, доказывая свою слепоту.
Одна мать знала всю правду, он шепнул ей это на ухо, когда склонился над ней, лежащей на площадке, и поцеловал.
Иван Огарев не мог знать, что Михаил видит, когда жестоко издевался над ним, помахивая письмом перед его глазами, считая их угасшими, но тот прочел это послание, раскрывающее гнусные замыслы предателя. Отсюда его энергия, отсюда его несокрушимая воля и желание во что бы то ни стало добраться до Иркутска, чтобы все-таки, пусть на словах, передать содержание этого царского письма. Он знал, что город должен быть сдан татарам! Он знал, что жизнь Великого князя была в опасности! И спасение брата государя и Сибири все еще было в его руках!
Вся эта история была коротко пересказана Великому князю, и Михаил с волнением добавил, какое участие принимала во всех событиях Надя.
— Кто эта девушка? — спросил князь.
— Дочь ссыльного Василия Федора, — ответил Михаил.
— Дочь командира Федора, — сказал князь, — перестала быть дочерью ссыльного. Сегодня в Иркутске нет ссыльных!
Надя, не такая закаленная в радости, как в несчастье, упала на колени, но Великий князь поднял ее и протянул руку Михаилу Строгову. Еще час спустя Надя была в объятиях отца. Наконец-то Михаил, Надя и Василий Федор встретились. Это было полное счастье.
Татары были отброшены от города во второй атаке. Василий Федор со своим немногочисленным отрядом разбил первую волну нападавших,которые рассчитывали, что ворота на Большой будут для них распахнуты. Он, предчувствуя, что в этом месте будет жарко, остался с защитниками.
Одновременно были потушены горевшие на берегу реки дома, и огонь не тронул остальные кварталы города.
Еще до наступления дня войска эмира убрались в свой лагерь, оставив у земляного вала много мертвых тел. В числе убитых была и цыганка Сангарра, которая напрасно пыталась увидеться этой ночью с Огаревым.
В течение двух дней осаждающие не пытались предпринять новых атак. Они были обескуражены смертью Ивана Огарева. Этот человек был вдохновителем этого нашествия, и только он один мог, строя козни против своей родины, склонить ханов и их орды на завоевание Сибири.
Но осада продолжалась, и защитники Иркутска оставались на своих боевых постах.
7 октября, едва встало солнце, на высотах, окружающих город, грянул пушечный выстрел. Подошла ожидаемая армия под командованием генерала Киселева и доложила Великому князю о своем прибытии.
Татарам больше нечего было делать у стен города, а пытать военное счастье они уже но хотели. И лагерь за Ангарой немедленно снялся. Иркутск был освобожден.
С первыми русскими солдатами в город вошли и два знакомых Михаила Строгова. Это были неразлучные Блаунт и Жоливе. Добравшись до правого берега Ангары по ледяной плотине, они, как и все другие беглецы, спаслись, прежде чем горящая нефть спалила их плот. И это было отмечено в блокноте Алсида Жоливе следующим образом:
«Чуть было не кончил свою жизнь, как лимон в чашке с пуншем!»
Они очень обрадовались встрече с живыми и здоровыми Надей и Михаилом, особенно узнав, что их храбрый попутчик зряч. И Гарри Блаунт, не удержавшись, сделал такое замечание:
«Чтобы разрушить чувствительный зрительный нерв, недостаточно может быть и раскаленного железа.»
Оба журналиста затем, удобно расположившись в Иркутске, занялись приведением в порядок своих дорожных впечатлений. Отсюда им предстояло отправить в Лондон и Париж два интереснейших материала о нашествии татар, но вот что любопытно: оба они противоречили друг другу только в самых незначительных деталях.
Кампания для эмира и его союзников оказалась проваленной. Это нашествие ничего не принесло завоевателям, как и все другие, что бесполезно обрушиваются на русского колосса. Оно стало для них пагубным. Вскоре они были разбиты регулярными войсками царя, которые отвоевали все покоренные Феофар-Ханом города. К тому же зима была необычайно суровой, и каждый десятый в этих ордах умер от холода. Лишь совсем небольшая часть завоевателей вернулась в азиатские степи.
Дорога от Иркутска до Урала была свободной. Великий князь спешил в Москву, но отложил отъезд, чтобы присутствовать на трогательной церемонии, которая состоялась вскоре после прихода русских войск.
Михаил Строгов пришел к Наде и в присутствии ее отца спросил ее
— Надя, моя сестра, ты покинула Ригу, чтобы приехать в Иркутск. Не оставила ли ты там что-то, кроме печали о своей матушке?
— Нет, — отвечала Надя.
— Никакой сердечной привязанности?
— Никакой, брат.
— Тогда я хочу сказать, Надя, что Бог свел наши пути и заставил пройти такие суровые испытания не для того, чтобы мы расстались. Не иначе, он хотел соединить нас навсегда.
— Ах, — только и сказала Надя и приникла к его груди.
Повернувшись к отцу, она сказала, покрывшись румянцем:
— Мой отец!
— Надя, — ответил тот, — для меня не будет большей радости называть вас обоих своими детьми!

Церемония бракосочетания проходила в кафедральном соборе города. Она была обычной, но очень торжественной из-за большого стечения военного и гражданского люда, который хотел засвидетельствовать свою глубокую признательность молодой паре, чье путешествие уже стало легендарным.
Алсид Жоливе и Гарри Блаунт тоже присутствовали на свадьбе и собирались дать о ней отчет в своих газетах.
— Не возникло ли у вас желания пойти по их стопам? — спросил Алсид своего коллегу.
— Подумаешь, — отвечал Гарри, — какая сложность. Вот если бы у меня была, как и у вас, кузина!..
— Моя кузина давно уже не на выданье! — засмеялся Алсид.
— Тем лучше, — добавил Гарри, — потому что поговаривают о трениях между Лондоном и Пекином. У вас нет желания составить мне компанию и прогуляться туда, посмотреть, что там происходит?
— Черт побери, мой дорогой Блаунт, — воскликнул Алсид Жоливе, — я как раз собирался тебе это предложить!
И двое неразлучных журналистов отправились в Китай!
Через несколько дней после свадьбы Михаил и Надя Строговы вместе с Василием Федором отправились за Урал. Этот тракт из дороги несчастья обернулся дорогой счастья на обратном пути. Ехали они быстро, сани легко скользили по заснеженным степям и лесам. Но как они ни спешили, а задержались на день перед селением Бирское. У реки Михаил нашел место, где похоронили бедного Николая, и они поставили над его могилой крест. И Надя прочла молитву в последний раз над последним пристанищем их скромного и терпеливого друга, которого они не имели права забывать.
А в Омске их ждала в небольшом доме Строговых мать Михаила. Она крепко обняла ту, кого уже давно называла про себя дочерью. Теперь она могла открыто гордиться своим сыном.
Несколько дней, проведенных в родительском доме, пролетели быстро. Михаил и Надя Строговы вернулись в столицу, Василий Федор тоже обосновался в Санкт-Петербурге и никогда больше ни его дочь, ни его сын не покидали его, за исключением случаев, когда они ездили проведать старую мать. Молодой курьер был принят царем, который наградил его крестом Святого Георгия и приблизил к себе.
Михаил Строгов в дальнейшем достиг высоких чинов в империи. Но не история его карьеры, а история его испытаний заслуживала того, чтобы быть рассказанной.
КОНЕЦ

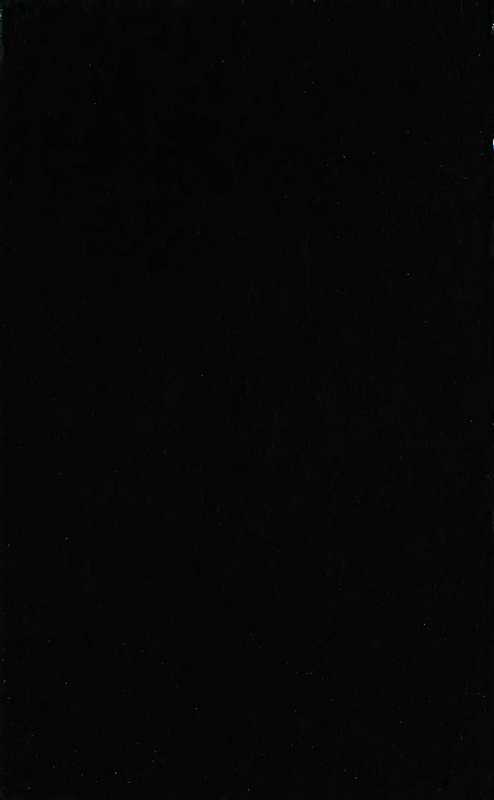
Примечания
1
Татары - собирательное название инородческих племен преимущественно тюркского происхождения.
(обратно)
2
10 000 км приблизительно.
(обратно)
3
4000 км
(обратно)
4
Дата указана неточно.
(обратно)
Оглавление
Жюль Верн
МИХАИЛ СТРОГОВ
От издателя
Часть первая
Глава I
Праздник во Дворце
Глава II
Русские и татары
Глава III
Михаил Строгов
Глава IV
Из Москвы в Нижний Новгород
Глава V
Приказ из двух параграфов
Глава VI
Брат и сестра
Глава VII
Вниз по Волге
Глава VIII
Вверх по Каме
Глава IX
Сутки, проведенные в тарантасе
Глава X
Гроза в Уральских горах
Глава XI
Брошенные на произвол судьбы
Глава XII
Провокация
Глава XIII
Долг превыше всего
Глава XIV
Мать и сын
Глава XV
Барабинские болота
Глава XVI
Последнее усилие
Глава XVII
Строфы и песни
Часть вторая
Глава I
Татарский лагерь
Глава II
Поведение Алсида Жоливе
Глава III
Удар за удар
Глава IV
Триумфальный въезд
Глава V
Смотри во все глаза!
Глава VI
На тракте
Глава VII
Переправа через Енисей
Глава VIII
Заяц, перебежавший дорогу
Глава IX
В степи
Глава X
Байкал и Ангара
Глава XI
Между берегами
Глава XII
Иркутск
Глава XIII
Царский курьер
Глава XIV
Ночь с 5 на 6 октября
Глава XV
Заключение
*** Примечания ***