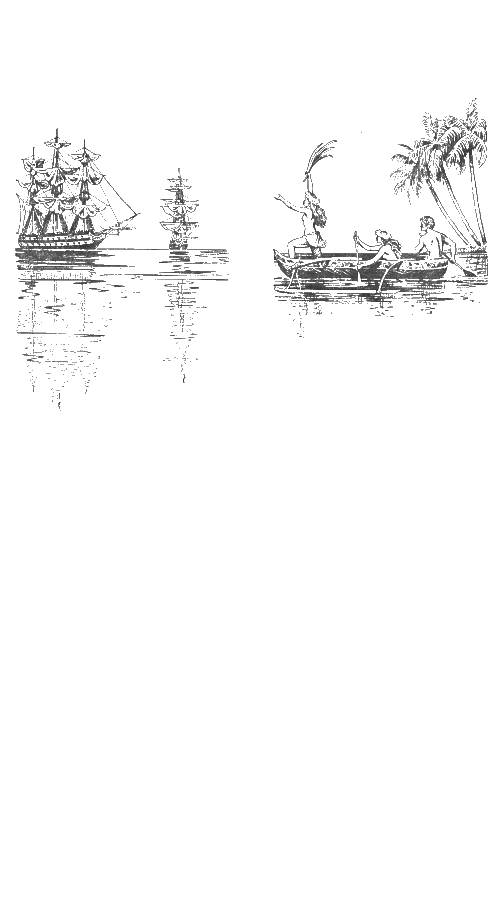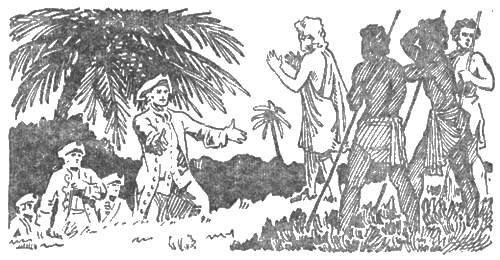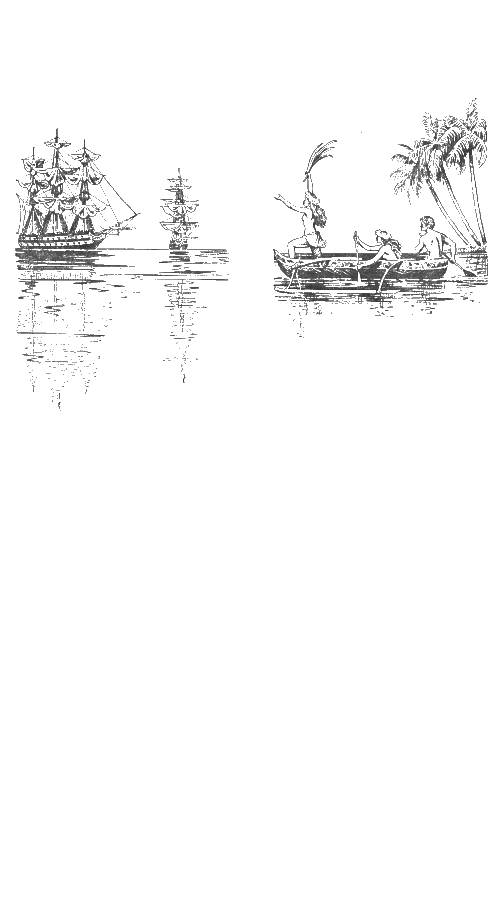

Всеволод Евреинов
Николай Пронин
ЗА УБЕГАЮЩИМ ГОРИЗОНТОМ
*
Оформление художника Л. И. ФАЛИНА
М., «Мысль», 1963
Глава I
Победа или поражение?

В плавании по морю должно повиноваться кормчему, а в жизни — человеку более других рассудительному.
Пифагор
В семь часов сели за карточные столы сыграть в пикет.
Говорили сначала о литературе, но, как это всегда бывает, постепенно перешли совсем на другие темы. Множество свечей в бронзовых канделябрах освещали ломберный столик, сидевших возле него людей, картины в позолоченных рамах.
Немолодой человек, лет пятидесяти, рассеянно посматривающий в карты, вдруг отложил их в сторону. Его нервное, очень подвижное лицо оживилось.
— Если уж зашла речь об англичанах, то, пожалуй, нельзя не отметить их страсти обращать в свою веру язычников, — сказал он. — Мне рассказывали, что один из английских миссионеров проповедовал слово божье среди туземцев далекого острова. Они долго не могли понять, какая им польза от этой веры. Миссионер сказал, что они станут рабами божьими. Туземцы решительно заявили, что не хотят быть ничьими рабами. Но миссионер нашелся. «Тогда вы будете чадами божьими», — сказал он.
Все рассмеялись.
— Я не согласен с вами, мосье Дидро, что по морям рыскают лишь одни миссионеры, — возразил молодой аббат, — все они по преимуществу искатели и авантюристы. Теперь же многие путешествия предпринимаются не только с целью наживы, но и из любви к науке. Благодаря трудам и энергии таких исследователей и удалось приобрести те знания о поверхности земного шара, которыми мы сейчас обладаем.
— Но где сейчас эти путешественники? Что-то я давно не слышал о них, — ответил Дидро. — Кто из наших соотечественников прославил себя плаваниями?
Он повернулся к пожилой даме, сидевшей в стороне:
— Может быть, кто-нибудь из них побывал в вашем салоне, мадам Жоффрен?
Хозяйка салона до сих пор не принимала участия в разговоре. Ее живые глаза ярко блестели, и это молодило морщинистое лицо. На ней было платье из простой материи и чепец, отделанный тонкими кружевами. Аристократический салон на улице Сент-Оноре был известен всему Парижу, всей Франции. В нем бывали самые выдающиеся люди страны, просветители, энциклопедисты: Дидро, Гольбах, Гримм, Рейналь, Мармонтель, Нэжон, Тюрго. Кто еще может похвалиться, кроме мадам Леспинас, что собрал у себя такое блестящее созвездие?..
Мадам Жоффрен взглянула на Дидро. Сын ножевщика из Лангра, он живет где-то на пятом этаже, с глупой и сварливой женой, а между тем это один из величайших умов Франции… Мосье Гримм, который сейчас разговаривает
с женой барона Гольбаха, один из его друзей.
Мадам Жоффрен улыбнулась:
— Так вас, мосье Дидро, интересуют прославленные путешественники? Об этом, пожалуй, лучше всего спросить моряка, шевалье дю Гарра, которого представил сегодня наш любезный Гримм. Мосье дю Гарр, что вы расскажете нам о море?
Худощавый человек в синем мундире отложил мандолу, струны которой тихо перебирал.
— О море? — переспросил он, прищурив голубые глаза.
Его лицо как-то потемнело. Он опять машинально взял мандолу.
— Море годится только для тех, кому нечего делать на суше. Оно быстро старит человека. Достаточно проплавать несколько лет, и начинаешь походить на тритона, каких изображают на Гобеленовой мануфактуре. И это не удивительно. Ведь моряки едят лишь сухари да солонину. И это при хорошей погоде. А во время бури? — дю Гарр помолчал, трогая пальцами струны. — Вообразите себе, мадам, корабль, выдержавший многодневный шторм. Обрывки парусов, хлопающих по ветру, сломанные мачты. Не раз мне приходилось молиться всевышнему, ожидая крушения и смерти. Так достается нам служба…
Дю Гарр вскочил с кресла. Он был взволнован какой-то мыслью.
— А между тем, — продолжал он с горячностью, — я знаю таких незадачливых людей, которые не ступали на палубу корабля и воображают себя моряками. Да и за примером далеко ходить нечего. Недавно военный и морской министр герцог Шуазель произвел в капитаны первого ранга некоего де Бугенвиля, бывшего полковника пехоты.
— Бугенвиля? — отозвался Гримм. Он отложил карты и внимательно посмотрел на дю Гарра. — Я слышал о человеке с такой фамилией от д Аламбера. По его отзывам, этот Бугенвиль в двадцать три года опубликовал прекрасное добавление к сочинению Лопиталя о бесконечно малых величинах… Говорят, он просто феноменально решает математические задачи. Но, право, я в этом мало смыслю…
— Я именно о нем и говорю, — усмехнулся дю Гарр, — он сменил перо ученого на карьеру военного. Честолюбие этого человека безгранично. Если вы следили за газетами во время прошедшей войны, то должны были встретить его имя.
— Рассказывают, что у него произошел в те годы неприятный эпизод с Шуазелем, — раздался высокий голос принца Шарля Нассау Зигена. Принц неуклюже держал в своей большой руке изящные карты. Одетый не без щегольства, он тем не менее казался каким-то громоздким, не подходящим для уютной гостиной.
— Вы говорите, Бугенвиль — математик, — вмешалась мадам Жоффрен. — Я его знала много лет назад. Это был очень воспитанный молодой человек, с прекрасными манерами, приятной внешностью, чрезвычайно остроумный. Он очаровал даже мою Жюли. А это, вы знаете, нелегко. Мадам Леспинас ценит в людях только сочетание исключительных качеств.
— По-видимому, они у него есть, — отозвался Дидро. — Но послушаем, что скажут другие. Так что же у него произошло с Шуазелем, принц? — обратился он к Нассау.
— Якобы он приехал в неудачное время просить подкрепления для канадской армии. Дела наши в Европе, как вы все знаете, шли плохо. И герцог ответил ему, тогда еще молодому лейтенанту: «Когда горит дом, никто не думает о конюшнях». — «Это только доказывает, ваша светлость, — ответил Бугенвиль, — что вы сами не думаете, как лошадь». Столь смелый и остроумный ответ не на шутку рассердил герцога. И только благодаря заступничеству мадам де Помпадур Бугенвилю удалось избежать опалы. Он даже был принят королем и получил награду за храбрость, проявленную в Канаде.
— Да он настоящий француз! — воскликнула мадам Жоффрен.
— И об этом говорит не только рассказанный принцем анекдот, — сказал Гримм. Он сидел, удобно устроившись в кресле, и внимательно следил за разговором. — По отзывам д’Аламбера, Бугенвиль большой любитель театра и знаток искусств. Еще в годы обучения в университетском коллеже он написал обширное сочинение по истории римской поэзии. Конечно же, на первом месте у него Гораций и Вергилий, с которыми он не расстается.
— Так что же заставило его оставить все эти занятия и сделаться моряком? — спросил Дидро.
— Такой же вопрос, по-моему, можно было задать и неугомонному Коммерсону. Это поистине удивительный человек. Он уже исколесил всю Францию в поисках новых растений для своего гербария, успел побывать за границей по приглашению знаменитого шведского ученого Карла Липнея, — сказал Гримм. — Ба! — вдруг перебил он сам себя, — ведь я слышал, что Бугенвиль подыскивает естествоиспытателя, спутника в своих будущих путешествиях. Как же это раньше не пришло мне в голову? Ни минуты не сомневаюсь, что Коммерсон примет такое предложение.
— Так пойдите и скажите ему об этом! — раздалось сразу несколько голосов.
* * *
Шуазель подошел к окну и распахнул его. Ветер ворвался в комнату, затрепетали тяжелые шелковые гобелены, на которых были изображены французские фрегаты и корветы, окутанные пороховым дымом, а где-то вдали тонула вражеская эскадра. Дым заволакивал неприятельские флаги, и нельзя было определить, кому принадлежат тонущие корабли — англичанам, португальцам или испанцам. Бугенвиль подумал, что это сделано, очевидно, не случайно.
Шуазель хмуро взглянул на погибающий флот и задумчиво проговорил.
— Известно ли вам, капитан, что после этой несчастной войны англичане усиленно исследуют южные моря?
— Да, ваше сиятельство. Будучи на Малуинах и направляясь в Магелланов пролив за лесом, я сам долго шел вслед за эскадрой коммодора Байрона.
— И вам, капитан, удалось посадить деревья на этих островах?
— Я выкопал и привез на острова три тысячи деревьев. Все они прекрасно прижились, и, по словам моего брата Нервиля, там уже целая роща. И можно думать, что эти безлесные, безлюдные острова скоро станут ничем не хуже давно обжитых земель. Вы же прекрасно знаете, сколько тысяч ливров частных пожертвований, сколько труда стоило то, что мы там сделали.
— Жаль, конечно, затраченного, но испанское правительство обещало возместить нам все понесенные расходы…
Бугенвиль дотронулся до верхней пуговицы камзола и вздохнул.
— Это так, ваше сиятельство.
День был солнечным. Стремительные облака бежали по небу. И оттого что они оставляли на земле легкие быстрые тени, все казалось неустойчивым, неопределенным, быстро движущимся куда-то. Бугенвилю нравилась такая погода, которая бывает лишь в самом начале лета, на исходе весны. Он любил, когда все обновлялось, сулило что-то новое.
Шуазель подошел к книжному шкафу и вынул четыре тома в черных кожаных переплетах. Он раскрыл один из них на той странице, где была закладка из розовой бумаги.
— Я знаю, что записки знаменитого английского адмирала Ансона известны вам досконально. Но давайте посмотрим еще раз.
Герцог остановился у массивного письменного стола, одернул рукава бархатного кафтана и начал стоя читать, временами делая ударения на некоторых словах.
«С тех пор как наш флот утвердил свое превосходство во всем мире, упустить выгоды, которые приносят новые открытия, и дать кому-нибудь другому превзойти себя в искусстве мореплавания было бы просто небрежностью и трусостью. Я доказал выше, что все мероприятия в Южном море не лишены риска до тех пор, пока мы вынуждены будем бросать якоря у берегов Бразилии…»
Голос Шуазеля звучал мягко. Его холеное лицо с большим лбом, высоко поднятыми бровями и двойным подбородком было очень моложавым. Толстые губы двигались ровно.
В открытое окно лилось щебетание птиц. Они вили гнезда и в поисках подходящего материала весело перелетали с места на место.
«…это открытие могло бы быть очень выгодным для всей нашей нации даже во время мира, а во время войны — сделать нас властителями на этих морях…»
Министр устал стоять и сел в кресло. По временам он поднимал глаза на Бугенвиля и затем переводил их на огромный медный глобус, стоявший посредине кабинета.
Бугенвиля многое связывало с этим человеком. Они познакомились десять лет назад.
Тогда казалось, что, выведенный из себя дерзким ответом юного лейтенанта, Шуазель всегда будет испытывать к нему неприязнь. Но судьба благоволит храбрым. В этом Бугенвиль не раз убеждался. И на поле сражения он никогда не прятался за чужие спины, и в словесном поединке с самым высокопоставленным собеседником отвечал смело, со свойственным ему остроумием. Мадам де Помпадур спасла его от гнева министра и представила медлительному и недоверчивому Людовику Пятнадцатому. Узнав, что Бугенвиль храбро сражался с англичанами в Канаде, король наградил его орденом и дал чин полковника. Вернувшись в Канаду, Бугенвиль сражался в бою под Квебеком и, когда был смертельно ранен маршал Монкальм, взял на себя командование отступающими войсками.
А двумя годами позднее он участвовал в той же Семилетней войне, но уже на берегах Рейна. И жизнь снова столкнула его с Шуазелем: он стал его адъютантом. Герцог был умным человеком и сумел оцепить достоинства своего подчиненного. И вот он уже в мундире капитана первого ранга… Кто может позавидовать судьбе скитальца? Но Бугенвиль предпочитал навощенному паркету Версаля необъятную ширь морских пространств. Он хорошо знал, что мог бы сделать блестящую карьеру при дворе, но им владели совсем иные помыслы. Не раз приходилось ему круто менять направление всей своей жизни, чтобы как-то удовлетворить снедающий его дух беспокойства.
Но все, чем бы он ни занимался, представлялось ему не настоящим делом. И наконец счастье улыбнулось ему. Большой проект, который он долго вынашивал, казалось, уже осуществлялся. Заселить необитаемые острова, сделать их пригодными для жизни — какая задача может быть благороднее? И вот все рухнуло… Ему же и предстояло передать Малуинские острова — которые англичане называли Фолклендскими — испанским эмиссарам, собственными руками разрушить все сделанное.
Шуазель кончил читать, и теперь еще отчетливее стало слышно пение птиц.
Каждый думал о своем. Шуазель привстал в кресле.
— Надеюсь, капитан, эту миссию вы выполните так же блестяще, как все, что делали под моим руководством.
Бугенвиль поблагодарил герцога. Он чувствовал, что тот хочет сказать нечто важное. Шуазель побарабанил пальцами по столу.
— Капитан, мне удалось убедить короля, имея в руках вот этот том. — Он похлопал по твердому переплету записок адмирала Ансона. — В ваше распоряжение предоставят самый быстрый фрегат королевского флота. В ваших руках, капитан, один из моих сокровеннейших замыслов. Ведь никто еще из французов не ходил вокруг света.
Герцог явно любовался эффектом, произведенным его словами. Это было то, на что Бугенвиль час назад мог лишь надеяться. Какое-то нетерпеливое волнение охватило его. И сразу нахлынули тысячи мыслей. Что нужно сделать в первую очередь? На кого из моряков можно твердо положиться? Ну конечно же, на старых друзей — Дюкло-Гийо и Жиродэ. А остальные офицеры? Бугенвиль знал, что его недолюбливают во флоте, считают выскочкой. Мужественное лицо капитана приняло жесткое выражение. Шуазель подумал, что таким Бугенвиль бывал в решающую минуту сражений. Решительный, волевой человек. Такие и нужны Франции сейчас, когда наступили годы горьких испытаний после заключения позорного мира. Ведь в Семилетней войне Франция потерпела поражение. Она потеряла почти все свои заокеанские владения.
И министр стал говорить о том, как важно сейчас восстановить престиж Франции на море. К сожалению, мало кто это понимает. А есть и открытые противники всех его начинаний. И едва ли не самый злейший его враг — герцог Дегийон, правитель Бретани, который так противился устройству поселения на Малуинских островах. Говорят, он стал поистине несносен.
Бугенвилю был хорошо известен нрав герцога Дегийона. Во всей Франции не найдется и десятка таких людей, способных пойти на все, чтобы укрепить свою власть. А уж своей жестокостью герцог превосходит всех владетельных особ. Он запорол нескольких браконьеров, охотившихся в его угодьях.
Теперь Дегийон настолько осмелел, что упрятал в тюрьму Сен-Мало генерального прокурора Бретани Лаша-лоте, боровшегося против коррупции и злоупотреблений знати. Бугенвиль сказал об этом Шуазелю.
— Вот как?! — министр пошевелил черными бровями. — Наверняка герцог уже пронюхал и о задуманном нами предприятии, хотя мы с вами не совсем уверены в благополучном его исходе. Ну что же, посмотрим. Теперь дело осталось за королевской подписью.
С наступлением весны Филибер Коммерсон почувствовал себя неважно. Лицо его заострилось, движения стали нервозными. Он не мог превозмочь чувства неудовлетворенности. Большая известность и даже слава ученого ничего не значили для Академии. Его доклады, которые он посылал туда, лежали непрочитанными, а собранные гербарии хранились небрежно. Никто из его коллег, даже знаменитый Бюффон, не исходил столько, как он, не собрал таких обширных коллекций. Сам Линней просил его описать средиземноморских рыб, и эта работа удалась ему!
Путешествуя по Швейцарии, Коммерсон посетил Фер-не — жилище Вольтера — и так понравился гениальному, но своенравному старцу, что тот просил остаться у него секретарем. Филибер согласился. И потом Вольтер нехотя отпустил ученого. Четыре года Коммерсон провел в беспрерывных скитаниях, но на родине его ждал сильный удар: он потерял жену и сына. В сорок семь лет это, наверное, еще тяжелее, чем в молодости. Обострилась мучившая его болезнь. Ближайший друг, астроном Лаланд, уговорил его хоть на время приехать в Париж, немного рассеяться. Но и здесь мрачные мысли не покидали его.
И вот неожиданное приглашение в экспедицию. Побывать в южных странах — его давнишняя мечта. Конечно, безумие отправляться с больными легкими в тропические страны, где воздух насыщен влажными испарениями. Но упустить такой случай? Организатор экспедиции — бывший полковник— направляется на юг Атлантического океана, чтобы передать какую-то колонию Франции испанским эмиссарам. Ну что ж, Малуинские острова — это такое место, где не побывал еще ни один натуралист. Хватит ли только у него сил?
Коммерсон посмотрел на себя в тусклое зеркало: грустные темные глаза, усталые складки вокруг рта, морщинистый лоб.
Надо ехать к этому полковнику на улицу Гренель. Коммерсон с неудовольствием подумал, что нужно, пожалуй, надевать парик, белые чулки и кафтан.
День выдался туманным, дождливым. Серые парижские дома стояли под таким же серым небом. На улице, как всегда, было оживленно и суетливо. Коммерсон не смотрел по сторонам. Но когда проезжали мимо огромного строящегося здания, он выглянул из окна кареты: Эколь Милитер — Военная школа. Он не любил военных, вообще все то, что связано с войной. Война за австрийское наследство сменилась Семилетней войной с Англией и Пруссией. Как это мешало его работе. Что разделяет народы и страны? Невежество, суеверия, религиозные распри, чванливость и алчность царственных особ! Нет ничего хуже войн. Каждая из них отбрасывает человечество назад. Как бы далеко, шагнуло оно вперед, если бы ученые всех стран объединили свои усилия. Коммерсон давно мечтал о создании всемирной академии наук. И опять пришли мысли о том, что полковник — неподходящая фигура для руководителя научной экспедиции.
Но мужественное лицо Бугенвиля понравилось Коммерсону, хотя это было лишь первое впечатление. Наблюдая жизнь растительного мира, ученый привык не доверять внешнему виду живого существа. И в шутку он часто говорил, что подходит к незнакомым людям, как к не определенному еще виду растения: каково оно, как существует, чем питается, как завоевало себе место под солнцем?
Неторопливо беседуя, он старался выяснить характер своего будущего спутника. Тот казался рассеянным и не всегда отвечал прямо на поставленный вопрос. Это настораживало.
— Вы говорите, мосье, — продолжал выспрашивать Коммерсон, — что конечная цель вашего путешествия — так называемые Малуинские острова. Почему же тогда требуется такой большой срок, чтобы подготовиться к нему? Ведь вы упомянули конец лета, может быть, даже осень.
— Видите ли, — с оттенком некоторой снисходительности ответил Бугенвиль, — в южном полушарии сейчас начинается зима, а это время — самое неблагоприятное для плавания по южным морям. Мы рассчитываем выйти из Нанта в конце октября — начале ноября, чтобы быть на Малуинах в январе, и перевезти колонистов, не пожелающих остаться при испанцах, в Буэнос-Айрес, откуда они смогут вернуться во Францию.
Ответ представлялся убедительным. Но Коммерсон видел, что его собеседник тоже приглядывается к нему и потому говорит не совсем откровенно.
— Правда ли, — наконец спросил Коммерсон, — что наше путешествие может продлиться намного дольше, чем вы сейчас говорите?
Бугенвиль улыбнулся. Да, этот Коммерсон ему положительно нравился. Он ничего не хочет знать о придворных интригах, о том, что не связано с наукой. Тогда, в разговоре с Шуазелем, Бугенвиль понял, что ничего еще нельзя сказать определенного до официального предписания о путешествии. А слухи о нем уже успели распространиться по Парижу. Он посмотрел на бледное лицо ученого.
— Да, мосье, это правда. Поэтому вам тоже нужно как следует подготовиться. Не думаю, чтобы вы вернулись во Францию с пустыми руками. Но что с вами, мосье, вы нездоровы?
— Нет, благодарю вас, — проговорил Коммерсон, с трудом удерживаясь от кашля. Он улыбнулся — Я не буду вам в тягость на корабле. Хотя, быть может, и подумаю о том, чтобы составить завещание перед тем, как отправиться в путь, — добавил он полушутя.
— Завещание не мешает оставить всем, — серьезно сказал Бугенвиль.
— Итак, — продолжал он, — никто не знает, сколько еще не открытых земель лежит по ту сторону обеих Америк. А уж для вас, мосье, это просто новый мир.
Коммерсон задумался. Ему хорошо было известно, как богата флора тропических стран. И вот что удивительно: в этих благословенных местах, там, где природа поражает своим изобилием, моряков ждали самые тяжелые испытания: голод, страшная цинга. А ведь на южных островах много очень вкусных и питательных плодов. Кто знает, может быть, многие тропические растения стоит выращивать и в Европе, и тогда тяжкий труд земледельца будет вознаграждаться сторицей. Какой простор для научных исследований ждет его там! Сколько предстоит еще сделать. А годы уходят, да и здоровье все чаще подводит его. Он только-только поднялся от простого собирательства к важным обобщениям. Нет, что бы его ни ждало, он отправится с Бугенвилем.
Коммерсон закашлялся и полез в карман за платком. Пальцы нащупали твердый синий пакет. Коммерсон вытащил его и прочитал:
«Мосье Дени Дидро. Париж. От Франсуа Вольтера. Ферне».
Бывшему секретарю Вольтера оставалось выполнить еще одно поручение великого старца.
Дидро уступил гостю свое кресло, а сам удобно устроился на внушительной кипе типографских корректур. Тесная комната была заполнена книгами. Стол с гнутыми ножками занимали раскрытые тома с множеством пометок на полях, исписанные торопливым почерком листки бумаги. Дидро принимал в халате, и это радовало Коммерсона. Ученый не любил официальной обстановки. Здесь же все располагало к самой непринужденной беседе.
На краю стола лежал синий конверт, который Коммерсон передал Дидро, пояснив, что некоторое время был секретарем философа.
— Так вы, мосье, естествоиспытатель? — спрашивал Дидро. — Я слышал, что вы собираетесь в кругосветное плавание. Нет ничего полезнее для науки.
— В этом я давно убедился, мосье, — живо ответил Коммерсон. — Во время своих скитаний по Европе я открыл много новых растений, которые нельзя отнести ни к одному роду, описанному Линнеем. Значит, это новые роды? Совсем нет. Скорее, классификация Линнея далеко не совершенна.
Дидро сосредоточенно смотрел на пряжку своего башмака. Вдруг он быстро поднял голову. На Коммерсона смотрели смеющиеся глаза философа.
— Послушайте, мосье, какие оригинальные мысли пришли мне только что в голову. Наш проводник по звездному небу Фонтенель объясняет нам, что на небесах есть потухшие солнца, точно так же, как и вновь зажегшиеся. Вы, вероятно, спросите, к чему это я веду? Сейчас узнаете. — Дидро вскочил и принялся расхаживать по комнате. — Допустим, что наше солнце постигла та же участь. Что же тогда произойдет со всем растительным и животным миром? Он погибнет. А если возникнет новое солнце? Тогда на земном шаре снова появится растительность, плоды, насекомые и, вероятнее всего, животные и человек — как естественные продукты жизни.
— Человек? — переспросил удивленный Коммерсон.
— Да, и человек, но не в том виде, в каком он существует сейчас. Сначала в каком-то, не знаю, в каком виде, затем снова не знаю, в каком, и наконец, спустя сотни миллионов лет, из миллионов видов получится двуногое существо, называемое человеком. Из этого следует, что те растения и животные, которых мы наблюдаем сейчас, суть не что иное, как переходные формы к другим, которые опять-таки будут все время изменяться. Все эти мысли, истинные ли, ложные, очень занимательны, не правда ли, мосье?
— Эти мысли для меня столь новы, — ответил пораженный Коммерсон, — что их надо как следует обдумать. Но пока же наш долг для блага будущих научных исследований и обобщений найти и описать все существующие виды растений. Надо, я уверен, создать новую систематику растений, но не такую, как предлагает нам Линней.
Дидро был врагом всякой системы. Он недовольно поморщился. Уж очень пахнет от всего этого мертвой схоластикой, где не остается места ничему живому. Классификация… Она должна быть очень гибкой, чтобы не стать совершенно бессмысленной. Но Дидро уже целиком захватили его мысли об изменчивости всего живущего. И он стал доказывать, что если отбирать животных или растения по какому-нибудь признаку, то в конце концов можно добиться удивительных результатов.
Коммерсон, от природы молчаливый, так и не смог вставить ни единого слова. Но он внимательно слушал философа. Как можно было не уважать этого человека? Поистине вся его жизнь — пример самоотверженности и бесстрашия в борьбе со всем тем, что мешает человечеству двигаться вперед. Его двадады сажали за решетку, книги его запрещают, сжигают. Вот уже сколько лет он стоит во главе «Энциклопедии», несмотря на все запреты и гонения, несмотря на то, что из-за бешеных нападок церкви, властей многие сотрудники покинули его и самому Дидро мракобесы грозили расправой. Коммерсон знал и то, что такие «вольнодумцы», как Шуазель, открыто ненавидели энциклопедистов и старались пресечь их деятельность.
Коммерсону передалось воодушевление Дидро, его речи, страстной, увлеченной. Но тот, наконец, спохватился и спросил, не утомил ли своего терпеливого слушателя.
Коммерсон взволнованно пожал ему руку.
— Я счастлив, что сумел с вами познакомиться, и надеюсь по возвращении в Париж еще раз обсудить все то, о чем мы с вами беседовали.
— Я не сомневаюсь, — ответил Дидро, — что из экспедиции вы привезете столько интересного, что этим прославите Францию и станете одним из бессмертных.
Это был намек на Академию наук, члены которой никогда не переизбирались, а их места занимали лишь после ухода академиков на пенсию или в случае их смерти.
Когда Коммерсон ушел, Дидро распечатал синий пакет.
Вольтер советовал ему покинуть родную землю, приглашал его разделить с ним одиночество и именем человечества заклинал не подвергать себя опасности проскрипции, первый сигнал которой был только что дан парламентом, из неуместного стоицизма не жертвовать жизнью и талантами, которые могут еще долго приносить пользу наукам и обществу.
Нападки на энциклопедистов усилились. На днях д’Аламбер говорил ему, что правительство может принять серьезные меры против свободомыслящих просветителей. Постановлением Королевского совета было аннулировано разрешение на издание «Энциклопедии» ввиду того, что «приносимая науке и искусству польза совершенно не соответствует приносимому религии и нравственности вреду».
Но прекратить свое великое дело?..
Дидро схватил лист бумаги.
«Я прекрасно знаю, что когда хищный зверь хлебнет человеческой крови, он уже не может обходиться без нее, — писал он Вольтеру. — Я прекрасно знаю, что он обратил свои взоры на меня и меня он, может быть, пожрет первым. Я прекрасно знаю, что честный человек может здесь в двадцать четыре часа потерять свое состояние, потому что они негодяи; свою честь — потому что здесь нет законов; свою свободу — потому что тираны подозрительны; свою жизнь — потому что они ни во что не ставят жизнь гражданина и пытаются спастись от общего презрения террором… Я прекрасно знаю, что они бросили и продолжают держать в тюрьме сановника, во всех отношениях достойного уважения, только потому, что он отказался содействовать разорению Бретани и открыто признал свою ненависть к суеверию и деспотизму Я прекрасно знаю, что у меня нет ни происхождения ни добродетелей, ни положения, ни талантов мосье. Лашалоте, и когда они захотят меня погубить, я буду погублен. И все же я отказываюсь уехать из Парижа».
Когда Коммерсон приехал к себе, он еще долго размышлял над тем, что сказал ему Дидро. Слова философа заставляли совсем по-иному подходить к живой природе. Нет, не классификация, не родство растений, само по себе — пусть и не по случайным, как у Линнея, а более глубоким признакам — должно лежать в основе ботаники. Гораздо важнее знать, как произошли эти виды, как они развивались и изменялись. С этими мыслями он и поехал в ботанический сад к профессору Бернару Жюссье, который давно работал над новой систематикой растений. Они долго ходили из оранжереи в оранжерею, где в тесных кадках томились пышные тропические растения. Выйдя на свежий воздух, Коммерсон подставил свежему ветерку разгоряченное лицо. Нет, растения надо изучать не в ботаническом саду, а там, где они растут, в естественных условиях. Коммерсону не терпелось ступить наконец на палубу корабля.
Через несколько дней Бугенвиль снова сидел в версальском кабинете Шуазеля. Теперь уже горячее желание превращалось в действительность: ему предписано после передачи Малуинских островов двинуться дальше на запад, войти в необъятное Южное море и попытаться отыскать открытые в XVI веке мореплавателем Киросом, а потом бесследно утерянные острова. Впрочем, утеряны ли они, трудно сказать. Многое прячет испанское Адмиралтейство, тщательно охраняя добытые в нелегких плаваниях сведения, чтобы не облегчать пути соперникам. А голландцы? Они составили подробные карты Вест-Индии. Но под страхом смертной казни ни один навигатор не может показать их иностранцам… Он — первый француз, который должен за одно плавание обследовать все эти места. Французские карты ненадежны, навигационные приборы несовершенны. Нелегкое дело взял он на себя! Но чем труднее задача, тем настойчивее становился этот человек. Он умел быть веселым, шутливым, одевался всегда тщательно и, как истый француз, несколько щеголевато. Дамы считали его галантным кавалером. Но светские развлечения оставались для него пустой забавой, хотя многих его знакомых они захватывали целиком. Над ним посмеивались: что же, юрист, воин, математик, дипломат, опять воин, моряк. Тридцать семь лет, а конца переменам не видно. И все еще холост. Неужели он думает жить вечно?

Другие откровенно завидовали и недоумевали: сама мадам де Помпадур к нему расположена. Достаточно одного ее слова, чтобы он получил блестящее место при дворе, а этот сумасброд собирается в какое-то путешествие, из которого вряд ли и вернется. Шутка ли — объехать кругом света! Пусть уж англичане занимаются этим, если им не сидится на своих туманных островах.
Бугенвиль знал, что его недолюбливают флотские офицеры. Многие из них — младшие отпрыски дворянских семей — прослужили уже десятки лет и не продвинулись по службе, а он был переведен из армии во флот сразу с чином капитана первого ранга. Теперь, когда его назначили начальником экспедиции, эта неприязнь, несомненно, усилится.
Но все это сразу ушло куда-то далеко, как только он занялся делами предстоящей экспедиции. Прежде всего необходимо решить, сколько и каких кораблей нужно для нее. Раньше, еще во времена Магеллана, в дальние походы собирались целые флотилии из пяти-шести кораблей. Расчет был прост: хоть один из них должен добраться до дома. В действительности так и случалось.
Бугенвиль решил по-другому. Нужен быстроходный фрегат и плавучая продовольственная база — небольшое транспортное судно.
Его первый наставник по морскому делу капитан второго ранга Дюкло-Гийо по распоряжению Шуазеля отправился в Нант, чтобы наблюдать за постройкой корабля.
Однако пришла пора и для разочарований. Как мало, оказывается, считаются с мнением начальника экспедиции. Драгоценные теперь дни уходили на то, чтобы согласовать самый пустячный вопрос. Ему не хватало времени побывать у математика д’Аламбера, обсудить достоинства и недостатки разных навигационных приборов. А от этого могла зависеть судьба всего предприятия.
Но Бугенвиль обрел неоценимого помощника. Коммерсон предложил целую программу научных исследований. Он очень скоро понял, что одних лишь ботанических исследований, конечно, будет недостаточно, и поэтому советовал включить в состав экспедиции ученых разных специальностей. Правда, математик, и незаурядный, был в лице самого Бугенвиля. А надо еще было найти астронома, инженера, рисовальщика. И большую часть этой работы Коммерсон взял на себя. Но, как-то посетив Коммерсона, Бугенвиль увидел, что тот лежит, обложенный подушками, страшно бледный, утомленный.
— Мой друг и коллега, — мягко сказал Бугенвиль. — Вам необходимо на время уехать из Парижа. Поезжайте к себе в поместье и там несколько отдохните. Нельзя преждевременно истощать себя. Ваши силы вам еще очень и очень пригодятся.
— Скажите положа руку на сердце, — проговорил Коммерсон, — так ли хорошо идут наши дела, как вы все время меня уверяете?
Бугенвиль посмотрел на больного. Что сказать ему? Только сегодня пришло письмо от Дюкло-Гийо. Капитан сообщал, что герцог Дегийон добился, чтобы в экспедиции был представитель ненавистного Бугенвилю миссионерского племени — отец Лавесс. Неладно и с оснащением фрегата, писал Дюкло. По распоряжению властей на нем установлены слишком тяжелые пушки под предлогом, что корабль отправляется в неведомые страны к «кровожадным дикарям». Капитан выражал недоверие и некоторым офицерам, которые были назначены на фрегат и должны приехать в Нант для прохождения службы.
Сам Бугенвиль, занятый неотложными делами, не мог выехать из Парижа. Он рассказал только о том, чего ему удалось добиться в версальских кабинетах.
Пока Бугенвиль говорил, Коммерсон лежал полузакрыв глаза. Потом приподнялся на подушках и пожал влажной горячей рукой твердую ладонь капитана.
— Поверьте мне, что все будет в порядке, — сказал Бугенвиль, пристегивая шпагу и протягивая руку за шляпой.
В первых числах ноября забрызганная грязью карета катилась по дороге из Парижа в Нант. Бесконечные осенние дожди превратили ее в сплошное месиво. Лошади с трудом тянули экипаж на подъемах, вытаскивали его из огромных луж. На пологих холмах одиноко стояли потемневшие от дождя ветряные мельницы. Бугенвилю, завернувшемуся в плащ и сидевшему в углу кареты, они чем-то напоминали корабль с обвисшими парусами.
Рядом с Бугенвилем, совершенно прямо, сидел принц Шарль Нассау Зиген. Поглядывая на него, Бугенвиль благодарил судьбу, что ему попался такой неразговорчивый спутник. Сейчас, одолеваемый заботами и сомнениями, он не чувствовал никакого желания поддерживать хоть какой-нибудь, даже самый пустой разговор.
Принц Шарль был еще совсем молодым человеком. В двадцать один год он уже успел пройти службу во французской армии и получил чин лейтенанта, а затем ему присвоили звание капитана драгун.
Человек исключительно храбрый, он участвовал в Семилетней войне, был адъютантом маршала де Кастри. Наполовину немец, наполовину француз, Нассау унаследовал свой титул по отцовской линии. Но этот титул не давал Шарлю никаких прав. Он слыл искателем приключений. И как только он услышал о кругосветном путешествии, сразу же решил принять в нем участие в качестве волонтера. По указу короля его включили в экспедицию Бугенвиля. Сейчас принцу явно хотелось расспросить о море, о предстоящем плавании, но, сдержанный по природе, Нассау не хотел начинать разговор первым.
Молчание в конце концов становилось тягостным. Впереди тучи стали рассеиваться. Порывы ветра, разгонявшие их, прибили к стеклу кареты красный листок клена. В разрывах облаков показалось голубое небо. Бугенвиль счел это благоприятным предзнаменованием. Он повернулся к Шарлю:
— Вам, ваше высочество, еще ни разу не приходилось бывать в море?
Принц повернул только голову, его корпус остался неподвижным. Но голубые глаза зажглись любопытством.
— Нет, но я надеюсь, что смогу хорошо перенести длительное плавание. Вы ведь тоже, капитан, насколько мне известно, стали моряком совсем недавно?
Нет, это не издевка. Глаза принца смотрели честно и прямо. Да и кажется, этот малый начисто лишен чувства юмора.
Бугенвиль кивнул головой:
— Да. Мне пришлось несколько раз пересечь Атлантический океан. Одно время я очень увлекался мыслью создать на Малуинских островах французское поселение.
Принц смотрел не мигая. Лицо его оставалось совершенно бесстрастным. Как объяснить этому юноше, что ликвидировать поселение на Малуинах — это почти то же, что отрубить себе правую руку?
— Но теперь мы передаем их Испании.
Бугенвиль задумался. Три года назад он вот так же ехал из Парижа к морю, чтобы впервые отправиться на эти острова, расположенные близ южной оконечности американского континента. После заключения мира с Англией, в 1763 году, многие французы, населявшие канадский полуостров Акадию, не захотели остаться под владычеством англичан и пожелали вернуться во Францию. Вот эти-то выходцы из Канады и стали первыми поселенцами на Малуинских островах.
Увлекшись своей идеей, Бугенвиль сумел склонить к ней и нескольких арматоров — владельцев судов из Сен-Мало. Их корабли так часто бывали на этих островах, что в конце концов во Франции они стали называться Малуинскими.
Несмотря на несколько суровый климат, они очень подходили для заселения, так как были необитаемы. Значит, не придется никого ущемлять, лишать прав на исконное владение землей.
Бугенвиль представил Шуазелю в самом заманчивом свете выгоды, которые удастся извлечь из этого поселения. Туда непременно стали бы заходить все суда, идущие в Южное море через Магелланов пролив или огибающие мыс Горн.
Первоначально там жили всего двадцать девять человек. Но сумев увлечь своей идеей и колонистов и команды судов, Бугенвиль с удовольствием отмечал, как быстро благоустраивается поселок. Были построены дома, склады, заложена крепость с четырнадцатью пушками. В то время по морям бродило множество каперов и корсаров, и подумать об обороне было совсем не лишним.
Суда совершили несколько рейсов во Францию и обратно, доставляя все новых поселенцев. Два года колонисты обживались на островах, испытывая немалые трудности. Проходили долгие месяцы, прежде чем удавалось получить какие-нибудь вести с родины. Но все были воодушевлены и трудились не покладая рук. Офицеры так же, как и простые матросы, вставали с зарей и ложились глубокой ночью.
Люди, видевшие в начинании Бугенвиля только сумасбродство, мало-помалу притихли. Поселение на островах разрасталось. Но вскоре англичане, а потом и испанцы предъявили на них свои права.
Сейчас и сам Бугенвиль признавал в душе свою затею сумасбродной. Он горестно размышлял о том, что не так-то легко установить справедливые отношения между людьми.
Но ничего не поделаешь. Бугенвиль был не таким человеком, чтобы не понимать, что на этот раз он проиграл. А раз проиграл, надо попытаться извлечь даже из своего поражения как можно больше пользы.
Он провел рукой по лицу, как бы отгоняя навязчивые воспоминания, и рассказал принцу все, что было связано с Малуинами, придерживаясь лишь фактов и умолчав о своей идее.
Принц понял только то, что попытка основать на Малуинах колонию доставила Бугенвилю случай совершить кругосветное путешествие, так как министерство поручило ему после передачи этой колонии испанцам вернуться во Францию через Южное море и нанести на карту новые земли и острова, которые ему удастся там открыть.
— Вы, капитан, счастливый человек, — сказал принц со своей жесткой улыбкой.
— Я полагаю, что счастлив уже тот человек, у которого острый ум и доброе сердце, — серьезно ответил Бугенвиль. — С этими дарами природы он познает самого себя и окружающий мир.
— И все-таки жаль отдавать острова испанцам, — не ожидание сказал принц, — ведь, по вашим словам, выходит, что Франция не пожалела средств для того, чтобы сделать эти острова пригодными для заселения.
— Мой жизненный опыт говорит мне, что усилия и усердие никогда не пропадают даром. Даже если Испания будет владеть этими островами, я нисколько не раскаиваюсь в содеянном. Люди отвоевали у дикой природы еще один клочок земли. Это, как хотите, прогресс.
Принц ничего на это не ответил. Он внимательно всматривался в даль. Лошади шли шагом. И когда они одолели крутой подъем, в мутной пелене дождя путники увидели наконец море, незаметно сливающееся с серым горизонтом.
Бугенвиль велел кучеру остановиться. Он вылез из кареты и с наслаждением вдохнул морской воздух. Лошади стояли под дождем, понуро опустив головы и поводя влажными боками.
На пригорок взбиралась роскошная карета, запряженная четверкой. Кучер нещадно нахлестывал коней. Экипаж поравнялся с Бугенвилем. Из-за края занавески выглянуло бледное лицо. Бугенвиль узнал Дегийона. Герцог спешил в Париж.
Бугенвиль сел в карету. Лошади под уклон побежали веселей.

Глава II
Навстречу ветру

В природе ново каждое мгновение; прошлое всегда поглощается временем и забвением; только грядущее священно. Ничто не прочно, кроме самой жизни, перехода в новое, деятельного и ищущего духа…
Людям хотелось бы остановиться, осесть; но лишь пока они не осели, есть еще для них надежда.
Эмерсон
В помещении было сумрачно. Красноватые отблески пламени из огромной печи и свечение раскаленного добела металла придавали всему необычный колорит. Массивное тело якоря как бы парило в воздухе, поддерживаемое толстыми стальными цепями. Оно медленно опускалось на большую плиту, служившую наковальней.
Из печи выполз какой-то красный зверь с огнедышащим плавником. Трудно было сразу распознать в нем лапу якоря, весившую, вероятно, не меньше тысячи фунтов. Лапу передвигали по направлению к наковальне при помощи целой системы хитроумных блоков и талей.
Наконец лапа вплотную приблизилась к телу якоря. Раздалась команда, и огромный молот стал наносить равномерные удары, рассыпая тысячи красных брызг, освещавших на мгновение потные полуголые тела люден.
В углу стоял человек, державший в правой руке треуголку, а в левой — платок, которым по временам смахивал искры, падавшие на обшлага его мундира. Карие глаза внимательно следили за действиями рабочих.
— Мосье Бугенвиль, капитан первого ранга, в порту?! — вдруг послышался чей-то низкий голос.
Бугенвиль обернулся и увидел высокого плечистого моряка. Тот поклонился:
— Боцман Пишо. Счастлив служить под вашей командой, капитан. Я старший боцман фрегата «Будёз».
— Откуда ты меня знаешь, боцман? — удивился Бугенвиль.
— Я вас знаю, капитан, уже восемь лет. Вы изволили заходить в мой скромный домик, здесь же, в Нанте, и спасли моего ребенка.
Огромный детина еще раз поклонился.
Бугенвиль вспомнил: перед тем, как в первый раз пересечь Атлантический океан, чтобы принять участие в войне
с англичанами в Канаде, он некоторое время жил в этом городе. Тогда-то он случайно узнал, что сын одного из моряков опасно болен, и попросил полкового лекаря выходить его. Лекарь, кажется, добросовестно исполнил свой долг. Бугенвиль скоро забыл об этом случае. Но вот, оказывается, есть люди, до сих пор благодарные ему.
Он с любопытством посмотрел на боцмана. О чем думает, чем живет этот моряк?
Боцман, будто угадав его мысли, сказал:
— Я знаю, мосье капитан, в окрестностях Квебека и Монреаля, в долинах Абрагема вы командовали нашими войсками. Мой брат тоже служил под знаменами неустрашимого Монкальма. Он много рассказывал о своих бедах. В одном из боев наши и англичане рубились саблями. Моему брату здорово досталось, и он упал без чувств. Поверьте, мосье, его хотел ограбить какой-то француз, мародер. Когда мой брат пошевелился и застонал, мародер хотел застрелить его из мушкета. Хорошо, что у негодяя выбили из рук оружие! А англичане? Ведь и они грабили своих же. — Пишо помолчал и тихо добавил: — Вот так ремесло, оно подходит только для озверевших людей.
Бугенвиль невольно потрогал глубокий шрам на лбу, прикрытый париком. Война оказалась совсем не такой, как представлялось ему вначале. В лесах и болотистых топях Канады он многое передумал и перечувствовал. Бугенвиль не знал, что ответить боцману, и хотел отделаться шуткой. Но неожиданно для себя сказал:
— Нет, мой друг, воюют не жестокие люди — война делает их такими. — Заметив, что к их разговору прислушиваются рабочие, он строго спросил — Что вы здесь делаете, боцман?
— В этой кузнице, мосье, работает мой сын, Жан, тот самый, которого вы спасли восемь лет назад. Да к тому же и якорь-то куют для нашего красавца «Будёза».
К Бугенвилю, кланяясь и отирая пот со лба, подошел один из рабочих, совсем еще мальчик. Он был в широком лоснящемся кожаном фартуке и деревянных башмаках. Казалось, юноша совсем не был утомлен тяжелой работой. На его запачканном сажей лице задорно блестели зубы.
— Я хорошо вас запомнил, мосье, — сказал он ломающимся баском, — хотя мне и было тогда всего девять лет. Я вас всегда буду помнить.
— Что же ты нашел во мне такого примечательного?
Юноша молчал, продолжая широко улыбаться. За него ответил боцман:
— Он и не знает, как это сказать, да и я, признаться, тоже. — Пишо помолчал. — Не похожи вы на морских офицеров. Мне несколько лет пришлось служить на кораблях Индийской компании. Как там обращаются с матросами! А уж о бедных туземцах и говорить не приходится. Их и за людей-то не считают!
Бугенвиль нахмурился. Морской устав запрещал вести «вольные», не касающиеся службы разговоры с матросами. Поэтому он поспешил выйти из полутемной кузницы, где раздавался равномерный грохот тяжелого молота. Боцман последовал за своим капитаном.
Идти было приятно. Осенний воздух, насыщенный морскими испарениями, бодрил. Бугенвиль снял плащ и шляпу, обнажив белый, тщательно завитой парик. Поблескивало шитье отворотов рукавов и широкого воротника. Ветер шевелил полы мундира; по временам мелькал красный шелк подкладки. Кружевные манжеты украшали белоснежную рубашку. Он вытер платком высокий выпуклый лоб. Выражение его открытого лица было добродушным, но в уголках рта залегли горькие складки.
Бугенвиль шагал крупно, размеренно, как привык ходить в лесах Канады. Он не любил верховую езду, хотя прослужил несколько лет в драгунском полку, и предпочитал, когда только было возможно, ходить пешком.
Бугенвиль и Пишо обогнали нескольких человек, тащивших на деревянных катках огромную дубовую балку. Можно было безошибочно определить, что это — кораблестроители. Здесь, близ Нанта, был теперь, пожалуй, крупнейший судостроительный центр Франции. Каждый третий местный житель имел какое-нибудь отношение к верфи. Несмотря на позднюю осень, в порту было оживленно. У причала стояли суда, на которых развевались флаги многих наций. Прежде чем выйти из переполненного порта в открытое море, нужно было долго лавировать. Иным судам приходилось менять место стоянки, чтобы освободить путь для корабля, собирающегося покинуть гавань. Здесь все были заняты. Никто не оставался безучастным наблюдателем. Люди куда-то спешили, что-то несли, везли, тащили, упаковывали. С первого взгляда казалось, что вся эта кипучая жизнь нантского порта сродни суете муравейника. Но, приглядевшись, можно было заметить, что работа ведется осмысленно и даже, пожалуй, неторопливо.
Весь берег был застроен многочисленными складами и мастерскими. Здесь шили паруса, клепали огромные якоря для океанских судов, изготовляли такелаж, различные металлические части парусников.
Темный корпус только что оснащенного «Будёза» высился среди других судов, стоящих на рейде. Сразу было видно, что этот корабль готовится к дальнему походу. Возле него покачивались на волнах несколько больших барок, с которых грузили на фрегат бочки, мешки, тюки, ящики.
Боцман, шагавший, как требовал устав, несколько сзади Бугенвиля, наклонился к его уху:
— Честное слово, красавец корабль, но… Осмелюсь сказать, мосье капитан, не все на нем в порядке…
Бугенвиль сделал вид, что не слышал последних слов боцмана. Так полагалось.
Он знал, что доброжелательные к нему матросы, как будто невзначай, скажут еще многое, о чем он, может быть, не сразу догадается. Но он знал также: нельзя оборачиваться, нельзя расспрашивать, даже показывать, что слушаешь. Такова давняя традиция неофициального общения капитана с командой.
Бугенвиль шагал все так же ровно, но прислушивался, не скажет ли боцман чего-нибудь еще. Ему даже показалось, что Пишо причмокнул губами, как бы собираясь что-то сказать, но, видимо, раздумал.
Они подошли к самой воде. Берег был усеян щепками, обрывками канатов, мусором. Валялись неотесанные бревна, чернели бочки со смолой. У дебаркадера легко покачивалась на волнах шлюпка с «Будёза».
Когда Бугенвиль поднялся на фрегат по парадному трапу, его встретил вахтенный офицер и старый товарищ по прежним плаваниям на Малуинские острова капитан второго ранга Дюкло-Гийо.
Бывалый моряк был сдержан, и все же его суровое лицо осветилось неподдельной радостью. Бугенвиль прошел на ют. На корме корабля развевался королевский флаг: двойной красный крест на белом поле и в углах лилии Бурбонов. С высоты капитанского мостика открывался хороший обзор рейда, находившегося в десяти лье к западу от Нанта, в устье широкой Луары. Над оголенными мачтами фрегата нависли тяжелые осенние тучи. Бугенвиль снял треуголку и посмотрел на покачивающиеся верхушки мачт.
— Мосье капитан, — услышал он голос Дюкло-Гийо. — Офицеры собрались в кают-компании и ждут вас.
Бугенвиль еще раз посмотрел на серое свинцовое небо и прошел в кают-компанию, расположенную под адмиральской каютой.
Офицеры встали, приветствуя своего командира. В парадной форме они были удивительно похожи друг на друга. Одинаковые темно-синие кафтаны с белыми отворотами, одинаковые напудренные парики, одинаково поблескивают шпаги в пробившихся наконец скупых лучах солнца.
Несмотря на торжественность обстановки, которую подчеркивали тяжелые, обитые бархатом кресла, золотое шитье мундиров, у Бугенвиля возникло ощущение легкости, внутренней свободы. Это ощущение он испытывал всякий раз, попадая на палубу корабля. Даже здесь, в кают-компании, пахло морем, рыбой, смолой, свежим деревом. Он искоса взглянул на Дюкло-Гийо. Конечно, тот тоже испытывает сейчас радостное волнение, хотя, быть может, как истинный моряк, и не замечает извечных запахов моря.
Бугенвиль ответил на приветствие собравшихся.
— Шевалье де Бурнан…
— Шевалье де Бушаж…
— Шевалье д’Орезон…
— Шевалье дю Гарр… — представлялись ему офицеры.
— Я очень рад, мосье офицеры и гардемарины, — сказал Бугенвиль. — что наш король и провидение вверили моему командованию столь замечательный корабль и столь доблестных офицеров. Неизвестно, что нас ждет в плавании, но я уверен… — капитан сделал паузу и еще раз обвел взглядом лица собравшихся, — я уверен, что мы с честью выполним возложенную на нас королем нелегкую миссию, а провидение и морской бог Нептун к нам будут благосклонны…
Он выдержал паузу и добавил:
— Теперь позвольте мне осмотреть корабль и поздороваться с командой.
— …Во всяком случае мы получим хорошую возможность нанести решительный удар герцогу Шуазелю, пользующемуся столь большим влиянием при дворе благодаря покровительству богопротивной маркизы Помпадур…
Голос звучал монотонно. Можно было подумать, что говоривший читает текст по написанному, хотя перед ним не лежало ни единого клочка бумаги. Оба собеседника были облачены в черные одеяния. Один из них — в длинную сутану, другой — в плотный плащ с капюшоном, какие носили монастырские служки.
— Новый Свет открыл ордену Иисуса славное поприще. Все увидели, как горсточка безоружных людей вносит веру в среду диких народов. Теперь на испанских землях Америки, вместо скопищ кровожадных орд, трудятся во славу божию истинные христиане — вчерашние дикари. Но, как видно, это не по нутру нашим врагам, и они хотят вырвать миротворный крест из наших рук…
Человек в сутане говорил с легким испанским акцентом. Он достал какие-то желтые листки, прочитал их про себя и, не торопясь, зашагал по комнате.
Несмотря на полдень, окна была завешаны шторами. В массивном медном канделябре горело несколько свечей.
— Мы располагаем двумя письмами герцога Шуазеля французскому послу при испанском дворе маркизу д’Оссюну, В первом из них Шуазель выказывает недовольство тем, что испанский монарх не последовал примеру Людовика Пятнадцатого. Он осуждает слабость Карла Третьего и неспособность его министра Гримальди к решительным действиям против иезуитов. Это письмо от 27 марта сего, 1766 года. Во втором письме, датированном маем, говорится о возможной посылке экспедиции в южные моря. Что эта экспедиция будет отправлена, к сожалению, сомневаться не приходится. Как вы знаете, отец Лавесс, для того чтобы предупредить изгнание нашего ордена из Испании и опять войти в доверие к Людовику, надо прежде всего свалить Шуазеля, чьи щупальца уже тянутся и к Испании.
Всякого другого этот монотонный голос наверняка усыпил бы, но отец Лавесс слушал с напряженным вниманием. Он еле заметно покачивал головой, как бы соглашаясь с тем, что говорил его собеседник.
— Конечно, председатель совета министров и его кабинет пропитаны ядом современных доктрин, но король дон Карлос истинный католик. Никогда, пожалуй, не было столь набожного монарха. Он презирает светские удовольствия. Он ищет дружбы с Римом и не противится нашим замыслам. Ваша же задача, отец Лавесс, строго следовать инструкциям, полученным от генерала нашего ордена кардинала Риччи.
Отец Лавесс поднял на собеседника маленькие бесцветные глаза.
— До сих пор я выполнял все распоряжения герцога Дегийона, как это мне предписывалось. Корабль, который сейчас стоит на рейде, будет моим обиталищем до тех пор, пока это нужно ордену. Мне удалось сделать так, что в его команде будет несколько верных людей.
Лавесс многозначительно помолчал, перед тем как заговорить вновь:
— Пока что наша цель — Южная Америка, там наши братья очень сильны.
— Вы не должны, отец Лавесс, ни на минуту забывать, какая участь грозит ордену, если не удастся парализовать действия Шуазеля и португальского министра маркиза Помбаля, изгнавших наш орден из Франции и Португалии. Третьего дня мы перехватили последнее письмо Шуазеля, направленное специальной почтой в Эскуриал.
Подтверждаются наши худшие опасения. Мы не должны оказаться захваченными врасплох. А ставленник морского министра капитан Бугенвиль, как мне точно известно, человек решительный и твердый. Ни в коем случае нельзя возбуждать его подозрений в том, что мы хотим задержать экспедицию в Южной Америке.

— Осталось решить еще одно, — сказал отец Лавесс. — Очевидно, на втором корабле священником будет янсенист Маньяр
[1]. Теперь, когда Людовика убедили, что христианская религия существовала пятнадцать веков без иезуитов и прекрасно обойдется без них и дальше, янсенисты подняли голову. Маньяр будет наверняка моим противником, хотя я официально и не являюсь больше членом нашего ордена.
Человек в плаще отрывисто сказал:
— Не вам, отец Лавесс, задумываться над такими пустяками. Мне прекрасно известны ваши выдающиеся способности. Думаю, что вы сможете все устроить наилучшим образом…
Он снял щипцами нагар со свечей, погасил их и откинул шторы.
Комната наполнилась светом. Собеседник отца Лавесса подошел к окну и, указывая на высокие мачты, видневшиеся отсюда, с третьего этажа старинного здания, проговорил:
— Видите, отец Лавесс, на «Будёзе» поднят флаг капитана первого ранга. Значит, Бугенвиль уже на борту фрегата.
Лавесс посмотрел по направлению протянутой руки и прищурил глаза. Линия рта с узкими губами вытянулась в тонкую полоску, на бледных щеках появились розовые пятна.
Он обернулся к своему собеседнику:
— Никогда этот корабль не войдет в Южное море… Однако пора уже позвать человека от герцога Дегийона, который давно дожидается внизу.
Человек в черном плаще кивнул головой. Лавесс позвонил в колокольчик. Пока посетитель поднимался по лестнице, оба собеседника молчали. Лавесс думал о предстоящей ему «миссии». По делам ордена он бывал и в Индии, и в Африке, проповедовал там слово божье, но в такое длительное плавание пускается впервые. Что ж, это нужно для ордена, и он, Лавесс, готов на все. Во Франции после Семилетней войны настали тяжелые времена. Чернь то и дело бунтует. Развелось много вольнодумцев, называющих себя философами, которые восстают против бога и церкви. Несмотря на королевский запрет, продолжают выходить тома «Энциклопедии», которые могут посеять только смуту и рознь в государстве. А что делают министры? Военный и морской министр герцог Шуазель добился изгнания ордена иезуитов — этой опоры королевской власти. Нет большего безумия! Сейчас министр занят флотом и не хочет ничего более знать. Нет, иезуиты еще сильны, и они покажут себя.
Раздался скрип половиц, и в комнату вошел человек в рваном плаще и широкополой шляпе, державший в правой руке дорожную сумку.
Он снял шляпу и остановился у порога в нерешительности.
— Тебя, кажется, зовут Лабардон? — спросил Лавесс.
— Лабардье, — поправил вошедший.
— Так вот, Лабардье. Ты в прошлом году ограбил почтовую карету, да еще браконьерствовал во владениях герцога. Твое место на виселице. Как это герцог простил тебя? — Лавесс говорил суровым тоном, скрестив руки на груди и устремив на Лабардье пристальный взгляд, ho тот стоял совершенно невозмутимо и в ответ на последние слова иезуита лишь осклабился:
— Что касается виселицы, то на нее попасть никогда не поздно, а пока я еще могу пригодиться его светлости герцогу Дегийону.
— Ты ведь плотник? — спросил Лавесс. И после того как Лабардье кивнул головой, продолжал — Герцог помиловал тебя для того, чтобы ты нанялся на фрегат «Будёз», который скоро отправится в дальнее плавание.
Лабардье поежился. Его прошиб озноб. Плыть за океан? Но ведь всем известно, что там свирепствует такая злая лихорадка, что даже самые сильные люди долго не выдерживают. Да и что он может там найти? Дикие непроходимые чащи, болота, дышащие зловонными испарениями? Нет, это не для него.
Но Лавесс не дал ему и рта раскрыть.
— Ты же сам понимаешь, Лабардье, — сказал он вкрадчивым тоном, — что тебе нужно отправиться подальше, и лучше всего за море. — Он достал кошелек и вынул несколько монет. — На эти деньги ты немного приоденешься, чтобы на корабле тебя не приняли за бродягу.
После утомительных хлопот в Париже Коммерсон несколько недель отдыхал в своем небольшом поместье Шатийон ле Домб. Но нездоровье не проходило. А время отъезда приближалось. Еще в начале осени он написал Бугенвилю полное тревоги письмо, в котором впервые в жизни пожаловался на недомогание. Но, верный себе, Коммерсон не забывал и о деле. Что же, если нездоровье не позволит ему выйти в море, он может вместо себя порекомендовать отличнейшего натуралиста, одного из своих учеников. Свой подробный план исследований он на всякий случай переслал в Париж.
Сидя в жарко натопленной комнате — Коммерсон, как и все чахоточные, постоянно зяб, — ученый предавался грустным размышлениям. Приготовления к отплытию заканчиваются. В ноябре экспедиция должна отплыть из Нанта к берегам Америки. Неужели пе осуществятся его мечты?
Вскоре Коммерсон получил ответ Бугенвиля:
«Мой дорогой друг, только Вы сами, разумеется, можете решить, будете ли Вы с нами во время путешествия. Каждый из нас хочет принести пользу отечеству и науке. Наступает зима! Решайте сами. Но мне почему-то кажется, что здоровье Ваше не столь уж плохо. И разве оно ухудшится, если Вы будете знать, что Вам потребуется вся Ваша воля и энергия? Кроме того, и это весьма важно, Ваше поведение могут использовать наши враги, они всюду станут кричать о Вашей неблагодарности, а может быть, и того хуже, станут доискиваться какой-то тайной причины Вашего отказа от участия в путешествии. Я, конечно, знаю, что как бы Вы ни поступили, во всех случаях это будет разумный и единственно приемлемый выход. Но правильно ли его истолкуют при дворе и не отразится ли это на наших изысканиях, обширный план которых мы с Вами так долго составляли в Париже? Вы прислали программу намеченных Вами работ и рекомендуете молодого натуралиста, в чьих способностях я нисколько не сомневаюсь. Но кто лучше Вас может выполнить намеченное Вами? Я пишу это, чтобы исполнить свой долг ученого и начальника экспедиции. Пожалуй, Вы единственный человек, которого мне будет так не хватать, если Вы не поедете».
Коммерсон не мыслил свою жизнь без странствий. Сердцем он всегда был в новых краях. Там, где еще так много неизвестных европейцам видов животных и растений. Эти строки ученый читал с горечью в сердце.
Но внезапно все изменилось к лучшему.
Бугенвиль сообщил, что транспорт «Этуаль», который будет сопровождать фрегат, отправится в путь значительно позднее — он выйдет в море в конце декабря и присоединится к «Будёзу» у Малуинских островов. Если же свидание на Малуинах почему-либо не состоится, оба корабля встретятся в Рио-де-Жанейро, а затем вместе пойдут через Магелланов пролив.
Таким образом, в распоряжении Коммерсона оказалось еще несколько месяцев. Быть может, удастся за это время поправить здоровье.
Это настолько обрадовало ученого, что уже на следующий день он взял в руки легкую трость и решил пройтись по окрестным холмам, подышать воздухом и пополнить свои гербарии.
В Шатийон ле Домб, где находилось поместье Коммерсонов, протекала река Арконс, приток многоводной Луары. Извиваясь в горах, скорее похожих на холмы, называемых Шаролле, она текла на запад, чтобы там, у Нанта, влиться в морские волны.
Несмотря на осень, было почти жарко. Коммерсон медленно шел по дижонской дороге, время от времени переходя на обочину, чтобы осмотреть какое-нибудь растение. Далеко уходить от дома было нельзя, но Коммерсон почувствовал прилив сил и шагал все дальше. Следя за течением Арконса, он подумал, что вот сейчас там, далеко на западе — он мысленно прикинул расстояние, должно быть, не меньше ста лье, — расправляет крылья фрегат, чтобы взять курс в открытый океан…
5 ноября фрегат «Будёз» прибыл в Менден, находящийся в нескольких лье от Нанта, и стал там на якорь, чтобы привести в окончательную готовность парусное вооружение.
Бугенвиль, несмотря на занятость делами, все же находил время пополнить свои знания по навигации, почитать дневники и судовые журналы знаменитых мореплавателей, посмотреть карты Кироса, Менданьи, Дампира, Ансона и других менее известных, но опытных мореходов.
Мысли о путешествии в далекий Тихий океан появились у Бугенвиля, когда он впервые познакомился с Дюкло-Гийо. Бывалый капитан часто рассказывал о тех, кто первыми отважились пересечь Атлантику и южные моря. Титаническим силам океана они противопоставили свой ум, знания, волю, закаленную в преодолении препятствий, мужество, неукротимую жажду исследований. Они знали, что в случае катастрофы помощи ждать неоткуда. Но эти отважные люди привыкли полагаться больше на себя. Они терпели лишения, страдали от голода, жажды, болезней, от многих невзгод, уготованных первооткрывателям.
И не удивительно, что таких людей было немного.
За долгие века, прошедшие после смерти Магеллана на одном из Филиппинских островов, только тринадцать отважных пересекли все океаны земного шара, повторяя его подвиг.
И вот теперь, сидя в адмиральской каюте, на корме фрегата, откуда была видна белая пена набегающих на берег волн, Бугенвиль мысленно прослеживал предстоящий путь.
Ветер шевелил листы тетради в сафьяновом переплете, на первой странице которой округлым, четким почерком было выведено:
«Перечень всех кругосветных плаваний и различных открытий, совершенных до сих пор в Южном море, иначе называемом Тихим океаном».
Бугенвиль не всматривался в свои записи, он знал их на память.
Итак, после Магеллана вторым, совершившим кругосветное плавание, был английский пират Френсис Дрейк. Он открыл в Южном море несколько островов к северу от экватора и Новый Альбион (Калифорнию). Но этот пират был известен и столь зверскими преступлениями, что его имя вызывало у Бугенвиля отвращение.
В конце шестнадцатого и начале семнадцатого века вокруг света ходили англичанин Томас Кавендиш, голландец Оливье де Норд, немец на голландской службе Георг Шпильберг, голландцы Схоутен, Лермит. Затем опять последовала пора англичан: восьмое плавание совершил Каули, девятое Роджерс.
Внимательно изучал Бугенвиль плавание голландца Роггевена, отправившегося в 1721 году на поиски мифической Земли Девиса, считавшейся частью неизвестного Южного материка.
Роггевен открыл остров Пасхи, затем острова, названные им Гибельными, так как один из его кораблей погиб там на рифах; этот мореплаватель нанес на карту и другие земли.
Последние два путешествия совершили совсем недавно адмирал Ансон и коммодор Байрон, тот самый, за эскадрой которого Бугенвиль следовал, идя в Магелланов пролив за лесом для поселения на Малуинских островах.
Бугенвиль знал, что где-то в Южном море находится экспедиция двух английских капитанов — Уоллеса и Картерета. Они отплыли из Англии на двух кораблях — «Дельфине» и «Сваллоу». Где они теперь? Какие терпят бедствия и лишения? Может быть, судьба сведет его с этими моряками?
Бугенвиль вспомнил длительные беседы в кабинете Шуазеля.
Герцог живо интересовался всем, что находил в морских архивах молодой капитан.
— Мы делаем ошибку, что не следуем примеру наций мореплавателей — голландцев и англичан, — любил повторять министр. — Ведь они по существу и обладают открытыми ими землями. Такая держава, как Франция, должна первенствовать на море. Жаль, что этого не понимают при дворе!
Министр подходил к медному глобусу на большой резной деревянной подставке. Огромный шар медленно поворачивался от легкого прикосновения руки Шуазеля. Он говорил, что немало французов прославили себя на море. Польмье де Гонневиль одним из первых обследовал берега Южной Америки в самом начале XVI века. А Барбине ле Жантиль пятьдесят лет назад отправился в Перу и Чили, а затем добрался до Китая.
Бугенвиль, конечно, знал, что основная заслуга в географических открытиях в Тихом океане принадлежит другим нациям. Испанец Хуан Гаэтано открыл Новую Гвинею и многие другие острова; его соотечественники Мендоса и Менданья нанесли на карту Соломоновы острова; Фернандес де Кирос стал знаменитым благодаря открытию многих островов и среди них земли, которую он назвал Австралией Святого Духа. Позднее первооткрывателями стали и голландцы Абель Тасман, Жан Эдельс, Питер де Нейте, Питер Карпентер и другие.
Бугенвиль обращал внимание министра на то, что многие из этих путешественников стремились лишь к собственному обогащению, не стараясь расширить сведения о земном шаре. Надо сделать так, чтобы экспедиция принесла максимальную пользу науке.
Но Шуазель неохотно говорил об этом.
Как-то раз министр встретил Бугенвиля мрачно. Он натолкнулся на явное противодействие своей политике. Неужели безмозглые придворные болтуны могут свалить его, фактически играющего роль первого министра?
В тот холодный зимний день он грел руки у камина и жаловался Бугенвилю на подагру. Оживившись, он рассказал, что недавно приобрел за восемь тысяч ливров настоящего Вандермелена — превосходное полотно «Этюд из шотландской гражданской войны 1650–1651 годов».
Бугенвиль слушал, сидя в кресле. Он знал страсть герцога к живописи, знал, что у него огромная, хорошо подобранная коллекция картин, одна из лучших во Франции.
Но внезапно министр резко изменил тон:
— Вам я могу сказать. Есть люди, которые не понимают, что инертность губительна. Пока мы спим, англичане станут хозяевами во всех частях света. Вы запомните это. Сколько труда положил я, чтобы увеличить численность и улучшить боевые качества наших фрегатов и линейных кораблей! Но некоторые персоны хотят, чтобы все оставалось по-старому. А это значит, что торговле будет нанесен непоправимый урон, и страна полностью разорится.
Шуазель был несколько недоволен собой, так как сказал больше, чем хотел. Имея столько врагов, он должен быть всегда начеку. Ему не хотелось, чтобы Бугенвиль знал, что он, военный министр, имеет какие-то слабости. И, идя навстречу духу времени, согласился с тем, чтобы экспедиция отправлялась под флагом научных изысканий. Но кому это желательно? Прежде всего энциклопедистам, с которыми якшается и Бугенвиль. Прогресс нужен, но «Энциклопедия»? Шуазель уже пытался однажды открыто вступить с ней в борьбу. Он и сейчас оставался ее непримиримым врагом. И в этом он был совершенно согласен с иезуитами, которых ненавидел.
Когда Бугенвиль покидал кабинет, министр пожалел, что так быстро отпустил капитана. Надо было опять заниматься наскучившими ему делами министерства.
Когда фрегат вышел в открытое море, Бугенвиль собрал на шканцах экипаж.
Медленно проплывали берега Бретани. Свежий ветер усиливался. Волны становились круче. Море покрылось барашками. Бугенвиль приказал держаться мористее. Взяли вторые рифы на гроте, но судно еще несло брамсели.
— Вы должны знать, — говорил Бугенвиль, — зачем мы отправляемся в столь рискованное предприятие.
Слова капитана уносило ветром в сторону, и Бугенвиль напряг голос:
— Многим из вас известно, что англичане скрывают от своих матросов опасности дальних путешествий. Правительство считает, что, выплачивая морякам двойное жалованье, можно не заботиться об их жизни. Никто не говорит матросам даже о цели путешествия. Так было и в экспедиции коммодора Байрона, которая только в этом году вернулась из плавания. Я думаю, что для нашего экипажа нет нужды создавать такие условия. Я верю, что мужество, терпение, усердие и добрая воля всего экипажа будут сопутствовать нашему предприятию. Все открытия, которые нам, может быть, суждено сделать, мы посвятим славе нашего короля и науке.
До сих пор никто не разговаривал так с экипажами кораблей. Многие офицеры насторожились. Они-то знали, что каждый третий умирал от голода, истощения и болезней, подстерегавших отважных моряков в южных морях. Но зачем говорить об этом простым матросам?
Ветер между тем крепчал. Белая пена срывалась с гребней волн. Судно легло в дрейф. Шторм ночью усилился. Все паруса убрали, спустили верхние реи. Боцман Пишо умело распоряжался матросами, выполняя команды вахтенного офицера. С убранными парусами корабль еще продвигался на север, но вскоре сломалась фор-стеньга, а потом и грот-стеньга. Судно набрало много воды. Подмокли запасы провизии, находящиеся в трюме.
— Судно не только не готово к плаваниям в водах, омывающих мыс Горн, но и здесь, в виду французских берегов, оно может потерпеть бедствие, — сказал Бугенвиль капитану Дюкло-Гийо. — Я не знаю, как и объяснить это.
— Нельзя же допустить, мосье капитан, чтобы опытные кораблестроители Нанта не знали простых вещей, известных каждому моряку. Ведь надводный борт имеет слишком большой завал внутрь, и поэтому палуба недостаточно широка.
— Можете не продолжать, капитан, я не моряк, но математик, и остальное мне совершенно очевидно, — сказал Бугенвиль. — Угол между вантами и мачтами слишком мал, и мы рискуем потерять их в штормовую погоду.
— На корабле слишком много балласта, — добавил Дюкло-Гийо. Вероятно, тонн сорок лишнего в трюме. Кроме того, к четырнадцати пушкам, установленным в закрытой палубе, по распоряжению герцога Дегийона, добавили ещё двенадцать.
«И здесь не обошлось без Дегийона», — отметил про себя Бугенвиль.
Нужно было идти в какой-нибудь порт, ибо с полученными повреждениями судно не могло идти к берегам Америки.
«Будёз» был на траверзе мыса Пенмарк, в сорока двух милях от Бреста, и Бугенвиль решил направиться туда.
На следующий день шторм немного утих, и на палубе появился отец Лавесс. Священник с трудом удерживал шляпу с загнутыми в две трубки полями. Полы сутаны отчаянно рвал ветер. Лавесс любезно раскланялся с Дюкло-Гийо и осведомился, скоро ли утихнет проклятый шторм, который может свести с ума.
— Со штормом шутки плохи, отец Лавесс, — отозвался Дюкло-Гийо, — но я надеюсь, что все кончится благополучно. После того как мы починим корабль в Бресте, куда мы идем, он сможет выдержать какие угодно бури.
— Как, капитан, разве нам нужно заходить в Брест для починки? — удивился Лавесс, — я был уверен, что у нас прекрасный корабль и ему нипочем все испытания. Мне сообщили, что длина его киля сто двадцать футов, что это лучший фрегат в нашем флоте. А велики ли повреждения, капитан?
Дюкло-Гийо не понравился тон Лавесса, и он сухо ответил, что фрегат действительно прекрасный корабль и ремонт вряд ли займет много времени.
Лавесс увидел шевалье дю Гарра и не спеша пошел к нему навстречу, но вдруг стремительно бросился к фальшборту и, держась обеими руками за планшир, наклонился над ним.
— На упадите в море, — насмешливо крикнул священнику Дюкло-Гийо. — Не очень-то хорошо отец Лавесс переносит качку, — сказал он дю Гарру.
По прибытии в Брест Бугенвиль стал действовать энергично. Мачты были укорочены, артиллерию полностью сменили. Вместо двадцатифунтовых пушек установили восьмифунтовые. Это уменьшило груз почти на двадцать тонн.
Шуазель, кроме того, дал разрешение в случае, если штормовая погода помешает пройти Магеллановым проливом, отослать фрегат «Будёз» с Малуинских островов обратно во Францию под командованием де Бурнана и продолжать плавание на другом судне.
Исправив рангоут и заново проконопатив надводную часть фрегата, моряки снова погрузили на судно снятые с него запасы продовольствия.
5 декабря 1766 года сильный восточный ветер наполнил паруса фрегата. Во второй раз моряки отошли от французского берега.
Транспорт «Этуаль» все еще стоял в Рошфоре. Этот старинный французский порт на реке Шаранте был окружен отмелями. Устричные банки служили местом промысла. Многочисленные семьи Добывали здесь себе пропитание. Коммерсон, который жил уже более месяца в этом городе, часто выходил на побережье полюбоваться морем. Устье реки было нешироким. Она несла свои воды в пролив Пертюи-д’Антиош. Здесь можно было встретить гораздо больше рыбачьих, чем торговых и военных судов. Интересуясь уловом, Коммерсон нередко копался в рыбачьих корзинах. Узнав его поближе, многие рыбаки стали приносить ему диковинных рыб.
Ученый с радостью заметил, что его здоровье день ото дня улучшается. То ли повлиял благодатный климат этой части Франции, то ли сказалось увлечение любимым делом, но он стал крепко спать по ночам, смягчился кашель.
Теперь ученый с улыбкой вспоминал о завещании, составленном перед отъездом. В нем Коммерсон оставлял все свое состояние и коллекции друзьям. Небольшую сумму он предназначал для основания института естественной истории.
Из Парижа приехал молодой франтоватый доктор Вивэ. Как-то, встретив на берегу реки Коммерсона, он с неудовольствием заметил:
— Мосье, вы ученый, а от вас пахнет рыбой. Разве это занятие для благородных господ? Оставьте, пожалуйста, его простолюдинам. У вас даже на камзоле чешуя.
— Ученому надлежит испробовать все, — сухо ответил Коммерсон. — Вы тоже принимаете участие в экспедиции мосье Бугенвиля. Значит, мы с вами коллеги. Думаю, со временем вы перемените свое мнение. А что касается рыбы, то прошу вас заметить, что даже шведская королева не считала зазорным возиться с ней. Вполне возможно, мосье, и у нее на платье была рыбья чешуя.
Вивэ неприязненно посмотрел на ученого:!
— Ну, уж я-то буду держаться подальше от этого. «И от вас, мосье», — добавил он про себя.
Коммерсон не знал, что хирурга назначили в экспедицию по настоянию Дегийона. Вивэ был больше известен в военном ведомстве, чем в медицинских заведениях. Не знал ученый и того, что кое-кому из экипажа транспорта поручено следить за ним, астрономом Верроном и инженером Роменвилем, которые тоже должны были стать его спутниками.
Экипаж «Этуали» состоял главным образом из опытных моряков Индийской компании. Они, как и рыбаки Рошфора, с удовольствием во всем помогали Коммерсону.
Многие в городе уже знали сухощавую фигуру Коммерсона и при встрече с ним почтительно раскланивались. Однажды, направляясь к причалу с многочисленными свертками в руках, ученый был остановлен юношей в поношенном камзоле.
Думая, что юноша хочет задать несколько обычных вопросов, Коммерсон в нетерпении остановился. Времени у него было мало. Шенар де ля Жиродэ — капитан транспорта — торопил всех. Сроки выхода «Этуали» из порта прошли, и теперь флагман экспедиции может напрасно их ждать у Малуинских островов — условленном месте встречи. Привыкший подчиняться дисциплине беспрекословно, Жиродэ испытывал большое беспокойство. А Коммерсону еще надо было многое успеть сделать.
Ученый смотрел на юношу, ожидая вопросов. Но, к его изумлению, тот вдруг повалился ему в ноги:
— Мосье, не прогоняйте меня!
Коммерсон был озадачен. Вероятно, его принимают за кого-то другого.
— Да я вас и не прогоняю. Объясните, пожалуйста, в чем дело. И если можно, поскорее: я очень спешу.
Юноша, не вставая с колен, сбивчиво объяснил, что его зовут Жаном Барре, что родители его разорены длительной тяжбой и что он совершенно лишен средств к существованию. Жан просил взять его в услужение, обещая во всем повиноваться и выполнять самую черную работу.
Коммерсон заставил юношу встать, усадил его на пустую бочку из-под рыбы. Ученый нуждался в хорошем слуге. Но этот хрупкий юноша, такой нервный и возбудимый? И кто он?
— А известно ли вам, мосье Барре, — сказал Коммерсон, внимательно наблюдая за выражением лица юноши, — какие испытания ожидают нас? Известно ли вам, что мы можем подвергнуться смертельной опасности? Только большая и благородная цель может послужить причиной для такого рода предприятия.
Юноша опустил голову. Но потом опять поднял ее и простодушно проговорил:
— Я давно, мосье, слежу за вами. И вы… вы кажетесь мне добрым.
Искренность всегда подкупает. Коммерсон как-то сразу почувствовал, что этот юноша не из обычной толпы портовых бродяг, заботящихся только о том, чтобы при случае поживиться за чужой счет или найти себе работу полегче.
Увидев, что натуралист колеблется, Жан Барре возобновил свои настойчивые просьбы, И Коммерсон сдался. Он вынул свинцовый карандаш, набросал несколько слов на клочке бумаги и передал его юноше:
— Отнесите капитану Жиродэ. Его вы найдете на палубе вон того судна. Пусть это будет вашим первым поручением.

Глава III
Малуины

Вообразим себе Монтескье, Бюффона, Дидро, д'Аламбера, Кондильяка или людей, им подобных, путешествующих для просвещения своих соотечественников, наблюдающих и описывающих так, как только они умеют, Турцию, Египет, Внутреннюю Африку, Малабарский берег и в другом полушарии— Мексику, Чили, земли Магеллана, Тукуман, Парагвай, если возможно, Бразилию, Флориду и другие страны. Такие путешествия будут самыми нужнейшими из всех и потребуют особой тщательности.
Ж.-Ж. Руссо
Л регат шел курсом крутой бейдевинд — ветер дул с» юга, под острым углом к кораблю. На горизонте возникло какое-то темное облако. Но в подзорную трубу можно было легко различить, что’ это не облако, а низкий берег большого острова. Бугенвиль стоял с наветренного борта, вглядываясь в приближающуюся землю. Не впервые подходил он к ней, но каждый раз удивлялся странному оптическому обману. Казалось, что остров покрыт густым, синеющим издали лесом. И это впечатление не было случайным. Даже открывший эти земли и приблизившийся к ним Джон Дэвис думал, что они лесисты.
Но Бугенвиль знал, что это не так. На острове не росло ни одного дерева. То, что издали мореплаватели принимали за лес, на самом деле было лишь густыми зарослями тростника.
Бугенвилю полюбились эти места. Острова были расположены в умеренных океанских широтах, всего в нескольких стах милях от южноамериканского побережья. Пустынные и дикие, они не привлекали алчных взоров могущественных морских держав. Но для человека деятельного и любящего труд здесь было к чему приложить руки. На островах протекали многочисленные ручьи с прозрачной водой. Почва, хотя и не очень плодородная, была вполне пригодна для земледелия. Небо здесь почти всегда оставалось безоблачным.
На островах было много птиц, особенно часто попадались утки чирки, в зарослях тростника водились лисицы и мелкие животные, в ручьях плескалась рыба…
Земля приближалась. Уже можно было различить над невысокими холмами струйки дыма, уловить едва слышный, но такой необычный в море запах сухой травы.
На юте собралась группа офицеров. Бугенвиль посмотрел на высокую фигуру шевалье дю Гарра. Что это за человек? Немногословный, всегда хмурый, он почти никогда не улыбался, а смеялся отрывисто, точно лаял.
Вот шевалье де Бурнана и де Бушажа понять нетрудно. Это простые люди, совсем не похожие на представителей «дворянства шпаги». Оба невысокого роста, по-галльски черноволосые и светлоглазые, они чем-то походили друг на друга, несмотря на различие характеров: де Бушаж — главный штурман экспедиции и математик — был романтически увлечен морем; у де Бурнана — молодого, но уже опытного моряка — некоторую сухость полностью искупали усердие и преданность делу.
Постепенно палуба заполнялась людьми: всем хотелось посмотреть на острова, которые еще столь недавно служили предметом споров с Испанией. Старая католическая держава предъявила на них свои права на том основании, что они географически очень близки к ее владениям в Южной Америке. Такое толкование своих прав было более чем сомнительным. Но не ссориться же со своим союзником из-за жалкого клочка земли! И французский двор взмахом пера Шуазеля отказался от этих островов.
На палубу осторожно вылез человек в коричневом камзоле и желтых башмаках с пряжками — корабельный письмоводитель Сен-Жермен. Он расхаживал на шканцах, как бы принюхиваясь к ветру.
В последние дни, во время перехода из Монтевидео, корабль жестоко трепало штормом. Сен-Жермен, страдая от морской болезни, не показывался на палубе. Да и во время плавания к берегам Южной Америки письмоводитель проводил целые дни за картами, раскладывая пасьянсы. Подойдя к отцу Лавессу, который давно уже появился на палубе, Сен-Жермен стал с ним о чем-то разговаривать, неуверенно держась одной рукой за планшир.
Раздалась громкая команда Дюкло-Гийо, и матросы в синих куртках и белых штанах быстро поднялись по вантам и разбежались по реям. Фрегат замедлил ход.
Поскрипывали снасти, шелестела вода за бортом, раздавались резкие отрывистые крики морских птиц. Бугенвиль с удовольствием смотрел на коренастого Дюкло-Гийо. Когда он отдавал приказания, повторяемые боцманами, то каждый раз делал нетерпеливый жест рукой.
Бугенвиль вспоминал… Малочисленная канадская армия французов, теснимая англичанами. Стоны раненых и умирающих после атаки на Тикондероге, хлюпающая под сапогами болотистая почва, провисшие от дождя грязные палатки французского лагеря. Сам он, едва оправившийся после сабельного удара. Каким контрастом всем им, измученным переходами, битвами и ранами, был человек, появившийся в лагере в мундире лейтенанта флота, пышущий здоровьем и жизнерадостностью. Бугенвиль тогда и предположить не мог, что этот человек сделается его спутником на долгие годы жизни. Пьеру Никола Дюкло-Гийо было тогда 35 лет, а плавал он уже почти четверть века.
Представляясь Бугенвилю, он сказал, что командовал дивизионом легких судов в Сабль Делонне, а затем был направлен «с исполнением тех же обязанностей» в Канаду. В конце ноября 1758 года Бугенвиль вступил на борт каперского судна «Виктуар», которым командовал Дюкло-Гийо, чтобы доставить французскому двору отчет, испросить милости короля и привлечь внимание министров к положению в Канаде и состоянию армии.
Казалось бы, Бугенвиль, перенесший все невзгоды и ужасы войны, мог немного отдохнуть на «Виктуаре», собраться с мыслями, оправиться после ранения. Но он не привык праздно отдыхать и использовал каждую свободную минуту, чтобы изучать морское дело.
Бугенвиля поразило, что с того дня, когда человек впервые отважился выйти в открытое море, методы кораблевождения по существу мало изменились и оставались очень несовершенными. Даже у родных берегов корабль мог всегда потерпеть аварию из-за неточностей в счислении курса. А сколько открытий оказались утраченными только потому, что мореплаватели не могли точно определить широту и долготу вновь «обретенных» земель! И он подробно расспрашивал капитана о том, как тот ориентируется в море. Бугенвиль по поручению капитана вел шканечный журнал и многие часы проводил вместе с Дюкло-Гийо, склонившись над картой.
Рейс «Виктуар», наверное, никогда не забудут все те, кто был тогда на корабле. Бугенвиль хорошо помнил строки, которые занес в свой дневник:
«…На север от Азорских островов море стало бурным, а ветры достигали ураганной силы… Управлять кораблем почти невозможно… Нам приходится терпеть на этой посудине страшные бедствия. Не знаешь зачастую, как поступить. Кажется, опасность грозит отовсюду. Волны все время увеличиваются, гуляют по палубе. Нам нечем обогреться, скот и птица, взятые на борт в Канаде, погибли. Сырость и холод мы терпим несколько дней. Матросы молят бога, чтобы добраться до берега живыми».
Именно во время этого плавания Бугенвиль и услышал впервые о Малуинских островах. Дюкло-Гийо нередко бывал в этих водах, ходил вдоль побережья Патагонии, дважды огибал мыс Горн, открыл новую землю, которую назвал островом Святого Петра.
…Корабль осторожно втягивался в узкую длинную бухту. Матросы непрестанно проверяли глубину лотом. За кормой фрегата тянулся длинный шлейф пузырчатых водорослей.
К Бугенвилю подошел шевалье дю Гарр. Как бы угадывая мысли капитана, он сказал, указывая на скалистый берег:
— Эти острова, мосье капитан, теперь по праву, а скорее без всякого права принадлежат испанцам. Но, послушайте, мосье, что нам мешает обосноваться в северной части островов, которые, по слухам, теперь заняли англичане? Ведь мы здесь, до прибытия отставших испанских фрегатов, полные хозяева, и нанести маленькую неприятность английскому флоту, право, будет не лишним.
Бугенвиль с недоумением посмотрел в бледно-голубые глаза шевалье. Вот наконец-то заговорил и он. Но что предлагает этот человек?
— Вспомните отношения между Испанией и Португалией в колониях, — продолжал дю. Гарр. — Хотя эти державы и не воюют, они постоянно перекраивают границы своих заокеанских владений.
— То, что вы предлагаете, мосье, — сухо сказал Бугенвиль, — означает напасть на англичан без объявления войны. Я удивляюсь, как вам могли прийти в голову подобные мысли…
Он отвернулся, подчеркивая этим, что не желает слушать более подобных разговоров на палубе своего корабля.
— Черт возьми! — громко сказал дю Гарр.
Фрегат отдал якорь. Борт корабля окутался пороховым дымом. Гулкий звук пушечного выстрела взорвал тишину. У холмов показалось несколько всадников, во весь опор скачущих к бухте. Спи разряжали в воздух свои ружья. Залаяли собаки. В небо поднялись тысячи птиц. Лишь бродившие у самой воды пингвины, похожие издали на католических певчих в мантиях и белых манишках, не двинулись с места, только одинаково вытянули шеи, вертя маленькими головками.
Бугенвиль и Дюкло-Гийо вошли в ворота выстроенного из красноватого камня форта. Подойдя к двадцатифутовому обелиску, высившемуся в центре ровной площадки, Бугенвиль носком сапога расшвырял землю и вытащил большую медную медаль, на которой была выбита следующая надпись:
«Колония Малуинских островов, расположенных на 51°30′ южной широты и 60°02′ западной долготы, основана фрегатом «Эгль» — командир капитан второго ранга Дюкло-Гийо, и фрегатом «Сфинкс» — командир старший лейтенант Шенар де ля Жиродэ, снаряженными полковником пехоты Луи Антуаном де Бугенвилем, капитаном первого ранга де Нервилем, начальником экспедиции, и П. д'Арбуленом, начальником главного почтового управления. Февраль 77
64 года».
В конце текста стояло:
«Con amur tenues grandia»[2].
Бугенвиль и Дюкло-Гийо еще раз перечитали столь знакомые слова, значившие для обоих так много. Потом Бугенвиль положил медаль в карман: отныне она стала лишь напоминающей о прошлом реликвией.
Моряки еще постояли перед обелиском и потом тяжелой походкой вышли из форта.
С прибытием корабля жизнь на острове переменилась; для многих весть о передаче его Испании оказалась совершенно неожиданной. И теперь поселенцы уныло бродили по окрестным холмам, осматривая посевы, заходя в хлевы к животным. На что решиться: оставаться ли здесь и далее или уехать на испанских кораблях в Монтевидео, чтобы оттуда вернуться во Францию?
Бугенвиль и Дюкло-Гийо, беседуя, неторопливо шли по направлению к высоким дозорным башням, построенным одновременно с фортом и обелиском.
Было начало апреля, но здесь, в южных широтах, наступала зима. Травы и мох, покрывавшие окрестные холмы, приобрели какой-то красноватый оттенок, заросли тростника пожелтели, зеленый цвет сохранили лишь верхушки растений. Бугенвиль подумал, что такая окраска еще больше придает сходство тростнику с лесом, и сказал об этом Дюкло-Гийо.
— Верно, мосье, — отозвался тот. — Мне не раз случалось проплывать мимо островов, и всегда я обращал на это внимание. Правда, направляясь в Тихий океан, мы большей частью обходили острова с запада. Вы, мосье, знаете, что зимой здесь часты туманы и легко наткнуться на мели.
И Дюкло-Гийо стал рассказывать — что он очень любил— о своей морской службе, о том, как он служил на «Принце Конде» и «Любезной Марии».
Бугенвиль знал за ним эту слабость и, в который раз выслушав, как «Принц» сел на камни близ мыса Горн и как команда сумела спасти корабль, с улыбкой заключил:
— Рассказ о ваших странствиях можно было бы продолжать бесконечно. Мне известно, что вам, капитан, доводилось бывать в походах по семнадцати-двадцати месяцев. И все-таки то, что нам предстоит, не идет с этим ни в какое сравнение. Ведь наш «Будёз» — первый французский корабль, который должен обогнуть весь земной шар. — Бугенвиль нагнулся, чтобы сорвать какое-то растение, напоминающее своим видом гладиолус, и, полюбовавшись им, добавил — Под вашим командованием, капитан, этот корабль выдержит все испытания.
Дюкло улыбнулся, польщенный. Он не переставал удивляться характеру этого человека. Ведь он, Дюкло, как и его товарищ Шенар де ля Жиродэ, почти всю жизнь на море. Они потомственные, просоленные моряки. А ими командует человек, который в двадцать пять лет впервые пересек Ла-Манш. И все-таки нет к нему ни зависти, ни вражды… Сухопутный моряк. Нет, ученый и моряк. Дюкло знал, что многие офицеры ненавидят Бугенвиля за быструю карьеру. Но уж, очевидно, так устроен этот человек: за что бы он ни взялся, всюду ему сопутствует успех.
Бугенвиль же думал о том, сколько пищи для размышлений дает всякая вновь открытая страна. Он всегда интересовался естественной историей, но, конечно, не считал себя в этой области специалистом. И все же, даже здесь, на Малуинах, где природа не так щедра, он находил много любопытнейших растений, свойства которых вряд ли были известны и Коммерсону.
Вот, например, какая-то шишка зеленого цвета, похожая на нарост. Бугенвиль вырвал ее из земли. Растение выделило вязкий молочного цвета сок, который колонисты называли растительным клеем. Что это за сок? Это один из интересных вопросов, которыми стоит заняться. Бугенвиль опять подумал о Коммерсоне. Неужели болезнь или другие обстоятельства помешают ему принять участие в экспедиции? Другие обстоятельства. Черт бы их побрал! Где сейчас «Этуаль»? Неужели еще не покинула берегов Франции?
Вдруг откуда-то со стороны моря послышались крики и стрельба. Придерживая шпагу, Бугенвиль стал быстро взбираться на холм, скрывавший бухту.
Дюкло поспешил за ним. Подъем становился все круче. Наконец, ухватившись за куст вереска, Бугенвиль вскарабкался на самую вершину. Пришлось лечь грудью на камни, чтобы посмотреть, что делается внизу, в бухте.
Небольшой кит во время отлива застрял в прибрежной гряде камней и теперь с силой бил хвостом, пытаясь освободиться из своего плена. Матросы с фрегата и колонисты, стоя по колено в воде, целились в кита из ружей. Но ружейные выстрелы нимало ему не вредили. Вскоре от берега отчалила шлюпка. На носу стоял человек в одной рубашке, без камзола и жилета. В руках он держал топор. Когда шлюпка приблизилась к животному, этот человек выскочил из нее и, перепрыгивая с камня на камень, подбежал к киту и всадил в его спину топор. Нанеся несколько сильных ударов, человек в белой рубашке обернулся и крикнул что-то матросам в шлюпке.
— Да это принц! — воскликнул Дюкло-Гийо.
Теперь и Бугенвиль узнал Шарля Нассау.
Сделав отчаянное усилие, кит перевернулся на бок и, ударив хвостом, оказался на глубоком месте. Через минуту он исчез из виду.
Принц еще долго стоял с топором в руках, глядя в море. На его белой кружевной рубашке можно было различить темные пятна.
Бугенвиль поднялся на ноги, стряхнул
с камзола песок, поправил шпагу. Он, нахмурившись, смотрел на носки своих сапог.
Птицы с криком носились вокруг, готовые, казалось, сесть на плечо.
На вершине холма показалась странная фигура: смешно переваливаясь и размахивая короткими крыльями, к ним приближался крупный пингвин. Клюв у него был длинный и тонкий, перья на спине темные, а на животе ослепительно белые. Желтый воротник имел белые и синие оттенки. По временам птица издавала громкий крик, сильно вытягивая шею.
— О, вот и Жан, — улыбнулся Бугенвиль: это был один из прирученных колонистами пингвинов. — Как вы думаете, Дюкло, чем покормить этого разбойника?
С тех пор как Шенар де ля Жиродэ отдал приказ поднять якоря и выйти в открытое море, транспорт «Этуаль» преследовали неудачи.
Мало того, что непредвиденные обстоятельства надолго задержали транспорт на рейде в Рошфоре, мало того, что пришлось сняться с якоря только в середине февраля, — корабль оказался так же неподготовленным к плаванию, как и фрегат «Будёз». Сразу же после отплытия из Рошфора в корпусе корабля обнаружили сильную тень. Рангоут был в очень плохом состоянии. Хорошо еще, что во время перехода к берегам Америки не было сильных бурь и корабль не подвергался серьезным испытаниям.
Жиродэ даже сначала подумал, не вернуться ли во французский порт для основательного ремонта корабля, но это сильно нарушило бы планы Бугенвиля. Поэтому капитан принял решение идти к Малуинам, чтобы присоединиться к фрегату.
Ученые, вступившие на борт транспорта в Рошфоре, — астроном Веррон, натуралист Коммерсон, инженер Роменвиль, хирург Вивэ — часто собирались вместе в кают-компании. Веррон, рекомендованный известным ученым, членом Академии Лаландом, быстро сошелся с Коммерсоном. Молодому астроному предстояло выполнить большую программу наблюдений. Он с воодушевлением говорил о ней
с натуралистом.
Вивэ тоже не чуждался общества Коммерсона. Казалось, словесная стычка в Рошфоре забыта ими. Но однажды, когда Вивэ заметил в руках Коммерсона томик Руссо, изданный в Женеве, он резко изменил свое отношение к ученому и демонстративно выходил из кают-компании, когда там появлялся Коммерсон.
Новый слуга Коммерсона — Жан Барре — оказался не только усердным, но и расторопным, даже любознательным. Он интересовался всем, что делал ученый, и Коммерсон как-то незаметно для себя стал рассказывать ему о ботанике.
В Рошфоре, занятый подготовкой к отъезду, Коммерсон не обращал особого внимания на внешность своего нового слуги. Но теперь он стал подмечать в его поведении и облике некоторые странности. Прежде всего — нежное лицо без всяких признаков растительности, маленькие руки, с необычной ловкостью перебирающие гербарии, чуть приподнятая грудь. Вскоре предположения превратились у Коммерсона в уверенность, и он прямо спросил у своего нового слуги, мужчина ли он.
Барре растерялся. И когда он поднял на Коммерсона полные слез глаза, тот окончательно убедился, что перед ним переодетая девушка.
— Что мне было делать, — рассказывала она, когда Коммерсон ее успокоил. — Я сирота. У меня не было никаких надежд ни выйти замуж, ни устроиться на какую-нибудь сносную работу. Единственная дорога — в монастырь. Тут, к счастью, я увидела вас, мосье, узнала, что вам нужен слуга. Приняла безрассудное решение. А теперь все открылось… Не прогоняйте меня и никому не рассказывайте об этом. Иначе мне ничего не останется, как броситься в море.
Коммерсон не был сентиментален. Он твердо решил отправить Барре обратно во Францию, как только они прибудут в какой-нибудь порт. У ученого-натуралиста слуга — женщина! Ведь ему, Коммерсону, придется таскать тяжелое снаряжение, подниматься в горы, пробираться в непроходимых зарослях тропического леса. Коммерсон знал и о том, что моряки считают за дурное предзнаменование присутствие на корабле женщины. Вдобавок ко всему Барре плохо переносила качку и сильно страдала от морской болезни.
Через несколько недель Коммерсон стал замечать, что многие моряки как-то странно поглядывают на его слугу.
Ученый решил посоветоваться с командиром корабля — старшим лейтенантом Шенаром де ля Жиродэ, как скрыть от команды до прибытия в Южную Америку, что Барре — девушка.
Он нашел его в капитанской каюте, о чем-то беседующим с корабельным священником отцом Маньяром. Когда Маньяр вышел, Жиродэ вопросительно взглянул на Коммерсона. Его глаза, всегда смеющиеся, на сей раз были задумчивы.
— Не должен был бы я вам этого говорить, мосье Коммерсон, — сказал он, — но обстоятельства уж очень серьезны.
Коммерсон насторожился. Что такое? Неужели и Жиродэ все известно? Но капитан заговорил о другом:
— Вы, наверное, знаете, мосье, что по выходе из Рошфора мы обнаружили на корабле много неисправностей. Особенно меня беспокоила течь в носовой части. Это заставляет нас идти в Рио-де-Жанейро, а не на Малуинские острова, чтобы стать на основательный ремонт. Раньше я думал о случайном стечении неблагоприятных обстоятельств. Но вот отец Маньяр говорит, что все это дело рук иезуитов. Он янсенист и поэтому ненавидит их. Кое о каких подозрениях он мне рассказал. Но ведь это только подозрения…
Жиродэ помолчал:
— Я полагаю, мосье, что нам с вами пока к этому тоже следует отнестись как к подозрениям. Маньяр обещает на свой страх и риск проследить, не замешан ли тут кто-нибудь из команды.
Это было новостью для Коммерсона. Неужели у экспедиции есть какие-то тайные враги? Почему? Чего они добиваются?
Все это было очень странно. Но как же быть с Барре?
— Я пришел к вам, капитан, тоже по необычному делу. Слуга, которого я нанял в Рошфоре, оказывается не мужчина, а женщина.
Глаза Жиродэ уже снова смеялись:
— Чертовски похоже на это, мосье. Что вы думаете с ней делать?
— Рассчитать как только прибудем в Рио-де-?Канейро и дать денег на обратный путь.
— А пока, — угадывая мысли Коммерсона, посоветовал Жиродэ, — лучше всего относиться к ней как к мужчине. Несколько недель она может спать на второй палубе, там же, где и все матросы.
Это решение оказалось правильным. Коммерсон сказал Барре, что она должна вести себя естественно и просто, и тогда никто не будет бросать на нее косых взглядов. Так и случилось.
Только один Вивэ следил за ней и ехидно посмеивался. Он полагал, что приобрел солидный козырь против своего недруга, человека, читающего Руссо и пренебрегающего его, Вивэ, мнением. А ведь его покровитель — сам Дегийон.
Запершись у себя в каюте, он долго скрипел гусиным пером. Потом посыпал написанное мелким песком и, когда чернила высохли, смахнул его и прочитал:
«Я покину на минуту описание нашего путешествия, чтобы рассказать о происшествиях, которые всякого могут позабавить. Натуралист, пустившийся вокруг света для углубления своих знаний о природе и ее плодах, действительно желающий сделать открытия в этой области (пусть ни у кого не возникнет сомнений на этот счет!), для этих целей посадил на корабль как своего слугу переодетую девицу — бургундку».
Вивэ потер руки. Он упивался собственным остроумием.
«При выходе из Европы в плохую погоду ее здорово схватила морская болезнь. Она так была привязана к своему хозяину, что проводила в его каюте все время. Нежное времяпрепровождение наших единомышленников было нарушено экипажем, который узнал, что на борту девица. Начальство долгое время игнорировало эти сцены. Но потом дали почувствовать нашему бравому натуралисту, что не следует проводить ночи с прислугой, если он действительно отправился в кругосветное путешествие для обогащения науки».
Перечтя написанное, Вивэ остался довольным. Никто не скажет, что он из-за неприязни к натуралисту Коммер-сону написал это. И не без юмора. Отлично!
Он запер дневник в шкатулку, где хранил важные документы. Со временем он собирался издать свой дневник.
Через несколько дней после прибытия фрегата «Будёз» к Малуинским островам подошли испанские фрегаты с эмиссарами, которым Бугенвиль должен был сдать колонию. Перед официальной церемонией сдачи островов Бугенвиль собрал колонистов.
— С несказанной радостью я вижу, — сказал он, — что все колонисты живы и здоровы. Можете мне поверить, что ваши многолетние труды не пропадут даром. Эти земли рано или поздно будут заселены, и те семена, которые мы привезли из Европы и бросили в землю, дадут свои прекрасные всходы. Когда-нибудь эти места будут служить людям, и не для войн, а для мирных трудов, для совершения новых открытий. Поэтому от имени нашего короля и правления арматоров города Сен-Мало хочу поблагодарить вас за доблестную, честную службу. Вы помните, что когда мы впервые ступили на эту землю, ничего привлекательного не представилось нашему взору. Многим было не совсем ясно, зачем мы сюда приехали. Голые холмы, глубокая тишина, нарушаемая лишь криками морских птиц. Картина, порождающая уныние и как бы говорящая о том, что природа отвергает усилия человека в таких диких местах! Теперь вы видите, к чему привели три года упорных трудов… — Бугенвиль широким жестом показал на каменные строения, склады, посевы. — Сейчас построены дома, добывается жир и шкуры тюленей. Все сельскохозяйственные культуры, которые мы привезли, хорошо прижились. Разведение домашнего скота идет успешно. И после того как колония будет передана испанскому флагу, вы можете остаться здесь, чтобы продолжать свою полезную деятельность.

Бугенвиль прочитал письмо Людовика Пятнадцатого, где было сказано о том, что французский король разрешает поселенцам остаться под властью испанского короля. Потом экипажи фрегата «Будёз» и обоих испанских кораблей выстроились у флагштока, на котором развевался французский флаг.
Дон Руис, испанский адмирал, и Антуан Бугенвиль, капитан первого ранга флота Франции, подошли к флагштоку.
Пока медленно опускался французский флаг и так же медленно полз вверх испанский, Бугенвиль стоял не шелохнувшись.
Теперь Бугенвиль уже не испытывал такой горечи, как тогда, когда впервые услышал о передаче островов испанцам. Но он думал о том, что человек, в сущности, любит лишь творение своих рук. Все, дающееся без труда, не имеет никакой ценности. Бугенвиль еще раз обвел взглядом каменистые холмы, заросли тростника с большими цветами, редкие строения.
Церемония окончилась. Осталось дождаться транспорта «Этуаль», чтобы начать большое путешествие.
Многие поселенцы уже стали выносить свое имущество, чтобы погрузить его на корабли.
Бугенвиль, заложив руки за спину, неторопливо зашагал по поселку. У одного из домов он увидел шевалье дю Гарра, отчитывающего боцмана Пишо и двоих матросов, державших в руках топоры.
Шевалье объяснил Бугенвилю, что эти болваны — он показал на моряков — вздумали чинить дом. За несколько лет под холодными ветрами Южной Атлантики он успел покоситься. Но что им, французам, до этого? Зачем чинить что-то, раз остров не принадлежит более Франции?
Бугенвиль горько усмехнулся. Вот наконец этот шевалье стал самим собой. Он неумен и, видимо, еще и тщеславен.
— Каковы, мосье, вы полагаете, цели нашего путешествия? — неожиданно для дю Гарра спросил он.
Шевалье вскинул голову, в его голубых глазах мелькнул огонек:
— Думаю, мосье, присоединение к Франции новых земель, столько, сколько удастся открыть, и прибавить этим чести французской нации.
Бугенвиль поразился: ответ почти буквально совпал с предполагаемым. Он вгляделся в лицо шевалье. Глубокие морщины, складки в углах губ. Вряд ли ему живется намного лучше, чем матросам, которые к сорока — сорока пяти годам превращаются в стариков. А понятия у него, как у большинства дворян.
— Помимо соображений чести у нации есть и другое, — сказал Бугенвиль. — Мы можем гордиться открытиями французских ученых. Но, согласитесь, принадлежат они не только нашей стране. Науку нельзя разделить по нациям. Это вам нужно запомнить, шевалье. Наши недавние враги, англичане, накануне Семилетней войны избрали меня за работы по математике членом Королевского научного общества, хотя заслуги мои в этой области более чем скромны. Дом же, который вы запретили чинить, должен служить людям, будь они французы, испанцы — все равно кто.
Глаза дю Гарра потухли. Он опустил голову, ничего не ответив. Видно было, что слова капитана шевалье не счел нужным обдумывать.
Бугенвиль повернулся к матросам и боцману Пишо.
— Можете продолжать свое дело. За добрую затею вы засуживаете награды.
Матросы взялись за топоры. Их веселый перестук нарушил молчаливую торжественность острова.
«Человек не может не созидать, — подумал Бугенвиль, — правда, к сожалению, есть немало и таких, которые предпочитают разрушать».
Испанские фрегаты давно ушли в Монтевидео и увезли почти всех колонистов. Бугенвиль ясно видел, что вскоре все придет в упадок. На этих землях не было ни роскошной тропической растительности, ни золота. Испания, настоявшая на том, что острова принадлежат ей, и не подумает продолжить начатое французами.
Миновал месяц-другой, а транспорт «Этуаль» все не показывался на горизонте. Бугенвиль и Дюкло-Гийо не скрывали своих тревожных мыслей.
Нетерпение передалось всему экипажу фрегата. Многие моряки подолгу сидели на самом высоком холме и смотрели на северо-восток: не покажутся ли белые паруса «Этуали»?
Отец Лавесс сочувственно вздыхал, когда при нем говорили о непонятной задержке транспорта, но втайне радовался: его единомышленники во Франции действуют. Лавесс охотно вступал в разговоры даже с простыми матросами. Если прежде многим казалось, что в нем воплощены хитрость и изворотливость, то теперь он представлялся благодушным, доброжелательным. Он расспрашивал моряков об их семьях, нуждах, давал советы, начал даже некоторых из них учить грамоте.
Формально он уже не был иезуитом и принадлежал к ордену францисканцев. Дела ордена, основанного Игнатием Лойолой два столетия назад, в Европе пошатнулись. Иезуиты снискали себе такую худую славу, что даже правители Португалии и Франции вынуждены были запретить орден в своих странах.
Но отец Лавесс был превосходно вышколен. Он был убежден, что наступят такие времена, когда иезуиты опять понадобятся правительствам, которые сейчас их изгоняют.
Лавесс не нуждался в подробных наставлениях. Он действовал согласно обстановке и сложившемуся соотношению сил, памятуя первую заповедь иезуитов, что цель оправдывает средства. Теперь ему нужно было завоевать расположение команды, и он старался в этом преуспеть.
Принц Нассау даже как-то заметил в разговоре с Бугенвилем, что Лавесс оказался совсем другим человеком, чем это могло показаться вначале.
Нассау уже больше не возобновлял своих попыток добыть кита, он целыми днями бродил по острову, постреливая диких уток.
Бугенвиль наблюдал за приливами и отливами и пришел к заключению, что они здесь не подвержены определенному циклу и наступают неравномерно.
Он давно интересовался приливами и отливами и знал, что они достигают неодинаковой величины в разных географических точках земного шара. В Сен-Мало дважды в сутки во время отлива море отступало до четверти лье, и рыбаки, пользуясь этим, собирали оставшуюся в ямах мелкую рыбу. В Канаде, в устье реки Святого Лаврентия, море во время приливов наступало на сушу неудержимо, поднимаясь до девяти саженей. Но и там приливы и отливы совершались регулярно. Здесь же, на Малуинских островах, время очередного прилива было очень трудно рассчитать заранее; оно зависело не только от прохождения луны через меридиан, от фазы ее, рельефа морского дна и берега, но и от каких-то других, не понятных еще Бугенвилю причин. Во время прилива море поднималось как бы тремя нарастающими волнами. Это было необычно. Бугенвиль жалел, что сейчас с ним нет астронома Веррона, с которым можно было бы обсудить это интересное явление.
Между тем на островах становилось все холоднее и холоднее. Ветер приносил с собой темные тучи, из которых сыпался мелкий колючий снег, окрестные холмы побелели, многие птицы уже давно улетели к северу, на свои исконные места зимовки. Транспорта все не было. Значит, он, как было условлено заранее, ожидает «Будёз» в Рио-де-Жанейро. 2 июня Бугенвиль отдал приказ поднять якорь и выйти из этой гостеприимной бухты, где моряки провели более двух месяцев.
Несмотря на начавшуюся зиму, море было спокойным, дули устойчивые ветры, и через две недели показались гористые бразильские берега. Вскоре открылся и оживленный порт. На рейде стояло множество кораблей.
Дюкло-Гийо первым увидел транспорт. Но на нем еще раньше заметили идущий с моря «Будёз». Не успел фрегат стать на якорь, как от транспорта отвалила шлюпка и через несколько минут подошла к борту фрегата.
На «Будёз» поднялись Жиродэ, Коммерсон, Веррон и несколько офицеров. Жиродэ доложил, что отплытие из Рошфора задержалось почти на два месяца и что неисправности, обнаруженные уже в походе, заставили его зайти в Рио-де-Жанейро для основательного ремонта.
В честь радостной встречи в кают-компании фрегата был устроен праздничный ужин.
Итак, все теперь складывалось благополучно. Можно было основательно заняться ремонтом судов, подумать о запасах продовольствия для продолжения с такими трудностями начатого плавания.
Португальский вице-король Бразилии граф д Акунья принял офицеров французских кораблей и сам нанес им ответный визит. Он рассыпался в любезностях, обещал продать столько продовольствия, сколько потребуется морякам, сделать их пребывание в порту приятным и полезным. Узнав, что транспорт «Этуаль» нуждается в основательном ремонте, он сам предложил продать Бугенвилю почти совершенно новый бриг. Казалось бы, радушие и гостеприимство португальских властей безгранично, но внезапно отношение к французам резко изменилось.
Д’Акунья запретил продавать Бугенвилю бриг, которым командир экспедиции хотел заменить «Этуаль», не разрешил получить уже купленный лес и не позволил французским морякам поселиться в городе на время ремонта фрегата. Вице-король даже приказал арестовать Бугенвиля вместе с сопровождавшими его двумя офицерами, когда тот пришел к нему, чтобы выразить свое возмущение действиями португальских властей.
Бугенвиль еле сдержал свое негодование:
— Граф, — сказал он, — я очень удивлен, что у вас такие дикие нравы. Хотя в вашей колонии признается лишь право сильного, а международные законы для португальских властей — пустой звук, свою шпагу я никому не отдам.
Д’Акунья вынужден был отменить свое распоряжение, но приказал стрелять в каждого француза, который появится на улицах города после захода солнца. Один лишь отец Лавесс беспрепятственно входил к вице-королю и в любое время суток мог появляться на улицах. Португальцы, гостеприимно встретившие французских моряков, теперь жестоко поплатились: одних посадили в тюрьму, других сослали в отдаленные провинции.
Несмотря на запрещение графа, Коммерсон весь день проводил на берегу и возвращался на корабль поздно вечером. Специальная шлюпка ждала его в условленном месте, далеко от порта. Жанна Барре по-прежнему продолжала ходить в мужской одежде и повсюду сопровождала ученого. Списать ее здесь на берег Коммерсон не решался. И Жанна все так же выполняла свои обязанности, даже не подозревая, сколько беспокойства причиняла она своему патрону.
Барре была неутомима. Она носила ружье, клетку для животных, провизию, бумагу для гербариев. Переходы занимали иногда многие часы, но Жанна никогда не жаловалась, ни разу не проронила ни единого слова, которое могло быть истолковано как недовольство. Коммерсон никогда еще не имел такого помощника. Коллекции его быстро пополнялись, и иногда оба они — ученый и слуга, — сгибаясь под тяжелой ношей, еле добирались до корабельной шлюпки.
Как-то утром Жанна, улыбаясь, подвела к Коммерсону маленького ослика, которого купила у старика португальца на деньги, полученные за четыре месяца службы.
Коммерсон разгневался, возвратил ей эти деньги, но теперь стало гораздо легче в пути. Ослик неутомимо тащил не слишком тяжелую для него поклажу.
Коммерсон был поглощен своими исследованиями и очень редко виделся с Бугенвилем. Но однажды, возвратясь из очередного похода, он нашел его на «Этуали». У Бугенвиля был уставший вид. Теперь, когда граф д’Акунья внезапно воспылал ненавистью ко всему французскому, хлопот и забот прибавилось. Нужно было отремонтировать корабли — и фрегат, и транспорт не были готовы к плаванию в Тихом океане, а каждую доску приходилось приобретать контрабандным путем. Провизию тоже удавалось доставать лишь с большим трудом.
Увидев Коммерсона, Бугенвиль сразу же отогнал все невеселые мысли:
— Ну, мосье, вы, кажется, собираетесь перенести на «Эгуаль» всю растительность Бразилии, — сказал он, указывая на папки с гербариями. — Не слишком ли это большой груз для нашего транспорта?
— Я никогда еще не встречал страны с более богатой растительностью, — пылко сказал Коммерсон. — Вот где, наверное, Флора прячет свои сокровища. Я собрал много очень интересного.
Они спустились в каюту Коммерсона, и Барре зажгла свечи в медных шандалах.
Вскоре пришел Веррон.
— Я очень рад, мосье, что вы принимаете участие в экспедиции, — сказал ему Бугенвиль. — У нас с вами общие задачи, так как я намереваюсь тоже заняться мореходной астрономией.
Бугенвиль рассказал, что сейчас в Англии идет большой спор между сторонниками определения долгот при помощи недавно изобретенного хронометра и приверженцами метода лунных расстояний.
— У нас во Франции тоже есть хронометры, изобретенные Леруа, но мне не удалось получить их для нашей экспедиции. И мы займемся изучением метода лунных расстояний. К сожалению, — добавил он, — солнечное затмение, которое мы ожидаем 25 июля сего, 1767 года, нам придется наблюдать не здесь, а в открытом океане. Из-за враждебности португальцев, проявленной к нам, мы должны покинуть Рио-де-Жанейро как можно скорее.
Веррон ответил, что хорошо знаком с методом лунных расстояний, и пустился в подробности.
Но тут Коммерсон привел наконец в относительный порядок собранное за день и воскликнул:
— Я обещал показать вам кое-что. — Его глаза блестели, морщины на лбу разгладились. — Посмотрите, мосье, вот интересное растение, которого вы не найдете ни в одной из ботанических книг. Я смею полагать, что впервые описал его, и поэтому счел себя вправе дать ему имя.
— Какое же? — спросил Бугенвиль.
— Видите ли, мосье, я привык относиться к растениям, как к живым существам, и даже, — ботаник на секунду запнулся, — наделять их характером. Мне кажется, — ученый поднес растение близко к пламени свечи, — эти цветки имеют форму сдвоенного сердца. Я посвятил это растение своей покойной жене и назвал
Пульхерия коммерсония. А эти два новых рода я назвал
Ландеа и
Лалачдиа в честь моего друга астронома Лаланда, который находится сейчас так далеко от нас, за тысячи лье. А виды их —
стеллифлора[3], стелликампа и астрографиа.
— Великолепно! — воскликнул Веррон. —
Стеллифлора! Гак вы думаете, что и на звездах есть растения?
— Может быть, — сказал Коммерсон. — А пока что у нас с вами на Земле столько неоткрытых видов, что нам рано думать о звездах. Он помолчал и потом, улыбаясь, добавил — первое же еще не описанное растение я посвящу вам и назову
верронией…

Глава IV
Отец Лавесс

Нет ни одной страны, где во имя служения богу не совершалось бы преступлений.
Дени Дидро
Среди дня вдруг почти совершенно стемнело. Колючий сухой ветер гнал низкие, темные облака. По временам они освещались красноватым отблеском далеких зарниц, но гроза так и не разразилась. Спустились короткие тропические сумерки. Берег растворился во мраке.
Сен-Жермен беспокойно ходил по безлюдной палубе «Будёза», беззвучно шевеля губами, как бы разговаривая сам с собой. Навязчивые воспоминания неотступно следовали за ним. Здесь, у южноамериканского побережья, к нему снова пришли те ощущения и переживания, к которым он надеялся уже больше никогда не возвращаться.
Десять лет в Гвиане, в должности смотрителя королевских складов, длились целую вечность. Там, в Кайенне, он научился бояться всего. Отравленная стрела индейца из племени рукуйеннов едва не лишила его жизни. Конечно, и у рукуйеннов, и у эмериллонов, и у оиямпи была причина ненавидеть пришельцев, но причем здесь Сен-Жермен? Он никогда не брал в руки оружия. Единственная его цель — заработать побольше денег.
А пиратские набеги на Кайенну англичан, голландцев, ночные переполохи, крики, выстрелы, грозное рычание ягуаров?
Нет, Сен-Жермен не хотел бы пережить все это вновь. Но так уж сложилась его судьба, что пришлось отправиться в рискованное путешествие. Он лишился денег и вынужден опять добывать их дорогой ценой.
Фрегат медленно опускался и поднимался на пологих прибрежных волнах. Сен-Жермен всматривался в очертания темного берега. Далекие мерцающие огоньки да кормовые фонари стоящих на якоре судов светились во мраке. Двое матросов в шлюпке с испанского корабля затянули протяжную песню. Кормовой фонарь «Будёза» раскачивался на толстой цепи. Ее металлический скрежет неприятно резал уши. Свежело. Сен-Жермен уже намеревался спуститься в каюту, но тут услышал тихий шепот. Он узнал голос Лавесса и, подойдя поближе, различил его темную фигуру. Но где же собеседник? Свет раскачивающегося фонаря на мгновение осветил шептавшихся, и Сен-Жермен увидел над бортом голову лоцмана Филипа, взятого на фрегат в Рио-де-Жанейро по рекомендации испанского священника.
Сен-Жермен осторожно продвинулся ближе.
— Превосходительнейший сеньор д’Акунья, — донесся до него чуть слышный голос Филипа, — принял к сведению ваше послание и поступил так, как подсказывает ему совесть.
— Ты можешь теперь сказать обо всем. — Отец Лавесс склонился к Филипу, и полы его сутаны стали похожи на распластанные крылья черного грифа. — Удалось ли исполнить поручение?
— Да.
Фигура в черной сутане выпрямилась. Казалось, Лавесс был доволен. Однако голос его звучал злобно, почти угрожающе:
— Ты хорошо сделаешь, если забудешь обо всем, что знаешь, или и тебя постигнет участь Маньяра.
Ответ лоцмана унес ветер.
Послышался опять глуховатый голос Лавесса:
— Потерять голову здесь можно очень быстро…
Фонарь опять отбросил неяркий круг на то место, где находился Филип, но голова его уже не возвышалась над бортом, как будто угроза отца Лавесса мгновенно осуществилась. Сен-Жермен быстро отступил в тень.
Послышался тихий всплеск весел.
Маньяр… Кажется, так зовут священника на «Этуали». Что же с ним случилось? Сен-Жермен с трудом сближался с людьми, но
с отцом Лавессом беседовал весьма охотно. За долгие годы службы в Кайенне он успел повидать многое и никогда ни с кем не был откровенен, но лица духовного звания казались ему самыми начитанными и знающими людьми. И отец Лавесс был таким же. Священник «Будёза» осторожно дал понять, что ему, Сен-Жермену, не стоило связывать свою судьбу с ненадежными замыслами Бугенвиля. Старому колониальному чиновнику в Новом Свете найдутся дела и более выгодные. Здесь, в Испанской Америке, целое государство, больше, чем Испания и Франция, вместе взятые, находится под владычеством миссионеров. Благодаря их терпению и всемогуществу слова божия дикие индейцы превратились в кротких овечек и со смирением истинных христиан работают на полях, внимают на коленях мессам и проповедям. Особо ревностные добровольно накладывают на себя епитимью и каются в грехах, истязая свою плоть.
И им, конечно, нужны такие пастыри, как Сен-Жермен, много поживший в Южной Америке.
Сен-Жермену стало казаться, что Лавесс питает к нему дружеское расположение. Но письмоводитель не знал о принадлежности корабельного священника к ордену Лойолы. Разве у иезуитов есть подлинные друзья? Устав запрещает это. Единомышленники — да! Но близкие сердцу люди? Таких ни один иезуит не знает.
И если бы отец Лавесс обнаружил сейчас подслушавшего его разговор Сен-Жермена, как бы поступил он со своим «другом»?
К счастью для старого чиновника, он остался незамеченным.
Лавесс, стараясь не привлекать ничьего внимания, осторожно пробрался в свою каюту.
Дело сделано. Не превысил ли он своих полномочий? Ведь это может привести к конфликту между Францией и Португалией. Однако расчет его верен, и разве не предписывает устав ордена применять все средства для достижения цели?
Итак, священника с «Этуали», отца Маньяра, больше нет в живых. Утонул ли он в водах залива, пал ли от удара ножом в спину в портовой улочке Рио, застрелен ли из мушкетона в одном из домов города через окно — это его, отца Лавесса, не касается.
Лавесс с присущей ему изворотливостью сумел проникнуть в замысел вице-короля графа д’Акуньи — напасть на соседнюю испанскую колонию Сан-Сакреман — и стал осторожно внушать этому невежественному и грубому правителю, что его планам могут воспрепятствовать стоящие на рейде французские корабли. И это принесло свои плоды: граф отказался снабдить Бугенвиля всем необходимым, отменил все выданные ранее разрешения. А потом Лавесс использовал недоброжелательство д’Акуньи к французам и для устранения Маньяра. Граф сказал, что не будет вести никакого расследования, если священник незаметно исчезнет.
Лавесса давно тревожили настойчивые попытки этого янсениста найти тщательно замаскированные нити, которые держат в руках иезуиты, обнаружить тайные сношения с португальскими властями.
Теперь Маньяра нет. Лавесс потер плоский лоб и достал из шкатулочки копии документов.
Параграф восьмой письма Людовика Пятнадцатого герцогу Шуазелю:
«Для спокойствия моего королевства я отсылаю иезуитов против моей воли, по крайней мере не желаю, чтобы думали, что я разделяю все, что парламенты делали и говорили против них.
Я настаиваю на моем чувстве, что, изгоняя их, надо отменить слишком жесткие репрессий парламентов.
Раз я уступаю мнению других ради блага государства, надо изменить многое, иначе я ничего не сделаю. Я замолкаю, потому что наговорил бы слишком много».
Это пишет французский король. А вот и секретное письмо отца Риччи, генерала общества Иисуса, к французским иезуитам.
«Дорогие братья!
Я не могу достаточно выразить вам печаль и горечь, которой я проникся, узнав решение, принятое против нашего института парламентом и королем. Если они заставят нас отделиться от общества, не позволив нам сохранить одежды нашего святого отца Игнатия, мы можем тем не менее оставаться в сердечном единении с названным обществом, которого он основатель, и ждать более счастливых времен, чтобы соединиться теснее, чем когда-либо, крепкими узами. Помните, что человеческая власть не имеет права отменить ваши обеты. Страдайте с терпением и поручите всевышнему себя, общество и меня. Даю вам со слезами на глазах отеческое благословение».
Нет, он, отец Лавесс, действует совершенно правильно: «Соединяйтесь теснее, чем когда-либо!» А испанским братьям грозит та же участь, что и во Франции. Что ж, он, Лавесс, принял свои меры. Горе таким, как отец Маньяр. Пусть это только жертва, но она нужна для их общего дела…
В этот вечер он был особенно любезен с Сен-Жерменом, когда тот постучал в его каюту. Сен-Жермен теперь побаивался этого опасного человека, и все же что-то заставляло его искать общества священника. Письмоводитель как бы невзначай завел разговор о странном поведении графа д Акуньи. На Сен-Жермена был устремлен холодный спокойный взгляд Лавесса. Он вежливо отвечал на все вопросы письмоводителя. Но за этой вежливостью Сен-Жермен не мог не почувствовать какого-то превосходства и даже высокомерия. Лавесс как бы хотел сказать, что его собеседник не может рассчитывать на полное доверие.
Лавессу нужен был письмоводитель, чтобы знать о том, что заносилось в судовую книгу. Сен-Жермену же казалось, что священник любезно беседует с ним по общительности своего характера. Ему очень хотелось узнать, что делал Лавесс последние дни, кто такой в действительности лоцман Филип, но Сен-Жермен чувствовал, что надо быть осторожным, и хитрый провинциальный чиновник прикусывал язык.
— Так ты говоришь, Пишо, что этот малый все видел собственными глазами? — переспросил Бугенвиль.
— Да, мосье капитан.
— Ну что ж, где он?
Пишо обернулся и кивнул кому-то. Из-за его широкой спины выступил матрос. Он был босиком, рубаха выпущена поверх штанов.
— Как тебя зовут? — спросил Бугенвиль.
— Гренье, мосье капитан. Я марсовый с «Будёза».
Гренье переступал с ноги на ногу, теребя загрубевшими пальцами матросский колпак.
Бугенвиль вопросительно поднял
брови.
— Нам запрещено графом д Акунья сходить на берег, — сказал боцман, — но вчера Гренье с командой принимал на берегу ночью лес… Ведь это мы тоже делаем с опаской…
— Да, мосье капитан, — подтвердил Гренье.
Боцман поощрительно взглянул на него, но тот молчал, и Пишо снова заговорил:
— Вы, мосье, знаете лоцмана Филипа, который поступил на наш корабль с испанского фрегата.
— Плохой человек и плохой лоцман, — жестко сказал Бугенвиль.
— Он вовсе и не лоцман. Расскажи же все по порядку, Г ренье.
Марсовый вскинул на Бугенвиля глаза.
— Вот я и говорю, мосье капитан, вчера мы грузили на баркас лес. Смотрим, гребет шлюпка от фрегата. Медленно, без всплеска. — Гренье облизнул пересохшие губы. — Пристала она далеко за пристанью.
— Я и сказал ему, — снова перебил боцман: «Ну-ка, Гренье, посмотри, что там за люди».
— Прокрался я туда, — продолжал матрос, — смотрю: никак наш новый лоцман Филип. Меня он не заметил. Я выслеживать зверя
с детства обучен. У нас в Бретани его много. Лоцман — тоже осторожен, оглядывается. Сначала все вдоль берега шел, а потом направился прямо к дому генерал-губернатора.
Бугенвиль чуть нахмурился, но не стал перебивать матроса.
— Я-то знаю, что у нас с губернатором не очень-то приятельские отношения. Вот я и подождал возвращения лоцмана. Да вернулся он не один, а с какими-то двумя молодчиками. Очень они мне не понравились. Шли они и разговаривали и все поминали нашего отца Маньяра, священника с «Этуали». Тут я вернулся к команде, а нынче услышал: пропал наш Маньяр.
— Все это ты передаешь достаточно точно?
— Как нельзя более, мосье капитан, — сказал боцман. — Гренье все сам слышал, собственными ушами. Боюсь, что на этом еще не кончилось. Ведь и Филип не вернулся на корабль. Тоже пропал.
Бугенвиль слушал моряков очень внимательно и все более и более настораживался. Так, значит, между враждебностью д’Акуньи и убийством Маньяра есть какая-то связь! Мысль его работала напряженно, но лицо оставалось спокойным: нельзя показывать матросам свою тревогу. Что же сказать?
— Вот что, Пишо, и ты, Гренье. Выбросьте из головы все свои страхи и опасения и никому о них не рассказывайте. Если наши моряки заразятся трусостью и будут видеть врагов там, где их нет, то мы никогда не увидим родных берегов. Это вы должны запомнить как следует.
Моряки ушли, но через несколько минут Пишо вернулся.
— Мосье капитан, — сказал он, — я остерегался говорить при Гренье. Он хотя и честный малый, но все-таки простой матрос, а дела-то ведь не шуточные.
Пишо рассказал, что на восточной стороне гавани он обнаружил остатки старинной каменной крепости. Мощная кладка имеет амбразуры для тяжелых орудий. И теперь португальские власти тайно подвезли туда пушки и замаскировали их соломенными фашинами.
Днем над крепостью сонно кружатся птицы, не видно ни одной живой души, а ночью там начинается необычное движение. Этот тайный форт как раз напротив места, где стоят французские корабли.
— Я видел, какие огромные ядра подвозили туда солдаты, — рассказывал Пишо. — Если хоть одно из них проломит борт нашего «БуДёза»…
— Ладно, Пишо, — перебил его Бугенвиль. — Не забывай, что я тебе говорил. Если надвигается буря, то надо крепче держать руль в руках!
Бугенвиль в тот же вечер созвал совет, на котором присутствовали капитаны обоих кораблей и старшие офицеры.
— Сеньор д’Акунья, очевидно, забывает, что мы не военная эскадра, а научная экспедиция, — говорил Бугенвиль, — поэтому, даже в случае возникновения военных действий, не можем подвергнуться нападению. Сейчас же между Францией и Португалией мир, и ничто, кажется, не угрожает нам.
Дюкло-Гийо и другие моряки привели новые доказательства того, что д’Акунья не остановится и перед применением военной силы.
Бугенвиль понимал истинную подоплеку событий: Португалия хотя и стала третьестепенной морской державой, но еще боялась соперничества Франции в южных морях. Оставалось одно: уйти, и как можно скорее, от негостеприимных берегов. На совете было решено идти к югу, в Буэнос-Айрес, чтобы там окончательно подготовиться к длительному путешествию.
И когда наконец якоря были подняты и берег стал медленно удаляться, ко всем вернулось хорошее расположение духа.
Перед отплытием из Рио-де-Жанейро астроном Веррон перешел на «Будёз», чтобы заняться в пути вместе с Бугенвилем изучением наиболее удобных и точных методов определения долготы в море.
Свежий ветер гнал высокие волны. Фрегат летел по ним, как на крыльях. Бугенвиль, как всегда, часто открывал томик Вергилия. Звучные латинские строфы успокаивали:
Парус подняв, полым килем режем обширные воды.
Только что вышли суда на просторы, и больше никоей
Не появлялось земли, небо всюду и всюду пучины,
Темного цвета тогда над моей головой встала туча,
Ночь и бурю неся, и взревели волны во мраке,
Ветры крутят беспрерывно море, великие волны
Высятся, нас по обширной кидает, разбросанных, бездне.
Тучи закутали день, и влажная ночь свод небесный
Скрыла, среди облаков двоятся разорванных вспышки…
Что может быть величественнее безграничного морского простора? Почти всегда рядом на юте принц Шарль. Он невозмутим и вряд ли поймет, что хорошее настроение может возникнуть от свежего попутного ветра, от соленых брызг, которые он срывает с гребней волн.
Если б было можно, Бугенвиль забрался бы на самый бушприт фрегата, чтобы смотреть, как расступаются волны под грудью корабля.
Когда французские корабли прибыли в Буэнос-Айрес, выяснилось, что португальцы захватили принадлежавшие Испании земли Сан-Сакреман. Недавно назначенный в испанские владения и наделенный особыми полномочиями генерал-губернатор Франсиско Букарелли не предпринимал никаких ответных действий и лишь послал в Испанию донесение о захватнической политике д’Акуньи, вице-короля Бразилии.
Бугенвиль нанес визит Букарелли и рассказал о приеме в Рио-де-Жанейро. Генерал-губернатор уже знал о передаче Испании Малуинских островов и поспешил заверить командира французской экспедиции, что здесь его корабли смогут основательно отремонтироваться и запастись всем необходимым.
— Здесь вам ничто не угрожает! — уверенно сказал он, прощаясь с Бугенвилем.
Тот поспешил откланяться. Букарелли казался очень занятым. Он вызывал к себе поочередно всех должностных лиц. На площади возле губернаторского дворца постоянно стояли войска, гарцевали офицеры в пышных мундирах. «Уж не готовится ли губернатор к войне?» — подумал Бугенвиль, покидая его.
Времени терять было нельзя. Стоял конец сентября. Чтобы пройти Магеллановым проливом в самое благоприятное для этого время года, декабре — январе, следовало торопиться с ремонтом судов.
Но в первую же ночь налетел сильный шторм. Якоря шхуны, стоявшей вблизи французских кораблей, стали ползти. По странному стечению обстоятельств один из якорных канатов «Этуали», стоявшей фертоинг
[4], лопнул, она развернулась на втором якоре, и суда столкнулись. Бушприт транспорта сломался у самого форштевня, и был поврежден левый борт. Затем волна отбросила шхуну, но она опять неумолимо двинулась к «Этуали». Второй удар, несомненно, разбил бы в щепы носовую часть транспорта. Спасла положение находчивость Жиродэ. Он приказал обрубить другой якорный канат, поставить кливера, и нос судна отвернул по ветру.
Матросы быстро исполняли приказания. Несмотря на кромешный мрак и бушующий ветер, удалось избежать вторичного столкновения. Но все же «Этуаль» значительно пострадала. В трюм быстро набиралась вода. Необходимо было килевать судно, чтобы заделать течь, которая была, вероятно, значительно ниже ватерлинии.
Осматривая лопнувший во время шторма якорный канат, Жиродэ обнаружил, что он был надрезан ножом. Капитан подумал о том, что отец Маньяр был прав, хотя Жиродэ из своего жизненного опыта имел все основания не доверять ни янсенистам, ни их врагам иезуитам.
В экспедицию пробрались опасные враги. Но кто именно? Жиродэ перебрал мысленно всех членов экипажа. Некоторые из них вели себя странно, но надо еще понаблюдать, проверить свои предположения.
Для ремонта судно подняли вверх по Ла-Плате до бухты Энсенад-де-Бараган. Бугенвиль вместе с Дюкло-Гийо и принцем Нассау отправился в Монтевидео на празднование дня святого Людовика. В порту остался шевалье де Бушаж, чтобы наблюдать за починкой фрегата и руководить доставкой припасов.
Ехали верхом. По обоим берегам реки Уругвай находились огромные владения иезуитов. Еще во Франции Бугенвиль не раз читал об их миссиях. Если верить иезуитам, общины, организованные здесь ими, управлялись идеально: индейцы — члены общин — возделывали поля, имели скот и получали за свой труд все необходимое. Иезуиты все время пытались создать впечатление, что индейцы живут в достатке и довольстве.
Это был беззастенчивый обман. Бугенвиль и его спутники видели плодородные поля, многочисленный скот на обширных пастбищах. Но кто же был хозяином всех этих богатств? Сколько бы ни задавал Бугенвиль этот вопрос, всегда получал один ответ — орден иезуитов.
Орден иезуитов извлекал огромные доходы из своих владений, его щупальца, опутавшие всю страну, сжимались все крепче. У святых отцов были несметные стада скота, во многих местах возделывался хлопок. Большие доходы приносила и монопольная торговля листьями мате — растения, из которого приготовляли напиток, заменявший по всей Испанской Америке чай.
Индейцы же влачили поистине нищенское существование. Они с утра до вечера работали в поле или в различных мастерских, изготовлявших седла, сбрую, четки, иконы божьей матери.
Бугенвиль узнавал все новые и новые подробности об обширной стране, раскинувшейся на территории в двести лье с севера на юг и на сто пятьдесят лье с востока на запад от Ла-Платы. Под властью иезуитов находились сотни тысяч коренных обитателей этих земель. Иезуиты появились здесь вскоре после образования их ордена — в 1580 году. Вначале они создали миссии по берегам реки Уругвай, где обитали племена гуарани и тапов. А затем начали пробираться все дальше и дальше, на запад и на север, и дошли даже до тихоокеанского побережья. Бугенвиль с изумлением узнал, что их миссии есть даже на юге провинции Чили и на острове Чилоэ. Испанская монархия способствовала действиям воинствующего ордена. Иезуитам выплачивали ежегодно десятки тысяч пиастров для поощрения их деятельности. Но потом, когда возделанные земли стали приносить доход, испанский король потребовал, чтобы иезуиты взыскивали с каждого взрослого индейца налог в пользу испанской короны.
Так были согласованы интересы церкви и короля.
«Правители охотно сочетают религию и выгоду, если одно не мешает другому, — записал в своем дневнике Бугенвиль. — Эти же мотивы побудили испанских монархов начать обращение индейцев в истинную веру; приобщая их к католической церкви, они несли дикарям «цивилизацию» и в то же время становились хозяевами этой обширной и богатой страны. Это означало для метрополии новый источник доходов и новых рабов истинного бога».
Однажды всадников обогнала группа испанских драгун во главе с лейтенантом. Запыленные солдаты были угрюмы и молчаливы. Они на рысях въехали в индейское селение и спешились у богатого дома священника, невдалеке от церкви, выстроенной из белого камня.
В поселке стояла какая-то гнетущая тишина. Несколько стариков и старух сидели у своих хижин; единственной одеждой им служили длинные белые рубахи.
Индейцы сказали, что священник отслужил мессу, как обычно, в половине седьмого утра. Затем состоялась церемония целования его руки. Раздав мате — по унции на семью, священник уехал. В сопровождении большой свиты телохранителей он объезжал свои владения.
Когда священник и викарий возвратились, лейтенант арестовал их и усадил на повозку, принадлежавшую миссии. Никаких вещей иезуитам взять не разрешили.
Пока происходили все эти события, индейцы все так же безучастно сидели у своих хижин. Казалось, все происходившее нисколько их не волнует.
Бугенвиль с помощью переводчика пытался поговорить с ними. Индейцы отвечали односложно. Они сказали, что получают только скудное пропитание: мате, говядину, маис. За малейшую провинность их наказывали кнутом и заключали в молитвенный дом для покаяния в грехах.

Как далеко было это от всего того, что рассказывали книжки иезуитов!
«Не удивительно, — записал Бугенвиль в дневнике, — что индейцы при малейшей возможности пытаются бежать из этих миссий — подлинных мест заключения. Я слышал, что индейцы без всякого сожаления расстаются с жизнью. Стоит им заболеть, они редко выздоравливают. Если их спрашивают, печалит ли их смерть, они отвечают, что нет. Такова для них ужасная действительность».
Безрадостная жизнь индейцев в миссиях произвела тягостное впечатление даже на невозмутимого принца Нассау. Он молча ехал впереди, опустив голову.
Лошади Дюкло-Гийо и Бугенвиля шли рядом. Моряки тихо разговаривали. Вдалеке виднелся черный столб дыма, поднимавшийся прямо в небо. Воздух был недвижим.
— Это мне напоминает сигнальные костры североамериканских индейцев, — сказал Дюкло-Гийо. — Помните Канаду, мосье? Там тоже было много жадных миссионеров и искателей чужих сокровищ. И сейчас, наверное, их не поубавилось.
— Я никогда не забуду индейцев — это славный народ, — отозвался Бугенвиль. — В лесах и болотах Канады я кое-что постиг из того, что составляет основу человеческого существования. Я научился выдержке и терпению, а главное — убедился, что все люди на земле рождаются свободными, под каким бы небом они ни жили. Миссионеры под предлогом просвещения туземцев устанавливают над ними деспотическую власть. Но что это за просвещение? Мне случалось дивиться как уму и такту нецивилизованных индейцев, так и невежеству и тупости французских и английских служителей церкви.
Путники оказались свидетелями и других арестов иезуитов в их миссиях. И тут Бугенвиль смог убедиться, что индейцы не так уж безучастны и забиты, как это показалось ему вначале. В одном из селений, после ареста викария и его помощника, индейцы подожгли дом миссии, разрушили ненавистную им церковь и разгромили склады с запасами продовольствия.
Бугенвиль пытался выяснить у испанских солдат, в каких преступлениях повинны миссионеры, но ответ получил только в Монтевидео. Он узнал, что накануне прибытия в Буэнос-Айрес французских кораблей дон Букарелли получил приказ арестовать и выслать всех иезуитов. Индейцы все чаще стали восставать в иезуитских миссиях, и королевские чиновники поняли, что вчерашние рабы могут обратить свое оружие не только против святых отцов.
Букарелли разослал губернаторам провинций письмо следующего содержания:
«Вы достаточно опытные политики, чтобы понять, что теперь, когда иезуиты зашли слишком далеко и когда восстания стали учащаться, навязанный ими образ правления угрожает потерей всех колоний, принадлежащих Его Величеству королю Испанскому. Смеем ожидать, что вы и сами осудите их поведение, ибо оно противоречит чувству долга по отношению к короне, которое должно быть свойственно всем поданным Его Величества».
Букарелли действовал быстро и энергично. В провинции Перу, Чили, Кордова, Санта-Фэ, Мендоса, Корриентес, Сальта и другие курьеры доставили пакеты с инструкцией вскрыть их только после получения специального распоряжения. Иезуиты были захвачены враспхох.
В середине сентября 1767 года Букарелли вызвал в Буэнос-Айрес всех касиков — старшин индейских племен, находившихся ранее под властью ордена. Индейцы приехали верхом и не слезали с коней, пока губернатор с балкона произносил речь. Он сказал, что хочет встретить индейцев как дорогих гостей. Отныне с их рабским положением будет покончено. Имущество, которое отняли иезуиты, раздадут индейским семьям. Переводчик несколько раз спрашивал Букарелли, как перевести высокопарные обороты его речи. Индейцы молча сидели в седлах. Когда губернатор кончил свою речь, они подняли правую руку к небу и хором прокричали что-то вроде благодарности. Но присутствовавший на приеме касиков Бугенвиль отметил для себя, что они, по-видимому, не очень-то доверяют словам губернатора. Букарелли же был крайне недоволен тем, что самый влиятельный среди индейских вождей касик Николас решительно отказался приехать в Буэнос-Айрес.
Лавесс праздно сидел в саду генерал-губернаторского дворца в Буэнос-Айресе.
Был конец сентября, и здесь стояла ранняя весна. Лавесс очень любил солнце, но оно жгло все сильнее, и он поставил маленькую скамеечку в тень раскидистого дерева. Пожалуй, он был единственным иезуитом в Испанской Америке, который не испытывал сейчас беспокойства. Его белые руки лежали на коленях совершенно неподвижно, хотя обычно они беспрерывно перебирали четки или края сутаны. Он с удовольствием предавался отдыху от того душевного напряжения, в котором пребывал все эти дни. Лавесс взял за правило ежедневно наносить визит чопорному и чванному испанцу дону Букарелли.
Удивительные вещи происходят в старой испанской колонии. Ведь именно здесь, в Испанской Америке, где иезуиты были так сильны, Лавесс и надеялся получить главный козырь в борьбе против предприятия, задуманного ненавистным иезуитам Шаузелем и осуществляемого Бугенвилем. Но даже для него, всеведущего Лавесса, эти события были полной неожиданностью.
В последний момент, узнав о намерениях Букарелли, Лавесс послал в Кордову — главную ставку иезуитов — своих пятерых агентов под видом коммерсантов. Но они были арестованы, и их так же, как и остальных иезуитов, посадили на корабли, чтобы отправить в Европу.
Однако Лавесс не подавал и виду, что его планы расстроены, и ежедневно являлся к дону Букарелли засвидетельствовать свое почтение.
— Ну, хорошо, вы ликвидировали иезуитские миссии, — спрашивал он бесстрастным тоном, — а чем вы замените их?
Сейчас Лавесс, вспоминая эти беседы, гневно раздувал ноздри. Бездарный правитель! Как глупы все те, кто не хотят иметь дела с иезуитами. Но теперь, когда отец Лавесс понял, что в игру вступили слишком могущественные силы, он внезапно обрел тот покой, которого ему так не хватало со дня отплытия из Нанта. Терпение — большой козырь иезуитов. Живучесть ордена может быть была обязана именно этому качеству, которого у Лавесса было предостаточно.
На дальней дорожке показались Филибер Коммерсон и Жанна Барре, тащившие, как обычно, тяжелую поклажу. Ослика, который сопровождал их в Рио-де-Жанейро, ввиду спешности отплытия пришлось оставить там.
Коммерсон намеревался отдохнуть в тени высоких деревьев, но, увидев Лавесса, вздохнул. Что ж, иногда приходится разговаривать и
с теми, к кому не расположена душа. Иначе можно прослыть угрюмым, озлобленным человеком. Коммерсон раскланялся с Лавессом и устроился рядом с ним на зеленой травке.
Корабельному священнику не давали покоя его мысли, хоть он и не мог ими делиться ни с кем.
Посмотрев на Коммерсона своим холодным взглядом, Лавесс проговорил:
— Не правда ли, мосье, неплохой дворец облюбовал маркиз Букарелли. Мы с маркизом много беседовали на различные темы. Мне кажется, испанский двор поступает весьма неразумно, ликвидируя миссии.
Коммерсон удивленно вскинул голову. Он слышал, что Лавесс был иезуитом. Но откровенно защищать орден сейчас, когда выяснилось столько отвратительных подробностей его деятельности?
— Мне кажется, напротив, что Испания поступает вполне правильно и разумно, хотя, быть может, с известной долей нетерпения и горячности, — сказал он осторожно, желая избежать неприятного разговора.
— Мой обеденный прибор много дней ставили рядом
с прибором дона Букарелли, — упрямо продолжал отец Лавесс, — и он не мог мне доказать справедливости этой жестокой по отношению к иезуитам меры.
Лавесс отбросил палочку, которой выводил какие-то замысловатые узоры на земле, и посмотрел на ученого.
— Я, как вы знаете, отец Лавесс, — начал Коммерсон спокойно, но затем все более и более волнуясь, — имею обыкновение много ходить, чтобы собирать интересующие меня растения, и поэтому бываю даже в самых глухих деревнях. Так вот, например, в одном маленьком местечке близ Монтевидео я видел страшную картину, как иезуиты заставили трех индейцев избивать кнутами друг друга за то, что они, утомленные тяжким трудом, заснули во время мессы. Эти бедняги ходили в лохмотьях. А священник миссии имел в Буэнос-Айресе громадный магазин, набитый товарами. Не думаю, чтобы все это богатство досталось ему честным путем.
Коммерсон закашлялся и поднес к губам платок. Глаза Лавесса стали еще более холодными.
Но Филибер не замечал этого. Хотят знать его мнение? Гак вот оно:
— Иезуиты не упустили ни одну из четырех частей света. Счастье, что хоть Южная Америка начинает освобождаться от этой братии. Приказ, полученный доном Букарелли, уже распространяется на Мексику, Перу и другие испанские владения. В Португальской Америке собираются сделать то же. Говорят, всех иезуитов высылают в Рим. Если это правда, то папа сможет предпринять против Турции поход с помощью рати, собранной Лойолой, — Коммерсон хрипло засмеялся. — Но богу, наверное, не угодно, что я так отзываюсь о его верных слугах. Может быть, среди них и есть заслуживающие сожаления. Однако образ их правления был отвратительным.
Коммерсон остановился. Скрип гравия на дорожке заставил его обернуться.
К ним подходили принц Нассау, шевалье де Бушаж и другие французские офицеры.
Они уже давно заметили, что мосье Коммерсон что-то нетерпеливо доказывает отцу Лавессу.
— Надеюсь, мы не помешали вашему разговору, мосье? — осведомился Нассау.
— Нисколько, — механически ответил Коммерсон. Он внезапно почувствовал страшную усталость. На лбу выступила испарина. «Вот всегда так, — подумал он с неудовольствием, — горячность ни к чему хорошему не ведет. Не нужно было так волноваться».
Лавесс, желая переменить тему разговора, начал рассуждать о том, что здешние жители распущенны и ленивы. А в жарком климате распущенность ведет к преждевременной старости. Не удивительно, что индейцы не доживают до пятидесяти лет.
Принц усмехнулся:
— Но здесь властвовали иезуиты. Все индейцы — рабы ордена.
У индейцев нет ничего своего.
Шарль Нассау высказывался редко, но всегда с необычайно значительным видом. Коммерсон уже не раз мог убедиться в том, что принц прям и честен в словах и поступках, хоть порой они и не могли вызвать одобрения. Но сейчас принц говорил о том же, о чем думал и он, Коммерсон.
— Авторитет отцы поддерживают тем, что бьют кнутом даже самых старых из этих несчастных, — говорил принц. — И это за малейший проступок, если только можно назвать проступком нарушение бессмысленных правил, установленных самими же иезуитами.
Когда Нассау говорил, он смотрел прямо в глаза своему собеседнику. Сейчас он обращался к отцу Лавессу. И тот невольно опустил взгляд.
— Я видел много картин, написанных индейцами. Они знают скульптуру, архитектуру и многие науки. Среди них имеются хорошие музыканты.
Принц опять помолчал, потом продолжал, делая ударения на каждом слове:
— А иезуиты хотят, чтобы индейцев считали идиотами. Настоятель монастыря в Буэнос-Айресе пытался убедить меня, что они достигают умственного развития лишь десятилетнего ребенка!
Нассау посмотрел теперь на Коммерсона:
— Говорят, что у миссионеров есть тайные места, где они держали свои сокровища. Никто по сей день не может обнаружить эти тайники. Быть может, иезуиты нашли проходы в горах, известные лишь древним инкам. Это было бы очень любопытно узнать.
Отец Лавесс стал проявлять признаки нетерпения. Было видно, что разговор явно не нравится ему.
— Я полагаю, — возразил он, — что народ, привыкший подчиняться только силе, не всегда может внять голосу разума. А главное оружие святых отцов — это разумное начало. Что?ке касается огромных богатств иезуитов, я думаю, это сильно преувеличено.
— У священника в Буэнос-Айресе был большой дом, — сказал де Бушаж, — который назывался «Уединение» или «Уход от мира». Женщины и девушки заточали себя там, вопреки воле своих мужей и родителей. Они подвергали себя истязаниям, и ни одна из них не могла выйти из этого дома до тех пор, пока не считалась полностью очищенной от грехов.
Под давлением все новых и новых доказательств бесчинств и жестокости иезуитов отец Лавесс вынужден был отступить.
Сославшись на неотложные дела, он ушел неторопливой походкой, держась необычно прямо и с достоинством. А дела действительно у него были. Иезуитские миссии уничтожены, но влияние ордена в Иовом Свете осталось. Лавессу дали знать, что в его услугах нуждаются и он должен прийти вечером в собор святого Петра.
Отдохнувший Коммерсон тоже собрался идти. Шевалье де Бушаж подошел к Барре, чтобы посмотреть наброски индейских поселений, сделанные Коммерсоном. Барре из-за жары расстегнула ворот кафтана, и де Бушаж подивился, какая у этого малого тонкая и изящная шея. Он посмотрел на его маленькие руки и спросил себя, как может слуга Коммерсона носить такие тяжести. Де Бушаж слышал толки о том, что Барре — девушка, а не мужчина, но ему раньше не приходилось с ней разговаривать.
А Барре охотно отвечала на все вопросы шевалье. Ей нравился его открытый взгляд, широкая улыбка, какая бывает только у бесхитростных прямых людей.
Наконец длительные приготовления к отплытию закончены. Оба французских корабля соединились в Монтевидео. Еще один день ушел на подъем стеньг и обтягивание такелажа.
Перед тем как выйти в море, Бугенвиль, Дюкло-Гийо и Жиродэ тщательно просмотрели списки экипажей обоих кораблей и списали на берег всех испанцев, нанятых на Малуинских островах а также тех моряков, которым капитаны почему-либо не доверяли: одного рулевого, старшего плотника, двух оружейников и нескольких унтер-офицеров.
— Ну, теперь, я думаю, у наших кораблей не будет течи, — сказал Бугенвиль, — я бы охотно списал и отца Лавесса, но, к сожалению, это невозможно.
А отец Лавесс вечером того же дня сидел в каюте английского фрегата. Дверь была плотно прикрыта, слуги высланы.
Иезуит выполнял поручение, которое начальники ордена считали исключительно важным и особо секретным, так как речь шла об измене испанских иезуитов государственным интересам своей страны. Но орден не привык останавливаться ни перед чем.
Английский офицер очень внимательно слушал Лавесса. Священник говорил веско и неторопливо, зная, что каждое его слово будет услышано по ту сторону океана. Время от времени он заглядывал в бумаги, лежавшие перед ним на столе.
— Удар нанесен иезуитам в Испании и во всех ее владениях, а также во Франции и Португалии. Это принуждает нас пойти на следующий шаг, продиктованный генералом ордена, кардиналом Риччи, — говорил Лавесс. — Если последуют несомненные и значительные доказательства того, что англичане сделались союзниками иезуитов, — Лавесс выразительно посмотрел на офицера, тот кивнул головой, — то мы можем заключить обоюдовыгодное соглашение. Во-первых, англичане могут снабдить орден войском, оружием и боевыми припасами, предварительно переодев солдат в иезуитские рясы, как это уже бывало в прошлом. Это не даст повода заподозрить в нападении Англию, и, таким образом, она сможет действовать тайно, чего и добивается. Во-вторых, овладев несколькими пунктами в испанских колониях, англичане могут послать туда военную экспедицию, объяснив разрыв с мадридским двором тем, что последний не хочет уступить им Малуинские острова.
Лавесс сделал паузу. Такой неожиданный ход иезуитов конечно застанет врасплох Букарелли. Но и интересы ордена должны быть соблюдены.
— Англичане должны заверить орден, — продолжал Лавесс, — что они вступят на те территории, которые не принадлежали ордену, и будут действовать только против войск генерал-губернатора Букарелли, короче говоря, на правом берегу Ла-Платы. Если даже случится что-либо другое, нами не предусмотренное, англичане утвердятся в Испанской Америке. Его преосвященство кардинал Риччи поручил нам дать эти разъяснения и принять меры предосторожности, чтобы все относящееся к этому делу сохранилось в строгой тайне.
Офицер все время кивал головой, записывая что-то в тетрадь. Ему надо было доложить обо всем начальству, сам что-либо решать он не мог.
— В самое непродолжительное время, — закончил Лавесс, — у вас будет на борту другой представитель кардинала Риччи. А теперь мне надо незамеченным покинуть ваш корабль…
Плавание до берегов Патагонии продолжалось значительно дольше, чем рассчитывали. Часто налетали сильные ветры со штормами. Во время одного из них, самого жестокого, погиб весь скот, который был взят в Буэнос-Айресе. Это значительно уменьшило запасы продовольствия, что впоследствии сказалось на положении экспедиции. Моряки почти каждый день видели глупышей, орланов и алкионов. «Плохое предзнаменование», — ворчали старые матросы.
В начале декабря корабли вошли в Магелланов пролив, затем бросили якоря в бухте Посессион.
Бугенвиль приказал спустить на воду одну из шлюпок транспорта «Этуаль». Многие моряки впервые видели обитателей Патагонии. К французам тотчас же подскакали шесть патагонцев с криками «шауа!». Французы принесли из шлюпки сухари и хлеб. Эта пища патагонцам очень понравилась. Пришлось для вновь прибывших привезти еще несколько мешков сухарей.
Вот эти таинственные патагонцы, о которых рассказывают столько нелепостей во Франции. Бугенвиль уже несколько раз бывал здесь и пытался убедить ученых, что это не гиганты, как писали о них с легкой руки Пигафетты, биографа Магеллана, а обыкновенные люди. Правда, рост их достигает шести футов, но во всем остальном они схожи с коренными обитателями Южной Америки. У всех круглые и несколько плоские лица, красноватый цвет кожи.
Французы восхищались прекрасным физическим развитием патагонцев, которые добродушно давали щупать мощные мускулы. Завязался оживленный обмен. Патагонцы приносили шкуры гуанако и вигони за зеркала, ножи, куски материи.
Бугенвиль интересовался их одеждой, обувью, представлявшей собой куски кожи, обернутые вокруг ступней, седлами, уздечками, маленькими мохнатыми лошадками, которые, как он знал, были очень выносливы.
Один из матросов остановил плечистого патагонца, одетого в широкие кожаные штаны и такой же плащ, тот долго вглядывался в лицо моряка и потом с гортанными восклицаниями потащил его к своей лошади. Патагонец вручил матросу большой кусок мяса вигони, завернутый в ее шкуру, и получил взамен кусок материи. Наблюдавшему эту сцену Бугенвилю матрос объяснил, что встретил здесь этого рослого туземца три года назад, когда французские корабли приходили за лесом.
Коммерсон, как только очутился на берегу, сразу же отправился собирать растения. Шевалье де Бушаж и несколько офицеров ему помогали. Увидев это, патагонцы стали приносить целые пучки трав и цветов. Растроганный Коммерсон обнял одного патагонца и расцеловал его, благодаря за бескорыстную помощь.
Но позднее выяснилось, что туземцы приняли Коммерсона за знахаря. Они жестами дали ему понять, чтобы он дал им снадобья от болезней.
Когда недоразумение рассеялось, это вызвало взрыв веселья. Бугенвиль заметил, что группа патагонцев ведет себя как-то странно. Рослые мужчины громко что-то кричали, пытались танцевать, но падали на землю. Подойдя ближе, Бугенвиль увидел, что в центре этого кружка сидит отец Лавесс и шевалье дю Гарр. Дю Гарр наливал в маленький стаканчик водку и давал по очереди патагонцам.
— Зачем вы это делаете, шевалье? — спросил Бугенвиль. — Несчастные туземцы пристрастятся к спиртным напиткам, а ведь из-за этого вымирают целые племена.
Лавесс и офицер были смущены.
— Я не думаю, мосье, что это принесет такие ужасные последствия, — пробормотал дю Гарр. — Европейцы в этих местах бывают так редко, что дикарям совсем не угрожает опасность спиться.
— Вы не предвидите всех последствий вашей поистине коварной затеи, — холодно ответил Бугенвиль.
Между тем веселье на берегу продолжалось.
Пожилой патагонец, державший за руку девочку лет четырнадцати, указал на старый синий редингот Коммерсона и знаками дал понять, что не прочь приобрести эту вещь.
Вивэ расхохотался:
— Мосье Коммерсон, он предлагает девочку в обмен на ваш редингот. Что вы на это скажете? Я бы на вашем месте подумал над таким предложением.
Глаза Коммерсона лихорадочно блеснули. Этот наглец еще смеет издеваться над ним! Но он сдержался:
— Думаю, мосье, что эта девочка найдет себе лучшую пару, чем я. Во всяком случае, у туземцев более чистые мысли. Старик показывает, что мой редингот нужен для того, чтобы защитить девочку от дождя и холодных туманов.
Коммерсон снял редингот и накинул его на плечи юной патагонки. Это вызвало бурю восторга, новый взрыв криков «шауа!».
Когда шлюпка отчаливала от гостеприимного берега, патагонцы долго сопровождали ее, бредя по пояс в воде.
Коммерсон махал им носовым платком.
Несколько дней спустя корабли вошли в прекрасную для стоянки бухту. На расстоянии одного кабельтова от берега глубина была достаточной для кораблей. Грунт для якорной стоянки оказался хорошим, и, самое главное, моряки еще издали заметили, что здесь впадают в пролив две небольшие речушки.
Теперь уже начались первые открытия, потому что эта бухта еще не была нанесена ни на одну карту. Бугенвиль, немного подумав, записал в вахтенном журнале, что называет ее именем своего помощника Дюкло-Гийо, «познания и опыт которого приносят нам большую пользу в плавании».
Дюкло-Гийо стоял на баке, и лицо его горело от холодного ветра и радости.

Глава V
Под звездами неведомых морей

Прислушайтесь к величавому спокойствию этой природы, к монотонному шуму вечного прибоя. Посмотрите на этот грандиозный ландшафт, на базальтовые скалы, на леса, покрывающие склоны мрачных гор. И все это затерялось в гордом и величественном одиночестве среди беспредельности Великого океана.
Пьер Лоти
Если бы у Шенара де ля Жиродэ спросили, сколько кораблей он переменил за свою полную скитаний жизнь на море, он, несомненно, ответил бы не сразу. Сорокачетырехлетний моряк с ранних лет привык ощущать под ногами колеблющуюся палубу. И все же он мог определенно сказать, где бывал, в каких водах плавал. Весь его извилистый кружной путь по морям и океанам прочно запечатлелся в его мозгу, оставил неизгладимый след. Он прекрасно помнил, что не все берега встречают путешественников как хороший хозяин гостей. Но, роясь в своей памяти, Жиродэ не мог припомнить таких неприветливых и диких берегов.
Корабли вошли в узкий Магелланов пролив. По обеим его сторонам громоздились мрачные скалы, кое-где поросшие мохом. И хотя со времени великого португальца здесь уже побывало немало кораблей, плавание по запутанному лабиринту бесчисленных проливов, рукавов, бухт и заливов, между островами и островками представляло нелегкую задачу.
Жиродэ хорошо знал, какой дурной славой пользовался пролив.
Ветер постоянно менял направление, приходилось все время маневрировать. Хотя было самое благоприятное время года — середина лета, — неожиданно налетали жестокие штормы и шквалы; море глухо билось о мрачные скалы. Удобных якорных стоянок почти не встречалось.
Бугенвиль решил идти в ту самую бухту, что служила пристанищем французским морякам три года назад. Здесь брали лес для Малуинских островов, запасались свежей водой.
В бухту, названную моряками именем Бугенвиля, первым осторожно вошел фрегат. Его подвели при помощи завезенных на шлюпках верпов к берегу, возле которого лот показал достаточную глубину, и моряки закрепили швартовы за деревья.
Транспорт «Этуаль» должен был отдать якорь мористее, у продолговатого поросшего лесом острова. Жиродэ приказал подойти к подветренной стороне острова. Большая волна, неожиданно прорвавшаяся в бухту, высоко подняла судно и подбросила его так, что резную позолоченную корму пронесло в нескольких футах от скользких, покрытых зелеными водорослями скал, стороживших остров.
Жиродэ показалось, что корабль сел на камни. Но это была лишь одна страшная секунда. Волна опустила корму, и корабль скользнул в тихую воду, как бы огражденную от волнения с моря каменистой грядой.
Из люка показалась широкополая шляпа Жанны Барре, поднимавшейся по трапу. Жиродэ с сочувствием посмотрел на взволнованное лицо девушки, окаймленное рыжими волосами. Он давно разгадал ее тайну, но продолжал относиться к Жанне так же, как и тогда, когда считал ее слугой Коммерсона.
— Ну что, Жан, перепугался? — дружелюбно спросил он.
Бледные щеки девушки порозовели. Ее испуг постепенно проходил.
— Ты впервые на корабле, а уже узнал многое, — продолжал капитан. — Наше судно сейчас было в трудном положении, но на море так случается нередко. Морская жизнь и опасна, и увлекательна. Нужно быть всегда решительным и хладнокровным. Я тридцать девять лет на палубе, и можешь мне поверить, Жан, что стоит только как следует почувствовать море, и ты полюбишь его на всю жизнь.
Жиродэ показал на матросов, которые пробежали мимо них, грохоча тяжелыми сапогами.
— Я уверен, что большинство из них, хоть и частенько проклинают море, думают так же, как и я.
— Но ведь мы могли сейчас разбиться, мосье? — робко спросила Жанна, подняв глаза на капитана.
Жиродэ улыбнулся:
— Шторм во время якорной стоянки весьма опасен. Если ветер очень свежий, вот как теперь, приходится отдавать второй, а то и третий якорь. Иногда и это не помогает, и суда выбрасывает на берег. Однажды мы подобрали экипаж испанского судна, потерпевшего крушение у маленького острова. Люди провели на нем четыре месяца! А могли бы и остаться на всю жизнь!
Жанна смотрела на капитана широко раскрытыми глазами. Что если и их выбросит на такой же мрачный остров?
Обычно не очень-то разговорчивый и приветливый, Жиродэ не мог сдержать улыбки, и Жанна поняла, что капитан не так суров, как хочет казаться.
Здесь, на корабле, Жанна давно уже обрела настоящих друзей. И хотя Вивэ всегда криво усмехался, встречая ее на палубе, девушка знала, что почти все остальные моряки относятся к ней доброжелательно.
Коммерсон не раз пытался поговорить с Бугенвилем о Жанне, чтобы узаконить ее положение. Но плыли они на разных кораблях. На непродолжительных стоянках выбрать подходящий для этого разговора момент было не так-то легко. А кроме того, Коммерсон инстинктивно чувствовал, что пока лучше не изменять положение вещей и оставить все как есть.
Жиродэ тоже думал о необыкновенной судьбе девушки. Иногда ему хотелось поговорить с ней подробней, расспросить о том, как она жила раньше. Но капитан никак не мог найти предлог для такой беседы и лишь отечески похлопывал «Жана» по плечу. Куда легче было капитану объяснять маневры кораблей, особенности управления парусным судном.
— А вот и твой патрон, Жан, — сказал Жиродэ, увидев на палубе Коммерсона, о чем-то спорившего с Верроном. — Наверное, ему, как всегда, не терпится попасть на новую землю.
— Я слышал, что здесь предполагается длительная стоянка, мосье Жиродэ? — спросил Веррон — В таком случае я оборудую на острове обсерваторию. Небо здесь, правда, почти всегда пасмурно, но все же я надеюсь сделать интересные наблюдения. Мосье же, — он поклонился в сторону Коммерсона, — интересуют крутые каменистые склоны этих гор совершенно так же, как и буйная растительность Бразилии.
Жиродэ блеснул глазами:
— Уж и не знаю, сможет ли наше судно поднять всю ту траву, которую насобирает мосье Коммерсон. Впрочем, ему, кажется, здесь особенно поживиться нечем.
Коммерсон добродушно усмехнулся:
— Кто знает, может быть, без этой травы и мы с вами, мосье, никогда не существовали бы.
И видя, что все с недоумением посмотрели на него, ученый добавил:
— Мосье Дидро говорил мне, что все живое развивалось постепенно и что даже человек не появился на земле в таком виде, как мы с вами.
Жиродэ хотел что-то сказать, но лишь выдохнул из себя неопределенно: «Хм-м». Барре широко раскрытыми глазами смотрела на Коммерсона. Ведь всем известно, что человека сотворил бог…
Филибер спохватился:
— Но, капитан, мы теряем время даром. Я вижу, что от «Будёза» уже отвалила шлюпка. Все ли у нас готово? — обратился он к Жанне.
— Да, мосье.
Барре посмотрела на берег. У застывших в хаотическом беспорядке гор темнел мрачный лес. Шипящая пена лизала голые скалы. Баркас с «Будёза» уже пристал к берегу, и маленькие фигурки людей сновали повсюду.
Матросы быстро развернули какой-то предмет, и белое полотнище палатки из старого паруса затрепетало на ветру.
Как только был разбит лагерь, Бугенвиль приказал немедленно приступить к ремонту судов. Сколько понадобилось усилий, чтобы поддерживать корабли во время п хапания в хорошем состоянии! Дюкло-Гийо уверял, что он лично наблюдал за постройкой фрегата в Нанте и лишь на непродолжительное время отлучался из порта, чтобы провести неделю-другую в кругу своей семьи. Но разве может уследить один человек за всем? Бугенвилю, слишком занятому в те дни в Париже подготовкой экспедиции, не удалось даже наездом посещать Нант. Но теперь нужно исправлять ошибки.
Впереди огромный и неведомый Тихий океан. Это нешуточное испытание для судов. Надо основательно подготовиться к длительному и опасному плаванию.
Прежде всего команды обоих кораблей занялись починкой транспорта, течь в носовой части которого все усиливалась. «Этуаль» килевали: подвели к прибрежной пологой мели и, заложив тали за топы мачт, накренили так, что подводная часть судна до киля выступила из воды. После этого принялись за поиски повреждения. Оказалось, что вода проникала в месте соединения обшивки с форштевнем. Пришлось
заменить всю носовую обшивку.
Бывалые моряки только удивлялись небрежности кораблестроителей в Нанте: что это — случайность или злой умысел?
Матросы работали быстро и старательно. Тщательно заделать место течи — значило, прежде всего, избавиться от тяжелой, изнурительной ежедневной откачки воды из трюма. Боцман Пишо удовлетворенно кивал головой, осматривая новую обшивку, — течи теперь не будет.
Потом пришла очередь фрегата. Его также килевали, после чего заново проконопатили и окрасили всю надводную часть.
Почти все время шел дождь, ветер гнал большую волну. Утром подмораживало, и снасти покрывались инеем.
Бугенвиль видел: многие моряки недовольны. Работы закончены, взят солидный запас дров и свежей воды, а корабли все еще не покидают бухту. Всем не терпелось поскорее выбраться из неприветливого пролива, который погубил немало кораблей.
Но Бугенвиль говорил офицерам, что экспедиция покинула берега Франции совсем не за тем, чтобы заботиться лишь о собственной безопасности. И чем точнее они составят карты запутанного лабиринта пролива Магеллана, чем лучше определят скорость и направление течений, наметят удобные для стоянки судов бухты и заливы, тем легче будет плавать в этих местах другим. И как только погода несколько улучшилась, начальник экспедиции приказал подготовить парусный баркас, чтобы пройти вдоль побережья, сделать астрономические и навигационные наблюдения. Бугенвиль, де Бушаж и де Бурнан за несколько рейсов на баркасе нанесли на карту много островков, небольших проток и бухт.
В одну из поездок их сопровождали принц Шарль, Веррон, Коммерсон и Барре. Хотел было примкнуть к ним и отец Лавесс. Но когда ветер рванул полы его рясы, волна швырнула в лицо сотни мелких холодных брызг, он пробормотал слова библейского псалма: «Nix, glando, glacies, spiritus procellarum — снег, иней, лед, дыхание бури» — и быстро скрылся в своей каюте.
Баркас осторожно пробирался вдоль скалистых берегов. За кормой оставался пенистый след. Чайки косо падали к верхушкам волн и, взмывая вверх, жалобно кричали. Ветер переменился, дул с юга. Небо покрылось облаками. Пошел мелкий дождь. Баркас обогнул несколько гористых островков, припорошенных снегом. Первозданный хаос берегов, нагромождения огромных, сглаженных морем камней, темные деревья на склонах холмов — все это производило тягостное впечатление.
— Если есть дорога, ведущая в ад, то, несомненно, она похожа на эти места, — сказал принц.
Никто ему не ответил. Все посматривали на небо. Погода быстро портилась. Моросящий дождь перешел в мокрый снег. Пришлось пристать к берегу и разбить палатку. Но и в ней было не теплее. Промокшим и окоченевшим путникам с трудом удалось разжечь в палатке сырые ветки. Все протянули к огню озябшие руки.
Принц широко расставил ноги в высоких морских сапогах и распахнул плащ, чтобы тепло проникло к самому телу.
Костер, весело потрескивая, разгорался все сильнее. Де Бушаж отодвинул подальше брезент, на котором были сложены навигационные приборы. Астроном Веррон ревниво следил, чтобы не поцарапались его инструменты, которые он все время прятал от дождя и снега.
Бугенвиль перехватил его взгляд.
— Мосье Веррон, — сказал он, — боюсь, что за эти дни вам не удалось взять достаточное число лунных расстояний, ведь небо здесь почти всегда покрыто тучами. Я склонен думать, что этот метод определения долготы очень несовершенен, так как требует много наблюдений за значительный промежуток времени.
— По вычислениям Галлея, — ответил Веррон, — Луна проходит по небосводу среди звезд, лежащих на ее пути, с угловой скоростью 33 секунды в минуту времени. Поэтому при измерениях расстояния до звезды ошибка составит 15 минут по долготе. По отношению же к Солнцу Луна отстает в своем движении на один градус в сутки. А значит, и ошибка в определении лунного расстояния приведет к еще большей неточности при вычислении координат нашего местонахождения.
Барре вслушивалась. О чем рассуждают ученые? Что значит долгота? Лунные расстояния?
Выглянуло солнце, и де Бушаж, взяв в руки один из непонятных инструментов, лежавших на брезенте, быстро вышел из палатки. В ней было тесно, дым разъедал глаза, и Барре последовала за шевалье. Де Бушаж держал этот металлический треугольный предмет в вытянутой левой руке, а правой вертел какой-то винт. Одним глазом он смотрел в длинную узкую трубочку, прикрепленную к треугольнику.
Барре не раз видела, как астроном Веррон на борту «Этуали» вот так же долго колдовал с таким же странным предметом, но не осмеливалась заговорить с ним. Бушаж казался ей мягче и добрее большинства офицеров, и Жанна подошла к нему.
— Что вы делаете, мосье?
Шевалье оглянулся и опустил инструмент.
— Эта штука называется английским октантом. Изобрел его Джон Гадлей, капитан британского флота. Объяснять его устройство долго, да, пожалуй, ты и не поймешь все сразу.
— А зачем вы смотрите в эту трубку, мосье?
— Хм… Ну ладно. Видишь ли, Жан, пока корабль плывет вблизи знакомых берегов, ориентироваться не так уж сложно, надо только хорошенько изучить вид побережья. Но как только выходишь в открытое море, без навигационных приборов обойтись уже нельзя. Кругом одна вода. Проплывешь ли ты сто или тысячу лье, она везде кажется одинаковой. Вот и остается ориентироваться по небесным светилам.
Барре слушала внимательно. Как понятно объясняет все этот шевалье и совсем не стыдится разговаривать со слугой.
— Но ведь вы, мосье, смотрите в эту трубочку вовсе не на небо, — сказала Жанна.
Де Бушаж снисходительно улыбнулся:
— Мне нужно определить лишь высоту солнца над горизонтом, и тогда станет известно наше местоположение. Хочешь поглядеть?
Барре с готовностью кивнула.
— Смотри в трубку, — он протянул Жанне октант. — Наведи ее на горизонт. Теперь крути вот этот винт до тех пор, пока край солнца не коснется горизонта, отраженного в зеркале.
— Я ничего не могу разобрать, мосье, там множество разных стеклышек, — сказала Жанна, возвращая октант. — Такая дорогая штука, я могу что-нибудь и испортить.
— Ничего, Жан, со временем научишься им пользоваться, а пока запомни, что Земля — шар, и потому Солнце в разных местах поднимается над горизонтом на неодинаковую высоту. Раньше были более громоздкие приборы, а этот позволяет совмещать изображения с помощью зеркал. Тем он и удобен. Умница, наверное, этот Гадлей. Впрочем, рассказывают, что октант с зеркалами изобрел стекольщик из Филадельфии Годфрей. И якобы брат его, капитан вест-индского торгового флота, продал инструмент на Ямайке Гадлею.
Пока де Бушаж разговаривал с Барре, палатка опустела. Принц и Коммерсон ушли в горы собирать растения, Бугенвиль и Веррон занялись измерением температуры воздуха, скорости и направления ветра. Но опять пошел дождь, и все, кроме Коммерсона и принца, вернулись в палатку. Вскоре начало темнеть, а Коммерсона и принца все не было. Шевалье де Бурнан подкинул дров в костер и несколько раз выстрелил из мушкетона. Звуки выстрелов отдались глухим эхом.
— Не могли же они уйти так далеко, чтобы не видеть нашего костра, — с беспокойством сказал Бугенвиль. — Хищных зверей здесь нет. За все время мы видели только одну лисицу…
— А дикари? — спросил Веррон.
— Вряд ли они нападут на безоружных людей, — проговорил Бугенвиль, покачав головой.
Прошло еще несколько томительных часов. Бугенвиль решил уже идти на розыски, когда пропавшие неожиданно появились у костра.
Принц Шарль опустился на груду валежника и стал стаскивать промокшие сапоги.
— Никогда бы не подумал, что можно так мучить себя из-за каких-то травинок, — сказал он, с трудом переводя дыхание. — Мосье Коммерсон нашел новое растение и непременно хотел разыскать еще одно такое же. Мы забрели так далеко, что если бы не костер, то вряд ли нашли бы дорогу обратно.
Коммерсон казался очень уставшим. Но прежде чем сесть отдохнуть, он бережно переложил собранные растения плотными листами бумаги. Покончив с этим, он подошел к огню, радостно потирая руки.
— Много раз за время нашего путешествия я имел случай убедиться, сколь шатки и ненадежны все известные мне распределения растений по классам, родам, семействам. И это все оттого, что систематикой занимаются люди, которые всю жизнь просидели в кабинете. И поэтому их схемы рано или поздно разлетятся, как карточные домики.
Коммерсон посмотрел в лицо Бугенвилю:
— Не напоминает ли это вам, мосье, труд Сизифа? Что может быть бесполезнее работы, не основанной на фактах?
В разорванном и запачканном плаще, с исцарапанными руками, в фантастических отблесках костра Коммерсон меньше всего походил сейчас на ученого. Но Бугенвиль подумал о том, что и сам он много раз убеждался в лености и глупости людей, которые упорно стараются подчинить природу своим вымыслам.
Ночь на берегу все провели без сна. Было очень холодно, и люди дремали, сидя у костра. Как только рассвело, пустились на баркасе в обратный путь.
В кабельтове от берега Бугенвиль хотел измерить глубину бухты. Но лот в сто саженей не достал дна.
Дни шли за днями, недели за неделями, а оба корабля все еще пробирались узкостями Магелланова пролива. Часто штормило. Даже Барре стала привыкать к качке и не страдала так, как в первые дни плавания, от морской болезни. Иногда приходилось подолгу отстаиваться в бухтах.
Моряки и в такие дни не теряли времени даром. Они составляли карты, каждый день по нескольку раз измеряли температуру воздуха, определяли глубины, брали пробы грунта.
Бугенвиля особо интересовали скорость и направление приливо-отливных течений. После многодневных наблюдений он записал в своем дневнике: «Приливное течение имеет направление к Атлантическому океану, а отливное — к Тихому. В той части пролива, которая имеет меридиональное направление, регулярность приливов и отливов нарушается».
Бугенвиль сделал вывод, что это объясняется большой изрезанностью береговой линии Огненной Земли.
Вскоре моряки увидели и ее обитателей. Однажды утром из-за скалистого острова показалось несколько пирог, которыми управляли низкорослые люди в звериных шкурах. Они без всякой боязни поднялись на палубу «Этуали», с удовольствием ели сухари, солонину, сало — все, чем их угощали.
Коммерсон вытащил свой альбом, чтобы зарисовать огнеземельцев, их пироги, нехитрое оружие. Затем он сел в одну из пирог и отправился на берег с подарками: кольцами, зеркалами, продовольствием. Огнеземельцы позвали его в самую большую хижину и предложили свое угощение. Коммерсон вернулся на корабль с множеством набросков и подаренным ему луком со стрелами.
Когда ветер и волны поутихли, оба судна подняли якоря. Управляться с громоздким парусным вооружением было вообще нелегко, а здесь, среди множества проток и островов, — вдвое тяжелей. Особенно много усилий требовали маневры фрегата. Транспорт «Этуаль», меньший по размерам и потому лучше управляемый, в проливе шел все время первым.
Черные скалы, постоянная непогода наводили уныние. И как-то за обедом в кают-компании, наливая себе бургундское, принц Нассау сказал, ни к кому не обращаясь, но так, чтобы слышали все:
— Я полагаю, что нам следовало бы поторопиться с выходом в океан. Как ни важны изыскания мосье Бугенвиля у этих мрачных берегов, в Южном море нас ожидает гораздо более интересное. Там можно открыть какую-нибудь большую землю. На некоторых островах, как уверяют бывалые моряки, совсем неплохо.
«Не так-то это все просто, — подумал про себя Бугенвиль. — Многие пересекли огромный океан от западных берегов Южной Америки до Молуккских и Филиппинских островов, не встретив ни клочка суши».
— Всякий путешественник, попавший в Южное море, должен быть терпелив и настойчив, — ответил он принцу. — Только тогда он может чего-нибудь достигнуть.
Лавесс, прищурившись, обратился к сидевшему рядом с ним Сен-Жермену:
— Многие суда, терпя бедствия в Тихом океане, возвращаются в Южную Америку. На чилийском побережье прекрасные порты.
И Лавесс рассказал историю о том, как некто, сказавшись больным, остался в Вальпараисо, корабль же, на котором он плыл, погиб в океане. Этот человек оказался единственным, кто остался в живых из всего экипажа.
Сен-Жермен слушал рассеянно. Южная Америка? Нет, он предпочитает острова в океане. Скорее бы только выбраться из этих проклятых богом мест.
Прошло еще несколько недель. Наконец-то корабли закачались на крупной зыби, что свидетельствовало о близости океана. К ночи спустился густой туман, а утром, когда он рассеялся, моряки увидели, что прямо по курсу кораблей открылась полоска не ограниченного ничем горизонта.
На следующий день после долгого маневрирования в узком проливе у опасных скалистых берегов суда вышли в Южное море — Великий или Тихий океан.
Пробило восемь склянок. Солнце еще не показалось из-за горизонта, а Бугенвиль уже стоял на палубе фрегата с подзорной трубой в руке.
— Вторая вахта! — раздался крик и резкий свист боцманских дудок.
Из люков показались заспанные матросы, протиравшие глаза кулаками.
Задымился камбуз. Запах пищи приятно щекотал ноздри. Вахтенный офицер, шевалье де Бурнан, приказал приступить к чистке и мытью палубы. Все как обычно, как много дней подряд. Нигде дни так не походят один на другой, как на судне, плывущем по спокойному морю. А океан баловал уставших после утомительного плавания в Магеллановом проливе моряков. Все время дул ровный и сильный пассат. Суда быстро летели на запад. После выхода из пролива море постепенно из серо-зеленого стало темно-синим. Днем было жарко, но свежий ветерок нес прохладу.
Бугенвиль спустился в каюту вахтенного штурмана. Он прочитал все сделанные за сутки записи о пройденном пути, температуре воздуха, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра.
Затем он взял карту, на которой прокладывался курс, фрегата, обозначенный жирной линией. На беспредельных просторах океана там и сям были обозначены земли, открытые в разные эпохи разными мореплавателями. Но очень многие острова впоследствии так и не были разысканы из-за неправильного определения их широты и долготы.
Лишь острова Хуан-Фернандес, расположенные у берегов Чили, были нанесены на карту сравнительно точно. Прямо по экватору, примерно на долготе 180 к западу от Паоижа, обозначены острова, открытые в XIV веке испанскими мореплавателями Альваром де Мендоса и Менданьей. Они привезли весть о сказочных богатствах открытых ими земель и названных поэтому Соломоновыми, как если бы там находились легендарные сокровища библейского царя Соломона. Но местоположение этих островов, указанное испанцами, было крайне неточным. Как и многие его современники, Бугенвиль даже сомневался в их существовании.
Очертания огромной земли — Новой Голландии смыкались с береговой линией островов Новой Британии и Новой Гвинеи; эти земли были обозначены в основном пунктиром: никто еще детально не исследовал их побережья
[5]. Голландец Абель Тасман, обогнувший с юга Новую Голландию, обнаружил еще два больших острова, которые он назвал Землей Вандимена и Землей Штатов. Впоследствии эти земли стали известны под названием Тасмании и Новой Зеландии.
Особенно загадочной оставалась вся южная часть огромного водного пространства, начиная от тридцатого градуса южной широты. Эпоха великих географических открытий совершенно не коснулась этой части океана.
Бугенвиль знал, что еще на картах Птолемея все водные пространства были окружены массивами суши. Но мореплаватели доказали, что это не так. Наоборот, все известные земли омываются океанами. И вот что странно: материки распределены на земном шаре крайне неравномерно— большая часть суши оказалась в северном полушарии, а на долю южного пришлась лишь Южная Америка и меньшая часть Африки.
Этого не может быть — рассуждали географы. В южном полушарии должен находиться какой-то большой материк, по площади превосходящий Азию или хотя бы равный ей.
Испанский мореплаватель Кирос даже поспешил объявить, что открыл северную оконечность этого материка и заложил там город. Но оказалось, что это всего лишь небольшой остров…
Что же, Кирос мог и не дойти до настоящего Южного материка. Бугенвиль погрузился в вычисления. Пройден уже довольно значительный путь, а пока ни одной из двух больших земель, указанных на карте Беллена, не удалось обнаружить. Корабли поднялись от Магелланова пролива до 28 градуса южной широты и прошли по этой параллели около семисот миль. Но нигде не было и следов земли, которую видел в прошлом веке англичанин Дэвис.
На той же параллели на всех картах-а приходилось из-за их неточности пользоваться многими — был нанесен остров Пасхи, одинокий гористый остров, открытый голландцем Роггевеном. Но и его также не удалось обнаружить. Видимо, широта острова была указана неправильно.
Правда, когда корабли прошли дальше на запад, слева по курсу открылось несколько манящих своей зеленью и прекрасными пальмами островов. Но встречный ветер и отсутствие какой-нибудь, хоть самой небольшой, бухты не позволили высадиться на них.
Линия на карте обрывалась на сто сорок втором градусе западной долготы. Что ждет путешественников дальше? Сколько дней еще придется провести в открытом море? Тридцать? Пятьдесят? Ведь неизвестна даже истинная протяженность Тихого океана.
Пробил судовой колокол. Ровно в двенадцать Бугенвиль опять показался на шканцах, чтобы вместе с Верроном определить по приборам местонахождение корабля.
И тут матрос с салинга закричал, что видит землю. Бугенвиль взял подзорную трубу. На расстоянии семи-восьми миль виднелся низкий берег какого-то острова. Корабли изменили курс и направились к нему. Но ветер переменился, налетел шквал, и корабли всю ночь лавировали. Утром обнаружилось, что эта земля — цепь полузатопленных островов. Подходы к ним преграждали рифы. Эти острова на той же широте видели и другие путешественники.
Принц долго смотрел на них в подзорную трубу, затем сказал Бугенвилю:
— Такое количество земель свидетельствует о том, что где-то неподалеку находится материк, который ищут много лет. Ведь мы видели пучки травы, плывущей по течению. Поскольку нельзя осмотреть эти острова, следовало бы по крайней мере пройти немного на юг. Мне кажется, что мы обязательно откроем большую землю!
— География — это наука, основанная на фактах, — возразил Бугенвиль. — И не располагая ими, нельзя утверждать чего-либо с уверенностью. Иначе приходится расплачиваться очень дорогой ценой. Мы не можем метаться по океану только потому, что кому-то что-то показалось. Мне вверены два корабля и четыреста человек экипажа, и я никогда не забываю об этом.
Моряки хорошо запомнили этот день и час. 2 апреля 1767 года в десять часов утра марсовый Гренье заметил скалу, одиноко возвышавшуюся посреди океана. Ее назвали Будуар или пик Будёз. Бугенвиль приказал держать курс на север, чтобы как следует осмотреть этот островок. Внезапно на северо-западе открылась большая земля с совершенно необычными контурами. Рассмотреть ее в этот день так и не удалось. Низкие тучи и туман скрывали ее очертания. Но нетерпение моряков было так велико, что все толпились на палубах обоих судов.

Почти три месяца не ступали они на твердую почву; начал сказываться и недостаток свежих продуктов — появились первые цинготные больные.
Неужели и здесь не удастся высадиться?
Бугенвиль говорил Дюкло-Гийо, что это могут быть острова, открытые Киросом еще полтораста лет назад и считавшиеся безнадежно утерянными. Правда, Кирос указывал совсем другие координаты, но ведь он пользовался столь несовершенными мореходными инструментами…
К вечеру с берега потянул ветер, разогнавший туманную дымку, и моряки увидели немного севернее еще один остров. А потом выяснилось, что обе эти земли соединены узким перешейком. Когда стемнело, вдоль побережья зажглась цепочка огней. Земля оказалась обитаемой.
К рассвету корабли подошли еще ближе к берегу, и все увидели легкую пирогу с балансиром и небольшой мачтой, идущую прямо к кораблям. За ней показалась другая. А от берега отходили все новые и новые.
Островитяне приветственно махали путешественникам. Когда пироги подошли ближе, стало видно, что они нагружены кокосовыми орехами, плодами хлебного дерева, бананами. Туземцы были совершенно голыми. Они держали в руках листья банана, протягивая их в знак мира. Это было настолько красноречиво, что никто не мог усомниться в дружественных намерениях туземцев.
Один из них передал на «Будёз» откормленного поросенка и связку бананов. В пирогу полетели матросские шапки и шейные платки.
Островитяне привязывали к концам веревок, спущенных с судов, огромные связки бананов, кудахчущих кур, поросят, кокосовые орехи в корзинах из тростника. При этом обитатели острова широко улыбались, произнося на незнакомом, чрезвычайно певучем языке, состоящем почти из одних гласных, какие-то слова.
Всем очень хотелось стать на якорь у этого прекрасного острова, но промеры со шлюпок, спущенных на воду, показали, что повсюду скалистое дно. Поэтому пришлось повернуть мористее и медленно идти вдоль незнакомой земли.
Вид ее был очень красив. Посредине вздымалась огромная гора, до самой вершины покрытая буйной тропической растительностью. Сама природа, как искусный художник, украсила эту вершину. По всему побережью виднелись хижины островитян, крытые листьями пандануса, пироги, рощи кокосовых пальм.
Коммерсон, Нассау и Бугенвиль любовались островом, стоя у борта. После утомительного плавания, когда повсюду до самого горизонта расстилалась лишь однообразная гладь океана, глаз отдыхал на сочной зелени, пестроте и яркости красок.
Какой народ населяет эту прекрасную страну, где природа так щедра к людям, где вечно царствует весна?
Бугенвиль внимательно изучал побережье в подзорную трубу — не будет ли каких-нибудь знаков, что эти острова посещали европейцы?
Целые флотилии лодок сопровождали корабль. Островитяне, оживленные, радостно жестикулировавшие, протягивали к морякам руки, как бы приглашая сойти на землю. Слышали ли они когда-нибудь о том, что далеко на востоке раскинулся огромный американский континент, а еще дальше — Европа, населяемая народами, постоянно враждующими друг с другом?
Коммерсон смотрел на пышную растительность острова и думал о том, что для натуралиста такие удачи бывают раз в жизни, он сейчас особенно остро почувствовал, что не зря предпринял это путешествие. Подумать только, ведь этот остров — пожалуй, самая удаленная от остальной суши точка, какую можно только себе представить. И если здесь те же виды, что и на материке, то на каком именно: на азиатском или американском? А может быть, формы здесь подобны африканским? Или здесь совершенно уникальные растения, свойственные только этому клочку земли? Впрочем, спокойно, Спокойно. Скоро все это станет известно.
Лицо принца, как всегда, было совершенно бесстрастным. Он стоял у борта, положив загорелые руки на планшир. Его красный кафтан ярко выделялся на фоне белых парусов фрегата, легко скользящего по глади океана. Голубые глаза принца широко раскрылись, и если заглянуть в них, вряд ли можно было что-нибудь прочесть.
О чем он думал? Может быть, о том, что здесь, на этой незнакомой земле, можно пережить удивительные приключения? Или о том, что эти дикари, снующие на своих пирогах вдоль побережья и даже отваживающиеся выходить в открытое море, самые симпатичные и доверчивые из всех до сих пор виденных им в путешествии, несомненно, хорошо встретят их на берегу? Или вообще ни о чем не думал и лишь с наслаждением вдыхал всей грудью воздух, насыщенный испарениями земли и моря?
Рядом стояли офицеры д’Орезон, дю Гарр, де Бурнан и де Бушаж. А чуть подальше — отец Лавесс и Сен-Жермен. Все тихо разговаривали, но вдруг как-то сразу умолкли.
«Это богатая и прекрасная страна, — размышлял отец Лавесс, — здесь, как видно, много хлебного дерева, если его плоды в таком изобилии предлагают туземцы. Кокосы, бананы, наверное, есть и сахарный тростник… Но дикари, конечно, имеют свойственные им природные недостатки — суеверие, зависть, гордыню. Они, конечно, ленивы, а природа позволяет им не изнурять себя работой и жить в праздности. Конечно же, иезуиты первыми могут подчинить своей власти все население». Лавессу представилась отрадная для него картина… Вот уж построены божьи храмы, куда ходят молиться островитяне. Дикари кротко выполняют требования своих пастырей, потому что знают: малейшее отступление влечет за собой отбывание повинности на плантации. Пусть они еще не проникнуты светом христианских истин, но это не помешает нарядить их в европейские платья, которыми можно прибыльно торговать. А если всего этого будет мало, придется налагать на островитян различные штрафы за невыполнение установленных иезуитами правил… Все это уже ранее осуществлялось в Парагвае.
Отцу Лавессу хорошо было известно, как управляли своими миссиями иезуиты. Пусть в Южной Америке уже не существует теократического государства. Но что мешает возродить подобные порядки здесь? Быть может, эти земли побогаче парагвайских.
При подходе к северной оконечности острова кораблям приходилось часто лавировать, чтобы избежать столкновения с подводными скалами. Матросы бойко исполняли все команды.
Вскоре была обнаружена бухта, удобная для якорной стоянки. Промеры показали, что глубина здесь от 9 до 30 саженей. Бугенвиль принял решение стать на якорь в этом месте.
Не успели суда отдать якоря, как их окружила целая флотилия пирог. Островитяне кричали «тайо», «тайо», бурно и недвусмысленно выражая дружеские чувства.
В пирогах сидело много хорошо сложенных молодых женщин. Кожа у них была почти белая с характерным бронзовым оттенком. Женщины знаками давали понять, что желали бы подняться на корабль. Но Бугенвиль распорядился никого не пускать на палубу.
Одна смелая девушка все же поднялась на фрегат и прошла на бак. Она была очень красива. Сбросив набедренную повязку, она осталась совершенно голой. Ей предложили вернуться обратно на пирогу. Но выпроводить любопытную оказалось не так просто.
«Тайо, тайо», — говорил про себя Коммерсон. Что означает слово, с такой настойчивостью повторяемое островитянами? Ясно одно: оно выражает не вражду, а дружбу.
Островитяне спокойно сидели в своих пирогах, с интересом наблюдая за каждым движением неожиданных гостей.
Скоро на воду спустили на талях шлюпку. В нее сошли Бугенвиль, Коммерсон, Нассау и офицеры фрегата. Шлюпку сразу же окружили десятки пирог. Офицеры собирались захватить с собой несколько ружей, но Бугенвиль не разрешил этого.
— Посмотрите, в пирогах нет даже признаков оружия. Имеем ли мы право ехать к туземцам с огнестрельным оружием? Можем ли мы злоупотреблять их гостеприимством и доброжелательностью?
— Однако, мосье, — ответил дю Гарр, — островитяне не столь уж наивны. Я заметил у некоторых большие корабельные гвозди, серьги и другие металлические предметы. Несомненно, здесь уже успел побывать какой-нибудь английский или испанский корабль.
— Да и я обнаружил признаки пребывания здесь европейцев, и причем недавнего, — подтвердил де Бурнан.
— Вот, вот, — оживился дю Гарр. — Не делаем ли мы опрометчивый шаг, отправляясь безоружными? Ведь неизвестно, какая судьба постигла наших предшественников.
Принц Нассау неожиданно поддержал шевалье:
— Я слышал, что на некоторых островах Тихого океана обитают людоеды. Что заставляет их быть столь жестокими? Может быть, недостаток мяса?
— Но вы же сами видели, что здесь в избытке водятся и поросята, и куры, не говоря уж о рыбе, которую все островитяне ловят с необычайным искусством, — горячо возразил Коммерсон. — Вряд ли островитяне, которых мы видим, — людоеды.
Чтобы положить конец затянувшемуся спору, Бугенвиль приказал загребному отваливать. Пироги шли рядом со шлюпкой, и двое островитян положили голые руки на плечи сидевшего на корме Коммерсона, повторяя свое излюбленное «тайо». Ученый приветливо улыбался им.
Шлюпка быстро шла к берегу, окутанному роскошной мантией зелени. Под хлебными деревьями были разбросаны хижины. Высокие кокосовые пальмы, казалось, заполняли все пространство, оставив лишь узкую полосу прибрежного песка на берегу, на который с тихим шорохом накатывались волны. Спокойствие и мечтательность навевала природа этой необычайной страны.
Мягко ткнувшись носом в белый коралловый песок, шлюпка остановилась.
Сидевший на носу принц быстро выскочил на берег, сделал несколько торопливых шагов и остановился, осматриваясь кругом. Вылезли и остальные французы.
На берегу быстро собралась толпа мужчин и женщин. К ним присоединялись все новые и новые. Островитяне брали путешественников за руки, за плечи, за края одежды и даже поднимали полы кафтанов. Бугенвиль подумал, что они это делают, желая удостовериться, нет ли у пришельцев какого-нибудь оружия. Он первый подал пример остальным, широко распахнув полы своего кафтана, показывая этим, что у него нет никакого оружия.

Все охотно последовали его примеру. Островитяне это восприняли по-своему. Очевидно, даже мысль искать у пришельцев оружие не могла прийти им в голову. Островитяне, видимо, думали, что морякам просто жарко и они желают снять с себя обременительную одежду. Самые экспансивные захотели помочь французам и стали стаскивать с них кафтаны.
Это чуть не привело к новым осложнениям, но улыбки островитян, их откровенный смех живо рассеяли все недоразумения.
К живописной группе жестикулировавших людей подошел крепкий еще старик, задрапированный в кусок ткани. При виде его толпа расступилась.
Старик остановился в двух шагах от Бугенвиля и, ударив себя в грудь, сказал: «Эрети». Немного подождав, он повторил это же слово с таким же, столь понятным жестом.
Тогда капитан тоже ударил себя в грудь и сказал: «Бугенвиль».
Эрети знаками показал, что он вождь округа. Бугенвиль, в свою очередь, попытался объяснить, что он командует кораблями, которые пришли в эту бухту.
— Иа ора на, тайо Путавери, — сказал старик.
Думая, что это приветствие — и впоследствии он узнал, что не ошибся, — Бугенвиль ответил:
— Иа ора на, Эрети!
Эти слова вызвали бурный восторг островитян. Они принялись петь, а девушки танцевать, повторяя «тайо, Путавери», «тайо Путавери», — так они произносили имя Бугенвиля.
Моряки с удовольствием смотрели на них. Почти все девушки были очень красивы — черные глаза, янтарный цвет лица, длинные волосы с вплетенными в них цветами.
Вперед выступили два островитянина. Один из них, почти мальчик, играл на большой тростниковой флейте, издававшей на слух европейцев несколько резковатые звуки. Другой спел под аккомпанемент этой флейты песню. Голос, как и у всех островитян, был несколько хриплый, но мелодия чем-то задевала сердца французов. Песня, видимо, была популярна, и скоро образовался довольно стройный хор.
Вождь взял Бугенвиля за руку и повел в рощу, где стояли хижины островитян. Остальные путешественники, сопровождаемые толпой, последовали за ними. Вождь привел их в свой дом, крытый листьями пандануса. Фундаментом служили огромные базальтовые плиты. Пол был устлан циновками. На них сидело несколько женщин. При виде чужестранцев они вскочили со своих мест и быстро затараторили «тайо», «тайо». Радушие их не вызывало сомнений.
В хижине находился высокий старик с длинной седой бородой. Но лицо его было без морщин, а тело оставалось стройным и гибким. Мельком взглянув на гостей, он встал и, не говоря ни слова, удалился, полный величия и гордости. Это был первый человек, который встретил французов безразлично и даже холодно. Он явно не одобрял поведение своих соотечественников, так радушно встретивших чужеземцев. Бугенвилю показалось, что старик опасается, как бы появление на их земле пришельцев не нарушило привычного уклада жизни этого народа.
«Что ж, он, пожалуй, прав, — подумал Бугенвиль. — Этот человек, наверное, и сам не подозревает, насколько он мудр. Что может принести жителям острова вторжение европейцев?» Бугенвиль горько усмехнулся. Он знал, что на многих вновь открытых землях вспыхивают эпидемии, занесенные моряками, появляются миссионеры, пытающиеся подчинить туземцев своей власти.
Французы с интересом осматривали украшения, которые были в хижине. К крыше был подвешен какой-то непонятный предмет, сплетенный из гибких ивовых прутьев, с длинными черными перьями неизвестной птицы.
У стен стояли две деревянные фигуры, которые Бугенвиль и его спутники поначалу приняли за идолов. Они были сделаны из черного дерева. И когда Бугенвиль пощупал их, то удивился твердости материала.
Пока путешественники разглядывали убранство дома, его чрезвычайно простую обстановку, состоящую всего из нескольких циновок, принесли угощение.
Вождь предложил всем сесть на траве перед домом — в хижине было слишком тесно. Подали фрукты, жареную рыбу и воду. Принесли два ожерелья из ивовых прутьев, украшенных черными перьями и зубами акулы. Одно из них Эрети надел на Бугенвиля, другое на шевалье д’Орегона, который остался очень доволен такой честью.
Подошли еще несколько стариков, очевидно уважаемые люди племени, и сели в кружок. Эрети знаками спросил, надолго ли Бугенвиль и его спутники прибыли на остров.
Бугенвиль взял восемнадцать камешков и разложил на траве. Часть камешков были белыми, часть черными. Это, очевидно, ввело в заблуждение Эрети. Он спросил, означают ли черные камешки ночь.
Тогда Бугенвиль, собрав восемнадцать белых и столько же черных камешков, дал понять, что речь идет о восемнадцати сутках.
Старики посовещались. Неожиданно один из них поднялся и убрал половину камешков, оставив только по девяти темных и белых. Но Бугенвиль не пожелал вдвое сократить срок стоянки и снова положил прежнее число камешков. Эрети немного помедлил и потом хлопнул в ладоши: он согласен!
— Видимо, Эрети более доверчив, чем другие старейшины, — сказал Бугенвиль Коммерсону.
— Этот народ очень беспечен, как и сама здешняя природа, — отозвался тот, — но старики, очевидно, помнят и худшие времена, поэтому они так осторожны. Интересно, были ли когда-нибудь на этом острове войны, междоусобные распри?
— Трудно сказать, но они определенно знакомы
с жестокими нравами европейцев, — ответил Бугенвиль.
— И все же принимают нас с таким радушием! — воскликнул Коммерсон. — Мы должны сделать все, чтобы сохранить с ними добрые отношения и оставить о себе самые лучшие воспоминания.
— Будем стремиться к этому, — вставил шевалье де Бушаж. — Вы, мосье капитан, были совершенно правы, запретив нам брать с собой оружие.
Бугенвиль мягко улыбнулся, стряхнул несколько листьев, приставших к рукаву его- парадного камзола, и поднялся.
— Для первого раза достаточно. Не будем злоупотреблять гостеприимством хозяев и отправимся на корабль, а завтра устроим на берегу лагерь для наших цинготных больных и займемся пополнением продовольственных запасов.
Островитяне были огорчены, увидев, что чужеземцы покидают их. Моряков до самого берега провожала большая толпа. Островитяне оживленно переговаривались, продолжая разглядывать одежду французов, а самые смелые брали их за руки.
И когда европейцы ступили на белый прибрежный песок, раздался опять печальный звук камышовой дудки «виво», хор завел протяжную песню, а девушки принялись танцевать.
Бугенвиль со своими спутниками подошел к шлюпке. В этот момент от толпы отделилась девушка и протянула капитану несколько веток пальм, кораллы и букет полевых цветов.
Бугенвиль взял эти бесхитростные знаки внимания и прижал руку к сердцу. Когда шлюпка отчалила, он еще раз взглянул на девушку. Она стояла в пене прибоя и радостно махала рукой. «Как Афродита, рождающаяся из пены волн у греческого острова Кифера, — подумал Бугенвиль. И тут же пришло на ум: — Пометим остров на карте Новой Киферой».
Поднимаясь по трапу на корабль, Бугенвиль еще раз повторил про себя: «Новая Кифера».

Глава VI
Якоря остаются на дне

Даже те, которые смотрят на Таити с более честной и более художественной точки зрения — и я не сомневаюсь, что таких большинство, — все те, кто видит в Таити только страну, где цветет вечная весна и где царит веселье, все те, кто смотрит на Таити, как на страну, полную поэзии, цветов и красивых женщин, — те тоже не понимают Таити…
Прелесть этой страны вовсе не в этом, и доступна она не для всех…
Пьер Лоти
Под восторженные крики всей команды на воду спустили большой баркас. Он быстро наполнился моряками. Больных, ослабевших от цинги, — а их было немало, — поддерживали под руки.
Тропический день только начинался. Огромное солнце выкатилось из-за горизонта, окрасило в розовые тона повисшие в безветрии паруса кораблей, прибрежную полосу прибоя, стволы пальм, величественные, спокойные горы.
После долгого плавания любая земля всегда кажется желанной. Даже самым просоленным морякам хочется ощутить под ногами твердую почву, а не зыбкую, качающуюся палубу, посидеть в тени деревьев, поваляться на мягкой траве. Но этот остров особенно притягивал к себе моряков.
Он совершенно не походил на большинство других, встречавшихся до сих пор. Здесь не видно было едва пробивающейся на коралловых образованиях растительности, внутренних лагун с постоянными ее обитателями — черепахами и мелкой рыбой, длинных бесплодных песчаных отмелей.
С моря остров представлялся мореплавателям выступающей из океана гигантской горой, покрытой вечнозеленой растительностью. На солнце сверкали ручьи и ручейки, сбегавшие к океану. С более близкого расстояния можно было рассмотреть тенистые рощи, пироги, вытащенные на берег, собравшихся на берегу островитян.
Сидевший на руле баркаса боцман Пишо взволнованно сжимал румпель. Так вот эта земля, о которой мечталось во время длительного перехода по океану. Как манит зелень, прохлада лужаек, мирный вид туземных хижин!
Моряки равномерно взмахивали веслами, опуская их в прозрачную воду. Флотилия пирог сопровождала баркас до самого берега.
Боцман Пишо, поддерживая ослабевшего от цинги матроса Менье, вывел его из баркаса, усадил на ярко-зеленую траву под кокосовыми пальмами и опустился рядом. Он и сам чувствовал себя неважно. Отдыхая, боцман прислушивался к шуму прибоя и жадно вдыхал аромат цветущих деревьев, неведомых трав, пряные испарения земли, согретой щедрыми солнечными лучами. Французов обступили со всех сторон. Истощенные лица матросов, вероятно, казались островитянам весьма странными. Высокий мужчина что-то сказал остальным, и перед французами появилось деревянное блюдо. Сырая рыба была нарезана мелкими ломтиками и полита соком какого-то растения. Женщины и девушки принесли связки бананов и кокосовые орехи.
Моряки не заставили себя просить и жадно набросились на угощение. Пишо срезал ножом верхушку кокосового ореха и дал его Менье. Матрос с удовольствием выпил прохладную вкусную жидкость. Затем боцман протянул высокому островитянину, приказавшему принести съестное, свой шейный платок и матросскую шапочку. Гот сейчас же натянул ее на голову, а платок накинул на плечи.
С кораблей прибывали все новые и новые группы моряков. Подошел баркас с бочками для воды, привезли плотничий инструмент. Начали устраивать лагерь. Островитян это не удивило. Эрети подошел к Бугенвилю и спросил его, намерен ли он оставаться на острове восемнадцать дней. Командир экспедиции подтвердил, что вчерашнее соглашение остается в силе. Эрети знаками показал, что для устройства лагеря можно воспользоваться весьма вместительным навесом, где стояли большие пироги. Острые носы некоторых из них были украшены деревянными резными фигурками маленьких человечков.
Островитяне
с веселыми криками унесли свои пироги и освободили место для палаток. Работы было много. Лагерь разбивали до темноты. Бугенвиль решил заночевать на берегу. Пусть жители острова убедятся, что их не опасаются, а вполне доверяют гостеприимству. Эрети был очень доволен решением командира экспедиции.
Эта ночь осталась в памяти французских мореплавателей, как одна из прекраснейших в жизни. Когда сгустился ночной мрак, на берегу рассыпались десятки и сотни огней. Возле палатки Бугенвиля и принца Нассау разложили большой костер. Вокруг него на мягких листьях расположились моряки и островитяне. Эрети велел принести ужин: жареную рыбу и фрукты. Туземцы веселились вокруг лагеря. С ближайшей поляны доносились радостные возгласы. Боцман Пишо следил за танцующими. Начав медленно, они плясали все более стремительно и страстно. Ничего подобного не приходилось ранее видеть бретонцу. Морской берег, покрытый белыми обломками кораллов, какие-го особенные звуки, доносившиеся со стороны гор, густые качающиеся тени — все это порождало необычайное чувство.
Эрети, указав на выплывшую из океана луну, заговорил на своем певучем наречии. Он сопровождал свой рассказ настолько выразительными жестами, что французы многое понимали. Островитяне стали сосредоточенными и серьезными. Они внимательно слушали вождя, сидя на корточках. Эрети заговорил о давным-давно минувшем…
Когда-то над великим Океаном всходило пять лун. Они не походили на луну, которая сейчас сияла над головами людей. У тех лун были человеческие лица, и они были страшными и жестокими. Они приносили много зла первым обитателям острова. За это могущественный бог Таароа разгневался на них. Луны заметались в черном бесконечном пространстве. Они пели страшными голосами, которые приводили в трепет людей. Пять небесных светил удалялись от земли все дальше и дальше. Но великий бог Таароа заставил их задрожать. У лун закружились головы, и они упали в бурный кипящий океан. Так родились острова Бора-Бора, Отаха, Хуахине, Раиатеа и Тубаи…
— …А этот остров, — Эрети посмотрел на чужеземцев и обвел широким жестом все вокруг, —
называется Отаити. Жители его — таитяне.
Эрети замолчал, и тогда стали слышны далекие звуки тростниковой флейты «виво» и трубные призывы рога из раковин. Отблески потрескивающего костра выхватывали из темноты живописные группы таитян, расположившихся вблизи чернеющих куп деревьев.
Глядя в огонь, Эрети продолжал свой рассказ. Таитяне ведут свой род от людей, живших некогда далеко-далеко на западе. Они приплыли оттуда на больших пирогах, которых ныне уже не увидишь. Но к этим островам не так-то легко было приблизиться. Их охраняли огромные водяные духи. Они были похожи на птиц с громадными крыльями и вызывали страшные бури. Но и этих духов победил бог Таароа, и тогда пироги подошли к островам беспрепятственно…
Бугенвиль, глядя в лицо вождя, угадывал, что тот говорит об истории своего народа. Как жаль, что можно только предполагать, о чем он говорит. Если бы кто-нибудь мог перевести слова вождя. Да, это народ с древней самобытной культурой. Но как попал он сюда? Старик сказал, что остров называется Отаити. Видно, что вся жизнь островитян связана с морем. Хижины стоят на берегу. Да это и не удивительно. Внутреннюю часть острова занимают непроходимые леса, горные хребты. У острых вершин трех высоких гор всегда плавают легкие белесые облачка.
Не хотелось думать ни о чем, кроме загадки древнего острова. Бугенвиль уже успел поддаться его очарованию. Не раз слышал он легенды канадских индейцев и даже записал некоторые из них. В Южной Америке он тоже интересовался народными сказаниями. Но ничего не смог записать. Индейцы были запуганы миссионерами-иезуитами и хранили свои обычаи и сказания в тайне.
Бугенвиль размышлял о том, что у многих народов есть древняя культура, и они еще много поведают миру, откроют сокровищницы опыта, накопленного за тысячелетия.
Из раздумья его вывел резкий голос принца Шарля:
— Какой кромешный мрак сгустился над этим островом. Не пустить ли нам несколько ракет, чтобы развеселить туземцев?
Принц славился своим умением изготовлять и пускать замысловатые фейерверки, но его предложение прозвучало более чем некстати. Бугенвиль был весь во власти рассказа Эрети и недовольно взглянул на Нассау:
— Не думаю, что вам, принц, так скоро удастся их приготовить. Я и сам одно время увлекался ракетами и знаю, что дело это весьма хлопотливое.
Но принц вскочил на ноги и, проговорив, что ракеты у него уже давно заготовлены и их немало, скрылся в палатке.
Через несколько минут, шипя и рассыпая красные искры, ракеты взвились в воздух, на мгновение осветили высокие пальмы на берегу и упали далеко в море.
Сначала таитяне с интересом следили за всеми приготовлениями принца, а потом восторженно смотрели на огненные полосы, чертившие небосклон. Но когда одна из ракет с оглушительным треском взорвалась в ближайших кустах, они закрыли лица руками и убежали подальше от костра. Казалось, что и Эрети не испытал особого удовольствия.
Не было ни одного человека из экипажей «Будёза» и «Этуали», не ощутившего необычайного прилива сил. Цинготные больные почувствовали целебное воздействие таитянского климата. Казалось, что каждый час, проведенный на берегу, вливает бодрость и энергию.
На корабли грузили бочки с пресной водой, бананы, живых свиней и кур… Эта страна, встретившаяся морякам в центре великого океана, могла дать все, чтобы путешественники пополнили свои запасы, отдохнули физически и духовно.
Островитяне несли к кораблям продовольствие, местную ткань — тапе, украшения из раковин. Это все обменивалось на железные изделия, бусы, пуговицы, казавшиеся местным жителям весьма ценными.
Бугенвиль приказал собирать растения, которые могли бы помочь против цинги. Таитянки и их дети неотступно следовали за моряками и стали резать для них такие же травы, а вдобавок принесли несколько корзин, доверху наполненных раковинами очень красивой формы.
Эрети указал место, где росли стройные деревья с твердой древесиной. И опять островитяне начали с большим рвением помогать в работе. Они вместе с матросами валили и распиливали деревья, наполняли огромные корабельные бочки водой и тащили их к берегу, где стояли шлюпки. В награду таитяне просили лишь большие корабельные гвозди и куски полотна от старых парусов.
Между местными жителями и французами установились самые дружелюбные отношения. Матросы разгуливали по острову группами и в одиночку. Таитяне брали их за руки, приглашали в свои хижины и угощали всем, что у них было.
Бугенвиль с де Бушажем и де Бурнаном предприняли поход в глубь острова. Легко и быстро шагалось по зеленой равнине, сплошь покрытой фруктовыми деревьями. Долину пересекали речки с совершенно прозрачной водой. Крытые листьями пандануса хижины были открыты для европейцев. Стоило им подойти к любой группе таитян, как те дружески приветствовали моряков, беспрестанно повторяя «тайо», «тайо», и зазывали их в свои жилища.
Но так было только в прибрежных районах, дальше же открывался новый мир: мрачные утесы, скалы, нависающие одна над другой, и фантастически переплетающиеся стебли каких-то неизвестных растений. Чем дальше Бугенвиль и его спутники углублялись в чащу, тем меньше и меньше они встречали людей, пока, наконец, моряки не оказались в совершенно дикой местности. Моряки повернули обратно и, пройдя вдоль побережья, посетили несколько селений. Повсюду их встречали радушно. За время короткого путешествия Бугенвиль убедился, что жители Таити вовсе не равны между собой, как он предполагал вначале. Различия в общественном положении отдельных групп чувствовались во многом. Мясо и рыбу ели знатные особы, народ питался овощами и фруктами. Простые люди даже не имели права пользоваться дровами, они предназначались лишь для очага более зажиточных. Бугенвиль видел, что среди таитян есть знать — вожди, есть земледельцы, люди, занимающиеся каким-либо ремеслом, а также безземельные, выполняющие различные работы у своих же соплеменников.
Бугенвиль заносил в записную книжку сведения о мореходных качествах таитянских пирог, способах обработки почвы, выделке тканей, семейных обычаях, похоронных обрядах, религии, пище, рыбной ловле, домашних животных.
Поражало, что многие слова, произносимые таитянами, сходны с теми, которые приводили в своих путевых записях многие путешественники, посетившие земли в другой части Тихого океана. Значит, есть еще острова и, может быть, даже целые их группы, которые заселены людьми, близкими по происхождению к обитателям Новой Киферы.
Однажды, пробираясь в зарослях горных склонов, моряки заметили, как от них в сторону метнулись две тени. Думая, что это, может быть, какие-нибудь крупные животные, матросы взвели курки своих ружей и осторожно двинулись дальше. В просвете между деревьями опять мелькнули тени, и Бугенвиль с изумлением убедился, что это люди!
Почему они забрались так далеко в горы и убегают от них? Ведь все таитяне были неизменно приветливы и гостеприимны и всегда выходили навстречу чужестранцам с дружеской улыбкой. Бугенвиль и его спутники ускорили шаг, настигая беглецов. Перепрыгивая с камня на камень, один из них оступился и повредил ногу. Когда моряки приблизились к нему, он с испуганным выражением стал что-то быстро-быстро говорить на своем наречии, показывая в сторону побережья.
Моряки дали ему попробовать сухарей и подарили несколько гвоздей. Увидев, что французы не хотят причинить ему ни малейшего зла, таитянин улыбнулся и показал на свою поврежденную ногу, которую держал выше голени обеими руками. Де Бушаж начал массировать его ногу, и вскоре таитянин смог подняться. Он знаками показал французам, что у него есть основательные причины опасаться своих сородичей, которые непременно убьют его, если поймают.
Бугенвиль решил, что этот таитянин повинен, вероятно, в тяжком преступлении. Но когда, вернувшись в лагерь, он рассказал об этом Коммерсону, тот, поразмыслив, ответил, что, очевидно, таитяне, скрывающиеся в горах, не кто иные, как люди, намеченные в жертву в честь какого-нибудь местного божества.
Коммерсон рассказал, что человеческие жертвы, как он выяснил, здесь не редкость. Жрецы пользовались этим, чтобы держать в страхе людей, почему-либо не угодных им. Хотя выбор жертв держался в строжайшей тайне, обреченные Часто узнавали о том, какая судьба их ждет, и бежали в горы, чтобы сохранить свою жизнь.
— Как видите, мосье, это не такая уж идиллическая страна, какой она представлялась нам вначале. И служители религии здесь не менее жестоки, чем у нас во Франции. Мне показывали их святилища — марай. Там можно видеть человеческие кости. Мне объяснили, что это останки принесенных в жертву людей.
Коммерсон, как и Бугенвиль, с большим интересом изучал образ жизни обитателей Новой Киферы, но главной его заботой продолжала оставаться природа острова. Через несколько дней после прибытия на Отаити ученый в сопровождении Жанны Барре отправился в дальний поход.
Вначале Коммерсон и его спутница шли по тенистым тропинкам прибрежной долины, поросшей густым тростником. Затем все чаще стали попадаться скалы, и вскоре путники двигались уже по каменистой дороге. Но вот послышался глухой шум, и за очередным поворотом показалась серебряная стена падающей с большой высоты воды. Коммерсон и Барре невольно остановились и долго смотрели на эту величественную картину. Водопад выдолбил в скале большую округлую чашу, в которой кипело, как в котле. Тонкая водяная пыль стояла в воздухе. Вокруг высились вековые деревья, опутанные лианами. Только над самой головой виднелся клочок темно-синего южного неба.
— Вот, Жанна, за одно то, чтобы полюбоваться этим неповторимым зрелищем, стоило переплыть огромные водные пространства, — сказал Коммерсон. — Потребовалась, вероятно, не одна сотня лет, чтобы водопад выдолбил в твердой скале такой водоем. Посмотри, как гладко отполированы его стенки.
Ученый сбросил вниз несколько камешков, стук их падения не был слышен за шумом воды. Коммерсон снял шляпу:
— Садись, Барре, и давай немного поразмыслим над тайнами сотворения мира. Здесь, мне кажется, для этого самое подходящее место.
Девушка осторожно положила на влажный мох папки с собранными растениями. Она тоже как завороженная следила за сверкающим потоком низвергавшегося со скалы водопада.
— В этой необычайной стране все поражает воображение, — продолжал Коммерсон, — природа здесь как бы замерла в вечном покое. Даже водопад не нарушает такого впечатления. Но покой этот, конечно, только кажущийся. Здесь я нашел такие растения, которые, изменяясь, приобрели совсем не такие формы, как в Европе. Вот из-за чего я покинул Францию. Без сомнения, путь натуралиста теперь лежит в малоизвестные и совсем еще не исследованные страны.
Барре молча слушала и смотрела туда, где по левому берегу потока карабкалась вверх узкая тропинка, извивалась по склону горы и пропадала в густой зелени. Кем она протоптана, кто по ней ходит?
— Ну, кажется, отдохнули, — сказал ученый. — Пойдем, дальше. Сейчас некогда предаваться праздности даже в таком очаровательном месте.
Барре устала. Ей хотелось еще немного посидеть у водопада. Здесь все располагало к отдыху. Под шум воды хорошо думалось, мечталось. Но надо идти… Девушка, вздохнув, поднялась с толстого, уже наполовину трухлявого ствола и взяла тяжелые папки.
И вот снова Коммерсон и Барре пробираются в полумраке леса. Их обступали деревья — влажные, темно-зеленые и гладкие, подобные огромным колоннам какого-то храма, воздвигнутого самой природой. Громадные папоротники раскинули над головой широкие причудливо вырезанные зонты. Поднимаясь все выше, Коммерсон нашел кусты, покрытые массой цветов самых разнообразных оттенков. Цветы нависали прямо над головами путников. Ноги утопали в мягком, как ковер, мху. Барре нарвала цветов и сплела себе большой венок. Она надела его на голову так, как это делали островитянки.
Коммерсон в нескольких местах порвал свой камзол, зацепившись за колючий кустарник, да и матросское платье Барре выглядело не лучше. Путники пересекли несколько долин, шли мрачными ущельями. Воздух становился все свежее. Навстречу медленно плыли облака. Они лепились к скалам, словно не желая покидать их.
Вскоре дальнейший подъем стал невозможен. На пути поднялась отвесная стена, рассеченная во многих местах глубокими трещинами, из которых торчали какие-то неприхотливые растения. Коммерсон и Барре, отдыхая, уселись на каменный выступ.
Отсюда был виден весь остров. Его окружал как бы белый пояс, ясно вырисовывавшийся на спокойной голубовато-синей поверхности океана. Это были опасные для кораблей подводные рифы с белыми бурунами.

Почти у самого горизонта виднелись еще два острова. Над их конусообразными вершинами так же висели облачка, окрашенные в нежные розоватые тона. Недалеко от пояса белых бурунов застыли две черные точки.
Указывая на них, Барре сказала:
— Вон наши корабли, мосье. Они кажутся отсюда не крупнее омаров, прямо не верится, что мы могли на таких маленьких суденышках пересечь океан. Когда смотришь с этой горы, многое представляется по-другому…
— Да, Жанна, — ответил Коммерсон. — Наши суда выглядят всего лишь как две маленькие пироги. Но их прибытие сюда может многое изменить на этой земле. И кто знает, не наступила ли уже новая эра для Отаити? Я слышал, что мосье Бугенвиль собирается закопать в землю доску с вырезанным на ней текстом о том, что остров отныне принадлежит французской короне. Так делают всегда на вновь открытых землях. Так собирается сделать и Бугенвиль. Справедливо ли это, Жанна? — Коммерсон долго молчал, углубленный в свои мысли. Жанна тоже задумалась. Но вот ученый решительно поднялся на ноги:
— Пора нам возвращаться. Ведь то, что мы собрали за сегодняшний день, нам с трудом удастся дотащить до корабля. Как жаль, что у нас нет того маленького ослика, которого тебе удалось приобрести в Бразилии…
Тяжелые папки с гербариями давили плечи. Густой сумрак леса постепенно стал редеть. Кое-где сквозь листву деревьев проглядывала синева океана. Утомленные Барре и Коммерсон медленно спускались к побережью.
Наконец показалась знакомая роща, где расположились лагерем моряки. Белеют расставленные у самого моря палатки. Большая группа таитян расположилась у самого лагеря. Они с любопытством наблюдали за работой моряков. Находившиеся в лазарете цинготные больные стали теперь немного бодрее и бродили возле палаток.
Барре и Коммерсон, передохнув на зеленой лужайке, двинулись дальше и сейчас же привлекли внимание островитян, которые всегда пристально разглядывали чугкеземцев.
Вдруг тонкий высокий юноша что-то сказал своим соплеменникам и с криком «айенене!», «айенене!» бросился к Барре, и тотчас же путников плотно окружили. Островитяне хватали Барре за руки, заглядывали ей в лицо, а потом некоторые из них попытались стянуть с нее синюю матросскую куртку.
Девушка перепугалась. Напрасно Коммерсон растерянно повторял «тайо», «тайо». Островитяне были чем-то радостно взволнованы. Видимо, они не хотели причинить никакого вреда девушке, но их настойчивость становилась все агрессивнее. Им удалось снять с Жанны куртку, несмотря на ее отчаянное сопротивление.
В растерянности Барре побросала на землю коллекции, собранные с таким трудом, и часть экзотических растений, найденных в этом утомительном переходе, вывалилась из папок.
Коммерсон хватал за плечи то одного, то другого, чтобы утихомирить возбужденных островитян и одновременно спасти хотя бы часть добытого. Возбуждение таитян не ослабевало. В конце концов они подняли на руки Барре и собрались уже куда-то нести ее. Помощь пришла в самую критическую минуту. Шевалье де Бушаж, который руководил перевозкой тяжелых стволов из рощи, где шла порубка деревьев, услышал крики и, увидев в толпе островитян Коммерсона и Жанну, поспешил на выручку.
Он так стремительно ворвался в самую гущу толпы, что все расступились, и Барре осталась лежать на земле.
Шевалье бросился к ней:
— Что с тобой, Жанна, ты не ранена?
— Нет, но я очень перепугалась.
Вдвоем с Коммерсоном они помогли Барре подняться на ноги. Все случившееся казалось ей дурным сном.
— Странно все-таки, — сказал Коммерсон, — что столь миролюбивые островитяне вдруг напали на нас…
Разгоряченный де Бушаж оправлял свой мундир. Барре, немного успокоившаяся, собирала разбросанные папки.
— Вы ходите всегда безоружными, — сказал Коммерсону шевалье, — это, в конце концов, опрометчиво и может кончиться трагически…
Де Бушаж не переставал удивляться, отчего так необычно повели себя гостеприимные и дружелюбные жители острова? Даже за короткий срок пребывания на острове шевалье успел убедиться, что на Новый Кифере можно было ходить по лесу и даже спать в самых отдаленных уголках, не опасаясь нападения ни человека, ни животных.
Коммерсон, который немало побродил по острову, знал уже, кроме того, что и запасов продовольствия здесь не нужно брать в дорогу: в любой хижине путнику предоставят и кров, и пищу, а в случае нужды дадут и одежду — парео, легкое белое одеяние, не стеснявшее движений.
Пока французы шли к шлюпке, таитяне следовали за ними по пятам. Все время раздавались их громкие возгласы «айенене», «айенене!».
— Я немного научился за это время языку островитян, — сказал де Бушаж. — Некоторые слова мне теперь уже знакомы. Ведь я руководил порубками в дальней роще и нам помогало множество туземцев. — Он минуту помолчал и задумчиво проговорил — «Айенене» по-таитянски значит «женщина». Не могу понять, откуда островитяне так легко распознали в переодетой в мужское платье Жанне женщину…
Коммерсон остановился пораженный. Как молнией осветилось для него значение происходящего.
— Вот как, любезный шевалье? — воскликнул он. — Тогда для меня совершенно ясно, почему эти миролюбивые люди столь неожиданно напали на нас.
Коммерсон радостно улыбнулся. Прекрасное расположение духа вернулось к нему.
— Вы только вдумайтесь, шевалье. Ведь то, что женщина переоделась в мужскую одежду, может сбить с толку только нас, европейцев, но не туземцев. Ведь они никогда не видели женской одежды европейцев. Они не знают, в чем ходят у нас женщины, и поэтому обращают внимание главным образом на сложение и фигуру человека, на черты его лица… Одним словом, они ближе к природе и потому ближе к истине. Все совершенно понятно. Как мы успели уже убедиться, островитяне очень любопытны. Они не останавливаются даже перед похищением понравившегося им предмета. Вы видели, шевалье, с каким интересом рассматривают они наших моряков. А теперь таитяне проявили естественное любопытство, чтобы рассмотреть как следует и женщину… Еще раз повторяю, шевалье, что все объясняется очень просто…
Коммерсон и Барре подошли к шлюпке и хотели уже садиться в нее, как вдруг опять послышался шум. Среди таитян, пришедших из рощи вместе с ними, показалась высокая фигура шевалье дю Гароа. Он что-то громко кричал, в его руках мелькнула офицерская трость, которой он замахнулся на одного испуганно попятившегося таитянина.
Коммерсон бросился к разгневанному офицеру и оказался между ним и таитянином. Красное лицо дю Гарра было искажено злобой.
— Что с вами, шевалье? — спросил Коммерсон, — за что вы хотели ударить этого человека?
— Он украл у меня треуголку, — закричал дю Гарр, — и, как каждый вор, должен понести заслуженное наказание.
— Украл? — переспросил Коммерсон. — Успокойтесь. И скажите мне, что такое воровство?.. Вы молчите! Так знайте, что украсть какую-либо вещь можно только в том случае, если все признают право человека на эту собственность. Это, как видите, условность, свойственная только цивилизованным народам. Эти же люди не знают никаких условностей, и, по-моему, от этого они только выигрывают. Нельзя требовать слишком многого от людей, проявивших свои естественные чувства и поступающих так, как они привыкли.
— Воровство остается всегда воровством, мосье, — ответил дю Гарр. Он наконец опустил свою трость, которую все время держал высоко поднятой. — Эти дикари — разбойники и дармоеды!
— Еще Цицерон говорил, — ответил Коммерсон, — что чем человек честнее, тем меньше подозревает он других в нечестности. Это не мешало бы вам запомнить, шевалье.
Дю Гарр пробормотал что-то о людях, недостойных в его глазах никакого уважения, и, повернувшись к Коммерсону спиной, отошел к группе офицеров.
Бугенвилю приходилось решать множество сложных и простых вопросов. Любое его приказание должно было быть для спутников единственно правильным и не подлежащим обсуждению. Нельзя долго размышлять и колебаться, когда обстоятельства вынуждают взвешивать все быстро и точно. Бугенвиль не раз признавался себе, что его тяготят обязанности начальника экспедиции. Ученый по складу ума, образованию и убеждениям, он вынужден был отдавать массу времени разбору мелких конфликтов, хозяйственным нуждам, заботам о вверенных ему людях. Только иногда удавалось найти несколько свободных минут, чтобы сделать зарисовки, занести в свой дневник важнейшие события дня, провести астрономические наблюдения вместе с Верроном и шевалье де Бушажем.
И часы, отдаваемые им дневнику, были священными и для него и для всех участников плавания. Спутники Бугенвиля знали, что между второй и третьей вахтами он занят, и никто в это время не решался обращаться к начальнику экспедиции даже с самыми неотложными делами.
…Скрипит гусиное перо. Аккуратные строчки ложатся на бумагу. Бугенвиль посыпал исписанную страницу песком и начал новую. Капитанский час!
Вдруг дверь тихонько приотворилась, и две тени проскользнули в каюту. Бугенвиль поднял голову. Кто это?
Две молодые таитянки без тени смущения смотрели на него, улыбаясь. Помедлив минуту, Бугенвиль сказал:
— Иа ора на — привет вам.
— Иа ора на, Путавери, — ответили девушки очень бойко.
Они быстро двигались по каюте. Одна из них, заливаясь звонким смехом, надела на голову треуголку капитана и никак не хотела с ней расстаться. Другая завладела чернильницей и пролила почти все содержимое на стол. Бугенвиль подарил обеим по маленькому зеркальцу и пытался объяснить, что очень занят. Но таитянок не так просто было заставить покинуть каюту. Они обвили капитана руками за шею и делали вид, что хотят его поцеловать. Все это сопровождалось милыми и смешными ужимками. Наконец Бугенвилю удалось проводить непрошеных посетительниц на палубу, откуда они быстро спустились в пирогу, управляемую стариком с большой белой бородой.
Такую бороду у таитян Бугенвиль видел впервые. Спустившись к себе, он подумал о том, что здесь это — большая редкость, и хотел было опять приняться за работу, как вдруг обнаружил пропажу нескольких вещей: исчезли песочные часы, шпага и его любимая большая подзорная труба. Он выбежал на палубу. Пирога с девушками уже была далеко. Бугенвиль крикнул в шлюпку, ошвартовавшуюся у борта фрегата:
— Догоните девушек, верните их!
В шлюпке находился де Бурнан. Он отдал команду матросам, и те быстро помчались за пирогой. Но догнать ее было уже невозможно. Она подходила к берегу, вот-вот ткнется носом в белый прибрежный коралловый песок, таитяшки выскочат из пироги и стремительно, как умеют бегать жители тихоокеанских островов, ринутся под защиту родного леса…
Видя тщетность попыток догнать пирогу, де Бурнан приказал гребцам остановиться и, сорвав с головы шляпу, закричал: «Эй! Там! На пироге! Стойте!» Он замахал шляпой, описывая круги, ни минуты не сомневаясь, что островитяне, раз они чувствуют за собой вину, конечно, и не подумают остановиться. Они бросятся наутек.
— Напрасно вы, мосье, кричите им, — сказал один из матросов. — Эти дикари только и думают о том, как бы удрать в лес со своей добычей.
— Однако, смотрите, они останавливаются и машут нам! — сказал де Бурнан. — Вы плохого мнения о других народах, Лежен.
Да, действительно, вопреки предположениям французов, пирога, почти уже достигшая берега, вдруг остановилась и стала терпеливо дожидаться шлюпки
с «Будёза». И когда де Бурнан растолковал таитянкам, в чем дело, они с величайшей охотой, даже как будто радостно отдали все унесенные ими вещи и вдобавок подарили несколько связок бананов, лежавших в пироге. Затем они, приветливо улыбнувшись, продолжали свой путь.
Но случаи похищения вещей не прекратились. Наоборот, это послужило как бы сигналом. У моряков стали пропадать предметы одежды, шейные платки, пояса, пистолеты, сабли и шпаги. Постельное белье в лазарете, устроенном Бугенвилем на берегу, почти все пропало в первую же ночь.
Нужно было принимать какие-то меры. Особенно горячился шевалье дю Гарр:
— Надо перестрелять всех негодяев, воров! — кричал он в кают-компании, — а то эти туземцы в один прекрасный момент украдут у нас оба корабля, и нам не на чем будет продолжать путешествие!
Несколько человек засмеялись.
Не смеялся Вивэ; хирург одобрительно кивал шевалье.
— Вы правы, — воскликнул он. — Эти дикари сами не знают, что творят. Их не коснулось дыхание цивилизации. Подумайте, у них нет никакой религии. Нельзя же считать ею поклонение какому-то божку Таароа. Ну хотя бы они были идолопоклонниками. Это я понимаю. Но так нет же!
И Вивэ принялся рассказывать о том, как он с группой матросов с «Этуали» забрел в одно из капищ, называемом обитателями Новой Киферы мараем. Там было множество изображений уродцев, похожих, по словам Вивэ, на человеческие зародыши. Он, Вивэ, принял, естественно, эти изображения за идолов, которым поклонялись таитяне, тем более, что и на пирогах и в домах он видел такие же изображения.
Чтобы показать, что французы это понимают, Вивэ несколько раз с особо значительным видом поклонился деревянным человечкам.
Случившиеся поблизости таитяне принялись громко и необычайно весело, с какой-то особой, свойственной только им непосредственностью хохотать.
Видя на лицах французов недоумение, таитяне побросали на землю изображения всех «идолов» и принялись топтать их ногами. И как ни странно, выражение беззаботности не исчезло с их лиц.
— Не удивительно, — заключил свою тираду Вивэ, — что у этих дикарей, не сдерживаемых ни религиозными, ни моральными соображениями, царствуют самые отвратительные пороки: разврат, воровство… Что же еще? Конечно, корень всех пороков — это безделье. Природа щедра к жителям Океании. Ведь им не приходится затрачивать никакого труда, чтобы добыть средства пропитания, а заботы об одежде, сами видите, сводятся к тому, чтобы изготовить кусок полотна.
— Вы ошибаетесь, — раздался за спиной Вивэ спокойный голос.
Хирург обернулся и увидел Бугенвиля.
— Вы ошибаетесь, — повторил капитан. — У этих туземцев нет многих пороков, известных нашему обществу. Им не известно ни пьянство, ни курение; последнее распространено, например, у канадских индейцев. Вы сами могли убедиться, что островитяне занимаются земледелием, различными ремеслами, рыбной ловлей. Что же касается разврата, как выразились вы, уважаемый доктор, то естественность побуждений заставила их избрать своим верховным божеством Венеру, и, по-моему, они не ошиблись в выборе, черт возьми!..
Смягчив свои слова шуткой, Бугенвиль улыбнулся, но потом, вспомнив что-то, опять сурово сдвинул брови:
— Конечно, у нас пропадает многое, и придется поставить возле лагеря караул. — Он повернулся к дю Гарру. — И вы, шевалье, назначаетесь начальником караула. Предупреждаю вас, что я запрещаю пускать в ход огнестрельное оружие.
Заметив какой-то недобрый огонек в глазах дю Гарра, Бугенвиль прибавил:
— Итак, мосье, я вас предупредил.
Он обернулся к поджидавшему его де Бурнану.
— Что ж, шевалье, вы неплохо выполнили свою миссию с этими наядами. А ведь очень хороши! — Бугенвиль снова представил себе всю сцену похищения его вещей, — и действительно, более ловких плутовок, чем эти, не сыщешь во всей Европе… Между тем не похоже, чтобы воровство было обычным явлением у жителей Киферы… В их домах никогда ничего не только не запирается, но ничего и не прячется. Все, даже самые ценные вещи, лежат на виду. Я нигде не видел ни сторожей, ни запоров. Вы ведь тоже ничего этого ие заметили, шевалье?
Де Бурнан отрицательно покачал головой.
— Ну вот, видите! Какие же это воры? Вероятно, любопытство, возбуждаемое невиданными доселе предметами, вызывает у них желание обладать ими.
Бугенвиль взял под руку де Бурнана и поднялся с ним на палубу фрегата. Они молча прошли на шканцы и остановились у фальшборта, следя за тем, как последние лучи солнца гаснут в океане.
— Хотели бы вы здесь остаться, шевалье? — вдруг спросил Бугенвиль, круто повернувшись к офицеру.
— Остаться на «Этуали», в то время как вы…
— Нет, нет, вы не поняли меня, — прервал его Бугенвиль.
— Остаться здесь навсегда, никогда не возвращаться более в Европу и жить здесь, на этом острове?
Де Бурнан растерянно смотрел на своего капитана. Он никак не ожидал такого вопроса.
— А мне, — продолжал Бугенвиль, — такая мысль часто приходит в голову. Знаете, шевалье, мне иногда кажется, что я родился и вырос среди этого народа…
Живописная бухта, где бросили якоря оба корабля, была очень удобной для стоянки. Погода стояла почти безветренная, лишь легкие облачка иногда набегали на солнце. Но капитанов очень тревожило, что дно бухты было сплошь усеяно крупными кораллами, о которые могли быстро перетереться якорные канаты. Их осматривали каждый день. И Дюкло-Гийо, и Шенар де ля Жиродэ очень хорошо понимали, что, если канаты оборвутся при сильном ветре со стороны моря, суда выбросит на берег.
Вскоре моряки убедились, что их опасения не были напрасными. Через несколько дней подул восточный ветер, налетавший сначала легкими порывами, а потом все более и более усиливавшийся. Через полчаса он гнал уже крупную волну. Якорные канаты фрегата натянулись, как струны, и вдруг судно оказалось на свободе. Немедленно отдали запасной якорь, но не успел он зацепиться за грунт, как фрегат бросило в сторону транспорта «Этуаль». Находчивость и смелые действия моряков спасли суда от аварии. Но восточный ветер все продолжал дуть, и за одну ночь оба судна потеряли четыре якоря.
Все маневры кораблей вблизи берега были очень опасными, и моряки не смыкали глаз. Надо было найти северный проход в коралловом барьере, окружавшем остров. Бугенвиль послал шлюпку под командованием шевалье де Бурнана на разведку. Если бы такой проход был найден, то при любом направлении ветра корабли могли без больших затруднений выйти в открытый океан.
Бугенвиль приказал спустить несколько шлюпок, чтобы отыскать и поднять потерянные якоря. Как он сейчас жалел о том, что не захватил в Нанте якорные цепи!
В течение нескольких суток начальник экспедиции почти не спал. Он был то на борту фрегата, то переходил на «Этуаль», чтобы посоветоваться с капитаном и действовать с максимальной осторожностью.
На берегу все было спокойно и тихо, но на море каждая ночь проходила в беспрерывной тревоге. Моряки все время поглядывали на небо и следили за направлением ветра: как только он начинал дуть с востока, положение сразу становилось опасным.
За судьбу лагеря, разбитого на острове, Бугенвиль совершенно не беспокоился. Дружелюбный, приветливый народ, прекрасная природа. Нет ни диких хищных животных, ни вредных насекомых, даже мух. Змеи совершенно неизвестны обитателям острова, лишь юркие зеленые ящерицы снуют в траве и россыпях камней.
Но когда однажды от берега отвалила шлюпка и гребцы, торопливо работая веслами, изо всех сил погнали ее к фрегату, Бугенвиль ощутил какое-то смутное волнение. Он с нетерпением следил за боцманом Пишо, который поспешно карабкался по бортовому трапу. Наконец боцман очутился на палубе и, подойдя к Бугенвилю, доложил срывающимся голосом:
— Мосье капитан, шевалье дю Гарр приказал уничтожать туземцев. Несколько человек убиты, многие ранены. Старики, женщины, дети бегут в горы, уносят свой скарб и даже трупы убитых…
Бугенвиль слушал, бледнея.
— Что, что ты говоришь?! Ты не пьян?! — Он схватил боцмана за плечо и сильно тряхнул его. — Отвечай!
— Нет, нет, мосье капитан. Клянусь пресвятой девой Марией!.. Что же теперь будет-то! Таких добрых люден!.. Они нас так встретили!.. — боцман часто-часто заморгал.
Бугенвиль быстро сбежал по трапу.
— Немедленно шлюпку! — крикнул он.
Получив приказ охранять лагерь, дю Гарр обрадовался. Теперь он, черт побери, не будет нянчиться с этими туземцами. Не вмешайся плюгавый Коммерсон, он примерно наказал бы всех воришек, чтобы им впредь неповадно было растаскивать имущество, принадлежащее французской короне. В первую же ночь он отдал распоряжение стрелять во всякого, кто приблизится к лагерю на расстояние двух десятков шагов.
— Но капитан Бугенвиль запретил применять огнестрельное оружие, — возразил боцман Пишо.
Глаза дю Гарра гневно сверкнули:
— Молчать, Пишо! Мы и не нарушим приказа. И если островитяне попытаются проникнуть в лагерь, применим штыки. Это даже более действенно!
Ночью подул сильный ветер, от которого так пострадали якорные канаты кораблей. Он свистел меж стволов тонких пальм. Их гигантские тени колебались на белой парусине палаток. Дым пахучих костров стлался по земле и заползал в палатки. Шевалье ходил по всему лагерю, то и дело проверяя, как несут службу расставленные им часовые. Островитяне, как всегда, толпились невдалеке, но не осмеливались приближаться, как прежде. Видимо, они догадывались о недобрых намерениях французского офицера.
Мало-помалу толпа рассеялась: все разбрелись по своим хижинам.
Ветер стих, и в предрассветных сумерках четче обозначались купы деревьев, белый прибрежный песок. Дремотное состояние охватило всех. Но дю Гарр не спал. Он трижды за час обходил все посты. Нет, его не проведешь. Он-то слишком хорошо знает, что именно в эти ранние предутренние часы имущество его величества подвергается наибольшей опасности. Но на то он и караульный начальник. чтобы помешать замыслам дикарей.
Он подошел к матросу Лабардье.
— У тебя, я слышал, украли дорогую трубку? Не горюй, мы накажем этот воровской народец! Ты, Лабардье, ведь неплохо охотишься?
Матрос кивнул головой. Но не говорить же, что он браконьерствовал в лесах герцога Дегийона!
— Я, мосье, был егерем у одной важной особы…
— Тогда учить тебя нечему, сам все понимаешь.
У палаток замелькали легкие тени. Дю Гарр шепнул:
— Вот они, Лабардье, заходи с тыла, а я проберусь между палатками.
Шевалье рысцой обежал лагерь, но никого не встретил. Он уже хотел было возвращаться к костру, но тут из-за дерева показалась голова таитянина, осторожно осматривавшего лагерь.
Дю Гарр громко свистнул. Таитянин вздрогнул и быстро побежал в сторону. Дю Гарр бросился ему наперерез.
— Ко мне, Лабардье! — закричал он.
Таитянин остановился. Он, видимо, не понимал, что происходит. И в этот момент бесшумно подкравшийся Лабардье вонзил ему между лопатками широкое лезвие штыка.
Громкий крик огласил побережье. И тотчас же из лесу донеслись странные звуки.
— Что там? — тревожно расспрашивали друг друга французы и, подгоняемые дю Гарром, бросились с примк-нутыми штыками на группу таитян, стоявших поодаль.
— Коли их, коли! — неистово орал шевалье.
Он услышал стон, доносившийся из-за ближайшей палатки. Там лежал таитянин, проткнутый штыком Лабардье. Дю Гарр бросился к нему и выстрелил из пистолета в голову раненого.

Глава VII
Снова лишения, снова открытия
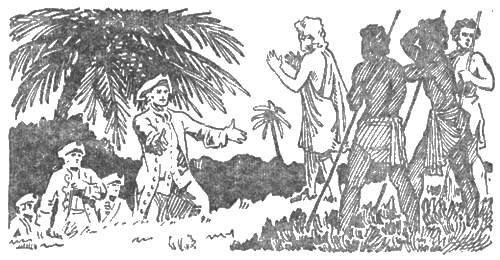
Мы получили неоспоримые доказательства того, что обитатели островов Тихого океана общаются между собой даже на значительных расстояниях,
Бугенвиль
Казалось, на побережье ничего не изменилось. Все так же гостеприимно манило оно буйной зеленью, все так же мерно покачивались громадные кокосовые пальмы, все так же высоко над головой голубел купол безоблачного неба.
На тех же местах оставались длинные черные пироги и хижины — низкие, овальной формы, сделанные из тонких веток латании и удивительно гармонировавшие с пейзажем острова.
Но нигде — ни у хижин, ни возле пирог, ни в прибрежной роще — не было стройных фигур таитян.
В шлюпке вместе с Бугенвилем находились принц Нассау, шевалье де Бурнан и де Бушаж.
Все были в каком-то лихорадочно возбужденном состоянии.
— Их нигде не видно, мосье, — сказал принц, тщательно осматривая в подзорную трубу каждую тропинку, ведущую в горы. — Уж не готовятся ли они к войне против нас?
— Необходимо принять самые решительные меры, чтобы такая война не вспыхнула, — ответил Бугенвиль. — К сожалению, у островитян есть все основания не доверять более нам.
Бугенвиль был мрачен и молчалив. Ясно, что достигнутую с такой легкостью дружбу полинезийцев теперь не так-то просто будет восстановить. Возникают иногда такие положения, потрясающий смысл которых трудно выразить обычными словами. Бугенвиль сейчас совсем в другом свете воспринимал окружающую природу. Каждое дерево, куст, гора — насторожились. Чайки, жалобно крича, носились над самой головой.
— Туземцы верят, что после смерти души их сородичей превращаются в чаек. Не потому ли птицы так жалобно кричат сегодня, что среди них есть и убитые вчера люди? — спросил де Бурнан.
Бугенвиль ничего не ответил. Под обветренной кожей на скулах задвигались желваки. Де Бурнан плотнее надвинул на голову треуголку, а де Бушаж поправил шпагу.
Принц опустил подзорную трубу.
— Наш век — век человечности, — сказал он. — Конечно, сюда придут и другие европейцы. Но я надеюсь, что они познакомятся с туземцами только для того, чтобы преподать им истину и сделать их добродетельными, а значит, и счастливыми.
— Ваше суждение, принц, требует уточнения, — возразил Бугенвиль. — Мы действительно преподали туземцам истину. Но истина эта весьма печальна: не верьте посулам чужеземцев, бойтесь данайцев, дары приносящих, у них медоточивые языки и черные сердца…
Дно шлюпки зашуршало о прибрежный песок. Бугенвиль выпрыгнул из нее первым. Навстречу ему, придерживая шпагу, спешил шевалье дю Гарр, начальник караула. Всем своим видом шевалье показывал, что он примерный служака и честно исполнил свой долг. Остановившись в двух шагах от капитана, дю Гарр салютовал ему шпагой и, набрав в грудь воздуху, приготовился рапортовать.
— Не трудитесь, шевалье, — холодно сказал Бугенвиль, — я уже знаю все. Вы поставили нас перед необходимостью быть готовыми отразить нападение островитян. Вы поссорили нас с благородным, миролюбивым народом. Вы пролили кровь обитателей Новой Киферы. Именем короля я вас арестовываю.
— Мосье, я протестую…
— Замолчите, шевалье, — гневно крикнул Бугенвиль, — я не хочу и не могу более разговаривать с вами. Отдайте шпагу!
Дю Гарр хотел что-то сказать, но перед ним выросли де Бурнан и де Бушаж. Принц отстегнул у него шпагу.
Дю Гарра провели в палатку, которую занимал караул, и поставили вооруженных часовых. Были арестованы и три матроса, участвовавшие в убийстве.
Бугенвиль собрал короткий совет. Решили послать в глубь страны небольшой вооруженный отряд во главе с принцем Нассау. Принц должен был найти таитян и уговорить их вернуться на побережье.
Моряки стали подниматься в горы. Вокруг все цвело и благоухало. Каждый листок, пронизанный солнечными лучами, казалось, воплощал собой торжество живой природы. Но моряки ничего не замечали вокруг себя. Мелкие камешки, потревоженные тяжелыми морскими сапогами, с громким стуком скатывались вниз. Нигде не было ни души.
Наконец, после долгих блужданий, французы заметили большую группу во главе с вождем Эрети. Островитяне насторожились. Но принц демонстративно бросил на землю ружье, отцепил шпагу и, протянув вперед руки, пошел навстречу туземцам. Узнав принца, Эрети приблизился со скорбным видом. За ним к морякам боязливо подошли мужчины, а потом женщины, некоторые с грудными детьми на руках. Младенцы широко раскрытыми глазами смотрели на сверкающие пуговицы солдатских мундиров. Некоторые таитянки бросились, заливаясь слезами, на колени и повторяли: «тайо матэ», «тайо матэ» — «вы наши друзья, и вы нас убиваете!».
Де Бурнан, де Бушаж и д’Орезон стояли с опущенными головами, матросы сжимали в руках бесполезные сейчас ружья.
— Аибоу — приходите, — сказал принц и махнул рукой в сторону побережья.
— Иа оре на ое, — проговорил Эрети, — е меа роа те мауиуи но тау фафату — горе мое велико в моем сердце.
Принц выразительными жестами и немногими таитянскими словами, которые знал, дал понять, что происшедшее накануне никогда более не повторится, что вождь французов Путавери очень опечален и хочет сделать таитянам богатые подарки, чтобы прекратить возникшую было вражду. Но Эрети долго не соглашался привести своих соплеменников на побережье. Нассау уже хотел возвращаться, чтобы, посоветовавшись с Бугенвилем, решить, что делать дальше. Увидев, что принц собирается уходить, Эрети сказал несколько слов таитянам, и их отношение к морякам как-то сразу изменилось. Женщины надели на головы моряков венки, и островитяне вместе с французами стали спускаться с гор. Впереди шли принц и вождь Эрети, за ним, обнявшись, таитянки с моряками. Трудно было даже представить себе, что эти улыбающиеся люди только что предавались безутешному горю.
Вскоре счастливый смех зазвенел у того самого места, где пролилась кровь невинных людей.
— Какой счастливый и беспечный народ. Подобно детям, они легко переходят от горести к веселью, — сказал д'Орезон. — Как они легкомысленно относятся к жизни.
— Такое впечатление складывается, вероятно, потому, — отозвался де Бурнан, — что мы мало знаем таитян, их нравы значительно отличаются от европейских.
Бугенвиль, вернувшийся было на фрегат ввиду угрожавшей кораблям опасности, сразу съехал на берег, как только увидел, что таитяне пришли в свое селение. Он взял с собой в шлюпку куски разноцветных шелковых тканей, топоры, пилы, лопаты, ножи, кирки и другой инструмент,
семена ржи, пшеницы, ячменя, конопли, огурцов, редиса, салата, спаржи.
Сначала Бугенвиль, разложив все это на земле, подошел к Эрети.
— Я очень сожалею, — сказал он, — что мои люди стали виновниками гибели нескольких жителей этого прекрасного острова, но убийцы будут сурово наказаны.
Эрети, казалось, понял, о чем говорил капитан. Он махнул рукой, как бы давая сигнал начать пение и танцы.
Шелковая ткань вызвала у таитян неподдельный восторг. Бугенвиль подозвал мужчин и показал, как нужно пользоваться лопатами, мотыгами, топорами. Он попросил Эрети выделить небольшой участок земли, свободной от деревьев. Матросы сняли дерн, вскопали почву лопатами и посеяли привезенные Бугенвилем семена. Начальник экспедиции объяснил, как ухаживать за всходами, собрать урожай и из полученных зерен сделать муку. Бугенвиль дал таитянам попробовать хлеба и сухарей и объяснил, что это блюдо приготовлено из таких же вот зерен.
Затем на глазах огромной толпы местных жителей и моряков обоих кораблей из палатки вывели шевалье дю Гарра и трех матросов, участвовавших в убийстве мирных жителей. Бугенвиль приказал заковать убийц в кандалы и объяснил островитянам, что так на его родине Эноуа Парис — стране Парижа — поступают со всеми преступниками.
Один из таитян, высокий и стройный юноша в легком одеянии — парео, подошел к Бугенвилю, показал на длинные стволы ружей и мушкетов и попросил выстрелить из них, чтобы убедиться в силе этого оружия. Таитяне поймали несколько свиней, бродивших в роще, и привязали их к деревьям в сотне шагов от лагеря. Принц Нассау — лучший стрелок — и несколько матросов прицелились В животных и выстрелили. Все пули попали в цель. Животные упали замертво. Одна раненая свинья, оглушительно визжа, металась на привязи. Тогда грянул целый залп. Свинья тут же ткнулась рылом в землю. Это вызвало всеобщий крик удивления. Но через несколько минут таитяне, с интересом рассматривавшие страшные орудия, изрыгавшие смерть, забыли о них и занялись своими обычными делами.
В этот день меновая торговля шла очень оживленно. Таитяне приносили к кораблям десятки свиней и сотни кур — маленьких, покрытых пестрыми перьями. Шлюпки отвозили на суда целые горы бананов и кокосовых орехов.
Вечером Эрети пригласил Бугенвиля и нескольких офицеров на ночной лов рыбы. Пироги спустили в спокойную, защищенную со всех сторон бухту. Зажгли факелы. Таитяне, стоя на носу с длинными копьями, мгновенно протыкали насквозь всплывавшую на свет рыбу. Это они делали очень искусно. Никто из французов не смог ударить копьем хотя бы приблизительно так, как это делали туземцы.
На следующий день почти все приготовления к отплытию были закончены. Больные чувствовали себя значительно лучше, продовольствие, свежая вода и лес были погружены на корабли. Ветер был благоприятным, и на судах начали ставить паруса.
Как только Эрети заметил это, он сел в пирогу и подплыл к фрегату. Поднявшись на палубу, он обнял Бугенвиля, принца, Бурнана и Коммерсона и просил не отплывать так скоро, ведь еще не прошло условленных восемнадцати дней. Вождь беспрестанно показывал то девять, то восемнадцать камешков и просил остаться на такой же срок.
Бугенвиль пытался объяснить, что с радостью пробыл бы на острове еще некоторое время, но потеря шести якорей и ненадежность стоянки в бухте заставляют его покинуть Отаити.
От берега отделилась большая пирога, в которой среди женщин был таитянин, попросивший накануне пострелять из ружей.
— Аотуру, — указывая на него, сказал Эрети. — Его зовут Аотуру.
Когда юноша поднялся на борт, он обратился с новой, на этот раз очень удивившей Бугенвиля просьбой — взять его в неведомую Эноуа Парис, страну Парижа.
Он ударил себя в грудь и сказал:
— Путавери. — Потом, показав пальцем на Бугенвиля, произнес — Аотуру. — Так совершился обмен именами, принятый между друзьями на Таити.
Эрети хлопнул его по спине, подошел к Бугенвилю и тоже похлопал по плечу. Этим он дал понять, что поручает юношу таитянина заботам начальника экспедиции.
Пирога Эрети заполнилась подарками, которые ему преподнесли на фрегате. Наконец он, кряхтя, стал спускаться в нее. Но тут на палубу быстро вскарабкалась хорошенькая молодая таитянка. Она подошла к Аотуру и взяла его за обе руки, заглядывая в глаза. Аотуру обнял и поцеловал девушку, вынул из ушей три маленькие жемчужины и положил ей в руку. Она крепко зажала их в маленьком твердом кулачке и залилась слезами. Глаза Аотуру тоже покраснели, но он отошел от девушки с холодным и твердым выражением, не оставлявшим сомнений в его решимости покинуть родные берега и пуститься с чужеземцами в неведомую даль.
Девушка медленно спустилась по трапу в пирогу, которая наконец отвалила от борта фрегата. Глядя, как она удаляется, Бугенвиль задумчиво процитировал Вергилия:
Нет нам особых домов, мы в лесах обитаем тенистых,
Ложницы по берегам и по рекам зеленые нивы
Мы населяем. Но вы, если есть в сердце желанье,
Сей найдете хребет, я по легкой тропе вас направлю…
Ветер свежел. Вершины гор окутались черными грозовыми облаками, похожими на клубы дыма. Тучи сползали все ниже и ниже, и наконец хлынули потоки тропического ливня. Густая сетка дождя отделила моряков от Новой Киферы.
Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Быстро стемнело. Лишь по белой полосе бурунов угадывалась в густом мраке линия побережья. На острове не светилось ни одного огонька.
Но Аотуру с палубы фрегата хорошо различал родные места. Он ни за что не хотел спуститься в каюту, которую теперь разделял с астрономом Верроном. Юноша решительно отказался и от европейской одежды. Несмотря на грозные протесты возмущенного отца Лавесса, он обедал и ужинал в кают-компании в одной набедренной повязке. Аотуру бродил по палубе всю ночь, ни на минуту не сомкнув глаз.
Прощался ли он с родиной или просто не привык ночевать в тесном помещении среди незнакомых, непонятных ему вещей?
Утром подул ветер, разогнавший тучи. Матросы «Будёза» выбрали якоря. Фрегат под фоком и двумя марселями вышел в открытое море через проход в рифах, открытый шевалье де Бурнаном три дня назад.
Не прошел корабль и нескольких кабельтовых, как ветер совершенно стих, паруса беспомощно повисли. Сильное приливное течение и крупная океанская зыбь погнали фрегат прямо на коралловые рифы, где пенились и крутились водовороты.
«Еще полчаса — и корабль разобьет в щепы, — подумал Бугенвиль. — А спастись здесь, у отвесных скалистых берегов, вряд ли кому удастся».
Никакие парусные маневры Дюкло-Гийо не помогали, корабль приближался к рифам.
Бугенвиль решил, что если через двадцать минут не подует ветер, он распорядится спустить на воду спасательные шлюпки.
Аотуру в большом волнении ходил по палубе. Он прекрасно понимал, что кораблям грозит гибель. Юноша отчаянно жестикулировал, показывая то на небо, то на воду, подбегал к Бугенвилю и Дюкло-Гийо и быстро-быстро говорил им о чем-то.
До рифов оставалось не больше пятнадцати саженей.
— Спустить шлюпки! — приказал Бугенвиль.
Но Аотуру вдруг радостно улыбнулся, схватил его за рукав камзола и показал на берег. Верхушки огромных кокосовых пальм, растущих у самой воды, наклонились в сторону моря. Вскоре все почувствовали вначале легкий, а затем все более упругий ветер, дувший с запада. В один миг матросы были на мачтах. Корабль, как живое существо, проснувшееся от спячки, вздрогнул всем корпусом и повернул в сторону моря.
Через несколько часов остров Новая Кифера, или, как его называли местные жители, Отаити, совершенно скрылся из глаз. Вокруг, как и две недели назад, расстилалась безбрежная ширь океана, неторопливо катящего свои пологие волны. Пассат гнал корабли все дальше на запад. Но обитатели прекрасного острова, его природа продолжали оставаться главной темой разговоров.
Естественно, что внимание всех было приковано к таитянину Аотуру, который, казалось, не испытывает никакого огорчения, что покинул свою страну.
Очень подвижный, он облазил весь фрегат от бушприта до гакаборта, от палубы до марсов и поразительно быстро усвоил назначение многих снастей и приспособлений. Аотуру охотно вступал в разговор с каждым. Беседа не была затруднительной ни для одной из сторон. Французы объяснялись с помощью тех немногих таитянских слов, которые они успели выучить на острове. Аотуру же обладал такой выразительной мимикой и жестикуляцией, что мог выразить этими средствами даже сложную мысль.
И Коммерсон, и Бугенвиль, и принц, и даже Вивэ расспрашивали его о жизни на острове: обычаях, преданиях, подробностях быта. Таитянин часто заходил в каюту Коммерсона, и ученый, как мог, объяснял ему, зачем понадобилось собирать так много самых разных растений.
Чаще всего Аотуру стоял на баке. Часами всматривался он в горизонт, будто ожидая увидеть знакомые места. И когда показалась трехглавая вершина какого-то острова, который открылся с моря на расстоянии около десяти-двенадцати миль, Аотуру запрыгал на одной ноге и громко закричал, указывая на него: «Умаитиа!». Он поднял руки вверх, сжал их и несколько раз с силой потряс ими. Этот жест был понятен всем народам на земле. Аотуру не потребовалось больше объяснять, что на острове живет дружелюбный народ и что если французы высадятся там, им будет оказан такой же теплый прием, как и на Новой Кифере.
Но Бугенвиль решил не приставать к острову, памятуя о бедствиях адмирала Роггевена в этих водах, и проложил курс так, чтобы избежать встречи с низменными островами, описанными адмиралом.
Когда же на безоблачном небе вспыхнули звезды южного полушария, Аотуру показал Бугенвилю яркую точку в созвездии Ориона и сказал, что если держать на нее курс, то через два дня корабли пристанут к большой земле, где много кокосовых орехов, бананов, кур, свиней. Он опять сжал руки над головой и показал на пальцах, что у него там множество друзей. Бугенвиль пытался объяснить ему, что корабли не могут менять курса. Тогда Аотуру бросился к штурвалу, с управлением которого уже ознакомился, оттолкнул рулевого и повернул штурвал так, чтобы корабль шел на эту яркую звезду. Аотуру с трудом оторвали от штурвала и увели на бак. Тогда он лег ничком на палубу и не хотел ни с кем разговаривать. Боцман Пишо, успевший подружиться с таитянином, подошел к нему и, мягко взяв за плечи, поставил на ноги, повторяя: «Не огорчайся, мой друг».
Вскоре Аотуру успокоился и с большой охотой стал называть звезды, на которые ему указывали. Звездная карта неба оказалась для него столь же хорошо знакомой, как и рощи родного острова. Аотуру увлекся и, когда наконец спустился в каюту, дал понять Веррону, что на Луне, Солнце и известных ему планетах обитают живые существа. Когда Бугенвиль узнал об этом, он воскликнул:
— Кто же осмеливается говорить о невежественности язычников? Какой Фонтенель разъяснил им множественность миров? Их познания в астрономии удивительны. Не это ли лучшее доказательство того, что островитяне — непревзойденные моряки?
— Да, мосье, — отозвался Веррон. — У них есть, наверное, свой знаменитый астроном, свой Фонтенель. Этот народ, несомненно, еще задолго до нашего появления заселил крошечные клочки суши в самом сердце океана. Но как это стало возможным? Ведь мы не видели у островитян никаких судов, кроме небольших пирог!
Над этим же часто размышлял и Коммерсон, занося в свой дневник все подробности увиденного им на Новой Кифере.
«Я хочу набросать легкий эскиз этого счастливого острова, который кажется мне наилучшим из всех встреченных нами… — писал ученый. — В первый же день, когда я ступил на остров, я назвал его Утопией, как великий мыслитель Томас Мор назвал свою идеальную республику
[6]. Я еще не знал, что мосье Бугенвиль обозначил остров Новой Киферой. А Эрети сказал нам, что остров называется Отаити. Это единственное место на земле, где живут люди без недостатка в чем-либо, без многих пороков, известных европейцам, без распрей, междоусобиц…»
Коммерсон обвел глазами груды папок с еще не разобранными растениями, которые он собрал на Новой Кифере. Он вспомнил банановые рощи, стройные кокосовые пальмы, величественные горы. Ученый опять взялся за перо. Ровные строки быстро покрывали длинные, узкие полоски бумаги. Мысли бежали одна за другой. Коммерсон писал все быстрее, так что брызги чернил летели из-под пера:
«Рожденные под прекрасным небом, питаемые плодами земли, которые не нужно выращивать, управляемые более отцами семейств, чем королями, они не знают другого бога, кроме любви. Все дни посвящены ей. Весь остров ее храм. Все женщины — ее алтари, все мужчины — ее жрецы.
Там нет ни стыда, ни других условностей нашего несовершенного общества. Какой-нибудь критик, может быть, увидит в этом распущенность нравов, бесстыднейший цинизм, чуть ли не проституцию, но он грубейшим образом ошибется. Надо знать образ жизни первобытного человека, рожденного, по существу, свободным, чуждым каких бы то ни было предубеждений.
Язык их очень звучен, гармоничен, состоит почти из четырех тысяч слов, не спрягающихся и не склоняющихся, то есть без всякого синтаксиса. Интонация, мимика островитян так выразительны, что надежно предохраняют от фразеологии, которую у нас называют богатством языка и которая заставляет нас теряться в лабиринте слов.
Таитянин произносит каждое слово соответствующим тоном, и из этого все понятно. Душевные переживания, порывы сердца передаются движениями губ. Тот, кто говорит, и тот, кто слушает, всегда в контакте.
Неправы те, кто говорит об «орде грубых дикарей». Все у них отмечено умом. Их пироги замечательны и легко управляются. Хижины изящной формы, очень удобны, красиво украшены.
Их отношение к нам было просто замечательным, несмотря на то, что мы принесли им столько вреда. Все возбуждало их любопытство. Они просили рассказать о каждом блюде, которым их угощали. Если овощи им казались вкусными, они просили семян и осведомлялись, как их сеять, за сколько дней они взойдут. Хлеб им показался очень вкусным. Мосье Бугенвиль показал им зерна, муку и объяснил, как выпекают хлеб. Все подобные процессы они легко схватывали в деталях с полуслова».
Коммерсон перечитал написанное. Что ж, все верно, все так, как он видел своими глазами. Но можно ли было за десять дней узнать все детали жизни Утопии, встреченной посреди океана? Конечно нет! Коммерсон видел, что не все на острове обладают одинаковым имуществом, да и не все трудятся.
Он очень мало может сказать об имущественном неравенстве островитян. Ведь он пробыл на острове всего полторы недели, да и то большую часть времени — в лесу, горах, вдали от селений.
Теперь, когда Бугенвиль точно обозначил координаты острова — видимо, все-таки Кирос первый открыл его, — к нему устремятся корабли европейцев. Но будет ли лучше от этого островитянам? Отец Лавесс разглагольствует о том, что надо обратить язычников в христиан, принудить их отказаться от своих ужасных нравов и заставить работать на пользу католической церкви. Он требует, чтобы Аотуру уже сейчас крестили, и, если понадобится, даже насильно.
Теперь Коммерсон видел не только цветущую страну. Трость, поднятая дю Гарром на таитянина, отбросила гигантскую черную тень. Крики и стоны раненых и умирающих, обагренные кровью штыки…
Коммерсон встряхнул головой, отгоняя страшное видение. Пусть знают все, что такое «цивилизация», которую несут на острие штыка европейцы.
Разве дю Гарр, арестованный Бугенвилем, одинок? Коммерсон прекрасно знал, что и некоторые другие офицеры фрегата поступили бы так же, как подлый шевалье. Филибер взял перо и опять принялся писать:
«Как можно не снять с островитян обвинения в воровстве? Это правда, что они унесли у нас много вещей, но заслуживают ли они из-за этого имени воров?! Мы думаем, что право собственности священно. Но существует ли оно в природе? Нет, это чистая условность. Но никакая условность ни к чему не обязывает, если она не известна людям или с ней не согласились.
А таитяне, которые сами предлагали и великодушно отдавали французам все, что им было желанно, и не думали об этом исключительном праве. Островитяне брали гвоздь, или стакан, или бисквит, чтобы отдать эти вещи первому, кого встретят. Взамен же они приносили кур, бананы, свиней. Я верю в чистую душу таитян.
Такова ли душа некоторых наших моряков, на которую Жан Жак Руссо ставит рассудительно вопросительный знак и подвергает сомнению?».
Дверь приоткрылась, и в каюту ловко проскользнул Аотуру. Он взял исписанные листки и, увидев изображение хорошо знакомых ему предметов, нарисованных Коммерсоном, широко улыбнулся. Он уже не раз заставал ученого за таким странным занятием: покрывать бумагу какими-то мелкими значками. Коммерсон вручил ему гусиное перо и начал объяснять, как им пользоваться. Сначала у Аотуру ничего не получалось. Но через некоторое время под руководством ученого он смог уже сносно написать все буквы своего имени.
Прошло больше месяца с тех пор, как корабли покинули Новую Киферу. Уже не раз на горизонте показывались земли, не обозначенные на картах. Моряков не покидало тревожное чувство. В этих неизведанных морях ежеминутно грозила опасность наткнуться на отмель или подводную скалу, необходимо было бороться со встречными ветрами и все время лавировать. По утрам часто нависал туман. Почти все встречавшиеся по пути острова были окружены кольцом бурунов, не позволявших подойти к берегу. Но туземцы подплывали близко к кораблям на своих быстроходных пирогах. Моряки приветливо махали руками сидевшим в пирогах людям и выменивали у них мучнистые клубни иньяма, заменявшего в Океании картофель, кокосовые орехи, красивые раковины.
На морской карте, там, где раньше все было покрыто синей краской, появились очертания новых земель.
Корабли шли медленно, меняя курс, как только на горизонте появлялся пенистый пояс волн, разбивавшихся о рифы. Нужно было плыть очень осторожно, а с наступлением ночи и вовсе спускать паруса, ложась в дрейф. Уже начинал сказываться недостаток продовольствия. Опять, как и до высадки на Таити, многие офицеры и матросы стали жаловаться корабельным врачам, что кровоточат десны. Это означало, что цинга снова угрожает экипажу. Свежую провизию давали только больным. Остальные с отвращением жевали надоевшую солонину и сушеные овощи.
У арестованного дю Гарра и закованных в кандалы его пособников, лишенных передвижения и свежего воздуха, болезнь быстро прогрессировала. Бугенвиль после долгого размышления приказал освободить их.
Погода то и дело менялась. Как всегда, неожиданно налетали шквалы. Но моряки были всегда наготове.
Однажды утром показался большой остров, покрытый густым лесом. Берег его круто подымался из воды. Нигде не встречалось удобной бухты. В полдень, когда по наблюдениям Веррона была определена южная широта 14°23′ и западная долгота прямо по курсу фрегата открылся другой остров. Корабли подошли к его восточному берегу и провели ночь в дрейфе. Едва рассвело, к судам подошло множество пирог. Островитяне привезли с собой дары природы своего острова: сочные фрукты, многие из которых были неизвестны французам. На берегу можно было рассмотреть тысячи покачивающихся от малейшего ветерка кокосовых пальм. Среди деревьев стояли шалаши, вдалеке виднелось поселение туземцев.
Корабли прошли очень близко от берега, но нигде не удалось выбрать хоть какую-нибудь якорную стоянку. Сильный бурун с удивительной яростью кипел у черных камней.
На следующий день к вечеру опять показались острова, тоже покрытые лесом. На одном из них виднелась чудесная, как бы посаженная человеческими руками аллея пальм. Островок был настолько красив, что сравнить его можно было разве что с Таити.
Высадиться на берег опять не удалось, и экспедиция продолжала свой путь. Бугенвиль назвал всю группу встреченных островов архипелагом Навигаторов (Самоа).
Прошли еще недели… На карте появились очертания островов — Бледного сына, Авроры (Алофи и Маэво), Пантекот, названного так потому, что он был открыт 22 мая в день религиозного праздника Пятидесятницы. Корабли прошли на юго-запад, потом повернули на юг, и везде им встречались острова. Бугенвиль решил назвать их Большими Цикладами (Новые Гебриды).
В последних числах мая на одном из островов моряки обнаружили удобную для высадки бухту. Веррон определил местонахождение кораблей—15°22′ ю. ш. и 168°00′ в. д.
Вначале жители острова, который они называли Аоба, угрожая копьями, препятствовали высадке французов, но когда увидели, что им нечего опасаться, отложили свое оружие и вступили в дружеские переговоры с моряками. Ге, воспользовавшись мирной обстановкой, нарубили дров и запаслись свежей водой. После отплытия с острова корабли взяли курс на юго-запад.
Бугенвиль все время вел счисление от мыса Дезире (Десеадо) у выхода из Магелланова пролива, как наиболее точно определенного пункта. Данные астрономических наблюдений для определения местонахождения корабля все больше и больше отклонялись от вычисленного по карте.
«Чем объяснить это? — размышлял Бугенвиль. — Единственный ответ — сильное течение к западу. Вот почему многие путешественники, плывя на запад, намного раньше встречали Новую Гвинею, чем предполагали, и делали отсюда неверный вывод, что размеры Тихого океана меньше, чем в действительности».
Вскоре показалась земля, отмеченная на карте Кироса Австралией Святого Духа. Правильно ли предположение этого мореплавателя, что где-то дальше на юг лежит Южный материк? Верна ли догадка географов, что Новая Голландия относится к тому же континенту, что и Новая Гвинея? Чтобы узнать истину, надо пройти на запад по той же десятой параллели не менее девятисот морских миль. Но запасы продовольствия тают, пополнить их в этих водах нечем. И все же Бугенвиль приказал идти дальше на запад.
Многие были недовольны таким решением. Зачем туда плыть, раз и так уже две недели назад был еще раз урезан рацион? Куда ведет их Бугенвиль? Надо повернуть круто на север, идти к Новой Британии, Молуккским островам, иначе все могут погибнуть от истощения. Но Бугенвиль как будто и не слышал ропота недовольных. Он часто засиживался в каюте, ворошил свои записи по навигации. Скорость передвижения корабля, направление и время — вот что нужно знать каждому мореходу. И каждая из этих задач решалась по-разному. Хорошо плавать по известным маршрутам. Когда в синей дымке пропадают берега, держись определенного курса и при попутном ветре можешь быть уверен, что через столько-то дней будешь у намеченного пункта. Здесь — не то. Никогда не видели земли, где сейчас находится фрегат, белых парусов, никогда еще европейцы не наносили на карты эти извилистые скалистые берега. Что находится на юге, на западе? Об этом можно только гадать. Главное — идти вперед и вперед, исследовать сколько хватит сил юго-западную часть Тихого океана.

И все время надо размышлять, думать, сопоставлять, принимать решения, которым должны беспрекословно подчиняться четыреста человек экипажа. Трудно! Но разве легче было другим первооткрывателям, когда они впервые вступали в самые большие на земле пустынные водные пространства?
И Бугенвиль снова и снова просматривал дневники и записи мореходов прошлого. Они составили первые карты пусть неточные, но все же ориентиры, таблицы, помогающие определять местонахождение корабля.
Бугенвиль читал и свои записи, которые он вел, впервые пересекая Атлантический океан:
«25 ноября 1758 года. Северо-западные ветры стали еще сильнее. Небо затянуло тучами. Этой ночью я заметил, что, несмотря на громадные волны, море светлое, даже блестящее. Те, кто объясняет это движением частиц атомов, находятся на правильном пути».
А вот еще запись: «Анекдот о д’Аламбере. Рассказывают, что мадам Руссо, кормилица знаменитого математика, на его вопрос о том, что такое философ, ответила: «Философ? Да это человек, который всю жизнь изнуряет себя, чтобы стать знаменитым после смерти».
Бугенвиль улыбнулся. Он ясно представил себе спокойное лицо д'Аламбера. В последние годы они часто встречались в салоне мадам Леспинас. Умная, обаятельная женщина. Он обязан ей знакомству с многими учеными-энциклопедистами.
В дверь каюты тихо постучали.
Вошел Сен-Жермен и робко осведомился о дальнейших планах капитана. Бугенвиль довольно сухо ответил, что все будет зависеть от обстоятельств.
— Де Бурнан был очень любезен, — сказал Сен-Жермен, — и сообщил мне, что вы, мосье, советовались с ним относительно того, идти ли дальше на запад от земель, которые вы окрестили Большими Цикладами.
— Да, это так. — Бугенвиль смотрел на Сен-Жермена выжидающе. Он недолюбливал бывшего чиновника и не понимал, куда тот клонит.
— Позвольте мне дать вам совет, мосье, — вкрадчиво сказал Сен-Жермен.
Бугенвиль сделал неопределенный жест.
— Уже прошло более двух месяцев со дня выхода с Новой Киферы, и я думаю, мосье, что нам нельзя терять более времени. Нужно идти к широтам Новой Британии, чтобы затем, обогнув Новую Гвинею, остановиться в каком-нибудь порту.
Бугенвиль насторожился. Откуда у старой лисы столь обширные географические познания? Конечно, это неспроста, по-видимому, его информирует о курсе кораблей кто-нибудь из офицеров, скорее всего шевалье дю Гарр- Вот как этот человек отблагодарил за гуманное отношение к нему. Ведь если бы он оставался все время под арестом, запертым в своей каюте, вряд ли смог бы теперь даже привстать с койки!
Бугенвиль нахмурился:
— Спасибо, мосье, за совет. Я обдумаю его.
Корабли продолжали идти прежним курсом. Через несколько дней Лавесс подошел к Бурнану, которого все считали правой рукой Бугенвиля, и задал тот же вопрос, что и Сен-Жермен.
Бурнан ответил, что не знает в точности намерении капитана, но, по-видимому, корабли продвинутся к северо-западу еще на пять-десять градусов, до тех пор, пока, может быть, не откроется какой-либо пролив, отделяющий Новую Гвинею от Новой Голландии.
Криво усмехнувшись, Лавесс процедил:
— Я хочу высказать пожелание, чтобы это опасное решение не повлекло за собой потери обоих наших судов и большей части их экипажа. Все знают, что вода, овощи и топливо на исходе. Сокращен на две трети рацион, и без того более чем скудный. И ничто не предвещает скорого окончания наших бед.
— Следует помнить, — спокойно сказал Бурнан, — что мы вышли в кругосветное плавание не для того, чтобы привезти с собой мускатные орехи, корицу и другие пряности, как, может быть, считает Сен-Жермен. Даже самое малое открытие не дается без борьбы и трудностей. Мы попали в нелегкое положение, следовательно, надо сжать зубы и затянуть ремни на животе.
Темные круги под глазами шевалье говорили о том, что ему приходится тяжелее, чем многим другим.
Лавесс пристально взглянул на Бурнана, но ничего не сказал.
Орден предписывал своим членам сохранять невозмутимость при любых обстоятельствах. Хитрый, вымуштрованный суровой иезуитской школой, Лавесс не стал спорить с шевалье, но продолжал методично, с присущей ему настойчивостью убеждать Сен-Жермена, что дальнейшее продвижение на запад может привести только к гибели обоих кораблей.
И когда прошло еще несколько недель, старый колониальный чиновник не выдержал. В присутствии Лавесса и астронома Веррона он раздраженно попросил комиса
[7] показать опись имеющегося продовольствия, которую он составил для Бугенвиля и Дюкло-Гийо.
Комис с презрением посмотрел на отчаявшегося человека:
— Это вас совершенно не касается, мосье, и вы не имеете никакого права спрашивать меня об этом!
— Не касается?! — вспылил Сен-Жермен. Он уже не мог владеть собой. Топнув ногой, он почти закричал — Я не могу не заметить, что мосье Бугенвиль поступает несправедливо и черство, сокращая пищевой рацион экипажа! И это еще более чувствительно, так как он не питается с нами за одним столом!
Сен-Жермен потерял всякое чувство меры и стал выкрикивать свои обвинения, как базарная торговка. Комис и подошедший Дюкло-Гийо с удивлением смотрели на старого чиновника. Сен-Жермен в возбуждении сорвал с головы парик, и его маленькая подстриженная голова выглядела особенно нелепо на фоне надувшегося ветром грота.
— Бугенвиль привык к шоколаду с миндальным молоком, — кричал Сен-Жермен. — К этому надо добавить и молоко козы, которую мы везем от самого Монтевидео. И это в то время, когда команда голодает! Посмотрите на его лицо! Оно говорит о том, что мосье Бугенвиль не очень-то считается с нашими желудками в угоду своему! А что за командование! После Новой Киферы мы открыли столько земель, но из-за недостатка припасов не посетили ни одной из них. Что мы сможем сказать хотя бы об архипелаге, названном им Луизиадами? Сколько еще времени мы будем плыть на запад? Может быть, мосье Бугенвиль хочет сделать великие географические открытия? Ответьте мне, мосье Дюкло-Гийо!
Сен-Жермен сделал движение, как бы намереваясь схватить капитана за грудь. Дюкло не двинулся с места, только его густые брови сдвинулись. Он все больше и больше хмурился по мере того, как распалялся Сен-Жермен. Увидев мрачное лицо Дюкло-Гийо, Сен-Жермен как будто немного отрезвел:
— Я не вижу ничего реального в этом предприятии вплоть до сегодняшнего дня, — сказал он уже более спокойным тоном. — Кроме очень больших расходов на вооружение двух судов.
Почувствовав чей-то взгляд, Дюйкло-Гийо обернулся. За его спиной стоял отец Лавесс. Насмешливо улыбаясь, он с нескрываемым одобрением слушал Сен-Жермена и обменивался какими-то знаками с дю Гарром.
В некотором отдалении собралась кучка матросов. Дюкло-Гийо понял, что они с интересом ждут ответа капитана. Отчитать эту старую лису Сен-Жермена? Но на крик не следует отвечать криком.
— Моряку я не простил бы ни единого слова из того, что вы здесь изволили произнести, — сказал Дюкло-Гийо, сдерживая себя. — Но так как вы всю свою жизнь провели в колониях, а на наш фрегат попали только благодаря какой-то нелепой случайности, я вам отвечу. Сейчас наше положение труднее, чем когда бы то ни было. Вы знаете, что все это время нас преследуют бури, дожди и западные ветры. Я не раз ходил в Южное море. Здесь можно ждать ураганов в любую минуту. Даже сейчас, — Дюкло-Гийо показал вдаль, — на горизонте тучи. А во время шторма трудно лавировать вблизи незнакомых берегов. Вот почему наше плавание столь опасно. Все это, а также недостаток продовольствия, очевидно, взбудоражило ваши нервы. Вам следует пойти в каюту и хорошенько выспаться.
Лавесс был разочарован. Он ожидал стычки, скандала, а вместо этого Сен-Жермену прочитали нотацию. Бывший чиновник как-то сразу сник. Он надел парик, одернул сюртук и шаркающей походкой побрел к трапу.
Обернувшись к де Бурнану, Дюкло-Гийо сказал:
— И зачем только Бугенвиль взял на корабль эту сухопутную крысу. Сен-Жермен, видимо, не понимает, что такое дисциплина на корабле.
Де Бурнан усмехнулся:
— Я думаю, что старый чиновник не более как игрушка в руках других людей. — И шевалье многозначительно кивнул в сторону отца Лавесса.
Слеза капнула на исписанный лист бумаги, и чернила расплылись.
«…Запасы, которые мы взяли на Новой Кифере, подходят к концу, — старательно выводил Сен-Жермен своим каллиграфическим почерком. — Многие из офицеров больны цингой. Я тоже, к несчастью, в их числе. У нас нет свежего мяса и овощей, и потому нельзя остановить болезнь.
Ах, дорогая жена! Дорогое дитя!
Это вам я изливаю свои несчастья. Сегодня к столу подали трех крыс, которых все просто сожрали, — я не могу найти другого слова. Вчера на ужин было рагу из свиной кожи, из которой выщипали волосы. Однако рагу оказалось хуже крыс. На днях убили кошку, чтобы съесть ее. Но некоторые матросы сказали, что видят в этом плохое предзнаменование, и поэтому бросили ее за борт.
Я веду дневник в назидание потомству и потому, если останусь жив после постигших меня тяжких испытаний, или если эти строки когда-либо попадут во Францию, я желаю, чтобы из нашего печального опыта другие люди сделали выводы. Должен предупредить, что нельзя пускаться в такое путешествие, не запасшись хорошей провизией, в частности шоколадом, кофе, бульонными кубиками…»
Слеза снова упала на непросохшие строки. Сен-Жермен опустил голову на руки. Зачем только он ступил на палубу фрегата?
В Париже перед отплытием экспедиции многие говорили, что все равно корабли не пойдут дальше Малуинских островов. Он сразу поверил в это, тем более что так же уверял и отец Лавесс.
На что же решиться? Ведь он должен сообщить Бугенвилю о том, что замышляет этот иезуит, о всех его темных делах. Но Лавесс приобрел над ним, Сен-Жерменом, какую-то необъяснимую власть.
Бугенвиль не такой человек, чтобы отказаться от своих замыслов. Он ведет экспедицию туда, куда задумал, несмотря на все трудности и лишения. Вот и оказался теперь письмоводитель между молотом и наковальней. Подчиняясь ярости отчаяния, он открыто выступил против Бугенвиля, но не сумел сделать того, что требовали от него отец Лавесс и озлобленный дю Гарр. Один из них фанатик, готовый пойти на все, лишь бы выполнить приказы своих начальников. Другой — из личной неприязни к Бугенвилю, пожалуй, не остановится ни перед чем, чтобы лишить его командования. А хирург Вивэ? Сен-Жермен не раз встречал его с отцом Лавессом.
За свою долгую жизнь в Гвиане старый чиновник присмотрелся ко многому. Ему-то было хорошо известно, что даже чопорные аристократы не гнушаются грязными махинациями, чтобы добиться своего. Дю Гарр склонил на свою сторону матросов, которых заковали в кандалы на Новой Кифере. Сегодня он, Сен-Жермен, всячески поносил Бугенвиля и Дюкло-Гийо, а завтра, если командование перейдет к этой кучке людей, что будет с ним?
Он придвинул к себе бумагу. Говорить с Бугенвилем он не может. Нужно написать о своих тревогах, рассказать все начистоту. Так спокойнее. Письмоводитель взял чистый лист бумаги и вывел: «Капитану первого ранга флота Его Величества Короля французов мосье Луи Антуану де Бугенвилю». Темная тень упала на лист бумаги. Сен-Жермен вздрогнул. Что это, во сне или наяву? На пороге каюты застыла черная фигура.
Лавесс спокойно подошел к Сен-Жермену, взял лежащую перед ним бумагу, разорвал ее и выбросил клочки за борт.
— Так что же мне делать? — растерянно спросила Жанна.
— Ничего, — улыбнулся де Бушаж. — Или, вернее, почти ничего. Тебе только нужно будет рассказать Бугенвилю все столь же откровенно, как мосье Коммерсону и мне. Чистую правду.
И видя, что испуг Барре еще не прошел, де Бушаж принялся мягко убеждать девушку:
— Пойми, Жанна, это необходимо. Ведь то, что ты, переодевшись в мужское платье, проникла на корабль, есть прямое нарушение морского устава, — де Бушаж подчеркнул интонацией юридическую формулировку. — Мосье Бугенвиль должен лично выяснить мотивы, побудившие тебя так поступить. Кроме того, это нужно еще и по другим причинам, более важным.
Хотя после происшествия на Новой Кифере почти все уже знали тайну Жанны, в списках судового экипажа она все еще оставалась Жаном Барре, слугой Коммерсона. Де Бушажу очень хотелось, чтобы Жан наконец-то превратился в Жанну, чтобы она не пугалась более каждого пристального взгляда. Ведь каждая жизненная мелочь превращалась для нее в проблему. Как только могла девушка перенести все трудности экспедиции, продолжавшейся уже почти два года?
Барре тоже ждала разговора с начальником экспедиции и в то же время боялась этой минуты. Ведь она за все это время не сказала Бугенвилю даже двух слов, всегда проходила мимо него, скромно опустив голову. А тут нужно объясняться с глазу на глаз.
— Иди, Жанна, тебя позовут. Ничего не бойся.
Де Бушаж, специально прибывший на транспорт, чтобы подготовить Жанну к разговору с начальником экспедиции, принялся насвистывать веселую мелодию. Но когда через несколько минут он взглянул в озабоченное лицо поднимавшегося по трапу Бугенвиля, шевалье выругал себя: разве можно думать лишь о своих делах?
Бугенвиль, пожалуй, выглядел лучше, чем другие члены экипажа, и в этом Сен-Жермен был прав. Капитана тоже не обошла цинга, но проявлялась она не в столь острой форме. И это Бугенвиль приписывал тому, что был деятельным и подвижным. Правда, испытанные моряки, не раз ходившие в длительные плавания, тоже еще крепились. Но путь в неведомое требовал много сил и напряжения всей воли. Бугенвиль знал, что в экипаже сейчас появились недовольные люди и при случае этим могут воспользоваться его враги.
По ночам у Бугенвиля ныла старая рана, полученная еще в боях за Квебек. Боль не давала заснуть. А бессонница — это мысли, мысли… Да, сделано немало. Открыты новые земли. Еще никто из французов не забирался так далеко на запад. Он разрешил многие сомнения географов. Но плавание не становилось от этого легче. Корабли все еще блуждали в запутанном архипелаге, названном им Луизиадами. Все время то слева, то справа по борту открывались буруны, проплывали стволы деревьев, водоросли, указывающие на близость земли.
Направление течений непрестанно менялось. Когда суда подходили близко к островам, доносился запах цветущих растений. Но высадиться на землю не удавалось.
Нередко спускались туманы, и тогда связь с транспортом «Этуаль» поддерживали пушечными выстрелами.
В каждой большой экспедиций почти неизбежно наступает момент, когда только мужество и выдержка ее руководителя могут спасти положение. И когда корабли наконец после долгих блужданий вошли в удобную бухту с хорошими якорными стоянками, Бугенвиль решил с помощью преданных ему людей ревизовать запасы провианта, находившегося на транспорте «Этуаль». Продовольствие — это было главное сейчас. От него зависела участь экспедиции.
Не желая вызывать излишних толков, Бугенвиль использовал, как предлог для этого посещения, беседу с Барре, которую он откладывал со дня на день после ухода с Новой Киферы. Этому мешали неотложные дела, требовавшие его присутствия на фрегате.
Проверка оставшихся запасов продовольствия не заняла много времени.
Часть муки и сухарей Бугенвиль приказал переправить на «Будёз». Овощей на транспорте оставалось значительно меньше, чем он рассчитывал. Что же, придется еще сократить выдачу бобов, из которых варят суп. Отдавая это распоряжение, Бугенвиль напомнил, что и офицеры и матросы должны быть на одном и том же рационе.
— Перед лицом испытаний все равны, — сурово сказал он сопровождавшему его комису. Потом, что-то вспомнив, добавил — Да, вот еще что. Некоторые недовольны тем, что мы везем козу, которая давала нам молоко. Зарежьте ее, хотя она так отощала, что не даст много мяса.
Покончив с продовольственными делами, можно было заняться и Барре. Бугенвиль прошел в каюту капитана Жиродэ, куда пригласили девушку. Увидев начальника экспедиции, Жанна растерялась и не смогла вымолвить ни слова. По ее худым щекам катились крупные слезы. Бугенвилю хотелось отечески потрепать девушку по щеке, но он только сказал:
— Теперь уж, мадемуазель Барре, вам нет необходимости облачаться в матросский костюм. Боюсь только, что на обоих кораблях не найдется ни одного женского платья, если, конечно, вы не везете с собой гардероба от мадам Бланш, модной парижской портнихи.
Барре сквозь слезы улыбнулась шутке.
Она ответила, что будет ходить в мужском костюме, с которым уже настолько свыклась, что ей, пожалуй, придется заново привыкать к юбкам.
— В таком случае, мадемуазель… — начал было Бугенвиль, но не успел закончить фразу. В каюту быстро вошел де Бушаж.
— Мосье капитан, — взволнованно сказал он, — часть экипажа захватила шлюпки, ружья и высадилась на подветренной стороне острова.
Бугенвиль быстро поднялся на палубу.
— Смотрите, — сказал ему Жиродэ, передавая подзорную трубу.
Одна шлюпка еще не достигла берега. Бугенвиль разглядел черную сутану отца Лавесса, сидевшего на корме. Приказать открыть огонь? Но это значило признать всех высадившихся па остров бунтовщиками. А ведь среди них были и матросы, обманутые хитрыми речами отца Лавесса и дю Гарра. Бугенвиль колебался, не зная, что предпринять. Но долго раздумывать нельзя. Надо действовать.
Шлюпка пристала к берегу. Из нее начали выгружать палатки, бочки с порохом.
Вдруг Бугенвиль с удивлением увидел, что остров как бы начал оседать в море. Вслед за тем от берега покатилась гигантская волна. Через несколько секунд она накрыла транспорт, ударив в борт с такой силой, что никто не удержался на ногах. Волна подхватила Бугенвиля и понесла к штирборту. Он больно ударился обо что-то плечом. Падая, он успел заметить, что несколько росших на острове огромных деревьев, описав вершинами крутую дугу, рухнули на землю.

Глава VIII
Круг замкнут

Кто усмиряет ярость волн морских,
Тот без труда смирит и козни ЗЛЫХ
Расин
Отправляясь на «Этуаль», Бугенвиль поручил шевалье д’Орезону обследовать бухту, где стояли оба корабля, нанести на карту береговую линию и, самое главное, выяснить, нельзя ли здесь пополнить запасы продовольствия.
Среди островов, попадавшихся французам в пути, встречались и такие, на которых в изобилии росли плодовые деревья. Но из-за сильного прибоя нельзя было высадиться на берег. Иногда же противные ветры и опасные подводные скалы вынуждали моряков проплывать мимо земель.
Три дня назад французы встретили остров, от которого отчалили пироги с темнокожими людьми, вооруженными длинными копьями и палицами. Приближаясь к кораблям, они кричали: «Бука, бука, онелле». Поэтому новая земля и получила название острова Бука. На нем в изобилии росли бананы и кокосовые пальмы, но хорошей якорной стоянки не оказалось, и суда продвинулись немного дальше.
Все давно уже Голодали, и поэтому, когда нашли удобную бухту, было решено устроить длительную стоянку. Матросы сразу же опустили стеньги и реи, начали выгружать бочки для воды, плотничий инструмент и все необходимое для устройства лагеря.
Скоро в ближайшей роще послышался
стук топора. Запылал большой костер: нужна была зола, чтобы приготовить щелок для стирки белья. Матросы рассыпались по побережью в поисках съестного. Но вдруг один из них, по имени Лежен, закричал: «Смотрите, что я нашел!» — и подбежал к д’Орезону. В руках матроса были какие-то свинцовые пластинки.
Шевалье разобрал на них несколько английских слов: «Его величество» и «взято во владение…»
Другой матрос обнаружил на берегу обрывки пеньковой веревки и дерево, к которому, видимо, была когда-то прибита металлическая доска.
Д’Орезон внимательно осмотрел дерево.
— Это все доказывает, — обратился он к принцу, сопровождавшему первый высадившийся на остров отряд, — что совсем недавно, несколько месяцев назад, этот остров посетили англичане. Смотрите, веревка еще не сгнила, а порубки совсем свежие, хотя от них и отошли уже побеги. Но это не удивительно в таком влажном и жарком климате…
— Разделяю ваше мнение, шевалье, — отозвался принц, — остров посетили корабли английского военного флота. Это могут быть только «Сваллоу» и «Дельфин» под командованием Сэмюеля Уоллиса и Филиппа Картерета. Они, помнится, ушли из Европы в августе 1766 года, за несколько месяцев до нас. Значит, мы идем по их следам.
— Но это еще не все. Эти кусочки свинца наводят и на другие размышления, — сказал д’Орезон. — Доска была прибита трехдюймовыми корабельными гвоздями. Не могла же она сама оторваться.
— Вы, шевалье, хотите сказать, что это сделали островитяне? Но ведь остров необитаем… Впрочем, — добавил принц, пожав плечами, — они могли посетить его на своих пирогах.
Д’Орезон посмотрел на гигантское дерево. Следы ударов топора и дыры от огромных гвоздей заплыли густой желтой смолой. Шевалье погладил рукой шершавый ствол.
— Если дело обстоит так, принц, я не вижу причин, мешающих нам назло этой соперничающей с нами нации оставить здесь и наши опознавательные знаки. История впоследствии рассудит, кто прав. Быть может, опередившие нас англичане и не вернутся более в Европу.
— Но, шевалье, международное право…
— Пока что мне знакомо только одно право — право сильного, — горячо перебил принца д’Орезон.
Принц усмехнулся: едва держащийся на ногах человек, эта песчинка среди могучей первозданной природы, рассуждает о силе! Нассау мысленно перенесся за тысячи лье, в Европу. Сколько споров может возникнуть из-за этого необитаемого клочка суши, лежащего где-то на краю света. Не все ли равно, кто первый ступил на этот остров? Но, к сожалению, не все так мыслят.
Принц положил на плечо тяжелое ружье и, волоча ноги, начал подниматься на возвышенность, поросшую густой растительностью. Д’Орезон пошел следом за ним, но сначала распорядился, чтобы матросы принесли дубовую доску, на которой было написано:
«Год 1768, 12 июля. Мы, Луи Антуан де Бугенвиль, полковник инфантерии, капитан Первого ранга Королевского флота, командующий фрегатом «Будёз» и транспортом «Эгуаль», от имени и по приказу Его христианнейшего Величества и Министерства де Шуазеля графа де Праслин вступили во владение этими островами, о чем и оставляем эту надпись, сообщающую об акте взятия во владение, который мы увозим во Францию».
Доску прибили на то самое место, где недавно висела «заявка» англичан… Принц не был свидетелем этого. Он упорно взбирался в гору. Даже ружье казалось неимоверной тяжестью: сказывался голод последних недель. Пот тоненькой струйкой стекал за воротник. Нассау слышал за спиной тяжелое дыхание шевалье д’Орезона. Над головой сияло голубое небо, но было томительно душно и жарко, как перед грозой. Принц тяжело опустился на камень, спугнув зеленую ящерицу. Юркое животное мигом исчезло в густой жестковатой траве. Изредка доносились отдаленные голоса матросов, растянувшихся редкой цепочкой. Около трех часов блуждали моряки, но ничего похожего на крупную дичь не было обнаружено. Принц подстрелил несколько горлиц. Отыскали рощицу кокосовых и арековых пальм. Это было все, что удалось найти.
С возвышенности бухта виднелась как па ладони. Корабли с оголенными мачтами казались большими продолговатыми пирогами. Можно было даже различить фигурки людей, двигавшихся по палубе фрегата. Транспорт стоял в кабельтове от «Будёза».
Нассау сидел на камне, широко расставив ноги и держа между коленями длинное ружье. Он долго смотрел вниз, на бухту, потом сказал:
— Не могу понять, что за странное движение там, на кораблях. Могу поклясться: на берег что-то свозят, уж не оружие ли? Зачем это?
Д’Орезон, присмотревшись, воскликнул:
— Я вижу черную сутану отца Лавесса. Но ведь известно, что только крайние причины могут заставить его в числе первых высадиться на остров. Святой отец не очень-то любит бродить в диких зарослях.
Немного отдохнув, моряки продолжали путь. Никто и не заметил, как солнце скрылось в огромной лилово-черной туче, неизвестно откуда появившейся над островом.
— Как бы не было дождя, — хмуро взглянув на нее, сказал принц. Но в этот момент он ощутил сильный толчок. В следующее мгновение принц кубарем полетел с горы куда-то вниз.
В шлюпке рядом с Лавессом молча сидел Сен-Жермен, с тоской думая, что оказался в полной власти иезуита. Лавесс был красноречив. Он не только вселял Сен-Жермену надежду на счастливое избавление от всех свалившихся на чиновника бед, но и рисовал радужные перспективы. Лавесс вполне здраво и логично доказывал, что продолжать плавание с Бугенвилем чистое безумие. Уже сейчас почти весь экипаж ослабел от недоедания. Цинга валит с ног самых крепких. А что дальше ждет французов в этих опасных водах?
Убедить начальника экспедиции возвратиться невозможно, да и вряд ли это спасло бы их.
Но есть прекрасный и разумный выход: можно идти опять на Новую Киферу! Конечно, оттуда не сразу удастся добраться до родины, но они окажут католической церкви и Франции огромные услуги. Дикари острова, таитяне, погрязли в безбожии, ходят почти что нагишом и устраивают отвратительные языческие пляски. А каковы их нравы?!
С божьей помощью Лавесс и небольшая группа преданных ему и католицизму людей сможет обратить язычников в христиан.
Новая Кифера — благодатная земля! Уж там-то не умрешь с голоду, а рано или поздно какое-нибудь судно придет на этот остров, и европейцы, застав там миссионеров, воздадут им должное за святые труды. Только бы попасть на этот прекрасный остров.
У Лавесса был простой план. Его одобрили дю Гарр и хирург мосье Вивэ. Нужно высадиться на берег с запасом оружия и пороха, захватить все остатки продовольствия. Укрепившись, можно было бы ультимативно потребовать у Бугенвиля один из кораблей для плавания на Новую Киферу, а может быть, и для возвращения в дальнейшем во Францию. Вести его сможет дю Гарр, знакомый со штурманским делом.
Первая часть плана, по-видимому, удалась. Заговорщики склонили на свою сторону нескольких матросов.
Когда корабли стали на якорь в бухте и началось устройство лагеря, в огромных бочках для воды тайно доставили на берег десятки ружей и мушкетов, запас пороха, муку и сухари, которые Бугенвиль распорядился переправить с транспорта на «Будёз».
Оставалось осуществить вторую часть плана. Лавесс был очень доволен. Его глаза сверкали, пальцы быстро перебирали четки. А Сен-Жермен не мог отделаться от беспокойства. Он то и дело посматривал на транспорт «Этуаль».
На корабле показалась фигура Бугенвиля.
— Он смотрит на нас в подзорную трубу! Гребите же скорей! — закричал Вивэ, толкнув в спину одного из матросов. — Сейчас он прикажет палить в нас из пушек.
Гребцы налегли на весла — быстрее бы подойти к берегу… Но вот шлюпка ткнулась в песок. Вивэ выскочил первым и бегом бросился в рощу, опережая всех. Ждали пушечного залпа. Но с кораблей не стреляли.
Вивэ добежал уже до дерева, где висела дубовая доска, прибитая вместо свинцовой дощечки англичан.
Но вдруг огромное дерево наклонилось.
«Галлюцинация», — мелькнуло в голове испуганного хирурга. Он инстинктивно протянул руки вперед. Земля у него под ногами задрожала и стала проваливаться. Вивэ с криком упал на колени. Дерево-великан с оглушительным треском рухнуло рядом, едва не придавив охваченного ужасом человека. Доска, еще утром тщательно прибитая д’Орезоном, раскололась.
Вивэ всем телом ощущал страшные толчки. Темная четырнадцатифутовая волна покатилась от берега и ударила в борт кораблей, как бы стараясь отшвырнуть их подальше в море. Пронесся странный гул, исходящий, казалось, из самых недр земли.
— Землетрясение… — прошептал Вивэ пересохшими губами.
Толчки продолжались не более четырех минут, но для всех они показались вечностью.
Небо раскололось, раздался удар грома, вслед за этим хлынули потоки тропического ливня. Молнии сверкали над островом, словно притягиваемые к нему. Вивэ судорожно цеплялся за вывороченные из земли корни деревьев, захлебываясь в потоках воды, которая неслась к морю, смывая все на пути. Когда, наконец, ливень понемногу начал стихать, Вивэ поднялся и увидел как из-за поваленного землетрясением дерева показался мокрый, весь покрытый грязью Лавесс. Он был без шляпы, и его редкие волосы облепили костистый череп. Мертвенно-бледный, иезуит казался выходцем
с того света.
— Кажется, Бугенвилю помогает само небо, — пробормотал Вивэ.
— Скорее не обошлось без вмешательства нечистой силы, — ответил Лавесс, выжимая полы сутаны.
— О да, — кивнул Вивэ, — я чувствовал себя все это время как в аду. Хорошо хоть, что мы живы!
— Мою шляпу унесло в море, — произнес Лавесс.
— Боже милостивый! От транспорта отваливают шлюпки. Возмездие близится, — прошептал Вивэ с безнадежностью отчаяния.
Лавесс живо обернулся к хирургу. Природная хитрость и изворотливость вернулись к иезуиту.
— Не думаю, чтобы у Бугенвиля были достаточные основания обвинять нас в мятеже. Ведь мы не успели даже послать ему ультиматум, а вещественные доказательства… — Лавесс криво усмехнулся — Что ж! Пусть он их поищет. Уверен, что весь наш порох, да и захваченная нами мука последовали за моей шляпой… в море. Ну, что вы раскисли, Вивэ! Держитесь крепче, — жестко добавил Лавесс, впиваясь пальцами в плечо хирурга.
— Какое сильное землетрясение, — воскликнул Бугенвиль, выбираясь из шлюпки у берега. — Сколько деревьев выворотило с корнями. Чудо, что наши корабли удержало на якорях. Но где же мятежники?
Бугенвиль оглядел пустынный берег. Кое-где в беспорядке были свалены в кучу палатки, насквозь промокшие и занесенные песком, опрокинутые бочки, мешки, ружья и мушкетоны.
Из леса боязливо, по одному, выходили матросы, привлеченные заговорщиками. Бугенвиль пытливо всматривался в их лица.
Рулевой Помье, уже немолодой моряк, тяжело вздохнул и опустил голову. Бугенвиль положил ему руку на плечо:
— Друг мой, Батист, почему ты задумал бежать от своего капитана? Ведь ты толковый рулевой и всегда был на хорошем счету.
Матрос поднял голову:
— Это все их преподобие, отец Лавесс, — сказал он, отводя глаза в сторону. — Не пойму, как он уговорил меня. Эх, да все равно помирать! Велите, мосье капитан, повесить меня на рее или килевать!
Бугенвиль нахмурился. Он обвел взглядом всех: и прибывших с ним и принимавших участие в заговоре.
— Положение наше сейчас крайне тяжелое, — сказал он. — Вы все знаете: нам угрожают опасности, но опасности эти увеличиваются во сто крат из-за упадка дисциплины. К чему в конце концов привели действия заговорщиков? Только к тому, что у нас погибла часть и без того скудных запасов продовольствия.
Все тягостно молчали.
— И потому, — продолжал Бугенвиль, — я обещаю никого не наказывать, кроме убийц несчастных островитян Новой Киферы. По возвращении на родину эти преступники будут преданы суду…
Капитан сделал паузу.
— А теперь надо немедленно возобновить работы. Устроить лагерь. Запастись всем, чем возможно, и продолжать плавание… Мосье де Бурнан, возьмите на себя руководство сбором растений и фруктов, а мосье Коммерсон, надеюсь, поможет вам определить, какие из них пригодны в пищу.
С горы спускались д’Орезон, принц и группа матросов. Бугенвиль быстро пошел им навстречу и вдруг остановился, увидев доску, прибитую только сегодня утром к дереву. Доска раскололась надвое и лежала надписью вниз. Носком сапога Бугенвиль перевернул ее.
— Что ж, видно сама природа не пожелала, чтобы доска висела здесь, — сказал он негромко.
Теперь Сен-Жермен уходил с книгой куда-нибудь в отдаление, где его никто не мог потревожить, но не читал ее, а, держа на коленях, часами тупо смотрел на пенный прибой.
Ежедневно на поиски съестного отправлялось несколько отрядов. Моряки собирали лактанию, капустную пальму, стреляли горлиц. Но вскоре птицы, напуганные выстрелами, перелетели на соседний остров.
Коммерсон, как и раньше, старался не терять времени. Несмотря на одолевавшую его слабость, он почти не выходил из леса, правда, чаще обычного присаживался отдохнуть. И труды ученого не остались без награды. Однажды на привале он вдруг, к удивлению Барре, быстро вскочил на ноги и прикрыл сачком листок, с виду ничем не примечательный, почти совершенно такой же, как и тысячи других в девственном лесу. Но когда натуралист, соблюдая все меры предосторожности, извлек из-под сачка «листок», у него оказалось шесть лапок и два усика. Это было любопытное насекомое из семейства богомолов, около трех дюймов в длину. Неизвестный науке вид! Коммерсон подробно описал богомола и поместил необычное насекомое в банку со спиртом. На побережье Коммерсон и Барре нашли множество исключительно красивых раковин, многие из которых составили бы гордость любого музея.
В то время как корабли стояли у острова, произошло солнечное затмение, второе после отплытия экспедиции. Но тогда, у берегов Бразилии, среди туч не удалось увидеть и краешка солнца. Здесь же, над островом, небо оставалось все время безоблачным. Астроном Веррон наблюдал все фазы прохождения луны через солнечный диск при помощи зрительной трубы длиною в девять футов. Шевалье де Бушаж установил на треножнике ахроматическую трубу Дйллонда. Бугенвиль работал с маятником.
Это была редкая удача!
Бугенвиль все время вел точное счисление курса. Определялась долгота каждого места астрономическими наблюдениями при помощи разных приборов. Но затмение — это всегда исключительно интересное явление природы, дающее много новых фактов для науки.
Зная заранее, в какие часы и минуты оно должно произойти в Париже, Бугенвиль тем самым имел возможность с большой точностью определить долготу места, где стояли сейчас корабли. Ошибка географов, неправильно определивших размеры земного шара, помогла Колумбу сделать свое великое открытие. Он никогда не отважился бы пуститься в плавание, если бы знал, что Индия находится не так близко от Европы, как это указывалось на картах XV века. И потом, когда открыли Тихий океан, его протяженность, а значит, и истинные размеры земного шара долго еще оставались неясными.
Не определена была и точная форма Земли. Бугенвиль знал, что маятниковые часы, выверенные в Париже, отстают вблизи экватора на две с половиной минуты в сутки и для исправления их хода необходимо укоротить маятник. Ньютон объяснил это явление тем, что Земля не шар, а имеет сфероидичную форму — сплюснута у полюсов.
Перед отплытием Бугенвиль тщательно изучал результаты экспедиции Пьера Бугера, Шарля Кондамина и Луи Годена, измерявших в течение семи лет длину дуги меридиана в Перу от 0°2′30″ с. ш. до 3°4′30″ ю. ш. Они нашли, что сжатие земли равняется 1: 314.
И вот теперь, точно определив долготу острова, Бугенвиль смог вычислить, что протяженность Тихого океана по экватору составляет сто тридцать градусов, то есть более трех тысяч двухсот лье.
Это было намного больше, чем определяли Кирос, Менданья, Лемер и Схоутен и даже путешественники нового времени — Ансон и Байрон.
Другая задача — определить, смыкается ли Новая Гвинея с Новой Голландией, так и осталась нерешенной. Слишком много нужно было затратить сил, чтобы исследовать всю юго-западную часть Тихого океана.
Теперь, когда корабли пересекли воображаемую линию, разделяющую западное и восточное полушария, силы обоих экипажей были на исходе. Бугенвиль знал, что поддержать бодрое состояние духа своих спутников лучше всего упорным, непрерывным трудом.
Во время длительных походов в глубь острова он старался развить у матросов чувство красоты природы.
Стоя перед гулким водопадом, Бугенвиль подумал о том, что в Париже, который называют величайшим городом мира, столицей всех столиц, каскады и фонтаны королевских дворцов соседствуют с грязными сточными канавами. Нечистоты и кровь из боен, расположенных в центре города, текут прямо под окнами, а во время дождя парижская улица превращается порой в непреодолимое препятствие, и чтобы пересечь ее, нужно прямо-таки акробатическое искусство. Париж, любимая Франция! — как далеки они и как дороги всем морякам. Судьба четырехсот человек вверена его опыту, предприимчивости, находчивости и осмотрительности.
Бугенвиль торопил людей — надо скорее закончить работы.
Пришел день отплытия. Командир экспедиции обратился к морякам с краткой речью. Он сказал, что нужно сохранять твердую дисциплину и неукоснительно выполнять все распоряжения — только тогда они благополучно вернутся на родину! Слова Бугенвиля о том, что он доверяет своим матросам, вызвали возгласы одобрения.
Странную картину представляли собой экипажи обоих кораблей. Тропические ливни, томительный зной, сменяющийся холодом, изнурительная работа, недоедание, превратившееся в голод, болезни неузнаваемо изменили облик матросов. Их истощенные, загоревшие до черноты, обветренные лица покрылись цинготными пятнами. Истрепавшаяся одежда висела лохмотьями. Многие по-пиратски повязывали головы шейными платками. Почти у всех на поясе висели длинные ножи для защиты от диких зверей и ядовитых змей. Лишь один Аотуру, изящный и грациозный в своем парео, походил на актера, попавшего в шайку разбойников. Неизменно подвижный, веселый и приветливый, таитянин оставался таким же обаятельным, каким был у себя на родине.
Через несколько дней, после того как корабли вышли из бухты, открыли новые острова. Бугенвиль назвал их именами офицеров — Бурнана, д Орезона, Бушажа и лично нанес на карту. Все эти острова располагались редкой цепочкой вдоль северо-восточного побережья острова Новая Британия.
Для экипажей сшили одежду из парусины, но почти все ходили босиком. Пришлось снова значительно сократить пищевой рацион. Бугенвиль постоянно внушал спутникам: нельзя падать духом. Даже в самых тяжелых обстоятельствах побеждает терпение и выдержка. Он приказал вечерами устраивать танцы, как и в благополучные времена похода.
Прошло еще несколько недель. За это время обнаружили новые земли и среди них остров Анахорет, названный так потому, что его жители не обратили почти никакого внимания на два судна, идущие под парусами.
Корабли лавировали среди многочисленных островков, расположенных к северо-востоку от Новой Гвинеи, Бугенвиль дал этому архипелагу наименование Эшикье — Шахматная доска (острова Ниниго).
Положение ухудшалось тем, что остатки провизии испортились. Люди ели протухшую солонину, с трудом подавляя тошноту. Половина экипажа уже не могла работать. Даже любимец Бугенвиля, боцман Пишо, погрустнел. Он проплавал более полувека, ему пришлось испытать всякое, но и он слег от жестокой цинги.
Наконец корабли оказались у побережья Новой Гвинеи. Дул слабый юго-восточный бриз. Шли дожди, сменяющиеся ясной погодой и полным штилем.
Однажды на фрегате прозвучали сразу две тревоги. Марсовый заметил длинную полосу прибоя. Бугенвиль тотчас отдал приказание положить лево руля, но с бака закричали, что под судном мель. Легли в дрейф. Наутро на расстоянии всего нескольких морских миль открылся голландский остров Боеро (Буру). Когда суда приблизились, морякам предстала сказочная страна: на берегу бродили стада тучного скота, высились кокосовые пальмы. Земля изобилия!
Французы жадно смотрели на берег. Но прекрасный остров для них был подобен миражу: голландцы никого не пускали в свои владения. Все губернаторы неуклонно выполняли приказ — отгонять иностранные корабли, прибегая, если нужно, к оружию. Баснословные богатства, извлекаемые при чудовищной эксплуатации заморских владений, текли в Голландию — в кладовые банкиров, купцов и ростовщиков.
Но иного выхода не было, и Бугенвиль приказал идти прямо в гавань острова.
Пожалуй, никогда еще начальник экспедиции не испытывал такого раздражения. Двое голландцев — вежливые, обходительные люди, ничего плохого не желающие ни лично ему, ни его экипажу, — поднялись на борт фрегата и потребовали от имени резидента острова Боеро, чтобы корабли вышли в море немедленно же. Ярость Бугенвиля увеличивалась оттого, что приходилось так или иначе вступать в объяснения с бездушными чиновниками.
Что сказать резиденту? Что он предпринимал путешествие во имя науки? Что он пересек Тихий океан для того только, чтобы пополнить ее кладовые новыми сокровищами? Он схватил лист бумаги с твердым намерением проклясть резидента и всю его чиновничью свору. Но вместо этого написал:
«Выйдя с Малуинских островов и направляясь в Индию через Южное море, французские корабли из-за встречных муссонов и недостатка продовольствия не смогли дойти до Филиппинских островов, а поэтому вынуждены были зайти в первый попавшийся порт Моллукских островов за безотлагательной помощью, которую я, Луи Антуан де Бугенвиль, командир обоих кораблей, прошу оказать во имя человечности».
Бугенвиль просил передать резиденту на словах, что он, Бугенвиль, не тронется с места и не позволит кому бы то ни было поднять якоря, хотя бы всему экипажу пришлось тут же, на виду у всего населения острова, умереть голодной смертью.
Учтиво улыбаясь, оба чиновника расшаркались, надели шляпы с широкими полями и отбыли на берег.
Через два часа от резидента, Генриха Оумана, пришел ответ. Оуман просил господ офицеров сойти на берег и быть его личными гостями. Резидент занимал огромный дом, обслуживаемый целой армией невольников.
«Со времени древних сатрапов никто не жил в такой роскоши», — подумал Бугенвиль.
Ужин, приготовленный для офицеров, вызвал не просто восхищение, но изумление.
Первым устремился к столу принц Нассау. Бугенвиль остановил его властным движением руки.
— Не торопитесь, принц, — сказал он. Затем, обращаясь к резиденту, продолжал: — Нужно быть моряком, мосье Оуман, и дойти до крайних лишений, чтобы понять, какие чувства вызывает в моих людях вид этих прекрасных кушаний. Однако прошу простить меня за прямоту, но я должен сказать, что не притронусь ни к чему и запрещу моим подчиненным также садиться за стол до тех пор, пока экипажи моих кораблей не будут накормлены.
Глаза Оумана округлились от удивления. Но резидент быстро нашелся. Маленький,
с выступающим животиком, он подкатился как шарик к Бугенвилю и взял его за локоть.
— Господин капитан, раскрою вам секрет полишинеля, который вы, разумеется, знаете не хуже меня. Компания запрещает мне принимать кого-либо из иностранцев, я могу и пострадать, — Оуман раскатился жирным смешком. — Но столь мужественные и смелые люди, как вы, мне по сердцу. Я не только отошлю на корабли все необходимое, но и обязуюсь каждый день вашего пребывания здесь давать вам по целому оленю, а к отходу кораблей доставить восемнадцать быков, несколько баранов и столько дичи, сколько пожелаете.
Оуман явно упивался собственной щедростью. Он не мог скрыть удовлетворенной улыбки, когда принц стал горячо благодарить его.
Но через несколько дней моряки убедились, что щедрость резидента есть не что иное, как жалкая подачка. На острове паслись бесчисленные стада скота, склады были забиты различной снедью. Но все это принадлежало Ост-Индской компании.
Вскоре моряки завязали оживленную торговлю с жителями острова, его коренными обитателями. Но все деньги, которые островитяне получили за коз, фрукты, рыбу, яйца, они потратили на жалкие клочки цветной материи, продающейся здесь голландцами по очень дорогой цене.
Бугенвиль, присматривавшийся к жизни на острове, записал в свой дневник, что здесь построен укрепленный форт, названный как бы в насмешку «Фортом обороны». Весь его гарнизон — сержант и двадцать пять солдат. На острове жила лишь горстка европейцев. А невольников-негров — тысячи и тысячи. Они с утра до ночи гнули спину на многочисленных плантациях. Компания доставляла на остров невольников с Серама и Целебеса, нередко пользуясь для этого услугами пиратов, охотившихся за живым товаром. Голландцы ловко поддерживали рознь между местными вождями, чтобы безраздельно властвовать на острове.
Постепенно перед Бугенвилем и его друзьями раскрывались характерные черты могущественной державы, называвшейся голландской Ост-Индской компанией, которая ревностно охраняла тайны своей внутренней жизни.
Почти весь лес на побережье был вырублен, его место заняли плантации. Чтобы добраться до леса, Коммерсону приходилось проделывать несколько лье. Натуралиста теперь сопровождал французский моряк, случайно оказавшийся на острове и зачисленный по его просьбе в команду фрегата. Он помог ученому изловить диковинное животное — кошку, которая носит детеныша в особой сумке на животе. Коммерсон очень обрадовался находке.
Ослабевшая от цинги Барре проводила целые дни на берегу моря. Здесь всегда можно было найти тенистое место, обвеваемое легким ветерком.
Как много произошло в ее жизни за два года! Решившись отправиться в неизведанное, она совсем не думала, что кроме диковинных земель познает и людей. Вот дю Гарр и шевалье де Бушаж. Носят одинаковые мундиры и даже внешне довольно схожи, но какие они разные!
Однажды де Бушаж пришел к Жанне с какой-то книгой.
— Ее написал наш соотечественник, аббат Прево, — сказал он девушке, — я купил ее здесь, на острове. В ней описывается много путешествий и приключений.
— Неужели все еще пишут книги? — спросила Жанна. — Ведь их и так уже слишком много.
— Книг никогда не может быть слишком много, — сказал шевалье, — всякое чтение полезно, ибо дает пищу уму и наводит на размышления.
— Кажется, я вряд ли приохочусь к чтению, — сказала Жанна. — Мосье Коммерсон давал мне много книг, но все они показались мне скучными, я могла одолеть лишь несколько страниц.
Шевалье сел на ствол поваленного бурей раскидистого дерева. Жанна, придерживая платье, устроилась рядом. Она уже успела преобразиться, оставив в голландской лавке все свое жалованье.
Де Бушаж взглянул на нее.
— Ты теперь совсем другая, Жанна, в этом платье и туфлях. Никогда бы не поверил, что ты можешь выглядеть настоящей дамой. Я даже робею в твоем присутствии.
— Какая же я дама? У меня обветренное лицо и грубые руки, как у любого матроса.

С де Бушажем Жанна чувствовала себя легко и просто. В путешествии, вдали от родины, она обрела настоящих друзей. Но что будет, когда они возвратятся во Францию? Там она не сможет быть слугой, вернее помощницей Коммерсона, как здесь. Там ее удел кухня и стирка белья — обычные обязанности служанки. Она взглянула на де Бушажа: можно ли рассказать ему об этом?
Шевалье как бы угадал ее мысли.
— Вот что, Жанна, — сказал он, — теперь ты побывала в самых отдаленных уголках земли, а вот по парижской мостовой еще никогда не ступала. Хочешь, я возьму тебя в столицу?
— Спасибо, мосье, вы так добры ко мне, — вспыхнула Жанна. — Право, не знаю, чем я это заслужила. Я охотно отправилась бы с вами куда угодно, но вот мосье Коммерсон…
Де Бушаж задумчиво смотрел на море.
На синей глади залива покачивались в такт набегавшим волнам суда голландской компании. Среди них выделялся стройный корпус фрегата.
— …Если бы можно было не расставаться с вами обоими, — тихо добавила Жанна.
Моряк взял в свою широкую ладонь ее руку и осторожно пожал ее.
Как всегда после высадки на берег, цинготные больные вскоре почувствовали себя значительно лучше.
Пополнив запасы провианта, Бугенвиль решил сняться с якоря и, используя попутные ветры, дующие в это время года, добраться до Батавии. Несмотря на кажущееся расположение к французским морякам, резидент острова Генрих Оуман наотрез отказался дать им точную карту здешних вод. Бугенвилю не позволили даже следовать за голландской шхуной, уходившей на Яву. «Будёз» и «Этуаль» в одиночестве вышли из порта, чтобы начать бесконечное блуждание среди множества островов Молуккского архипелага.
Голландцы не только не дали никаких объяснений, но и сознательно преувеличили трудности плавания. На французских же картах некоторые острова были показаны неточно, широты определены не всегда правильно. Поэтому де Бушажу ежедневно приходилось вести точные обсервации широты. Это была трудная и утомительная, но совершенно необходимая работа.
Экипажи кораблей не могли насытиться после продолжительной голодовки. Матросы накупили у обитателей попадавшихся на пути островов всякой живности, плодов, зелени. Нельзя было ступить по палубе и шагу, чтобы из-под ног с громким кудахтаньем не вылетела курица. Цинга исчезала на глазах. Однако моряков подстерегала другая опасность…
Перемена пищи, хотя и в лучшую сторону, не могла не отразиться на пищеварении. И вот у многих появились признаки острых кишечных заболеваний. Началась дизентерия. В жарком климате, с постоянными душными испарениями она была болезнью особенно опасной.
Но моряки не падали духом. Даже больные выходили на палубу, когда впереди по курсу открывалась новая земля.
Еще несколько недель, и моряки увидят Батавию.
Но общее приподнятое настроение было омрачено смертью боцмааа Пишо. Он так и не смог оправиться от болезни, свалившей, его еще у острова Бука.
Старый моряк, избороздивший на своем веку все океаны, не выдержал трудностей этого, ставшего в его жизни последним, пути.
Отец Лавесс с безразличным выражением произнес краткую молитву, и тело Пишо, завернутое в парусину, скользнуло в глубину.
Через несколько дней на пути фрегата оказалось небольшое судно, похожее на ящик, с пирогой на буксире. Оно шло одновременно под парусом и на веслах, держась у самого берега. К Бугенвилю подошел французский матрос, нанятый на Боеро и плававший ранее на голландских судах.
— Мосье капитан, — сказал он, — это пиратское судно, охотящееся за невольниками.
— Как, — вскричал Бугенвиль, — В таком случае мы откроем по нему огонь без предупреждения!
Но пираты, видимо, почуяли опасность. Они сразу же изменили курс и вскоре исчезли за одним из бесчисленных островков.
— Жаль, — сказал Бугенвиль капитану Дюкло-Гийо, — что это судно скрылось. Мы могли бы отплатить хотя бы за некоторые из тех жестокостей, которые здесь, в голландских водах, происходят ежедневно, ежеминутно. Я узнал на острове Боеро кое-что о голландском управлении Ост-Индской компании.
— Да уж, — сказал в тон ему Дюкло-Гийо. — Я сам видел человека, у которого выжгли на лбу клеймо и наказали кнутом за то, что он показал англичанину карту этих мест! Вот и нам теперь приходится плавать, как в тумане, среди этих многочисленных островков.
Капитан зло сплюнул за борт.
— Не только так голландцы охраняют свои владения, — сказал Бугенвиль. — Когда они вытеснили отсюда испанцев и португальцев, то очень скоро убедились, что защищать монопольное положение в торговле пряностями трудно, а помешать контрабандной торговле еще труднее. Тогда они принялись уничтожать растения, дающие пряности, и оставили их только в нескольких, хорошо охраняемых местах. Резидент на Боеро говорил мне, что Ост-Индская компания выплачивает ежегодно двадцать тысяч рис-далей королю острова Тернате только за уничтожение этих растений.
Бугенвиль прошелся по шканцам. Заметив появившегося на палубе Вивэ, он нахмурился.
Хирург поразительно напоминал шпиона провинциальной полиции, на медика же он был похож мало. Сейчас Вивэ расхаживал с таким видом, будто и не он, корчась от страха, ползал на животе по земле острова Бука, не решаясь поднять глаз на начальника экспедиции.
— Добрый день, мосье, — сказал Вивэ, натянуто улыбаясь.
Бугенвиль едва ответил на поклон и, обращаясь к Дюкло-Гийо, заметил:
— Думаю, что этой богатейшей коммерции будет нанесен сильный удар. Голландцы могут настроить еще немало военных укреплений, поместить там свои гарнизоны, но здесь все против них. Жестокость вызывает сопротивление угнетенных островитян. При каждом удобном случае они нападают на голландские форты и сжигают их. Частые землетрясения также разрушают постройки голландцев. Вредный климат ежегодно уносит почти две трети солдат и рабочих, посылаемых сюда. Компания не может уничтожить все растения, дающие пряности. Никогда еще подобная мера не приносила хороших результатов. Кстати сказать, англичане все чаще появляются в этих водах и уже неоднократно силон оружия заставляли голландцев отдавать пряности и плоды.
Вивэ хотел что-то возразить, но тут прибежала Барре.
В слезах, не помня себя, девушка бросилась к хирургу.
— О боже! Шевалье де Бушаж… Ему очень плохо. Спасите его, мосье Вивэ, умоляю вас.
Вивэ отступил на шаг и искоса посмотрел на Бугенвиля.
— Идите к главному хирургу, мосье ла Порту, он поможет вашему… Бушажу.
Жанна не обратила внимания на издевательский тон Вивэ. Она бросилась к нему и схватила за рукав камзола:
— Разве вы не знаете, что мосье ла Порт в лихорадке, бредит. Идемте же! — И Барре с неожиданной силой увлекла за собой упиравшегося Вивэ.
— Немедленно идите, Вивэ, — приказал Бугенвиль, — и доложите о состоянии здоровья шевалье! Впрочем, я отправлюсь с вами.
Де Бушаж лежал в жару. Его длинные черные волосы разметались, впалые щеки горели лихорадочным румянцем, глаза блестели. Узнав капитана, шевалье попытался улыбнуться.
Вивэ, едва взглянув на больного, сухо произнес:
— Сильная лихорадка и дизентерия. Ему надо пустить кровь.
Бугенвиль сделал протестующий жест.
— Неужели вы не понимаете, что больной очень слаб, потеря крови может быть для него роковой.
— Я хочу сделать то, что предписывает медицина, — сказал Вивэ. Он обернулся и строго посмотрел на Барре, стоявшую у двери. — А вам, мадемуазель, здесь делать нечего. Больного перенесут в лазарет.
Бугенвиль взял Бушажа за руку. Она была сухой и горячей.
— Крепись, старина, мы еще с тобой поплаваем. — И, наклонившись к самому уху шевалье, что-то тихо сказал ему. Потом выпрямился — Мосье Вивэ, вы сделаете все необходимое, но только не пускайте больному кровь. Извольте также осмотреть ла Порта. В его услугах мы сейчас нуждаемся больше, чем когда-либо.
Вивэ склонил голову.
— Слушаюсь, мосье.
Бугенвиль еще раз посмотрел на де Бушажа. Шевалье закрыл глаза и тихо стонал. Врывавшийся в каюту ветер играл листами книги аббата Прево. Из-за двери доносился сдержанный плач Жанны.
Стояла очень теплая погода — в южном полушарии было начало лета. Дули постоянные юго-восточные ветры. Фрегат легко рассекал волны мощным форштевнем. Продолжительная стоянка в Батавии — крупнейшем порту Ост-Индии — не оставила никаких приятных воспоминаний. Французские моряки с удивлением убедились, как жесток здесь введенный голландцами колониальный режим. За малейшую провинность яванцу отрубали голову, жители были лишены всего. Компания вывозила с острова пряности, равноценные золотой валюте. Служащие компании — члены верховного регентского совета, судебной коллегии, а также духовенство, офицеры флота и военные — наживали огромные состояния.
Пока корабли стояли у острова, продолжала свирепствовать дизентерия.
Взяв запас вина, свежих сухарей, мяса, Бугенвиль поторопился выйти в море. И не было ни одного человека, который был бы не рад этому. Корабли взяли курс на Иль-де-Франс (остров Маврикий). Во время этого перехода эпидемия дизентерии поразила и таитянина. Аотуру тяжело береносил болезнь. От прежней веселости не осталось и следа. И хотя юноша безропотно принимал все лекарства, предписанные ему главным хирургом ла Портом, выздоравливал он медленно. Климат Батавии ему пришелся не по душе, и он часто жаловался Бугенвилю на то, что плавание продолжается слишком долго, — не так, как он рассчитывал.
Наконец показалась долгожданная земля. На фоне темной зелени выделялись белые здания Порт-Луи — главного города Иль-де-Франса. Возле самого порта, как бы прислонясь к нему, виднелась высокая Пальцевая гора. Склоны ее поросли лесом и искрились водопадами. Невдалеке от порта в море впадала большая река.
Кое-где виднелись поляны, на которых возделывали сахарный тростник. Плантации были окружены длинными рядами камней. Когда фрегат входил в порт, перед глазами моряков возник целый лес мачт и рей. Сквозь этот лес можно было разглядеть лишь часть дома, дерева, крыши, мола.
Уже в виду острова Иль-де-Франс шевалье де Бушажу стало хуже, и, несмотря на все старания ла Порта, он скончался на руках Бугенвиля, не отходившего от штурмана ни на шаг. Тело де Бушажа перенесли на берег и похоронили с воинскими почестями. Бугенвиль долго сморкался в большой клетчатый платок, глаза его покраснели. Он не мог говорить и произнес у могилы шевалье всего несколько слов:
— Наше благополучное плавание жестоко омрачено смертью шевалье де Бушажа, который был исключительно благородным человеком. Наряду с большими знаниями морского дела он соединял в себе все лучшие качества ума и сердца!
Барре не плакала. Но черты ее и без того худого лица обострились, она куталась в теплую шаль, хотя стояла очень жаркая погода.
Как и всегда на стоянке, у Бугенвиля было много забот: ремонт судна, закупка и погрузка продовольствия, различные нужды экипажа.
После визита к губернатору острова, мосье Пуавру, он решил списать с фрегата часть моряков, пожелавших остаться здесь для каботажных плаваний. Перевезли на берег некоторые инструменты и научное оборудование, которое уже не было нужно экспедиции. Бугенвиль распорядился оставить на острове большой куб для опреснения морской воды — недавнее техническое усовершенствование.
Как-то вечером в домик, который занимал Бугенвиль, пришел Коммерсон и сказал, что намерен остаться на острове Иль-де-Франс для продолжения научных исследований.
— Как, Филибер, — воскликнул Бугенвиль, — неужели вам недостаточно того огромного количества растений, которые вы собрали во время путешествия?
— Знания человека лежат мертвым грузом, покуда он не найдет им практического применения, — ответил Коммерсон. — До этого плавания я не представлял себе и сотой доли богатств земли. Теперь же я знаю неизмеримо больше, чем мои коллеги во Франции. И вот мне в голову пришла идея, которой я отныне посвящаю свою жизнь. До сих пор ученые располагали растения в своих систематиках произвольно. Я же хочу положить начало естественной классификации растений, так как это есть в действительности, в самой живой природе. А для этого еще нужны факты и факты… — Коммерсон помолчал, покашлял. — Да, вот еще: Барре остается со мной. Она не хочет возвращаться во Францию.
Бугенвиль с сомнением посмотрел на ученого. Лишения, перенесенные им в Южном море, конечно, не прошли бесследно. Глаза Коммерсона блестели ярче обычного. Он перенес и цингу, и дизентерию. Напряженная работа также подорвала его силы.
Бугенвиль теперь жалел, что очень мало времени провел в обществе ученого. Они виделись лишь урывками, а поговорить обстоятельно было попросту некогда. Но, отдавая все силы общему делу, они разделяли все трудности и опасности далекого пути. А это, пожалуй, сближает не меньше, чем долгие часы самых задушевных бесед.
Коммерсон сидел, опустив голову на руки, в позе бесконечно усталого человека.
Бугенвиль приказал принести бургундского и наполнил бокалы.
— Ну что же, за ваше здоровье, мосье.
— А я пожелаю вам благополучного плавания, ведь еще тысячи миль отделяют фрегат от берегов отчизны. То что вы сделали, капитан, прославит вас навсегда. Да и меня, пожалуй. — Коммерсон встал из-за стола и низко поклонился. — Остров, которому вы дали мое имя, будет обозначен на всех морских картах.
— Вы заслужили большего, мосье. Сказать по чести, вашим именем вполне справедливо можно было бы назвать целый архипелаг.
— О нет, во Франции есть много людей, чей ум и достоинства гораздо более заслуживают быть отмеченными. Я имею счастье близко знать Вольтера и Дидро, преклоняюсь перед гением Руссо, хотя и не все его идеи разделяю…
Бугенвиль улыбнулся.
— Некий парижский издатель говаривал, что хотел бы заполучить всех троих и держать их на чердаке без штанов. Но, к сожалению, один из них слишком богат, а двое других не согласятся получать за свой труд построчно…
Коммерсон прищурил глаза:
— Смотрите, как бы этот издатель не заполучил вас в качестве компенсации. Ведь вы, мосье, уже достаточно знамениты. Боюсь только, вы не захотите остаться без столь важной части туалета.
— Ну, чтобы сквитаться с вами, дорогой Коммерсон, скажу, что моему издателю придется изрядно побегать за мной по белу свету. В таком случае он прежде меня окажется без штанов. Да, что же это, Филибер, вы только прикоснулись к бокалу!
Увидятся ли они когда-нибудь? Конечно! Но, вероятно, пройдут долгие годы. Сказать Коммерсону о том, что он задумал давно, еще в южных морях? Никто пока не знает о зародившихся у него во время путешествия планах. Белые пятна на карте не дают покоя пытливым людям. И кто знает, если б не было смелых дерзаний, какими знаниями располагало бы человечество? Бугенвиль сделал большой глоток из бокала.
— Моему издателю трудно будет найти меня, ибо я решил отправиться… — Бугенвиль сделал паузу, — к Северному полюсу.
Лицо Коммерсона сразу покрылось красными пятнами. Он понял, что на сей раз его собеседник не шутит. Вот как! Что ж, ему по душе смелые решения. Коммерсон порывисто вскочил и бросился к капитану.
— Погодите, мосье, — остановил его Бугенвиль. — Пока я вам ничего больше не скажу. Я все продумаю и изложу свой план в записке морскому министру как только вернусь во Францию. Но
обещаю, что вы первый узнаете подробности моего проекта.
Коммерсон был тронут.
— Вместо банальных пожеланий успеха мне хочется преподнести вам подарок, хотя бы самый скромный. Ведь я еще не рассчитался с вами за остров, носящий мое имя. Одну минуточку, мосье.
Ученый встал, наглухо застегнул сюртук, неторопливо вышел из комнаты и спустился в сад.
Бугенвиль твердо решил отказаться от любого ценного подарка. Ученый располагает более чем скромными средствами, а ведь ему предстоит не один год провести на острове, чтобы выполнить хотя бы часть своих грандиозных планов.
Коммерсон вернулся с большой веткой, усыпанной красивыми ярко-красными цветами. Он подошел к Бугенвилю и, держа ее в вытянутой руке, торжественно заговорил:
— Это растение, мосье, принадлежит к числу самых распространенных на островах Южного моря. И совсем недалеко отсюда я случайно нашел его. Но, как ни странно, оно еще не известно науке. Я льщу себя надеждой, что мне принадлежит честь открытия этого вида, и отныне он будет известен ботаникам как
бугенвиллея.
Старый слуга, пришедший спросить, не нужно ли еще вина, с удивлением увидел, что капитан первого ранга флота его величества обнимает одетого в старый сюртук пожилого человека с печальными глазами.
Серое небо отражалось в таком же сером море… Иногда моросил мелкий дождь. Холодный, пронизывающий ветер свистел в реях. Когда ветер свежел, верхушки невысоких волн покрывались пеной. Аотуру зябко кутался в два плаща, принесенных ему услужливым комисом по приказанию Бугенвиля, но не уходил в каюту. Он по-прежнему целые дни проводил на палубе, хотя еще не поправился после болезни. Прошло почти десять месяцев, как фрегат покинул Отаити.
Соломоновы острова… Новая Британия… Новая Гвинея… Ост-Индия… Батавия… Иль-де-Франс…
Узнав, что Бугенвиль нашел наконец своих соотечественников на Иль-де-Франсе, Аотуру обрадовался. Конец пути! Вот она, Эноуа Парис. Никуда не нужно более плыть, испытывать голод и лишения. Он так ослаб во время плавания, что хотел только дожить до этого дня.
Но нет: корабль нагружали, чинили повреждения. И вот снова поставлены паруса. Надулся большой грот, марсели выгнулись вперед, и фрегат опять скользит по океану.
Мыс Доброй Надежды… Остров Асунсьон… Азорские острова.
Аотуру привык к мысли, что никогда не увидит Францию, куда так жадно стремился десять месяцев назад.
Звездное небо изменилось. Он уже не видел ни одного знакомого созвездия.
Еще на Иль-де-Франсе Бугенвиль предлагал ему остаться, напоминая, что оттуда легче вернуться на родину. Но таитянин упрямо отказывался. Он хочет своими глазами увидеть таинственную землю — Эноуа Парис. Но плавание затянулось.
Не желая огорчать Аотуру, Бугенвиль на каждой стоянке говорил ему, что это последняя, в следующий раз они отдадут якорь у родных берегов, но сам невольно думал: «Сколько было таких стоянок после выхода из Бреста!».
Бугенвиль осунулся. Он замкнулся и почти ни с кем не разговаривал, все больше времени отдавал своим записям. Запершись в своей каюте, он часами писал.
Нет де Бушажа. Остались вдали Коммерсон, Веррон, Роменвиль. Похоронен в море боцман Пишо…
К Бугенвилю приходили де Бурнан, Дюкло-Гийо. Но разговор не клеился. Они никогда больше не встретятся на одной палубе. И от этого было грустно и тоскливо, хотя каждый с нетерпением ждал того момента, когда ступит наконец на родную землю.
Зато отец Лавесс и Сен-Жермен заметно оживились. Они опять стали появляться на палубе фрегата под руку, подолгу мирно беседовали.
У берегов Европы «Будёз» догнал корабль Картерета. Бугенвиля удивило, что британское Адмиралтейство выделило такое неуклюжее тихоходное судно для дальнего путешествия. Два капитана провели вместе несколько часов. Картерет и не подозревал, что Бугенвиль совершил кругосветное плавание.
— Вы знаете, сэр, — сказал англичанин, — я получил известие, что из Англии еще в 1768 году отправился в длительное плавание некто Джемс Кук. Удивляюсь, почему ему оказано такое доверие. Кажется, ничем особенным он себя не проявил. Правда, этот Кук отличился в Семилетней войне, где показал себя хорошим разведчиком на реке Святого Лаврентия.
— Я, мосье, тоже отлично знаю эту реку, — возразил Бугенвиль. — Ведь я был тяжело ранен в сражении под Квебеком.
— О, простите, сэр, я и не знал… — Картерет смущенно замолчал. И потом, чтобы сгладить неловкость, заговорил о нравах жителей Новой Гвинеи.
Бугенвиль подумал о том, что уж слишком часто стали выходить англичане в Южное море. Джемс Кук? Кажется, он слышал о нем как об удачливом и талантливом офицере. Впрочем, нетрудно и перепутать эти английские фамилии.
В последующие несколько дней сильно штормило и дрейфующее судно отнесло в пролив Ла-Манш.
Вот-вот должны были показаться берега Франции, которую моряки не видели уже почти три года. Бугенвиль рассматривал в подзорную трубу верхушки волн. К нему подошел Дюкло-Гийо:
— Мосье, боцман доложил, что с минуты на минуту может сломаться фок-мачта ниже топа. Сотрясение, которому она подверглась после поломки реи, оказалось сильнее, чем мы предполагали.
Бугенвиль и Дюкло внимательно осмотрели мачту.
— Да, долго она не продержится, — сказал Бугенвиль. — Придется переменить курс и идти не в Брест, а в ближайший от нас порт Сен-Мало.
Волнение усилилось. Бугенвиль напряженно всматривался в даль.
— Вот она, Франция! — протянул он руку на юго-восток.
Аотуру ринулся к борту и схватился за планшир. Потом подбежал к Бугенвилю и почти вырвал из его рук подзорную трубу. Он отставил правую ногу и, упершись рукой в бок, поднес трубу к глазу. Но увидел только невысокие желтые скалы. Они казались совершенно безлюдными.
Аотуру опустил подзорную трубу и растерянно оглянулся.
Сен-Мало — старинный порт Франции. По преданию, в монастыре на гранитном острове, окруженном мрачными стенами, жил монах, принявший имя Мало. Впоследствии он стал одним из первых епископов Бретани. Стены города видели много сражений. Коронованные особы в сопровождении многочисленной свиты торжественно въезжали в городские ворота. Здесь были Карл VI и Франциск I, Карл IX и его двор. Особое свободолюбие горожан вынудило покинуть Сен-Мало Генриха IV, который согласился с требованиями малуинцев, чтобы город управлялся губернатором.
Со стороны моря издавна грозил своим вторжением враг. Во время одной из войн с англичанами город сильно пострадал: противник направил в порт несколько горящих брандеров. Взрыв пороховых складов в порту уничтожил много строений, со зданий сорвало крыши.
И все же малуинцы навсегда отдали свои симпатии морю. Немало уроженцев Сен-Мало отправлялось к берегам неведомых земель. И ни один горожанин не оставался равнодушным, когда в порт входил корабль, особенно если он возвращался из дальнего плавания, преодолев тысячи миль морских дорог.
К Сен-Мало, лавируя и огибая многочисленные мели, подошел фрегат, с изорванными парусами и обросшим зелеными водорослями корпусом, и попросил лоцмана. Можно было сразу же узнать в нем морского бродягу, проведшего в море долгие годы.
А когда портовые мальчишки разнесли по всему городу весть, что это тот самый фрегат, который покинул французские берега три года назад и, обогнув всю Землю, возвратился теперь в Сен-Мало, чтобы здесь закончить свое достопамятное плавание, в порту собралось почти все население города.
Но оказалось, что были в нем и люди, недовольные благополучным исходом плавания.
Камердинер герцога Дегийона, посланный хозяином узнать, какое судно столь необычного вида входит в порт, получил за известие увесистую пощечину.
— Ты что-то перепутал, — закричал герцог, — «Будёз» не мог вернуться! Он должен был прибыть еще два года назад, а если тогда не вернулся, то давно погиб в Южном море!
— Не знаю, ваша светлость, — бормотал опешивший камердинер. — Я еще раз узнаю, ваша светлость…
Он попятился от разгневанного герцога и, пользуясь тем, что хозяин отвернулся, незаметно выскользнул из кабинета.
А герцог и сам уже видел, что это тот самый корабль, которому нужно бы покоиться на дне океана. Он молча следил, как на корабле быстро и проворно опускают реи и стеньги, как по правому борту заплясала на волнах капитанская шлюпка.
Дегийон нетерпеливо позвонил в колокольчик. И когда настороженный камердинер снова вырос перед ним, герцог злобно улыбнулся:
— Немедленно просить ко мне капитана!
Привыкший хорошо разбираться в интонациях голоса своего хозяина, камердинер подумал, что не хотел бы оказаться на месте капитана фрегата, разве только… Разве только этот человек способен потягаться с самим Дегийоном.
Глава IX
Эноуа Парис

Я готов думать, что… таитяне, которые строго придерживаются законов природы, ближе к хорошему законодательству, чем любой цивилизованный на-рад.
Дени Дидро
Штормовой ветер пересыпал песчаные дюны Ла-Манша, обнажая корни низкорослых сосен. Темные рваные тучи, бегущие с запада, осыпались дождем над Парижем, монотонно барабанили по крышам и покрывали рябью свинцово-серую Сену. Кареты, громко стуча по булыжной мостовой, обдавали грязью прохожих.
А за тысячи миль от Парижа, в Индийском океане, стояла безветренная жаркая погода. Начиналось лето. Влажные испарения заросшего буйной растительностью острова были источником тропических болезней. Этот климат был вреден Коммерсону. По ночам его все чаще душил кашель. Врач из Форта-Дофин, французского поселения на Мадагаскаре, настойчиво советовал Коммерсону покинуть тропики и незамедлительно переселиться в страну с более умеренным климатом. Уехать? Но ведь еще почти ничего не сделано. Не описано даже половины тех растений, которые здесь, на Мадагаскаре, впервые встретились ученому. Да и на островах Бурбон и Иль-де-Франс (Реюньон и Маврикий), где он работал после того, как сошел с фрегата «Будёз», еще очень много интересного. Он собирался как-то систематизировать бесчисленные коллекции, собранные им в кругосветном плавании. А в мире еще столько неизученного. Здесь, на Мадагаскаре, Коммерсон нашел чрезвычайно любопытный вид лемура, который является промежуточным звеном между двумя другими видами этого животного.
Когда еще побывают на острове зоологи? А открытия одно за другим сами идут в руки. Вот гидроидная медуза — зонтик колоколообразной формы с четырьмя пучками щупалец и четырьмя пигментными пятнами. Ведь соответствующая этой медузе известная натуралистам форма имеет всего один венец щупалец. Даже одно это открытие взбудоражит Академию наук.
Казалось, Коммерсон только здесь понял, что целый мир неведомого окружает человека. Еще не нанесены на карту очертания берегов даже открытых земель. А что знает человечество о внутреннем строении земного шара? Океанское дно и атмосфера, планеты, совершающие свой путь вокруг солнца. А дальше — бесконечные космические пространства. Все это еще ждет своих исследователей, первооткрывателей, бесстрашно идущих навстречу неведомому.
Но что может сделать человек в одиночку, будь он трижды гениальным? Нет, нужен отряд ученых, именно отряд, действующий согласованно, целеустремленно, как дисциплинированные воины. Коммерсон еще два года назад направил губернатору острова Иль-де-Франс мосье Пуавру докладную записку о создании на острове Академии наук для изучения тропических стран. Добрейший Пуавр, сам занимавшийся ботаникой и зоологией, направил эту записку во Францию, на рассмотрение двора и Академии. Ответа не последовало. Но Коммерсон не терял время даром. Эти годы он работал как каторжник: побывал на острове Бурбон, потом с Кергеленом и астрономом Рошоном отправился на юг Индийского океана, и вот теперь — Мадагаскар.
Сегодня должно прибыть французское судно «Тритона, совершающее обычные рейсы между Мадагаскаром и ИлЬ-де-Франсом, и можно будет отправить на родину письма. Это единственное, что связывает его теперь с друзьями. Лаланд, аббат Пуассонье, Бугенвиль… Как встретили его во Франции? Одобрили ли его проект в министерстве? Удастся ли ему осуществить задуманное? Ведь это еще один шаг в познании мира. Коммерсон решил назвать открытый им вид колоколообразной медузы, как и чудесный красный цветок, —
бугенвиллеей.
Итак, сначала письмо Бугенвилю. Коммерсон уже сообщал ему об островах Иль-де-Франс и Бурбон, об экспедиции вместе с Кергеленом в южную часть Индийского океана. Теперь о Мадагаскаре.
Какая это чудесная страна! Конечно, в коротком письме невозможно рассказать о богатствах огромного острова, изучение которого потребует усилий многих ученых в течение долгих лет. Эта страна может многое дать любознательному человеку. Кажется, природа возложила все свои богатства на алтарь Флоры, чтобы по этим образцам вылепить другие формы в иных землях. Растения самые необычайные, самые причудливые встречаются здесь на каждом шагу.
Но не только растительность занимала Филибера. Как можно не стремиться узнать поближе жителей этой страны? Коммерсон часто общался с ними. Ученый занес в свой дневник, что здешние жители умны, мягки, поначалу гостеприимно встречали европейцев. Но жестокость португальцев, голландцев, а затем французов вызывала ответные враждебные действия местного населения. Оттого и приобрел этот остров в последние годы такую дурную славу.
Бугенвиль поймет все это. Ведь за время их совместного плавания он мог не раз убедиться, как часто доверчивость туземцев используется во вред им.
Коммерсон подробно описал жилища мадагаскарцев, их утварь, обычаи, нравы. В доказательство их доброты и доброжелательности он сообщил Бугенвилю, что в тот момент, когда отношения между местными жителями и европейцами, поселившимися здесь, были особенно обострены, он один пересек весь остров в сопровождении только Барре, без всякого оружия, и ни разу не подвергся какой-либо опасности.
Теперь письмо Лаланду. Астроном часто и много писал ему о парижских новостях, о том, что говорят и о чем спорят в Академии наук. Старый друг выхлопотал ему хорошее содержание, которое позволяет, не тревожась о хлебе насущном, продолжать научные изыскания.
И опять он начал письмо с описания природы Мадагаскара. Даже Бюффон нашел бы здесь достаточно материала, чтобы в несколько раз увеличить объем своей «Естественной истории». А сделав это, он неизбежно пришел бы к выводу, что приподнял только краешек завесы, скрывающей богатства природы этого острова. Линней имеет в виду семь-восемь тысяч видов растений. Предположим, что знаменитый Шерард знал их около шестнадцати тысяч, а современный систематизатор думает, что дошел до максимума, насчитав двадцать тысяч видов.
Какое заблуждение! Коммерсон с улыбкой подумал о том, что он один, вероятно, собрал не менее двадцати пяти тысяч разных видов. Среди них почти пятая часть — не известны науке! А сколько их на земле, если здесь, на Мадагаскаре, он открывает чуть ли не каждый день новый вид? Может быть, во много раз больше, чем собрал он, Коммерсон. И когда же, наконец, можно будет приступить к их систематической подробной классификации? Этого нельзя сделать, зная так мало о растительном мире. Как же не посмотреть с жалостью на кабинетных ученых, которые, составив никому не нужные схемы, самодовольно думают, что тем самым упорядочили современные знания о растительном мире Земли.
«В самом деле, — писал Коммерсон, —
за исключением Бразилии, я имел счастье собирать растения в странах, вновь открытых. А обработал ли их хоть наполовину? И не осталось ли еще исследовать ученым Австралию, Китай, Японию, Филиппины, Монголию и бесконечное множество островов Полинезии в Тихом океане? И на чем основывается претензия некоторых ученых, что уже исследованы неисчислимые богатства Кохинхины, Сиама, Суматры, Центральной Индии, Аравии, всей Внутренней Африки и обширного американского континента?
Я забирался на горные вершины, возвышающиеся над Магеллановым проливом. Это лишь небольшая часть мира, но даже и там я нашел много растений, не известных натуралистам.
И пусть никто не говорит, что растения должны повторяться в тех же климатах и на том же материке. Это может быть справедливо только до известной степени и для некоторых растений, которых и не так уж много. Но я могу заверить, что всюду, где бы я ни был, я видел различную картину растительности. Бразилия не имеет ничего общего с районом по реке Ла-Плате, а этот последний с Патагонией и Огненной Землей. Часто даже, берега одной и той же реки несколько отличаются по своей флоре.
На острове Таити своя собственная растительность. Нельзя сравнить Молуккские острова и Яву. И какую невероятную разницу я обнаружил на трех островах — Бурбоне, Йль-де-Ф ранее и Мадагаскаре. А ведь эти острова — соседние и расположены примерно на одной и той же широте. Жоссини, рисовальщик, собрал гербарий побережья Короманделъ и Малабара. И я не узнал около двадцати растений!».
Остается еще письмо Дидро. Коммерсон знал, что великий философ с радостью прочтет его. Этот человек, может быть, даже более жаден ко всякого рода знаниям, чем он, Коммерсон.
Ученый покрывал страницу за страницей своим мелким почерком и тут же на полях быстро набрасывал по памяти новые формы растений, которые ему удалось открыть, любопытных животных, хижины жителей Мадагаскара, очертания вулкана на острове Бурбон, вулканическую лаву, собранную вблизи него, вновь открытый вид медузы.
— Мосье, на горизонте показался «Тритон». Скоро он бросит здесь якорь. Все уже собрались на берегу.
Коммерсон нехотя оторвался от исписанных листков и взглянул на Жанну Барре, которая стояла в дверях маленького бревенчатого домика.
Коммерсон натянул на потное тело белую куртку, надел соломенную шляпу с широкими полями.
— Пойдем, пойдем, Жанна. Я уже кончил свои послания.
Свежий морской ветерок приятно охлаждал лицо. Почти все немногочисленное население Форта-Дофин высыпало на берег. Приход судна — знаменательное событие. Все были оживлены и взволнованно следили за белыми парусами, выраставшими на глазах.
Но вот, к удивлению многих, показался еще один парус.
— Да это не «Тритон», мосье! — воскликнула Жанна.
Теперь уже и сам Коммерсон видел, что это не приземистое двухмачтовое судно, приходившее в три месяца раз на остров, а быстроходный фрегат, птицей летевший по темным волнам океана.
Второй корабль тоже быстро приближался к острову.
На флагштоках обоих судов развевались королевские штандарты. Навстречу неизвестному судну выслали лоцмана.
Через час Коммерсон сидел в каюте командира фрегата капитана первого ранга Мариона-Дюфрена.
Сначала разговор шел о пустяках, к которым обязывала вежливость. Но вскоре настороженность рассеялась, капитан оказался общительным, улыбчивым человеком.
— Как доплыли, капитан? — осведомился Коммерсон.
— Никогда бы путешествие не могло быть столь приятным, если бы не сильные ветры и не бушующее море, заставившие нас потерять несколько дней у этих неприступных берегов. Но, кажется, все страхи были сильно преувеличены. Однако вас, конечно, в первую очередь интересует, что же делается у нас, на родине. Правда, я уже сравнительно давно оттуда, прошел почти год, как я покинул берега нашей прекрасной Франции, но все же мои новости, может быть, окажутся для вас свежими.
— Прежде всего, — отозвался Коммерсон, — мне хотелось бы услышать о моем товарище по путешествию и руководителе мосье Бугенвиле. Я получил от него за это время всего два письма. Но, возможно, и другие где-нибудь ждут меня, а я их. Ведь за последние годы я проделал несколько тысяч лье, и мосье Пуавр, который всегда очень любезно пересылает мне всю корреспонденцию, мог быть в затруднении.
— Что ж, рад вам сообщить, мосье, что капитан в добром здравии и, кажется, замыслил новое длительное путешествие. По слухам, на этот раз он отправляется к Северному полюсу. Что из этого выйдет? Вы, мосье, наверное, знаете, что герцог Шуазель не у дел, он уже не министр. Говорят, что из-за происков Дегийона и пало министерство Шуазеля. Сам бывший министр обанкротился, его огромную картинную галерею пустили с молотка. И, как утверждают, большинство шедевров приобрел герцог Де-гийон.
Марион-Дюфрен рассмеялся, но тут же снова стал серьезен.
Коммерсон сидел и молча слушал капитана, опершись на трость и положив подбородок на согнутый локоть.
— Я много слышал о Бугенвиле, хотя и не имею счастья быть с ним знаком, — продолжал Марион-Дюфрен. — Ведь я уроженец Сен-Мало и помню прием, оказанный герцогом Дегийоном только что вернувшемуся из кругосветного плавания капитану. Он посадил капитана под арест на несколько суток, воспользовавшись каким-то пустяковым предлогом. Вряд ли и новый морской министр граф де Бриенн будет способствовать замыслам нашего знаменитого соотечественника. А жаль. От такого человека, как Бугенвиль, можно ждать удивительных открытий. Сейчас все говорят об англичанине Куке. Он, конечно, замечательный мореход. Но мне кажется, что Бугенвиль ни в чем не уступает ему.
Марион-Дюфрен помолчал, потом продолжал:
— Мы с Бугенвилем одногодки. Он поистине возбудил страсть к исследованиям у многих и многих наших моряков. Во всяком случае, для Франции он всегда останется образцом мужественности и решительности. Мне известно, что он относился гуманно к туземцам островов, которые посетили его корабли. Я читал труды, изданные Бугенвилем. В них он старается проверить и исправить наблюдения своих предшественников-мореплавателей. Можно сказать, что его дневники — настоящие путеводители по неизведанным морям.
— Наверное, вы, мосье, не ожидали увидеть на этом острове одного из спутников Бугенвиля? — спросил Коммерсон. Он проникся невольным уважением к человеку, который так восторженно отзывается о его друге и единомышленнике. Что ж, хорошо, что о нем сложилось такое мнение во Франции.
Но то, что услышал Коммерсон, заставило его вскочить с кресла, на котором он так удобно устроился.
— Я не хотел сообщать вам сразу печальные известия, — сказал Марион-Дюфрен. — Дело в том, что к этим берегам меня привело дело, связанное тоже с одним из спутников Бугенвиля в его плавании…
На фрегате находился Аотуру. Тот самый таитянин, к которому так привязался ученый. Но Аотуру болен черной оспой. Надежд на выздоровление почти нет! Коммерсон вспомнил, что Бугенвиль нередко говорил, что считает преступлением оторвать человека от его родины, от всего, что составляло его существование. Таитянин взошел на борт «Будёза» вопреки желанию начальника экспедиции, и Бугенвиль счел себя обязанным позаботиться о том, чтобы Аотуру удалось вернуться на родину.
Капитан рассказал, что Бугенвиль выполнил этот свой долг. Аотуру попал сначала на остров Иль-де-Франс, где Марион-Дюфрен уговорил Пуавра снарядить специальную экспедицию на остров Таити.
— Это ведь не шутка, и кажется просто неправдоподобным — послать два корабля, чтобы доставить на остров одного человека, — говорил капитан. — Но все уладилось. Пуавр отнесся сочувственно и снабдил меня деньгами и всем необходимым. Но как только мы вышли в море, у Аотуру появились все признаки черной оспы. Мы привезли его сюда, корабельный врач очень боится за его жизнь. Вот почему вы увидели вместо ожидаемого вами «Тритона» «Маскарену» под моим командованием и «Маркиза де Кастри» под командованием де Клемсра.
Словно придавленный огромной тяжестью, Коммерсон опустился в кресло. Он живо представил себе тот день, когда Аотуру, оживленный, взволнованный, впервые поднялся на палубу фрегата. Он так хотел посмотреть Францию… «Эноуа Парис оказалась для таитянина Эноуа матэ — страной, которая убивает», — подумал он.
— А я-то думала, мосье Бугенвиль, что вас из Франции, из Парижа гонит несчастная любовь! Что еще может побудить человека безрассудно довериться волнам угрюмого океана?
— Океан вовсе не так угрюм, думать так — большое заблуждение, мадемуазель, — ответил Бугенвиль. — Океан чудесен! Он никогда не остается постоянным, и эта изменчивость поистине прекрасна, даже тогда, когда стихийные силы природы напоминают человеку о его ничтожестве…
Приходилось опять привыкать к светской болтовне, делать визиты, и немало: его теперь приглашали наперебой, и особенно в дома, где были дочери на выданье.
О кругосветном плавании говорил весь Париж. Вначале как будто собрались грозовые тучи. За время плавания произошло много перемен: Шуазель пал от происков Дегийона. Бугенвиля встретили на родине недоброжелательно. К счастью, правление Дегийона было кратким, а успех плавания превзошел все ожидания. Бугенвилю присвоили звание бригадного генерала и пожизненно — капитана первого ранга, ранее он это звание носил по должности. Уж наверное его собеседница посвящена во все тонкости служебной карьеры.
— Однако я утверждаю, — смеясь продолжала она, — что всю эту красоту вы бросите, как только женитесь на очаровательной Флоре Монтандр. Ведь только молодость невесты удерживала вас от этого шага, хотя, кто знает, может быть, вы скрываете другие соображения? Вы, наверное, хотите вернуться к островитянке, чье сердце покорили на очаровательной Новой Кифере? Признайтесь же!
Бугенвиль отшучивался как умел и был очень рад, когда смог наконец откланяться.
Ему захотелось побыть в одиночестве, и он приказал кучеру ехать на Монмартр.
Лично ему путешествие доставило успех. Но какую пользу принесло оно науке? Эта мысль все чаще беспокоила. Изящно изданный отчет о путешествии, адресованный королю, лежал у многих на каминных полках. Но Бугенвиль знал, что большинство рассматривает там только иллюстрации, на которых обитатели острова Таити были изображены как дамы и кавалеры парижского общества. Бугенвиль писал свою книгу для моряков, а не для увеселения скучающего света. Его раздражало, что при дворе возникла игра в «таитян и таитянок». Неужели только для этого рисковали жизнью четыреста человек, только для этого положено столько трудов, преодолены такие препятствия?
Всем этим чванливым аристократам нет никакого дела до науки. Он собственными ушами слышал, как у него за спиной говорили: как же это Бугенвиль утверждает, что совершил кругосветное плавание? Ведь он не был в Китае, значит, и не объехал кругом света!
Новый морской министр граф де Бриенн не хочет и смотреть его проекты и предлагает принять командование военным фрегатом.
Экипаж неторопливо катился по парижским улицам. У городской заставы Бугенвиль приказал остановить лошадей и дальше пошел пешком, вверх по зеленому склону, круто поднимающемуся от площади Сен-Пьер к самой вершине холма.
Отсюда, с высоты, открывался прекрасный вид на Париж. Излучина Сены опоясывала город и терялась где-то за зеленью Булонского леса. По обоим берегам реки высились здания, башни городского водопровода, а здесь, совсем рядом, махали крыльями ветряные мельницы.
Бугенвиль прошел старинному зданию церкви и облокотился на каменную балюстраду, окружавшую храм. Он думал о судьбе офицеров, сопровождавших его в плавании. Дюкло так и остался капитаном второго ранга, а Жиродэ — лейтенантом. Бурнан, д Орезон — все снова впряглись в старую лямку, служат в Индийской компании. Бугенвиль вспомнил прием, оказанный ему герцогом Дегийоном в Сен-Мало. Герцог даже слушать не стал о его научных выкладках и результатах путешествия. Он обвинил руководителя экспедиции в том, что тот превысил расходы, утвержденные для ремонта судов. И когда Бугенвиль прямо сказал, что корабли оказались не готовыми к плаванию, Дегийон посадил его под домашний арест.
Что было потом?..
Долгий труд над составлением отчета королю о путешествии. Отчет был издан через два года после возвращения из экспедиции, и сразу же появился английский перевод книги, сделанный Форстером, потом немецкий, изданный в Лейпциге, итальянский, испанский… Его имя стало знаменитым.
И все-таки его проекты о дальнейших географических изысканиях, снаряжении новой экспедиции неизменно отклонялись.
Бугенвиль внимательно вглядывался в черты так хорошо знакомого ему Парижа, города, где он родился и вырос. Далеко внизу прогарцевали маленькие фигурки всадников. Наверное, где-нибудь так же сейчас скачет Шарль Нассау. Ведь он опять поступил на военную службу…
Раздался мелодичный перезвон колоколов, Бугенвиль еще раз посмотрел на шпиль церкви и стал спускаться вниз.
Утром, собираясь ехать в морское министерство, Бугенвиль узнал о судьбе Аотуру. Жаль таитянина! Трагически закончилось его путешествие в Эноуа Парис — страну Парижа.
Бугенвиль не жалел денег и сил, чтобы сделать пребывание Аотуру в Париже приятным и полезным. В обществе Аотуру вызвал живой интерес. Многие желали его видеть. Таитянин стал модой. Он появлялся в Опере, на приемах знатных особ. Его видели на парижских улицах. Известный ученый Перейра, переводчик короля, ездил к таитянину, желая проверить, способен ли тот усвоить французский язык. Аотуру стал игрушкой парижских дам. И, как всякой игрушкой, им занимались только до тех пор, пока он не надоел. Скоро о нем стали говорить, как о человеке, лишенном всяких способностей, — Аотуру плохо говорил по-французски.
Бугенвиль доказывал, что даже европейцы не сразу овладевают схожим иностранным языком. А ведь речь и понятия таитянина сильно отличались от европейских. Все было напрасно. Решение света было безапелляционным.
Бугенвиль добился того, чтобы Аотуру дали место на судне, идущем в Иль-де-Франс. Министерство приказало губернатору острова переправить оттуда таитянина на родину. Бугенвиль представил подробную записку о маршруте, которым надо следовать на Таити, и пожертвовал для снаряжения судна тридцать шесть тысяч франков, треть своего имущества…
Занятый этими размышлениями, он не заметил, как карета миновала мост Гренель, заставу Сен-Клу и выехала на Версальскую дорогу.
Сколько езжено по ней за последние годы. Надежды сменялись разочарованием, но Бугенвиль упорно добивался своего и не отступал.
Он предложил еще раз отправиться на поиски Южного материка, так как даже два плавания Кука не дали окончательный ответ на этот вопрос. Его предложения изучались в нескольких комиссиях министерства. Они вынесли заключение, что для осуществления этого проекта потребуется от пятидесяти до шестидесяти тысяч ливров. Министр граф де Бриенн ответил, что не располагает такими средствами. Тогда Бугенвиль изыскал способ уменьшить расходы. Он наметил для плавания только один транспорт «Этуаль». Этот проект одобрили его старые товарищи Дюкло-Гийо и Жиродэ.
Когда карета въехала в ажурные ворота Версальского парка, Бугенвиль увидел графа де Бриенна, спускавшегося в сопровождении своего секретаря по широкой лестнице дворца.
Министр встретил Бугенвиля любезно.
— Рад видеть вас, капитан, — сказал он. — Ваши планы все еще не дают вам покоя?
Они остановились возле фонтана. Нептун мощной рукой обхватил трезубец. По его бороде ручьями стекала вода. Тритон раскрыл нестрашную зубастую пасть, а Амур удерживал его левой рукой.
Де Бриенн указал на это аллегорическое изображение.
— Смотрите, капитан, я часто думаю, что министерство должно сдерживать людей, подобных вам. Что было бы, если благоразумие не удерживало нас от необдуманных поступков? Морские существа только до поры до времени нестрашны.
Из-за спины министра выступил секретарь и учтиво снял шляпу:
— Мосье Бугенвиль, ваше путешествие и так уже прославило вас навеки. Стоит почитать только, что пишет о нем известный философ Дпдро…
«Куда голова, туда и хвост… — подумал Бугенвиль. — Ну этого-то нужно проучить».
Он встретился взглядом с графом:
— Вам придется, ваша светлость, послать вашего секретаря для очищения грехов в храм святой Женевьевы, покровительницы города Парижа. Этот человек читает книги философов и рискует вечным спасением.
Еще продолжали выходить пять добавочных томов запрещенной «Энциклопедии» — дела всей жизни Дидро. Сколько мыслей, образов, идей вложено в это грандиозное издание. Но философ уже начинал чувствовать усталость.
Он часами сидел в любимом халате, удобно устроившись в кресле, задернув занавески и надвинув на глаза колпак. Или весь вечер наблюдал за игрой известных шахматистов в кафе Режанс у Пале-Рояля. Никто не осмеливается печатать его труды. Он вступил в полемику с Гельвецием, читая его блестящую книгу «Человек» и исписывая по своему обыкновению все поля замечаниями и возражениями. Но и книга Гельвеция сожжена!
«Просвещенные» монархи Европы оказывают философам Франции благосклонное внимание. Российская императрица Екатерина купила его библиотеку и, «не желая разлучать философа с его книгами», назначила Дидро хранителем, выплатив жалованье за пятьдесят лет вперед— пятьдесят тысяч ливров! Императрица настойчиво зовет его посетить Санкт-Петербург — столицу огромной России.
Вольтер любезен Екатерине; Гримм, Гельвеций и д’Аламбер — Фридриху Второму. А кто из них любезен здесь, во Франции?
— Что же вы задумались, мосье? Так можно ждать до бесконечности!
Дидро вздрогнул. На него смотрели хитрые глазки плюгавого человечка без парика, в богато отделанном шитьем жилете.
— Мы ведь с вами, мосье, играем в шахматы, и вы уже час думаете над ходом. Смотрите, ваш король в опасности!
Как из тумана выплыла доска с изящными точеными фигурками. Дидро невольно выругал себя — так забыться! Теперь это случалось все чаще и чаще. Он посмотрел на шахматную доску и небрежно снял своего короля в знак того, что прекращает игру. Широкие окна со свинцовыми затейливыми переплетами потемнели. В зале уже зажгли шандалы. В свете свечей лица собравшихся поглядеть на игру казались желтыми. Дидро рассеянно взял со стула с гнутыми ножками какую-то книгу и взглянул на заглавие: «Путешествие вокруг света на фрегате «Будёз» и транспорте «Этуаль».
— Вот книга, возбудившая у меня интерес к путешествиям, — сказал Дидро. — Надеюсь, вы, мосье, успели ознакомиться с этим сочинением? Я вижу здесь многочисленные закладки, исписанные, по-видимому, вашей рукой?
— Ознакомиться, — рассыпался смешком его собеседник— Да я, мосье, сам совершил это «вокруг света» и, с вашего позволения, мог бы порассказать куда больше, чем написано в этом сочинении. Меня зовут Сен-Жермен. Я придворный писатель.
За спиной Сен-Жермена фыркнули:
— Писатель! Он еще напишет в один прекрасный день драму под названием «Любовь и добродетель»!
Сен-Жермен не обратил на это никакого внимания. Он еще раз с достоинством повторил:
— Я имел честь сопровождать мосье Бугенвиля в его примечательном плавании, о котором столько теперь говорят в Париже.
Лицо Дидро оживилось:
— Вот как, в таком случае не могу ли я попросить вас уделить мне полчаса для разговора?
— С удовольствием, мосье, — сказал Сен-Жермен, который давно уже узнал в своем противнике за шахматной доской знаменитого человека.

Они вышли в сады Пале-Рояля. Сен-Жермен опирался на палку с причудливым набалдашником.
— Должен сказать вам, мосье, что в этом сочинении, — Сен-Жермен похлопал ладонью по твердому переплету, — описано далеко не все. Если считать, что умолчать о чем-нибудь — это не значит исказить истину, то мосье Бугенвиль довольно правдив. Но так ли гладко все шло, как он изображает? Об этом спросите у меня. Известно ли вам, что его грубость и сумасбродство чуть не привели к гибели всю экспедицию?
С того времени, как Сен-Жермен ступил на французскую землю, он неустанно повторял это. Но, странное дело, — чем больше бывший чиновник рассказывал о событиях в Парагвае, на Таити, на острове Бука, тем менее доверчиво относились к нему слушатели.
— Я знаком с Бугенвилем, — сказал Дидро. — Он обладает всеми необходимыми качествами для руководителя такой экспедиции: мужеством, правдивостью, философским складом ума, осторожностью, терпением, желанием наблюдать и учиться, знанием математики, механики, геометрии, астрономии и достаточными сведениями в естественной истории.
Сен-Жермен нетерпеливо слушал, покачивая в такт шагам головой.
— Вы, мосье, верно охарактеризовали нашего капитана, но боюсь, что человек не может обладать всеми этими добродетелями сразу. Бугенвиль груб, он воспользовался протекцией герцога Шуазеля, чтобы возглавить экспедицию, хотя не имел на это права, так как не заслужил его, как многие другие…
Но Дидро уже потерял интерес к разговору. Он опять углубился в свои мысли.
Сен-Жермен возвысил голос:
— Вы забыли, мосье, об Аотуру, несчастном таитянине, насильно взятом Бугенвилем с острова Новая Кифера, иначе называемом Таити.
Дидро круто повернулся на каблуках:
— Аотуру? Я знаю, что Бугенвиль дал слово доставить его на родину.
Сен-Жермен прищурил глаза.
— О нет, он так никогда более и не увидел своей родины. Аотуру заразился оспой и умер на острове Мадагаскар.
— Неужели? — вскричал Дидро. — Я несколько раз видел этого таитянина, разговаривал с ним. Могу засвидетельствовать перед кем угодно, что он вел себя более достойно и благородно, чем многие высокопоставленные вельможи, которые относились к нему как к любопытному зверьку, не более. Аотуру не переставал тосковать по своей стране. Наши обычаи и законы для него остались совершенно непонятными. И нельзя удивляться этому. Ведь действительно они могут вызвать лишь негодование и презрение человека, у которого чувство свободы самое глубокое из чувств!
— Нужели вы поверили всем басням о Таити? — Нет, выслушайте лучше меня, ведь я там был и все видел собственными глазами. Уверяю вас, Бугенвиль не все описал так…
Но Дидро уже не слушал Сен-Жермена и вскоре совсем забыл о существовании этого человека.
Дидро думал о судьбе острова, затерянного посреди океана. Что изменилось на нем с тех пор, как таитяне увидели корабли европейцев? Вероятно, они не ожидали, что это принесет такие ужасные последствия. Бугенвиль в своем «Путешествии» пишет о том, что некоторые островитяне погибли от пуль и штыков. Не успели французы ступить на эту землю, как она задымилась кровью. К чему же ведет открытие новых стран европейцами? Не лучше ли всем туземцам избегать с ними встречи, чтобы пришельцы видели только волны, лижущие пустынный берег?
Дидро задумчиво шагал по аллее тенистых каштанов. Кто-то тронул его за плечо. Дидро увидел Гримма.
— Я размышляю сейчас о Таити, острове, который посетила экспедиция Бугенвиля. Только что я разговаривал с человеком, который участвовал в этом плавании. Вряд ли островитяне могли почерпнуть для себя что-либо полезное от общения с подобными людьми. Думаю, что единственное их призвание и цель — приобщать язычников к католицизму. Это так же противно природе, как и красный двуглавый петух на гербе Версаля!
Гримм улыбнулся и взял Дидро под руку:
— Пойдемте ужинать и по пути поговорим об этом. Мне кажется, вы уже довольно подробно высказали свое отношение к кругосветному путешествию капитана Бугенвиля, опубликовав в моих «Корреспонденциях» рецензию на его труд.
Но Гримм хорошо знал, что Дидро не раз может возвращаться к интересующей его проблеме. И сейчас, видимо, мысли, намеченные в рецензии, требовали глубокой разработки.
Когда его собеседник снова заговорил, Гримм понял, что оказался прав.
— Вы знаете, что Бугенвиль по приказанию короля оставил на Таити доску с надписью, что этот остров принадлежит теперь французской короне? — спросил Дидро. — Что вы скажете об этом? Вообразите, что какой-нибудь таитянин высадился бы на берег Франции и начертал на камне или на коре большого дерева: «Эта страна принадлежит жителям Таити». Вы скажете, что это невозможно. И вы будете правы. Вот вам яркий пример превосходства морального кодекса этих дикарей над нашей цивилизацией.
— Но можно ли все-таки идеализировать этих туземцев? Ведь нельзя же в самом деле согласиться с нашим Жан Жаком Руссо, который склонен считать людей тем более несчастными и дурными, чем они более подвержены влиянию наук и искусства. Что же нам делать? Вернуться назад к природе? Или же подчиниться существующим законам?
— Нужно выступать против нелепых законов до тех пор, пока их не преобразуют, — твердо ответил Дидро.
Собеседники шли по набережной Сены. Пламя факелов, зажженных на многочисленных лодках и баркасах, отражалось в воде. Редкие фонари выхватывали из темноты причудливые фигуры. Дидро снял шляпу и взял Гримма за локоть.
— К этому можно добавить лишь следующее, — продолжал он. — Естественная мораль основывается на природе человека, но извращается религией и слугами церкви, поддерживаемыми правительством. А отсюда и практический вывод: для счастья человека необходимо освободиться от пут религии. Вот почему нельзя выступать против науки и культуры. Я думаю, что мосье Бугенвиль, хоть и несколько приукрасил жизнь таитян, прекрасно понимает это.
— Ах, если бы все люди могли так же улавливать свойства вещей, мосье Дидро, — вздохнул Гримм. — Весьма немногие рассматривают предмет с разных сторон. А ведь только так и можно правильно судить о чем-либо, у вас редкая способность исключительно ясно, четко и точно выражать свои мысли. Я успел заметить, что этим даром обладают немногие люди.
— Думаю, к этим немногим можно отнести Бугенвиля и, несомненно, выдающегося ученого Коммерсона. Я получил от него несколько писем с островов Индийского океана. И, читая их, я невольно вытирал слезы. Разве так должно обращаться с людьми! — Дидро в волнении схватил своего друга за руку. — Вы не можете себе представить, что такое эти королевские интенданты и генералы, которых посылают к беднягам островитянам, что такое колониальный суд, что такое коммерсант! У коммерсанта каменное сердце. Жизнь человеческая для него ничто, он готов уморить тысячи людей, лишь бы вздуть цены на продукты питания. Генералы и королевские интенданты — это шайка разбойников, которые опустошают целые области, а сами набивают себе карманы. И как себя должен чувствовать ученый, на которого смотрят как на
чудака, чуть ли не сумасшедшего?
Бедный Коммерсон! Дидро вспомнил, как еще сегодня утром возмущался вопиющей несправедливостью: Дюмесле — новый губернатор Иль-де-Франса — оказался злобным, равнодушным к науке человеком. Он открыл для Коммерсона свой дом, но урезал субсидию ученого более чем вдвое. Разве это не оскорбление? Надо завтра же что-то предпринять, чтобы парализовать действия мерзавца губернатора.
Дидро вытащил из кармана черный камешек и подвел Гримма к фонарю.
— Вот что прислал мне на днях Коммерсон. Он вместе с юным Лисле поднялся на действующий вулкан Питон де ля Фуркэз на острове Бурбон и пробыл там три недели! Это кусочки «черного стекла» — обсидиана, выброшенные во время извержения 1766 года. Такие же примерно кусочки найдены и на других вулканах.
Гримм внимательно осмотрел обсидиан.
— Его следует отдать в Королевский ботанический сад. Но мы у цели. — Он показал на освещенный подъезд, откуда выходила шумная компания франтовато одетых людей. — Глоток хорошего вина не помешает нашей беседе.
Дидро спрятал в карман кусочек обсидиана и улыбнулся: его друг был верен себе.

Глава X
Красный цветок капитана

Разум растет у людей в соответствии с мира познаньем.
Эмпедокл
Непременный секретарь Французской академии наук де Фуши постучал молотком по столу и торжественно провозгласил:
— Итак, согласно баллотировке, избран членом Академии Филибер де Коммерсон, доктор из Шатийона, который более двадцати пяти лет занимается науками, изучением природы, и его успехи на этом поприще равны его рвению.
На передних скамьях недовольно зашумели. Это были все те, кто голосовал против избрания никому не известного доктора.
Де Фуши трижды стукнул молотком, но шум усилился. И тучный дю Сежур и желчный Клеро, всегда враждовавшие между собой, сейчас объединились. Кто знает этого доктора? Разве он был хоть на одном королевском приеме? Эти ученые мужи, привыкшие измерять достоинства человека количеством орденских лент, шикали и неистово топали ногами.
— Не было ни одного великого человека, — шепнул дю Сежур своему соседу справа, — родившегося в провинции, который не приехал бы в Париж для усовершенствования своего таланта и не остался бы здесь на всю жизнь, ибо покинуть этот великий город никто не в силах. А этот Коммерсон почти и не бывал в Париже.
— Блистали Кассий и Брут именно потому, что не видно было их изображений, — ответил его собеседник по-латыни.
Дю Сежур недовольно отвернулся.
К кафедре подошел взволнованный астроном Лаланд. Он что-то сказал де Фуши. Тот согласно кивнул головой.
Лаланд встал за кафедру.
— Поскольку наш новый академик де Коммерсон отсутствует, я считаю своим долгом хотя бы вкратце охарактеризовать его научную деятельность, тем более, что неизвестно, когда этот натуралист появится в этих стенах.
— Нас мистифицируют! — крикнул дю Сежур.
Но на этот раз его никто не поддержал. Академики выжидательно молчали.
— Итак, — начал Лаланд, — собравшимся уже известно, что мосье Коммерсон потратил более двадцати пяти лет на изучение ботаники. Эти долгие годы не прошли бесследно. Его страсть — открывать не известные науке растения не утолена и по сей день. Но только ли это можно поставить в заслугу новому члену Академии? Кажется, много разногласий вызывает его сообщение о том, что он обнаружил на Мадагаскаре карликовые племена пигмеев, в существование которых многие из находящихся здесь попросту не верят.
Вновь поднялся шум, раздались выкрики: «Тише, тише, дайте послушать!»
Имя молодого астронома Лаланда стало очень популярным в Париже благодаря курьезному происшествию. Всего несколько месяцев назад он решил сделать в Академии доклад о кометах, и афиши об этом были расклеены по всему городу. Парижане почему-то решили, что речь пойдет о неизбежном столкновении Земли с какой-то кометой. Лувр, где заседала Академия, был осажден огромными толпами возбужденного народа. С трудом удалось убедить людей, что речь идет всего-навсего об обычном научном докладе о небесных телах.
Сейчас, когда академики слушали сообщение Лаланда о наблюдениях, сделанных его другом Коммерсоиом, многие не могли сразу поверить, что в горах на Мадагаскаре живут люди ростом всего в пять футов. Лаланд говорил, что они хорошо вооружены, но очень миролюбивы и не воюют со своими соседями мальгашами. До сих пор были известны только великаны в Патагонии. А этот Коммерсон и тут утверждает, что это не великаны, а люди обычного роста. Но ведь сообщения о великанах достоверны. Они проверены неоднократно. Об этом писалось и в «Корреспонденциях» Гримма.
— Идеи и мысли Коммерсона многообразны, — продолжал Лаланд. — Я мог бы рассказывать об этом очень долго. Но одно доктор Коммерсон считает особенно важным. Он просил меня представить на рассмотрение Академии проект, составленный им на острове Мадагаскар. В этом документе он предлагает создать Всемирную академию наук. Вот здесь дан и план этой академии. Как вы видите, все здания расположены по концентрической спирали вокруг главного помещения, которое должно служить одновременно и Капитолием и обсерваторией…
Эти слова Лаланда были встречены неодобрительным гулом.
Когда ученые расходились после заседания, дю Сежур хватал каждого за рукав и кричал: «Я же говорил, что этот провинциальный гений просто сумасшедший!»
Возвратясь к себе в Отель Клюни, который Лаланд занимал вместе с астрономами Делизлем и Мессьером, он увидел молодую женщину, одетую во все черное. Она назвалась Жанной Барре и сказала, что приехала в Париж, чтобы выполнить последнюю волю натуралиста Коммерсона.
— Последнюю волю? — тихо переспросил Лаланд. — Мой друг Филибер умер?
— С Мадагаскара в Порт-Луи на Иль-де-Франсе он возвратился совсем больным, хотя и до этого здоровье его было очень плохим. — Жанна опустила голову. — 13 марта он скончался в имении Ретрет. Я была с ним до последней минуты.
«Так, значит, его избрали академиком через три месяца после смерти, — подумал с горечью Лаланд. — О судьба! Как ты к нему несправедлива!»
В волнении он, сам того не замечая, рвал на мелкие клочки носовой платок.
— Коммерсон все время думал о том, что не смог закончить описание своих многочисленных материалов, доставшихся ему такой дорогой ценой, — глухо сказала Жанна. — Он тревожился за их судьбу и просил меня сделать все, чтобы спасти собранное от невежества колониальных чиновников.
Лаланд овладел собой. Он пытливо всмотрелся в лицо посетительницы. Рыжие волосы, выбивающиеся из-под черной накидки, печальные карие глаза, скорбно опущенные углы маленького рта. Так вот она какая, Жанна, о которой столько писал Филибер. Неутешная подруга? Вдова? Преданная помощница? Как бы там ни было, она, видимо, немало пережила за последние годы. Но не будь ее, кто знает, смог бы Коммерсон сделать так много? Недаром натуралист посвятил ей растения
Баретиа боннафидиа, оппозитива, гетерофиллиа.
— Мадемуазель Барре, — сказал Лаланд. — Мы сейчас же начнем обдумывать план, как спасти научные сокровища, собранные нашим общим другом.
Впервые за время разговора в глазах Жанны мелькнули живые искорки.
Небо непрерывно сочилось мелким надоедливым дождем. Когда налетал порыв ветра, деревья, высившиеся над маленьким домиком, стряхивали тяжелые капли на железную крышу.
Бугенвиль выглянул в окно. Влажное, туманное утро. Здесь, в Кутансе, погода не баловала людей — она была почти такой же, как и по другую сторону Канала — на Британских островах.
Бугенвиль опять склонился над картой, в который раз прослеживая путь удачливого английского мореплавателя Джемса Кука. Кук, так же как и он, установил, что Австралия Святого Духа Кироса не часть Новой Голландии, как думал этот путешественник, а лишь остров, который Бугенвиль назвал Большими Цикладами. От материка их отделяло широкое водное пространство. Уже в своем первом плавании после посещения Таити, или острова короля Георга, как именовал его Кук, английский капитан двинулся на юго-запад и нанес на карту все восточное побережье Новой Голландии, которое, таким образом, приняло реальные очертания.
Он обследовал все пространство к северу от сорокового градуса южной широты между юго-восточной оконечностью этой огромной земли и сотым градусом западной долготы. Все предположения о существовании в этих водах Южного материка были полностью опровергнуты.
Открытия Кука разрешали много загадок и сомнений.
Англичанин, так же как и он, Бугенвиль, не знал о том, что один из сподвижников Кироса — Торрес еще сто шестьдесят лет назад открыл пролив, отделяющий Новую Гвинею от Новой Голландии. Отчет Торреса держался испанцами в строгом секрете и был опубликован лишь в 1769 году. А как бы это помогло Бугенвилю в плавании!
Ему не пришлось бы так долго блуждать в лабиринте бесчисленных островов. Их было так много, что Бугенвиль даже склонялся к мысли, что Новая Голландия — не большая земля, а лишь скопление нескольких близко расположенных архипелагов.
Теперь карта выглядит совсем по-иному, чем пять-десять лет назад. Но в этом есть и его, Бугенвиля, заслуги.
Он открыл архипелаг Навигаторов, лежащий на четырнадцатом градусе южной широты и сто семьдесят первом градусе западной долготы, немного западнее — острова Блудного Сына, остров Пантекот, архипелаг Большие Циклады. Он уточнил истинное расположение Соломоновых островов и открыл много новых в их группе. У экватора вытянулась цепочка нанесенных им на карту земель — острова Бурнан, Бушаж, Орезон, Сюзаннэ, Коммерсон, Анахорет…
А сколько мысов, бухт, проливов, которым он впервые дал названия.
Его наблюдения над приливами и отливами, океаническими течениями все еще изучаются Академией наук.
Бугенвиль послал в английское Бюро долгот, занимавшееся усовершенствованием навигационных приборов, свои вычисления лунных расстояний для определения долготы в открытом море. Его плавание дало обширный материал географам и навигаторам.
И вот сейчас он не у дел, хотя еще многое может. Ему только сорок шесть. Бугенвиль мечтал осуществить проект, о котором говорил когда-то Коммерсону на Иль-де-Франсе. Достичь Северного полюса! Ведь Север — совершенно неисследованная часть земного шара. Что известно о ней? Это одна из тех областей, которые не дают спать пытливым людям. Ему воздали почести, признали его выдающимся исследователем. В Версале его вежливо выслушивают, обещают рассмотреть в ближайшее же время его проекты. Обещают, и только. Министерские чиновники не принимают его более всерьез.
Лондонское Королевское общество, информированное о том, что проекты Бугенвиля не получают поддержки правительства, пригласило его принять участие в большом путешествии на Север совместно с астрономом Коссиди, известным своими наблюдениями над магнитными склонениями.
Узнав о таком приглашении, морской министр заявил:
— С англичанами вооруженный мир, только что не война. А она может вспыхнуть не сегодня, так завтра. В каком положении окажется капитан французского королевского флота, если в разгар военных действий будет в составе экспедиции, предпринятой английским Адмиралтейством?
А через год английский капитан Фиппс предпринял путешествие к высоким северным широтам, воспользовавшись материалами, которые Бугенвиль прислал в английское Адмиралтейство. Этому капитану было предписано найти северный проход в Индию.
К скольким открытиям привели попытки достичь Индию морским, а не сухопутным путем! Васко да Гама обогнул Африку, Колумб открыл Америку, Магеллан первым объехал вокруг света. И все эти великие открытия были сделаны потому, что европейским купцам и торговцам нужно было найти новый путь в Индию.
Фиппс должен был продвинуться настолько далеко на север, чтобы можно было определить, как идти к южным берегам Азии: северо-восточным путем — вдоль берегов необъятной Сибири, или северо-западным проходом.
Но Фиппс не выполнил этой задачи. Он дошел только до восьмидесятого градуса северной широты, и у берегов Шпицбергена его судно повернуло назад, встретив тяжелые льды.
Бугенвиль сказал тогда морскому министру:
— Если бы Фиппс вошел в соглашение с китобоями, которые привычны к плаваниям в высоких широтах, его экспедиция была бы намного успешнее, А именно это и лежало в основе моего проекта.
Министр возразил, что считал и считает эту экспедицию — идти в высокие северные широты — совершенно неразумной и бесполезной для Франции. Бугенвиль знал, что мнение министра разделяют и другие чиновные лица.
Из этих размышлений его вывел голос жены. Он женился совсем недавно и еще не привык к тому, что под одной с ним крышей живет человек, который в любое время может претендовать на его внимание. Флора неслышно вошла в комнату и, обвив его руками за шею, стала упрекать, что вот опять он сидит за своими схемами и географическими картами, а ее оставляет одну скучать за пасьянсом. Сейчас, как всегда, начнутся жалобы: она, Флора, просто изнывает в этом захолустном Кутансе. Пора в Париж, пора показаться в свете, ведь они со дня свадьбы еще ни у кого не были приняты. Это, в конце концов, может вызвать насмешки и двусмысленные намеки.
Флора приподняла пышный пеньюар и уютно устроилась в кресле. Да, она не собирается скоро уйти. Бугенвиль приготовился слушать. Он искоса взглянул на жену. У его друзей были, пожалуй, все основания завидовать старому холостяку, «морскому бродяге, бросившему наконец якорь», как шутили многие. Высокого роста, с живыми черными глазами, Флора умела нравиться. Не жестоко ли держать это обаятельное существо вдали от Парижа? Она происходила из аристократического рода де Монтандр и не могла обходиться без привычной ей среды — светской болтовни, танцев и всего, что дает богатство и почет.
— Когда же мы переедем на улицу Гренель? — начала Флора, капризно поджав губы. — Вот послушай, каких гостей я позову на наш первый ужин. — И она стала перечислять имена людей, многие из которых были неприятны Бугенвилю.
Появиться при дворе? Это значит навсегда отказаться от своих стремлений. Там его ждет назначение в эскадру, стоящую сейчас у берегов Америки в Карибском море.
Французы готовятся к военным действиям против англичан на море. Бугенвиль невольно взглянул на карту. Английский флот стоит сейчас где-то у берегов Флориды. Что ж, может быть, судьба опять столкнет его с Джемсом Куком, как и тогда в Семилетней войне, на берегах Святого Лаврентия, когда они были во враждующих армиях. Какая нелепость! Оба они, Бугенвиль теперь знал твердо, многое сделали для науки и не должны скрещивать оружие.
Флора на минуту выскользнула из комнаты, чтобы показаться мужу в новом платье. Разве можно говорить с ней обо всем этом?
Бугенвиль сейчас с удовольствием оказался бы на палубе фрегата «Будёз», чтобы поделиться своими мыслями со старыми товарищами. Но они далеко, а фрегат стоит на приколе в Сен-Мало, и кто знает, когда он опять оденется белоснежными парусами.
Наконец, обсудив с мужем свой новый туалет, Флора удалилась. Бугенвиль свернул карту и позвонил в колокольчик, чтобы подали верхнюю одежду. Он не изменял давней привычке проделывать ежедневно несколько лье пешком. И сейчас, несмотря на дождь, он с удовольствием зашагал по проселочной дороге. Тяжелые капли прибили траву к самой земле. На липкой грязи отпечаталось множество следов: коровьих и лошадиных копыт, крестьянских повозок, грубой деревянной обуви — сабо, ©ни вели то к деревянной изгороди для скота, подпиравшейся кольями, то к большому пруду, куда животных гоняли на водопой. Пахло навозом, парным молоком, влажной травой. Мычание коров, блеяние овец, казалось, доносилось откуда-то издалека, приглушенное завесой плотного тумана.
Бугенвиль подошел к крестьянскому двору: соломенная крыша нависала над глиняными стенами, торчали грубо отесанные деревянные балки. Под крытым навесом бродило несколько кур.
Бугенвиль подождал немного: не покажется ли в окне лицо хозяина. Крестьянин уже привык к моряку, часто проходившему мимо его дома, и даже, осмелев, заговаривал с ним о том, что введенные во время войн налоги так и остались неотмененными, несмотря на обещания правительства, что цены на хлеб опять упали, жить становится все труднее, а знать купается в роскоши.
Но в окне никто не показывался, а выкрашенная в желтое дверь не отворялась. Бугенвиль зашагал дальше. Дождь усилился, и надо было поворачивать обратно. Он остановился у развилки дороги, теряющейся за живой изгородью. Дальше начинались яблоневые сады. Вдруг из-за деревьев показалась забрызганная грязью карета. Сзади бежала приблудная собачонка. Куда повернет экипаж? Если направо, то в местечко Мариньи, если налево, то в Кутанс. Лошади повернули налево. Когда карета поравнялась с Бугенвилем, из нее выскочил плотный загорелый человек.
— Дюкло-Гийо!
Старые товарищи обнялись.
— Мой корабль стоит в Сен-Мало, — объяснил капитан. — Я узнал, что вы в Кутансе, и решил повидаться с вами.
Вечером за ужином Бугенвиль как следует рассмотрел своего верного спутника в плавании. Усталые тени залегли под глазами, появилось много новых морщин. Дюкло-Гийо уже не рассказывал, как раньше, свои бесчисленные морские истории. Бугенвиль заговорил о том, что ему, Дюкло-Гийо, никто не воздал должное. Его даже не повысили в чине после успешно закончившегося путешествия, давшего такие важные результаты.
Дюкло-Гийо только усмехался: для чего ему слава, доходные должности? Он моряк и проведет всю жизнь в странствиях.
Бугенвиль подумал, как прав был его сотоварищ. Даже те первооткрыватели, кому потомки сооружали памятники и чьи бронзовые бюсты отливали, при жизни не получили признания. Колумб умер в бедности и безвестности; семья Магеллана, не вернувшегося из своего плавания, никогда не увидела обещанных испанским королем наград; жена капитана Марион-Дюфрена, погибшего совсем недавно, как говорят, очень бедствует, а морское министерство даже не подумало помочь ей.
Дюкло-Гийо говорил, что вместо всех почестей, которые, возможно, и должны прийтись на его долю, он с удовольствием принял бы участие в экспедиции к Северному полюсу.
— Почему же, — спросил он в заключение, — морское министерство, которое при Шуазеле занималось подобными проектами, теперь не проявляет к ним никакого интереса?
Бугенвиль подумал минуту-другую, рассматривая на свет содержимое бокала.
— Я полагаю, — сказал он, — что морское министерство было разочаровано в своих ожиданиях. В самом деле: прибавилась ли у французской короны хоть одна новая земля? Каких новых верноподданных она получила, затратив большие средства на экспедицию? Мы не привезли ни золота, ни пряностей, не открыли ни алмазных, ни серебряных копей. И вот результаты — никто не хочет нас более слушать. На все наши предложения нам отвечают: нет, нет и нет!
Дюкло-Гийо задумался. Старый моряк мог бы многое порассказать. За эти годы он немало побороздил океанские просторы.
В мире происходили удивительные события. Черные рабы во французской колонии Гаити взбунтовались, в английской колонии Северной Америки люди, называющие себя инсургентами, отделились от Англин и ведут с ней борьбу с оружием в руках. Какую же цену имеет то, что Франция хочет захватить новые и новые колонии? Они опять восстанут! Да и в самой Франции, по всему видно, неспокойно, назревают серьезные события.
Дюкло-Гийо рассказал Бугенвилю о своей службе в Индийской компании. На одном из отдаленнейших островов он встретил отца Лавесса, ставшего миссионером.
— Да, несчастным туземцам не поздоровится от такого «пастыря»! — воскликнул Бугенвиль.
Он поведал, в свою очередь, Дюкло-Гийо, что, по всей вероятности, ему придется выступить против англичан, на сей раз в качестве капитана линейного корабля в эскадре адмирала д'Эстенга. Дюкло-Гийо опять вспомнил об инсургентах. Значит, Бугенвиль будет сражаться на стороне людей, борющихся за независимость Тринадцати штатов и провозгласивших, что все люди родятся свободными и равными в правах!
Старые товарищи засиделись далеко за полночь. И когда наконец потушили свечи, увидели, что наступает утро. День обещал быть погожим. Легкий ветерок разгонял ночной туман, и лучи восходящего солнца скользили по верхушкам деревьев, еще не стряхнувших капли вчерашнего дождя.
Через неделю после отъезда Дюкло-Гийо перед домом в Кутансе опять остановилась карета. Бугенвиль встретил нового гостя — на этот раз из Парижа — астронома Лаланда.
— Я приехал к вам, мосье, — сказал он, — чтобы вручить только что изданную «Естественную историю» Антуана Жюссье. Этот труд тесно связан с вашим путешествием и с именем Коммерсона. Дело в том, что не одно поколение естествоиспытателей Жюссье трудилось над составлением естественной классификации растений, во многом устраняющей ошибки великого Линнея. Антуан Жюссье только продолжил сорокалетнюю работу своего дяди Бернара. Закончить эти обобщения помог обширнейший материал, собранный вашим и моим другом Филибером де Коммерсоном. Ученый не смог довести до конца начатое. И часть коллекций оказалась — увы! — утраченной после его смерти. Но все же тридцать четыре ящика с гербариями были доставлены во Францию. Антуан Жюссье, вскрывший их, заявил, что никогда в жизни не видел столько растений, собранных одним человеком. В этих ящиках было пять тысяч видов, из них три тысячи новых, не известных науке. Они принадлежат к шестидесяти родам, которые после их открытия пришлось внести в определители растений.
— Я всегда знал, как фанатически предан Коммерсон своему делу. Но лишь сейчас понял размах его работы — сказал Бугенвиль.
— Это можно назвать подвигом. Много ли найдется у нас таких ученых?
Лаланд серьезно посмотрел на своего собеседника.
— Но вы умалчиваете о себе. О вашем путешествии пишут по-разному. Но никто не может отрицать, что вы много сделали для опровержения ложных представлений о поверхности земного шара. Разве не борьба с суеверием и невежеством и есть тот путь, по. которому должна идти подлинная наука?
— В последнем вы совершенно правы, — ответил Бугенвиль. — Но как дорого подчас обходится эта борьба ученым. Многие из них, как Коммерсон, жертвуют жизнью во имя науки.
— Да, дорого, пока они действуют в одиночку. Наш друг Коммерсон все время вынашивал мысль о том, чтобы создать какие-то другие научные ассоциации, помимо нашей Академии. Без большой солидарности, без дружеской руки, протянутой друг другу учеными разных областей знания, вое труднее будет продвигаться вперед.
Бугенвиль невесело усмехнулся:
— Не проходит дня, чтобы я не чувствовал всей тяжести людского непонимания. Министрам кажется вздором предложенный мной проект изучения северных областей Земли. Это как раз то невежество, о котором вы говорили, мосье. А ведь когда-нибудь такими исследованиями будут заниматься с большой энергией и размахом.
Собеседники помолчали.

Бугенвиль, листая сочинение натуралиста Жюссье, спросил:
— И кто же тот человек, который сумел привезти с далекого острова тридцать четыре ящика Коммерсона?
Лаланд оживился:
— О, это поистине замечательная женщина — Жанна Барре, верная помощница ученого до конца его дней. Когда Жюссье работал над привезенными с Иль-де-Франса материалами, он часто обращался за помощью к Жанне, чтобы выяснить, где и при каких условиях были собраны Коммер-соном растения, в особенности, если отсутствовали надписи ученого. Жюссье ей очень благодарен. А сейчас Барре живет у меня, я ей поручаю вести журналы моих наблюдений, и она с этим хорошо справляется.
Бугенвиль вспомнил, как он разговаривал с Жанной на острове Бука. Он и не предполагал тогда, что эта простая девушка отдаст все свои силы науке. Вот если бы его жена Флора была в этом хоть чуточку похожа на Жанну!
Лаланд встал и принес свой дорожный баул. Он вынул оттуда небольшой кустик в жардиньерке, усыпанный цветами с большими розово-красными прицветниками.
— Сейчас на многих океанических островах, на американском континенте и даже в Северной Африке — везде сажают перед домами это красивое растение, открытое Коммерсоном и посвященное вам, — сказал астроном. — В одном из своих последних писем натуралист просил меня вырастить его в оранжерее и подарить вам. Позвольте мне исполнить желание ученого.
Бугенвиль взял жардиньерку и поставил ее было на каминную полку, но потом, передумав, прикрепил на самом видном месте, там, где висели многочисленные реликвии его странствий: дротики туземцев с Соломоновых островов, кожаные пращи патагонцев, духовая трубка южноамериканских индейцев, копье и божок из черного дерева с острова Таити.

 Карта составлена Луи Антуаном де Бугенвилем
Карта составлена Луи Антуаном де Бугенвилем

INFO
Всеволод Николаевич Евреинов
Николай Никитович Пронин
ЗА УБЕГАЮЩИМ ГОРИЗОНТОМ
Редактор Г. В. Кубанский
Младший редактор Р. К. Беличенко
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор Э. Н. Виленская
Редактор карт А. В. Голицын
Корректор З. А. Авдюшева
Т-14845. Сдано в производство 17/VIII 1963 г. Подписано в печать 22/XI 1963 г. Формат 84 x 108 1/32. Печатных листов 6,75, вкл. 0,5. Условных листов 11,57. Издательских листов 11,85. Тираж 55 000
Цена 37 коп., переплет 15 коп. Заказ № 783.
Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Издательство социально-экономической литературы «Мысль»
Набор Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Москва, Ж-54. Валовая. 28.
Отпечатано с готовых матриц в Московской тип. № 4
Главполиграфпрома Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати.
Зак. 179, Б. Переяславская, 46.
Примечания
1
Янсенизм — религиозно-общественное течение во Франции, возникшее в XVII веке. Оно в известной мере отражало ненависть широких масс к иезуитам и являлось своеобразной формой оппозиции буржуазной и дворянской интеллигенции абсолютистскому режиму.
(обратно)
2
Мы, слабые существа, дерзаем совершить великие дела
(лат.).
(обратно)
3
Stella — по-латыни звезда.
(обратно)
4
Фертоинг — способ постановки корабля на двух якорях при меняющихся ветрах или течениях.
(обратно)
5
Новой Голландией назывался в XVIII веке австралийский материк. Его западное побережье было открыто в самом начале XVII века голландскими и португальскими мореплавателями. Во время экспедиции Бугенвиля было нанесено на карту лишь западное и северное побережье материка. Восточное его побережье позднее открыл Джемс Кук.
(обратно)
6
Слово «утопия» образовано из греческого отрицания
у — не и
топос — место (т. е. место, которого нет). Так, назвал английский мыслитель Томас Мор (1478–1535) несуществующий остров, жители которого создали описанный Мором социалистический строй.
(обратно)
7
Комис на французских кораблях XVIII века — должностное лицо, ведающее продовольственными и другими запасами.
(обратно)
Оглавление
Глава I
Победа или поражение?
Глава II
Навстречу ветру
Глава III
Малуины
Глава IV
Отец Лавесс
Глава V
Под звездами неведомых морей
Глава VI
Якоря остаются на дне
Глава VII
Снова лишения, снова открытия
Глава VIII
Круг замкнут
Глава IX
Эноуа Парис
Глава X
Красный цветок капитана
INFO
*** Примечания ***