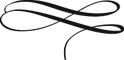Урсула ЛЕ ГУИН
Избранные произведения
I том

ЗЕМНОМОРЬЕ
(Летопись волшебной страны)
Земноморье — удивительная страна Урсулы ле Гуин — выдающейся американской писательницы, лауреата многочисленных литературных премий, доктора философии, создавшей сказочно-фантастическую эпопею, одинаково интересную и детям, и взрослым.
В замысловатом лабиринте сказочной страны Земноморье не мудрено и заблудиться, но ведомому фантазией и талантом Урсулы Ле Гуин читателю не грозит столь незавидная участь. Продуманный до мелочей, раскрашенный сочными красками мир заключает в себе неповторимое обаяние, под власть которого уже попали миллионы любителей фантастики во всем мире.
Множество островов, населённых различными народами, молящихся различным богам. Здесь действует магия настоящих имён — слов истинного языка, на котором разговаривают драконы. Здесь чародеи острова Рок хранят и приумножают знания и красоту своего мира.
Произведения цикла рассказывают о жизненном пути Геда — величайшего из Верховных Магов Земноморья. Чтобы исправить ошибки, совершённые в юности, он должен принять на себя неподъёмную ношу миродержца…

ОСВОБОЖДАЮЩЕЕ ЗАКЛЯТЬЕ
(рассказ)
Непросто вырваться из подземелья, куда заточил тебя страшный и сильный враг. Ещё труднее принять решение уйти из жизни, чтобы в ином мире встретиться с ним, победить его и остаться навечно, охраняя покой живущих.

Где же это он? Жесткий, покрытый слизью пол, воздух черен и пропитан зловонием. Остальное совершенно неясно. Вот только голова очень болит.
Лежа на ледяном полу, Фестин со стоном приказал: «Эй, посох!» Но ольховый волшебный посох так и не появился. И тут Фестин понял, что ему угрожает страшная опасность. Он сел и, поскольку посоха у него не было, и он не мог зажечь настоящий волшебный огонь, щелкнул пальцами и пробормотал нужное заклинание. Слабый голубоватый огонек — частица его души, — вызванный к жизни волей волшебника, вспыхнул в воздухе, рассыпая искры. «Поднимись-ка повыше», — сказал ему Фестин, ощущая в парящем огоньке частицу самого себя, и светящийся шарик поплыл вдоль стены к потолку, все выше и выше, пока наконец не осветил крышку люка — метрах в пятнадцати от пола. С этой высоты лицо самого Фестина казалось бледным пятном на дне темного колодца. Огонек не отражался в сочащихся влагой стенах: они с помощью магии были сотканы из ночной тьмы, поглощающей всякий свет. Потом светящаяся частица души Фестина вернулась в его тело, и волшебник сказал огоньку: «Погасни», и тот погас. А Фестин сидел в темноте и, отчаянно ломая пальцы, думал.
Наверняка его застали врасплох, подло подкравшись сзади. Последнее, что осталось в памяти, — обычный вечерний разговор с деревьями в лесу. В его любимом лесу. Недавно, достигнув середины жизненного пути и долгие годы проведя в одиночестве, Фестин вдруг понял, что время потрачено зря; неизрасходованные силы томили его. Желая запастись терпением и не совершать более бессмысленных поступков, покинул он тогда мир людей и ушел в леса. С тех пор он общался только с деревьями, в основном с дубами, каштанами и серыми ольховинами, чьи корни близки глубинным источникам, бьющим из-под земли. С человеком он в последний раз разговаривал примерно полгода назад. Все это время он был занят подлинными, жизненно важными вещами, никого не беспокоил, не произнес даже ни единого заклятия. Так кому же он понадобился? Кто лишил его силы и бросил в этот вонючий колодец? «Кто?» — спросил он у стен, и на них медленно проступило имя и стекло вниз, подобно тяжелой черной капле влаги, выделяемой порами камня и мерзкой плесенью: Волл.
Фестин почувствовал, как покрывается холодным потом. О Волле Беспощадном он слышал уже давно; ходили слухи, что он больше, чем волшебник, но меньше, чем человек; говорили также, что на своем пути с острова на остров, вплоть до самых Дальних Пределов, он разрушает все древние творения человека, превращает людей в рабов, вырубает леса и отравляет поля, пряча в страшных подземных колодцах-могилах любого волшебника или Мага, пытающегося с ним сразиться. Люди, спасшиеся с разоренных им островов, всегда рассказывали одно и то же: Волл прилетел под вечер на темной туче, влекомой морским ветром; его рабы следовали за ним на кораблях. Рабов эти люди видели собственными глазами, но никто никогда так и не смог как следует разглядеть самого Волла… Однако в Земноморье хватало и злодеев, и загадочных существ, так что Фестин, молодой еще волшебник, жаждущий знаний, не стал обращать особого внимания на страшные истории о Волле Беспощадном. «Свой остров я пока защитить в силах», — думал он, уверенный в собственном волшебном могуществе, и жил среди дубов и каштанов, слушал шорох их листьев на ветру, музыку играющих в стволах и ветвях соков, вместе с деревьями ловя солнечный свет и ощущая вкус подземных вод, питающих их корни… Где-то они теперь, старые верные друзья? А что, если Волл уничтожил его лес?
Очнувшись от грез, Фестин встал, выпрямился во весь рост, сделал два широких жеста негнущимися руками и громко произнес то слово Истинной Речи, которое непременно должно было разрушить любые запоры, настежь распахнуть любые, созданные человеком двери. Но эти стены, пропитанные ночной тьмой и укрепленные именем своего создателя, не поддавались, они даже не дрогнули. Произнесенное заклятие вернулось столь громогласным эхом, что Фестин, чуть не потеряв сознание, упал на колени и зажал руками уши. Потом, когда снова наступила тишина, он, еще не оправившись от потрясения, сел и стал думать.
Слухи оказались верны: Волл действительно был необычайно силен. Здесь, в его владениях, в глубине подземной темницы, выстроенной с помощью страшных заклятий, просто так с ним не справиться, тем более что могущество самого Фестина уменьшилось вдвое с утратой посоха. Но никто, даже пленивший его злодей, не смог бы отнять у него способности мысленно переноситься куда угодно, в любое место, а еще — способности к Превращениям. Фестин потер виски — их нестерпимо ломило — и начал первое Превращение. Медленно, неощутимо тело его расплылось облаком тумана.
Лениво обвисая по краям, туман поднялся над полом и поплыл вверх, вдоль осклизлых стен туда, где арка кровли соединялась со стеной. В этом месте была тоненькая, не толще волоса, трещинка. Через нее туман капля за каплей просочился наружу. Он уже почти вырвался на свободу, когда вдруг налетел горячий ветер — горячий, словно воздух над раскаленной плитой, — и стал безжалостно высушивать туман. Он поспешно втянулся назад, в трещинку под сводом, стек по стенам на пол и обрел свое подлинное обличье. Потом Фестин, еле дыша, вытянулся на холодном каменном полу. Превращение всегда требует огромного душевного напряжения и расхода физических сил, когда же к этому примешивается ужасное предвкушение гибели в нечеловеческом обличье, то пережить столь чудовищное испытание непросто. Некоторое время он был почти без чувств. К тому же злился на самого себя. Слишком это просто — превращаться в туман. Любому дураку подобный фокус известен. Вполне возможно, Волл, предвидя это, что называется, на всякий случай оставил на страже горячий ветер. Фестин еще немного подумал, потом собрал свое тело в маленький черный комок, превратился в летучую мышь, взлетел к потолку и, обернувшись тонкой струйкой воздуха, просочился сквозь трещину наружу.
На этот раз освободиться из темницы ему удалось.
Невидимый и прозрачный, поплыл он через зал, в котором оказался, к окну; и тут острое чувство опасности заставило его снова превращаться — в первую пришедшую на ум вещь: золотое колечко. И вовремя. Налетевший ледяной смерч тут же превратил бы легкую струйку воздуха в ничто. Даже упавшее на пол колечко чуть покрылось инеем. Когда смерч миновал, Фестин-кольцо лежал на мраморном полу и раздумывал: в каком бы виде выбраться наружу через окно?
Однако он думал слишком долго и слишком поздно решил убраться с того места, где лежал. Чудовищный тролль с черным лицом вихрем промчался через зал и успел схватить кольцо своей огромной, белой, словно из извести сделанной, лапой. Потом подбежал к люку, поднял крышку за железную рукоять и, пробормотав заклятие, бросил кольцо в темный колодец. Фестин камешком пролетел все пятнадцать метров и звонко ударился о каменный пол.
Обретя свое истинное обличье, он сел, мрачно потирая разбитый локоть. Ну ладно, довольно превращений на голодный желудок. Больше всего ему сейчас хотелось вернуть свой посох: тогда он по крайней мере смог бы как следует пообедать. Без посоха он, хотя и мог изменять собственное обличье, поскольку сохранил еще волшебную силу, однако не имел возможности вызвать заклинанием ни одно материальное тело — будь то молния или баранье ребрышко.
«Ничего, потерпишь», — сказал себе Фестин и, отдышавшись, растворил свое тело в бесконечно сладостных запахах жаркого из барашка. Потом еще раз попробовал просочиться сквозь щель. Поджидавший снаружи тролль подозрительно потянул было носом, но Фестин уже успел сменить обличье и, превратившись в сокола, устремился прямо к окну. Тролль бросился за ним, но промахнулся и взревел — словно камни загрохотали — «Ловите! Ловите сокола!», но было поздно. Взмыв в небеса с потоками ветров Фестин покинул заколдованный замок и полетел к своему родному лесу, что лежал на западе, как бы окутанный темной пеленой. Он летел стрелой, однако иная стрела, более быстрая и смертоносная, настигла его. И Фестин, вскрикнув, стал падать. Солнце, и море, и башни закружились у него перед глазами и исчезли.
Он очнулся все в той же сырой темнице, на полу. Волосы намокли от крови, рот тоже был окровавлен. Стрела ранила сокола в основание крыла — то есть в человеческое плечо. Стараясь не шевелиться, Фестин пробормотал заклятие, и рана стала затягиваться. Вскоре он уже смог сесть и, наконец собравшись с силами, выговорил более сильное и многословное заклятие — исцеляющее раны. Однако он потерял слишком много крови, а вместе с ней и сил, и теперь холод пробирал его до костей. Даже исцеляющее заклятие не могло согреть его. Перед глазами плыла темная пелена, хотя он все-таки сумел зажечь крохотный волшебный огонек; то была такая же черная пелена, что окутывала теперь его лес и селенья его острова.
Он должен был защитить эту землю!
Но впрямую больше действовать он не мог. Так ему отсюда не спастись: он слишком ослабел и устал. И слишком много растратил волшебных сил. Теперь он будет слаб в любом обличье и непременно попадет в очередную ловушку Волла.
Дрожа от холода, Фестин скрючился на полу и погасил волшебный огонек. Тот с шипением погас, испустив слабый запах болотного газа. Этот запах напомнил Фестину о болотах, что тянутся между стеной леса и морем у него на острове. То были его любимые болота, куда не ступала нога человека; осенью над ними длинной вереницей низко пролетали лебеди, а между озерцами стоячей воды и заросшими тростником островками по направлению к морю всегда бежали быстрые тихие ручейки. Ах, вот бы стать рыбкой в одном из этих ручьев! А еще лучше — оказаться у их истоков, под сенью деревьев, в тех темных водах, что омывают корни ольховин, в загадочных водах, питаемых подземными источниками…
Здесь требовалось Великое Заклятие. Фестин редко произносил их. Но он мечтал, как и любой другой человек, оказавшись в изгнании или в опасности, — мечтал коснуться родной земли, испить воды из ее источников, увидеть перед собой двери милого сердцу дома, знакомый обеденный стол, ветви дерева за окном своей спальни… Лишь во сне удается немногим, кроме разве Великих Магов, воплотить в жизнь мечту об утраченном доме… Но Фестин все же был настоящим волшебником, а потому, несмотря на пробирающий до костей холод, сковавший даже его нервы и жилы, все же поднялся на ноги, собрал всю свою волю и в молчании, меж страшных темных стен, начал творить Великое Заклятие.
И стены исчезли. Теперь он находился как бы внутри земли; скалы и гранитные жилы были ее костями, подземные воды — кровью, корни деревьев и вещей — нервами.
В обличье слепого червя медленно продвигался Фестин сквозь землю — на запад. Сзади и спереди — со всех сторон его окружала тьма. И вдруг неожиданно его спины и живота коснулся бодрящий, не оказывающий сопротивления, не истощающий силы ласковый холодок. Он попал в воду, почувствовал ее течение. Превратившись в серебристую рыбку, глазами, лишенными век, увидел он, что находится в глубоком пруду с коричневатой водой, среди мощных корней ольховин. Фестин, отсвечивая серебром, нырнул поглубже, в тень. Он все-таки обрел свободу! Он был дома.
Вода текла и текла из неиссякающего чистого родника… Фестин лежал на песчаном дне озерца: пусть родниковая вода, что действует сильнее любого исцеляющего заклятия, залечит его раны; пусть ее прохлада придет на смену мертвящему холоду темницы, пропитавшему его тело… Но, отдыхая, он слышал, как дрожит под чьими-то тяжелыми шагами земля в лесу. Кто это ходит там? Он был еще слишком слаб, чтобы снова сменить обличье, и скрыл свое серебристое тело — тело форели — за толстым корнем ольхи. Спрятавшись, он стал ждать.
Огромные серые пальцы шарили в воде, перетирали песок. Сквозь замутившуюся воду было видно, как над озерцом склоняются чьи-то бледные лица, чьи-то немигающие глаза пытаются кого-то разглядеть в глубине. Сетка и руки упорно делали свое дело. Сначала они, правда, упустили его, но потом все-таки вытащили на берег. Форель извивалась на песке. Фестин тщетно пытался обрести прежнее обличье — и не мог: был связан Великим Заклятием, что привело его домой. Он мучительно дергался в сетях, ловил ртом сухой, прозрачный, ужасный воздух суши, он погибал. Агония казалась бесконечной, и все желания в нем постепенно гасли. Прошло очень много времени, прежде чем Фестин потихоньку начал осознавать, что вновь обретает человеческое обличье. Какая-то острая, горькая жидкость против его воли лилась ему в горло. Время как бы остановилось… Потом он обнаружил, что лежит ничком на полу все той же темницы. Он снова оказался во власти своего врага. И хотя теперь он снова мог нормально дышать, но был уже на самом пороге смерти.
Теперь холод окутывал его со всех сторон; тролли, слуги Волла, должно быть, превратили в месиво хрупкое тело форели, потому что, когда Фестин шевельнулся, боль в груди и в плече буквально оглушила его. С переломанными костями, совсем без сил лежал он в этом колодце с магическими страшными стенами. У него не осталось более волшебного могущества, и обличье свое он изменить больше не мог. Оставался лишь один путь к освобождению.
Лежа неподвижно и стараясь по мере сил не думать о терзающей его боли, Фестин размышлял: почему же он все-таки не убил меня? Зачем держит меня в темнице, сохраняя мне жизнь?
Почему я ни разу его не видел? Чьи же глаза способны увидеть его? И ходит ли он по этой земле?
Он боится меня, хотя я совсем обессилел.
Говорят, что все волшебники и просто люди с сильной волей, которых он сумел победить, заживо похоронены в тайниках, в таких вот колодцах, как этот; они живут там долгие годы, тщетно пытаясь освободиться…
А если избрать иной путь: отказаться от жизни?
И Фестин решился. Последняя мысль: если я ошибся, то люди подумают, что я просто струсил, — ненадолго задержалась в его мозгу. Чуть повернув голову набок, он закрыл глаза, глубоко вздохнул и прошептал Великое Слово, дающее вечную свободу. Слово, которое произносят лишь раз в жизни.
Это было не Превращение. Фестин совсем не изменился. Его тело, его длинные руки и ноги, его умные, послушные пальцы, его глаза, что так любили смотреть на деревья и ручьи, — все было тем же. Но только неподвижным, застывшим, источающим хлад. Черные стены исчезли. Исчезли и созданные магией мрачные своды, исчезли залы и башни, исчезли море и дальний лес, исчезло вечернее небо. Все исчезло, и Фестин медленно побрел куда-то вниз по длинному склону Холма Жизни, над которым светили иные звезды.
Когда-то он обладал великим могуществом — и еще не забыл об этом. Подобно свету свечи двигался он по безбрежным пустынным просторам. И, словно вдруг что-то вспомнив, громко назвал имя своего врага: Волл!
Призванный подлинным именем, не в силах сопротивляться этому зову, Волл явился — настоящий, только очень бледный человек, ясно видимый в свете звезд. Фестин подошел к нему вплотную, и Волл, в ужасе отшатнувшись, вскрикнул так, словно обжегся. Потом бросился бежать. Фестин следовал за ним по пятам. Они долго бежали по остывшим потокам лавы, вытекшей когда-то из давно потухших вулканов, что вздымали свои вершины к безымянным звездам; по каменистым склонам молчаливых холмов; по долинам, заросшим короткой черной травой; мимо пустых городов, по неосвещенным улицам, между домами, в окнах которых не появилось ни одно лицо. Звезды неподвижно висели в небе — ни одна не скатилась с небосклона, ни одна новая не появилась там. Здесь ничто никогда не менялось. И никогда не наступил бы день. Они шли все дальше и дальше, и Фестин по-прежнему преследовал своего врага. Но вот перед ними оказалось высохшее русло реки. Когда-то очень, очень давно эта река текла сюда из царства живых. В ныне сухом ее русле среди валунов лежало обнаженное тело — тело старика. Его остановившиеся глаза были обращены к неподвижным звездам, которые и перед смертью безгрешны.
«Вот твоя плоть. Войди в нее!» — приказал Фестин душе Волла. Тень взвыла. Фестин подошел ближе, и Волл пополз было на четвереньках прочь, но споткнулся и нырнул прямо в разверстый рот мертвого тела.
И труп тут же исчез. На сухих валунах при свете звезд не было заметно ни малейших следов, ни единого пятнышка. Фестин некоторое время еще постоял неподвижно, потом медленно опустился на один из камней, чтобы немного отдохнуть. Пока только отдохнуть; спать было нельзя: он должен быть начеку до тех пор, пока тело Волла не истлеет в своей могиле, не превратится в прах; пока не иссякнет вся заключенная в нем злая сила, пока прах его не разнесет ветер, не смоют в море дожди. Фестин должен стеречь это место — ведь когда-то именно здесь смерть нашла лазейку в мир живых. Исполненный бесконечного терпения, Фестин сидел и ждал среди валунов, где никогда больше не побежит живая вода, ибо в этой стране никогда не было выхода к морю. Звезды у него над головой застыли в вечной неподвижности; он все смотрел на них, и медленно, постепенно из памяти его уходили голоса ручьев, шум падающего дождя, шорох дождевых капель, стекающих по листьям в лесу его жизни.

ПРАВИЛО ИМЕН
(рассказ)
Свое настоящее имя никому нельзя говорить, и нельзя никого спрашивать о его подлинном имени. Потому что подлинное имя воплощает самую суть вещи. Назвать имя — значит обрести над этой вещью власть. Настоящая беда приключается, когда на остров Саттинс приезжает незнакомец и называет подлинным именем местного волшебника, мистера Горовика.

Мистер Горовик стоял у подножия своей горы, улыбаясь и глубоко вдыхая прохладный зимний воздух. С каждым выдохом из ноздрей его вылетали две белые струйки пара, серебрившиеся в солнечных лучах. Мистер Горовик глянул вверх, на ясное декабрьское небо, и еще шире улыбнулся, показав свои белоснежные зубы. А потом пошел по дороге вниз, в деревню.
— Доброго вам утречка, мистер Горовик! — здоровались с ним деревенские жители, когда он шел по неширокой улице между домами с красными островерхими крышами, похожими на шляпки мухоморов.
— И вас с наступающим днем! — отвечал он каждому. Всем известно, что нет хуже приметы, чем желать кому-то доброго утра; вполне достаточно просто указать, какое сейчас время суток; нужно осторожнее обращаться со словами, тем более на Сатиновых островах, весьма подверженных различным волшебным Влияниям и сглазу; здесь ведь любое необдуманно произнесенное прилагательное может, например, вызвать затяжной, на целую неделю, дождь.
Все встречные непременно здоровались с ним — одни ласково, другие чуть пренебрежительно. Он был единственным волшебником на этом маленьком островке и хотя бы уже поэтому заслуживал уважения — но, скажите на милость, как можно всерьез уважать пожилого толстого коротышку, что ковыляет по дороге, нелепо загребая ногами и выдыхая длинные белые струи пара, да еще чему-то улыбается? К тому же волшебником он тоже был не ахти каким. Всякие его фокусы с огнем, правда, удавались на славу, зато зелья почти не действовали. Когда он сводил бородавки, то они чаще всего вырастали снова уже дня через три. Заговоренные им помидоры были не крупнее мелких дынь. А в те редкие дни, когда в порту Сатинового острова пришвартовывался иноземный корабль, мистер Горовик и носа не высовывал из своей норки под горой: говорил, что боится сглаза. Иными словами, он был примерно таким же волшебником, как пьянчуга Ган — плотником: с тем и другим приходилось мириться за неимением лучшего. Приходилось мириться и с плохо пригнанными дверями, и с недействующими заклятьями. Так уж оно получилось. Ну, жители зато и обращались с мистером Горовиком по-свойски, по-соседски, совсем его не боялись, а иногда даже приглашали к себе пообедать. Однажды и он пригласил нескольких человек и устроил замечательное пиршество — на столе серебряные приборы, хрусталь, дорогая скатерть, жареный гусь, искристое андрадское вино, которому не менее шестисот лет, а на десерт сливовый пудинг с роскошным соусом. Но мистер Горовик так нервничал во время трапезы, что веселья не получилось. К тому же уже через полчаса все были снова голодны как волки. А вообще-то он гостей не любил; в его пещеру редко кто заходил, да и то не дальше прихожей. Когда мистер Горовик видел, что к нему кто-то идет, он тут же проворно выбегал навстречу гостю.
— Давайте посидим лучше вон там, под соснами! — говорил он в таких случаях, с улыбкой указывая в сторону сосновой рощи; а если шел дождь, предлагал: — А может, лучше чего-нибудь выпьем в харчевне? Как вы на этот счет? — Хотя все знали, что он не пьет ничего крепче колодезной воды.
Деревенские мальчишки никак не могли смириться с вечно запертой дверью пещеры под горой; они все время вынюхивали да высматривали, нельзя ли попасть туда, пока мистера Горовика нет дома; но маленькая дверца всегда была накрепко затворена заклятьем, которое в кои-то веки оказалось вполне действенным. Однажды двое мальчишек, знавших, что волшебник отправился на западный берег острова лечить заболевшего ослика миссис Рууны, притащили к дверям его жилища лом и топор. Однако после первого же удара изнутри донесся чудовищный гневный рев и вырвалось облако ярко-красного дыма. Видно, мистер Горовик успел вернуться домой раньше обычного. Мальчишки сбежали. Впрочем, мистер Горовик так и не вышел из дому, так что им даже и не попало ничуть. Они только все удивлялись, как это такой маленький толстячок мог издавать столь ужасные звуки — рев и жуткое шипение.
А сегодня у мистера Горовика были в деревне дела: нужно было купить три дюжины яиц и фунт печенки, а кроме того — заглянуть к капитану Фогено и подновить чары, с помощью которых волшебник пытался вылечить ему глаза — занятие довольно бессмысленное при отслоении сетчатки. Однако мистер Горовик упорно продолжал лечение. А под конец он намеревался зайти поболтать к своей старой приятельнице Гуди Гульд, вдове мастера, изготовлявшего концертино. Друзьями мистера Горовика в основном были люди немолодые. Он очень смущался в присутствии сильных молодых мужчин; а девушки при нем почему-то сами начинали смущаться и нервничать. «Мистер Горовик действует мне на нервы — слишком уж часто он улыбается!» — говаривали они все как одна и при этом недовольно надували губы и начинали накручивать на палец шелковистые локоны. «Действовать на нервы» было выражение новомодное, так что матери отвечали им сурово: «Нервы — надо же! Драть вас некому! Глупость, вот как это называется. Мистер Горовик — очень уважаемый волшебник!»
Переделав все дела и посетив Гуди Гульд, мистер Горовик проходил мимо школы. В тот день ученики занимались прямо на лужайке. Поскольку грамотных людей на Сатиновых островах не было, то не было и книг, по которым можно было бы научиться читать; не было и школьных досок, на которых можно было бы научиться писать буквы; не было и парт, где можно было бы вырезать первые буквы своего имени, а потом не было и самой школы. В дождливые дни дети занимались на чердаке общинного амбара и вечно вылезали оттуда покрытые сенной трухой; а когда светило солнышко, школьная учительница Палани сама выбирала место для занятий. Сегодня на лужайке три десятка любознательных ребятишек не старше двенадцати в окружении сорока совершенно равнодушных к знаниям овец (не старше пяти лет) изучали одну из важнейших тем школьной программы: правило имен. Мистер Горовик, застенчиво улыбаясь, остановился на минутку послушать и посмотреть. Палани, хорошенькая пухленькая девушка лет двадцати, окруженная детьми и овечками на залитой солнцем лужайке под большим дубом с облетевшей уже листвой, являла собой дивную картинку. За ее спиной расстилались море, песчаный берег, ясное бледное зимнее небо. Она говорила с жаром, лицо ее порозовело от ветра и от значимости произносимых слов.
— Ну вот, дети, теперь вы уже знаете все правила имен. Их всего два, и на всех островах Земноморья они одинаковы. Каково же первое из них?
— Невежливо спрашивать человека, каково его имя! — выкрикнул толстый шустрый мальчуган, но ему не дала договорить какая-то девчонка, пронзительно завопив:
— А вот уж что никогда нельзя, так это говорить свое собственное имя! Кто бы тебя ни спросил! Так мне моя ма сказала!
— Верно, Суба. Верно, Попи, дорогая, только не визжи так. Вы оба верно ответили. Никогда не спрашивайте человека о его имени. Никогда не называйте своего. А теперь подумайте минутку и скажите: почему мы называем нашего волшебника мистер Горовик? — Она улыбнулась, глядя поверх кудрявых головенок своих учеников, одетых в теплые меховые и шерстяные безрукавки, на мистера Горовика, который прямо-таки сиял, нервно прижимая к груди кошелку с яйцами.
— Потому что он живет под горой! — громко ответили дети.
— А как вы думаете, это его подлинное имя?
— Нет! — сказал тот же толстый мальчик, и ему эхом откликнулась визгливая маленькая Попи:
— Нет!
— А почему вы решили, что нет?
— Потому что прибыл он на наш остров совсем один и никто не знал тогда его подлинного имени и не мог назвать его, чтобы все остальные узнали, а сам мистер Горовик этого сделать не мог…
— Очень хорошо, Суба. Попи, не кричи! Верно. Даже волшебник не может никому говорить своего подлинного имени. Когда вы, дети, окончите школу и пройдете обряд посвящения, то расстанетесь со своими детскими именами и получите настоящие, подлинные ваши имена, которые нельзя никому говорить и ни у кого нельзя спрашивать. А откуда взялось такое правило?
Дети молчали. Тихонько проблеяла овца. На этот вопрос ответил мистер Горовик.
— Это потому, — застенчиво сказал он своим тихим хрипловатым голосом, — что подлинное имя воплощает самую суть вещи. Назвать имя — значит обрести над этой вещью власть. Я верно отвечаю, госпожа учительница?
Она улыбнулась ему и склонилась в реверансе, хотя и была сильно смущена его неожиданным участием в уроке. Так что мистер Горовик поспешил прочь, прижимая к груди кошелку с яйцами. Почему-то за те несколько минут, в течение которых он наблюдал за Палани и детьми, в нем пробудился страшный голод. Торопливо произнесенным заклятьем мистер Горовик запер за собой дверь, но, должно быть, в произнесенном заклятии чего-то не хватило: дверь закрылась недостаточно плотно, и сквозь щели вскоре просочились аппетитные запахи яичницы и жареной печенки.
В тот день с запада дул легкий прохладный ветерок и к полудню пригнал в порт небольшую лодку под парусом, сверкавшим на солнце. Не успела лодка войти в бухту, как какой-то востроглазый мальчишка, издали заметив ее и отлично зная, как, впрочем, и все дети на острове, паруса всех сорока имевшихся в гавани лодок, бросился по улице с криком: «Чужая лодка, чужая лодка!» Очень-очень редко посещали этот уединенный уголок Земноморья суда — как с других островов Восточного Предела, так и с Архипелага. Когда лодка пришвартовалась наконец у пирса, там собралась по меньшей мере половина деревни, чтобы приветствовать смелого путешественника. Гостеприимные рыбаки повели его к себе домой, а пастухи, землекопы и местные травники — все как один — торчали на окрестных холмах вдоль дороги, ведущей от гавани в деревню.
Но дверь мистера Горовика так и осталась запертой.
На лодке приплыл один-единственный человек. Старый капитан Фогено, когда ему об этом сообщили, высоко задрал брови над своими невидящими глазами.
— Во Внешние Пределы в одиночку плавают только колдуны, волшебники да Великие Маги… — сказал он.
Так что теперь жители деревни, затаив дыхание, надеялись, что в кои-то веки смогут полюбоваться на настоящего Мага, одного из тех могущественных волшебников, которых много на внутренних островах Архипелага. Впрочем, они были несколько разочарованы, ибо путешественник оказался молодым, чернобородым и красивым парнем, который весело махнул им рукой из своей лодки и с радостным нетерпением выскочил на пирс — как и все моряки, добиравшиеся до долгожданной земли. Он поздоровался и назвался бродячим морским торговцем. Но, когда люди рассказали об этом капитану Фогено, прибавив, что у незнакомца есть дубовый посох, с которым тот не расстается, старик только головой покачал:
— Два волшебника в одном городе… Плохо дело! — И, пожевав губами, как старый карп, замолчал.
Поскольку приезжий не мог назвать им своего имени, они тут же дали ему прозвище сами: Чернобородый. Гость был окружен всеобщим вниманием. Он привез кое-какие товары: одежду, сандалии, пушистые перья писви для оторочки плащей, недорогие благовония, волшебные камни, якобы дающие способность летать, разные лечебные травы, а еще крупные стеклянные бусы с острова Венвей — обычный набор бродячих торговцев. Не было на острове человека, что хоть раз не зашел бы к Чернобородому: просто поболтать, посмотреть товары, а то и купить что-нибудь. «Хотя бы просто на память!» — скрипела старая Гуди Гульд, которая, как и все женское население деревни, была сражена красотой и умными речами Чернобородого. Что же касается мальчишек, то те просто целыми днями готовы были толочься возле него и слушать рассказы о путешествиях на неведомые острова Дальних Пределов или на богатые острова Архипелага, во внутренние моря, где пересекаются пути многочисленных судов с белоснежными парусами, где золотятся шпили прекрасных башен столицы Земноморья — Хавнора. Люди охотно слушали его истории, но некоторые удивлялись: зачем Чернобородому понадобилось плавать по дальним морям в одиночку? — и не сводили глаз с его дубового посоха.
А мистер Горовик по-прежнему отсиживался в пещере под горой.
— Впервые попадаю я на остров, где нет своего волшебника, — сказал Чернобородый как-то вечером в гостях у Гуди Гульд. Она пригласила заморского гостя, своего племянника Берта и учительницу Палани на чашку чая. — Как же вы обходитесь, если зуб заболит или у коровы молоко пропадет?
— Как же! У нас ведь для этого мистер Горовик есть! — ответила старуха.
— Да уж, на это его волшебства только-только и хватает, — пробормотал ее племянник, рыбак Берт, смутился, покраснел и пролил чай на скатерть. Берт был крупным, сильным, очень храбрым, но чрезвычайно молчаливым молодым мужчиной. Он давно был влюблен в школьную учительницу, но самое большее, на что он осмеливался, — это в знак великой любви преподносить полные корзины свежепойманной макрели кухарке ее отца.
— О, так у вас есть волшебник? — спросил Чернобородый. — Он что же, невидимка?
— Нет, он просто очень застенчивый, — сказала Палани. — Вы ведь здесь всего неделю живете, а у нас, знаете ли, чужеземцы редко бывают… — Она тоже слегка покраснела, но чаем заливать свое смущение не стала.
Чернобородый улыбнулся ей.
— Он, наверное, здешний? Уроженец Сатиновых островов, да?
— Нет, — ответила ему Гуди Гульд, — он такой же здешний, как и вы. Еще чашечку, племянник? Только уж постарайся на этот раз чай выпить. Нет, дорогой мой, он, знаете ли, приплыл сюда один, в маленькой лодчонке, года четыре назад. Так ведь? Как раз через день после того удачного лова сельди, когда сети тащили всей деревней, а пастух Понди еще ногу сломал, — должно, теперь уж пять лет будет? Нет, четыре все-таки… Да нет, пять, пожалуй: это ведь в тот год было, когда чеснок не пророс? Ну, стало быть, приплывает он сюда на утлой лодчонке, доверху загруженной всякими сундуками да шкатулками, и говорит капитану Фогено, который тогда еще не совсем ослеп, хоть и был совсем старым, так что мог бы успеть и дважды ослепнуть: «Я слышал, что у вас здесь нет ни колдуна, ни волшебника, так что, может, он вам требуется?» — «Конечно, требуется, — говорит капитан, — только чтоб магия его непременно белой была!» В общем, мы и глазом моргнуть не успели, как мистер Горовик поселился в пещере под горой и начал заклинаниями лечить от чесотки рыжего кота Гуди Белтоу. Чесотка и впрямь прошла, только шерсть у кота на облысевших местах выросла серая, так что масти он стал — не разбери поймешь. Помер этот кот прошлой зимой, в холода. И уж так Гуди Белтоу, бедняжка, по нем убивалась — куда больше, чем по мужу, когда тот на Долгой Отмели утонул!.. Это еще когда селедка хорошо ловилась, а племянник мой Берт в пеленках лежал.
Тут Берт от смущения снова пролил чай, Чернобородый ухмыльнулся, но Гуди Гульд и бровью не повела, так что разговор затянулся до темноты.
На следующий день Чернобородый отправился к причалу и извлек со дна своей лодки кусок старой обшивки какого-то судна, который, похоже, давно возил с собой. Словоохотливые жители тут же окружили его.
— Скажите, а какая из этих лодок принадлежит вашему волшебнику? — спросил Чернобородый. — Или, может, он на волшебной лодке приплыл? Маги превращают ее в ореховую скорлупку, когда она им без надобности.
— Нет, — флегматично ответил ему один рыбак, — лодку свою он прячет у себя в пещере, под горой.
— Он что же, отнес лодку, на которой приплыл, к себе в пещеру?
— Ну да. Точно. Я сам ему помогал. Ох и тяжелая же она была, прямо будто свинцом налита! Доверху набита всякими сундучками да шкатулками, а в шкатулках, он говорил, всё книги с заклинаниями. Да уж, как только руки не оторвались — такую тяжесть тащить! — И флегматичный рыбак покачал головой и меланхолично вздохнул.
Племянник Гуди Гульд, Берт, возившийся с сетью неподалеку, поднял голову и спросил спокойно и безмятежно:
— А может, вы хотите с самим мистером Горовиком потолковать?
Чернобородый посмотрел прямо на него. Умные черные глаза его встретились с открытым взглядом честных голубых глаз Берта. Они долго смотрели друг на друга, потом Чернобородый улыбнулся и сказал:
— Да, хотелось бы. Может, ты меня проводишь к нему, Берт?
— Конечно, провожу. Вот только сперва с работой покончу, — ответил рыбак.
И когда сеть была починена, они с заморским гостем двинулись по деревенской улице к высокому зеленому холму, что виден был сразу за деревней. Когда они шли через выгон, Чернобородый вдруг сказал:
— Погоди-ка минутку, друг мой Берт. Надо мне кое-что рассказать тебе, прежде чем мы с вашим волшебником встретимся.
— Ну рассказывай, — сказал Берт, усаживаясь под огромным дубом.
— История эта началась сто лет назад, и конца ей пока не видно… Но он скоро наступит, очень скоро! Среди островов Архипелага, которые сидят в море так густо, как мухи на меду, есть небольшой остров под названием Пендор. Правители Пендора обладали силой и властью в те дни, когда в Земноморье еще часто случались войны и мир меж островами не был заключен. Награбленное и полученное в виде дани добро суда свозили на Пендор, где в итоге собрались несметные богатства. Так оно было в давние времена. Потом откуда-то с запада, с тех голых островов, покрытых лавой, где драконы живут и выводят свое потомство, прилетел один из них — огромный и могучий. Он не имел ничего общего с теми ящерицами-переростками, которых вы, обитатели Восточного Предела, называете драконами. Это было огромное, чернокрылое и чертовски умное чудовище, полное сил и коварства. Как и все драконы, он больше всего на свете любил золото и драгоценные камни. И убил правителей Пендора, уничтожил их войско, а мирные жители, оставшиеся в живых, под покровом ночи бежали за море. Все до одного люди покинули остров Пендор, оставив свернувшегося кольцом дракона среди разрушенных башен. И целых сто лет дракон бродил, волоча свое отвратительное брюхо, по россыпям изумрудов, сапфиров и золотых монет. Он покидал остров лишь раз в один-два года, когда начинал чувствовать голод. Тогда он летел к населенным островам… ты знаешь, Берт, что едят драконы?
Берт кивнул и ответил шепотом:
— Девушек.
— Верно, — подтвердил Чернобородый. — Ну так вот, не век же было терпеть выходки дракона, тем более людям даже думать было противно, как он там сидит, на своих сокровищах. И когда в Земноморье установился мир, прекратились войны и пиратские налеты, жители островов решили атаковать Пендор, прогнать дракона и забрать все золото и драгоценности в казну правителей Земноморья. Итак, пятьдесят крупных островов прислали свои корабли, и огромная флотилия двинулась к Пендору. Семеро Великих Магов стояли на носу самых больших и крепких судов… Когда они высадились на берег, то нашли остров мертвым и опустевшим. В заброшенных домах на накрытых к обеду столах тарелки были полны столетней пыли. Побелевшие от времени кости правителя Пендора и его придворных валялись в залах дворца и на лестницах. Главная башня пропиталась драконьей вонью. Но самого дракона не было нигде. И нигде не находили они никаких сокровищ — ни одного, даже самого малюсенького, с маковое зернышко, алмаза, ни одной серебряной монетки… Видимо, вовремя осознав, что не сможет противостоять могуществу семи Великих Магов, дракон бежал и унес с собой свое сокровище. Люди пошли по его следу и обнаружили, что дракон перебрался на пустынный северный островок под названием Удратх; там было множество его следов и… снова побелевшие кости. То были его кости — кости дракона. Однако сокровища люди так и не нашли. Видимо, какой-то неведомый волшебник сумел не только уничтожить дракона в бою, но и увез все сокровища Пендора прямо из-под носа у посланников Земноморья!
Рыбак слушал довольно внимательно, хотя выражение его лица оставалось бесстрастным.
— Ну и, разумеется, это должен был быть весьма могущественный и умный волшебник — чтобы сначала убить дракона, а потом вот так скрыться, не оставив никаких следов! Правители Архипелага и Великие Маги так и не смогли выследить его, так и не узнали, ни откуда он приплыл, ни куда делся потом. А прошлой весной, когда после трехлетнего плавания в Северный Предел я вернулся домой, они попросили меня помочь им. Обратились они точно по адресу: я ведь не только волшебник — как кое-кто на вашем острове правильно догадался, — но еще и потомок правителей Пендора. Так что сокровище принадлежит мне. И знает, кто его хозяин. А глупцы с Архипелага не смогли отыскать его потому, что оно принадлежит не им, а роду моих предков. Звезда нашей сокровищницы, знаменитый изумруд Иналкиль, знает своего властелина. Смотри! — Чернобородый поднял свой дубовый посох и громко крикнул: — Иналкиль! — И верхушка посоха начала наливаться зеленым светом, вокруг повисла зеленая дымка цвета апрельской травы, и посох склонился в руках волшебника, указав точно на холм, что возвышался перед ними. — Там, в Хавноре, далеко отсюда, свечение не было, разумеется, таким сильным, — прошептал Чернобородый, — но и там посох мой указал верное направление! Иналкиль всегда отзывался мне. Этот камень хорошо меня знает, а я знаю, кто его украл, и вызову вора на поединок! Да, это могущественный волшебник, раз смог одолеть дракона. Но я все-таки сильнее его! Хочешь знать, почему, парень? Потому что я знаю его имя!
Чернобородый говорил все заносчивее, вид у него становился все более высокомерным, а Берт, наоборот, смотрел все более тупо и бесстрастно. Однако, заслышав последние слова Чернобородого, он вздрогнул, закрыл разинутый от удивления рот и недоуменно уставился на гостя с Архипелага.
— Как же… тебе удалось… узнать его имя? — очень медленно проговорил он.
Чернобородый только усмехнулся, но не ответил.
— Благодаря Черной Магии?
— Ну а как же еще?
Берт побледнел и ничего больше не спросил.
— Я правитель острова Пендор, парень, и я получу то золото, которое завоевали мои предки, и драгоценности, которые носили женщины нашего рода, и Зеленый Камень Иналкиль! Ибо все это принадлежит мне по праву!.. А ты теперь сможешь рассказать деревенским простакам мою историю — но только после того, как я, одержав победу над этим волшебником, покину ваш остров. Подожди здесь. Впрочем, можешь пойти со мной и посмотреть, если не боишься. Иной возможности увидеть поединок двух великих волшебников у тебя не будет! — Чернобородый резко повернулся и, даже не взглянув на Берта, быстро пошел к основанию холма, где виден был вход в пещеру.
Очень медленно двинулся за ним следом и Берт. На довольно большом расстоянии от пещеры он остановился, спрятался за кустом боярышника и стал ждать. Гость с Архипелага стоял перед разверстой пастью пещеры; его темная фигура отчетливо выделялась на зеленом склоне. На какое-то мгновение он застыл в полной неподвижности, а потом вдруг, взмахнув посохом над головой, отчего вокруг разлилось изумрудное сияние, крикнул:
— Эй, вор, похититель сокровища Пендора, выходи!
Внутри пещеры что-то зазвенело, загремело, словно разбили большой глиняный сосуд, и оттуда вылетело целое облако черной пыли. Пыль запорошила Берту глаза, он закашлялся, а когда снова смог видеть, то Чернобородый по-прежнему неподвижно стоял у входа в пещеру, откуда, весь засыпанный пылью и взъерошенный, вышел мистер Горовик. Он выглядел маленьким, жалким, косолапым; ножки, обтянутые черными штанами, были коротенькие и кривые; и посоха
у него в руках не было — у него вообще никогда не было никакого посоха, вдруг подумал Берт. И тут мистер Горовик заговорил.
— Кто ты такой? — спросил он своим глухим слабым голосом.
— Я повелитель Пендора, а ты — вор, и я пришел потребовать назад свои сокровища!
Щеки мистера Горовика медленно порозовели, как всегда, когда люди разговаривали с ним грубо. Но потом он вдруг совершенно изменился: как-то пожелтел, волосы у него встали дыбом, он не то кашлянул, не то странно рыкнул — и вот уже желтый лев прыгнул прямо на Чернобородого, сверкнули страшные клыки зверя…
Но Чернобородого там не оказалось: огромный тигр цвета изрезанной молниями ночи бросился льву навстречу…
Лев исчез. Чуть ниже пещеры вдруг откуда ни возьмись выросла целая роща деревьев с черными в зимнем свете солнца стволами. Тигр, зависнув в воздухе посредине прыжка, превратился в пламя, которое стало жадно пожирать сухие черные ветви…
И сразу там, где только что стояли деревья, земля начала вспучиваться, и оттуда серебристой аркой вылетела мощная струя воды, с шумом устремившаяся по склону на бушующее пламя. Но и пламя исчезло…
И тут прямо на глазах у изумленного рыбака выросли два холма — один зеленый, давно знакомый, и новый, голый, коричневый, готовый впитать мощные струи воды. Все произошло настолько быстро, что Берту пришлось как следует протереть глаза, а когда он их снова открыл, то не только изумленно захлопал ресницами, но даже застонал: то, что он видел теперь, было куда страшнее. Вместо коричневого холма, точнее, на его вершине, закрывая черными крыльями его целиком, возвышался дракон. Чудовищные стальные когти бороздили землю, а из темной, покрытой чешуей пасти вырывались языки пламени и клубы дыма.
Перед чудовищем у подножия зеленого холма стоял Чернобородый и смеялся.
— Можете превращаться во что угодно, мистер Горовик! — дразнил он противника. — Я вас все равно узнаю. Однако игра ваша, милый толстячок, начинает меня утомлять. Теперь я желаю взглянуть на сокровища Пендора, на свой Иналкиль. Да, большой ты дракон, да волшебник маленький! А ну-ка прими свое истинное обличье! Приказываю это тебе и заклинаю истинным твоим именем — Йевод!
Берт будто окоченел — даже моргнуть не мог. Дрожа от страха, смотрел он на происходящее, хотя смотреть ему вовсе не хотелось. Он видел, как чудовищный черный дракон завис в воздухе над Чернобородым. Он видел, как из пасти его вырывается пламя, а из красных ноздрей валит дым. Он видел, как лицо Чернобородого побледнело, побелело как мел и губы его, прикрытые черной бородой, задрожали.
— Твое имя Йевод!
— Да, — хрипло прошипел могучий дракон. — Мое подлинное имя действительно Йевод, а мое подлинное обличье — вот это.
— Но ведь дракон был убит… они же нашли кости дракона на острове Удратх…
— То были кости другого дракона, — проревело чудовище и, словно ястреб, вытянув когти, ринулось вниз. Берт зажмурился.
Когда же он наконец открыл глаза, небо над головой у него было пустым и чистым. И склон холма тоже опустел, лишь красновато-черное пятно осталось на нем — словно кого-то вдавили там в землю — да вокруг на примятой траве виднелись следы от когтистых драконьих лап.
Когда Берт смог подняться на ноги, он бросился бежать — через выгон, разгоняя овец во все стороны, прямо в деревню, к дому отца Палани. Сама Палани оказалась в саду: сажала настурции.
— Идем со мной! — задыхаясь, проговорил Берт.
Она удивленно уставилась на него, но он схватил ее за руку и потащил за собой. Она для порядка возмутилась, однако особенно сопротивляться не стала. Они примчались на пристань, Берт столкнул девушку в свою рыбачью лодку по имени «Королевна», схватил весла и стал грести как бешеный. В последний раз увидели Сатиновые острова парус «Королевны», стремительно удалявшийся в сторону западных островов. Больше ни Берта, ни Палани жители деревни не встречали.
Сперва новость о том, как Берт, племянник старой Гуди Гульд, потеряв разум, уплыл неведомо куда со школьной учительницей, потрясла деревню. Тем более что в тот же день бесследно исчез и молодой торговец по кличке Чернобородый, бросив все свои драгоценные перья и бусы. Однако тема эта оказалась исчерпанной уже дня через три, ибо мистер Горовик вышел наконец из своей пещеры, и теперь у жителей деревни хватало иных тем для разговоров.
А мистер Горовик решил, что раз уж его подлинное имя стало всем известно, то можно больше не скрывать и своего подлинного обличья. Ходить ему всегда было куда труднее, чем летать, а кроме того, уже давненько он по-настоящему не обедал…

ДОЧЬ ОДРЕНА
(рассказ)
В небольшой ложбине, затерявшейся среди холмов на восточном побережье острова О, стоит вертикальный камень в рост человека. Каждое утро, год за годом, приходит к нему ещё до рассвета женщина с близлежащей фермы. Приносит еду и воду, обнимает его и обращается к камню с одними и теми же словами: «Помни. Не засыпай. Жди»…

В конце лета да начале осени, перед самым рассветом, туман собирается над Замкнутым морем. Он поднимается на крутой восточный берег острова О, ложится на склоны холмов, скрывая поля и пастбища. Туман пахнет морем — водорослями и солью, да ещё дымом из деревенских очагов, встречающих рассвет.
Однажды, в это предутреннее время, через поля, окутанные темнотой и туманом, двигался неяркий, мерцающий огонёк, а рядом с ним двигалось тёмное пятнышко. Это была женщина, что несла светильник с горящей свечой. Она шла по хорошо протоптанной тропе, на которой знала каждый камешек и бугорок, шла спокойно и размеренно. Ни разу не остановившись, и даже не запнувшись, она спустилась по тропе в крошечную долину, зажатую между холмами. Впереди, в темной мгле, проступили очертания чего-то массивного, и через несколько шагов свеча осветила огромный стоячий камень. Был он высоким, немногим выше женщины, и достаточно большой в ширину — большая его часть оставалась вне круга света. Женщина поставила корзину и фонарь у каменного подножия, и тени взбежали, взметнулись вверх по грубой, изъеденной временем поверхности. Затем она поклонилась камню и обняла его. Крепко сжимая его в объятиях, она замерла на некоторое время, опустив чело на его мёртвое, холодное тело.
Потом, отстранившись, тихо заговорила:
— Помни меня. Помни себя и своих детей. Думай обо мне. Я здесь и никогда не покину тебя. Думай о том, какой ты есть и каким был. Ты будешь отмщен. Будь терпелив. Не спи. Никогда не спи. Ожидай.
Крепко обняв его ещё раз, она отвернулась.
Достав из корзины кувшин с водой, она дотянулась им до верхушки камня и окропила её водой. Потом наклонилась и подняла глиняную миску, что лежала в траве у самого основания камня. В ней было немного грубой муки. Высыпав муку, женщина сполоснула миску из кувшина, вытерла насухо подолом и снова наполнила мукой, зачерпнув пригоршню из корзины. Сверху на миску положила букет голубых осенних маргариток, уже почти засохших. На их коротко срезанных стеблях блестели капельки росы и туманной влаги.
Коснувшись камня ладонью, прошептала:
— Вот еда для твоего духа, чтобы были силы. Ешь, пей. Будь сильным. Ожидай. Не засыпай, Отец. Бодрствуй и жди. Ты будешь отмщен. А уж тогда можешь спать.
Оглядевшись, она увидела, что туман вокруг начинает светлеть. Взяв корзину с фонарём и погасив свечу, она пошла обратно. Казалось, что туман постепенно редеет, словно разгоняемый светом солнца. Тропа пока ещё была видна лишь на несколько шагов вперёд, но женщина шла так же уверенно и спокойно, вверх по склону холма. Рокот моря, что билось у прибрежных утёсов, был хорошо слышен в долине, и теперь всё слабел и слабел, пока совсем не стих, поглощенный туманом и склонами холмов. Из светлеющей мглы вокруг тропы то и дело выглядывали овцы, с отяжелевшей от влаги шерстью, покрытой крупными каплями. Они лениво переступали с ноги на ногу, звякали колокольчиками. Вот раздался громкий, хриплый голос овцы, а в ответ ей прозвучало блеяние ягнёнка.
До Фермы на Холме было около полумили пути по пастбищам. Фермер уже собирался уходить на сенокос, когда женщина, его жена, добралась до фермы и вошла во двор. Он тихо произнес:
— С добрым утром, госпожа.
— С добрым утром, господин, — так же тихо ответила она. — Я принесу тебе завтрак на Нижний Луг.
— Благодарю, — кивнув, ответил он. Развернулся и побрёл сквозь тающий туман. Невысокий и крепкий, седеющий, с косой на плече. Трава этим летом выросла такая обильная и буйная, что они выкашивали Нижний Луг уже во второй раз.
Сделав все утренние домашние дела, и даже заглянув в сад возле кухни, женщина отправилась следом, взяв косу поменьше и корзину с едой: хлебом, сыром и маринованным луком. Солнце к этому времени уже поднялось высоко, и посылало на землю жаркие лучи с восточного небосвода. Туман, изгнанный с земли, вытянулся мглисто-серебряной полосой далеко на горизонте, у восточной окраины моря, скрывая тамошние острова.
Достигнув вершины холма, за которым был Нижний Луг, она оглянулась, озирая все окрестные земли, что застывшими волнами отделяли её от моря. В четверти мили от неё, на пологом склоне, уютно осенённая холмами, была их ферма. На западе виднелись другие фермы. На юге, там, где находилась деревня, виднелись кроны деревьев и самый высокий деревенский дымоход. На севере, на холме повыше, темнели на фоне неба рощи и высокие, крытые черепицей крыши поместья лордов Одрена. В восточной стороне, за склонами холмов, скрывалась укромная долина, куда она спускалась сегодня утром. Она приходила туда каждое утро, вот уже четырнадцать лет. Склон, что скрывал долину, все окрестные поля и холмы, тропы и дороги, полукруг моря на востоке — всё это был вечный, наполненный спокойствием пейзаж, давно знакомый ей, и она спокойно осматривала его. И уже собиралась отвернуться и начать спуск к лугу, как заметила вдали нечто, что заставило её присмотреться внимательнее.
По светлой нити дороги, что петляла среди пастбищ и вела из деревни на север, шли двое. Они были так далеко, что казались просто маленькими букашками. Вот, у перекрестья с тропинкой, что вела с холмов прямо к обрыву над морем, они остановились. Женщина внимательно наблюдала. Кажется, они разговаривали. Один из них, похоже, жестикулировал, точь-в-точь похожий на беспокойного муравья в муравейнике. Поговорив, они двинулись дальше, так и не решившись свернуть. Она проводила их взглядом, отвернулась и стала спускаться к лугу.
— Нет, — сказал молодой человек и остановился. — Ты не прав, Хови. Нужно было свернуть. Следующий поворот будет уже к фруктовым садам. Нам надо вернуться.
Он поспешил назад, к перекрёстку, который был весь истоптан их следами, и свернул по тропе в сторону холмов. Товарищ молча последовал за ним.
Тропа была совсем не хоженой и местами почти пропадала. Тонкой нитью пересекая холмистые пастбища, она привела их в вытянутую, иссушенную долину, окруженную сухими склонами. Здесь росли лавры, ивы и одинокий высокий кедр, и повсюду землю покрывал хаос старых могильных насыпей и упавших, расколотых надгробий. В центре погребения высился древний курган, сложенный из больших камней. Он весь пророс травой и кустарником, а верхушка его возвышалась над землей на высоту полутора человеческих ростов. Молодой человек направился к нему. У подножия он замер, словно в недоумении, и взгляд его остановился на оранжево-красных соцветиях ползуна, пробившегося среди булыжников. Он посмотрел на своего пожилого спутника, и тот отрицательно покачал головой.
— Это же курган Эвро, — сказал молодой человек, припоминая имя. — Но где же тогда…
Спутник его едва уловимым движением указал на северо-запад. Преисполненный терпения, он стоял и ждал, пока товарищ его не проследует первым или не заговорит, но тот сомневался и не знал, на что решиться. Тогда старший пошёл первым. В этом направлении не было никакой тропы, но он словно точно знал, куда идти, и стал уверенно подниматься по склону среди невысокой, сухой травы. Молодой человек старался не отставать.
Оба были одеты в запыленную, грязную одежду путников, сандалии их были залатаны. У молодого вещей с собой не было, пожилой нёс заплечный мешок, а в руке сжимал дорожную трость. Ему было за пятьдесят, а то и больше, и вид у него был уставший и встревоженный. Когда они, перевалив через несколько холмов, вышли к другой долине, он замер, едва увидев стоячий камень, и взволновано оглянулся. Молодой человек, миновав его, поспешил к камню.
Из миски выскочила полёвка, что приходила сюда завтракать каждое утро, и скрылась в траве.
В нескольких футах от камня молодой человек остановился, и словно весь распрямился, глядя на его серую, грубую поверхность. Они были одинакового роста, камень и человек. В толщину камень был примерно в два обхвата, чуть больше вширь, чем вглубь. Нижнюю его часть делила надвое вертикальная трещина, а верхушка сужалась, схожая очертаниями с человеческой головой.
— Стоящий Человек, — прошептал Хови.
Парень нетерпеливо кивнул. Подойдя ближе, он протянул правую руку и прикоснулся к камню, дыхание его замерло.
— А это что? — спросил он, глядя вниз, на миску с мукой и засохший букет.
— Не знаю, — ответил его спутник.
— Это чьё-то подношение, Хови.
Больше не разговаривали. В потоках солнечного тепла, среди наполненной тишиной долины, молча стояли они: молодой человек, мужчина и камень.
— Вы так добры, что позволили мне отдохнуть, — поблагодарила гостья хозяйку трактира. — Я им так и сказала: коли хотите сушеной рыбы, ступайте сами в порт, а я сегодня больше шагу не сделаю, — она показала свою изношенную обувь с латаными подошвами.
— Направляетесь на север?
— Да. Наш племянник, пожив с нами, возвращается к ближайшей родне. Может, и мы останемся, если работу найдем. А то у нас дома её совсем нет, — она указала куда-то на юг.
— Где же живет его семья? — поднимая взгляд от бобов, которые как раз чистила, с интересом спросила хозяйка. — Должно быть, в Риро?
— Давайте-ка я вам помогу. Не могу просто сидеть и смотреть, как кто-то трудится. Нет, не в Риро. Я совсем забыла название деревни, помню только, что достаточно далеко от берега. Эх, скоро я отправлюсь туда и проверю, насколько далеко. Может, Паро? Вы знаете такое место?
Хозяйка равнодушно покачала головой. Северный предел ее мира был в Риро.
— В общем, я только знаю, что путь туда неблизкий. Прекрасные у вас бобы, жирные, нежные, словно перепелиное мясо.
— Они будут на ужин. С крольчатиной, или курицей, смотря что вам больше по душе.
— О, конечно лучше крольчатина! Очень люблю тушеного кролика с рожка;ми бобов. Вы ведь называете их рожками?
— Я слышала такое слово, но мы обычно зовём их стручками.
Гостья кивнула. Помогая хозяйке, она опустошала пестрые стручки, складывая аппетитные розовые бобы в миску. Потом они, чередуясь, высыпали наполненные миски в корзину.
— Кажется, когда-то я слышала необычную историю об одном здешнем знатном доме, — сказала она. — Или это было не здесь, а в Риро?
— Нет, — уверенно сказала хозяйка. — Это про Одрен.
Она с явным усилием попыталась скрыть удовлетворение, лицо её напряглось.
— Кошмарная история, — прибавила она.
— Правда? Там, кажется, был замешан колдун? Злой колдун? Не знаю, хочу ли я полностью услышать эту историю, если она действительно страшная. Я ведь и так всего боюсь, часто даже спать не могу от страхов. И сама себе удивляюсь — было бы чего бояться. Ведь что может быть страшнее голода? А мы с мужем уже и так беднее некуда, — она беззаботно рассмеялась, но взгляд её был полон беспокойства и любопытства.
Но хозяйка уже настроилась на рассказ.
— Да, эта история ужасна, — сказала она. — Кошмарна, и даже хуже. Я тогда как раз впервые оказалась здесь, покинув Окраинную Ферму. Четырнадцать, пятнадцать лет назад. Лорды Одрена — замечательные люди. Они хозяева и этих земель, и всех земель к северу отсюда, на много дней пути. Многие здесь служат им. Так вот, случилось это в те времена, когда соседние острова были логовом пиратов.
Голос ее обрел плавность и размашистость, подчиняясь ритму истории. Бобовый стручок в ее руке указал на восток. Но гостья прервала её:
— Я слышала, что новый король расправился с пиратами, и их больше нет.
Хозяйка недовольно поморщилась, сбитая с нити рассказа.
— Может быть. Но тогда короля ещё не было, а пираты были. Это была орда злых, жадных, как чайки, людей, а кораблей у них была тьма тьмущая. Они нападали на рыбаков, на торговые корабли, и часто, ободренные безнаказанностью, высаживались на сушу, грабили деревни и фермы, убивая многих. Всё, что было у нас для защиты — это сигнальные огни, которые предупреждали об их приходе. Но что мы могли сделать, когда встречались с ними лицом к лицу? Поэтому люди со всех окрестных уделов и городов решили, что нужно избавиться от пиратов, а для этого необходим флот. Решено было строить корабли и снаряжать те, что уже были.
Возникла драматическая пауза, во время которой обе они продолжали чистить бобы, но уже медленнее.
— Хозяином нашего удела был лорд Гарнет. Великий и добрый человек. Рука его была крепка, но он всегда был щедр к беднякам, как и положено богатому. Он принял решение, что вместе со своими людьми присоединится к флоту. Но поскольку был он хозяином земель, а не морским торговцем, корабля у него не было. И не хотел он плыть на чужом корабле, ибо не подобало это ему по титулу. Узнав, что где-то на побережье живет колдун, искусный в кораблестроении, он послал за ним. И колдун пришел.
Снова пауза. Гостья выдохнула одобряющее «Ах», как и надлежит слушателю, и осторожно просыпала в миску пригоршню бобов.
— Звали его Ясень. Молодой, высокий, черные смоляные волосы его ниспадали по спине. Весьма красивый. По крайней мере, так говорят в деревне. А я не могу понять, как можно считать колдуна красивым. Для меня они вообще не мужчины.
По голосу её было ясно, что у неё есть все основания для такого отвращения. Слушательница кивнула, опустошая очередной стручок.
— Итак, Ясень пришел в поместье, что находится там, выше по дороге. И на берегу, возле мыса, начал строить корабль. Конечно, с ним работали и плотники: прикатывали на лесопильню большие стволы деревьев, возводили помост для постройки, а еще там работали все корабелы от Ясве до Риро. Чары колдуна ускорили и облегчили работу, шла она быстро, и не прошло и месяца, как судно спустили на воду. Одрен стал собирать людей и запасаться всем необходимым для дальнего путешествия. И настал день, когда они должны были выйти в море и присоединиться к флоту, который находился возле Ока Угря в ожидании последних нескольких судов. Много народу пришло тогда в бухту Одрена с окрестных ферм и деревень, чтобы посмотреть на отплытие. И я была там.
— Лорд окрестил корабль «Леди Одрен», в честь своей жены. Корабль был прекрасен. Я видела много торговых судов, видела огромные галеры из О-токна, но всех их прекраснее была «Леди Одрен». Борта ее были высоки и грациозны, на высоких мачтах наполнялись ветром паруса, похожие на заснеженные холмы. Поговаривали, что это колдовские паруса, способные поймать любой ветер. Мы видели, как колдун на палубе делал последние пассы руками, зачаровывая корабль, чтобы сохранился он в грядущих битвах и штормах. Потом на пристань пришла леди с детьми, пожелать мужу удачи. Все они обнялись, он взошел на борт, а мы провожали его криками поддержки и одобрения. А когда корабль отплыл, леди плакала, и дети ее плакали, как и многие из нас, бывших там. Но судно так величаво рассекало волны, выходя в море, с парусами, подобными белым облакам, что мы почти не боялись за него. В команде были, кстати, двое из нашей деревни. Бедняжки.
— Говорят, что наш корабль примкнул к флоту последним. Флот отплыл на восток, сквозь россыпь Ближних Островов, чтобы найти и уничтожить пиратов. О происшедшим с кораблем далее я могу рассказать совсем немного, ведь многого не знаю, хоть и множество раз слышала рассказы вернувшихся. Но что для моего уха все эти названия островов и проливов, имена кораблей, лордов и капитанов? Может быть, вы еще услышите, как они поют обо всем этом в порту, в «Пиратском Логове». Все, что я могу рассказать, это что к зиме корабли не вернулись, хотя и должны были. И весной тоже не вернулись. И летом, и даже следующей зимой.
Повисла долгая тишина, потом гостья прошептала:
— Госпожа, ваш рассказ лучше, чем в любом логове.
Хозяйка никак не отреагировала на похвалу, но было видно, что ей приятно. Взяв небольшую паузу, она вытащила несколько бобов из стручка. Взгляд ее был устремлен куда-то внутрь.
— Дочь моей сестры, Сальвиния, в те годы работа в поместье Одрен. — произнесла она и вновь остановилась. Положила руки на колени, чтобы дать им отдых.
— Она была самой младшей из прислуги, и леди очень ее любила. Мы тогда занимались не трактиром, а производством молока, и я часто ходила к ним, относила свежее масло, поэтому могла говорить с Сальвинией. Поэтому не думайте, что это лишь слухи да сплетни. Это чистой воды правда, и никто больше вам её не расскажет. Разве что причину беды знают все. Лорд уплывает, леди остаётся, а рядом с ней — симпатичный молодой человек, колдун, которому после постройки корабля делать абсолютно нечего. Он остаётся. Леди объявляет всем, что поместье нуждается в ремонте, а колдун будет руководить работами. Действительно, леса установили, и даже кое-где подправили крышу. Но зачем колдовство, когда черепица под рукой в Вэлери, да полно охочих и способных рук? Потом леди объявляет, что колдун — она его называла волшебником — останется, чтобы наложить на дом и семью чары безопасности, и что-то там ещё.
— Такой поворот дел не одобряли, но и почти не осуждали. Леди всё же была хозяйкой, а Ясень — колдуном. Кто знает, что он способен услышать и совершить. Но племянница моя, Сальвиния, и другие женщины поместья говорили мне, что с детьми теперь обращались совсем плохо. Я лично видела, как плохо одевали девочку, как они с братом все время бродили среди полей и садов.
— Потом люди в поместье узнали, что у колдуна было видение о гибели корабля и всех на борту. Оно явилось ему в его водяном зеркале (это просто блюдо, наполненное водой). Он взглянул в него и увидел, что пираты берут корабль на абордаж. Сражение, огонь — и вот кораблю тонет. Он бросился по комнатам дома с криком: «Они мертвы! Они все мертвы!» Племянница потом сказала мне, что будто увидела всё наяву, едва услышав его крик: корабль, огненный вихрь вокруг и кроваво-красное море. Все домашние плакали и стонали, а леди пала в обморок, словно её ударили камнем.
— Очнувшись, она собрала всех людей поместья и наказала никому не говорить о видении колдуна. Ибо хоть сердце её и поверило в горькую правду, лучше было дождаться вестей с востока, и заранее не погружать народ в горе. Быть может, если не для «Леди Одрен», то для других кораблей надежда еще была.
— Леди произнесла имя корабля, как чужое — так сказала мне племяшка.
— Дочери Одрена в то время было шестнадцать лет. Услышав слова матери, она закричала, что это ложь, что отец не мог погибнуть. Леди пыталась успокоить её, но девочка просто убежала в истерике гнева, крича, чтобы ни мать, ни колдун не смели прикасаться к ней.
— Отныне она старалась держаться от матери подальше. Звали девочку Лилия, как и мать, но она решила сменить имя и сказала всем, что отныне она Травинка, а братик её, Гарнет-младший, отныне Глинок. Ему было десять лет. Мать не препятствовала им, даже в смене имен. Как Сальвиния сказал мне, она больше совсем не заботилась о детях. Всё свое время она проводила с колдуном: расчёсывала его длинные, смоляные волосы, ласкала щеки, разувала, оглаживала ступни. Так говорила Сальвиния. Леди вся была в его руках, и руки эти вели себя то ласково, то подавляюще. Никто в доме не осмеливался по-доброму общаться с детьми — все боялись злой воли колдуна. В нём действительно жила огромная сила. Племяшка видела, на что он способен, хоть никогда и не рассказывала подробностей. Она научилась бояться его.
— Был, впрочем, один садовник, родом с западных земель, который всё ещё был добр к мальчику. Хозяева редко обращали на него внимание, и у него не было повода опасаться колдуна.
Рассказчица замолчала. Пауза затянулась надолго, слушательница ждала, не задавая вопросов.
— А потом пришла весть о победе над пиратами. Один из кораблей возвратился в порт у Пустоши. Команда рассказала о бесконечном преследовании и сотнях морских битв, когда пираты прекращали бегство и пытались защищаться, или, когда хитростью завлекали то один, то другой корабль в ловушку и безжалостно уничтожали. Но, всё же, разбойники были побеждены и рассеяны, а корабли их отправились ко дну, и не осталось больше ни одного пирата в Замкнутом море. И теперь ожидалось возвращение кораблей — тех, кто еще способен был вернуться.
— Постепенно они прибывали в порты всего побережья, по одному — по пути домой их разметали и рассеяли весенние шторма. А наш корабль не вернулся. Минуло лето, подошла осень. Разнеслась повсюду весть о видении колдуна, и все поверили, что «Леди Одрен» действительно погибла.
— И вот, однажды, солнечным утром, дочь Одрена прибегает в слезах с обрыва над бухтой: «Корабль! Корабль! Корабль папы!»
— Да, это была она, «Леди Одрен», пришедшая вместе с восточным ветром, и паруса её были грязны и изношены.
— Всё это моя племянница видела и слышала сама, вы не сомневайтесь.
— Когда леди выглянула в окно и увидела, как корабль величаво входит в гавань, она словно окаменела. Потом ушла к себе в комнату и там быстро переговорила с колдуном. Затем вышла из дома, спустилась по длинной лестнице на пляж, вместе со многими, и первой встретила мужа на пирсе. Седина укрыла его волосы, но выглядел он как великий и могучий воин — так сказала племянница. Расхохотавшись, он схватил жену и закружил её, переполненный счастьем. Потом она прильнула к нему, нежно коснулась лица и сказала: «Пойдем, пойдем домой, мой милый лорд!»
— Повара приготовили пир, и все свечи сияли в тот вечер. Лорд рассказывал истории о морских битвах, показывал шрамы, сливался в объятиях с женой и целовал детей. Ясень же улыбался и держался в стороне, словно был обычным скромным колдуном.
— Ни на мгновение жена не отпускала от себя мужа, пока двери спальни не закрылись за ними. Поэтому ни дочь, ни кто-либо другой не смогли поговорить с ним.
— Утром же, едва показалось солнце, леди вышла из спальни и спросила у женщин дома, не видели ли они лорда. Оказалось, что проснулась она в одиночестве. Никто его не видел. Тогда она решила, что он, должно быть, отправился на прогулку по своим владениям, ведь раньше он часто бродил так, в утренние часы, в полном одиночестве. Она наказала, чтобы завтрак был готов к его возвращению. Настал день. Кто-то выглянул в окно и произнес: «Корабль исчез». Вот так. Гавань была пуста.
— С того самого утра и по сей день никто ничего не видел и не слышал о лорде Одрене и его «Леди».
— Как странно! — тихо сказала гостья. — Что же произошло с ними? Может быть…
Но не договорила, и хозяйка ничего ей не ответила. Зато продолжила:
— Потом выяснилось, что ещё и дети пропали. Это обнаружили слуги, и донесли хозяйке. Её вопли и плач по пропавшему супругу тут же прекратились. Пораженная, она могла только повторять: «Дети? Мои дети?». Больше она не плакала, а лишь бродила по дому и в окрестностях, словно мама-кошка, чьих котят забрали, чтобы утопить. Так сказала Сальвиния. Леди бродила долго-долго, пока колдун не дал ей успокоительное снадобье.
Помолчав, слушательница спросила:
— И никто из них больше не вернулся?
Хозяйка изобразила мрачную улыбку:
— Девочка нашлась на следующий день. Она с братиком просто убежала в поля, и на ночь их приютил фермер. Звали его Лавр. Жена у него совсем недавно умерла при родах, и мать его теперь заботилась о ребенке, так что в доме дети получили женское тепло. На следующий день Лавр оповестил леди, и та отправила за детьми слуг, но дети наотрез отказались возвращаться. Девочка сказала, что лучше умрет, чем вернется в этот дом прежде отца. Тогда мать сама пришла к ним, но девочка не пустила её на порог, в обход воли фермера. Ни взгляда и ни слова не досталось от неё матери. Братик во всём подражал сестре и тоже не поддался на уговоры. Наконец, леди решила, что пора уже замять скандал, и раз дети хотят пожить на ферме, пока весь их дом скорбит — так тому и быть. И полями отправилась домой, совсем одна.
— Лорда Гарнета пытались искать. Лодки отправлялись в море, но было все это лишь театральным представлением, и вскоре поиски затихли. Словно никто не верил в его возвращение, так же, как когда-то не верилось в возвращение команды его корабля, часть которой теперь была дома, а часть погибла в бою. Двое из нашей деревни тоже тогда, кстати, погибли. О прекращении поисков не судачили. Леди правит в Одрене, а колдун правит леди — такова жизнь, говорили люди, и старались приспособиться.
— Недели через две мальчик — Глинок, сын Одрена — исчезает с фермы. Без вести, как и его отец. Но тут уже колдовство было не причём. Девочка тогда сказала матери: «Я его отослала отсюда. Спасла от зла, с которым ты живешь под одной крышей. Он вместе с добрым человеком, в безопасности. Но где — не знаю. А знала бы — не сказала». И не тронули её ни слезы, ни угрозы. Леди в ярости сказала ей: «Ты опозорила себя, убежав из дома и живя с фермером. Значит, будешь его женой». А девочка отвечает: «Лучше выйти за Лавра, чем ещё хоть раз увидеть Ясеня». Так и случилось, что девочка вышла замуж за фермера.
— Поэтому, если бы вы искали дочь Одрена — она теперь Травинка, жена Лавра, мачеха для его дочери. Что же до мальчика и садовника Хови… Так. У меня знаете ли, хорошая память на лица. Но только в середине истории я поняла, кто таков ваш муж. Это ведь с ним Травинка отослала братика, не так ли?
Помолчав, гостья вздохнула.
— Меня зовут Коноплянка. Я не жена, а сестра Хови, — тихо, но твердо сказала она. — Я была матерью для Глинка с тех пор, как ему исполнилось десять.
Она подняла взгляд на хозяйку.
— Но теперь, госпожа, я боюсь. За нас, за себя и брата. Что принесло нас сюда, в край чужих людей? Лишь желание мальчика, он решил вернуться. А Хови всегда выполнял его волю.
Хозяйка покачала головой.
— Все мы выполняем волю господ. Все мы связаны ею, и они тоже, и кружимся все вместе, как листья на ветру. Что же теперь? Куда коварный ветер повлечет нас?
Бобы уже давно были очищены. Хозяйка встала и ушла куда-то вглубь дома, чтобы нацедить им по глиняной кружке некрепкого пива, ведь осень в этот день была ласкова и тепла.
— Вот, прошу, — сказала она, примащиваясь рядом. — Попробуйте, госпожа Коноплянка, а потом скажите, что из рассказанного мной вы уже знали?
— Немногое, помимо имен. Всего лишь историю, которую рассказывал Глинок, а ему её рассказала сестра. Она наказала ему запомнить каждое слово, и он так и сделал. Все эти годы он постоянно повторял её нам, мне и Хови, чтобы не забыть — так говорила ему сестра. Чтобы, войдя в возраст, суметь вернуться и всё исправить.
При этих словах она погрустнела, но снова просветлела, едва отхлебнув пива.
— Прекрасное пиво, госпожа!
— А то. Ну как, поведаете вы мне эту историю?
Коноплянка явно не горела желанием рассказывать что-либо, и хозяйка не настаивала. Поговорили о погоде, об урожае, о качестве солода. И вдруг Коноплянка прошептала:
— Я знаю, что случилось. С их отцом. Девочка, дочка, всё видела.
На несколько мгновений всё спокойное достоинство сошло с хозяйки, глаза округлились.
— Травинка? Она всё видела?
— В ту ночь, когда отец вернулся, она не спала и была настороже. Глубокой ночью она увидела шедшего мимо колдуна и осторожно последовала за ним, а когда он вышел из дома, наблюдала из окна.
Голос Коноплянки стал напевным, сплетенным со словами; она повторяла то, что слышала множество раз, не меняя ни слова. Хозяйка вся превратилась в слух.
— Она видела, как он спустился к обрыву над гаванью, и там заговорил и задвигал руками. Стоявший внизу корабль утратил неподвижность. В звездном свете паруса его затрепетали. Не было ни ветерка, но он двинулся прочь из гавани в открытое море, и вскоре скрылся с глаз в ночи.
— Вернувшись в дом, колдун прошел совсем рядом с девочкой. Она последовала за ним, до дверей спальни. Навстречу ему из спальни вышла леди, и некоторое время они тихо разговаривали. Затем леди вернулась в комнату, и через некоторое время вышла снова, теперь вместе с мужем. Она говорила: «Ты должен увидеть золотой чертог. Только это тайна». Уговорив его, она помогла ему обуться. Он решил следовать её указаниям, и все вместе они вышли из дома на дорогу. Ясень шел чуть позади, а за ним, таясь и держась подальше, следовала девочка.
— На востоке только-только рождался рассвет.
— Путь привел их к Стоящему Человеку. Трое взрослых замерли перед ним, а девочка укрылась среди ив, едва спустившись в долину, и оттуда слушала их разговор. Леди сказала, что с помощью своего дара волшебства Ясень разглядел в Стоящем Человеке скрытую дверь, ведущую в прекрасный золотой чертог. Петли на этой двери были рубиновые и бриллиантовые. «Мы ещё не открывали её», — сказала она, — «Потому что ждали твоего возвращения. Ведь ты мой лорд, и лорд Одрена».
«Но я не вижу в Камне никакой двери», — ответил он.
«Положи руки на него», — сказала она. А колдун прибавил: «Склони на него чело. Когда я скажу отворяющее слово, ты увидишь».
— Лорд рассмеялся и сделал так, как они сказали. Положив руки и чело на камень, он застыл в ожидании. Тогда колдун быстро воздел руки вверх и произнес слово. Пала тьма. Девочку обездвижило, она не могла ни двинуться, ни вдохнуть, потому что пропал сам воздух. Наверное, это было похоже на смерть. Когда же зрение вернулось к ней, она увидела отца и стоячий камень, и что-то ещё, необъяснимое. Человек и камень стали едины. Ещё она увидела мать, припавшую к земле, наблюдавшую, как колдун накладывает чары.
— Девочка осторожно двинулась прочь и взбежала к дому. Там она разбудила братика, и они направились в хижину садовника, Хови. Ему она сказала, что она с братиком должна бежать, скрыться, найти кого-нибудь, кто сможет приютить их, так что Хови отвел их к знакомому фермеру, Лавру. Тот разрешил им остаться.
— Остальное вам известно.
Словно очнувшись, она посмотрела на хозяйку.
— Что же произойдёт теперь? — спросила она. — Что будет?
На Ферме на Холме залаяли собаки. Жена Лавра, Травинка, откликнулась из кухни:
— У ворот кто-то есть?
Падчерица, Клеверок, девочка пятнадцати лет, выбежала посмотреть, и, вернувшись, сказала:
— Там два человека.
Травинка вытерла руки о передник, вышла во двор и направилась к воротам, по пути успокаивая собак. Спокойно и прямо, не отводя взгляд, посмотрела она на чужаков. Выражение её лица изменилось.
— Хови? — сказала она, глядя на пожилого.
Потом снова взглянула на молодого, и вдруг вскрикнула:
— Глинок! О, Глинок! — да так громко, что падчерица позади испуганно замерла. Травинка распахнула ворота, и заключила его в объятия, повторяя сквозь рыдания:
— Братик, братик!
— А это ты, действительно ты, Лилия! — отвечал парень сквозь смех и слезы, пытаясь выбраться из объятий.
Внезапно она отодвинулась, судорожно взяв его за плечи, и сказала:
— Ты ведь ещё не ходил туда? Он тебя узнает…
— Нет, нет, конечно я там не был. Однако, мне грустно, что я нашел тебя в таком месте.
Она удивленно оглянулась, словно не понимая, что за место он имеет ввиду.
— Ты вернулся, — сказала она. — Ты здесь. Ты сдержал слово. О, как же, как же я тосковала по тебе!
Она вновь отстранилась и окинула его взглядом, полным удивления и гордости.
— Мужчина, — с восторгом сказала она, обняла его и поцеловала. Затем, взяв за руку, ввела в дом.
Хови проследовал за ними до порога, и там замер, не решаясь войти. Клеверок, коренастая и круглолицая, спокойно и любопытно таращилась на него от угла дома, а он безучастно и терпеливо выдерживал этот взгляд.
Войдя в дом, Травинка вновь взяла брата за руки. Она вся сияла от радости, что могла видеть его, и прикасаться к нему, и говорила, говорила.
— Хови должен уехать, — сказала она. — Люди узнают его, и сразу поймут, кто ты. А тебя одного ни за что не узнают. Только Он тебя узнает. Как же ты изменился! А каким малышом был! Словно бельчонок! Помнишь, я называла тебя Бельчонок? А ты называл меня Гора, потому что я усаживалась на тебя, когда мы играли.
Он улыбнулся и кивнул.
— А теперь — взгляни на себя. Такой же высокий, как Отец, и с такими же плечами! О, Глинок! В последний раз я была счастлива в тот день, когда корабль вошёл в бухту. Все эти годы — я думала о вас, ни дня не провела без вас обоих. Ни часа. Но теперь ты здесь, мой корабль, мой меч, брат мой! Ты сдержал слово! Теперь мы можем восстановить справедливость. Одна бы я никогда, никогда не справилась. А вместе мы сделаем то, что должно. Ты за этим и приехал, я знаю. Восстановить справедливость.
— Да, — ответил он. — Я смогу это сделать.
Они были очень похожи сейчас, стоя в сумрачной, плохо освещенной комнате. Сестра была не такой высокой, но такой же крепкой. Он был красив, брови его выгибались дугой, а под ними сиял взгляд темных глаз. У неё же лицо было крупноватым, брови — прямыми, а взгляд — грустным и серьёзным. Но схожесть была в линиях рта и носа, в движениях и повороте головы. Взяв её руки в свои, он взглянул на них и снова рассмеялся:
— Попробуй отличи, где твои и где мои?
— Мои — загрубевшие, — сказала она, огладила его ладони, а потом развернула свои мозолями вверх. — Вот, видишь? Это серп, маслобойка, плуг, стирка. Жизнь моя.
— Всё это время ты жила здесь?
— Я жена Лавра.
— Жена?
— Как же ещё я могла остаться тут? Куда было деваться?
— Не может быть. Я думал, что это неправда. Ты же дочь Одрена!
— Где бы я ни жила — я всегда ею буду.
— А я — его сын, и никогда не забываю об этом. Каждый день я повторял всё, сказанное тобой.
При этих словах её глаза озарились светом.
— Я знаю, что нужно делать, Лилия. И я способен это сделать. Понимаешь, Лилия, у меня есть дар. Те драгоценности, что ты дала мне, я взял в О-токн. Там живёт волшебник с острова Рок, облачённый в серый плащ. Вместе с ним я провёл четыре года, обучаясь всему, что нужно было узнать. Теперь я точно знаю, что смогу освободить отца.
— Дар?
Она смотрела на него, не веря, как и он не верил в её замужество.
— Дар волшебства?
— У меня есть и дар, и мастерство. Я заслужил его, Лилия! Из всего обучения я брал только то, что поможет мне, не заботясь об остальном. Я знаю, что нужно сделать. И я могу это сделать.
Она молчала. Руки её всё ещё были в его руках.
— Если ты… и впрямь можешь его освободить… что случится потом?
— Он будет хорошо знать, кто его враг. При возвращении он этого не знал.
Она пристально смотрела на него, пытаясь понять.
— И…?
— Он покончит с ней, — с горячей уверенностью сказал молодой человек.
Она не поняла.
— С ней?
— С ведьмой, которая его погубила, — он сделал глубокий вдох. — Своей женой. Нашей матерью.
В последнее слово он вложил всю доступную ему ненависть.
Сестра приняла это.
— А мужчина… Ясень?
— Ясень ничтожество. Колдун, попавший в лапы ведьмы. Без неё он будет бессилен.
— Но я…
— Волшебник из О-токна хорошо всё разглядел. Отца предала и уничтожила она. Ясень был только инструментом. Но теперь мы знаем её суть, и при встрече с нами Ясень ничего не сможет сделать.
Она побледнела, не в силах ничего сказать.
Наконец проговорила:
— Я думала погубить только его.
— Ты просто не разобралась. Без неё он — пуст.
Она убрала ладони из его рук и отвела взгляд.
— Глинок, я видела, как он колдовал. Я видела. Это его рук дело.
— Она просто заставила его. Я же помню всё, что ты мне рассказывала. Он выполняет её приказания, послушен её воле.
— Я думала, наоборот, — сказала Травинка, не споря, а просто сообщая факт.
— Нет, — сказал молодой человек, заботливо беря её за плечи. — Она погружена в него, потому что он — её творение. До встречи с ней он был никем. Обыкновенный колдун, умеющий строить лодки. Бродячий пес. Сила, мощь, была не в Ясене, а в Отце. Без сомнения, свой дар я получил от него. Она смогла отнять силу Отца и воспользоваться ей против него, потому что он верил ей. Но теперь он всё знает. И когда я дам ему свободу, сила его вернётся к нему, и она будет уничтожена. И пёс вместе с ней. Так и будет, Лилия. Мои знания дались мне дорогой ценой.
Она слушала его, тяжело задумавшись. Потом обронила:
— Это её имя, не моё.
Он не понял.
— Я Травинка, — сказала она.
— Да, конечно, — мягко сказал он, нежно привлекая её к себе. — Как тебе больше по душе! Сестра моя, мой единственный друг.
Они прильнули друг к другу. И так и стояли, пока с улицы не донеслись голоса. В дом вошёл фермер.
Невысокий, угловатый, сутулый, он замер и коротко кивнул молодому человеку, пробормотав:
— Хозяин Гарнет.
Тот кивнул.
— Хови ждет снаружи, — тихим, бесцветным голосом произнес фермер, обращаясь к пустоте между братом и сестрой.
Его жена сразу же направилась к двери.
— Хови, входи. Прости мне мою неучтивость. Я просто сошла с ума от радости, увидев брата, и ни слова тебе не сказала. Тому, кто оберегал его все эти годы и благополучно привёл обратно, ко мне. Проходи!
Усадив мужчин за стол, она позвала падчерицу и вместе с ней накрыла к ужину: большие куски засушенного хлеба, замоченные в молоке с мелко покрошенным луком, и миску небольших, поздних и кислых слив.
Молодой человек не стал садиться.
— Сестра, жду тебя снаружи, — сказал он и вышел, словно совсем не устал с дороги. Залаяли собаки, и Лавр их успокоил.
Поели быстро, не разговаривая.
Сестра нашла брата в саду возле кухни.
— Итак, я расскажу тебе, что планирую. Никому этого не рассказывай.
— Ты можешь доверять Лавру.
— Я никому не доверяю. Со мной сможешь пойти только ты, больше никто. И никому ничего не говори.
— Я уже давно ни с кем об этом не говорю.
— Сегодня на закате я освобожу Отца от чар, вызволю его из камня. Затем я и он пойдем в дом и застанем их врасплох. Отец явится нежданный, преисполненный силы. Если Ясень попробует его околдовать, я смогу помешать ему. Они не смогут сопротивляться. Отец поступит с ними по своему усмотрению: ему решать их судьбу, и он
всегда был справедлив.
Говорил он возбужденно, с пылкой уверенностью.
— Отец ведь никогда не был волшебником, — сказала она.
— Сила не только в заклинаниях.
— Но и в них тоже, и немалая.
— Такая сила есть и у меня.
— Думаешь, ты сильнее Ясеня?
— Ты мне не веришь… Пойдем, и посмотрим. Я точно знаю, что и как нужно сделать.
— Братик, позволь сказать, что я думаю.
Он нетерпеливо ждал.
— Я думала об этом все эти годы.
— Ведь и я тоже! Как ты мне велела!
— И я знала, что без тебя не справлюсь.
Он кивнул.
— Да, мать помогла Ясеню стать сильнее, вырасти над собой. Но его сила всегда была намного больше той, что нужна для постройки кораблей. Не он в её власти, а она — в его. Да! Послушай. Когда он хочет, он принуждает её пресмыкаться перед ним. Я это видела. Он жесток. Мне страшно, что ты хочешь бросить ему вызов. Он старый волшебник, а ты еще молод. Мы не способны победить его в открытом бою, нам нужно его обмануть, заманить в ловушку. И если он умрет, чары спадут с матери, а ты сможешь освободить отца, ничего не страшась. Нет, Глинок, слушай же, — она обрывала его, когда он начинал качать головой и пытался заговорить. — Я знаю, что мы можем сделать. Тысячи раз я проделывала это мысленно, но всегда — не до конца. Мне не хватало тебя. Но теперь ты здесь, и всё получится! Слушай! Я отправлю Клеверок к ним в дом. Она скажет Ясеню, что меня заколдовала ведьма, обездвижила, и что я умоляю его придти на помощь. Он явится, потому что терпеть не может ведьм, и потому что любит доказывать, что сильнее их. И ещё потому, что хочет управлять мной. Я это знаю. Знаю, как всё произойдет. Я слишком часто всё это представляла. Он придет, а я буду лежать в постели, словно беспомощная, и он начнет колдовать надо мной, и — отвлечется. А ты, ты спрячешься за дверью с длинным кинжалом Отца, который он оставил для тебя, а я выкрала и скрыла — задолго до побега, задолго до возвращения Отца. Я не хотела, чтобы он достался Ясеню. Он здесь, спрятан в стропилах. Он длинен, тонок и остер. И ты будешь готов пустить его в дело. Ты убьешь его — в спину, как он того заслуживает, в самое сердце. Или перережешь горло, как овце. И никто в этих землях не скажет, что мы поступили несправедливо.
— А потом, после его смерти… Я никогда не думала, что Отца можно освободить из камня, даже если Ясень умрёт. Никогда! Но если ты сможешь сделать это — всё встанет на места! О таком я даже не мечтала. Даже не мыслила, что будет, когда мы убьём Ясеня. И какое имеет значение, что будет с ней? Она давно потеряна, душа её опустошена.
— Она ведьма. Она предала меня и отца. И я сдержу слово. Я освобожу отца, а он накажет её — так, как она того заслуживает.
— Но Ясень…
— Сестра, мне нужна твоя помощь, а не сомнения. Что ты можешь знать о таких вещах, живя в хлеву, с этими людьми? А я знаю. Как наследник своего отца, как лорд Одрен, я прошу тебя верить мне, и верю, что ты послушаешь меня. Ничего не предпринимай, и никому ничего не говори. Пусть Хови и фермер с дочерью сегодня ночью не выходят из дома. Когда настанет вечер, я совершу то, что должен.
Некоторое время она молча смотрела на него, потом отвела взгляд и стала смотреть на склон холма, возвышающийся над фермой. В послеполуденном свете сухая трава окрасилась в янтарный цвет. На вершине, у дубовой рощи, паслось несколько овец.
— Все эти годы, — сказала она. — Нет, Глинок, выслушай меня — я думала о том, как всё стало и как должно быть. Иногда мысли словно оживают, их можно увидеть. Я вижу отца в ночь возвращения: он стоит у стола, в зале, смеется и обнимает нас с тобой. Потом я вижу Ясеня: он лежит на полу в моем доме, лицом вниз, и кровь его растекается, как пролитая при уборке вода. Иногда потом я вижу, как всё покрывается туманом, или вуалью. Ферма, холмы, люди — всё тает, пропадает в ярком свете, и тогда являются странные образы. Я вижу поля, покрытые камнями, огромные дома и сонмы, сонмы людей. Нет ни ферм, ни овец, ничего знакомого — повсюду только лица. Они что-то говорят, но я их не понимаю. Я среди них, но они не видят меня, и всё идут, идут и идут мимо, и голоса их подобны рокоту и гулу морскому. И вспыхивает среди них свет, ярко, ослепляющее, и становится их всё больше и больше. Я говорю себе, что холмы и фермы никуда не пропали, они должны быть здесь, как были всегда, и произнося это, я вижу, как слепцы начинают истончаться, исчезать, и я снова здесь, слышу тишину, а в ней — голоса птиц и зверей, и листьев на ветру. А потом все мысли об Отце и Матери, о том, как погубить Ясеня, стихают на время, и я обретаю покой. Но ночью они возвращаются. И я думаю о том, сколько ещё раз мне суждено пережить это.
Она закончила.
Глинок слушал её невнимательно. Раздраженный, сбитый с толку, он ничего не ответил.
В саду возле кухни жужжали пчелы, кружившие вокруг красных бобовых соцветий, да шуршали на ветру ивовые листья.
— Ну, что ж, — сказал он наконец. — Сегодня вечером я отправлюсь к Стоящему Человеку.
Помолчав, она сказала мягким и уступающим голосом:
— Отправляйся лучше утром, до первого света. Я так делаю каждое утро, когда отношу Отцу еду и воду. Ясеню это известно. Как-то, много лет назад, он тоже пришёл и наблюдал за мной. Потом рассмеялся и ушёл. Но в этот раз его точно не будет, они ложатся спать совсем поздно. Поэтому лучше утром.
Поначалу Глинок отказывался, но поразмыслив, уступил и сказал:
— Тогда я переночую сегодня здесь.
Сестра кивнула и направилась к дому.
Было темно. Туман скрывал поля, почти не поднимаясь выше уровня пояса. В руке Травинки в такт шагам раскачивался фонарь. Он реял над туманом, превращая его косматое тело то в пену, то в снег, а если туман поднимался выше — нырял в него, как в дымное облако. Глинок говорил, что свет не нужен, но она, ответив: «Лучше поступить так, как я делаю всегда», взяла светильник из рога и меди и зажгла в нём свечу. Теперь она без остановок и колебаний шла впереди. Брат шёл следом и иногда спотыкался, останавливался, пытался отыскать опору на неверной полевой земле. Вот огонёк фонаря впереди направился куда-то вниз, и он едва ли не ощупью последовал за ним. Они пришли в крохотную долину, прямо к стоячему камню.
— Погаси, — прошептал он.
Она задула свечу. На мгновение туман вокруг скрылся в темноте, но потом проявился, светлея. Небо и сам воздух тоже посветлели. Ни звука, только где-то у береговых обрывов билось море.
Сестра остановилась чуть в стороне от камня, брат подошёл почти вплотную. Они простояли так достаточно долго, и, наконец, сестра тихо сказала:
— Скоро рассветёт.
Через несколько мгновений она услышала его тихий голос. От звучания слов волосы у неё на голове зашевелились, по телу пробежала дрожь. Обхватив себя за плечи, она всем существом своим внимала заклинанию, неудержимо желая, чтобы оно подействовало и разрушило каменные узы. Губы её едва слышно шептали: «Отец, Отец, Отец».
Густая предрассветная мгла заполнила долину, по-прежнему скрывая всё вокруг.
Глинок заговорил громче. Внезапно в звук его голоса ворвался глубокий, низкий стон. Воздух задрожал, зарябил, рассекаемый волнами темноты. Раздался треск и грохот расходящегося камня, и всё стихло.
В серых сумерках сестра едва видела серый силуэт камня. Брат неподвижно стоял рядом с ним.
Вот он воздел руки, вверх и в стороны. Сестра очень хорошо помнила это движение. Она в страхе отшатнулась, и, обессиленная, осела на землю.
Он снова заговорил, громко и ясно, шагнул к камню, возложил на него руки и сделал движение, словно пытался раскрыть его. Снова зазвучал стон. Он становился всё громче и глубже, вплетая в себя невыносимый визг и звук крошащегося камня. Глинок отскочил назад, сводя и разводя руки, и стал во все глаза смотреть, как Стоящий Человек мучительно вздрагивает и раскачивается среди жуткого шума, как контуры его размываются, сливаясь с сумерками. Казалось, камень то воздвигался, становясь выше, то оседал. На землю опадали отколовшиеся куски. Наконец весь шум выцвел до тоскливого, серого стона. Перед ними содрогался и покачивался он, Стоящий Человек, и был он одновременно и человеком, и камнем.
— Отец? — едва слышно прохрипел брат.
Травинка поднялась и открыла было рот, но ничего не сказала. Ей было видно огромное тело, но она не могла разглядеть, есть ли у него лицо. Вокруг всё наливалось светом, но фигура перед ними словно была закутана в сумерки.
Сестра пронзительно закричала:
— Освободись, Отец! Стань свободным!
Стоящий Человек качнулся и наклонился, словно собираясь упасть. Стон его стал громче, зарокотал. Словно валун, движимый верёвками, клиньями и рычагами, тяжело содрогаясь, он сдвинулся на негнущихся, едва разделимых ногах, на один-два шага. Глинок отпрянул. Медленно повернувшись, Он направился к тропе, уже различимой в бледном свете, двигаясь короткими и неуклюжими, тяжелыми, вспахивающими шагами, и стал взбираться по склону. Он шёл к дороге, что вела в поместье Одрен. Рокочущий стон его совсем не походил на дыхание — так звучат камни во время землетрясения, когда трутся и крошатся друг о друга.
— Отец, — упавшим голосом сказал молодой человек, и рванулся было вдогонку, но Травинка схватила его за руку и прошептала:
— Не подходи! Не подходи к нему! — и он повиновался.
Бок о бок шли они по дороге за Стоящим Человеком, медленно продвигавшимся к поместью на вершине берегового утёса. В утреннем свете дорога была ясно видна. Туман спустился с обрыва, и теперь мутными слоями стелился над морем.
Чем ближе подходили они к дому, тем более громким и пронзительным становился стон. Наконец, наполняя им всё вокруг, покачиваясь и поворачиваясь, Стоящий Человек дошёл до двери и остановился. Дверь отворилась.
За ней стояла парящая, лёгкая фигура в белой ночной сорочке, с распущенными серыми волосами — Леди Одрен.
Из-за неё выступил Ясень, воздел руки вверх и громко заговорил на языке волшебников.
Стон Стоящего Человека оборвался. Постояв неподвижно, он стал поворачиваться кругом, покачиваясь и неуклюже переставляя ноги. Шаря вокруг короткими, беспалыми, словно обрубленными руками, он что-то искал. И хоть и не было глаз на его нечеловеческом, каменном лице, но взгляд его в итоге остановился на Глинке.
Позади него колдун вышел из дома, продолжая говорить. Каменное тело двинулось в сторону Глинка, колдун — за ним. А Глинок просто стоял и смотрел, как Стоящий Человек приближается к нему.
Травинка, державшая брата за руку, бросилась вперед с громким криком:
— Мама!
Она пробежала мимо Ясеня, и он, посмотрев ей вслед, отвлекся от заклинания. Каменное тело остановилось. Колдун повернулся к камню и снова заговорил, голосом и жестами направляя его в сторону Глинка. Поэтому не увидел, как Травинка за его спиной развернулась волчком и подняла длинный, тонкий кинжал. Сквозь его ниспадающие, смоляные волосы погрузила она лезвие ему в спину.
Закашлявшись, он упал на колени и завалился вперед, и этим помог ей вытащить кинжал. Нагнувшись, она вздернула ему за волосы голову и перерезала горло.
С криком:
— Ясень, Ясень, что случилось! — задыхаясь и плача, мать подбежала к колдуну и упала на колени, обняв его и сокрыв под потоком своих серых волос.
— Что он сделал? Что ты сделала? — закричала она, невидяще смотря на дочь.
Издавая свой нечеловеческий, агонизирующий стон, Стоящий Человек направился к ней. Леди Одрен попробовала было убежать, но он легко схватил её своими беспалыми руками и заключил в сокрушительные объятия. Прижимая её тело к себе, тяжелый и неуклюжий, он направился к деревянным ступеням, что спускались на сотню футов вниз к каменистому пляжу. Миновав их, он подошёл к краю обрыва, сделал шаг в пустоту и обрушился вниз.
Легкий утренний ветерок дул с земли на восток. Хватая ртом воздух и дрожа, молодой человек полз по дороге перед домом. Сестра его стояла и смотрела в пустынный, светлеющий простор над морем. Колдун кучей окровавленных тряпок лежал напротив входа в дом. Из дверного проёма и из окон поглядывали чьи-то лица.
Бросив кинжал, Травинка сказала брату:
— Теперь он твой. Это всё теперь принадлежит тебе.
Он посмотрел на неё снизу вверх, весь бледный, с дрожащими губами.
— Ты куда, Лилия?
— Домой.
Минуя сады поместья, через окрестные поля и пастбища она направилась на ферму Лавра. Когда она добралась до неё, солнце уже целиком всползло на небо. Никого не было видно. Она вошла в дом. Фермер, его дочь и Хови сидели там, молчаливые, замершие в ожидании.
— Всё закончилось. Завершилось, — сказала она.
Они не решались спрашивать. Наконец, Клеверок прошептала:
— А колдун?
— Умер. И моя мать тоже. Бедняжка.
Дальше расспрашивать не стали.
— И камня тоже больше нет, — Она глубоко вздохнула. — Мой брат обрел своё наследство.
Без слов, только лишь взглядом, Хови спросил, может ли он теперь уходить. Она кивнула.
— Клеверок, ты выпустила цыплят?
Девочка выскользнула из дома следом за Хови.
Фермер стоял возле стола, опустив руки.
— Итак, теперь ты вернёшься туда? — спросил он наконец своим глубоким, тихим голосом.
— Туда? Зачем? — Она пересекла комнату и вошла в кухню. Там набрала в миску воды и стала мыть руки. — С чего это я брошу вас, тебя и Клеверок?
Он ничего не ответил.
Вернувшись в комнату, она вытерла руки куском сукна и подошла к нему вплотную.
— Лавр, ты принял меня в свой дом и женился на мне. Ты был добр ко мне, а я была добра к тебе. Всё остальное совсем не важно.
Но он всё ещё сомневался.
— Я теперь свободна, — сказала она.
— Свободна и бедна.
Она взяла его ладонь, с натруженными, большими пальцами, поцеловала её и легонько оттолкнула.
— Иди, трудись. Теперь мой брат здесь хозяин, и да будет он добрее предыдущего. А я принесу тебе завтрак на Нижний Луг.

СВЕТ ОЧАГА
(рассказ)
Бытие старого волшебника зыбко: он то и дело соскальзывает в сны и воспоминания. Истинная Речь ему более не подвластна, как и время. Но вдруг есть не только смерть, а смерть не только предел существующего, но просто переход вдаль? Только дракон и ответит.

Он размышлял о «Зоркой», давно оставленной, выброшенной на пески Селидора. К этому времени от неё мало бы что осталось, одна или две доски на песке, может быть немного плавника в водах западного моря. Когда он почти заснул, то начал вспоминать, как плыл на маленькой лодке с Ветчем, но не по западному морю, а на восток, мимо Дальнего Толи, прямо из Архипелага. Воспоминание не было четким, потому что — когда он совершал это путешествие, охваченный страхом и слепой решимостью, не видя ничего впереди, кроме Тени, что преследовала его и которую он преследовал, пустоты моря, которым он бежал — разум его не был ясен. Но теперь он слышал шипение и плеск моря на носу лодки. Мачта и парус поднялись над ним, когда взглянул вверх, и, посмотрев назад, он увидел темную руку на румпеле, лицо, пристально смотрящее вперед мимо него. У Ветча были высокие скулы, а кожа на них гладкой. Если бы он был жив, то был уже стариком. Он мог как-нибудь отправить весточку. Но ему не нужны послания, чтобы увидеть его там, в Восточном пределе, на его маленьком острове, в его доме, с его сестрой, девушкой, что носила крошечного дракона вместо браслета. Дракон шипел на него, девушка смеялась… Он был в лодке, и вода хлестала по деревянным бокам, пока лодка направлялась восточней и восточней, и Ветч смотрел вперед, и он смотрел вперед над бесконечными водами. Он вызывал магией ветер, но вряд ли «Зоркой» это нужно. У неё был свой способ общаться с ветром, у этой лодки. Она знала, куда направляется.
До того, как она больше не смогла плыть. Пока глубокое море не обмельчало под ней, не стало мелководьем, не пересохло, пока её дно не протерло скалу, и она не села на мель, не двигаясь, в темноте, что их окружила.
Он вышел из лодки там, в глуби моря, над пропастью, и пошел вперед по суше.
По Сухой Земле.
Теперь это былое. Мысль пришла к нему постепенно. Земля, разделенная каменной стеной. Когда он впервые её увидел — увидел и ребенка, тихо бегущего по темному склону за ней. Он видел всю землю мертвых, города теней, людей-теней, которые проходили мимо друг друга в и тишине, безразличные, под звездами, которые не двигались. Всё прошло. Они проборонили, разрушили, раскрыли её — король, скромный волшебник и дракон, паривший над ними, сжигая мертвые небеса своим живым огнём… Стена была разрушена. Этого никогда не было. Это были чары, морок, ошибка. Они исчезли.
Исчезли ли тогда и горы, та, другая граница, Горы Боли? Они стояли далеко от стены в пустыне, черные, маленькие, острые на фоне тусклых звезд. Молодой король пошел с ними по Сухой земле в горы. Казалось, что это Запад, но шли они не на запад; там не было никакого направления. Это был путь, по которому они должны были идти, вперед и вперед. Вы идете туда, куда должны идти, и вот они пришли к сухому руслу ручья, в самое темное место. А потом еще дальше. Он отправился вперед, оставив позади себя в безводном ущелье, в скалах, которые он исцелил и запечатал, всё своё сокровище, свой дар, свою силу. Шел, хромая, навсегда охромев. Там не было ни воды, ни звука воды. Они взбирались по этим жестоким склонам. Там была тропинка, путь, хотя и из острых камней, и вверх, вверх, всегда крутой. Он вспомнил, что через некоторое время ноги уже не держали его, и он попытался ползти, упершись коленями и руками о камни. После этого всё остальное исчезло. Там был дракон, древний Калессин, цвета ржавого железа и жара драконьего тела, огромные крылья поднимались вверх и бились вниз. И туман, и острова под ними в тумане. Но те черные годы не исчезли вместе с темной землей. Они не были частью сна-видения, загробной жизни, не были ошибкой. Они были там.
Не здесь, подумал он. Ты не можешь видеть их отсюда, из этого дома. Оконная ниша выходит на запад, но не на Запад. Эти горы там, где Запад есть восток, а моря нет. Есть земля, навсегда уходящая ввысь ночи. Но Запад, истинный Запад, есть только море и морской ветер.
Это было похоже на видение, но чувствовалось б
ольшим, нежели увиденным: он знал глубь земли под ним, глубь моря. Это было странное знание, но его было радостно знать.
Огни играли с тенью на стропилах. Ночь наступала. Было бы хорошо посидеть у очага и понаблюдать за огнём некоторое время, но ради этого надо было встать, а он не хотел. Вокруг него было приятно тепло. Время от времени он слышал за собой Тенар: шумы с кухни, рубка овощей, разведение огня под чайником. Древесина старого живого дуба на пастбище, дерево упало, и он нарубил дров до прошлой зимы. Однажды она с минуту напевала какую-то мелодию, а потом пробормотала работе, побуждая её делать то, что она хотела: «А ну-ка, давай…»
Кот прогулялся у изножья низкой кровати и невесомо взобрался на не. Его покормили. Он сел и умыл мордочку и уши, терпеливо смачивая одну лапу снова и снова, а потом занялся тщательной чисткой задней части, иногда поднимая заднюю лапу передней, чтобы вычистить когти, или удерживая свой хвост, как будто ожидая, что он попытается уйти. Время от времени с минуту он смотрел неподвижно, странным, неподвижным взглядом, как будто слушая указания. Наконец он немного отрыгнул и уселся возле лодыжек Геда, готовясь ко сну. Однажды утром, он прогуливался по тропинке от Ре Альби, маленького серого дома и направился туда. Тенар думала, что он пришел из дома дочери Фана, где держали пару коров и где под ногами всегда были кошки и котята. Она давала ему молоко, немного каши, кусочки мяса, когда оно было, иначе он обеспечивал сам себя; племя маленьких коричневых крыс, которые скрывались на пастбище, больше не вторгались в дом. Иногда по ночам они слышали, как он вопит в страстных муках похоти. Утром он будет лежать на очаге, где еще тепло, и будет спать весь день. Тенар звала его Барун — «кот» на Каргиш.
Иногда Гед именовал его Баруном, иногда Хардиком, как Миру, иногда звал его именем Старой Речи. Ведь Гед не забыл то, что знал. Только ему было нехорошо, после того времени в сухом ущелье, где дурак проделал дыру в мироздании, и он должен был запечатать разрыв смертью дурака и своей собственной жизнью. Он всё еще мог назвать истинное имя кота, но кот не проснулся и не посмотрел на него. Он пробормотал имя кота себе под нос. Барун спал дальше.
Итак, он отдал свою жизнь там, в нереальной земле. И всё же он был здесь. Его жизнь была здесь, почти вернувшаяся в начало, укоренившаяся в этой земле. Они покинули темное ущелье там, где запад — это восток, а моря нет, и они шли тем же путем, через черную боль и стыд. Но не на собственных ногах или, наконец, своими силами. Нёс его молодой король, нёс старый дракон. Перенесенный беспомощным в другую жизнь, в жизнь, которая всегда была рядом с ним, немая, послушная, ожидающая его. Тень или реальность? Жизнь без дара, без силы, но с Тенар и с Техану. С любимой женщиной и любимым ребенком, ребенком дракона, калекой, дочерью Сегоя.
Он думал о том, что, когда он перестал быть человеком силы, он получил свое наследство как мужчина.
Его мысли вернулись к тому пути, которым часто прохаживались на протяжении многих лет: как странно, что каждый волшебник знал об этом балансе или обмене между силами, сексуальными и магическими, и каждый, кто имел дело с волшебством, знал об этом, но об этом не говорилось. Это не звалось обменом или сделкой. Это даже не называлось выбором. Даже ничем. Это воспринималось как должное.
Деревенские колдуны и колдуньи вступали в брак и зачинали детей — свидетельство их неполноценности. Бесплодие — та цена, что волшебник уплачивал по доброй воле за свои большие способности. Но природа цены, её неестественность — разве это не порча приобретенных сил?
Каждый знал, что ведьмы имели дело с нечистыми, древними силами земли. Они плели основы заклятий, чтобы свести вместе мужчину с женщиной, заполучить желаемое, отомстить или пользовали свой дар для тривиальных вещей — исцеления легких недугов, исправления, поиска. Колдуны делали то же самое, но заговоры были нечестивыми, как и у женской магии, слабыми, как и у женской магии. Сколько из этих суждений были правдой, сколько в них страха?
Его первый учитель, Огион, получивший своё мастерство от волшебника, который узнал его от ведьмы, не научился этому злобному презрению. И все же, Гед знал об этом с самого начала и еще глубже — о Роке. Он должен был отучиться и отучиться было нелегко.
Но, в конце концов, именно этому он с самого начала и учился, подумал он, и в этой мысли был малый проблеск откровения. Давным-давно в деревне Десять Ольховин. С другой стороны горы. Когда я был Дьюни. Я слушал, как сестра моей матери Раки зовет коз, и я позвал их, как звала она, своими словами — и все они пришли. И тогда я не смог разрушить заклинание, но Раки разглядела, что у меня есть дар. Это случилось, когда она увидела коз? Нет, она смотрела на меня, когда я был еще меньше, всё еще на её попечении и знала. Маг узнает мага. Как глупо думала она, что я считаю её магом! Невежественная, она была суеверной, наполовину мошенницей, из-за чего она бедно жила в этом бедном месте на нескольких обрывках знаний, нескольких словах истинной речи, куче искаженных заклинаний и ложных знаний, которые она наполовину считала ложными. Она обладала всем тем, что подразумевали на острове Рок, когда они смеялись над деревенскими ведьмами. Но она знала своё ремесло. Она осознавала свой дар. Она осознала своё сокровище.
Он потерял нить своих мыслей в потоке медленных личных воспоминаний о своем детстве в этой деревне на круче, сыром постельном белье, запахе древесного дыма в темном доме в сильный зимний холод. Зима, когда день, в который он был накормлен, был чудесным днем, о котором долго можно было вспоминать, и половина его жизни была потрачена на то, чтобы уворачиваться от тяжелой руки отца в кузнице, в кузнице, где он должен был качать меха, пока его спина и руки не горели от боли, а его руки и лицо горели от искр, от которых он не мог увернуться, и все же его отец кричал на него, бил его, отшвыривал его в ярости. Ты можешь держать огонь ровным, ты бесполезный дурак?
Но он не будет плакать. Он побьет своего отца. Он выдержит это и будет молчать, пока не сможет победить его, убить его. Когда он станет достаточно большим, когда он станет достаточно взрослым. Когда этого знания было достаточно.
И, конечно, к тому времени, когда он достиг достаточного, он знал, что эта злоба была пустой тратой времени. Это не было дверью к его свободе. Слова — были: слова, которым его учила Раки, по одному, скупо, неохотно отдавая их, с трудом заработанные, малые количеством и разделенные друг от друга. Название воды, которая поднялась из земли как родник, когда вы произносите ее имя вместе с еще одним словом. Имя ястреба, выдры и желудя. Имя ветра.
О, радость, о, гордость от знания имени ветра! Чистый восторг от силы, от знания, что у него есть сила! Он выбежал прямо к Верхнему Перевалу, чтобы побыть там одному, радуясь сильному ветру, дующему на запад, издалека через Каргишское море, и он знал его имя, он командовал ветром…
Ну, это прошло. Давно прошло. Имена у него все еще были. Все имена, все слова, которые он выучил у Курремкармеррука в Одинокой башне. Но если в вас не было дара, слова Старой Речи были не более чем словами: Хардик, Каргиш, Пением птиц или мучительными воплями желания Баруна.
Он приподнялся и вытянул руки. «Над чем ты смеешься?» — спросил его Тенар, проходя мимо кровати с охапкой хвороста, и он сказал, немного смущенный: «Я не знаю. Я думал о Десяти Ольховинах».
Она бросила на него испытующий взгляд, улыбнулась и пошла к очагу, чтобы разжечь огонь. Он хотел было встать, пройтись и посидеть с ней у очага, но все ж ему хотелось еще немного полежать. Ему не нравилось, что ноги его не держали, когда он вставал, и как скоро он уставал — он хотел только снова лежать, тихо глядя на свет костра и дружелюбные тени огня. Он знал этот дом с тринадцати лет, Огион только что именовал его в источниках реки Ар и повел вкруг горы. Они шли медленно, встречая на пути бедные деревни, как Десять Ольховин, или спали в лесу, в тишине, под дождем, и пришли сюда. Он спал впервые в маленьком алькове и рассматривал звезды в окне, наблюдал за огнём, танцующим с тенями на стропилах. Многому нужно было научиться. У Огиона хватило бы терпения научить его, если бы у него хватило терпения учиться… Ладно уж, что вспоминать… Так или иначе, он просчитался по ошибке. Даже то зло, что он совершил заклинанием, обучившись на острове Рок. Но прежде чем он сплел заклинание, он обнаружил слова в книге Огина здесь, в этом самом доме. В своём невежественном высокомерии он призвал эту темноту за дверью, безликое существо, которое нашептывало ему и протянулось к нему. Он принес зло сюда, под эту крышу, так как это его дом… Его мысли снова затуманились. Он дрейфовал. Это было схоже на плавание на «Зоркой», в одиночестве, в пасмурную ночь, Великая тьма в темном море. Только то, как дует ветер, говорило ему, куда он направляется вслед ветру.
«Будешь мису супа?» — спросила его Тенар и он проснулся, но всё еще уставший. «Нет, я не особо голоден» — сказал он. Он полагал, что ответ её не удовлетворит и действительно, через некоторое время она вернулась с другой половины из-за стены, которая отделяла переднюю часть дома, кухню с очагом, альков от темной половины. Сейчас это были спальня и мастерская, но когда-то это были стойла для зимовки коровы, свиней, коз и домашней птицы. Это был старый дом. Несколько человек в Ре Альби знали, что дом звался когда-то Домом колдуньи, но не знали почему. Он знал. Он и Тенар получили этот дом от Элеаль, Гелет получил этот дом от своего учителя, здесь жила ведьма Ард, этот весьма своеобразный ведьмин дом будет жить сам по себе и отдельно от деревни, не так близко, чтобы кто-то мог позвать соседей, но и не так далеко, чтобы быть вне досягаемости нуждающихся. Ард построила жилье для своего зверье поблизости и устроила напротив спальное место. Там, в яслях, где она спала, спал Гелет, потом Элеаль, теперь и Гед с Тенар.
Большинство людей называли его домом старого мага, некоторые из жителей говорили незнакомцу: «тот, что был Верховным Магом, там, на Роке, он живет там» — когда горожане и иностранцы из Хавнора искали его; но они говорили это недоверчиво и с некоторым неодобрением. Тенар нравился им больше, чем он. Даже если она была белокожая и настоящая иностранка, каргийка, они знали, что она из их рода, Бережливая домохозяйка, жесткая торговка, отнюдь не дура, более хитрая, нежели странная.
Девушка, белое лицо, темные волосы, смотрит на него пронзительно и испугано сквозь пещеру из ослепительного хрусталя и резного камня, топаза и аметиста, в дрожащем сиянии света посоха.
Там, даже там, в их величайшем храме, древних сил Земли боялись, ошибочно поклонялись, причиняя жестокую смерть и увечья рабам, живущие там девушки и женщины чахли. Он и Ара не совершили никакого святотатства, они освободили жажду и гнев самой земли, чтобы те вырвались вперед, пронеслись вниз по куполам и пещерам, распахнули двери тюрьмы.
Но ее народ, который пытался умиротворить древние силы, и его народ, который презирал колдовство, совершили ту же ошибку, движимые страхом, всегда страхом того, что было сокрыто в земле, сокрыто в женских телах, знание без слов о том, что деревья и женщины знают без обучения, а мужчины чему не спешат учиться. Он только мельком обозрел великие тихие знания, тайны лесных корней, корней трав, тишину камней, невысказанное общение животных. Подземных вод, пружин ручьев. Все, что он знал об этом, он узнал от нее, Архи, Тенар, которая никогда не говорила об этом. От нее, от драконов, от чертополоха. Маленький бесцветный чертополох борется с морским ветром между камнями на тропинке над Верхним Перевалом…
Оно обошла перегородку с миской, как он и предполагал, и села на табурет у кровати.
— Сядь и поешь пару ложек — сказала она — Это последняя утка…
— Никаких больше уток — сказал он. Утки были попыткой.
— Нет — согласилась она — Мы будем придерживаться цыплят. Но это хороший бульон…
Он сел, он подоткнула подушки ему за спину и поставила миску ему на колени. Пахло хорошо, и всё же есть не хотелось — Ну, не знаю, я просто не голоден — сказал он.
Они оба понимали это. Она не настаивала. Через некоторое время он проглотил пару ложек, а затем положил ложку в миску и улегся обратно на подушку. Она унесла миску. Потом вернулась и наклонилась, убрать ему волосы со лба.
— Тебя немного лихорадит — произнесла она.
— У меня руки холодные.
Она снова села на табурет и взяла его за руки. Ее руки были теплыми и твердыми. Она склонила голову к их сцепленным рукам и долго сидела так. Он высвободил одну руку и погладил ее по волосам. В огне треснул кусок дерева. Сова, охотящаяся на пастбищах в последних сумерках, издала свой глубокий, мягкий двойной зов.
В груди снова болело. Он размышлял о боли не столько, как об ощущении, сколько об архитектуре, о дуге в верхней части его легких, темной дуге, слишком большой, чтобы выдержали его легкие. Через некоторое время она ослабла, а потом исчезла. Он дышал легко. Ему захотелось спать. Он думал сказать ей: «Раньше я думал, что захочу уйти в лес, как Элэаль» — он имел в виду «умереть», но не было необходимости об этом говорить. Лес всегда был там, где он хотел быть. Где он был, когда мог. Деревья вокруг него, над ним. Над его домом, его крышей. Он думал, что хочет сделать то же самое, но нет, не хочет. Никуда не хочет идти, не мог дождаться, чтобы покинуть этот дом, когда был мальчишкой, не мог дождаться, чтобы увидеть все острова. все моря. А потом он вернулся ни с чем, вообще ни с чем. И это было то же самое, что и всё. Этого было достаточно.
Он это вслух сказал? Он не знал. В доме тихо, тишина большого склона горы вокруг дома и сумерек над морем. Звезды всходят. Тенар больше нет рядом с ним. Она в другой половине, легкий шум подсказал ему, что она управилась, разжигая огонь.
Он плыл, плыл дальше.
Он пребывал в темноте лабиринта из сводчатых туннелей, словно лабиринт гробниц, где он ползал, запертый, слепой, жаждущий воды. Эти арочные ребра скал опускались и сужались, когда он продолжал ползти, но должен был продолжать ползти. Прижавшись к скале, упершись руками и коленями в черные острые камни горного пути, он изо всех сил старался дышать и двигаться.
Он не мог дышать, не мог проснуться.
Было ясное утро, он был на борту «Зоркой». Немного тесновато, жестко и холодно, всякий раз, когда он просыпался разбитым от сна, полусна или быстрой дрёмы ночью, в одиночестве, на лодке, прошлой ночью не было никакой необходимости вызывать ветер; ветер с востока мира был легким и устойчивым. Он просто посмотрел на свою лодку:
— Плыви, как плывешь, «Зоркая» — и он вытянул голову к корме, пристально смотря на звезды и парус, закрывший от него небосклон. Теперь небо, усыпанное звездами, исчезло, кроме одной, великой звезды востока, которая уже таяла, как капля воды в вершине дня. Ветер был сильный и холодный. Он сел. Слегка повернул голову, разглядывая восточное небо, а затем снова обернулся к синей тени земли, погружающейся в океан. Он увидел первый дневной свет, ударившийся о вершины волн.
«Прежде светлого Эа, прежде Сегоя
Пусть острова будут,
Утренний ветер на море…»
Он не пел песню вслух, для него она пелась сама. Потом появился странный шум в ушах. Он повернул голову в поисках звука, и снова пришло головокружение. Он встал, держась за мачту, когда лодка подпрыгивала на оживленных волнах, и оглядел океан до западного горизонта, и увидел дракона.
«О, радость моя! Будь свободна!»
Свирепый, с запахом раскаленного железа, с дымовым шлейфом, тянущимся по ветру от его полета, с кольчужной головой и боками, яркими в Новом Свете, с биением громадных крыльев, он на него, как ястреб на полевую мышь, стремительный, непостижимый. Он подлетел к маленькой лодке, которая подпрыгивала и дико раскачивалась под взмахом крыла, и, проходя мимо, его шипящий, звенящий голос, на Истинной Речи, он взывал к нему, нечего бояться.
Он посмотрел прямо в длинный Золотой глаз и рассмеялся. Он окликнул дракона, когда тот полетел на восток: «О, но так есть, так и есть!» И действительно, так оно и было. Там были черные горы. Но он не испытывал страха в этот светлый миг, приветствуя то, что грядет, нетерпеливо ожидая встречи с ним. Он заговорил радостный ветер в паруса. Белея пеной вдоль бортов, «Зоркая» побежала на запад, удаляясь от всех островов. На этот раз он будет стремиться вперед, пока не переплывет в другой ветер. Если будут другие берега, он достигнет их. Если же море и берег наконец стали одним и тем же, то дракон сказал правду, и бояться нечего.

ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ
(трилогия)

Книга I. ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ
В молчании — слово,
А свет — лишь во тьме;
И Жизнь после смерти
Проносится быстро,
Как ястреб, что мчится
По сини небесной,
Пустынной, бескрайней…
Создание Эа
Это книга о юноше по имени Гед, которому судьбой предназначено стать одним из величайших героев Земноморья. Пройдя нелёгкий путь от сына простого деревенского кузнеца до могучего волшебника, он преодолеет множество трудностей и испытаний, встретит верных друзей, познает и радости, и горести этого мира… Но главное — он пройдёт до конца свой путь, не побоится встретиться с самым опасным врагом и обретёт свою подлинную сущность, станет собой!
Глава 1
Войны в тумане
Остров Гонт — это, по сути дела, одиноко стоящая гора, вершина которой издали видна над бурными водами Северо-восточного моря. Гонт славится своими волшебниками. Немало гонтийцев из высокогорных селений и портовых городов, вытянувшихся вдоль узких заливов, отбыло в иные государства служить властителям Архипелага: кто в качестве придворного волшебника, кто просто в поисках приключений, скитаясь по всему Земноморью от острова к острову и зарабатывая на жизнь колдовством.

Говорят, что самым великим из этих волшебников и уж, во всяком случае, величайшим из путешественников был некий гонтиец по прозвищу Ястреб-перепелятник, в конце концов ставший не только Повелителем Драконов, но и Верховным Магом Земноморья. О жизни его повествуется в эпическом сказании «Подвиг Геда» и во многих героических песнях, но эта наша история — о тех временах, когда слава еще не пришла к нему и не были еще сложены о нем песни.
Он родился в уединенной деревушке под названием Десять Ольховин, примостившейся высоко в горах прямо над Северной Долиной. От деревни террасами к морю спускались пастбища и пахотные земли, а по берегам реки Ар, извивавшейся в долине, виднелись крыши других селений; выше был только лес, к вершине он уступал место голым скалам, покрытым снегом.
Имя, которое он носил ребенком, Дьюни, было дано ему матерью; и это единственное, кроме самой жизни, что она успела ему дать, потому что умерла прежде, чем мальчику исполнился год. Его отец, деревенский кузнец, бронзовых дел мастер, был мрачным неразговорчивым человеком, и поскольку шестеро братьев Дьюни были значительно старше его и один за другим уже покинули родной дом, отправившись работать в другие селения Северной Долины — земледельцами, моряками, кузнецами, в семье не осталось души, способной дать ребенку хоть каплю тепла.
Он вырос дикарем, словно мощный сорняк, этот высокий быстрый мальчик, гордый и вспыльчивый. С другими деревенскими мальчишками он пас коз на крутых горных пастбищах у впадающих в реку Ар ручьев, а когда у него достало сил, чтобы раздувать большие кузнечные мехи, отец сделал паренька своим подмастерьем, и наградой ему служили колотушки да розги.
Однако особого толку от Дьюни не было. Он вечно где-то пропадал, скрывался, бродил по дальним лесам, плавал в омутах реки Ар, очень быстрой и холодной, как и все речки Гонта, или забирался по скалам и утесам на такую высоту, где лес кончался и можно было увидеть море — бескрайние северные воды, посреди которых самым ближним островом был Перрегаль.
В одной деревне с Дьюни жила сестра его покойной матери. Она присматривала за мальчиком, пока тот был совсем маленьким, однако у нее и своих дел хватало, так что, едва ребенок смог как-то обходиться без помощи взрослых, тетка и вовсе перестала обращать на него внимание. Однажды, когда Дьюни было лет семь и он не успел еще ничего узнать ни о волшебстве, ни о колдовских силах, ни о магии, он услышал, как тетка не то плачет, не то поет, уговаривая своего козла слезть с тростниковой крыши избушки, и не успела она пробормотать какой-то стишок, как упрямое животное тут же спрыгнуло на землю.
На следующий день, когда Дьюни пас коз на лугу возле Верхнего Перевала, он крикнул им те самые слова, которые услышал накануне, совсем не ведая, ни зачем они, ни что они значат:
Нот хирт мок мэн
хиолк хан мерт хан!
Он проорал стишок во все горло, и козы подошли к нему. Примчались со всех ног и беззвучно обступили, неотрывно глядя прямо в душу черными зрачками своих желтых глаз.
Дьюни засмеялся и громко повторил стишок, что давал над козами такую власть. Козы придвинулись еще ближе, толкаясь вокруг него.
И тут он почувствовал страх, так близко были их толстые острые рога, странные глаза, такая удивительная тишина висела вокруг. Мальчик попробовал убежать, вырваться из этого кольца, но козы по-прежнему держали его в плену, бежали следом, пока, наконец, все вместе они не добрались до деревни — плотное кольцо коз, словно связанных одной веревкой, а в середине этого кольца — Дьюни, зареванный и орущий что было сил. Выбежали соседи и криками попытались разогнать коз, смеясь над незадачливым пастушком. Следом прибежала и тетка Дьюни; она смеяться не стала. Только что-то шепнула козам, и животные вновь принялись как ни в чем не бывало блеять и щипать траву на лугу, освобожденные от заклятия.
— Пойдем-ка со мной, — сказала тетка Дьюни.
И повела его к себе в избушку, где жила совершенно одна. Дети сюда обычно не допускались, да они и боялись этого места.
Избушка была низкой, темной, без окон и вся пропахла травами, которые пучками были развешаны на просушку на центральной балке под крышей: мята, волшебная трава моли,
[1] тимьян, тысячелистник, куриная слепота, водосбор, какие-то водоросли, дьявольское копытце, пижма и лавровый лист. Тетка уселась у очага, скрестив ноги и искоса поглядывая на мальчика сквозь косые пряди черных волос, спросила, что именно он сказал козам и знает ли, что это за слова. Обнаружив, что он не понимает ровным счетом ничего, хоть и сумел заколдовать коз, заставив их слушаться и следовать за ним, тетка окончательно уразумела, что в ее племяннике заключена магическая сила.
Пока он был только сыном ее сестры, она не обращала на него внимания, но теперь, сама будучи ведьмой, она смотрела на Дьюни новыми глазами. Тетка похвалила мальчика и сказала, что может научить его другим стишкам-заклинаниям — какие ему больше понравятся: например, можно заставить улитку высунуться из раковины или призвать к себе ястреба из поднебесья.
— О да, научи меня вызывать ястреба! — воскликнул Дьюни, уже совсем позабыв о том страхе, что нагнали на него козы, и с удовольствием слушая похвалы тетки своей сообразительности.
Ведьма сказала:
— Но, если я назову тебе подлинное имя ястреба, ты никогда не должен говорить его другим детям.
— Честное слово, не скажу!
Она улыбнулась его невинной горячности:
— Что ж, будь по-твоему. Но раз ты дал мне слово, я тебя на слове и ловлю. Язык твой будет связан до тех пор, пока я не сочту нужным освободить его, но даже и тогда ты, хоть и обретешь снова дар речи, не сможешь произнести при ком-либо то слово, которому я тебя научу. Мы должны хранить тайны своего ремесла.
— Ладно, — сказал мальчик, ибо не было у него ни малейшего желания делиться какими бы то ни было тайнами с приятелями; наоборот, ему хотелось знать то, чего не знали они, и делать то, чего они сделать не могли.
Дьюни сидел спокойно, а тетка тем временем
собрала свои патлы в пучок, застегнула пряжку на талии и снова уселась, скрестив ноги, бросая горстями в очаг какие-то листья, от которых повалил густой дым, заполнивший и без того темную избушку. Потом ведьма запела каким-то странным, переменчивым голосом — то высоким, то низким, словно ее устами пел кто-то другой, и пение это все продолжалось и продолжалось, пока мальчик не перестал понимать, во сне все это происходит или наяву, а рядом с ним безотлучно сидела черная ведьмина собака с красными от дыма глазами, которая ни разу даже не тявкнула, потому что не лает никогда. И тут вдруг тетка заговорила с Дьюни на каком-то непонятном языке и заставила его повторять за ней длинные заклинания и отдельные слова, потом наконец колдовство свершилось, и он застыл в полной неподвижности.
— Говори! — приказала ведьма, проверяя силу заклятья.
Говорить он не мог, но засмеялся.
Тут уж сама тетка испугалась заключенной в мальчике магической силы: ведь это было самое сильное из ведомых ей заклятий. Она стремилась обрести власть не только над речью или молчанием Дьюни, но и связать его волю, обязать служить ей одной и помогать во всех ее колдовских деяниях. И все же, хоть заклятье подействовало, он засмеялся. Ведьма не сказала больше ни слова. Лишь обрызгала огонь в очаге чистой водой, чтобы окончательно погасить его, и разогнала дым; потом дала мальчику напиться. Когда же воздух совсем очистился от дыма и Дьюни вновь обрел способность говорить, тетка научила его тому единственно верному, подлинному имени ястреба, на которое лишь и должна отзываться эта птица.
Так Дьюни совершил свой первый шаг по очень долгому пути — длиной в целую жизнь, — которым теперь предстояло ему следовать. Путь этот привел его к погоне за страшной Тенью, и он попал в такие края, что лежат за неведомыми морями и простираются до самых границ темного царства смерти. Но пока что открывшийся перед ним путь казался ему светлой широкой дорогой.
Когда Дьюни убедился, что, стоит ему произнести подлинное имя сокола и тот камнем падает с небес к нему на плечо или садится на запястье, покачивая могучими крыльями, словно ловчая птица во время княжеской охоты, ему до смерти захотелось узнать побольше таких вот настоящих имен, и он явился к тетке и стал молить ее назвать ему имена ястреба-перепелятника, скопы, орла и других хищных птиц. Для того чтобы выучить эти дающие власть слова, он готов был делать все, что ему велела ведьма, хотя далеко не все это было ему по душе.
На острове Гонт есть поговорка «Слабый, как женские чары», но существует и другая — «Опасный, как женские чары». Обе они справедливы, а потому, если колдунья из деревни Десять Ольховин и не обладала особой магической силой, да и вообще злой не была, но, хоть она и не знала общения с Древними Силами Земли, кое-каким колдовством все же владела и частенько использовала его для разных подозрительных дел и обмана, потому что была женщиной невежественной и жила среди темного, невежественного народа. Тетка Дьюни ничего не знала ни о Равновесии, существующем во Вселенной, ни о Великом Пути, который ведом настоящим волшебникам, преданным своему делу и никогда не произносящим без нужды ни единого слова Истинной Речи, не говоря уж о заклинаниях. У этой же непросвещенной женщины было готово заклинание на любой случай жизни, и вечно она плела какие-то козни. Колдовство ее по большей части, правда, оказывалось сущей ерундой и притворством, да она и не очень-то умела отличать настоящие заклинания от фальшивых. Зато она знала множество проклятий, и ей, например, гораздо лучше удавалось наслать на кого-то болезнь, чем вылечить ее. Как и все деревенские колдуньи, она умела варить любовное зелье; впрочем, готовила она и другие, весьма, надо сказать, отвратительные напитки, разжигающие в человеке ревность и ненависть. Но об этом она предпочитала помалкивать и учила своего юного племянника честному волшебству — по мере сил, разумеется.
Сначала самым большим удовольствием для Дьюни, который был еще совсем ребенком, оказалась его магическая способность подчинять себе диких птиц и зверей. Честно говоря, этим своим умением он наслаждался всю жизнь. Деревенские дети, которые часто видели его на горных пастбищах в обществе зачарованной им птицы, прозвали его Ястребком, или, точнее, Ястребом-перепелятником; так приобрел он ту кличку, которой пользовался потом всегда, даже после того, как узнал свое подлинное имя.
Ведьма вечно твердила ему, что колдун может обрести над людьми неограниченную власть, сулящую славу и богатство, и он стал еще старательнее изучать колдовскую премудрость. И очень в этом преуспел. Тетка нахваливала его, деревенские дети стали его бояться, сам же Дьюни не сомневался, что скоро станет великим колдуном. Так, постепенно запоминая все новые и новые волшебные слова и заклинания, он выучился почти всему, что знала и сама ведьма: не так уж и много знала она, однако вполне достаточно для обыкновенной деревенской колдуньи, и более чем достаточно было этих знаний для мальчика, которому едва минуло двенадцать лет. Тетка рассказала Дьюни все, что знала о травах и траволечении, об умении отыскивать предметы, связывать живые существа волшебным словом и сбивать с пути, научила его раскрывать многие двери и некоторые тайны. Она рассказала ему все, что помнила из легенд о Великих Подвигах, спела ему все известные ей героические песни, назвала все слова Истинной Речи, которые узнала когда-то у одного колдуна. А у предсказателей погоды и бродячих фокусников, часто посещавших селения Северной Долины и Восточного Леса, мальчик научился всяким трюкам и забавным шуткам, а также — созданию иллюзий. При помощи одного из таких несложных заклятий он в трудный для селения час и показал, сколь велика волшебная сила, заключенная в нем от рождения.
В те времена славилась своим могуществом империя Каргад. Основу ее составляли четыре больших острова, расположенных между Северным и Восточным Пределами: Карего-Ат, Атуан, Гур-ат-Гур и Атнини. Говорили там на языке, не похожем ни на один другой язык Архипелага и Пределов. Населяли Каргад белокожие и светловолосые варвары, свирепые любители кровавых битв и запаха сожженных городов. За год до описываемого времени они успешно захватили острова Ториклы и хорошо укрепленное государство на острове Торхевен, явившись туда на своих бесчисленных судах под красными парусами. Известия об этом достигли уже северного побережья Гонта, однако правители острова были заняты собственными пиратскими вылазками, так что им и дела не было до чужих бед. Вскоре под натиском каргов пал остров Спиви, выжженный и превращенный в пустыню; все его жители были увезены и проданы в рабство. Даже и теперь Спиви по-прежнему весь в руинах. Гонимые жаждой завоеваний, карги поплыли на север, к Гонту, и несметное множество их высадилось с тридцати больших галер в Восточном Порту. Сломив сопротивление горожан, они захватили порт, сожгли его, оставили свои корабли под охраной части воинов в устье реки Ар и стали подниматься вверх по течению, разрушая все на своем пути и зверски расправляясь не только со скотиной, но и с людьми. Они двигались по направлению к Северной Долине несколькими отрядами, грабя и убивая. Беженцы из разоренных каргами селений разнесли весть о грядущей беде по высокогорным деревням, и вскоре жители Десяти Ольховин тоже увидели, что горизонт на востоке тонет в черном дыму, а те, кто ночью поднялся к Верхнему Перевалу, ужаснулись: долина внизу сверкала огнями пожаров там, где еще вчера колыхались в полях созревшие хлеба и в садах на деревьях краснели плоды; все теперь пожирало ненасытное пламя, а б
ольшая часть домов и амбаров уже лежала в руинах.
Некоторые из жителей деревни поспешили укрыться в оврагах и лесах; остальные приготовились драться не на жизнь, а на смерть, впрочем, некоторые вообще не делали ничего, лишь причитали да плакали. Ведьма была среди тех, кто бежал из деревни, и теперь скрывалась одна в пещере на крутом откосе Каппердинга, заклятьями затворив вход. Отец Дьюни, кузнец, остался; он не мог расстаться со своей плавильней и горном, со своей кузней, где трудился полсотни лет. Всю последнюю перед боем ночь он не покладая рук превращал имевшийся в запасе металл в наконечники для копий, а остальные тут же надевали эти наконечники на рукоятки от мотыг и грабель, потому что не было времени крепить их по-настоящему. В деревне не водилось иного оружия, кроме охотничьих луков да коротких ножей, ибо горные жители Гонта в общем миролюбивы; остров славился отнюдь не воинами, а козлокрадами, морскими пиратами и волшебниками.
С рассветом пришел густой белый туман, как это часто бывает осенним утром высоко в горах. Возле своих избушек и домов, беспорядочно разбросанных по склону горы, стояли жители Десяти Ольховин и ждали, держа в руках свои луки и только что изготовленные копья, не зная, далеко ли, близко ли карги; стояли в полной тишине, вглядываясь в густой туман, скрывавший от их глаз предметы, расстояния и опасности.
Там же был и Дьюни. Он всю ночь проработал в кузне, качая огромные мехи, питавшие воздухом огонь. Теперь усталые руки его так дрожали и болели, что он едва мог держать копье, которое сам себе выбрал. Он не представлял, как будет участвовать в сражении и чем вообще сможет помочь и себе, и односельчанам. Сердце его екнуло при мысли о том, что он умрет, насаженный на копье какого-нибудь карга, а ведь он еще так юн. Тогда придется ему отправиться в страну Тьмы, так и не узнав собственного настоящего имени, так и не став мужчиной. Он посмотрел на свои тонкие руки, покрытые холодными капельками осевшего на кожу тумана, и пришел в ярость от собственного бессилия, ибо знал, какое в нем таится могущество, да только не умел выпустить его наружу, не умел им воспользоваться. Дьюни старательно перебирал в памяти самые разнообразные заклинания, пытаясь найти такое, которое могло бы помочь гонтийцам победить каргов или хотя бы дать его односельчанам надежду на спасение. Но одного лишь горячего желания недостаточно, чтобы выпустить волшебную силу на свободу, для этого нужно уменье.
Туман начинал рассеиваться под лучами горячего солнца, всходившего прямо над вершиной горы, и уплывать крупными ватными облаками, обрывками дымчатой вуали, и жители деревни увидели, что вверх по склону движется отряд захватчиков. Воины были в бронзовых шлемах, поножах и нагрудниках из толстой кожи, инкрустированных полированным деревом и бронзой. Вооружены карги были мечами и длинными копьями. Поднявшись по обрывистому берегу реки Ар, они подошли уже совсем близко; уже можно было разглядеть их белокожие лица, расслышать отдельные слова их ужасного говора. Этот отряд состоял примерно из ста каргов — не так уж и много, однако сейчас в деревне оставалось всего восемнадцать мужчин и юношей.
Острая потребность что-то немедленно предпринять наконец вызволила знания Дьюни из плена: видя, как рассеивается и тончает завеса тумана, он вспомнил вдруг заклинание, которое могло бы оказаться весьма полезным. Некий старый предсказатель погоды, пытаясь залучить мальчика себе в ученики, кое-чему обучил его. Один из этих трюков назывался «плетение тумана»; здесь применялось заклинание, которое на время как бы собирает весь туман в одно место, и человек, владеющий искусством иллюзий, может при этом придавать собранному туману самые разнообразные волшебные и загадочные формы, которые, впрочем, весьма недолговечны и почти сразу расплываются и тают. Дьюни, конечно же, таким мастерством не обладал, но у него и намерения были совсем иные. Главное — суметь использовать туман в своих целях. Быстро и громко он сказал вслух, как велика и где кончается деревня Десять Ольховин, затем произнес заклинание, в ткань которого вплел волшебные слова, помогающие скрыть предметы от глаз чужака, а под конец успел выкрикнуть волшебное слово, что связывает заклятье и заставляет волшебство продлиться как можно дольше.
Однако едва он это сделал, как отец влепил ему такую затрещину, что мальчик упал.
— Тихо ты, дурак! Придержи свой болтливый язык да спрячься, коли не можешь драться!
Дьюни поднялся на ноги. Ему хорошо были слышны голоса каргов где-то у большого тисового дерева на противоположном конце деревни, возле дома дубильщика кож. И не только голоса, но и бряцанье доспехов и оружия, однако из-за тумана видно их не было. Туман окутывал деревню настолько плотной пеленой, что стало почти темно, словно наступил вечер; мир вокруг как бы исчез, растворился в тумане, так что с трудом можно было различить очертания собственных рук.
— Я же всех нас спрятал, — упрямо и тихо проговорил Дьюни; голова у него все еще гудела от отцовского подзатыльника, а применение двух заклятий сразу отняло все силы. — Я продержу здесь этот туман так долго, как только смогу. Собери людей и веди их к Верхнему Перевалу.
Кузнец уставился на сына так, словно тот был духом, порожденным этим таинственным сырым туманом. До него не сразу дошел смысл слов Дьюни, однако, осознав сказанное, он тут же бросился собирать остальных. Двигался кузнец совершенно бесшумно — ведь ему были знакомы каждый поворот изгороди, угол каждого дома родной деревни. Сквозь серый туман стал пробиваться красноватый отсвет: это карги подожгли тростниковую крышу одного из домов. Но в саму деревню пока не входили, а ждали на ее нижнем конце, надеясь, что туман все же рассеется и добыча сама попадет к ним в руки.
Дубильщик — это его дом подожгли карги — послал двух своих мальчишек, и те шныряли у каргов перед самыми носами, дразнили их, улюлюкали, а потом исчезли снова, растворились, как дым за стеной тумана. Между тем старшие мужчины, пробираясь за изгородями, перебегая от дома к дому, подошли к врагам совсем близко, и с тыла на каргов неожиданно посыпался град стрел и копий, поразивших многих, ибо карги стояли кучей. Один из них упал, пронзенный копьем, наконечник которого еще хранил тепло наковальни. Другие были ранены стрелами. Каргов охватила ярость. Они бросились было вперед, чтобы сровнять с землей жалких соперников, но повсюду был один лишь туман. В тумане со всех сторон слышались голоса, и карги, спотыкаясь в белесой мгле, пошли на эти голоса со своими огромными, украшенными перьями и перепачканными кровью копьями. С яростными воплями они прошли всю деревню насквозь, даже не подозревая, что она уже кончилась, потому что хотя время от времени и видели рядом дома, но дома эти тут же снова скрывались в густом сером тумане. Гонтийцы поднимались в горы поодиночке, большая их часть ушла уже довольно далеко, ведь местность была им хорошо знакома, однако некоторые, в основном дети и старики, двигались медленнее. Догоняя отставших, карги пускали в ход копья или мечи и воинственно выкликали имена своих белокожих Богов-Близнецов с острова Атуан:
— Вулуа! Атва!
Почувствовав, впрочем, что земля под ногами стала уж больно неровной и вовсе не похожа на деревенскую улицу или дорогу, некоторые из каргов начали останавливаться, но большая их часть по-прежнему стремилась вперед, отыскивая призрачную деревню, преследуя неясные, расплывчатые тени ее жителей, которые ускользали из-под самого носа. Туман вокруг, казалось, ожил, задвигался, фигуры людей в нем то возникали, то исчезали вновь. Часть отряда каргов преследовала призраков-гонтийцев до самого Верхнего Перевала, где склон круто обрывался над одним из притоков реки Ар; там призраки вдруг как бы растаяли в тумане, а их преследователи поп
адали прямо в невидимую пропасть. В пронизанном солнечными лучами тумане стало видно, как они один за другим летят с тридцатиметровой высоты в мелкие заводи прямо на острые камни. А те, кто отстал и лишь потому остался в живых, остановились на самом краю обрыва и долго стояли, прислушиваясь.
И тут в сердца каргов вошел ужас, ибо они в густом тумане натыкались лишь друг на друга, не обнаруживая рядом ни одного жителя деревни. Наконец воины собрались вместе на склоне холма и стали спускаться, но откуда-то из тумана то и дело появлялись проклятые призраки и наносили каргам удары ножами и копьями. Карги бросились бежать и беспорядочной толпой, спотыкаясь и не говоря ни слова, бежали вниз до тех пор, пока не вылетели вдруг из-под густого слепящего облака и не увидели прямо перед собой реку, расположенные куда ниже деревни овраги, и все это было залито солнцем, нигде ни клочка тумана. Они остановились, собрались в кучу и дружно оглянулись назад. Стена волнистого влажного серого тумана подступала к тропе вплотную, скрывая все, что лежало за ней. Из этой стены вывалились еще двое или трое каргов, загнанных и спотыкающихся, с длинными копьями на плечах. Ни один из захватчиков в ту сторону больше даже не посмотрел. Все разом двинулись по склону горы вниз, спеша прочь от этого заколдованного места.
Однако в селениях, расположенных в самой Северной Долине, карги утолили-таки свою жажду битвы. Жители Восточного Леса, от Оварка до самого побережья, послали своих мужчин на битву с захватчиками. Отряд за отрядом спускались гонтийцы с гор, преследуя стремительно отступавших к побережью каргов. Достигнув пляжей чуть выше Восточного Порта, захватчики обнаружили, что корабли их сожжены; им пришлось биться с хозяевами Гонта у самой кромки воды, и битва шла до тех пор, пока не осталось в живых ни одного карга, а пески устья Ар не стали бурыми от крови. Потом кровь смыл прилив.
Утром, после битвы в деревне Десять Ольховин и у Верхнего Перевала, сырой серый туман еще повисел немного, потом вдруг поднялся, рассеялся, растворился и уплыл куда-то вдаль, словно его и не бывало. Люди растерянно озирались, стоя на ветерке под утренними лучами солнца. Повсюду валялись тела мертвых каргов; их длинные спутанные светлые волосы были в крови. Неподалеку лежал и деревенский дубильщик, принявший благородную смерть в бою.
В нижнем конце деревни все еще догорал дом, подожженный каргами. Люди бросились тушить пожар, потому что сражение уже закончилось и они победили. На деревенской улице у высокого тиса они обнаружили одиноко стоявшего Дьюни, сына кузнеца; он не был ранен, но не произносил ни слова и явно был не в себе, словно его заколдовали. Односельчане прекрасно понимали, что этот мальчик сделал для них. Они отвели его домой и бросились искать ведьму, нашли ее и стали умолять выйти из пещеры и спасти парнишку, который отвел от них смертельную опасность, ведь живыми остались все, кроме четверых убитых каргами, и уцелело все имущество, если не считать все еще догоравшего дома.
Тетка не обнаружила на теле Дьюни ни одной раны, однако мальчик по-прежнему не говорил ни слова и, похоже, не слышал, когда к нему обращались; он не спал и не мог принимать пищу. И не было рядом волшебника, у которого достало бы могущества снять с него эти чары. Тетка его, ведьма, была бессильна. Она лишь сказала: «Он истратил все свои силы».
Пока Дьюни лежал вот так, в тихом беспамятстве, история о мальчике, что заколдовал туман и насмерть перепугал каргов толпой волшебных теней, стала известна по всей Северной Долине, ее услышали жители Восточного Леса и дальних горных селений, она достигла даже противоположной стороны острова — главного порта, Морских ворот Гонта. И вот на пятый день после битвы в устье реки Ар в деревню Десять Ольховин явился чужеземец, не молодой и не старый, закутанный в плащ, но с непокрытой головой. В руке он легко сжимал толстый дубовый посох ростом с него самого. Человек этот спустился не от верховий реки Ар, откуда чаще всего приходили в деревню люди, а, напротив, поднялся по крутому, поросшему лесом берегу ее откуда-то снизу. Деревенские кумушки сразу решили, что это волшебник, а когда он еще и сказал им, что умеет лечить, то они прямо-таки потащили его к дому кузнеца. Отослав прочь всех, кроме отца мальчика и его тетки, незнакомец склонился над постелью, возложил руку на лоб Дьюни, потом легонько коснулся его губ.
Дьюни медленно сел, озираясь по сторонам. Через некоторое время он заговорил, и к нему постепенно начали возвращаться силы и аппетит. Его немного покормили, напоили, и он снова лег, не сводя темных пытливых глаз с незнакомца.
— Не простой ты, видно, человек, — проговорил кузнец, обращаясь к пришельцу.
— Этот мальчик тоже будет не простым человеком, — ответил тот. — История о том, что проделал он с туманом ради спасения своей деревни, достигла Ре Альби, моей родины. И я пришел сюда для того, чтобы дать ему настоящее имя, если верно то, что он еще не прошел обряда имяположения и посвящения в мужчины.
Ведьма шепнула кузнецу на ухо:
— Братец, так ведь это точно великий чародей из Ре Альби, Огион Молчаливый, тот самый, что остановил землетрясение!..
— Господин, — сказал кузнец, нисколько этими словами не обескураженный, — моему сыну через месяц исполнится тринадцать, но мы хотели отложить его посвящение до праздника Солнцеворота.
— Пусть имя будет ему положено как можно скорее, — настаивал волшебник, — ибо оно ему необходимо. У меня пока есть здесь и другие дела, однако я вернусь к тому дню, который вы сами выберете. А захотите, я потом возьму мальчика с собой и, если он окажется достаточно смышленым, сделаю своим учеником или, по крайней мере, позабочусь о том, чтобы он получил образование, соответствующее тому дару, которым обладает. Держать в неведении душу и ум прирожденного мага очень-очень опасно.
Мягок был голос Огиона, но такая в нем чувствовалась уверенность, что даже искушенный в жизни кузнец согласился с каждым его словом.
В день, когда Дьюни исполнилось тринадцать, а случилось это ранней осенью, той чудесной порой, когда деревья еще не сбросили своего яркого листвяного наряда, в деревню из своих странствий по острову Гонт вернулся Огион и состоялась церемония имяположения. Тетка-колдунья «взяла» у Дьюни его прежнее имя, то, которым во младенчестве нарекла его мать. Безымянным и нагим вошел он в холодные струи реки Ар там, где среди валунов, под нависшими утесами кружит темный омут. В этот миг солнце закрыли облака и вода подернулась рябью. Выбравшись из омута, мальчик двинулся к противоположному берегу, дрожа от холода в ледяной воде, но ступал медленно, выпрямившись во весь рост, как подобает. Когда он вышел на берег, ждавший там Огион протянул мальчику руку, крепко сжал ее в своей и шепнул ему подлинное его имя: Гед.
Так с помощью великого волшебника Огиона свершилось имяположение Геда.
Празднество еще далеко не закончилось, и деревенские жители веселились вовсю, еще полно было всяких угощений и выпивки, а приглашенный из Долины певец распевал песнь за песней о подвигах Повелителя Драконов, когда маг Огион тихонько сказал Геду:
— Довольно, мальчик. Попрощайся со своими, и пусть праздник продолжается.
Гед быстро собрался в дорогу: он взял прекрасный, выкованный отцом специально для него бронзовый нож, кожаную куртку, которую вдова погибшего дубильщика подогнала ему по росту, и ольховый посох, заколдованный для него теткой. Это, собственно, было все, чем он владел кроме надетых на него рубашки да штанов. Простившись с отцом и теткой — единственными близкими ему на всем свете людьми, — Гед еще раз поглядел на привольно раскинувшуюся на горном склоне деревню, на берега быстрой реки и двинулся в путь со своим новым другом и Учителем, вверх по крутой тропе, по опавшей листве, среди ярких красок и теней ранней осени.
Глава 2
Тень
Раньше Гед думал, что, став учеником великого волшебника, он сразу же овладеет его ремеслом и тайнами магии, станет понимать язык диких зверей, лесных растений и листьев на деревьях и, произнеся одно лишь нужное слово, сможет повелевать ветрами и превращаться во что угодно. Например, они с Учителем могли бы превратиться в оленей или орлов и быстрее ветра домчаться от Десяти Ольховин до Ре Альби.
Но все оказалось совсем не так. Они с Огионом шли и шли: сначала спустились в Долину, потом двинулись на юго-запад вокруг горы, ночуя в маленьких деревушках или прямо под открытым небом, словно жалкие бродячие фокусники или какие-нибудь лудильщики посуды, а то и просто как нищие. Никаких волшебных мест они не видели, ничего особенного не происходило. Дубовый посох волшебника, на который Гед сначала взирал с ужасом и любопытством, оказался самым обыкновенным тяжелым посохом, на который Огион опирался при ходьбе. Прошло три дня, потом еще четыре, а ни одного волшебного слова так и не было произнесено, во всяком случае, Гед их от Огиона не слышал. И он пока не узнал ни одного нового имени, ни единой руны, ни одного заклинания.
Хоть Огион и был на редкость молчаливым, но он так мягко и спокойно обращался с Гедом, что тот вскоре утратил весь свой благоговейный страх перед волшебником и как-то, набравшись храбрости, дерзко спросил:
— Когда же начнется мое обучение, сударь?
— Оно уже началось, — сказал Огион.
Повисло молчание: Гед очень старался удержать в себе то, что ему хотелось выпалить немедленно. И все-таки не удержал:
— Но я же совсем ничему не выучился!
— Потому что еще не понял, чему я тебя учу, — ответил волшебник, продолжая двигаться по тропе своим спокойным размеренным шагом. Они были как раз где-то между Оварком и Уиссом.
У Огиона, как и у большинства гонтийцев, была смуглая, с медным отливом кожа, седая голова, тело сухое и поджарое, как у гончей, и он был совершенно неутомим. Он редко говорил что-нибудь, мало ел, а спал еще меньше. У него были удивительно острые зрение и слух, и часто на лице его появлялось такое выражение, словно он к чему-то прислушивается.
Гед ему не ответил. Не всегда просто ответить волшебнику.
— Ты, конечно, хочешь узнать как можно больше заклинаний, чтобы пользоваться ими, — сказал Огион, продолжая уверенно идти вперед. — Но из этого колодца ты и так вычерпал уже слишком много воды. Подожди. Хочешь стать взрослым — терпи. Хочешь стать настоящим волшебником — в десять раз больше терпи. Это что за травка у тропы?
— Земляничный лист.
— А вон то?
— Не знаю.
— Его называют острец. — Огион остановился и указал концом своего посоха на небольшое растеньице, чтобы Гед повнимательнее пригляделся к нему. Мальчик сорвал сухой стебелек и спросил, потому что Огион так больше ничего и не прибавил:
— Учитель, а какой в нем прок?
— Никакого, насколько я знаю.
Гед некоторое время продолжал держать растение в руке, шагая рядом с Огионом, потом отбросил его в сторону.
— Когда ты познаешь этот острец во всех его сезонных ипостасях, станешь различать его корни, листья, цветы, запах и форму семян, тогда сможешь узнать и его настоящее имя: ведь понять сущность предмета гораздо важнее, чем выяснить, какая от него польза. А какова, например, польза от тебя самого? Или от меня? Приносит ли пользу гора Гонт или Открытое Море? — Огион умолк и прошагал еще минут двадцать, пока наконец не договорил: — Чтобы слышать других, самому нужно молчать.
Мальчик нахмурился. Неприятно сознавать собственную глупость. Однако он сдержал свои чувства и решил отныне быть терпеливым и послушным, чтобы Огион в конце концов согласился научить его хоть чему-нибудь. Он жаждал знаний, жаждал обрести могущество! Порой, однако, ему начинало казаться, что он мог бы узнать куда больше у любого травника или деревенского колдуна, и, по мере того как они с Огионом все дальше и дальше уходили на запад, в дикие леса, расположенные за Уиссом, Гед все больше дивился, отчего Огиона считают таким уж великим чудодеем. Ведь когда шел дождь, Огион даже не пытался произнести заклятие, известное любому предсказателю погоды, и послать тучу в другую сторону. В странах, где колдуны встречаются буквально на каждом шагу — а таковы, например, Гонт или Энлад, — можно видеть, как грозовое облако порой прямо-таки слоняется по небу с места на место из-за того, чье заклятье оказалось сильнее, пока наконец не разражается ливнем над морем, где дождь может спокойно идти себе сколько угодно. Но Огион позволял дождю пролиться именно там, где собирались тучи. Он просто находил ель погуще и укладывался под ней на ночлег. Геду тоже ничего не оставалось, как свернуться калачиком среди веток, с которых капала вода, и, промокнув насквозь, мрачно удивляться, что за польза в необычайном могуществе Огиона, если какая-то там «высшая мудрость» не позволяет ему этим могуществом воспользоваться; он порой даже жалел, что не пошел в ученики к старому предсказателю погоды из Северной Долины; там он, по крайней мере, спал бы в сухом месте. Вслух он, разумеется, ничего этого не говорил. Ни единого слова не произнес. А Учитель его, улыбнувшись, засыпал под проливным дождем.
Приближалось зимнее солнцестояние, и в горах начались первые обильные снегопады. К этому времени Гед с Огионом добрались наконец до Ре Альби. Этот город был расположен почти у голых скал на вершине Гонта, высоко, у самого Большого Перевала. Ре Альби и значило «гнездо ястреба». Отсюда видно было далеко вокруг, не только залив и башни Главного порта острова, но и корабли, проплывающие между Сторожевыми Утесами, а еще дальше, на западе, можно было различить голубые горы Оранеи, самого дальнего из островов Внутреннего Моря.
Дом волшебника, хотя и был достаточно просторным и прочным, сложенным из бревен, с настоящим очагом и каменным камином, а не какой-то ямой в земляном полу, все же очень походил на хижины в Десяти Ольховинах: в нем была одна-единственная жилая комната, к которой был пристроен хлев для коз. У западной стены имелось некое подобие алькова, где спал Гед. Над его жесткой постелью было окно, выходящее на море, но большую часть времени ставни приходилось держать закрытыми из-за свирепых северо-западных ветров, которые дули всю зиму. В теплом сумраке этого дома провел Гед долгие месяцы, слушая, как снаружи хлещет дождь, или завывает ветер, или тихо-тихо падает густой снег; он изучал знаменитые Шестьсот Ардических Рун и был очень доволен этим, ибо лишь знание рун дает настоящее владение мастерством волшебника, без них заучивание наизусть заклинаний и заговоров — пустая трата времени. Ардический язык, распространенный на Архипелаге, обладал теперь не большей магической силой, чем все остальные современные языки, но корнями своими он уходил в Истинную Речь, где все существа и предметы были названы своими подлинными именами. Понимание Истинной Речи и начинается с изучения рун, созданных еще в те времена, когда острова Земноморья только поднимались из глубин океана.
И все-таки по-прежнему не происходило вокруг ничего чудесного или колдовского. Всю зиму — только тяжелые страницы Книги Рун, стук дождя по крыше, падающий за окном снег; Огион, вдоволь набродившись по обледенелым склонам и заснеженным лесам или навозившись в сарае, где обитали его козы, входил в дом, стучал башмаками, сбивая снег, и до вечера сидел в тишине у камина. Долгое сторожкое молчание волшебника как бы заполняло собой комнату, все пространство вокруг и внутри Геда, и порой ему казалось, что он совсем забыл, как звучат обыкновенные слова; поэтому, когда Огион наконец говорил что-нибудь, это выглядело так, словно именно он впервые изобрел человеческую речь. Хотя слова его были самыми обыкновенными и обозначали очень простые вещи — хлеб, воду, погоду, сон.
Когда наступила весна — скоротечная и солнечная, — Огион часто посылал Геда за травами с горных лугов и позволял ему гулять сколько душе угодно; Гед бродил по берегам напоенных весенними дождями ручьев, по лесам, по влажным, зеленеющим на солнце полям. Он был счастлив и возвращался домой лишь к ночи, но о травах, впрочем, не забывал. Все время высматривал нужные растения, карабкаясь по кручам, блуждая по лесам и полям, переходя вброд речки и болотца. Обследуя окрестности Ре Альби, он каждый раз приносил домой что-нибудь новое. Как-то раз он вышел на лужайку меж двух ручьев, где в изобилии росли белые цветы под названием «всесвятка», которые встречаются редко и очень ценятся лекарями. Поэтому он и на следующий день отправился туда же, но на этот раз его опередили; девочку, собиравшую цветы на лужайке, он знал: она была единственной дочерью старого Лорда Ре Альби. Он бы с ней и заговаривать не стал, но девочка сама подошла к нему и весело поздоровалась:
— А я тебя знаю! Ты — Ястребок, ученик нашего волшебника. Расскажи мне что-нибудь о колдовстве. Пожалуйста!
Он смотрел вниз, на цветы «всесвятки», которые касались подола ее белоснежной юбки; он очень смутился, нахмурился и еле слышно что-то буркнул в ответ. Но она продолжала непринужденно болтать, сама нимало не смущаясь, не таясь, и он постепенно оттаял. Девочка была высокой и хрупкой, примерно его лет, с очень светлой, почти белой кожей; в деревне говорили, что мать ее родом то ли с самого Осскила, то ли откуда-то из тех, далеких краев. Волосы девочки, длинные и прямые, падали черным водопадом ей на спину. Геду она показалась страшно некрасивой, но все же доставить ей удовольствие хотелось, хотелось вызвать ее восхищение, даже восторг. Она упросила его рассказать всю историю с туманом, заставившим отступить воинов-каргов, и слушала так, будто была потрясена до глубины души. Однако не сказала ни слова похвалы. И скоро свернула разговор на другое.
— А ты можешь призывать к себе птиц и зверей? — спросила она.
— Могу, — ответил Гед.
Он знал, что в скалах над лугом есть гнездо сокола, и призвал птицу ее подлинным именем. Сокол прилетел, но не сел на руку Геду: девочка пугала его. Потом сокол пронзительно вскрикнул, взмахнул широкими крылами и поднялся ввысь вместе с восходящим потоком воздуха.
— Как называется колдовство, что заставляет сокола прилетать по твоему зову?
— Заклятие дружбы.
— А ты можешь призвать, например, душу умершего?
Он решил, что девчонка насмехается над ним: ведь сокол не совсем подчинился его заклятью. Смеяться над собой он ей позволить не мог.
— Смогу, если захочу, — спокойно сказал он.
— А разве не трудно и не опасно это — вызывать духа?
— Да, это, конечно, непросто, но вовсе не опасно, — он даже плечами пожал.
На этот раз он был почти уверен, что в глазах ее светится восхищение.
— А изготовить любовное зелье ты можешь?
— Для этого особого мастерства не требуется.
— Да, правда, — согласилась она. — Это любая деревенская колдунья умеет. А заклинание Превращений ты знаешь? Умеешь сам во что-нибудь превращаться? Говорят, все волшебники это могут.
И опять он не был уверен, что она над ним не издевается, а потому и на этот раз ответил:
— Сумею, если захочу.
Она тут же начала просить его превратиться во что-нибудь — в ястреба, быка, огонь, дерево. Он на какое-то время отвлек ее, сказав потихоньку тайные слова, которыми пользовался в таких случаях Огион; но потом, когда она стала прямо-таки умолять его, не сумел отказать наотрез; кроме того, ему и самому захотелось проверить, не напрасно ли он так расхвастался. В тот день он быстро ушел, сказав, что Учитель давно ждет его дома, и на следующий день на лужок не ходил. Но через день пришел снова, уговаривая себя, что совершенно необходимо собрать как можно больше колдовских белых цветов. Девочка была уже там. Они вместе бродили босиком по болотистому лугу, срывая тяжелые белые соцветия. Светило весеннее солнышко, и она щебетала так же весело, как любая девчонка-пастушка из его родной деревни. Снова расспрашивала его о колдовстве и, широко раскрыв глаза, слушала все, что бы он ни говорил, и он, конечно, снова начал хвалиться. Когда же она опять попросила его превратиться во что-нибудь, а он снова попробовал отшутиться, она посмотрела на него, откинув черные волосы с лица, и прямо спросила:
— Ты что, боишься?
— Нет, не боюсь.
Она улыбнулась чуть презрительно и заключила:
— Ты, должно быть, просто слишком молод.
Этого он стерпеть не мог. Лишних слов говорить не стал, но решил непременно доказать девчонке, на что способен. Он пригласил ее снова прийти сюда завтра, если ей так уж хочется превращений, и, пока от нее отделавшись, вернулся домой. Огиона нигде видно не было, наверно, где-то бродил. Гед прошел прямо к книжной полке и снял с нее те две волшебные Книги, которые Учитель еще никогда в его присутствии даже не открывал.
Гед искал заклинания Превращений, но он разбирал руны еще очень медленно, да и понимал из прочитанного маловато, так что найти нужного никак не мог. Это были очень древние Книги; Огион получил их от своего учителя Гелета Прозорливого, а Гелет — от Великого Мага из Перрегаля, и цепочка эта уходила к самому началу времен, когда слагались первые мифы. Письмена были странными, почерк мелкий, со многими исправлениями и вставками, сделанными разными людьми между строк, и все эти люди теперь давно уже стали прахом. Но тем не менее кое-что из прочитанного Геду все-таки удавалось понять, к тому же он ни на минуту не забывал о насмешливых вопросах той девчонки. В итоге он впился глазами в страницу, где было начертано заклинание, вызывающее мертвых из могил.
Он читал эти магические слова, выбираясь из головоломки рун и иных символов, и ужас овладевал им. Теперь глаза его были словно прикованы к тексту; он не смог бы поднять их, не произнеся заклятие целиком.
Когда же наконец он поднял голову, то увидел, что в доме совсем темно. Все это время он читал без света совершенно неразличимые теперь слова. Его все сильнее охватывал ужас, он будто прирос к стулу и страшно замерз. Потом, оглянувшись, заметил, что возле закрытой двери скорчилось нечто темное, бесформенное, похожее на обрывок чьей-то черной тени, своей чернотой выделяющейся даже в окружающей ее тьме. Казалось, что нечто тянется к нему, что-то шепчет, зовет его, но понять смысл произносимых им слов Гед не мог.
Дверь внезапно распахнулась настежь. Вошел кто-то высокий, окруженный ярким белым сиянием. Громко и яростно зазвучал его голос, и черная тень исчезла, шепот ее затих, заклятье было снято.
Темный ужас улетучился из души Геда, но новый страх охватил его, ибо это Огион, Великий Маг, стоял в распахнутых дверях, объятый светом, а на конце его дубового посоха горел белый огонь.
Волшебник молча прошел мимо Геда, зажег лампу и убрал Книги на полку. Потом обернулся к мальчику и сказал:
— Никогда не произноси больше этого заклятия — лишь в тех случаях пользуются им, если жизни твоей угрожает смертельная опасность. Ты открыл Книги, чтобы найти именно это заклинание?
— Нет, Учитель, — прошептал Гед, сгорая от стыда, и рассказал Огиону, что именно искал он там и почему.
— Разве ты забыл? Ведь я уже как-то говорил тебе: мать этой девочки, жена Лорда Ре Альби, — известная чаровница.
И правда, Огион однажды говорил об этом, но Гед пропустил его слова мимо ушей, зато теперь убедился, что его Учитель никогда и ничего не говорит ему просто так.
— Сама эта девушка уже наполовину ведьма. Возможно, именно ее мать сделала так, что вы встретились и заговорили друг с другом. Возможно, именно она раскрыла Книгу на нужной ей странице, которую ты и прочел. Она служит совсем не тем силам, которым служу я. Мне неведомы ее намерения, но я знаю, что мы с ней враги. А теперь, Гед, слушай меня внимательно. Неужели ты ни разу не задумывался о том, что всякая сила окружена опасностью точно так же, как источник света — тьмой? Колдовство — вовсе не игра, оно не предназначено для забав или удовлетворения простого тщеславия. Подумай об этом, ибо каждое слово, каждое действие, связанное с нашим искусством, с волшебством, говорится и совершается либо во имя Добра, либо во имя Зла. Прежде чем что-то сказать или совершить, ты непременно должен узнать цену, которую за это заплатишь!
Мучительный стыд заставил Геда воскликнуть:
— Но откуда же мне знать обо всем этом, Учитель, если ты ничему меня не учишь? Я уже сколько живу у тебя, а все еще ничего особенного не сделал, ничего особенного не видел…
— Зато теперь ты видел кое-что особенное, — ответил ему волшебник. — Там, в темноте возле двери. Хорошо, что я вовремя вошел.
Гед молчал.
Огион опустился на колени, положил в камин дров и разжег огонь, потому что в доме было холодно. Потом, по-прежнему стоя на коленях, спокойно проговорил:
— Гед, юный мой сокол, ты ведь здесь не на привязи и не в услужении у меня. Не ты пришел ко мне — я к тебе. Ты еще слишком молод, чтобы сделать свой выбор, но я за тебя его сделать не могу. Если хочешь, я отправлю тебя на остров Рок, где изучают Высокие Искусства. Любым из них ты сможешь овладеть в совершенстве, ибо велика заключенная в тебе сила. Надеюсь, она сильнее твоей гордыни. Я бы, пожалуй, оставил тебя здесь, при себе, потому что обладаю именно тем, чего тебе самому недостает, но против твоей воли я не пойду. А теперь выбирай: Ре Альби или Рок.
Гед стоял молча; в душе его царило смятение. Он успел уже полюбить этого человека, который некогда излечил его одним лишь своим прикосновением и не имел в душе ни капли зла; он любил Огиона, но узнал об этом лишь сейчас. Гед взглянул на дубовый посох волшебника, прислоненный к каминной полке, и вспомнил тот светлый огонь, что выжег, изгнал зло, притаившееся во тьме, и ему страшно захотелось остаться с Огионом, бродить с ним по лесам, уходить далеко и надолго, учась быть молчаливым. Но в душе кипели иные страсти, усмирить которые было Геду не под силу, — стремление к славе, жажда деятельности. Путь Огиона к подлинному Мастерству казался ему каким-то чересчур долгим, окольным, тогда как уже сейчас можно было бы раскрыть свой парус навстречу морским ветрам и плыть прямо в Открытое Море, плыть к острову Мудрецов, где воздух пронизан волшебством, где в толпе почитателей ходит по земле сам Верховный Маг Земноморья.
— Учитель, — сказал он, — я поеду на остров Рок.
Итак, через несколько дней, солнечным весенним утром они с Огионом спустились по крутой тропе, ведущей от Перевала к главному порту Гонта, находившемуся в четырех часах ходьбы от Ре Альби. У городских ворот, украшенных резными фигурами драконов, стражники, завидев мага, преклонили пред ним колена и обнажили шпаги в почтительном приветствии. Они узнали его и оказывали ему эту честь не столько по приказу короля, сколько по собственной доброй воле, ибо десять лет назад Огион спас город от страшного землетрясения, которое до основания разрушило бы богатые, украшенные башнями дома, завалило бы камнями узкий пролив между Сторожевыми Утесами. Тогда словами Истинной Речи Огион успокоил гору, как успокаивают испуганного зверя, и дрожь в ее теле прошла. Гед уже кое-что слышал об этом и сейчас, с изумлением увидев, как вооруженная стража преклоняет колена перед его
тихим Учителем, снова вспомнил эту историю с землетрясением. Он почтительно, едва ли не со страхом взглянул на Огиона, но лицо волшебника оставалось, как всегда, спокойным.
Они спустились к причалам, где начальник порта уже спешил навстречу Огиону — поздороваться и спросить, чем может ему служить. Тот ответил, что им требуется попасть на остров Рок, и тут же был назван корабль, готовый взять Геда пассажиром и направляющийся дальше, в Открытое Море.
— Они охотно наймут вашего ученика как заклинателя погоды, если он этим мастерством владеет, — предложил начальник порта. — У них на борту такого человека нет.
— Он немного умеет управляться с туманом и облаками, но только не с морскими ветрами, — сказал Огион, легко сжав рукой плечо Геда. — Не пытайся колдовать над морем и штормами, Ястребок; ты пока еще совсем к ним не привык. Господин начальник, а как называется это судно?
— «Тень». Они с Андрадских островов. Направляются в Хорт, везут меха и слоновую кость. Корабль хороший, Мастер Огион.
Лицо мага потемнело, когда он услышал название корабля.
— Что ж, так тому и быть, — сказал он. — Передай это письмо Ректору Школы, Ястребок. И попутного тебе ветра! Прощай!
И все. Огион повернулся и быстро пошел вверх по улице от причалов. Гед оторопело смотрел, как он уходит — его Учитель.
— Ну, парень, пошли, — окликнул его начальник порта и повел к дальнему пирсу, где «Тень» уже поднимала свои паруса, готовясь к отплытию.
Трудно поверить, чтобы на небольшом острове, на утесах, нависающих прямо над бескрайним морем, мог вырасти человек, который ни разу за всю жизнь не ступил в лодку и не обмакнул даже палец в соленую воду, однако на Гонте это часто случалось. Земледельцы, пастухи, охотники или ремесленники — в общем, сухопутные жители — воспринимают океан как неспокойное царство соленой воды, совершенно им чуждое. Для них деревня, расположенная в двух днях ходьбы от дома, — уже чужая земля, а остров на расстоянии одного дня плавания — вообще нечто почти нереальное, покрытое дымкой и существующее где-то за горизонтом, то есть не имеющее ничего общего с той твердой землей, по которой ступают они сами.
Вот и у Геда, который никогда раньше не спускался на побережье, порт Гонт одновременно вызывал и ужас и восхищение: большие дома и башни из камня, причалы и пирсы, волноломы и доки, и сама гавань, где толпилось не менее полусотни разных судов; где на берегу вверх килем лежали лодки и стояли галеры, ожидая ремонта; где далеко на рейде стояли, подняв весла и спустив паруса, большие корабли; где матросы перекликались между собой на самых различных и странных наречиях, а портовые грузчики с тяжелым грузом на спине ловко лавировали между бочками, ящиками, кольцами каната и штабелями весел; где бородатые купцы в отороченных мехом одеждах тихо переговаривались друг с другом, пробираясь по скользким камням у самой воды; где рыбаки разгружали корзины с уловом, а бондари спешно обивали обручами бочки для рыбы; где корабелы, не переставая, стучали своими молотками; где нараспев предлагали свой товар продавцы моллюсков; где капитаны зычными голосами перекрывали любой шум, отдавая приказания команде, — и за всем этим просторный, молчаливый, залитый солнцем залив! Вид и звуки огромного порта ошеломили Геда; со смятенной душой шел он за своим провожатым к широкой пристани, где была пришвартована «Тень». Наконец он был представлен капитану.
Тот перебросился несколькими словами с начальником порта и согласился взять Геда пассажиром до острова Рок, ведь просил за него сам Великий Маг Огион. Начальник порта ушел, оставив мальчика на попечение капитана «Тени», высокого толстого человека в красном плаще, отороченном мехом зверька пеллави, какие обычно носят купцы с Андрадских островов. На Геда шкипер даже не взглянул, только буркнул:
— Парень, а ты заклинать погоду умеешь?
— Умею.
— И ветер вызвать можешь?
Гед вынужден был сказать «нет», поэтому шкипер велел ему пристроиться где-нибудь подальше и не путаться под ногами.
Вдоль бортов уже рассаживались гребцы; судно нужно было вывести на рейд до наступления ночи и отплыть с отливом — перед рассветом. Не путаться у других под ногами оказалось довольно-таки трудно, но Гед устроился вполне удачно, вскарабкавшись на кучу связанных вместе и прикрытых шкурами тюков на корме. Оттуда он и наблюдал за приготовлениями к отплытию. Гребцы перепрыгивали на борт судна прямо с причала — сильные, крепкие, с огромными кулаками, — а грузчики тем временем с грохотом вкатывали на судно бочки с водой и устанавливали их под скамьями для гребцов. Осанистое, хоть и тяжело груженное, судно словно пританцовывало от нетерпения на мелкой зыби у причала, и кормчий уже занял свое место справа от ахтерштевня, ожидая приказаний шкипера, стоявшего на мостике. Форштевень судна был украшен изображением Древнего Змея Андрада.
Наконец шкипер что-то рявкнул и «Тень» отошла от причала; две гребные шлюпки должны были теперь отбуксировать судно на рейд.
— Весла на воду! — снова проревел шкипер, и огромные весла взметнулись в воздух — по пятнадцать с каждой стороны. Гребцы склоняли могучие спины в такт ритму, который отбивал на барабане парень, стоявший рядом со шкипером.
Судно понеслось по волнам легко, словно чайка, шум и суматоха большого города внезапно остались где-то позади. Они вышли в тишину залива и увидели за кормой острый пик горы Гонт, которая, казалось, нависла надо всем морем. В узком проливе под защитой южного из Сторожевых Утесов был брошен якорь. Здесь нужно было ждать рассвета.
В команде корабля было человек семьдесят, некоторые почти такие же юные, как Гед, но все уже прошедшие обряд посвящения. Молодые матросы часто звали его поесть и выпить вместе с ними и, в общем, были добры к нему, хотя и грубоваты. И очень любили всякие шутки и подначки. Конечно же, они стали звать его Козьим Пастырем, потому что родом он был с Гонта, но больше никаких шуток в его адрес себе не позволяли. Он был таким же высоким и сильным, как эти пятнадцати-шестнадцатилетние подростки, за словом в карман не лез, за добро платил добром, на насмешки отвечал тем же, так что он вполне пришелся ко двору и с первого же вечера стал жить по морским законам и учиться искусству мореплавания. Капитана это вполне устраивало — для пассажиров-бездельников на борту просто не было места.
Там и для команды-то места было маловато, на этой неудобной для людей беспалубной галере, и матросы теснились вперемежку с оснасткой и грузом. Впрочем, Гед в особых удобствах не нуждался. Первую ночь он провел на принайтованных, завернутых в шкуры тюках палубного груза с северных островов, любуясь весенними звездами над заливом и далекими желтоватыми огоньками далекого города за кормой; он засыпал, просыпался, и радость переполняла его. Перед рассветом начался отлив. Подняли якорь, и судно плавно вышло в открытое море меж Сторожевыми Утесами. Когда восходящее солнце окрасило пурпуром вершину горы за кормой, они подняли дополнительный верхний парус и взяли курс на юго-запад через Гонтийское море.
Легкий ветерок играл в парусах, когда они прошли меж островами Барниск и Торхевен, и на второй день вдали завиднелся остров Хавнор — Великий Остров, сердце всего огромного Архипелага. Три дня они плыли вдоль его зеленых берегов, но ни разу не причаливали, и прошло еще много лет, прежде чем Геду удалось впервые ступить на эту землю, увидеть белые башни столицы Хавнора — главнейшего порта и центрального города их мира.
Одну ночь они простояли на рейде в гавани Кембермаута, северного порта на острове Уэй, а следующую — вблизи маленького городка у самого выхода из залива Фелкуэй. Потом обогнули самый северный мыс острова О и вошли в узкие проливы Эбавнора. Здесь пришлось спустить паруса и взяться за весла; берега островов были совсем близко то с одной, то с другой стороны, и постоянно с «Тенью» обменивались приветствиями встречные суда, большие и маленькие, грузовые и торговые. Некоторые из этих судов прибыли из Дальних Пределов и везли странные товары, пробыв в плавании несколько лет; некоторые, напротив, перепархивали, словно воробьи, с одного острова на другой. Двигаясь по-прежнему к югу, «Тень» выбралась наконец из густонаселенных проливов Эбавнора, оставила далеко за кормой остров Хавнор, миновала живописные острова Арк и Илиен, чьи украшенные башнями города террасами спускались к морю, и навстречу дождю и все усиливающемуся ветру стала пробиваться через Внутреннее Море к острову Рок.
Ночью, поскольку ветер крепчал и стал почти штормовым, убрали паруса и мачту и весь следующий день шли на веслах. Длинное судно было устойчивым на волне, легко и изящно разрезая нарастающие валы, однако кормчему у длинного рулевого весла не было видно ничего, кроме сплошной стены дождя. Они шли на юг, ориентируясь лишь по компасу и совершенно не представляя себе, мимо каких земель в данный момент проплывают. Гед слышал, как матросы поговаривают о мелях к северу от Рока и об опасных Борильских Скалах к востоку от него; кое-кто вообще считал, что они уже давно отклонились от курса и вышли в Открытое Море, южнее острова Камери. А ветер все крепчал, и верхушки высоких волн под его порывами взлетали вверх пенистыми гривами, но судно упрямо держало курс на юг, по ветру. Гребцы все чаще сменяли друг друга, самые молодые садились за одно весло по двое; Гед греб с остальными на равных — он делал это с тех пор, как «Тень» покинула порт Гонта. Отдыхая от гребли, они вычерпывали воду, потому что волны постоянно захлестывали судно. Все трудились не покладая рук, пытаясь одолеть валы, в порывах ветра подобные курящимся вулканам, а дождь изо всех сил хлестал своими ледяными струями по спинам людей, и голос барабана, отбивающего ритм, доносился сквозь шум бури, словно глухие удары сердца.
Кто-то сменил Геда у весла, сказав, что его зовет шкипер. Дождь потоками стекал с капюшона капитанского плаща, но он продолжал невозмутимо стоять на своем мостике, как пузатый винный бочонок. Глядя на подошедшего Геда сверху вниз, шкипер спросил его:
— Можешь утихомирить этот ветер, парень?
— Нет, капитан.
— А в железе толк знаешь?
Шкипер имел в виду, не может ли Гед заставить стрелку компаса точно показать им путь к острову Рок, независимо от того, где в данный момент находится север. Это умение — одна из тайн морских волшебников; и снова Гед вынужден был сказать «нет».
— Что ж, — проревел, перекрывая шум бури, шкипер, — тогда придется тебе подыскать судно, которое отвезет тебя обратно на Рок из Хорта. Рок сейчас, должно быть, где-то к западу от нас, а развернуться при такой волне можно только с помощью волшебства. Так что придется идти к югу.
Геду не слишком-то все это пришлось по душе: он уже наслушался всяких историй о городе Хорте, в котором закон никому не писан и полно подозрительных кораблей, которые крадут людей и продают их в рабство где-то на островах Южного Предела. Снова сев к веслу со своим напарником, крепким пареньком с Андрада, Гед едва различил в шуме ветра рокот барабана и увидел, как жалостно мотается и мигает под порывами бури фонарь на корме — жалкие вспышки света на фоне сплошной темной стены дождя. Он неотрывно смотрел на запад, напряженно работая веслом, и вдруг, когда судно в очередной раз взлетело на гребень волны, на мгновение увидел меж облаков проблеск света над темной, словно дымящейся водой. Ему показалось, что это последний луч заката, вот только свет был не красный, закатный, а светлый и яркий.
Его напарник сам света увидеть не успел, зато заорал на все судно. Кормчий тоже стал всматриваться в даль и, когда Гед увидел свет снова, тоже заметил его, однако крикнул, что это всего лишь закатный луч. Тогда Гед попросил одного из парней, черпавших воду из трюма, подменить его на минутку и пошел на нос корабля, с трудом удерживаясь на ногах и каждую минуту рискуя быть смытым за борт. Пробравшись между скамьями для гребцов и грузами, загромождавшими корабль, Гед уцепился за резную фигуру на носу и крикнул шкиперу:
— Капитан! Держите на свет! Это остров Рок!
— Никакого света я не вижу! — проревел шкипер, но не успел закрыть рот, как увидел там, куда указывал Гед, ясный спокойный свет над беснующимся морем. Свет увидели и все остальные.
Вовсе не ради своего пассажира, а единственно желая спасти судно от шторма, шкипер тут же отдал команду взять курс на свет. Однако Геду сказал:
— Ты, парень, уверенно говоришь, словно морской волшебник, но вот тебе мое слово: если ты, да еще в такой шторм, заведешь нас не туда, я тебя собственными руками в море брошу, и плыви тогда к Року сам!
Теперь они вынуждены были выгребать против волны. Это было нелегко: волны, бьющие в борт судна, упорно сталкивали его к югу, качка была ужасной, вычерпывать воду приходилось не разгибая спины, гребцы внимательно следили, чтобы весла от качки не вылетели из уключин и не посшибали их за борт. Под мчащимися по небу грозовыми тучами было темно, как ночью, но теперь все постоянно видели мелькающий на западе свет, и этого было достаточно, чтобы держать курс, пусть медленно, но все же продвигаться к цели. Наконец ветер стал понемногу слабеть, а свет впереди, напротив, все ширился. Гребцы еще сильней налегли на весла, и судно вдруг вынырнуло из-под завесы дождя, буквально одним взмахом преодолев границу между бурей и покоем чистого неба, на котором догорал закат, отражаясь в тихой воде залива. За пеной прибоя поднимался высокий округлый зеленый холм, а у его подножия на берегу раскинулся город, где в небольшой гавани мирно покачивались суда.
Кормчий, опираясь на свое длинное весло, крикнул:
— Эй, капитан! Это настоящая земля или колдовство?
— Держись за нее покрепче да смотри не упусти, чурбан ты безмозглый! Гребите, гребите скорей, жалкие потомки рабов! Это же гавань Твила, а над ней ихний Холм — каждому дураку ясно! А ну, навались!
Под рокот барабана они, слаженно работая веслами, вошли в залив. Там вода была гладкой как зеркало и можно было услышать голоса людей наверху, в городе, звон колокола, а издалека доносились свист и шипение морской бури. Темные тучи клубились в небе на востоке, на севере и на юге километрах в полутора от острова. Но над самим Роком в ясном и тихом небе одна за другой появлялись первые звезды.
Глава 3
Школа Волшебников
Эту ночь Гед провел на судне, а рано поутру, простившись со своими первыми среди моряков друзьями, пошел в город; вслед ему летели самые добрые пожелания. Город Твил был невелик, его высокие дома теснились вдоль нескольких круто поднимающихся в гору узеньких улиц. Геду, однако, Твил показался настоящим большим городом, и, не зная дороги, он спросил первого встречного, где можно найти Ректора Школы Волшебников. Человек искоса посмотрел на него, но ответил не сразу. Потом сказал:
— Мудрым спрашивать ни к чему, а глупцам и расспросы не помогут.
С этими словами он удалился, а Гед продолжал подниматься по одной из улочек вверх, пока не вышел на площадь, с трех сторон окруженную обычными домами с остроконечными крышами, крытыми черепицей; с четвертой стороны там была стена какого-то большого строения, и первый ряд маленьких окошечек в ней располагался выше каминных труб всех остальных домов. Это была то ли какая-то крепость, то ли замок со стенами из мощных каменных глыб. На площади расположился небольшой рынок, между прилавками ходили люди, а Гед снова задал свой вопрос, но теперь уже какой-то старухе с корзиной мидий. Та ему ответила:
— Не всегда можно обнаружить Ректора Школы там, где он есть, но иногда встречаешься с ним, где его и быть-то не может.
И пошла себе дальше, зазывая покупателей.
В углу могучей стены строения виднелась маленькая дверка. Гед подошел и громко постучался. Старику, открывшему дверь, он сказал:
— У меня письмо от волшебника Огиона с острова Гонт, мне нужно найти Ректора здешней Школы, но никаких загадок и насмешек я больше слушать не желаю!
— Это здесь, — мягко ответил старик. — А я здешний Привратник. Входи, если сможешь.
Гед шагнул, и ему показалось, что он переступил порог, однако так и остался на площади перед дверью.
Он еще раз шагнул и снова оказался стоящим снаружи. Привратник с той стороны порога наблюдал за ним добрыми глазами.
Гед не столько растерялся, сколько рассердился: ему показалось, что шутки над ним продолжаются. Голосом и рукой он сотворил заклинание, открывающее двери, которому давным-давно научила его тетка; это, можно сказать, была жемчужина в известном ей наборе заклятий, и Гед владел им хорошо. Но здесь орудие из арсенала деревенской ведьмы не действовало: слишком могущественные силы не давали ему войти.
Потерпев поражение, Гед продолжал стоять возле двери. Потом взглянул на старика, который терпеливо ждал за порогом.
— Я не могу войти, — нехотя проговорил наконец Гед. — Может быть, ты поможешь мне?
Привратник ответил:
— Назови свое имя.
И снова Гед застыл в молчании, ибо человеку не подобает просто так произносить вслух свое подлинное имя — только в случае смертельной опасности.
— Меня зовут Гед, — громко сказал он. И перешагнул через порог открытой двери. И тут ему показалось, что, хотя площадь позади вся была залита солнечным светом, некая тень скользнула оттуда следом за ним.
А еще он увидел, обернувшись, что дверь, в которую он только что вошел, сделана вовсе не из дерева, как ему показалось, а из слоновой кости, причем без единого шва или трещинки: как он узнал позже, дверь была вырезана из зуба Великого Дракона. Она была великолепно отполирована, и сквозь нее слабо просвечивал снаружи солнечный свет; на ее внутренней стороне было вырезано Древо Жизни с тысячью листьев.
— Добро пожаловать, сынок, — сказал Привратник, закрывая за ним дверь, и, не говоря больше ни слова, провел его по бесконечным залам и коридорам во внутренний дворик, где-то в глубине гигантского строения. Над двориком сияло открытое небо, по краям дворик был выложен мраморными плитами, а на маленькой зеленой лужайке под юными деревцами, в солнечном свете взлетала ввысь струйка фонтана. Здесь Геду пришлось некоторое время подождать в одиночестве. Он стоял неподвижно, и сердце его неспокойно билось: он как бы ощущал чье-то невидимое присутствие, воздействие неких неведомых сил и все глубже осознавал, что дворец этот построен не только из могучих каменных глыб, но и скреплен волшебством, куда более прочным, чем камень. Гед находился сейчас в самом сердце этого Дома Мудрецов, хотя прямо над ним было открытое небо. Вдруг он почувствовал, что рядом с ним стоит какой-то человек: незнакомец, одетый в белое, наблюдал за ним сквозь падающие струи фонтана.
Когда глаза их встретились, в ветвях дерева громко пропела какая-то птица. И в эти мгновенья Гед понимал и язык этой птицы, и слова, которые шептала вода в фонтане, и значение меняющихся форм облаков в небесах; он знал, откуда прилетел и где уляжется ветерок, колышущий листву; ему даже показалось, что и сам он — всего лишь слово, которое обронил солнечный свет.
Миг этот пролетел, и Гед, как и мир вокруг него, стал прежним или почти прежним. Он сделал несколько шагов, преклонил колена пред Верховным Магом и протянул ему письмо, написанное Огионом.
Верховный Маг Неммерль, Хранитель острова Рок, был очень стар; говорили, что он старше всех в Земноморье. Голос его дрожал и немного напоминал птичий, во всем облике сквозила доброжелательность. Волосы, борода и одежда Неммерля — все было белым; казалось, медленное течение времени вымыло из его души и тела все темное и тяжелое и он стал похож на белый легкий кусок плавника, сотню лет носившийся по морским волнам.
— Глаза мои стары, — сказал он дрожащим своим голосом. — Прочти-ка мне это письмо, сынок.
Гед взял письмо и начал громко читать вслух. Оно было написано ардическими рунами, и в нем сообщалось немногое:
Лорд Неммерль! Посылаю вам того, кто станет величайшим из волшебников Гонта, если ветер у него будет попутный.
Письмо было подписано не подлинным именем Огиона, которого Гед пока что не знал, а его собственной руной, обозначавшей сомкнутые уста: Молчаливый.
— Добро пожаловать, коли тебя посылает к нам тот, кто держит на привязи землетрясения! Я всегда любил, когда молодой Огион приезжал сюда с Гонта. А теперь, сынок, расскажи мне о морях и чудесах, которые видел за время путешествия.
— Это действительно было чудесное путешествие, господин мой! Вот только вчера шторм разразился.
— Что за корабль привез тебя сюда?
— «Тень», торговое судно с Андрадских островов.
— Кто послал тебя сюда?
— Я приехал по своей воле.
Верховный Маг посмотрел на Геда, отвернулся и начал что-то приговаривать на непонятном языке себе под нос, словно дряхлый старец, погрузившийся в воспоминания об иных временах и землях. Но среди этого невнятного бормотанья Геду послышались те слова, что пропела тогда на дереве птица и прошептала вода в фонтане. Неммерль не ворожил и не произносил заклинаний, но некая сила в его голосе перевернула всю душу Геда, и он в растерянности ощутил, что как бы перенесся в таинственную бескрайнюю пустыню и стоит там один среди движущихся вокруг теней. И тем не менее он явственно сознавал, что одновременно находится посреди залитого солнцем дворика и слушает журчание воды в фонтане.
Большая черная птица подошла к ним по траве со стороны каменной террасы. Это был ворон с острова Осскил. Он почти касался края одежды Верховного Мага, остановившись с ним рядом и искоса поглядывая на Геда. Ворон был абсолютно черный, клюв как кинжал, а глаза как самоцветы. Он три раза стукнул клювом по белому посоху, на который опирался Неммерль, и старый волшебник перестал наконец бормотать и улыбнулся.
— Беги сынок, играй, — сказал он Геду, словно малому ребенку.
Гед еще раз преклонил колена, а когда поднялся, то Верховного Мага уже нигде не было. Только черный ворон стоял и смотрел на Геда, подняв клюв так, словно собирался еще раз клюнуть исчезнувший посох.
Потом он сказал на том языке, который, как полагал Гед, вполне мог быть языком острова Осскил.
— Терренон уссбук! — прокаркал ворон. — Терренон уссбук оррек! — И удалился столь же важно, как и пришел.
Гед повернулся, намереваясь покинуть дворик и размышляя, куда бы ему пойти, но тут из-под арки навстречу ему вышел высокий юноша и весьма церемонно приветствовал его, склонив перед ним голову.
— Меня зовут Джаспер, я сын Энвита, Лорда Эолга с острова Хавнор. Сегодня я в вашем полном распоряжении, готов показать Большой Дом и ответить на все вопросы, насколько смогу, разумеется. Как мне называть вас, господин мой?
Геду, жителю глухой горной деревушки, еще не бывавшему в компании сынков знатных и богатых людей, тут же показалось, что парень просто над ним издевается: все эти «в вашем полном распоряжении» и «господин мой»! Все эти поклоны и расшаркивания! Он коротко буркнул в ответ:
— Ястребом меня называют.
Незнакомец выждал какое-то время, словно полагал, что последуют более вежливые пояснения, однако, не получив таковых, выпрямился и чуть отвернулся. Он был двумя-тремя годами старше Геда, очень высокий, движения и осанка исполнены строгого изящества. Ишь, словно на танцах, воображала, подумал Гед. Джаспер, одетый в серый плащ с отброшенным на спину капюшоном, прежде всего повел новичка в гардеробную, где тот, являясь уже учеником Школы, смог бы подобрать себе такой же плащ по росту и любую другую одежду. Гед выбрал темно-серый плащ, надел его, и Джаспер сказал:
— Ну вот, теперь ты один из нас.
У Джаспера была привычка слегка улыбаться, обращаясь к другим, и Геду казалось, что за каждым его вежливым словом кроется насмешка. А потому он мрачно возразил:
— Разве одежда делает волшебника волшебником?
— Нет, — ответил спокойно Джаспер. — Зато я слышал, что мужчину делает мужчиной умение вести себя. Ну а теперь куда?
— Куда хочешь. Я этого дома не знаю.
Джаспер провел его по коридорам, показал открытые внутренние дворики и обширные закрытые залы Большого Дома, библиотеку — комнату с тысячью полок, где хранились полные всякой премудрости книги и инкунабулы с рунической письменностью, показал Зал Большого Камина, где вся Школа отмечает обычно праздники; потом отвел наверх, в башни и мансарды, где размещались маленькие комнатки-спальни для учеников и Учителей. Комната Геда была в Южной башне, из ее окна виднелись островерхие крыши Твила, а за ними море. Как и во всех остальных комнатах, мебели в ней не было никакой, если не считать набитого соломой тюфяка в углу.
— Мы здесь живем очень просто, — сказал Джаспер. — Но, я надеюсь, ты возражать не станешь?
— Я к такому привык. — И, стараясь показать, что он не менее вежлив, чем этот заносчивый парень, Гед прибавил:
— Но мне кажется, самому тебе сначала было трудновато.
Джаспер посмотрел на него, и выразительный взгляд его сказал куда больше слов: «Что, собственно, ты можешь знать о том, к чему я, княжеский сын из Хавнора, привык?» Однако вслух он всего лишь предложил:
— Ну, теперь пойдем дальше, вот сюда.
Внизу ударили в гонг, и они спустились в трапезную к обеду. За общим Длинным Столом они сидели вместе с сотней остальных мальчиков и юношей. Каждый сам приносил себе еду, обмениваясь шутками с поварами через кухонные окошки, возле которых на тарелки нагружали неимоверное количество съестного, испускавшего аппетитный парок. Каждый садился за Длинный Стол где хотел.
— Говорят, — пояснил Джаспер Геду, — что не имеет значения, сколько человек одновременно сядет за этот стол: места всегда хватит для всех.
И точно, места хватало как для многочисленных стаек младших учеников, с веселой болтовней поглощавших огромные порции еды, так и для старших, в серых плащах, застегнутых у горла серебряными пряжками; старшие сидели значительно тише, парами или поодиночке, с мрачными сосредоточенными лицами, словно обремененные тяжкими думами и заботами. Джаспер и Гед сели рядом с плотно сбитым парнем по имени Ветч, который в основном отмалчивался и с энтузиазмом поглощал яства. Он говорил с акцентом, свойственным жителям островов Восточного Предела, и был очень темнокожим, почти черно-коричневым, а не медно-смуглым, как Гед и Джаспер, а также большинство жителей Архипелага. Ветч был прост в обращении, и манеры его не отличались изысканностью. Покончив с обедом, он что-то проворчал по поводу его качества и, повернувшись к Геду, сказал:
— По крайней мере, это не иллюзия, которых здесь слишком много. Годится, чтобы брюхо набить.
Гед не совсем его понял, но почувствовал к новому знакомцу некоторую симпатию и был доволен, когда после обеда парень присоединился к ним.
Втроем они спустились в город, чтобы Гед хоть немного освоился. Улиц в Твиле было маловато, да и те недлинные, и юноши свернули и стали бродить прямо между островерхими домами, петляя так, что заблудиться ничего не стоило. Странный это был город, и странные люди жили в нем — рыбаки, рабочие, ремесленники, как и везде, но настолько привыкшие к колдовству, которое постоянно было в ходу на Острове Мудрецов, что и сами казались наполовину колдунами. Они разговаривали (как уже успел убедиться Гед) загадками, и ни один из них и глазом не моргнул бы, если бы у него перед носом юноша превратился, например, в рыбу или полетел по воздуху, словно птица, какой-нибудь дом; они прекрасно знали, что это всего лишь проделки учеников Школы, и продолжали тачать сапоги или разделывать очередную баранью тушу.
Выйдя через дверь в задней стене Школы, трое юношей поднялись по склону Холма, сделали круг по садам и по деревянному мосту перебрались на другой берег чистой речки Твилберн. Потом, не сговариваясь, побрели по лесам и лугам на север. Тропа, петляя, вела их вверх. Они проходили по дубовым рощам, где на земле лежали густые тени: несмотря на то что день был очень ясный, солнце сюда не проникало. Одну из этих рощ, слева от тропы, Гед все не мог как следует рассмотреть. Она неизменно оставалась на некотором отдалении, хотя все казалось, что тропинка вот-вот нырнет туда. Гед даже не смог разобрать, что за деревья в этой роще. Ветч, поймав его недоуменный взгляд, мягко пояснил:
— Это Имманентная Роща. Мы туда пока войти не можем…
На жарких, залитых солнцем пастбищах цвели желтые цветы.
— Это горицвет, — сказал Джаспер. — Растет там, где ветер уронил золу от сожженных селений Илиена, когда Эррет-Акбе защищал Внутренние Острова от Повелителя Огня.
Он сорвал подсохшее соцветие, подул на него, и золотистые семена легко отделились и разлетелись во все стороны, сверкая, как искры, в лучах солнца.
Тропа по-прежнему шла вверх, огибая основание зеленого Холма правильной округлой формы, поросшего одной лишь травой, того самого, который Гед увидел с палубы корабля, когда «Тень» вплывала в зачарованные тихие воды залива Рок. Здесь, на склоне Холма, Джаспер остановился.
— Дома, в Хавноре, я много слышал о гонтских колдунах, которые якобы славятся своим мастерством, и мне давно уже хотелось узнать, на самом ли деле они такие замечательные мастера. Вот теперь среди нас есть настоящий гонтиец и стоим мы на волшебном Холме Рок, чьи корни уходят глубоко, к самому центру земли. Здесь обретает силу любое заклятье. Покажи нам что-нибудь, Ястребок. Как вы там делаете свои фокусы?
Гед, смущенный и застигнутый врасплох, молчал.
— Да не торопись ты, Джаспер, — сразу попытался вмешаться Ветч. — Пусть немного пообвыкнет.
— Он уже обладает либо мастерством, либо врожденной магической силой, иначе Привратник не впустил бы его. Почему бы ему не изобразить что-нибудь прямо сейчас, а не потом? А, Ястребок?
— У меня есть и мастерство, и сила, — сказал Гед. — Но объясни, чего именно хочешь ты от меня.
— Иллюзий, конечно, фокусов, миражей. Вот смотри!
Подняв палец, Джаспер произнес несколько странных слов, и там, куда он указал пальцем, среди зеленой травы заблестела тонкая струйка воды, потом стала шире, превратилась в быстрый ручей, который ринулся по склону вниз. Гед опустил в воду руку — рука стала мокрой; он выпил несколько глотков — вода была холодной. И все же ничьей жажды вода эта не утолила бы: то была всего лишь иллюзия. Еще одним словом Джаспер остановил воду, и травы под солнцем тут же высохли.
— Теперь твоя очередь, Ветч, — сказал он, как всегда холодно улыбаясь.
Ветч угрюмо поскреб в затылке, но все же взял в руки немного земли и начал над ней напевать что-то невнятное, разминая ее своими пальцами, придавая ей какую-то форму, сжимая ее и поглаживая; и вдруг появилось маленькое существо, похожее на шмеля или мохнатую муху, которое с гудением облетело Холм, вернулось обратно и растаяло в воздухе.
Гед, глядя на это, совсем упал духом. А что умеет он, кроме самого примитивного деревенского колдовства, вроде заклинаний, сзывающих домой коз, да изготовления зелья от бородавок? Ну еще какие-то слова, передвигающие с места на место тяжелые мешки или заделывающие треснувшие горшки.
— Я таких фокусов, как вы, не делаю, — сказал он.
Для Ветча этих слов было вполне достаточно, и он хотел было уже идти дальше, но Джаспер вскинулся:
— Это почему же?
— Колдовство — не игра. Мы, гонтийцы, не развлекаемся колдовством — ни для удовольствия, ни для похвальбы, — высокомерно ответил Гед.
— А для чего же вы им пользуетесь? — продолжал мучить его Джаспер. — Для денег?
— Нет!.. — Но придумать в ответ что-то еще и скрыть собственное незнание, спасая гордость, он не сумел. Джаспер засмеялся, впрочем довольно беззлобно, и повел их дальше вокруг Холма. Гед тащился сзади, надувшись и вконец расстроившись: он понимал, что вел себя как последний дурак и винил в этом Джаспера.
Ночью, когда он, закутавшись в плащ, улегся на тюфяке в своей холодной каменной келье, среди мрачного безмолвия Большого Дома, мысли об этом загадочном месте, о бесконечных заклинаниях, о вечном колдовстве, творившемся здесь, обволокли его тяжелым облаком. Вокруг царила непроницаемая тьма, и душу Геда объял ужас. Теперь он мечтал о том, чтобы в данную минуту оказаться где угодно, только не на острове Рок. Но тут дверь его комнаты отворилась и вошел Ветч, над головой которого, покачиваясь, плыл маленький голубоватый шарик — волшебный огонек, освещавший ему путь вместо свечи. Ветч спросил, нельзя ли ему немножко поболтать с Гедом, и, получив разрешение, стал расспрашивать того о Гонте, а потом с большим воодушевлением рассказал о своих родных островах Восточного Предела. Например, о том, как тихим вечером над морем с островка на островок долетает дым от деревенских очагов, так близко эти островки находятся друг к другу. Назывались они ужасно смешно: Корп, Копп и Холп, Венвей и Вемиш, Иффиш, Коппиш и Снег. Когда Ветч нарисовал пальцем на каменных плитах пола очертания этих островов, то линии стали слабо светиться, словно серебряные, а потом потухли. Ветч учился в Школе уже три года и скоро должен был получить звание колдуна; для него вся эта магическая чепуха, вроде светящихся линий, была столь же привычна и свойственна, как птице — умение летать. Однако самым большим его талантом, тем мастерством, которому он не смог бы научиться ни у кого, была удивительная доброта. В ту ночь он от всей души предложил Геду свою вечную дружбу, верную и честную, на что Гед, разумеется, не мог не ответить взаимностью.
И в то же время Ветч дружил также с Джаспером, который в первый же день оставил Геда в дураках. Гед этого забывать не собирался, и, похоже, Джаспер тоже — он по-прежнему разговаривал с Гедом вежливо и с той же насмешливой улыбкой. А тот не мог допустить, чтобы гордость его была задета, и поклялся доказать своему сопернику и всем остальным, среди которых Джаспер был заводилой, сколь велика на самом деле его, Геда, сила — когда-нибудь, при случае. Ведь ни один из команды Джаспера, каким бы изощренным ни было их мастерство в создании иллюзий, не смог пока спасти целую деревню силой собственного волшебства. И только о нем, о Геде, написал Огион, что он будет когда-нибудь величайшим волшебником Гонта.
Питая этими надеждами свою гордость, Гед все силы отдавал работе: урокам и ремеслам, изучению фольклора и истории — тому мастерству, которому учили его одетые в серые плащи Мастера с острова Рок, метко прозванные Великой Девяткой.
Каждый день несколько часов он проводил на уроках Мастера Регента: изучал героические песни о великих Деяниях Древних, баллады о мудрости предков, начиная с древнейшей — «Песни о создании Эа». Потом вместе с дюжиной других учеников практиковался у Мастера Ветродуя в искусстве управления погодой и ветрами. Все светлые весенние дни они проводили в заливе, на легких лодках, упражняясь в заклинании волн, усмирении штормовых валов и создании волшебного ветра. Мастерство заклинателя погоды очень сложное и запутанное, и частенько Гед чувствовал, что в голове у него полная неразбериха; лодчонка его вдруг начинала плыть задом наперед или сталкивалась с чьей-то еще лодкой, причем избежать столкновения оказывалось невозможно, хотя вокруг был совершенно пустой залив, где вполне можно было не только разминуться, но и потерять друг друга из вида; или вдруг все трое пассажиров его лодки вынуждены были заняться плаванием, потому что сама лодка неожиданно исчезала под возникшей неизвестно откуда огромной волной. В иные дни бывали куда более спокойные путешествия по берегу с Мастером Травником, который учил их тому, ЧТО, КАК и ДЛЯ ЧЕГО растет на земле; а Мастер Ловкая Рука учил их показывать фокусы, создавать иллюзии и еще всяким несложным чудесам, самым простым в искусстве Превращений.
По всем этим предметам Гед успевал отлично и за один только месяц обогнал тех, кто уже целый год учился на острове Рок. Особенно легко давались ему всякие фокусы и иллюзии, казалось, что он умеет их делать от рожденья, лишь нужно было ему об этом напомнить. Старый Мастер Ловкая Рука был человеком мягким и добросердечным, он не уставал радоваться изяществу и красоте того искусства, которым дарил своих учеников. Гед вскоре совсем перестал его стесняться и спрашивал то об одном заклинании, то о другом, и всегда Мастер улыбался и показывал, как сделать то, чего хотелось Геду. Как-то раз, задумав наконец пристыдить Джаспера, Гед спросил, когда они с Мастером были одни в Комнате Иллюзий:
— Учитель, все эти чудеса очень похожи; зная одно, ты уже знаешь и все остальные. Кроме того, едва лишь кончается действие заклятья, рассеивается и иллюзия. Вот я сейчас превращу этот камешек в бриллиант, — что он и сделал, сказав нужное слово и должным образом махнув рукой, — а как мне поступить, чтобы бриллиант продолжал оставаться бриллиантом? Как навсегда наложить Заклятье Превращения, чтобы оно не кончилось? Как закрепить его?
Мастер Ловкая Рука посмотрел на драгоценный камень, блестевший и переливавшийся на ладони Геда. Потом прошептал одно лишь слово —
ток, — и на ладони оказался обычный серый камешек, никакой не бриллиант, а самый простой осколок горной породы. Учитель взял его и переложил на собственную ладонь.
— Это гранит;
ток — его подлинное имя, — сказал он, взглянув своими кроткими глазами на Геда. — Это кусочек того, из чего сделан сам остров Рок, маленькая частица суши, на которой живут люди.
Ток — это его сущность. И сам он — незаменимая частица мироздания. Путем превращений или иллюзий ты можешь заставить его выглядеть бриллиантом, или цветком, или мухой, или человеческим глазом, или языком пламени… — Он называл эти предметы, и камешек моментально превращался в каждый из них, едва успевало отзвучать сказанное слово, и тут же снова возвращался к своей исходной форме. — Все это только иллюзии. Иллюзии обманывают чувства; порой благодаря им человек видит, слышит и чувствует, что предмет выглядит иначе. Но суть предмета иллюзии изменить не способны. Чтобы превратить этот камешек в бриллиант, нужно изменить его подлинное имя. А чтобы сделать это, сынок, даже с самой малой частичкой мирозданья, нужно изменить весь мир. Сделать это можно. Это правда. Мастер Метаморфоз владеет этим искусством, и ты этому выучишься в свое время. Но никогда не совершай Превращений — ни с камешком, ни даже с песчинкой, — пока не поймешь, какие добрые и злые последствия это вызовет. Мир наш пребывает в гармонии, в Великом Равновесии. Сила волшебника, способного вызывать души мертвых и совершать Превращения, может нарушить миропорядок. Она очень опасна, эта сила. Опаснее всех других. Сила эта дается лишь вслед за Знанием, а используется лишь при необходимости. Зажженная свеча непременно порождает тени…
Он снова посмотрел на камешек.
— Гранит ведь тоже вещь хорошая, знаешь ли, — сказал он уже не столь мрачным тоном. — Если бы острова Земноморья были сделаны из бриллиантов, туго бы нам пришлось. Радуйся иллюзиям, сынок, но пусть скалы остаются скалами.
Он улыбнулся, но Гед был разочарован. Каждый раз, как он пытался выведать у любого из Магов тайну посерьезнее, те сразу начинали говорить, почти как Огион: о Равновесии, и опасности, и еще об этой Тьме… Ведь нет сомнений, что настоящий волшебник, который давно наигрался со всякими детскими забавами вроде иллюзий и перешел к настоящему искусству — к Заклинаниям душ и Превращениям, — вполне способен делать то, что ему нравится, поддерживая в мире это самое Равновесие так, как ему хочется, и отгонять прочь всякую тьму своим собственным волшебным светом.
В коридоре Гед встретил Джаспера. С тех пор как Геда стали по всей Школе хвалить за успехи, Джаспер разговаривал с ним, пожалуй, несколько дружелюбнее, однако еще более насмешливо.
— Что-то ты, Ястребок, больно мрачен, — сказал он на этот раз. — Что, чудеса-фокусы не удаются?
Как всегда, стремясь не уступить сопернику ни в чем, Гед ответил, вроде бы не замечая насмешки:
— Меня тошнит от фокусов и от иллюзий тоже. Все это годится лишь для того, чтобы развлекать лордов, изнывающих от скуки в своих замках и поместьях. Единственное настоящее волшебство, которому меня пока научили на острове Рок, это зажигать волшебные огни да немного управлять погодой. Все остальное — глупости.
— Даже глупости опасны — в руках глупца, разумеется, — сказал Джаспер.
Гед вздрогнул, словно ему дали пощечину, и угрожающе шагнул в сторону Джаспера, но тот только улыбнулся с самым невинным видом, как бы показывая, что и намерения не имел кого-либо оскорбить, как всегда, грациозно поклонился и ушел.
Гед так и остался стоять, и сердце его горело ненавистью; про себя он поклялся непременно превзойти Джаспера и не просто в искусстве создания иллюзий, а в настоящем поединке. Он больше не позволит, чтобы этот надменный княжеский сынок смотрел на него свысока.
Гед и не пытался задуматься, почему, собственно, Джаспер непременно должен так уж сильно ненавидеть его самого. Он знал только причину собственной ненависти к Джасперу. Остальные ученики весьма быстро поняли, что с Гедом им не сравниться ни в физических упражнениях, ни в прилежании, и говорили о нем — кто с восхищением, кто с завистью:
— Он ведь прирожденный волшебник, разве за ним угонишься?
Один лишь Джаспер никогда не хвалил Геда, но никогда его и не избегал; просто посматривал на него свысока и всегда чуть улыбался. А потому один лишь Джаспер был ему настоящим соперником; и его совершенно необходимо было выставить на всеобщий позор.
Он не замечал или не желал замечать, как в этом соперничестве, которое он холил и лелеял как проявление собственной гордости, растет нечто очень опасное, родственное той самой Тьме, о которой мягко предупредил его тогда Мастер Ловкая Рука.
Когда Гед не бывал охвачен одной лишь слепой яростью, то прекрасно сознавал, что на самом деле он никакой не соперник Джасперу, как и любому другому из старших учеников, и тогда он снова с прежним прилежанием и рвением брался за работу.
К концу лета, правда, занятия несколько утратили интенсивность, стало оставаться больше времени для досуга. Ученики развлекались гонками на заколдованных шлюпках в заливе, устраивали состязания иллюзионистов во внутренних двориках Большого Дома, а долгими вечерами в рощах начиналась немыслимая игра в прятки, когда невидимы были и те, кто спрятался, и те, кто искал, так что среди деревьев слышались лишь смех и чьи-то голоса да мелькали порой, словно гоняясь друг за другом, неяркие
волшебные огоньки.
С наступлением осени ученики Школы с новыми силами вернулись к работе, и каждый занялся чем-то для него новым. Так что первые несколько месяцев пребывания Геда на острове Рок пролетели удивительно быстро, наполненные бурными эмоциями и всяческими чудесами.
Зимой дело обстояло по-другому. Его вместе с еще семью мальчиками отправили на дальний конец острова, на самый крайний северный его мыс, где возвышалась Одинокая Башня. Там отшельником жил Мастер Ономатет, которого звали еще очень странным именем, не имевшим значения ни на одном известном людям языке, — Курремкармеррук. Вблизи от Башни на много километров в округе не было ни единой мастерской или фермы. Мрачно высилась она над северными утесами, мрачные серые тучи плыли и плыли над зимним морем, и конца не было спискам, рядам и кругам имен, которые должны были запомнить восемь учеников Мастера Ономатета. Курремкармеррук восседал среди них на высоком стуле в самой верхней комнате Башни и писал столбцы тех имен, которые необходимо было выучить до полуночи, когда волшебные чернила вновь исчезали, не оставляя на чистом листе пергамента ни следа. В комнате вечно царил полумрак, было очень холодно и очень тихо, слышался лишь скрип пера Мастера да тяжкие вздохи учеников, которые до полуночи торопились запомнить название каждого мыса, каждой деревушки, каждой бухточки, узкого пролива, фиорда, канала, гавани, мели, рифа и каждой скалы где-нибудь близ берегов Лоссоу или другого небольшого островка в Пельнийском море. Если кто-то из учеников жаловался, Учитель мог и ничего не сказать, а просто удлинить список на сегодня или же мог, например, заявить: «Тот, кто хочет повелевать морями, обязан знать подлинное имя каждой капельки воды в них».
Гед порой тоже вздыхал, но не жаловался. Он понимал, что в этой пыльной и, казалось бы, бессмысленной куче слов, которые требуется запомнить, скрываются подлинные имена всех людей, предметов и мест на земле, то самое могущество Истинной Речи, которого он так жаждал; и знания эти лежали, подобно кладу, на самом дне сухого колодца. Магия — это и есть точное знание подлинного имени предмета. Примерно так сказал им Курремкармеррук в их первый вечер в Башне и больше никогда не повторял этого, но Гед его слов не забыл.
— Многие из могущественных магов, — сказал Мастер Ономатет, — потратили всю свою жизнь, чтобы отыскать имя всего лишь одной-единственной вещи, одно-единственное скрытое слово Истинной Речи. И все же списки имен еще не закончены. И никогда не будут закончены — до конца света. Слушайте и сами поймете, почему. В нашем мире под солнцем и в другом, где солнца нет, многое не имеет ничего общего ни с людьми, ни с человеческой речью и существуют силы куда могущественнее наших. Но настоящими волшебниками могут считаться лишь те, кто помимо ардического языка Земноморья знает Истинную Речь, от которой язык этот произошел.
Истинной Речью и сейчас пользуются драконы, ее слова звучали в устах Сегоя, создавшего острова Земноморья, они лежат в основе нашей магии — священных песен, заклинаний и чар. Слова Истинной Речи — в искаженном, порой до неузнаваемости, виде — скрываются среди слов ардического языка. Мы называем пену морскую словом
сукиен, оно состоит из двух корней Истинной Речи —
сук — «перо» и
иниен — «море». Перья морские — вот что такое пена. Но повелевать пеной морской нельзя, называя ее
сукиен; для этого нужно непременно знать ее настоящее имя, которое в Истинной Речи звучит как
Эсса. Любой колдунье известно хотя бы несколько таких слов Истинной Речи, а уж настоящий маг знает их довольно много. Но на самом-то деле их куда больше, и смысл некоторых затерялся в веках, некоторые всегда были тайной, многие же известны лишь драконам и Древним Силам Земли, кое-какие неведомы никому; и ни один человек не может узнать их все. Ибо Истинная Речь не имеет пределов.
В этом все и дело. Ну хорошо, допустим, что море вообще называется красивым словом
иниен. Но для того, что мы называем Внутренним Морем, в Истинной Речи есть свое слово. Поскольку ничто не может обладать двумя подлинными именами, то, стало быть, слово
иниен может означать лишь «все море, за исключением Внутреннего». И, конечно же, это вовсе не настоящее его значение, ибо существует еще бесчисленное множество морей, заливов и проливов, каждый из которых имеет собственное имя. Поэтому если у какого-нибудь мага, морского волшебника, достанет спеси пытаться командовать бурей или штилем на всем пространстве океана, то он должен включить в свое заклятие не одно слово
иниен, но все слова Истинной Речи, служащие именами каждой полоске воды у берегов бесчисленных островов Архипелага и Пределов, каждой капле в тех морях, где кончаются все известные магам имена. Таким образом, то, что дает нам волшебную власть над миром, ее же и ограничивает. Во власти мага находится лишь то, что непосредственно его окружает, то, что он может назвать точным и полным именем Истинной Речи. И это хорошо. Если бы это было не так, козни злых волшебников или безрассудство добрых и мудрых уже давным-давно привели бы к попытке тех или других изменить то, что изменить нельзя, и тогда неизбежно нарушился бы закон Мирового Равновесия. Море, забыв свои границы, обрушилось бы на наши острова, где нам и так постоянно угрожает опасность, и древняя тишина океана поглотила бы все людские голоса и все подлинные имена безвозвратно.
Гед много думал над этими словами, и они глубоко запали ему в душу. Но даже столь важные занятия не сделали этот долгий год, проведенный в Одинокой Башне, более легким, а погоду менее дождливой; правда, в конце года Курремкармеррук сказал Геду: «Ты начал хорошо!»
Но больше не прибавил ни слова. Волшебники говорят только правду, и правдой было то, что все знания в области Истинной Речи, которые тяжким трудом приобрел Гед в течение этого года, — лишь начало того, чему он должен отныне посвятить всю свою жизнь. Его отпустили из Одинокой Башни раньше остальных, ибо он преуспел в изучении курса значительно быстрее, но это была единственная награда ему за усердие.
В начале зимы он пешком отправился на юг острова в полном одиночестве и по пустынным тропам, пролегавшим в стороне от селений. Если ночью шел дождь, он не произносил ни единого заклинания, чтобы отвести непогоду, потому что этим здесь, на острове Рок, ведал Мастер Ветродуй, и шутить с ним не стоило. Как-то раз Гед спрятался от дождя под большим хвойным деревом; он улегся, завернувшись в плащ, и стал вспоминать своего старого Учителя Огиона, который, наверно, сейчас еще не вернулся из очередного осеннего похода по горам Гонта и тоже ночует под открытым небом, под голыми ветвями деревьев, сквозь которые падает холодный дождь, стеной стоящий вокруг спящего на земле волшебника. Воспоминания эти вызвали у Геда улыбку, он давно заметил, что мысли об Учителе всегда приносят ему душевный покой. С миром в душе он и уснул, а вокруг него в холодной тьме бормотал дождь. Проснувшись на рассвете, Гед поднял голову и увидел, что дождь прекратился и что в складках его плаща укрылся и спит маленький зверек. Гед очень удивился: это был отак, которого человеку увидеть очень трудно.
Отаки водятся только на четырех южных островах Архипелага — на Роке, Энсмере, Поди и Уотхорте. Это зверьки небольшие, с блестящей коричневой или полосатой шерсткой и крупными яркими глазами. Зубы у отаков крепкие и острые, а нрав довольно свирепый; приручить их почти невозможно. Они молчаливы и не издают обычно ни характерного свиста, ни крика; порой кажется, что они вообще лишены голоса. Гед погладил спящего отака, и тот проснулся, зевнул, показав маленький коричневый язычок и белые зубы, но не испугался.
— Отак, — сказал ему Гед, а потом, припомнив те тысячи слов Истинной Речи, что принадлежат миру зверей и которые он выучил в Одинокой Башне, назвал зверька его подлинным именем. —
Хёг! — и спросил: — Пойдешь со мной? — Отак уселся на его раскрытой ладони и стал умываться.
Гед пристроил зверька к себе на плечо, в складки капюшона, и двинулся в путь. Так, пассажиром у него на плече, отак и ехал дальше. Иногда он в течение дня соскакивал на землю и удирал в лес, но всегда возвращался обратно, а однажды даже принес пойманную им лесную мышь. Гед засмеялся и сказал, чтобы отак сам ел свою добычу, потому что им нужно торопиться: сегодня ночью должен состояться праздник Солнцеворота. И вот в дождливых сумерках Гед обогнул Холм Рок и увидел сквозь пелену дождя, что над крышей Большого Дома играют и кружат яркие волшебные огоньки, и вскоре его радостно встречали друзья и Учителя в залитом светом зале, где в каминах горел огонь.
Геду показалось, что он вернулся домой — ведь настоящего дома, куда он мог бы вернуться, у него не было. Он с радостью вглядывался в знакомые лица, но весь засиял, когда навстречу ему вышел Ветч с широкой улыбкой на темнокожем лице. Гед за год соскучился по другу гораздо больше, чем ему казалось. Этой осенью Ветч был посвящен в колдуны и больше уже не считался учеником, но это ничуть не смутило обоих юношей, они сразу заговорили друг с другом, и Геду показалось, что в эти первые часы их встречи он рассказал Ветчу больше, чем кому-либо за целый год, проведенный в Одинокой Башне.
Отак по-прежнему сидел у него на плече, удобно устроившись в складках капюшона, и не спрятался даже тогда, когда все уселись за Длинный Стол, накрытый по случаю праздника в Каминном зале. Ветч подивился крошечному созданию и даже протянул было руку, чтобы его погладить, но отак в ответ только злобно щелкнул своими острыми зубами. Ветч засмеялся:
— Знаешь, Ястребок, тот, к кому благоволят дикие звери, удостоится и беседы с Древними Силами Земли; камни и ручьи заговорят с ним человеческими голосами.
— Известно, что волшебники с Гонта часто приручают диких животных, похожих на себя, — сказал Джаспер, который сидел по другую руку от Ветча. — У нашего Лорда Неммерля есть ворон, а в героических песнях говорится, что Красный Маг с острова Арк водил повсюду на золотой цепочке дикого кабана. Но никогда я не слышал, чтобы кто-то из волшебников носил в капюшоне собственного плаща крысу!
При этих словах все засмеялись, и Гед засмеялся вместе со всеми. То была ночь веселья, и ему приятно было в компании друзей ощущать тепло и радость этого праздничного вечера. И все-таки шутка Джаспера, как и всегда, заставила его скрипнуть зубами.
В те дни в Школе гостил король острова О, сам весьма известный колдун. Он был когда-то учеником Верховного Мага Неммерля и приезжал порой на Рок, чтобы принять участие в зимнем празднике Солнцеворота или в Долгом Танце — летом. С ним была его жена, юная и прекрасная, со свежим медно-смуглым лицом; на ее черных волосах поблескивала украшенная опалами корона. Редко случалось, чтобы женщине было позволено сидеть вот так в зале Большого Дома, и некоторые из старых Учителей посматривали на нее косо, неодобрительно. Зато молодежь глаз оторвать от нее не могла.
— Для такой, — сказал Ветч Геду, — я бы уж расстарался, самые лучшие чары применил… — Он вздохнул и засмеялся.
— Она всего лишь женщина, — ответил Гед.
— Принцесса Эльфарран тоже была всего лишь женщиной, — возразил Ветч, — но ради нее был опустошен весь Энлад, ради нее погиб великий герой и Великий Маг из Хавнора, а остров Солеа скрылся в глубинах морских.
— Старые сказки, — сказал Гед. Но тоже начал посматривать на королеву острова О, пытаясь понять, встречается ли в действительности у простых смертных такая красота, как о том говорится в старинных легендах.
Мастер Регент исполнил «Подвиг юного короля», и потом все вместе они спели веселую Зимнюю песню. Потом, во время небольшой паузы, как раз перед тем, как всем подняться из-за стола, Джаспер подошел к камину, где сидела королева О, и заговорил с ней. Джаспер выглядел уже вполне взрослым молодым человеком, высоким и красивым; его плащ у горла был перехвачен серебряной пряжкой — символом того, что он, как и Ветч, уже посвящен в колдуны. Дама улыбнулась его словам, и опалы на ее черных волосах засверкали еще ярче. Тогда с разрешения Учителей, кивком головы выразивших свое согласие, Джаспер сотворил для нее настоящее чудо. Из каменного пола выросло белое дерево. Ветви его коснулись потолочных балок зала, и на каждой веточке, на каждом сучке повисло по золотому яблочку, сверкавшему, как солнце, — ведь это было само Древо Жизни. Внезапно с ветвей дерева слетела совершенно белая птица с хвостом, как снежная метель, и золотые яблоки, померкнув, превратились в семена, подобные хрустальным каплям. Капли с тихим звоном, напоминающим стук дождя по стеклу, падали вниз, и зал сразу же наполнился сладостным ароматом, а дерево закачалось, на нем распустились листья, похожие на розовое пламя, и белые цветы, похожие на звезды. И тут иллюзия пропала. Королева острова О вскрикнула от удовольствия и склонила свою убранную сверкающими каменьями головку к молодому колдуну, чтобы воздать ему хвалу за тонкое мастерство.
— Поедем с нами, ты будешь с нами жить на О-токне, можно ли ему поехать, мой лорд? — спросила она скороговоркой, как ребенок, одновременно у Джаспера и своего сурового супруга.
Однако Джаспер ответил быстрее:
— Когда я выучусь мастерству настолько, что стану достоин моих здешних Учителей — и твоей похвалы, о моя королева! — тогда я охотно приеду и вечно буду служить тебе.
В тот вечер Джаспер доставил удовольствие всем в зале, кроме Геда. Гед вместе с остальными хвалил Джаспера, но в душе говорил себе: «Я бы мог сделать лучше!», испытывая горькую зависть, отравившую ему весь остальной праздник.
Глава 4
Тень на свободе
В ту весну Гед редко видел Ветча и Джаспера: они уже стали колдунами и теперь проходили курс высшей магии под руководством Мастера Путеводителя в таинственной недоступности Имманентной Рощи. Гед оставался в Большом Доме и готовился стать колдуном, то есть волшебником, не имеющим волшебного посоха; он учился заклинать ветер и управлять погодой, отыскивать потерянные предметы и запутывать следы, а также — тонкому искусству составления заклинаний и их толкования; он изучал различные сказания и песни, медицину и знахарство, познавал секреты трав и деревьев. Оставшись ночью один в своей келье, он зажигал волшебный фонарик над книгой и разбирал Старшие Руны и Руны Эа, которыми пользуются при составлении Великих Заклятий. Знания так легко давались ему, что среди студентов пошли слухи: дескать, Мастера давно уже считают этого гонтийца самым способным из тех, кто когда-либо учился в Школе. Но еще больше слухов ходило про отака, которого считали духом, специально сменившим личину для того, чтобы нашептывать слова Мудрости прямо в ухо Геду; вспоминали и о том, что ворон Верховного Мага Неммерля некогда приветствовал только что прибывшего в Школу Геда как «грядущего Верховного Мага». Но верили ученики этим сплетням или нет, любили они Геда или недолюбливали, большая их часть все-таки восхищалась им и признавала своим вожаком, особенно когда — правда, крайне редко — на него находило безудержное веселье и он становился заводилой во всех забавах, что длились без конца весенними вечерами. Зато в остальное время он был вечно занят, держался гордо, ровно, независимо и слегка отчужденно. Среди учеников, не считая отсутствующего в данный момент Ветча, друзей у Геда не было, да он никогда и не думал, что ему кто-то нужен.
Ему было пятнадцать — слишком мало, чтобы уже овладеть Высшими Искусствами и стать настоящим магом, то есть получить волшебный посох. Однако Гед так быстро, например, усваивал все тонкости искусства иллюзий, что Мастер Метаморфоз, сам человек еще не старый, начал заниматься с ним отдельно от остальных и учить его подлинным заклятьям Воплощенья. Он объяснил, как трансформировать вещь в нечто совсем иное, давая ей на все время действия заклинания новое имя. Подобное переименование неизбежно влечет за собой перемены в именах и характерах вещей, окружающих трансформированный предмет. Метаморфоз говорил Геду и об опасности, сопряженной с подобным превращением; опаснее всего, когда волшебник перевоплощается сам и может попасть в ловушку собственного заклятья. Потихоньку-полегоньку, зачарованный легкостью, с какой его ученик впитывал знания, молодой Мастер начал не только рассказывать Геду об этих тайнах. Он обучил его сперва одной, потом другой Великой Трансформации и дал прочитать книгу об искусстве Воплощений. Сделав это без ведома Верховного Мага, он поступил легкомысленно, хоть и без злого умысла.
С Гедом занимался и Мастер Заклинатель, но это был человек суровый, старый и мрачный, умудренный тем глубинным и страшноватым волшебством, которому учил других. Здесь были отнюдь не иллюзии, а самая настоящая магия; здесь вызывались такие силы, как свет, тепло, магнитное притяжение; здесь менялась форма тел, цвет, звук, и все изменения извлекались Мастером из бездонных кладовых энергии Вселенной, запасы которой неизменны и непоколебимы, сколько бы человек ни заклинал и ни использовал их. Ученики Мастера Метаморфоза уже умели немного управлять погодой, ветрами и морем, но именно Мастер Заклинатель впервые показал им, почему настоящий волшебник пользуется такими заклинаниями только в случае крайней необходимости, ибо призывать столь могучие силы земли означает изменять и саму землю, неотъемлемой частью которой являются и все люди, в том числе и волшебники.
— Дождь, что прольется на острове Рок, обернется, возможно, засухой на Осскиле, — говаривал Мастер Заклинатель, — а штиль в Восточном Пределе обрушится штормом и страшными бедами на Западный, если не до конца представляешь себе конечную цель своих действий.
Что же касается вызывания реальных людей и предметов, а также душ мертвых и Невидимого, то об этих Высших заклинаниях — вершине возможностей человеческого воображения — он своим ученикам едва намекнул. Раз или два Гед пытался вызвать Мастера Заклинателя на более откровенный разговор об этих таинствах, но Мастер молчал и лишь смотрел на него пристально и мрачно, пока Гед, совсем смутившись, не прекращал свои вопросы.
И действительно, порой ему становилось не по себе даже при самых несложных заклинаниях, каким учил его Мастер. На отдельных страницах Книги Заклинаний ему встречались руны, которые он знал, хотя не мог вспомнить, где видел их. Иногда в заклятьях попадались слова, которые ему произносить было неприятно. Они словно на мгновение пробуждали воспоминания о тенях в темной комнате, о запертой двери, о том, как тянулись к нему черные бесформенные призраки из угла… Он гнал эти воспоминания прочь и продолжал заниматься делом. «Эти мгновения страха и тьмы, — говорил он себе, — всего лишь тень моего собственного невежества. Чем больше я буду знать, тем меньше стану бояться, а когда достигну полной силы и получу волшебный посох, то смогу не бояться ничего в мире, абсолютно ничего».
Наступил второй месяц лета, и вся Школа вновь собралась на празднование Лунной Ночи и Долгого Танца, которые на этот раз совпали и превратились в двухдневный бал, что случается лишь раз в пятьдесят два года. В течение всей первой ночи, самой короткой в году и отмеченной полной луной, флейты играли прямо в полях, а узкие улочки Твила были заполнены грохотом барабанов, горящими факелами и пением, которое разносилось далеко над залитым лунным светом заливом. С восходом солнца певцы запели героическую песнь о деяниях Эррет-Акбе, и в ней рассказывалось, как были возведены белые башни Хавнора, о путешествиях Эррет-Акбе с самого древнего острова Эа по всем островам Архипелага и Пределов и о том, как, добравшись наконец до самого края Западного Предела, там, где начинается Открытое Море, он повстречался с драконом Ормом; и о том говорилось в сказании, как останки Эррет-Акбе в искореженных доспехах покоятся, смешавшись с костями дракона, на берегу пустынного острова Селидор, но меч героя красуется на вершине самой высокой башни Хавнора и все еще светится красным, когда закатное солнце опускается в воды Внутреннего Моря. Едва песнь была допета до конца, начался Долгий Танец. Жители Твила, Учителя и ученики Школы, крестьяне окрестных деревень — все вместе танцевали в теплой пыли на улочках и тропах, ведущих к гавани и пляжам, под гром барабанов, гудение труб и пение флейт, и сумерки медленно окутывали остров. Люди танцевали, спускаясь прямо в море, всю ночь напролет при полной луне, и музыку заглушали лишь хлопки откупориваемых бочонков с вином. Когда на востоке стало светлеть, люди двинулись, по-прежнему в танце, от берега моря вверх по улочкам к центру города; барабаны теперь смолкли, но флейты негромко играли, пронзительно взвизгивая порой. То же самое происходило в ту ночь на каждом острове Архипелага: один и тот же танец, одна и та же музыка, связывающая воедино разделенные морем земли.
Когда Долгий Танец кончался, большая часть людей заваливалась спать на весь день, вечером же все снова собирались — на пирушку по случаю праздника. Несколько юношей из Школы, младших учеников и старших, уже посвященных в колдуны, тоже собрались в одном из двориков Большого Дома, прихватив с собой из трапезной всякой вкусной снеди, чтобы отметить этот день в более узком кругу. Там были Ветч, Джаспер и Гед, а с ними еще человек шесть или семь; к их компании присоединились также несколько учеников, которых на праздничные дни отпустили из Одинокой Башни, ибо Долгий Танец вытащил на свет даже отшельника Курремкармеррука. Юноши ели, пили, смеялись и развлекались разными трюками, которые вполне могли бы украсить двор любого короля. Один из учеников, например, осветил двор сотней волшебных звездочек, похожих на самоцветы; звездочки вспыхивали точно в промежутках между настоящими звездами на фоне темного неба, и казалось, что дворик опутала тонкая волшебная сверкающая сеть. Двое других юношей играли в кегли; шары у них были из зеленого огня, а кегли сами собой отскакивали в сторону и убегали прочь, едва светящийся шар приближался к ним. Все это время Ветч сидел, удобно скрестив ноги, прямо в воздухе и поедал жареного цыпленка. Один из учеников попытался было с помощью заклятья опустить его на землю, но Ветч только поднялся чуточку повыше, чтобы было не достать, и продолжал, улыбаясь как ни в чем не бывало, сидеть в воздухе. Время от времени он отбрасывал в сторону обсосанную косточку цыпленка, которая тут же превращалась в сову, с уханьем улетавшую прочь сквозь сеть волшебных звездочек. Гед стрелял в этих сов стрелами из хлебного мякиша, сбивал их, и едва они касались земли, как иллюзия тут же исчезала и на земле оставалось лишь то, из чего все и возникло: куриная косточка да хлебный мякиш. Гед тоже попытался присоединиться к Ветчу и посидеть с ним в воздухе, но поскольку не знал ключа и не мог запереть заклинание, то, чтобы удержаться на месте, непрерывно хлопал в воздухе руками, как пытающаяся летать курица, и все до упаду хохотали над тем, насколько смешно у него это получается. Гед еще немного подурачился, чтобы доставить удовольствие зрителям, и сам посмеялся вместе с ними, потому что после двух ночей сплошных танцев, музыки, лунного света и волшебства ощущал странную обреченность и смятение и готов был к самому неожиданному повороту событий.
Наконец он легко опустился на землю и сразу встал на ноги, оказавшись рядом с Джаспером. Джаспер, который и не думал смеяться, отодвинулся от него и прошипел:
— Тоже мне, Ястреб, а сам и летать-то не умеет!..
— Никак это ты, Джаспер? Краса всей Школы! — Гед не остался в долгу и, ухмыляясь, обернулся к соседу. — О, бриллиант среди волшебников и колдунов, краса и гордость Хавнора, ослепи же нас, смиренных, своим блеском!
Тот парень, что подвесил над двориком танцующие волшебные звездочки, послал одну из них к Джасперу, и она закружилась, сверкая, над самой его головой. Вопреки обыкновению чуть утратив хладнокровие, Джаспер раздраженно смел огонек ладонью и забросил его подальше в ночную тьму.
— Осточертели мне ваши детские выходки, глупая болтовня и шутки, — сказал он.
— Никак стареешь, парень, — заметил сверху Ветч.
— Может, тебе больше по душе тишина и полумрак? — вставил один из ребят. — Тогда лучше Одинокой Башни места не найти.
— Чего ты все-таки от нас хочешь, Джаспер? — спросил его Гед.
— Я хочу находиться в обществе равных мне! — отрезал Джаспер. — Пошли, Ветч. Пусть детишки сами забавляются своими игрушками.
Гед моментально оказался прямо у него перед носом.
— Чем уж таким особенным обладают некоторые молодые колдуны, чего не хватает нам, непосвященным? — с угрозой спросил он. Голос его звучал довольно спокойно, но все вокруг застыли как вкопанные: казалось, соперники вот-вот выхватят из ножен несуществующие мечи.
— Силой волшебства, — сказал Джаспер.
— Я готов помериться с тобой этой силой при любых условиях.
— Ты вызываешь меня на поединок?
— Да.
Ветч прямо-таки рухнул на землю и с мрачным видом встал между ними.
— Колдовские поединки в Школе запрещены, и вам это прекрасно известно. Так что немедленно прекратите!
Оба, Гед и Джаспер, стояли молча; они действительно знали, что таков закон острова Рок, как знали и то, что Ветч сейчас действует во имя любви, а сами они — во имя ненависти. Но гнев их, к сожалению, не только не улегся, но запылал еще жарче. Чуть отодвинувшись, словно для того, чтобы лишь Ветч мог его расслышать, Джаспер проговорил со своей холодной улыбкой:
— Мне кажется, тебе еще раз следует напомнить нашему приятелю-пастушку о соблюдении закона, который его же и охраняет. Он, похоже, уперся. Неужели он действительно полагает, что я намерен принять его вызов? Вызов деревенского парня, пропахшего козами, какого-то недоучки, который не знает еще и Первой Трансформации?
— Джаспер, — сказал Гед, — разве тебе что-нибудь известно о том, что я знаю и чего нет?
И, не произнеся больше ни слова — во всяком случае, никто ничего услышать не успел, — Гед на мгновение исчез, а там, где он только что стоял, захлопал крыльями крупный сокол, в пронзительном крике разевая крючковатый клюв. Через несколько секунд Гед снова стоял на прежнем месте, освещенный пламенем факелов, и не сводил с Джаспера темных глаз.
Джаспер лишь изумленно отшатнулся, однако тут же взял себя в руки, пожал плечами и уронил:
— Иллюзия!
Остальные потрясенно бормотали что-то себе под нос.
— Нет, это не иллюзия. Это настоящее Превращение. И довольно. Послушай, Джаспер… — попытался урезонить его Ветч.
— Да, этого, конечно, вполне довольно, чтобы доказать, что он тайком из-за спины Мастера Метаморфоза успел кое-что прочитать в Книге Воплощений. Ну и что? Нет, пастушок, давай-ка покажи нам что-нибудь еще. Мне, например, приятно смотреть, как ты сам себе роешь яму. Чем сильнее ты стараешься доказать, что не лыком шит, тем лучше видно, каков ты на самом деле!
Ветч отвернулся от Джаспера и мягко попросил Геда:
— Ястребок, будь мужчиной, прекрати это и пойдем со мной…
Гед улыбнулся другу, но ответил лишь:
— Подержи, пожалуйста, Хёга немножко, ладно?
И сунул в руки Ветчу отака, как всегда сидевшего у него на плече. Зверек никогда никому не позволял, кроме Геда, разумеется, даже прикасаться к себе, но тут охотно пошел к Ветчу, взобрался по его рукаву и устроился на плече, свернувшись клубком и не сводя больших блестящих глаз с хозяина.
— А теперь, — сказал Гед своему сопернику по-прежнему спокойным тоном, — докажи, если сможешь, свое превосходство, Джаспер.
— Ничего доказывать я не намерен, пастушок. Но тебе я все-таки дам урок. А заодно смотри, не упусти и свой единственный шанс. Зависть гложет тебя, как червь яблоко. Так давай выпустим червя на волю. Однажды, помнится, на вершине Холма ты хвастал, что волшебники с Гонта в детские игры не играют. Давай прямо сейчас отправимся туда, и ты покажешь нам, на что же они, эти волшебники с Гонта, способны. А потом, может быть, я тебе немножко поколдую.
— Да, очень хотелось бы посмотреть, — ответил Гед.
Младшие ученики, привыкшие к тому, что он вспыхивает при малейшей насмешке или оскорблении, изумленно смотрели на него: Гед был на редкость спокоен. Ветч тоже смотрел на него, но во взгляде его читалось отнюдь не изумление, а растущий страх. Он вновь попытался вмешаться, но Джаспер сказал:
— Хватит, не вмешивайся, Ветч. Так как? Используешь ли ты тот единственный шанс, что я предоставлю тебе, пастушок? Может быть, ты покажешь нам фокус? Например, огненный шар? А может, произнесешь заклинание, излечивающее коз от чесотки?
— А тебе от меня чего хотелось бы, Джаспер?
Джаспер лишь пожал плечами.
— С меня вполне хватит, если ты сумеешь вызвать душу умершего.
— Смогу.
— Не сможешь! — Джаспер смотрел ему прямо в глаза, из-под его вечной равнодушно-презрительной маски словно внезапно вырвались языки гневного пламени. — Не сможешь. Нет! Ты только хвастаешься…
— Клянусь своим подлинным именем, я это сделаю!
На мгновенье все в ужасе застыли.
Вырвавшись из объятий Ветча, который изо всех сил старался удержать его, Гед бросился со двора, не оглядываясь назад. Танцующие над головами юношей волшебные огоньки погасли, умерли. Джаспер, секунду поколебавшись, последовал за Гедом. Остальные беспорядочной толпой тоже двинулись на Холм, молчаливые, заинтригованные, испуганные.
Вершина Холма черной громадой высилась во мраке летней ночи — в той непроглядной тьме, какая бывает перед восходом луны. Уже сама эта гора, где свершилось столько чудес, действовала подавляюще, словно в воздухе вокруг них повисла некая тяжесть. Когда они поднялись по склону, то явственно почувствовали, сколь глубоки корни Холма Рок, глубже, чем море, и уходят они в само древнее огненное чрево земли, в самые ее сокровенные недра. Они остановились на восточном склоне. Над округлой вершиной, над черной травой у них под ногами висели неподвижные звезды. Царило полное безветрие.
Гед чуть отошел в сторону от остальных и поднялся выше по склону, потом обернулся и ясным голосом спросил:
— Джаспер! Чей дух мне вызвать?
— Вызови любой. Ни один тебя не послушается, — голос Джаспера слегка дрожал, возможно от гнева.
Гед сказал мягко и чуть насмешливо:
— Ты что, боишься?
Даже если Джаспер что-то и ответил ему, Гед дожидаться не стал. Теперь соперник был ему безразличен. Теперь, на вершине Холма, в душе его исчезли ненависть и гнев, сменившись полной уверенностью в себе. Завидовать больше никому не стоило. Гед и сам знал, как велика его сила этой ночью, на темном склоне зачарованного Холма: сейчас он был куда могущественнее, чем когда-либо. Сила заполнила его существо до краев, он даже дрожал, едва сдерживая ее, рвущуюся наружу. Теперь он знал, что на самом деле Джаспер куда слабее его и послан Судьбой лишь для того, чтобы именно в эту ночь привести его, Геда, сюда; что он ему никакой не соперник, а просто слуга Судьбы. Под ногами Гед чувствовал корни горы, уходящие глубоко вниз, во тьму, а над головой видел сухие далекие огни звезд. Все в пространстве между этими звездами и тьмой под его ногами сейчас подчинялось ему, готово было ему служить. Сейчас он стоял в самом центре мира.
— Не бойся, — сказал он, улыбаясь. — Я вызову дух женщины. А женщины не стоит бояться. Я вызову прекрасную Эльфарран, о которой поется в «Подвиге Энлада».
— Она умерла тысячу лет назад, кости ее покоятся далеко, на дне моря Эа, а может быть, на свете и не было никогда такой женщины…
— Разве годы и расстояния что-нибудь значат для мертвых? Разве наши песни лгут? — спросил Гед с той же мягкой насмешливостью и прибавил: — Смотри сюда, в пространство между моими руками. — Потом отвернулся и неподвижно застыл.
И вот торжественным медлительным жестом простер он руки свои как бы в приветствии — так начинают Великое Заклинание, вызывая души мертвых. И начал говорить.
Он прочитал это, записанное с помощью рун, заклинание по крайней мере два года назад, еще в книге Огиона, но с тех пор ни разу этих рун не видел. Тогда он прочитал их во тьме. И во тьме он теперь словно бы снова читал их, перед ним как бы открылась в ночи нужная страница. Однако сейчас он хорошо понимал, что именно читает, и выговаривал заклинание громко, слово за словом, и ясно видел перед собой рунические символы, сплетающиеся в слова Истинной Речи, и помогал волшебству звуком собственного голоса, движениями тела и рук.
Все остальные молча стояли и смотрели, словно оцепенев; потом понемногу юношей начала сотрясать дрожь — это вступало в силу Великое Заклинание. Голос Геда звучал по-прежнему негромко, но как-то изменился, словно в глубине его таилась неведомая музыка, да и слова, что произносил он, тоже были его друзьям неведомы. Гед умолк. Внезапно откуда-то из травы с ревом взвился вихрь. Гед упал на колени и громко позвал кого-то, а потом распростерся на земле, словно желая обнять ее. Когда же он снова с трудом приподнялся, то в напряженных вытянутых руках будто держал нечто темное и настолько тяжелое, что дрожал от усилия, пытаясь встать с этим грузом на ноги. В лабиринте спутанных трав на склоне Холма застонал горячий ветер. Даже если звезды и светили по-прежнему в небесах, то теперь никто уже их не видел.
Слова заклятья с шипеньем и страшным бульканьем срывались с губ Геда, а потом он вдруг ясным и громким голосом выкрикнул:
— Эльфарран!
И снова позвал он ее по имени:
— О, Эльфарран!
И в третий раз:
— Эльфарран!
Бесформенная темная масса, которую он только что поднял с земли, вдруг распалась. В образовавшуюся щель вырвался бледный луч, между землей и поднятыми руками Геда образовался слабо светящийся овал. В нем на мгновение шевельнулась некая человеческая фигура: это была высокая женщина, оглядывающаяся назад через плечо. Лицо ее было прекрасно, печально и исполнено страха.
Лишь на секунду сверкнул перед ними дух Эльфарран. Затем желтоватый овал света меж поднятых рук Геда стал ярче, расширился, разросся — сверкающая брешь в черноте земли и ночи, прореха в ткани мирозданья. Сквозь нее вырвался нестерпимо яркий огонь, и по неровному краю быстро и осторожно скользнуло нечто, похожее на сгусток черной тени. И с яростью бросилось Геду прямо в лицо.
Отпрянув назад и шатаясь под тяжестью этой твари, Гед крикнул коротко и хрипло. Маленький молчаливый отак, с плеча Ветча наблюдавший за происходящим, тоже вдруг громко заверещал и бросился в атаку на врага.
Гед, извиваясь, упал на землю, борясь с напавшей на него тварью, а яркая щель во вселенской тьме над ним все ширилась и расползалась. Наблюдавшие за происходящим ученики не выдержали и сбежали, а Джаспер низко склонился к земле, пряча глаза от ужасного света. Один лишь Ветч бросился вперед к другу на помощь. И только он один сумел как следует разглядеть этот сгусток тьмы, ужасное существо, вцепившееся в Геда и терзавшее его плоть. Оно было похоже на черного зверя размером с ребенка, хотя все время то увеличивалось, то уменьшалось; оно было лишено головы, а стало быть, лица или морды; зато Ветч различил четыре когтистые лапы, которыми тварь душила свою жертву и рвала ее плоть. Юноша взвыл от ужаса, но все же попытался голыми руками оттащить чудовище от Геда. Однако не успел он его коснуться, как застыл словно камень, не в силах двинуться с места.
Непереносимо яркий свет чуть померк, и края прорехи медленно сомкнулись. Рядом послышался чей-то голос, звучавший так тихо, как шепчутся листья на дереве или журчит вода в маленьком фонтане.
Снова засияли звезды, а трава на склоне Холма засеребрилась в лунном свете — как раз всходила луна. Ночь была спасена, излечена от смертельного недуга. Вновь восстановилось равновесие между светом и тьмой. Черная тварь исчезла. Гед, раскинувшись, лежал на спине, руки его по-прежнему были судорожно воздеты к небесам, словно он все еще приветствовал кого-то, вызванного заклинанием из могилы. Лицо юноши было покрыто запекшейся кровью, и на рубашке виднелись большие черные пятна. Маленький отак, дрожа, прятался за его плечом, а над юношей стоял старик, чьи белые одежды слабо мерцали в лунном свете: Верховный Маг Неммерль.
Конец волшебного посоха Неммерля серебристо поблескивал у самой груди Геда. Шепча что-то, Маг коснулся посохом сердца юноши, потом его губ. Гед вздрогнул, разлепил губы и стал жадно хватать воздух ртом. Тогда старый Неммерль отвел посох и оперся им о землю; голова его была опущена, он едва стоял на ногах, утратив последние силы.
Ветч обнаружил, что снова может двигаться. Он огляделся и увидел, что вокруг много народу, в том числе и Мастер Заклинатель, и Мастер Метаморфоз. Серьезное волшебство не обходится без их помощи, и они умеют при надобности моментально оказаться там, где эта помощь требуется. Однако ни один из них не оказался так быстр, как Верховный Маг Неммерль. Прибывшие чуть позже помощники обступили Верховного Мага; остальные, в том числе и Ветч, поспешили отнести Геда к Мастеру Травнику.
Всю оставшуюся ночь Мастер Заклинатель провел на вершине Холма Рок — на страже. Ничто не шелохнулось там, где прорвана была ткань мирозданья. Ни одна тень не проползла тайком по склону Холма при свете луны, выискивая щель, чтобы попасть обратно в царство смерти. Видимо, той твари удалось бежать от Неммерля, удалось преодолеть невидимые волшебные стены, охраняющие остров Рок, и теперь она вышла в широкий мир и где-то там спряталась. Если бы Гед в ту ночь умер, черная тварь могла бы попытаться последовать за ним в обитель смерти или в иное царство, из которого явилась сюда; этого-то и ждал Мастер Заклинатель, но Гед остался жив.
Его уложили в постель, и Мастер Травник обработал рваные раны у него на лице, на шее и на плечах. Раны были страшные, глубокие. Черная кровь не свертывалась в них, а продолжала течь, несмотря на все заговоры и повязку из паутины и волшебной травы перриот. Гед лежал, ничего не видя и не слыша, и лихорадка пожирала его, как огонь — сухое дерево, и не находилось заклинания, способного погасить этот огонь.
Неподалеку, во внутреннем дворике у фонтана, лежал Верховный Маг Неммерль, столь же недвижимый, но совсем холодный: на его застывшем лице жили одни глаза, неотрывно следившие, как падает просвеченная лунным светом струя воды в фонтане да подрагивают залитые серебром листья деревьев. Те, кто был подле него, не пытались произносить заклинания или применять какое-то лечение. Порой Мастера тихонько переговаривались между собой, а затем снова обращали внимательные взоры на своего повелителя. Он лежал неподвижно, его ястребиный нос, высокий лоб и седые волосы казались добела вымытыми струями лунного света. Для того чтобы овладеть неуправляемым заклятьем и отогнать страшную тень от Геда, Неммерль отдал всю свою волшебную силу, вместе с которой покинули его тело и силы физические. Теперь он умирал. Но смерть для Великого Мага, не раз бродившего по сухим осыпающимся кручам ее царства, — дело необычное: умирающий Маг уходит не вслепую, а, напротив, твердо зная свой путь. И когда Неммерль смотрел куда-то вверх, сквозь листву, его друзья не знали, видит ли он земные звезды, блекнувшие на исходе ночи, или звезды иного мира, которые никогда не появляются и не исчезают, но вечно светят над холмами царства мертвых.
Исчез куда-то ворон с Осскила, бывший любимцем Мага Неммерля целых тридцать лет. Никто не видел, куда и как он исчез.
— Он летит впереди, — сказал Мастер Путеводитель, не отходивший от ложа умирающего.
Наступил день, теплый и ясный. Тихи были улицы Твила и сам Большой Дом. Никто не осмеливался говорить в полный голос, лишь ближе к полудню в башне Мастера Регента громко заговорили, будто прощаясь с кем-то, колокола.
На следующий день Девять Мастеров Школы собрались в Имманентной Роще под темными деревьями. Но даже там они дополнительно окружили себя девятью непроницаемыми стенами тишины, чтобы ни единая живая душа, ни одна враждебная сила не узнала о том, что они говорят, чтобы никто и ничто не смогло повлиять на них во время выборов нового Верховного Мага Земноморья. Избран был Геншер с острова Уэй. Незамедлительно снарядили корабль, который должен был пересечь Внутреннее Море и привезти в Школу нового Ректора. Мастер Ветродуй стоял на корме, повелевая волшебным ветром в парусах; корабль быстро вышел из гавани и скрылся вдали.
Но ничего этого Гед не знал. Почти целый месяц жаркого лета провел он в забытьи, ничего не видя и не слыша, только временами громко и жалобно стонал, будто раненый зверь. Наконец терпенье и умелые руки Мастера Травника сделали свое дело, и раны на теле Геда стали затягиваться, лихорадка оставила его. Понемножку он, похоже, начинал и слышать, хотя так ни разу и не заговорил. В ясный осенний день Мастер Травник отворил ставни в комнате Геда. С той темной ночи на Холме перед глазами у него была лишь тьма. Теперь Гед увидел дневной свет и солнце в небе. Он спрятал изуродованное свое лицо в ладони и заплакал.
Но даже к началу зимы говорил он все еще с трудом, заикаясь на каждом слове, и Мастер Травник держал его при себе, надеясь постепенно вернуть ему душевные и физические силы. Была ранняя весна, когда Травник наконец выпустил Геда на волю, для начала послав его присягнуть на верность Верховному Магу Геншеру, поскольку Гед не мог присутствовать на общей церемонии.
Никому из учеников не разрешалось в течение долгого времени навещать Геда, так что теперь, когда он проходил мимо, некоторые удивленно спрашивали: «А кто это?» Раньше он был гибким, сильным, ясноглазым юношей. Теперь — хромал, двигался неуверенно, опустив голову; левая сторона его лица была исполосована белыми шрамами. Гед равно избегал знакомых и незнакомых людей и, выйдя от Травника, сразу пошел в тот внутренний дворик с фонтаном, где некогда ожидал появления Верховного Мага Неммерля; теперь здесь же его поджидал Геншер.
Верховный Маг, как и подобает, был в белом плаще и, будучи уроженцем острова Уэй, отличался очень темной кожей. Черные глаза его прятались под густыми бровями.
Гед преклонил колена и присягнул новому Верховному Магу. Геншер некоторое время хранил молчание.
— Я знаю, ЧТО ты совершил, — сказал он наконец. — Но мне неизвестно, КЕМ ты стал теперь. Я не могу принять твоей присяги.
Гед поднялся с колен и вцепился рукой в ствол молодого деревца, росшего рядом с фонтаном, чтобы успокоиться. Он по-прежнему с трудом подбирал слова, обращаясь к Геншеру:
— Я должен покинуть остров Рок,
господин мой?
— А ты этого хочешь?
— Нет.
— Чего же ты хочешь?
— Остаться. Учиться. Уничтожить… зло…
— Сам Неммерль не смог этого сделать. Нет, на мой взгляд, тебе уезжать с Рока не стоит. Только здесь ты под защитой Мастеров и созданных ими волшебных стен, которые непреодолимы для сил зла. Если же сейчас ты покинешь Рок, то высвобожденное тобой зло незамедлительно отыщет тебя и проникнет в твою душу; оно подчинит тебя себе, и ты превратишься в оборотня, управляемого той тварью, которую выпустил в наш солнечный мир. Тебе следует оставаться здесь до тех пор, пока у тебя не достанет сил и мудрости, чтобы защитить себя от этого детища тьмы — если когда-либо это вообще станет возможным. Теперь же черная Тень, несомненно, поджидает тебя. Видел ли ты ее с тех пор?
— Во сне, господин мой. — Гед помолчал и вдруг заговорил с болью и стыдом: — Лорд Геншер, я не знаю, что это было — то, что вызвал я заклинаньем, то, что бросилось на меня тогда…
— Я тоже не знаю. У этой Тени нет имени. Ты от рожденья наделен волшебной силой, но неправильно использовал ее, произнеся заклятье, с которым справиться не сумел, не ведая, что заклятье это способно нарушить Равновесие, гармонию света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла. И руководили тобой гордыня и ненависть. Так удивительно ли, что случилась такая беда? Ты вызвал дух умершей, но вместе с ним в наш мир пробралась нежить. Незваной явилась она сюда оттуда, где ничто не имеет подлинных имен. Порожденная злом, сила эта жаждет творить зло и постарается использовать для своих целей тебя. Неумелым колдовством ты лишь придал ей сил, она обрела власть над тобой, и теперь вы с ней связаны. Это тень твоего невежества и самонадеянности, твоя собственная тень. А есть ли имя у твоей тени?
Гед, потрясенный до глубины души, еле стоял на ногах. Наконец он вымолвил:
— Лучше бы я умер…
— Кто ты такой, чтобы решать, что лучше! Ты, за которого Неммерль отдал собственную жизнь?.. Здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Будешь жить здесь и учиться дальше. Говорят, ты был способным учеником. Так что продолжай заниматься своим делом. И приложи максимум усилий. Это все, что ты теперь можешь.
Так Геншер завершил свою речь и сразу же исчез, как это делают все Маги. Фонтан по-прежнему искрился в солнечных лучах, и Гед некоторое время любовался его струями, слушая пение воды и думая о Неммерле. Когда-то именно здесь, в этом дворике, он почувствовал себя словом, произнесенным солнцем. Теперь свое слово сказала тьма: одно лишь слово, но нельзя было удержать его.
Гед покинул дворик и направился в свою прежнюю комнату в Южной Башне, которую оставили за ним. Там он и сидел в одиночестве, пока гонг не позвал учеников на ужин. В трапезной Гед ни с кем из сидящих за Длинным Столом и словом не обмолвился и почти не поднимал головы, стараясь не замечать даже тех, кто вполне дружески приветствовал его. Поэтому через день-другой все оставили его в покое. И сам он постоянно стремился к одиночеству, страшась невольно словом или делом сотворить зло.
В Школе не было видно ни Ветча, ни Джаспера, и он даже не спрашивал о них. Ученики, среди которых он когда-то считался заводилой и лучшим из лучших, давно обогнали его, так что всю весну и лето он занимался с младшими. Да и среди них не блистал: слова любого заклятья, даже самого простого, он произносил запинаясь, руки не слушались его, и он постоянно ошибался.
Осенью Геду предстояло вновь отправиться в Одинокую Башню, чтобы пройти очередной курс у Мастера Ономатета. Уроки эти, которых он некогда так страшился, теперь доставляли ему удовольствие, потому что искал он тишины и покоя, когда нет надобности произносить заклинания или пользоваться магической силой, которая — он это знал — все еще была заключена в нем самом.
Накануне вечером в комнату Геда зашел некто в коричневом дорожном плаще, держа в руке дубовый посох с железным наконечником. Завидев посох волшебника, Гед поднялся.
— Ястребок!..
Гед вскинул глаза: голос был знакомый. Перед ним стоял Ветч, как всегда спокойный, плотный, широкоплечий. Его темнокожее грубоватое лицо стало более мужественным, взрослым, однако улыбка была все та же. На плече у Ветча свернулся маленький полосатый зверек с блестящими глазами.
— Он жил у меня, пока ты болел, и теперь даже жалко с ним расставаться. А уж до чего мне жаль расставаться с тобой, Ястребок! Но я уезжаю домой. Эй, Хёг! Ну-ка ступай к своему настоящему хозяину!
Ветч погладил отака, снял с плеча и опустил на пол. Зверек подбежал к жалкому ложу Геда, уселся там и принялся умываться; сухой коричневый язычок, похожий на сухой листик, так и мелькал. Ветч засмеялся, но Гед не смог выдавить даже улыбки. Он низко склонился, спрятав лицо, и только поглаживал отака.
— Я думал, ты ко мне больше не придешь, Ветч, — с трудом выговорил он, вовсе не думая никого упрекать.
Однако Ветч ответил:
— Я просто не мог! Мастер Травник запретил мне навешать тебя; а с самого начала зимы я все время был заперт в Имманентной Роще, пока не получил волшебный посох. Послушай: когда тоже получишь свой посох, приезжай ко мне, в Восточный Предел. Я буду ждать. Там у нас города маленькие, и живут в них веселые и добрые люди, а волшебников всегда принимают очень хорошо.
— …получу посох… — еле слышно пробормотал Гед, слегка пожал плечами и попытался улыбнуться.
Ветч посмотрел на него, и взгляд его был не таким, как всегда: в нем, пожалуй, любви меньше не стало, но то был уже взгляд настоящего и мудрого волшебника. Он мягко подбодрил друга:
— Ты же не навечно привязан к острову Рок.
— Ну… я, например, мог бы и впредь помогать Мастеру Ономатету в Одинокой Башне; мог бы стать одним из тех, что всю жизнь разыскивает среди древних книг и звезд забытые слова Истинной Речи… Может быть… Может быть, так я смогу больше никому никогда не вредить, даже если и пользы особой от меня не будет…
— Может быть, и так, — сказал Ветч. — Но хоть я и неважный провидец, все же вижу дальше тебя, и видятся мне вовсе не запертые комнаты с книгами, а далекие моря, драконы, изрыгающие пламя, башни больших городов и многое другое из того, что видит в поднебесье летящий ястреб.
— А что… что ты видишь в моей прежней жизни? — спросил Гед и резко вскочил; тень его метнулась при этом с пола на стену. Потом он отвернулся и медленно проговорил, заикаясь: — Однако куда ты сам держишь путь и чем намерен заниматься?
— Отправлюсь домой, повидаю братьев и сестренку. Я тебе о ней много рассказывал. Когда я уезжал, она была совсем крошкой, а теперь скоро пройдет обряд имяположения. Странно даже подумать об этом! Потом, наверно, стану волшебником на одном из наших островов. Ах, с каким удовольствием я еще поговорил бы с тобой, но корабль мой отплывает сегодня ночью и отлив уже начался. Ястребок, если когда-либо путь твой пройдет близ Восточного Предела, заезжай ко мне непременно. Если же я понадоблюсь тебе, призови меня именем моим: Эстарриол.
Тут Гед впервые поднял свое покрытое шрамами лицо и встретился взглядом с другом.
— Эстарриол, — сказал он, — мое имя Гед.
Они тихо простились. Ветч повернулся, прошел по каменным плитам дворика и навсегда покинул остров Рок.
Некоторое время Гед стоял, не в силах двинуться с места, потрясенный до глубины души, оглушенный тем великим даром, который только что получил. Ибо это был поистине великий дар: Ветч открыл ему свое подлинное имя.
Никто не знает подлинного имени человека, кроме него самого и его имядателя. С течением времени можно доверить эту тайну близкому человеку — брату, жене или другу, — но и они никогда не должны произносить это имя, если его может услышать кто-то третий. В присутствии других людей они, как и все остальные, должны называть человека обычным именем или прозвищем: Ястребок, Ветч, Огион, что, кстати, значит «еловая шишка». Если даже простые люди скрывают свои подлинные имена, доверяя их лишь самым близким, то уж, конечно, волшебники, тая в себе опасность для других и в то же время постоянно подвергаясь угрозе со стороны темных сил, должны проявлять в отношении своего подлинного имени особую осторожность. Тот, кому известно подлинное имя человека, держит в руках и всю его жизнь. Потому-то для Геда, утратившего веру в себя, дар Ветча был свидетельством непоколебимой веры друга, то есть самым драгоценным из даров.
Гед присел на свою лежанку и погасил волшебный огонек; исчезая, тот издал слабый запах болотного газа. Юноша погладил отака, уютно свернувшегося клубочком у него на коленях и так крепко спящего, словно никогда с этих колен и не слезал. В Большом Доме царила полная тишина. Гед вспомнил, что сегодня канун дня его имяположения, совершенного Огионом. С тех пор прошло уже четыре года. Он вспомнил холод горной реки Ар, которую переходил вброд нагим и безымянным. Потом стал вспоминать светлые заводи, где любил плавать; деревню Десять Ольховин на лесистом склоне горы Гонт; утренние тени на пыльной деревенской улице, огонь в горне деревенской кузни, раздуваемый мехами; зимние дни, хижину ведьмы, пропитанную загадочными ароматами, с тяжелым от курений воздухом. Он давно уже не думал об этом. Но сегодня, когда ему исполнялось семнадцать, все как бы вернулось вновь: события всех прошлых лет, все те места, где он побывал за свою короткую, но уже поломанную жизнь, в одно мгновение всплыли в его памяти и легко сложились в целостную картину. Он снова наконец понял — после этих долгих, горьких, бессмысленно прошедших лет, — кто он такой и где находится.
Но куда дальше поведет его жизненный путь, Гед не ведал и страшился узнать.
На следующее утро он отправился через весь остров к Одинокой Башне; отак, как всегда, уютно устроился у него на плече. В этот раз Геду понадобилось не два, а целых три дня, чтобы добраться туда, и он устал, едва держался на ногах, когда наконец впереди над шипящим, плюющимся пеной морем, на самом северном мысу завиднелась Башня. Внутри все было как прежде — темно и холодно; и Курремкармеррук восседал на своем высоком стуле и составлял длинные списки имен. Он глянул на Геда и, не поздоровавшись, буркнул, словно тот никуда отсюда не уходил:
— Отправляйся-ка спать: усталая голова плохо варит. Завтра можешь взять книгу о Деяниях и учить оттуда имена Создателей.
К концу зимы Гед вернулся в Большой Дом и был посвящен в колдуны. На этот раз Верховный Маг Геншер принял его присягу. С тех пор Гед начал заниматься Высшими Искусствами и куда более сложными заклинаниями. Это были уже не просто иллюзии, а настоящая магия; Гед готовился получить посох волшебника. Болезни и несчастья, постигшие его в тот злополучный день, с течением времени как бы отступили; руки обрели былую ловкость, и все же он уже не был так сметлив, как раньше, получив слишком долгий и тяжелый урок — урок страха. Но даже когда он произносил самые опасные заклинанья Созидания и Воплощения, это никаких вредных последствий не вызывало. В конце концов Геду даже стало казаться, что Тень, которую он выпустил в этот мир, возможно, утратила свою силу или же просто удалилась в иные миры: она больше не являлась ему во снах. Однако в глубине души он понимал, что все эти надежды тщетны.
От Мастеров Школы и из древних мудрых книг Гед узнал все, что мог, о существах, подобных той твари, которую упустил тогда; впрочем, известно о них было немного. Ни одно из них не было описано или упомянуто прямо. В лучшем случае встречались отдельные и не совсем внятные намеки на нечто, столь же чудовищное. Тень явно не была ни призраком, ни творением Древних Сил Земли, и все же казалось, что она имеет и к тому и к другому определенное отношение. Вот только какое? В книге «О естестве драконов», которую Гед штудировал с особым вниманием, ему попалась одна история о давным-давно умершем Повелителе Драконов, который попал во власть одной из Древних Сил некоего Говорящего Камня, который и теперь лежит на прежнем месте в одной из северных стран. «По велению Камня, — говорилось в книге, — человек тот воззвал душу из могилы, и она явилась из царства мертвых, но заклятье было искажено по воле Камня, и на этот свет вместе с душой покойника явилось нечто незваное, и оно пожрало душу взывавшего, проникло в его плоть и в обличье его ходило по земле меж людей, уничтожая их». Но в книге той не говорилось ничего об облике чудовища и о том, чем же вся эта история закончилась. Мастера ничего определенного по этому вопросу сказать не могли. Нежитью назвал его когда-то Верховный Маг; «Это существо с того света», — сказал Метаморфоз; а Мастер Заклинатель просто ответил: «Не знаю».
Мастер Заклинатель часто приходил и сидел возле Геда, пока тот болел. Он, как всегда, был мрачен и суров, но теперь Гед понял, какая самоотверженная у него душа, и очень его полюбил.
— Не знаю, — сказал Мастер Заклинатель. — Об этой вещи я могу предположить только одно: вызвать ее в наш мир смогла лишь очень могущественная сила, возможно, единственная в мире и обладающая неповторимым голосом — твоим голосом, Гед. Но почему это так и что это значит, я тоже не знаю. Ты все узнаешь сам. Должен узнать. Или умереть. Или хуже, чем умереть… — Голос Мастера звучал тихо, он мрачно смотрел на юношу. — Ты, мальчишка, решил, что волшебник — это тот, кто может все на свете. Когда-то и я так думал. И все мы. А правда на самом деле в том, что чем человек сильнее душой, чем больше он знает, какой бы жизненный путь он ни избрал, путь этот кажется ему все уже и уже, пока в конце концов он не перестает видеть его перед собой, а только делает то единственное, что должен делать…
Когда Геду исполнилось восемнадцать, Верховный Маг послал его к Мастеру Путеводителю. То, что изучают в Имманентной Роще, не принято особенно обсуждать за ее пределами. Говорят, что там никогда не звучит ни одно заклинание, и все же Роща эта — место совершенно волшебное. Иногда деревья в ней видимы, иногда нет, и сама Роща не всегда находится на одном и том же месте, и даже не в одной и той же части острова Рок. Говорят, что сами деревья из Рощи разумны и мудры. Говорят, что Мастер Путеводитель постигает свою изысканную магию именно от деревьев, и если когда-либо деревьям этим суждено умереть, то вместе с ними исчезнет и его мудрость; тогда же поднимутся волны морские и затопят острова Земноморья, которые Сегой поднял из глубин океана задолго до того, как были сложены самые первые мифы, и все те земли, где живут теперь и люди и драконы, исчезнут.
Но это лишь слухи; волшебники об этом говорить не любят.
Прошло несколько месяцев, и однажды, весенним днем, Гед вернулся в Большой Дом, не имея ни малейшего представления о том, чем будет заниматься дальше. У ворот Школы, там, где начинается тропа, что ведет через поля к вершине Холма, его поджидал старик, которого Гед вначале не узнал. Потом он пораскинул мозгами и понял, что это Привратник, впустивший его в школу, когда он впервые, пять лет назад, пришел сюда.
Старик поздоровался с ним, назвав его подлинным именем, и спросил:
— Знаешь, кто я такой?
Теперь Гед вспомнил, что всегда говорилось раньше о Девяти Мастерах с острова Рок, хотя сам он знал лишь восьмерых: Ветродуй, Ловкая Рука, Травник, Регент, Метаморфоз, Заклинатель, Ономатет и Путеводитель. Вроде бы девятым считали Верховного Мага. С другой стороны, когда выбирали Геншера, то для этого встречалась вся Девятка.
— Я думаю, что ты Мастер Привратник, — сказал Гед.
— Да. Гед, ты завоевал право войти в Школу, назвав свое имя. Теперь же назови мое и обретешь свободу и постоянную возможность выйти отсюда. — Старик улыбнулся и стал ждать.
Гед молчал. Конечно же, он знал тысячу способов и приемов, позволявших установить подлинные имена вещей и людей; это уменье было частью той науки, которую он превзошел на острове Рок и без которой всякая магия была бы практически бесполезной. Но узнать подлинное имя волшебника, Мастера, — совсем другое дело. Имя Мага спрятано очень тщательно, и его труднее отличить от прочих слов, чем одну сельдь от другой среди огромного косяка в водах океана; и охраняется это имя лучше, чем логово дракона. Колдовство, направленное на то, чтобы выведать эту тайну, непременно столкнется с еще более могущественным колдовством; любые хитроумные изобретения потерпят крах; попытки разведать что-то окольным путем будут исподволь пресечены, а попытка узнать что-нибудь силой неизбежно и самым губительным образом обернется против предпринявшего ее.
— Уж больно маленькую щель оставляешь ты в своих воротах, Мастер Привратник, — сказал наконец Гед. — Придется, видно, мне посидеть здесь до тех пор, пока я достаточно не похудею, чтобы пролезть в эту щель.
— Сиди, пожалуйста, сколько хочешь, — сказал, улыбаясь, Привратник.
Гед чуть отошел и уселся под ольхой на берегу речки, отпустив отака поиграть и поохотиться близ илистых берегов на раков. Солнце садилось, но, несмотря на позднее время, закат сиял яркими красками — ведь весна была в разгаре. В окнах Большого Дома зажигали лампы и светились волшебные огоньки, а внизу у подножия Холма улицы Твила уже заволокла тьма. Над крышами домов ухали совы, над темной водой реки бесшумно носились летучие мыши, а Гед все сидел и думал, как бы ему — силой, хитростью или колдовством — узнать имя Привратника. И чем больше он думал, тем меньше видел для того возможностей, несмотря на все приемы ведовства, которым обучился на Роке за пять лет.
Он улегся прямо на землю и проспал всю ночь под открытым небом, а отак устроился на ночлег у него в кармане. Когда же взошло солнце, Гед быстро подошел к воротам Школы и постучался. Мастер Привратник открыл ему.
— Учитель, — сказал Гед, — я недостаточно силен и не могу силой вызнать твое имя; у меня не хватает также ни мудрости, ни хитрости, чтобы выведать его обманом. Так что я готов стать либо твоим учеником, либо слугой — как ты сам пожелаешь — до тех пор, пока удача не улыбнется мне и ты не ответишь на один лишь мой вопрос.
— Что это за вопрос? Задай его.
— Как твое имя?
Привратник улыбнулся и назвал ему свое подлинное имя; и Гед, повторив его, в последний раз вошел в Большой Дом.
Когда же он снова покинул его, то одет был в темно-синий плащ, дар жителей Лоу-Торнинга, куда теперь направлялся в качестве волшебника. В руках он держал волшебный посох ростом с него самого, сделанный из тиса и с бронзовым наконечником. Мастер Привратник простился с ним и специально для него отпер заднюю дверцу Большого Дома, сделанную из резной кости; и Гед пошел вниз по улицам Твила к пристани, где ждал его корабль, покачиваясь на воде, ярко блестевшей в утренних лучах солнца.
Глава 5
Дракон с острова Пендор
К западу от острова Рок меж двух крупных островов, Хоск и Энсмер, разбросано множество мелких островков. Их так и называют: Девяносто Островов. Из них ближе всех к Року расположен Серд, а дальше всего — Сеппиш, который омывают воды Пельнийского Моря. Впрочем, толком никогда так и не было известно, сколько этих островов в действительности, потому что если считать только те, где есть пресная вода, то получается не больше семидесяти, а если учитывать каждую скалу или риф, то количество их переваливает за сотню, а может, и гораздо больше. Многое зависит и от приливов. Островки расположены порой совсем близко друг к другу, и, когда даже спокойные воды Внутреннего Моря во время прилива начинают бурлить и пениться меж тесных берегов, там, где во время отлива можно насчитать целых три острова, над приливной волной едва виднеется один. И все же, несмотря на бурные волны приливов и отливов, любой ребенок на Девяноста Островах, едва научившись ходить, уже умеет и грести, и владеет собственной маленькой лодочкой; женщины частенько перебираются с островка на островок попить с соседкой чайку; коробейники прямо с воды зазывают купить у них товар, ритмично работая при этом веслами. Все в этом краю передвигаются по соленым водам морским, словно по дорогам, и мешают им разве что сети, натянутые прямо через проливы от одного дома до другого для ловли мелкой рыбешки под названием «турбис», жир которой составляет основу благополучия Девяноста Островов. В этом краю всего несколько мостов, ни одного крупного города, зато множество крестьянских и рыбацких селений. Каждые десять-двадцать островков объединяются в некие подобия округов; один из них, самый западный, и назывался Лоу-Торнинг. Острова, входившие в Лоу-Торнинг, были обращены не к Внутреннему Морю, а к безбрежным водам Великого Океана, к самому отдаленному острову Архипелага — Пендору, захваченному драконами. Дальше острова Пендор располагался за широкой безлюдной полосой моря Западный Предел.
Для нового волшебника жители островов приготовили дом на холме, среди зеленых ячменных полей. От западных ветров дом укрывала целая роща деревьев, сейчас сплошь покрытых красными цветами. С порога виднелись соломенные крыши других домов, окруженных такими же рощицами и садами, а дальше — многочисленные островки и на них очень похожие друг на друга дома, поля и холмы; между островами синели яркие извивающиеся ленты проливов. Жилище Геда, хоть и убогое — с земляным полом, без окон, — все же было лучше той хижины, где он появился на свет. Жители Лоу-Торнинга, со священным трепетом взиравшие на молодого волшебника с острова Рок, все просили прощения за столь скромное помещение.
— У нас совсем нет строительного камня, — оправдывался один.
— У нас тут богачей нет, зато хоть не голодает никто, — прибавил другой.
А третий сказал:
— По крайней мере, в этом доме всегда будет сухо: я сам позаботился о том, чтобы кровля была сделана на совесть.
Что же касается Геда, то этот домик ему казался настоящим дворцом. Он от всей души поблагодарил старейшин общины, после чего они — все восемнадцать — довольные отправились по домам: каждый на собственной лодке к собственному островку. Теперь им предстояло рассказать соседям-рыбакам и их женам, что новый волшебник — парень странный и вида мрачного, говорит мало, но справедлив и совсем не гордый.
Впрочем, Геду на первых порах и гордиться-то было особенно нечем. Волшебники, обучавшиеся в Школе на острове Рок, обычно уезжали в большие города или в замки богатых лордов. Простые же рыбаки, вроде жителей Лоу-Торнинга, чаще всего могли позволить себе содержать разве что ведьму или в лучшем случае колдуна, способного заговаривать рыбачьи сети и лодки да немного лечить животных и людей. Но в последние годы старый дракон с острова Пендор дал потомство: говорили, что в разрушенных башнях замка свили гнезда целых девять драконов и волочат теперь свои покрытые чешуей туши по мраморным лестницам и галереям. Когда-нибудь, гонимые особенно жестоким голодом, и без того достаточно сильным на их мертвом острове, они неизбежно должны были добраться до соседних островов. Уже не раз видели, как четверо из них кружили над юго-западным побережьем Хоска, однако пока не спускались, а сверху высматривали стада овец, амбары и жилые дома. Голод у драконов пробуждается медленно, но удовлетворить его трудно. Потому-то жители Лоу-Торнинга и отправили на остров Рок нижайшую просьбу прислать к ним настоящего волшебника, который смог бы защитить их и все западные земли от страшной угрозы, и Верховный Маг счел их страхи обоснованными.
— В этих местах ты не обретешь ни покоя, ни славы, ни богатства; возможно даже, что тебе и рисковать не придется ни разу, — сказал Верховный Маг в тот день, когда Гед получал свой волшебный посох. — Поедешь?
— Поеду, — ответил Гед, и не только из одного послушания.
С той ночи на вершине Холма его желание бежать славы и всего показного стало столь же сильным, каким было когда-то желание этой славы добиться. Теперь он постоянно сомневался в себе и страшился любых грядущих испытаний себя в качестве волшебника. Но тем не менее одно лишь упоминание о драконах вызвало в нем жгучее любопытство. На Гонте уже многие столетия драконов не видывали, и ни один из них даже не приближался к острову Рок — во всяком случае, настолько, чтобы его можно было почуять, увидеть или определить в пространстве волшебным зрением. Чаще всего они служили темой сказок, легенд, героических песен — то есть были героями преданий, а не реальной жизни. В Школе Гед прочитал о драконах все, что можно было найти в древних книгах, но одно дело читать о них и совсем другое — встретиться лицом к лицу. И вот перед ним открылась такая великолепная возможность, и он совершенно искренне ответил Геншеру: «Поеду».
Верховный Маг кивнул головой в знак согласия, но глядел мрачно. Помолчав, он спросил:
— Скажи мне, боишься ли ты покидать остров Рок? Или, напротив, стремишься его покинуть?
— И то и другое, господин мой!
Геншер снова кивнул.
— Я не уверен, что поступаю правильно, отпуская тебя, ибо только здесь ты в безопасности, — медленно роняя слова, проговорил он. — Я не вижу, что ждет тебя впереди. Путь твой скрывается во мгле. А там, в северных краях, тебя поджидают порождение Зла и, может быть, сама смерть. Впрочем, что это за сила и где именно ты встретишься с ней, я сказать не могу: все твое прошлое, настоящее и будущее как бы в тумане. Когда сюда прибыли гонцы из Лоу-Торнинга, я сразу подумал именно о тебе, потому что это место кажется мне относительно безопасным, да и находится оно далеко на западе — там со временем ты мог бы набраться сил. Но я не уверен, существует ли такое место на земле, где ты действительно был бы в безопасности, и не знаю, куда ведет твой путь. Мне очень не хочется посылать тебя в неизвестность, во тьму…
Первое время дом среди цветущих деревьев и сам островок внушали Геду покой и светлую радость. Он частенько посматривал на запад, в небеса, настроив свой волшебный слух на неуловимый, далекий шорох чешуйчатых крыл. Но ни один дракон так и не появился вблизи острова. Гед ловил с причала рыбу и ухаживал за садом. Порой он целыми днями, сидя под цветущим деревом, обдумывал одну-единственную страницу, строку или даже слово из тех мудрых книг, что привез с собой. Отак же спал рядом с ним или охотился на мышей в гуще трав и цветов. А еще Гед лечил жителей Лоу-Торнинга, предсказывал погоду и заклинал ветры, если его об этом просили. Ему, могущественному волшебнику, и в голову не приходило стыдиться столь примитивных просьб — ведь и в его роду были простые ведьмы, а вырос он среди еще больших бедняков, чем эти люди. Однако местные жители редко обращались к Геду с просьбами и отчасти побаивались его: и потому, что он настоящий волшебник с Острова Мудрецов, а также — из-за неразговорчивого характера и покрытого шрамами лица. Было в нем что-то такое, хоть он и выглядел совсем молодым, что держало людей на расстоянии.
И все же Гед нашел себе друга по имени Печварри — лодочника с соседнего островка. Они познакомились у причала, когда Гед, проходя мимо, остановился и стал смотреть, как лодочник прилаживает к ботику мачту. Заметив это, тот глянул на волшебника, ухмыльнулся и сказал:
— Ну вот, почти месяц возился. Небось ты-то в минуту все сделал бы, только слово нужное сказать надо, да, господин мой?
— Сделал бы, наверно, — откликнулся Гед, — может, и быстрее, да только ботик скорее всего уже через минуту затонул бы или пришлось бы все время шептать заклятья. Но, если хочешь… — он вдруг запнулся.
— Что хочу, господин?
— Вообще-то ботик у тебя прекрасный! И никаких заклятий ему не требуется. Но, если хочешь, я могу сделать так, чтобы лодка эта никогда не давала течи и, что бы ни случилось, всегда возвращалась домой с моря.
Он говорил не очень уверенно, боясь своим предложением обидеть умелого лодочника, но лицо Печварри просияло.
— Этот ботик делал я для сына, и если ты, господин волшебник, еще поколдуешь над ним, будешь так милостив, я тебе век от всего сердца служить стану.
Лодочник выбрался на причал и горячо пожал Геду руку, снова и снова выражая ему свою благодарность.
Потом они часто работали вместе — мастерили новые лодки или чинили старые, и Гед своими заклинаниями делал замечательную работу Печварри еще лучше, а взамен учился у лодочника его мастерству и искусству править лодкой на море без помощи магии: искусство это держалось в тайне от учеников Школы на острове Рок. Гед, Печварри и его маленький сын Айоэт нередко уплывали далеко в море по проливам на самых различных судах, под парусом или на веслах, пока Гед в полной мере не овладел ремеслом моряка, и к этому времени дружба между ним и Печварри стала уже делом решенным.
Но как-то поздней осенью сынишка лодочника сильно заболел. Мать его привезла с острова Теск колдунью, известную травницу, и день или два все шло, казалось бы, на поправку. Как вдруг ночью, когда на море бушевал жестокий шторм, в дверь Геда загрохотал кулаками Печварри. Он умолял спасти сына, и Гед со всех ног бросился за ним; они вскочили в лодку, навалились на весла и помчались по бурным волнам к дому лодочника. Мальчик был распростерт на лежанке; его молчаливая мать сгорбилась у изголовья, а колдунья не переставая жгла корень корли и повторяла нараспев заклинание Нагиана — с ее точки зрения, это были лучшие средства от данной болезни. Однако она шепнула Геду:
— Господин волшебник, мне кажется, что у мальчика красная лихорадка; он не переживет этой ночи…
Когда Гед склонился над ребенком и коснулся его лба, он понял, что колдунья права, и на мгновение отшатнулся. За долгие месяцы его собственной тяжкой болезни Мастер Травник открыл ему немало секретов врачевания, и самым главным из них был следующий: умерь боль раненого тела, лечи его болезни, но, если умирает душа, отпусти ее.
Мать мальчика, заметив его резкое движение, поняла все и в отчаянии громко заплакала. Печварри топтался возле нее, приговаривая:
— Господин Ястреб непременно спасет нашего мальчика. Нечего плакать, жена! Он теперь здесь, наш волшебник, и он спасет малыша.
Услышав жалобный плач женщины и чувствуя, как сильно Печварри верит в него, Гед растерялся: он не знал, что ему предпринять, боясь разочаровать этих несчастных людей. Решив, что ошибся в диагнозе, он попытался спасти мальчика, сбивая жар, и пообещал другу:
— Я сделаю все, что в моих силах.
Гед обмывал мальчика холодной дождевой водой, которую родители непрерывно меняли, благо лило как из ведра, произносил различные заклинания, но ничто не помогало, никакие слова не имели силы, и вдруг Гед понял, что ребенок умирает у него на руках.
И тогда, призвав на помощь все свои магические силы и совершенно позабыв об угрожающей ему самому опасности, Гед послал свою душу вслед за душой ребенка, пытаясь вернуть его в этот мир. Он позвал мальчика по имени: «Айоэт!» — и ему показалось, что внутренним слухом своим уловил слабый отклик. Тогда Гед продолжил погоню, время от времени называя имя ребенка. Вскоре он увидел и его самого: мальчик быстро бежал далеко впереди Геда вниз по склону какой-то мрачной горы или холма. Не было слышно ни звука. Над головой висели совсем иные, чем здесь, звезды, но Гед почему-то знал названия чужих созвездий: Сноп, Ворота, Рулевой, Древо… Созвездия эти в черных небесах не двигались и не гасли: солнце никогда не всходило в этом мире. Пытаясь догнать умирающего мальчика, Гед зашел слишком далеко в царство смерти.
Осознав это, он увидел, что остался на склоне темного холма один. Повернуть назад оказалось трудно, очень трудно. Но он все-таки повернул. С огромным усилием сделал шаг вверх по склону холма, потом еще один. Так, благодаря лишь чудовищным усилиям воли, шаг за шагом продвигался он к вершине. И каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего.
Звезды в небе не двигались. Ни разу не вздохнул ветерок над покрытым густым слоем пыли склоном. Во всем этом бескрайнем царстве тьмы двигался лишь он один, медленно взбираясь вверх. Поднявшись на вершину холма, Гед увидел невысокую каменную стену. Перелезть через нее было бы нетрудно, но прямо за ней лицом к нему стояла Тень.
Она не напоминала обличьем своим ни человека, ни зверя. У нее как бы вообще не было формы, очертания ее расплывались, и все же Тень что-то сердито шептала, обращаясь к нему, Геду, хотя слов было не разобрать.
И она стояла по ту сторону стены, где была жизнь, а он — там, где смерть.
И теперь ему либо нужно было спускаться назад, в пустынные земли, в лишенные света города мертвых, либо перешагнуть через стену, к жизни, туда, где поджидала его бесформенная тварь, порождение Зла.
Он высоко поднял свой волшебный посох, зажав его в руке. И тут силы словно вернулись к нему. Когда он изготовился прыгнуть через невысокую стену прямо на Тень, посох внезапно вспыхнул белым, ослепительным в этой сумеречной стране светом. Гед прыгнул, почувствовал, что падает, и свет померк в его глазах.
Вот что в этот момент увидели Печварри, его жена и колдунья: молодой волшебник запнулся посреди заклинания, какое-то время стоял неподвижно, держа ребенка на руках, потом бережно опустил маленького Айоэта на постель, распрямился и стоял молча, зажав свой посох в руке. Внезапно он высоко поднял посох, и на конце его сверкнул белый огонь, похожий на шаровую молнию, и тут все вещи в доме как бы ожили, задвигались сами собой. Когда же наблюдавшие это пришли в себя от изумления, то увидели, что молодой волшебник лежит ничком на земляном полу рядом с постелью, где покоится мертвое дитя.
Печварри решил было, что и Гед тоже умер. Жена его тихо плакала, сам же он был потрясен до глубины души. Однако колдунья, кое-что разумевшая в магии и слышавшая о тех краях, куда может попасть настоящий волшебник, позаботилась, чтобы Геда, совершенно безжизненного и холодного, все же не считали покойником, объяснив, что юноша как бы болен или скорее зачарован. Его отнесли домой, и старая ведьма осталась, чтобы присмотреть за ним, а заодно и выяснить, уснул ли он навсегда или все же очнется.
Маленький отак спрятался где-то на чердаке, как всегда, когда в дом приходили чужие, и оставался там, а дождь все хлестал и хлестал по стенам, и огонь в очаге погас, в дом тихонько прокралась ночь, заставив старуху клевать носом. Тогда из своего убежища вылез отак, забрался на постель, где неподвижно и почти не дыша лежал его хозяин, и своим сухим, похожим на коричневый листок язычком начал вылизывать его пальцы и ладони; лизал долго, заботливо, потом, пристроившись поближе к подушке, стал лизать виски Геда, покрытую шрамами щеку и, особенно нежно, закрытые глаза. Очень медленно, постепенно нежные эти прикосновения привели Геда в сознание. Он открыл глаза, не понимая, где побывал, где находится теперь и что это за слабый серый свет вокруг. За окном разливалась заря. И отак, засыпая, привычно свернулся у плеча своего хозяина.
Позже, когда Гед вспоминал и обдумывал события той ночи, он понял, что, если бы кто-то живой не коснулся его, утратившего душу, и не позвал обратно в этот мир, он вполне мог бы остаться в стране мертвых навсегда. Лишь слепая инстинктивная мудрость зверей, которые вылизывают своих раненых сородичей, желая утешить их и успокоить, спасла его, но в этой мудрости отака Гед видел нечто родственное собственной своей волшебной силе, нечто глубинное, как и чародейство, связанное с Древними Силами Земли. С этого времени он навсегда уверовал в единство по-настоящему мудрых людей со всеми прочими живыми существами, люди это или бессловесные твари, и в последовавшие годы скитаний немало усилий приложил к тому, чтобы научиться понимать тех, кто погружен в безмолвие, — глаза животных, полет птиц, величественные медлительные жесты деревьев.
Теперь он впервые совершил невредимым тот переход через Порог и обратно, который с открытыми глазами может совершить лишь настоящий волшебник и который даже самому великому магу всегда грозит страшной опасностью. Но в этот мир вернулся он навстречу горю и страху. Он горевал из-за своего друга Печварри, а страх испытывал из-за себя самого. Он до сих пор так и не смог узнать, почему тогда Верховный Маг боялся отсылать его далеко от Рока и что именно застилало пеленой его, Геда, путь так, что даже сам Геншер не смог разглядеть его будущее. А путь его застилала сама Тьма, и поджидала его на этом пути та безымянная тварь, что этой Тьмой была порождена и не принадлежала к миру живых. Та Тень, которую он сам выпустил из небытия или невольно создал. В стране мертвых, у самой границы между жизнью и смертью, она ждала его долгие годы. И дождалась. Теперь она будет следовать за ним по пятам, выискивая момент, чтобы подобраться поближе, отнять у него силы, высосать из него жизнь и завладеть его личиной.
В первое время во сне тварь виделась Геду в облике странного медведя, лишенного головы и глаз. Он думал, как она бродит вокруг, ощупывая стены его дома и пытаясь проникнуть внутрь. Эти сны не снились ему с тех пор, как зажили рубцы, нанесенные когтистыми лапами. Теперь Гед просыпался в поту, его бил озноб, а старые шрамы на лице и плече воспалялись и болели.
С тех пор начались плохие времена. Когда Тень снилась ему или когда он слишком много думал о ней, его всегда охватывал леденящий ужас; разум и силы покидали его, он казался себе глупым и каким-то растерянным. Страх перед Тенью безумно злил его, но он ничего не мог с собой поделать. Ему очень нужна была поддержка, вот только чья и против кого? Ведь тварь эта была лишена плоти и не принадлежала ни к миру живых, ни к миру мертвых; она не имела имени и вообще была как бы Ничем, и обладала лишь одним: страшным могуществом, не подчиняющимся законам земной живой жизни, которое он сам некогда дал ей. Единственное, что он о ней теперь знал точно, — это то, что Тень связана именно с ним и через него постарается осуществлять свои планы, будучи его творением, плодом его непросвещенной деятельности. Но в каком обличье явится она в этот мир, сама не имея плоти и формы, каким способом найдет его и когда — этого Гед не знал.
Свой дом и весь островок он окружил самыми разнообразными волшебными преградами. Однако все это требовало так много сил, что Гед понял, что скоро израсходует их все только на эту защиту, и жителям Лоу-Торнинга не будет от него никакого проку, особенно если с острова Пендор все-таки прилетит хоть один дракон.
И снова ему приснился сон; но на этот раз ему снилось, что Тень проникла внутрь дома, шевелится возле двери во тьме и старается до него дотянуться. Она снова шептала слова, которых он не понимал. Гед в ужасе проснулся и зажег волшебный огонь; он осветил каждый уголок, чтобы убедиться, что в доме никого нет. Потом подкинул дров в очаг и уселся там, освещаемый языками пламени и слушая, как осенний ветер шуршит в соломенной кровле и свистит в высоких голых деревьях вокруг дома. Долго сидел он в задумчивости. В сердце проснулся былой гнев. Не станет он беспомощно ждать, сидя словно в ловушке на этом островке и бормоча бесполезные заклятья! Но сразу решиться вылезти из своей норы он не мог: если он просто уедет отсюда, то нарушит договор с жителями островов, беззащитными перед ужасной угрозой. Оставался только один путь.
На следующее утро Гед отправился на лодке к главной пристани Лоу-Торнинга, отыскал вождя общины и сказал ему:
— Я вынужден буду покинуть эти края: мне грозит опасность, а стало быть, и вам тоже. А потому прошу вас разрешить мне отправиться на остров Пендор и там попробовать сразиться с драконами или еще каким-либо образом решить эту задачу и выполнить вашу главную просьбу. Только тогда я с чистой совестью смогу уехать отсюда. Если же мне суждено погибнуть, то это может случиться и здесь, особенно если сюда пожалуют драконы. Так что давайте решим все заранее и не откладывая в долгий ящик.
Вождь был настолько потрясен, что у него отвисла челюсть. Он долго смотрел на Геда и наконец сказал:
— Господин Ястреб, а ты знаешь, что там девять драконов?
— Говорят, что восемь из них еще молодые.
— Зато старый…
— Говорю тебе, я должен уехать отсюда. И прошу сперва разрешить мне попытаться избавить вас от страшной угрозы.
— Ну, как хочешь, господин мой, — мрачно сказал вождь.
Все, кто слышал этот разговор, сочли, что молодой волшебник сошел с ума или просто лезет на рожон. С мрачными лицами провожали Геда островитяне, не надеясь увидеть его снова. Некоторые намекали, что парень просто хочет сбежать и, обогнув Хоск, укрыться во Внутреннем Море, бросив их в беде; другие же, в том числе и Печварри, были уверены, что волшебником овладело безумие и он ищет смерти.
По крайней мере четыре поколения островитян прокладывали курс своих кораблей так, чтобы держаться как можно дальше от острова Пендор. Ни один маг не являлся сюда, чтобы открыто вступить в бой с драконом, к тому же Пендор лежал вдали от населенных земель и основных морских путей, и правили островом и морями вокруг пираты и работорговцы, злобные воинственные люди, которых ненавидели все обитатели юго-запада Земноморья. Именно поэтому никто даже и не пытался отомстить за погибшего правителя острова Пендор, когда дракон внезапно напал на него — он со свитой как раз пировал в одной из башен замка — и мигом превратил в пепел всех, кто там был, а остальных жителей, оставшихся в живых после побоища, загнал в море и утопил, несмотря на их жалобные стоны и плач. Заваленный трупами, неотмщенный Пендор остался в полной власти дракона, и он правил там, поселившись в развалинах замка и охраняя свою сокровищницу, полную награбленного добра, принадлежавшего ранее не одному поколению прежних правителей не только Пендора, но также Пална и Хоска.
Все это Геду было прекрасно известно, не говоря уже о том, что со дня прибытия в Лоу-Торнинг он постоянно вспоминал все когда-либо слышанное или читанное о драконах и строил различные планы. Взяв курс на запад и впустив в паруса волшебный ветер — то есть без помощи весел или ветра, не пользуясь тем ремеслом, которому его обучил Печварри, — Гед наложил заклятье, державшее судно по курсу, и неотрывно смотрел вперед. Вскоре он увидел, как на горизонте, между небом и морем, медленно поднимается мертвый остров Пендор. Гед жаждал, чтобы встреча его с драконами произошла как можно скорее (потому он и прибегнул к помощи волшебного ветра), ибо страшился оставшегося позади больше, чем того, что ждало его впереди. Но уже к концу первого дня путешествия страх в нем сменился какой-то веселой яростью. Наконец-то он по собственному желанию шел навстречу опасности, и чем ближе была эта опасность, тем сильнее росло в нем ощущение полной, абсолютной свободы. Возможно, он и находился на краю смерти, но проклятая Тень явно не осмелилась последовать за ним — дракону в пасть. По серому морю катились белые барашки волн, и
серые тучи неслись над головой, подгоняемые северным ветром. Гед мчался на запад, и волшебный ветер наполнял паруса его лодки, и вскоре завиднелись скалы Пендора, пустынные улицы городов и полуразрушенные башни дворцов.
При входе в неглубокую, полумесяцем выгнутую бухту Гед снял заклятие и остановил суденышко, которое теперь тихонько покачивалось на волнах. Громким голосом он воскликнул:
— Выходи, властелин Пендора! Гнездо твое в опасности!
Волны тяжело бились о берега, словно посыпанные пеплом, и голос Геда в шуме прибоя звучал едва слышно, но у драконов слух тонкий. И вот уже один взлетел со стены разрушенного городского дома, повиснув в воздухе как огромная летучая мышь. Потом, шурша перепончатыми крыльями и чешуйчатым телом, он кругами в потоках северного ветра стал спускаться к тому месту, где находился его противник. У Геда екнуло сердце при виде этого существа, как бы явившегося из сказок Земноморья, но он засмеялся и снова крикнул:
— Эй ты, ветряной червяк! Ступай, позови Старого Дракона!
Ему было ясно, что при всей своей величине это всего лишь детеныш, отпрыск Старого Дракона и драконихи из Западного Предела. Некогда она сделала кладку яиц в одной из залитых солнцем разрушенных башен Пендора и улетела прочь, как это делают все драконихи, оставив папашу следить за потомством, которое, подобно обычным, но только ужасного вида ящерицам, постепенно выползало из скорлупы.
Молодой дракон отвечать не стал. Он был, собственно, не так уж и велик, длиной, пожалуй, не больше сорокавёсельной галеры; огромного размаха кожистые крылья только подчеркивали, какое тощее и слабое пока у него тело. Молодой дракон не достиг еще должных размеров и не способен был ни на устрашающий чудовищный рев, ни на подлинную драконью хитрость. Он спикировал прямо на Геда, стоявшего в покачивавшейся на волнах лодчонке, разинул длинную зубастую пасть, так что Геду оставалось только связать юному ящеру крылья одним коротко произнесенным заклятьем, и тот, подобно каменной глыбе, со страшным шумом рухнул в море. Серые волны сомкнулись над ним.
За первым драконом последовали еще два, поднявшиеся от подножия самой высокой башни города. В точности, как и первый, они спикировали на Геда, и в точности, как и первого, он обоих связал заклятьем и утопил в море; пока еще ему ни разу не пришлось даже поднять свой волшебный посох.
Еще через некоторое время с острова вылетело сразу три дракона. Один из них был гораздо крупнее остальных, и из пасти его вырывались языки пламени. Двое меньших летели, гремя крыльями, прямо на Геда, зато большой весьма ловко, сделав круг, зашел сзади, стремясь сжечь и Геда, и его лодку своим огненным дыханием. Ни одно заклятие не смогло бы подействовать на троих сразу, потому что нападали они с разных сторон — двое с севера, один с юга. Успев осознать это, Гед произнес заклятье Превращения и тут же взмыл в небеса в обличье дракона.
Расправив широкие крылья и выставив когти, он атаковал тех, что летели к нему с севера, обжег их пламенем, а потом повернулся к третьему, более крупному и тоже изрыгавшему пламя. В потоках ветра над серыми волнами оба дракона сжимались пружиной, щелкали челюстями и стремительно бросались в атаку, окруженные дымом и пламенем. Изменив маневр, Гед резко взмыл вверх; противник, последовавший за ним, немного отстал. И тут Гед-дракон сложил крылья и камнем бросился вниз, подобно ястребу, выставив страшные когти, вонзил их в шею и бок врага, увлекая вниз и его. Черные крылья дракона с Пендора дрогнули, и черная драконья кровь крупными каплями закапала в море. Он вырвался из когтей Геда и полетел низко над водой, припадая на одно крыло, обратно к острову, где, видно, и спрятался в каком-нибудь колодце или разрушенной башне.
Гед немедленно принял свой прежний вид и спустился в лодку, ибо страшной опасностью грозит длительное пребывание в обличье дракона. Руки юноши были покрыты ожогами от ядовитой драконьей крови, а волосы на голове опалены огнем из страшной пасти, но Гед этого даже не замечал. Он выждал лишь несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и снова воззвал:
— Шестерых видел я, пятеро убиты, говорят, что всего вас десять. Так выходите же, червяки!
Ничто не шелохнулось на острове, не прозвучало ни звука в затянувшейся тишине, лишь волны с грохотом обрушивались на скалы. Потом Гед заметил, что самая высокая башня будто бы медленно меняет свои очертания, вытягиваясь то в одну сторону, то в другую, словно расправляя огромные руки. Он опасался древнейшей магии, которой владеют лишь драконы, волшебники весьма могущественные и коварные, волшебство которых не похоже на людское; но уже через мгновение понял, что это не иллюзия и не магия, а реальность. То, что он принял за странный выступ на башне, — оказалось плечом Старого Дракона, который медленно расправил чудовищные крылья и взлетел.
Когда он выпрямился во весь рост, его чешуйчатая, увенчанная острыми шипами голова с тремя языками вознеслась выше самой высокой башни, а передние лапы опирались на развалины старинных домов, как на осколки камней. Чешуя темно-стального цвета словно полированная отражала свет солнца. Дракон был жилистый и поджарый, словно гончий пес, и огромный, как гора. Гед в ужасе смотрел на него. Никакая героическая песня или легенда не смогла бы подготовить человека к восприятию подобного. Юноша уже видел перед собой глаза дракона, и это едва не погубило его, потому что в глаза эти смотреть нельзя. Гед с трудом отвел взгляд от маслянистых зеленых глаз, что следили за ним, и поднял перед собой волшебный посох, казавшийся теперь тонким прутиком, хворостинкой.
— Восемь сыновей было у меня, маленький волшебник, — сказал Старый Дракон иссушающим душу могучим голосом. — Пятеро погибли, один умирает — довольно. Логово мое тебе не захватить, хоть ты и убил их.
— Мне не нужно твое логово и твои сокровища тоже.
Желтый дымок с шипением вырвался из ноздрей дракона: так он смеялся.
— Может, высадишься на берег и посмотришь на него, маленький волшебник? На мои сокровища стоит посмотреть.
— Нет, дракон.
Драконы в родстве с ветром и огнем и неохотно вступают в бой над морем. Пока что это было единственным преимуществом Геда, и он не желал его терять; но узкая полоска морской воды, отделявшая его лодчонку от гигантских серых когтистых лап, не внушала ему уверенности.
Особенно трудно было не смотреть в зеленые сторожкие глаза.
— Ты еще очень молодой, волшебник, — сказал дракон. — Я не знал, что люди вступают в силу такими молодыми.
Он, как и Гед, пользовался Истинной Речью, потому что драконы до сих пор говорят только на этом языке.
Кроме того, Истинная Речь обязывает людей говорить только правду; а драконов — нет. Это их родной язык, и они могут лгать на нем, выворачивая его слова наизнанку, так что почти невозможно порой догадаться, каков их смысл; драконы как бы загоняют неосторожного слушателя в лабиринт этих слов-зеркал, каждое из которых вроде бы отражает правду, но не дает ее понимания и не ведет ровным счетом никуда. Во всяком случае, Гед об этом давно уже был предупрежден, и слова дракона слушал недоверчиво, каждое подвергая сомнению, хотя все они казались простыми и ясными.
— Ты пришел сюда, чтобы просить моей помощи, маленький волшебник?
— Нет, дракон.
— И все же я мог бы помочь тебе. Вскоре тебе понадобится помощь — против того, кто охотится за тобой в темноте.
Гед онемел.
— Кто же этот охотник? Назови мне его имя!
— Если бы я мог назвать его имя… — Гед заставил себя замолчать.
Желтый дымок поднялся над длинной головой дракона, вырвавшись из ноздрей, похожих на круглые огненные печи.
— Если бы ты мог назвать его имя, то мог бы, наверно, и повелевать им, маленький волшебник. Возможно, его имя тебе мог бы назвать я, если бы как следует его разглядел. А для этого нужно, чтобы оно подошло поближе к тебе. И оно непременно подойдет, если ты подождешь его тут. Оно догонит тебя повсюду, где бы ты ни был. Так что если не хочешь, чтобы оно приближалось к тебе, ты должен неустанно бежать, бежать и бежать от него. А оно будет следовать за тобой по пятам. Хочешь ли ты узнать его имя?
Гед снова застыл в молчании. Откуда дракону известно, что он выпустил Тень? Не мог же он просто догадаться, как не мог и знать имя Тени. Ведь Верховный Маг сказал, что имени у нее нет. Однако драконы обладают особой мудростью; род их куда старше человеческого. Лишь очень немногие из людей способны догадаться, что именно в том или ином случае дракону известно и откуда. Таких людей называют Повелителями Драконов. Геду пока что ясно было только одно: если этот дракон, что вполне возможно, говорит правду, то он действительно способен рассказать Геду об этой Тени и назвать ее имя, тем самым дав ему власть над ней. Но даже если все это так, даже если он говорит правду, то делает это лишь только в своих собственных интересах.
— Не часто, — проговорил наконец Гед, — драконы предлагают человеку свои услуги.
— Зато кошка почти всегда играет с мышью, — сказал дракон, — прежде чем съесть ее.
— Но я явился сюда вовсе не за тем, чтобы играть с тобой в кошки-мышки, дракон. Я пришел, чтобы заключить с тобой сделку.
Острый как меч, но, по крайней мере, раз в пять длиннее самого длинного из мечей хвост дракона метнулся, словно ядовитое жало гигантского скорпиона, над чешуйчатой спиной ящера, над башнями города. Сухо прошелестел его голос:
— Я не заключаю сделок ни с кем. Я просто беру то, что мне нужно. Что ты можешь предложить мне из того, что я не смог бы взять сам?
— Безопасность. Твою безопасность. Поклянись, что никогда не станешь летать над островами, лежащими к востоку от Пендора, и в ответ я дам тебе клятву, что никогда не причиню тебе никакого зла.
Жуткий звук, похожий на шум далекого горного обвала, вырвался из глотки дракона. Пламя заплясало в его пасти и на конце похожего на трезубец языка. Он распрямился во весь рост, громоздясь над руинами городских башен.
— Ты осмеливаешься предлагать это мне? Ты мне угрожаешь? Чем же это?
— Твоим именем, Йевод!
Голос Геда чуть дрогнул, когда он произносил это имя, но он выговорил его громко и ясно. И Старый Дракон застыл, словно каменное изваяние. Прошла минута, другая, и Гед, по-прежнему стоявший в своей жалкой, раскачивающейся на волнах скорлупке, широко улыбнулся. Он играл в опаснейшую игру, поставив на кон собственную жизнь против всего лишь догадки, не слишком точной информации, выуженной из старинных преданий о жизни драконов, которые он столь внимательно изучал на острове Рок. Еще тогда Гед предположил, что это, возможно, и есть тот самый дракон, что испоганил западное побережье острова Осскил во времена прекрасной Эльфарран и Морреда, а потом был изгнан с Осскила неким волшебником по имени Эльт, великим знатоком подлинных имен. И эта догадка оказалась верной!
— Мы с тобой равны, Йевод. Ты владеешь могучей силой, а я — твоим именем. Так станешь заключать со мной сделку?
Но дракон медлил с ответом.
Многие годы этот дракон властвовал на острове, где всюду среди побелевших костей и поломанных доспехов валялись покрытые пылью золотые нагрудные пластины, украшенные изумрудами; здесь он любовался играми своих сыновей, похожих на больших черных ящериц; здесь его дети учились летать, прыгая с полуразрушенных башен и утесов вниз; здесь он подолгу спал на солнце, и сон его не тревожил ни звук человечьего голоса, ни парус в морской дали. Он был уже очень стар, и тяжело было отряхнуть груз лет и встретиться лицом к лицу с этим молодым волшебником, его хрупким противником, чей волшебный посох заставил Йевода, Старого Дракона, содрогнуться от страха.
— В моей сокровищнице ты можешь выбрать любые девять камней, — прошипел он наконец, испуская клубы дыма. — Самые лучшие. Так что воспользуйся этой удачей. Потом уходи!
— Мне не нужны твои камни, Йевод.
— Куда же подевалась людская алчность? В прежние времена на севере люди очень любили блестящие камушки… Но я знаю, что тебе действительно нужно, волшебник. Я ведь тоже могу обеспечить тебе безопасность, ибо знаю единственное средство, которое могло бы спасти тебя. За тобой по пятам следует Ужас. Я назову тебе его имя.
У Геда екнуло сердце, и он стиснул свой посох, застыв в неподвижности, как и дракон. Мгновение он боролся с неожиданно возникшей надеждой на спасение.
Но он заключал сделку с драконом не ради собственной жизни. Только один-единственный раз мог он одержать верх над этим чудовищем. И он подавил страстное желание спасти себя, сделав то, что должен был сделать.
— Я не об этом прошу тебя, Йевод.
Произнося имя дракона, он чувствовал, что как бы держит это огромное существо на крепком тонком поводке, петлей стянувшем чудовищу шею. В неподвижном, устремленном на Геда взгляде дракона сосредоточилось, казалось, все древнее зло и бесконечно глубокое понимание людской натуры; Гед видел чудовищные стальные когти, каждый длиной с руку мужчины, твердую как камень чешую и языки пламени, пляшущие в полуоткрытой пасти. Но тонкий поводок вокруг шеи исполина стягивал ее все теснее и теснее. И Гед потребовал снова:
— Йевод! Поклянись именем своим, что ни ты, ни твои сыновья никогда не появитесь больше близ островов Архипелага.
Внезапно выдохнув целый сноп пламени и искр, дракон проревел:
— Клянусь! Клянусь своим именем!
Воцарилась полная тишина, и Йевод склонил огромную свою голову.
Когда же он снова поднял ее и глянул в морскую даль, волшебника уже не было; парус его суденышка белым лоскутком летел по волнам куда-то к востоку, к богатым сокровищами островам Внутреннего Моря. И тогда в гневе Старый Дракон Пендора поднялся и тяжестью своей сокрушил ближайшую башню до основания и огромными крыльями разметал ее обломки по всей округе. Но данная клятва связывала его, он остался на острове и никогда не летал больше в сторону Архипелага.
Глава 6
Преследуемый
Едва остров Пендор скрылся из вида, Гед, все время смотревший на восток, снова ощутил, как страх закрался ему в сердце: страх перед Тенью. Опасность, которую представлял собой дракон, была совершенно ясной, очевидной; теперь же возвращался тот прежний, безнадежный и бесформенный ужас, и плыть навстречу этой неведомой опасности оказалось очень трудно. Гед остановил волшебный ветерок и поплыл дальше, подгоняемый лишь обычным ветром, не спеша: спешить ему больше не хотелось. К тому же он не совсем ясно представлял, что делать дальше. Он должен бежать — так сказал дракон; но куда? На остров Рок, подумал он; там, по крайней мере, он окажется под защитой и всегда сможет воспользоваться советом Мудрых.
Однако сначала все равно нужно было попасть в Лоу-Торнинг и рассказать островитянам о сделке с драконом. Едва пролетел слух, что волшебник вернулся — на пятый день своего отсутствия! — по крайней мере половина жителей Лоу-Торнинга и соседних островов явилась, кто пешком, кто на веслах, к его дому. Люди окружили Геда, жадно глядели на него и, раскрыв рот, слушали. Он честно рассказал, как было дело, и тут же послышался чей-то голос:
— А кто это видел? Всех этих убитых и заколдованных Драконов? Чудеса да и только! А что, если он…
— Умолкни! — грубо оборвал сомневавшегося вождь общины, который, как, впрочем, и большинство островитян, знал, что волшебники, конечно, обладают особой манерой рассказывать истории, они могут и не говорить порой всей правды, держа ее при себе, но если уж волшебник сам о чем-то рассказывает, то так оно точно и было. И в этом суть его мастерства. А потому островитяне подивились, порасспрашивали и вскоре почувствовали, что страх перед драконами с Пендора улетучивается, исчезает, и радость охватила их души. Они толпились вокруг своего молодого волшебника и без конца просили его снова и снова рассказывать обо всем. С каждым часом людей становилось все больше, и каждый хотел услышать историю о драконе из собственных уст Геда. Впрочем, к вечеру соседи знали ее лучше него самого. Уже и местные певцы подобрали подходящую старинную мелодию и вовсю распевали «Песнь о Ястребе». Костры разожгли не только на островах Лоу-Торнинга, но и на более далеких, расположенных к югу и востоку от него. Рыбаки громко перекликались на своих лодках, передавая друг другу радостную весть, которая птицей перелетала с островка на островок: зло побеждено, драконы из Пендора не прилетят сюда никогда!
Эта ночь, единственная за последнее время, принесла Геду радость. Ни одна тень не смогла бы подобраться к нему при свете всех этих факелов и костров, которые в честь праздника сияли на каждом холме, на каждом пляже; хоровод смеющихся танцоров постоянно окружал Геда, ему пели хвалебные песни, в воздухе туманной осенней ночи раскачивались факелы, разрезая тьму яркими лучами, как ни старался ветер погасить их.
На следующий день Гед повстречался с Печварри, который сказал:
— Я и не знал, что ты так силен, господин мой.
И в голосе его звучал страх — ведь когда-то он осмеливался считать Геда своим другом, но слышен в нем был и упрек: Гед не смог спасти от смерти маленького мальчика, хоть и сумел победить драконов. После слов Печварри стыд и нетерпение вновь ожили в душе Геда; только в первый раз чувства эти погнали его к Пендору, а теперь из-за них ему приходилось покидать Лоу-Торнинг. И хотя островитяне с радостью оставили бы его у себя навсегда — они по-прежнему неустанно прославляли его и буквально носили на руках, — Гед на следующий же день покинул домик на холме, не взяв с собой ничего, кроме книг и посоха; отак, как всегда, сидел у него на плече.
Геда повезли из Лоу-Торнинга двое молодых парней, которые, сидя на веслах, очень гордились столь важной миссией. Они плыли меж судов, толпящихся в узких проливах, под самыми балконами и эркерами домов, нависших прямо над водой, мимо причалов Неша, влажных пастбищ Дромгана, мимо дурно пахнущих маслодавилен Гита — и всюду слава о подвиге молодого волшебника летела впереди него. Всюду люди насвистывали «Песнь о Ястребе», стоило лодке Геда показаться вблизи; всюду Геда упрашивали погостить хотя бы ночку и рассказать о битве с драконом. Когда же наконец они добрались до Серда, капитан корабля, которого Гед попросил довезти его до Рока, лишь поклонился в ответ и сказал:
— Это великая честь для меня и моей команды, господин волшебник!
Итак, Гед покинул Девяносто Островов, но едва корабль вышел из гавани Серда и поднял паруса, как с востока налетел сильнейший ветер, не дававший судну двигаться вперед. Это было очень странно: холодное ясное небо, казалось, не предвещало бури. От Серда до Рока было всего несколько часов пути, так что судно продолжало плыть, несмотря на то что ветер усилился. Как и большинство торговых судов Внутреннего Моря, корабль этот имел один большой косой парус, который легко было повернуть, чтобы поймать нужный ветер, а капитан, бывалый моряк, не без оснований гордился своим искусством. Так что, меняя галс то к югу, то к северу, они все же продвигались к востоку. Встречный ветер принес тучи, дождь, разразилась настоящая буря, и возникла опасность, что корабль вот-вот опрокинется.
— Господин Ястреб, — сказал шкипер молодому волшебнику, стоявшему рядом, как и подобает почетному гостю — хотя какие уж тут почести: ливень промочил всех до нитки и люди выглядели жалкими в облепившей их одежде, — господин Ястреб, не могли бы вы сказать словечко этому ветерку?
— Как близко мы теперь от Рока?
— Осталось меньше половины пути. Но за этот час мы вовсе не сдвинулись с места.
Гед произнес заклятье, ветер стал дуть потише, и какое-то время судно довольно хорошо шло на восток. Потом вдруг откуда-то с юга со свистом принеслись новые сильные ветры, и корабль опять стало сносить к западу. Облака кипели и клубились в небе; в гневе капитан проревел:
— Этот чертов ветер дует сразу со всех сторон! Только волшебство сможет помочь нам в такой шторм, господин мой.
Гед был мрачен, он не очень-то верил, что заклятье поможет, но корабль и команда оказались в опасности из-за него, а потому он все-таки поднял свой посох и коснулся им паруса. И тут же корабль, рассекая волны, понесся прямо на восток, а шкипер мгновенно повеселел. Но понемногу, хоть Гед и не снимал заклятия, волшебный ветер начал терять свою силу, потом и вовсе ослабел, и корабль, на мгновение застыв в неподвижности, сник совсем, паруса его обвисли, а беснующиеся волны швыряли судно, как скорлупку. Потом загрохотал гром, сверкнула молния, корабль завертелся, подпрыгнул, словно испуганная кошка, и лег носом на север.
Гед что было силы уперся плечом в мачту, которая почти завалилась набок, и прокричал:
— Поворачивай к Серду, шкипер!
Шкипер пожал плечами и прокричал в ответ:
— Ни за что! У меня на борту могущественный волшебник, а я сам — лучший здешний моряк, да и корабль этот прочнее любого из многих — и чтобы мне повернуть назад?!
Но, когда судно вновь повернулось вокруг своей оси, словно килем попав в водоворот, а самому шкиперу пришлось ухватиться за ахтерштевень, чтобы не смыло за борт, Гед повторил:
— Оставь меня в Серде, капитан, и плыви куда хочешь. Это не просто буря, с которой твой корабль справился бы шутя. Этот ветер выпущен против меня.
— Против тебя, одного из волшебников Школы?
— А ты, капитан, разве никогда не слыхал о Ветре Рока?
— О да, слышал; он не пускает злые силы на Остров Мудрых. Но какое это имеет отношение к тебе, Повелитель Драконов?
— Дело тут не во мне, а в моей Тени, — кратко и непонятно ответил Гед, как и подобает волшебнику; и больше не прибавил ни слова.
Все то время, что они на большой скорости с надутыми парусами под ясным небом мчались по морю к порту Серд, Гед молчал. Тяжело было у него на душе, страх леденил сердце, когда он побрел вверх по улочкам Серда прочь от гавани. Приближалась зима, дни становились короче, и скоро сгустились сумерки. С наступлением темноты постоянная тревога Геда возросла, как всегда; теперь ему казалось, что каждый поворот таит угрозу, и он лишь усилием воли заставлял себя не оглядываться каждую минуту, словно опасаясь, что кто-то неожиданно нападет на него сзади. Вскоре он вошел в гостиницу, принадлежавшую морской общине Серда, где за одним столом и почти бесплатно с удовольствием пировали путешественники и купцы, которые могли потом и переночевать все вместе в том же длинном зале с балками под потолком. Такие гостиницы есть на всех процветающих островах Внутреннего Моря.
За обедом Гед отложил кусочек мяса для отака, а потом, сидя у камина, вытащил зверька из складок своего капюшона, где тот прятался весь день, и попытался накормить его, поглаживая по спинке и нашептывая:
— Хёг, Хёг, малыш ты мой бессловесный…
Но зверек есть не стал и снова забрался в карман Геда — спрятался. Его поведение и ощущение тупого страха при одном только виде черной тьмы, сгустившейся по углам огромной комнаты, говорили Геду, что ужасная Тень совсем близко.
Никто здесь его не знал: все гости приплыли с других островов и еще не слышали «Песни о Ястребе». Ни один из них с Гедом даже не заговорил. Он выбрал себе местечко, улегся, но глаз не сомкнул всю ночь. Глядя на балки над головой и слушая дыхание незнакомых спящих людей, он пытался определить свой дальнейший путь, решить, куда идти теперь и что предпринять, но тут же отбрасывал любой вариант, любой план, словно приговоренный к нерешительности. Страшная Тень, казалось, поджидала его на любом из всех возможных путей. Только Рок был от нее свободен, но на Рок попасть он не мог: ему мешали высшие, древнейшие заклятья, что хранили остров от злых сил. И раз Ветер Рока поднялся против него, значит, Тень совсем рядом.
Тварь эта не имела тела, не могла видеть солнечный свет и явилась из царства Тьмы, где нет ни солнца, ни времени, ни направления. И вот она тащилась за Гедом сквозь череду дней, через все моря нашего солнечного мира, но увидеть ее можно было лишь во сне или во тьме. До поры до времени она лишена была плоти или, по крайней мере, оболочки, видимой при свете солнца; ведь почти так и говорится в «Подвиге Хоуда»:
Небо светлеет. Кончается ночь,
Из тени выходит земля,
Виденья снов уносятся прочь
В обитель Тьмы короля…
Но, если Тени удастся проникнуть в Геда, она вытянет из него все силы, отберет плоть, теплое и живое его тело, и лишит воли — главного, чем он жив пока.
Вот что в итоге сулила Геду судьба, и он понимал: существует множество хитрых уловок, чтобы отправить его навстречу смертельной опасности, ведь Тень каждый раз, приблизившись к нему, становилась сильнее, и, вполне возможно, она и сейчас уже достаточно сильна, чтобы использовать в своих целях злые силы или злых людей; она могла, например, дать Геду ложный знак в пути или заговорить с ним голосом кого-то из незнакомцев. Он ясно ощущал сейчас, что в ком-то из этих людей, спящих в обширном зале с балками под потолком, таится, найдя убежище в чьей-то подлой душонке и выжидая, темная тварь, которая наблюдает за Гедом и по-прежнему питает свои силы его слабостью, его неуверенностью, его страхом.
Вынести это было невозможно. Он должен довериться судьбе, и пусть она ведет его сама. С первыми же холодными проблесками зари Гед поднялся и пошел под блекнувшими в небесах звездами к гавани, решив сесть на первый попавшийся корабль, который согласится взять его на борт. Какая-то галера у причала грузила на борт бочки с рыбьим жиром. Она отплывала с восходом в главный порт Хавнора. Гед попросил шкипера взять его пассажиром. Посох волшебника обычно служит на судах и пропуском и платой. Геда взяли охотно, и уже через час корабль вышел из гавани. Юноша приободрился, увидев, как сорок мощных весел разом поднялись в воздух и зарокотал барабан, задавая гребцам бодрый ритм.
И все же он пока совершенно не представлял себе, что будет делать в Хавноре и куда направится дальше. Можно дальше, на север — не все ли равно? Тем более что он сам северянин. Может, отыщется корабль, который довезет его от Хавнора до Гонта; тогда ему, возможно, снова удастся увидеть Огиона. Или лучше найти корабль, плывущий в Дальние Пределы, где Тень потеряет его след и прекратит преследование. Кроме этих, весьма смутных идей, у Геда не было никакого конкретного плана, и ни одного пути, ведущего к ясной цели, он перед собой не видел. Пока он должен лишь бежать, спасаться…
На второй день пути благодаря сорока мощным веслам они еще до заката вошли в холодные воды гавани порта Оррими, что на восточном берегу острова Хоск. Торговые галеры во Внутреннем Море предпочитают каботажное плавание и на ночь стараются по возможности укрыться в каком-нибудь порту. Гед сошел на берег, потому что было еще совсем светло, и побрел наобум по крутым улочкам портового городка, погруженный в свои мысли.
Оррими — город старый; прочные его здания из камня обнесены высокими стенами — на случай нападения не признающих законов диких племен центральной части острова Хоск; пакгаузы в порту напоминают крепости, а дома купцов, украшенные башнями, прячутся за каменными оградами. И все же Геду, бродившему в тот вечер по улицам, все эти могучие укрепления казались чем-то призрачным, бесплотным, скрывавшим лишь черную пустоту; а прохожие, спешившие по своим делам, представлялись не настоящими людьми, а немыми тенями. На закате он снова вернулся в порт, и даже там, в широкой полосе солнечного света на вечернем ветру море и земля показались ему одинаково мрачными и молчаливыми.
— Куда спешите, господин волшебник?
Кто-то неожиданно окликнул его из-за спины. Обернувшись, он увидел мужчину, одетого в серое, с тяжелым деревянным посохом, но только не волшебным. Лицо незнакомца было скрыто капюшоном плаща, и красные лучи закатного солнца на него не попадали, но Гед почувствовал, что невидимые глаза прямо-таки впились в него. Отшатнувшись, он поднял руку, и его волшебный посох оказался между ним и незнакомцем. Тот вкрадчиво спросил:
— Вы чего-то боитесь?
— Того, что вечно следует за мной по пятам.
— Ах так? Но я же не ваша тень.
Гед стоял молча. Он понимал, что этот человек, кто бы он ни был, вовсе не то, чего он боится: он был вполне живой и не походил ни на Тень, ни на оборотня. Вокруг царила какая-то странная, колючая тишина, вечер окутал все загадочной дымкой, но голос незнакомца звучал вполне по-человечески, а под плащом явственно ощущалось довольно-таки плотное тело. Теперь он откинул капюшон и обнажил странно приплюснутую, лысую голову. Лицо его было покрыто морщинами, выглядел он стариком, хотя по голосу об этом трудно было бы догадаться.
— Я вас не знаю, — сказал человек в сером, — но все же думаю, что встреча наша не случайна. Мне приходилось слышать историю о юноше, покрытом шрамами, который пробился сквозь Тьму и стал великим властелином, чуть ли не королем. Не знаю, имеет ли эта история отношение к вам. Но вот что я вам скажу: ступайте ко двору Терренона, если вам нужна шпага для поединка с Тенью. Волшебного посоха для такого поединка недостаточно.
Надежда и недоверие боролись в душе Геда, порожденные этими словами. Постигший мудрость подлинного волшебства скоро начинает понимать, что лишь очень и очень немногие из его встреч действительно назначены судьбой, злой или доброй.
— А в каких краях находится дворец Терренона?
— На острове Осскил.
Слово «Терренон» на мгновение вызвало в памяти Геда яркую картину: черный ворон на зеленой траве, искоса поглядывающий на него блестящими, как самоцветы, глазами и говорящий странные слова; однако слова те забылись.
— Остров этот, кажется, пользуется дурной славой, — сказал Гед, не сводя глаз с человека в сером и пытаясь определить, кто же он такой. Что-то в нем было от колдуна, даже от волшебника; и в то же время, хотя речь его и была исполнена достоинства, в его облике проскальзывало нечто жалкое, какая-то униженность чувствовалась в нем, и взгляд его походил на взгляд больного, или узника, или раба.
— Вы же с Рока, господин мой, — ответил он Геду. — Волшебники с Рока считают, что иное, чем у них, волшебство всегда дурно.
— Но что вы за человек?
— Просто путешественник, торговый агент из Осскила; здесь я по делу, — сказал человек в сером.
Гед решил прекратить свои расспросы, и старик, смиренно пожелав ему спокойной ночи, двинулся по узенькой извилистой улочке вверх, прочь от порта.
Гед вернулся к причалам, не решив еще, стоит ли ему принимать во внимание советы незнакомца, и посмотрел на север. Красный отсвет заката быстро меркнул, исчезая с холмов, окружающих гавань, и с поверхности неспокойного моря. Спустились серые сумерки, за ними по пятам пришла ночь.
Внезапно решившись, Гед торопливо подошел к какому-то рыбаку, укладывавшему свои сети в плоскодонку, и окликнул его:
— Не знаешь ли, идет сегодня какой-нибудь корабль к северу — на Семел или на Энлад?
— Вон тот длинный корабль из Осскила; он, наверно, остановится на Энладе.
Гед, по-прежнему торопливо, направился к указанному судну — шестидесятивёсельному, длинному, как змея, с высоким, украшенным резьбой и мозаикой из раковин-лото носом, с красными уключинами для весел; на каждом его борту черной краской была написана руна Сифл. Судно выглядело на редкость мрачно, но казалось быстрым и было полностью готово к отплытию. Вся команда была на борту. Гед отыскал капитана и попросил взять его пассажиром до Осскила.
— Заплатить можешь?
— Я умею заклинать ветер и еще кое-что…
— Это я и сам умею. А что, больше тебе заплатить нечем? Ни гроша, что ли?
В Лоу-Торнинге островитяне заплатили Геду, как смогли, — пластинками из слоновой кости, которые используются на Архипелаге в качестве денег; он ни за что не хотел брать больше десяти, хотя они настаивали, чтобы он взял больше. Гед предложил слоновую кость шкиперу, но тот только головой покачал.
— Нет, это у нас за деньги не считают. Так что если тебе платить нечем, то у меня на борту для тебя места нет.
— Может, нужен гребец? Я служил когда-то на галере.
— Да, у нас двоих не хватает. Что ж, раз так, занимай свое место, — согласился шкипер и перестал обращать на Геда внимание.
Итак, сунув свой посох и сумку с книгами под скамью, Гед на десять тяжких дней превратился в гребца на осскильской галере. С рассветом они вышли из Оррими, и весь первый день Гед думал только о том, как бы справиться с веслом. Левая рука у него двигалась не очень хорошо, изуродованная старыми шрамами, а его умение ловко орудовать легкими веслами, плавая по бесчисленным проливам Лоу-Торнинга, для галеры годилось мало, не хватало и тренировки, приходилось без конца налегать, налегать и налегать на длинное весло под неумолчный рокот барабана. Смена гребцов происходила каждые два-три часа, но передышки хватало Геду лишь для того, чтобы все его мускулы окончательно задеревенели; тут как раз приходило время возвращаться к веслу. На второй день стало еще хуже; но потом он как-то притерпелся, и дело пошло на лад.
Между членами этой команды не было той теплоты, как на борту «Тени», которая впервые привезла его с Гонта на остров Рок. Моряки с Андрадских островов и с Гонта являются еще и торговыми партнерами, тогда как торговцы с Осскила на своих судах используют либо рабов, либо наемных гребцов, которым платят маленькими золотыми монетками. Золото очень ценится на Осскиле. Но отнюдь не служит источником добрых отношений между людьми, как, впрочем, и между драконами, которые тоже очень любят золото. Поскольку половина гребцов на этом судне были рабы, трудившиеся даром, то офицеры превращались скорее в надсмотрщиков, причем довольно жестоких. Никогда, разумеется, кнут их не касался спин тех гребцов, что работали за плату или за проезд; но о какой дружбе могла идти речь, если твоего соседа постоянно могут избивать кнутом? Напарники Геда и между собой-то говорили мало, а с ним — еще меньше. Все они в основном были с Осскила и говорили не на ардическом языке Архипелага, а на одном из северных диалектов. Это были люди суровые, светлокожие, с черными длинными усами и гладкими прямыми волосами. Геда они прозвали между собой Келуб, что означало «краснолицый», но особого уважения к нему не выказывали, скорее — какую-то осторожную недоброжелательность. Да и Геду тоже что-то не хотелось заводить среди них друзей. Даже в общем могучем ритме гребли, будучи одним из таких же шести десятков гребцов, он на этом судне, мчащемся по серым водам океана, чувствовал себя беззащитным изгоем. Когда судно останавливалось на ночлег в очередном порту, он, усталый, заворачивался в свой плащ и засыпал, но без конца просыпался: его мучили дурные сны, которых он не мог припомнить проснувшись. Беспокойство, казалось, висело над этим кораблем и его командой, опутав его словно паутиной, и ни одному человеку на судне Гед не доверял.
Все гребцы, свободные граждане Осскила, носили на бедре длинный нож, и однажды, когда их смена гребцов сошлась за полуденной трапезой, один из напарников спросил Геда:
— Ты что же, раб или клятвопреступник, Келуб?
— Ни то, ни другое.
— Тогда чего ж ты без ножа? Драться боишься? — продолжал, усмехаясь, этот человек по имени Скиорх.
— Нет.
— Думаешь, твоя собачонка за тебя заступится?
— Это отак, — заметил другой гребец, прислушивавшийся к ехидным вопросам Скиорха, и что-то еще прибавил по-осскильски, от чего Скиорх нахмурился и отвернулся. Но, прежде чем он успел отвернуться, Гед заметил, как странно вдруг изменилось его лицо: оно будто вдруг расплылось, черты его смазались, словно что-то подействовало на него изнутри, украдкой выглянуло из его глаз, чтобы увидеть Геда. Однако уже через минуту Скиорх снова выглядел как обычно, и Гед, специально посмотревший на него еще раз, решил, что все это — лишь его собственный страх, отразившийся в чужих глазах. Но в ту ночь, когда они бросили якорь в порту Исен, его мучили страшные сны, и во снах к нему приходил Скиорх. Гед при любой возможности стал избегать встреч с ним, и ему показалось, что Скиорх тоже его избегает. Больше они не сказали друг другу ни слова.
Проплыли мимо и скрылись за горизонтом снежные вершины гор Хавнора; они остались южнее, окутанные туманами приближающейся зимы. Потом на веслах они прошли по узкому проливу, ведущему в море Эа, где некогда утонула Эльфарран, миновали остров Энлад и два дня простояли на рейде близ города Берила — воспетой в легендах белоснежной столицы острова Энлад. Во всех портах, куда бы они ни заходили, команду держали на борту и на берег никого не пускали. Наконец, освещенные лучами утренней зари, они вышли на веслах в Осскильское море, навстречу северо-западным ветрам, которые вольно дули здесь, не встречая препятствий, из пустынного Северного Предела. И за два дня пройдя это жестокое море, они в сохранности доставили свой груз в порт Нешам, торговый центр Восточного Осскила.
Гед увидел низкий берег, иссеченный дождем и ветром, серый город, будто скорчившийся за длинными волноломами, защищавшими пристань, а над городом — безлесые вершины и мрачные снеговые тучи. Далеко позади остались пронизанные солнцем воды Внутреннего Моря.
Портовые грузчики поднялись на борт, чтобы освободить трюмы от дорогих товаров — изделий из золота и серебра, драгоценных камней, тончайших шелков и ярких южных гобеленов, до которых столь охочи правители Осскила. Наемные гребцы получили расчет и собирались уходить. Гед остановил одного из них, чтобы узнать, как найти Терренон; до сих пор недоверие удерживало его от рассказов, кто он, откуда и что ищет на Осскиле, но теперь он оказался один в совершенно чужом краю, и нужно было хотя бы спросить дорогу. Человек, которого он остановил, отмахнулся, говоря, что понятия не имеет о таком замке, и ушел, но Скиорх, слышавший их разговор, вдруг вмешался:
— Замок Терренон? Это на вересковой пустоши. Мне как раз в ту сторону.
Такого попутчика Гед никогда бы не выбрал, однако делать было нечего: сам он не знал ни языка, ни дороги. «К тому же, — подумал он, — все мои предосторожности тщетны: я ведь и сюда дороги не выбирал. Сюда меня приплыть
заставили, как теперь заставляют идти дальше». Он накинул капюшон, взял в руку посох, в другую — сумку с книгами и двинулся следом за осскильцем по улицам города и дальше, куда-то в горы, покрытые снегом. Маленький отак не пожелал ехать на плече, а спрятался в кармане его куртки из овечьего меха, под плащом, как обычно делал, когда наступали холода. Холмы перемежались открытыми всем ветрам бескрайними вересковыми пустошами. Скиорх и Гед шли молча, словно зима все вокруг сковала заклятьем тишины.
— Далеко нам? — спросил Гед через час-полтора, когда вокруг давно уже не осталось ни одного деревенского селения, ни одной уединенной фермы, и вдруг вспомнил, что у них с собой совсем нет еды. Скиорх на минутку повернулся к нему, поправил капюшон и сказал:
— Нет, недалеко.
Лицо его было ужасно — бледное, жестокое, грубое, — но Гед не боялся никого из людей, хотя мог бы, наверно, испугаться того, куда человек с таким вот лицом может его завести. Он согласно кивнул, и они пошли дальше. Дорога казалась шрамом на покрытой первым снегом поверхности земли, среди голых кустов. Иногда в сторону отходили другие тропки. Теперь, когда в воздухе больше не чувствовалось запаха дыма от каминов Нешама, в сгущающихся ранних сумерках, казалось, не было больше ни единого знака, указывающего какой-либо путь, а следы их уже успели скрыться под снежной пеленой. Ветер неизменно дул с востока. Они провели в пути уже несколько часов, и Геду показалось, что вдали, за холмами на северо-западе, на фоне темного неба мелькнула тонкая светлая черточка, нечто похожее на маленький зуб. Но свет короткого дня стремительно угасал, и на следующем витке дороги он не смог получше рассмотреть эту светлую черточку — башню или дерево?
— Мы идем вон туда? — спросил он, указывая пальцем.
Скиорх ничего не ответил, но продолжал брести тяжелой походкой, закутавшись в свой грубый плащ с островерхим, отороченным мехом капюшоном, какие носят на Осскиле. Гед размашистой походкой поспевал следом. Они зашли очень далеко, Гед совсем отупел после долгого плавания, тяжких дней и ночей, проведенных на судне, и сейчас буквально спал на ходу. Ему начинало казаться, что он всю жизнь бредет и будет вот так брести рядом со своим молчаливым спутником через погруженную в молчание сумеречную страну. Настороженность и воля притупились в нем. Он шел, словно в бесконечно долгом сне, шел никуда.
Отак проснулся и завозился у него в кармане, и вместе с ним проснулся слабый неясный страх в душе Геда. Юноша заставил себя выговорить:
— Ночь приближается, снег идет. Далеко еще, Скиорх?
Тот даже не обернулся и ответил не сразу:
— Недалеко.
Но голос его звучал странно — не как голос человека, а будто зверь хрипло пытается что-то выговорить неумелой пастью.
Гед остановился. Вокруг расстилались пустые, окутанные сумраком холмы. Перепархивали редкие снежинки.
— Скиорх! — позвал Гед, тот остановился и обернулся. Под островерхим капюшоном лица не было.
Прежде чем Гед успел произнести заклятье Превращения или призвать на помощь иную магическую силу, оборотень невнятно проскрипел его имя:
— Гед.
Теперь не подействовало бы ни одно заклятье: Гед был заперт собственным именем в своем настоящем обличье. Теперь ему предстояло биться с врагом без всякой магической защиты. И никого из волшебников он тоже не мог призвать: в этом чужом краю вряд ли кто-нибудь пришел бы к нему на помощь. Он стоял один перед смертельным врагом, и единственным оружием его был тисовый посох, зажатый в правой руке.
Тварь, пожравшая душу Скиорха и его плоть, использовала лишь его оболочку. Скиорх-оборотень шагнул к Геду, и руки его, будто руки слепого, ощупью потянулись к нему. Ярость и ужас затмили сознание Геда, он с размаху опустил посох, просвистевший в воздухе, на капюшон, под которым скрывался лик твари. Капюшон и плащ бессильно свалились на землю, словно внутри была пустота, ничто, потом, странно извиваясь и хлопая, снова распрямились и встали во весь рост бывшего Скиорха. Тело оборотня лишено подлинной плоти и использует, словно призрачную скорлупу, форму человеческого тела, и эта нереальная плоть облекает вполне реальное зло. Подергиваясь и извиваясь, словно под порывами ветра, Тень, простирая руки, приблизилась к Геду и попыталась схватить его, как это
было тогда, на Холме Рок: если бы это ей удалось, она покинула бы тело Скиорха и проникла бы внутрь Геда, захватила бы его душу и стала бы повелевать им — таково было ее главное желание. Гед снова ударил Тень своим тяжелым посохом, который уже дымился, сбил ее с ног, но она поднялась снова, и он снова ударил, а потом вдруг выронил посох — тот вспыхнул ярким пламенем и обжег ему руку. Гед отступил, потом вдруг резко повернулся и побежал.
Он бежал, и, наступая ему на пятки, за ним мчался оборотень; оборотень пока не мог обогнать свою жертву, но и не отставал ни на пядь. Гед не оглядывался. Он бежал, бежал, бежал по бесконечной сумеречной равнине, и спрятаться было негде. Еще раз оборотень хриплым свистящим голосом окликнул его по имени, но это, хоть и лишало Геда волшебной силы, не могло все же отнять у него силу физическую, не могло заставить его остановиться. И Гед бежал.
Ночная тьма окутала охотника и преследуемого, легкий снежок скрыл тропу, и Гед больше не мог различить ее. В голове у него молотом стучала кровь, горло горело, как обожженное, он, пожалуй, больше уже и не бежал, а, спотыкаясь на каждом шагу, брел вперед, но все же неутомимый преследователь, казалось, не в состоянии был схватить его, хотя почти касался его плеча. Он что-то шептал, бормотал, звал Геда по имени, и Гед понимал, что всю жизнь слышал этот шепот где-то там, у самого порога слышимости, но лишь теперь смог как следует расслышать его, и он должен, должен был завопить от ужаса, сдаться, остановиться… Но упрямо, хоть и с трудом, двигался вперед, боролся изо всех сил, брел и брел вверх по склону холма, бесконечному и едва различимому в темноте. Ему казалось, что где-то впереди должен быть свет и слышался голос, вроде бы звавший его с высоты: «Иди! Иди!»
Он хотел было откликнуться на зов, но голос у него пропал. Слабый свет стал ярче, он как бы просачивался из-под ворот прямо перед ним; стен он видеть не мог, зато ворота видел отчетливо. Гед остановился, и тут оборотень ухватил его за плащ, скользя по нему руками, пытаясь покрепче обхватить его. Собрав последние силы, Гед рванулся в эти светящиеся ворота, хотел было обернуться и закрыть их перед оборотнем, но ноги уже не держали его. Он споткнулся, ища в воздухе опоры, какие-то огни вспыхнули и поплыли у него перед глазами. Он почувствовал, что падает, что кто-то подхватил его, но совершенно истерзанная душа его не выдержала, и он провалился в темноту.
Глава 7
Полет ястреба
Гед очнулся и в течение долгого времени чувствовал одну лишь радость: он все-таки остался жив. Еще очень приятно было снова увидеть свет, самый обычный яркий свет солнца, заливавший все вокруг. Ему казалось, что он плывет по волнам этого света, как на лодке по дивным тихим водам. Потом наконец он осознал, что лежит в роскошной постели, в какой ему еще ни разу в жизни не доводилось спать. Рама кровати покоилась на четырех резных высоких ножках, перины были огромные, шелковые, воздушные; именно они давали ощущение дивного плавания по спокойной воде; над постелью висел малиновый полог, защищавший от сквозняков. С двух сторон полог был приподнят, и Гед стал разглядывать незнакомую комнату с каменными стенами и полом, с тремя высокими окнами, за которыми виднелись вересковые пустоши, голые, бурые, покрытые пятнами снега и освещенные неярким зимним солнцем. Комната, должно быть, находилась высоко от земли, потому что вид из окон открывался широкий.
Пуховое одеяло из нежного сатина соскользнуло на пол, когда Гед сел, и тут он обнаружил, что одет в некое подобие туники из шелка и серебряной парчи, будто лорд. На стуле рядом с постелью для него были приготовлены сапоги из мягчайшей, словно перчатка, кожи и отороченный мехом пеллави плащ. Гед еще немножко посидел, тихо и тупо покачиваясь, как под воздействием неких чар, потом встал и поискал свой посох. Но посоха нигде не было.
Вся ладонь и пальцы его правой руки были обожжены, рана смазана целебной мазью и перевязана. Только теперь он почувствовал боль от страшного ожога и ощутил, как ноет все его тело.
Некоторое время Гед стоял не двигаясь. Потом прошептал:
— Хёг… Хёг… — негромко, без особой надежды, потому что свирепый и преданный ему зверек тоже куда-то исчез. Маленькое бессловесное существо, верный друг, что некогда вернул его к жизни, позвав его душу из царства смерти.
Был ли отак, как всегда, с ним рядом, когда прошлой ночью они спасались бегством? Случилось ли это вчера или много ночей назад? Он ничего не знал. Все было темно и неясно в его душе: оборотень, горящий посох, бегство, невнятный шепот, ворота… Ничего не помнил он достаточно ясно. Ничто даже теперь не было понятно до конца. Гед еще раз прошептал настоящее имя своего любимца, но ответ услышать уже не надеялся, и на глазах его показались слезы.
Где-то далеко прозвонил маленький колокольчик. Ему нежно откликнулся другой, совсем рядом с его комнатой. Дверь у него за спиной отворилась, и вошла какая-то женщина.
— Ну, здравствуй, Ястребок! — сказала она с улыбкой.
Молодая и стройная, она была одета в белое с серебром платье; волосы, прижатые серебряной сеткой к голове, падали вдоль спины темным водопадом.
Гед неуклюже поклонился.
— Мне кажется, ты не помнишь меня.
— Не помню вас, госпожа?
Он никогда раньше не видел столь прекрасной женщины, да еще одетой так, чтобы красота ее засияла еще ярче. Разве что однажды, когда королева острова О со своим супругом приезжала к ним в Школу на праздник Солнцеворота. Только та была подобна яркому пламени свечи, а эта походила на холодный ясный свет месяца.
— Я так и думала, что ты меня не узнаешь, — сказала женщина и снова улыбнулась. — Но хоть ты и забывчив, здесь тебя рады видеть как старого друга.
— Где это здесь? Где я? — спросил Гед, все еще скованный в движениях и едва ворочая языком. Он чувствовал, что ему не только трудно говорить с ней, но трудно отвести от нее глаза. Княжеские одежды на нем были ему непривычны; каменные плиты, на которых он стоял, казались чужими, враждебными, да и сам воздух вокруг — тоже: и он, Гед, тоже как бы не был самим собою — или тем, кем был прежде.
— Этот замок называется Терренон. Мой муж и повелитель, которого зовут Бендереск, правит этими землями — от вересковых пустошей Кексемта на севере до горного хребта Ос; в его доме также хранится самый драгоценный камень в мире по имени Терренон. Ну а меня здесь, на Осскиле, все зовут Серрет, что значит на их языке «серебро». А тебя, как я знаю, иногда называют Ястребом, и ты получил звание волшебника на Острове Мудрых.
Гед посмотрел на свою обожженную руку и, чуть помолчав, сказал:
— Не знаю, кто я теперь. Когда-то я действительно обладал магической силой. Но, наверно, утратил ее навсегда.
— Нет! Ты ее не утратил, а даже если это и так, то стократ обретешь ее здесь. Здесь ты в безопасности, ты недосягаем для того, что гналось за тобой, друг мой. У этого замка мощные стены, и сделаны они не только из камня. Здесь ты сможешь отдохнуть и набраться сил. А также обрести великое могущество и новый волшебный посох, который никогда не обратится в золу, обжигая твои ладони. Случается, что путь зла порой имеет и хороший конец. А теперь идем со мной, позволь мне показать тебе наши владения.
Она была так мила и нежна, что Гед едва слышал, что именно она говорит, до глубины души тронутый уже одним только обещанием покоя и счастья, которое звучало в ее голосе. Он последовал за хозяйкой замка.
Его комната и в самом деле находилась высоко над землей — в башне, что острым зубом торчала на вершине холма. Он шел за Серрет по мраморным лестницам, веером спускавшимся в богато убранные залы, мимо высоких окон, смотревших то на север, то на запад, то на юг, то на восток, — и повсюду замок окружали невысокие коричневые холмы до самого горизонта, безлюдные, лишенные деревьев, неподвижные, сливающиеся вдали с блеклым зимним небом. Лишь далеко на севере виднелись на фоне синего неба остроконечные белые вершины гор, а на юге можно было угадать яркий блеск морской воды.
Слуги отворяли перед ними двери и отступали в сторону, пропуская свою госпожу и Геда; все они были белокожими суровыми уроженцами Осскила. У Серрет тоже кожа была светлой, но она, в отличие от слуг, хорошо знала ардический язык и даже, как показалось Геду, говорила на нем с гонтским акцентом. Вечером Серрет представила Геда своему мужу Бендереску, хозяину замка Терренон. Он был раза в три старше своей жены — старик с белоснежными сединами и печальными глазами, худой как щепка. Лорд Бендереск приветствовал Геда с мрачноватой холодной любезностью и просил его оставаться в замке так долго, как он пожелает. Оказалось, что говорить им в общем-то не о чем: Бендереск не спросил Геда ни о его путешествиях, ни о враге, что преследовал юношу до самых ворот замка; ничего об этом не спросила и Леди Серрет.
Если это и было странно, то лишь отчасти — столь странным и необычным было это место и те обстоятельства, при которых он попал сюда. Геду казалось, что сознание его так ни разу до конца и не прояснилось. Он словно не мог видеть вещи такими, какие они есть. Случайно оказался он в этом замке с мощными стенами, и все же случайность эта была, безусловно, предопределена. А может быть, это вовсе и не было случайностью. Так или иначе, но все линии его пути сошлись именно здесь. Он ведь направлялся куда-то на север, потом незнакомец в Оррими посоветовал ему искать помощи в замке Терренон; корабль из Осскила будто специально ожидал его, а Скиорх привел его прямо сюда. Что из этого было подстроено охотящейся за ним Тенью? А может быть, ничего? Может, он, как и его преследователь, был завлечен сюда некоей иной силой: Гед под воздействием ее чар, а Тень — за ним следом. Просто она при первой же возможности завладела душой Скиорха в своих собственных целях. Наверно, так оно и есть, ибо Тень, по словам Серрет, не смела войти в замок, и Гед не ощущал никаких признаков ее тайного присутствия — с тех пор как очнулся в башне. Но тогда что же привело его сюда? Сюда вряд ли можно попасть случайно; даже его пока неповоротливый разум сознавал это. Ни один чужестранец не приближался к этим воротам. Башня стояла в стороне, повернувшись спиной к дороге, ведущей в Нешам, ближайший к замку город. Ни один человек не входил в замок, ни один не покидал его. За окнами Терренона расстилались безлюдные вересковые пустоши.
Из окон этих без конца смотрел Гед, оставшись в одиночестве. День проходил за днем, но в душе его по-прежнему царило смятение, сердце болело и он все время мерз. В башне всегда было холодно, несмотря на роскошные ковры и шпалеры, скрывающие камень пола и стен, несмотря на богатые одежды на меху, несмотря на отделанные мрамором камины. Этот вечный холод пробирал до костей, заползал в самую их сердцевину, и казалось, что спастись от него невозможно. А сердце Геда к тому же леденил неизбывный стыд, когда он вспоминал, как встретился с врагом лицом к лицу, был повержен и спасался бегством. Мысленно он встречался со всеми Мастерами Школы. Среди них были и хмурый Геншер, Верховный Маг Земноморья, и Неммерль, и Огион, и даже тетка-колдунья, что научила его первому заклинанию: все они неотрывно смотрели на Геда, и он понимал, что не оправдал их веры в него. Ему хотелось попросить у них прощения, воскликнуть: «Если бы я не убежал, Тень завладела бы мной: она ведь уже забрала всю силу у Скиорха и часть моей силы тоже — я не справился бы с ней. И она знала мое имя! Я был вынужден бежать. Ибо волшебник, ставший оборотнем, — ужасное орудие Зла и разрушения. Я был вынужден…» Но они не желали ему отвечать. Видение исчезало, и он вновь смотрел на падающий снег, мелкий и бесконечный, на пустынные земли за окном, ощущая отупляющий и все усиливающийся холод, пока ему не начинало казаться, что душа его мертва и никаких ощущений, кроме бесконечной усталости, в нем больше не осталось.
Подвергая себя бесконечному самоуничижению, он подолгу оставался один в своей комнате. А когда выходил оттуда, был молчалив и скован. Душу его смущала красота хозяйки замка; в этом богатом, изысканном, благонравном и чужом доме он чувствовал себя обыкновенным козлопасом, никогда не покидавшим родную деревню.
Он оставался в одиночестве, сколько и когда хотел, а если тяжкие мысли совсем уж одолевали его и он не мог больше смотреть на падающий снег за окном, то встречался с Серрет в одной из боковых комнат нижнего этажа башни, украшенных шпалерами, и они беседовали у горящего камина. Душе хозяйки замка, казалось, не хватало веселья, она никогда не смеялась, хотя улыбалась часто. От одной-единственной ее улыбки у Геда становилось легче на душе. С ней он начинал забывать и свою скованность, и свой позор. Вскоре они почти каждый день сходились для беседы — долгой, спокойной, ленивой — подальше от прислуги, вечно вертевшейся возле Серрет, у камина или у окна в одном из высоких залов старинной башни.
Лорд Бендереск б
ольшую часть времени проводил в своих покоях, выходя лишь по утрам на прогулку по засыпанному снегом внутреннему двору замка, и был при этом похож на старого волшебника, который всю ночь напролет варил волшебный напиток. Когда он за ужином встречался с Гедом и Серрет, то сидел молча, посматривая на свою молодую жену тяжелым, алчным взглядом. И Геду становилось жаль ее. Она казалась ему белой козочкой в клетке, белой птицей с обрезанными крыльями, прикованной к обручальному серебряному кольцу на пальце старика. Она была украшением сокровищницы Бендереска — тщательно охраняемым. Когда Гед оставался с ней наедине, то всегда старался развеселить ее, развлечь, впрочем, как и она его.
— А каков он, тот драгоценный камень, что дал имя вашему замку? — спросил он ее как-то раз, когда они вдвоем остались за столом и сидели над пустыми уже тарелками из золота и пустыми золотыми кубками при неверном свете свечей.
— Ты разве никогда не слышал о нем? Это ведь очень знаменитый камень.
— Нет. Мне известно лишь, что лорды Осскила славятся своими сокровищницами.
— Ах, что все сокровища по сравнению с ним! Хочешь на него посмотреть?
Она улыбнулась, одновременно ободряюще и чуть насмешливо, словно сама чуточку боялась того, что предложила, и повела Геда из столовой по узким коридорам куда-то вниз, в подземелье, потом остановилась у запертой двери, которой он никогда раньше не замечал. Ее-то и отперла Серрет серебряным ключом, глядя на Геда снизу вверх с той же ободряющей улыбкой. За первой дверью был небольшой коридор, потом вторая дверь, которую она отперла уже золотым ключом; а за второй дверью — третья, которую могли отворить лишь слова Великого Заклятия. За этой последней дверью открылась маленькая комнатка, похожая на камеру в донжоне: пол, стены, потолок — все из грубого камня; никакой мебели; комната была совершенно пуста.
— Ты его видишь? — спросила Серрет.
Гед огляделся и в свете свечи своим острым глазом волшебника отметил один из камней в полу. Такая же грубая влажная плита, как и все, но он чувствовал исходящую от этого камня таинственную силу, которая как бы в голос заявляла о себе. Дыхание замерло у него в груди, он ощутил слабость. Это было само основание башни, главный камень ее фундамента, и он был холодный, мертвяще ледяной; в комнате тоже царил могильный холод, и ничто никогда не смогло бы согреть ее. Камень этот принадлежал к миру Древних Вещей: могущественная и ужасная сила, заключенная внутрь каменной глыбы. Гед не ответил Серрет — просто застыл в молчании, и она, бросив на него быстрый любопытный взгляд, указала на камень сама.
— Вот. Это Терренон. Тебе, наверно, интересно знать, зачем мы такую драгоценность храним в самом глубоком и дальнем подземелье?
Гед по-прежнему не отвечал, молчаливый и настороженный. Возможно, она задала этот вопрос нарочно, однако Геду все же казалось, что Серрет не очень-то хорошо осведомлена об истинной природе Камня, раз говорит о нем столь легкомысленным тоном: слишком мало знает о нем, чтобы его бояться.
— Скажи мне, в чем его сила? — спросил он наконец.
— Терренон появился на свет еще до того, как Сегой поднял острова Земноморья со дна морского. Он был рожден одновременно с нашим миром и умрет вместе с ним. Время для него — ничто. Возложи на него руку, задай любой вопрос — он ответит, но в соответствии с твоей собственной магической силой. Он может говорить — если сумеешь услышать. Он может рассказать о том, что было, есть и будет. Он предсказал твое появление здесь задолго до того, как ты попал на этот остров. Будешь сейчас что-нибудь спрашивать у него?
— Нет.
— Тебе он ответит.
— У меня пока нет такого вопроса, который хотелось бы задать ему.
— Он мог бы рассказать, — продолжала Серрет вкрадчиво, — как тебе одержать победу над врагом.
Гед стоял, будто проглотив язык.
— Ты боишься его? — недоверчиво спросила она.
Он ответил:
— Да.
В мертвенном хладе подземелья, отгороженного от мира каменными стенами и заклятьями, тускло светила единственная свеча в руке Серрет. Помолчав, она снова глянула на Геда, глаза ее сверкнули.
— Ястреб, — сказала она, — ты его не боишься!
— Но с этим духом я говорить не стану, — ответил Гед, глядя ей прямо в лицо. И продолжал с мрачной серьезностью:
— Госпожа моя, дух, что заключен в этом камне, заперт затворяющим заклятьем, и заклятьем ослепляющим, и волшебными силами замка, но это не потому, что ему нет цены, но потому, что он может служить источником великого зла. Не знаю, что тебе сказали о нем, когда ты приехала в этот замок. Но ты так молода и добра душой, ты никогда не должна не только касаться этого Камня, но даже смотреть на него. Ибо он опутает тебя злыми чарами.
— Но я возлагала на него руку и не раз говорила с ним и слышала его речь. Никакого зла он мне не причиняет.
Она повернулась, и они пошли назад, заперев за собой все три двери, по бесконечным коридорам наверх, где на широкой лестнице горели факелы, и она наконец смогла погасить свою свечу. Они тут же расстались, едва сказав друг другу несколько слов на прощание.
В ту ночь Гед почти не спал. Но отнюдь не мысли о Тени не давали ему покоя — они почти оставили его; их затмили воспоминания о том страшном Камне, что служит опорой замку Терренон. И еще Гед все время вспоминал обращенное к нему лицо Серрет, в свете свечи ясное и загадочное одновременно. Снова и снова чувствовал он на себе тот ее взгляд и пытался понять, что скрывалось за ним, когда он отказался дотронуться до Камня; чего в ее глазах было больше тогда — разочарования или боли. Когда Гед наконец лег в постель, шелковые простыни были холодны как лед; сон его был тревожен, он все время думал о Камне и о странном выражении глаз Серрет.
На следующий день он отыскал ее в полукруглом зале с серыми мраморными стенами, залитом лучами закатного солнца. Здесь она часто проводила послеобеденные часы, забавляясь со своими служанками или занятая плетением кружев. Гед сказал ей:
— Леди Серрет, я был дерзок с вами. Прошу простить меня.
— Дерзок? Нет, нисколько, — ответила она задумчиво и снова повторила: — Нет-нет…
Потом отослала служанок и, оставшись с ним наедине, посмотрела ему в лицо.
— Гость мой и друг, — сказала она, — ты видишь очень ясно, но все же недостаточно глубоко. На Гонте и Роке учат высокой магии. Но не всей. Здесь Осскил, Страна Ворона. Здесь не говорят на ардическом языке Архипелага, здесь маги не имеют особой власти, да они и маловато знают об Осскиле. Здесь встречаются вещи, неведомые мудрецам с южных островов, и некоторые из этих вещей не числятся ни в одном из списков слов Истинной Речи. Человек всегда страшится неведомого. Но тебе здесь бояться нечего. Более слабому — да, конечно. Но не тебе. В тебе от рождения заключена такая сила, которая способна управлять Камнем в потайном подземелье. Это я знаю. И именно поэтому ты находишься здесь.
— Я не понимаю…
— Это потому, что супруг мой Бендереск не был до конца откровенен с тобой. Я же буду откровенна. Подойди, сядь рядом.
Он присел рядом с ней на широкий, покрытый ковром подоконник. Закатное солнце светило теперь прямо в окно, заливая их своим лишенным тепла светом; внизу на вересковых пустошах — там, где вчерашний снег, ковром укрывший землю, так и не растаял, пролегли длинные тени.
Теперь она говорила почти нежно:
— Бендереск, лорд и хозяин замка Терренон, не может использовать то, что хранит в своем подземелье, не может заставить Камень исполнять его приказы. Не могу этого и я — ни одна, ни с мужем вместе. Ни у него, ни у меня нет для этого ни должного мастерства, ни могущества. У тебя есть и то и другое.
— Откуда тебе это известно?
— От самого Камня! Я же говорила: это он предупредил о твоем появлении. Он знает, кто его хозяин. Он давно ждал тебя. Еще до того, как ты родился. Ждал того, кто сможет повелевать им. Того, кто сможет заставить Камень Терренона отвечать на любые вопросы и выполнять все, что ему прикажут. Того, кто обладает властью над собственной судьбой, а это уже — достаточная сила, чтобы сокрушить любого врага, человека или существо из иного мира. Сила предвидения, могущество, богатство и волшебное мастерство с помощью Камня смогут подчинить даже самого Верховного Мага Земноморья! Спрашивай — много ли, мало ли захочешь узнать — все в руках твоих! Проси.
Снова она вскинула на него свои странные ясные глаза, и взгляд ее был так пронзителен, что он вздрогнул, будто от холода. И еще в лице ее был страх, словно она нуждалась в его помощи, но была слишком горда, чтобы просить о ней. Гед растерялся. Рука ее лежала поверх его руки; прикосновение это было легким, тонкая рука Серрет казалась очень светлой на фоне его смуглой кожи. Он сказал умоляюще:
— Серрет! Но у меня нет уже былого могущества, тебе это лишь кажется… Я погубил, истратил те силы, какими некогда обладал. Я не могу помочь тебе. Ничем. Но вот что я знаю твердо: Древние Силы Земли — не для людей! Они никогда не принадлежали им и в руках людей могут лишь разрушать. Зло всегда кончается злом. Меня сюда не заманили, меня сюда привели, и та сила, за которой я следовал, постепенно разрушает меня. Я ничем, ничем не могу помочь тебе.
— Когда волшебник считает, что его силы на исходе, порой оказывается, что он наполнен иной, куда более могущественной силой, — сказала Серрет, улыбаясь так, будто все его сомнения были не более чем детскими страхами. — Возможно, мне больше известно о том, что именно привело тебя сюда. Разве не заговаривал с тобой некто на улицах Оррими? Это был наш посланник, один из слуг Терренона. Когда-то он и сам был волшебником, но распростился с волшебным посохом, чтобы служить силе, куда более могущественной. И вот ты приехал на Осскил, потом на вересковой пустоши пытался сражаться с Тенью, используя свой деревянный посох. Нам едва удалось спасти тебя — тварь, следовавшая за тобой, оказалась куда хитрее, чем мы думали, и успела уже высосать достаточно твоих сил… Только тень может одержать верх над тенью. Только тьма может победить тьму. Послушай, Ястребок! Что нужно тебе, чтобы победить ту, что караулит за стенами замка?
— Мне нужно то, чего я узнать не могу. Ее подлинное имя.
— Камень Терренон, которому ведомы рождения и смерти всех существ, а также имена всех нерожденных и бессмертных — все, что существует в мире света и в мире тьмы, назовет тебе ее имя.
— А какова цена?
— Платить вовсе не нужно. Я же сказала: он подчинится тебе, станет твоим рабом.
Потрясенный, в полном смятении, Гед не отвечал. Теперь она обеими руками сжимала его руку, заглядывая ему в лицо. Солнце скрылось в туманной дымке на горизонте, даже воздух вокруг них, казалось, замутнился, но лицо Серрет при этом стало как бы еще ярче и прекраснее, озаренное гордостью и торжеством: она понимала, наблюдая за Гедом, что воля его поколеблена. И прошептала тихонько:
— Ты будешь могущественнее всех людей, станешь королем среди них. Будешь править ими, а я буду править вместе с тобой…
Гед резко вскочил на ноги, сделал всего лишь один шаг, и пелена как бы спала у него с глаз: за углом у самого окна стоял и, слегка улыбаясь, внимательно слушал их Лорд Бендереск.
Все стало на свои места. Гед посмотрел на Серрет, все еще сидевшую на подоконнике:
— Тьму побеждает свет, — заикаясь сказал он, — только свет!..
И, сказав это, он ясно увидел, будто слова эти и были тем светом, что разогнал мрак в его душе, как на самом деле его завлекли, заманили в этот замок, как использовали его страх, заставляя плыть на север, и как эти люди, добившись своего, держали бы его в своих руках. Да, конечно, благодаря им он спасся от Тени, но только потому, что они не желали отдавать его ей, пока он не станет рабом Камня. Но едва лишь это свершилось бы, они тотчас впустили бы Тень в замок: ведь оборотень — куда лучший раб, чем живой человек. Единожды дотронувшись до Камня или заговорив с ним, он безвозвратно пропал бы. И все же Тень не смогла тогда захватить его целиком, и даже Камень этого не сумел — во всяком случае, пока. Он ведь тогда, в подземелье, почти поддался его могуществу. Почти. Но внутреннего согласия не дал. А злу почти невозможно овладеть непокорной, не поддающейся ему человеческой душой.
Он стоял между этими людьми, которые поддались воле Камня, которые согласились, предались ему, и смотрел то на одного, то на другого. Бендереск подошел ближе.
— Я же говорил тебе, — сухо начал он, — что этот человек ускользнет прямо у тебя из рук, Серрет. Колдуны с твоего Гонта — далеко не такие дураки. Зато сама ты вела себя глупо, женщина, хотя ты и с Гонта: рассчитывая обмануть одновременно и его и меня, пытаясь нас обоих заворожить своей красотой и использовать Терренон в собственных целях, ты просчиталась. Я — хозяин Камня, один лишь я! И вот что сделаю я с неверною женою:
Екаврое аи ёльвантар…
Это было Заклятье Превращений, и длинные руки Бендереска уже поднялись, чтобы во мгновение ока женщина, в ужасе закрывшая руками лицо, стала отвратительной тварью — свиньей, собакой или безумной уродливой каргой. Но Гед шагнул вперед и ударил по воздетым рукам Лорда, произнеся одно лишь слово. И хотя волшебного посоха у него больше не было, да и находился он в чужой стране, в обители зла и темных сил, все же воля его оказалась сильнее. Бендереск застыл как изваяние; его затуманенный, исполненный ненависти взгляд Уперся в Серрет.
— Скорей, — проговорила та дрожащим голосом. — Скорей, Ястреб, бежим отсюда, пока он не вызвал слуг Камня!..
И тут словно эхо разнеслось по всей башне, по каменным плитам пола, по стенам — странный сухой дрожащий шепот. Казалось, заговорила сама земля.
Схватив Геда за руку, Серрет повлекла его за собой по коридорам и залам, вниз по длинной винтовой лестнице. Они выбежали во двор замка, где все еще не угас последний голубоватый луч дневного света над грязным затоптанным снегом. Трое суровых слуг преградили им путь, словно подозревая, что Гед и Серрет совершили преступление против хозяина замка.
— Становится темно, хозяйка, — сказал один, а другой прибавил: — Сейчас вы все равно выехать не сможете.
— Прочь с дороги, мразь! — крикнула Серрет и что-то прибавила на шипящем диалекте Осскила.
Слуги отшатнулись, потом, скрючившись, повалились наземь, извиваясь от боли. Один из них громко стонал и кричал.
— Мы должны выйти через ворота, другого выхода отсюда нет. Ты видишь их? Ты можешь найти их, Ястреб?
Она тянула его за руку, но он все же медлил:
— Что за заклятье ты применила против них?
— Я пустила им в кости расплавленного свинца; они умрут. Скорей, говорю тебе, иначе он освободит слуг Камня, а я не могу сама найти ворота — на них страшные чары! Скорей!
Гед не понимал, что она имеет в виду: сам он видел заколдованные ворота так же ясно, как и арки-проходы в стене внутреннего двора, через которые можно было попасть к внешней стене. Они прошли в одну из арок, потом по нетронутому снегу — к воротам; он произнес заклятье, открывающее двери, и провел Серрет в ворота замка Терренон.
Серрет сильно изменилась, пока они шли по залитому вечерним голубым светом двору и проходили в ворота: и в мрачном свете вересковых пустошей она оставалась красивой, но теперь от красоты ее веяло чем-то яростным, колдовским, и Гед наконец вспомнил, кто она: дочь Лорда Ре Альби и колдуньи из Осскила. Это она насмехалась над ним в зеленых лугах близ дома Огиона много-много лет назад; это она заставила его найти и прочесть заклинание, которое выпустило на волю Тень. Но Гед недолго думал об этом; сейчас все его мысли были заняты главным врагом, который, должно быть, поджидал его где-то неподалеку, возле стен замка. Тень вполне могла по-прежнему иметь облик Скиорха или просто прятаться во тьме, сливаясь с ней, чтобы исподтишка напасть на Геда, захватить его живую плоть и душу, поработить их. Он чувствовал ее близость, но пока не видел. Однако, оглядываясь вокруг, заметил вдруг в нескольких шагах от ворот что-то темное, наполовину засыпанное снегом. Он наклонился и бережно поднял его с земли. Это был мертвый отак; нежная короткая шерстка покрыта запекшейся кровью, маленькое легкое тельце окоченело.
— Превращайся же во что-нибудь! Превращайся скорее, они идут! — пронзительно крикнула Серрет, сжимая его руку и указывая на башню, которая в сумерках казалась огромным белым зубом. Из узких щелевидных окон ее нижнего этажа выбирались наружу и устремлялись к ним какие-то черные твари с широкими длинными крыльями; они медленно кружили над стенами замка, над склоном холма, где, совершенно беззащитные, стояли Гед и Серрет. Чудовищный шепот, который они слышали в замке, стал громче, сама земля стонала и дрожала у них под ногами.
Сердце Геда захлестнула волна гнева, горячей ярости, ненависти к этим жестоким смертоносным тварям, к людям-предателям, что заманили его в ловушку и теперь вели на него загонную охоту.
— Превращайся! — пронзительно вскрикнула Серрет и, выдохнув заклинание, обернулась серой чайкой, взмывшей в небеса. Но Гед медлил; он сорвал какую-то былинку, сухую и хрупкую, сиротливо торчавшую из-под снега там, где упал мертвым его отак. Он поднял ее и заговорил с ней словами Истинной Речи, и растение стало наливаться соками, расти, а когда Гед умолк, в руке у него оказался настоящий волшебный посох. Он не вспыхивал смертоносным огнем, когда крылатые черные твари из замка Терренон камнем падали на Геда с небес, но лишь начинал светиться ясным белым волшебным светом, что не дает жара, но гонит прочь тьму.
Слуги Камня вновь изготовились к атаке, неуклюжие громоздкие твари из такого далекого прошлого земли, когда в помине не было ни человека, ни птиц, ни драконов; давным-давно уже свет не видывал таких существ, лишь злобное могущество Камня способно было вызвать их к жизни — ведь в памяти его хранились образы всех тварей и вещей, когда-либо существовавших в этом мире. Бесконечные атаки слуг Камня еще более участились. Гед видел, каких острые, похожие на лезвие косы когти рассекают над ним воздух, его тошнило от исходившего от них могильного смрада. Он яростно направо и налево раздавал удары своим посохом, горем и гневом его созданным из стебелька пожухлой травы. И вдруг все чудовища разом поднялись в воздух, словно стая ворон с трупа, и молча, крылатой тучей понеслись в том направлении, куда улетела в обличье серой чайки Серрет. Страшные широкие крылья, казалось, едва шевелились, однако каждый их взмах намного сокращал расстояние до невидимой пока цели, и вряд ли чайка могла уйти от столь неумолимой и стремительной погони…
Оставшись один, Гед в то же мгновение превратился в хищную птицу, но не в ястреба-перепелятника, как тогда на Роке, а в настоящего сокола-сапсана, что может лететь быстрее стрелы, быстрее мысли. На своих гладких мощных крыльях полетел он вслед за своими преследователями. Сгущались сумерки, среди туч проглядывали яркие звезды. Впереди Гед увидел черное косматое пятно — крылатые твари разом устремились вниз, к какой-то одной точке, ясно видимой на фоне бледного золотистого неба. Гед-сокол пулей влетел прямо в середину черной стаи, и стая распалась, черные твари отлетали от него, словно брызги воды от брошенного с силой камешка. Но жертву свою они уже настигли. У одного чудовища пасть была вымазана кровью, белые перья пристали к когтям другого, а над бескрайними равнодушными водами океана нигде не было видно серой маленькой чайки.
Тем временем слуги Камня изготовились к новой атаке на Геда, угрожающе выставив железные свои клювы и разинув страшные пасти. Он стрелой взмыл в небо и, оказавшись над ними, издал клич сокола, клич ярости и победы, и стрелой полетел вдоль низких берегов Осскила, мимо его бесконечных волнорезов, далеко вытянувшихся в море, — прочь отсюда.
Крылатые слуги Камня с каким-то хриплым карканьем еще некоторое время покружились на одном месте, потом один за другим медленно потянулись назад, к расположенным в срединной части острова вересковым пустошам. Древние Силы Земли не смеют преодолевать морские пространства, они привязаны к определенному острову, к определенному месту на нем, к определенной пещере, камню или роднику. Назад, назад неслись черные тени, в свое убежище, в замок Терренон, где хозяин его Бендереск, видя их возвращение, то ли плакал, то ли смеялся. А Гед летел дальше и дальше на мощных своих крыльях, опьяненный скоростью, летел, как не ведающая цели стрела, как вечная мысль, летел над морем Осскила к востоку, туда, где дуют зимние ветра, где господствует ночь.
Огион Молчаливый в ту осень особенно поздно вернулся в Ре Альби из своих странствий. Еще менее разговорчивым и более замкнутым стал он с возрастом. Новый правитель Гонта, живущий на побережье, так и не услыхал от него ни слова, хотя сам поднимался в Ре Альби, надеясь получить у старого волшебника помощь и совет для одной из своих пиратских экспедиций на Андрадские острова. Огион, который не раз беседовал с пауками, покачивающимися в своей паутине, и вежливо раскланивался с деревьями, не удостоил лорда своим вниманием, и тот удалился из Ре Альби несолоно хлебавши. Возможно, у Огиона было неспокойно на душе, ибо он все лето и осень провел в одиночестве высоко в горах и лишь теперь, незадолго до зимнего Солнцеворота, вернулся к родному очагу.
Наутро после своего возвращения Огион встал поздно, ему захотелось чаю, и он отправился за водой к роднику, бившему чуть ниже по склону. Кромку озерца, наполненного живой родниковой водой, сковал ледок, а сухие травы меж скал белыми узорами разрисовал иней. Было уже довольно позднее утро, однако солнце еще по крайней мере с час не должно было появляться из-за могучего плеча горы: весь западный Гонт, от прибрежных пляжей до горной вершины, спал в тени; здесь царила тишина, и чистый воздух позванивал от морозца. Огион смотрел на лесистые склоны, на бухту внизу, на серую безбрежность моря; вдруг над ним забила крыльями крупная птица. Он прикрыл глаза рукой, глянул вверх, и тут сокол-сапсан упал с небес и преспокойно уселся к нему на запястье подобно обученной ловчей птице. Сокол тут же нахохлился и затих, хотя на нем не было ни ремешка, ни какой-либо ленты на шее, ни колокольчика. Когти его крепко сжимали запястье Огиона; гладкие крылья подрагивали; круглый золотистый глаз смотрел равнодушно. Это был совершенно дикий сокол.
— Ты что же, сам посланник или чье-то послание принес? — ласково спросил у птицы Огион. — Ну ладно, пойдем…
Заслышав его голос, сокол встрепенулся и посмотрел на него. Огион на минуту остановился, помолчал и сказал:
— Когда-то, кажется, именно я дал тебе имя… — И быстро прошел к себе в дом, неся вновь застывшую в неподвижности птицу на запястье.
Дома он пересадил сокола на каминную полку и дал ему напиться. Но тот пить не пожелал. Тогда Огион начал творить заклятье, очень медленно, осторожно плетя магическую паутину больше руками, чем словами. Закончив заклятие и закрепив его, он мягко позвал:
— Гед…
На сидевшего на каминной полке сокола он при этом не смотрел, но специально выждал немного и лишь потом обернулся и пошел навстречу юноше, который с бессмысленным выражением лица стоял, дрожа, у камина, где пылал огонь.
Гед был в богатых чужеземных одеждах — меха, шелка, серебряное шитье, — только вот одежды эти висели клочьями и задубели от морской соли. Сам же юноша пребывал в каком-то мрачном отупении; волосы космами свисали прямо ему на лицо, покрытое страшными шрамами.
Огион снял с юноши нарядный, как у принца, плащ, отвел его в альков, где тот когда-то спал, будучи учеником в этом доме, и заставил лечь; потом прошептал сонное заклятие и вышел из дому, оставив его в покое. Он ни слова спрашивать не стал, сознавая, что сейчас Гед совершенно не понимает человеческой речи.
В детстве Огион, как и все мальчишки, считал, что нет ничего интересней игры в превращенья, когда с помощью волшебства можно принять любое обличье — человека или зверя, дерева или облака — и притворяться кем угодно. Но, став настоящим волшебником, он познал цену такой игры, ибо в ней таится опасность утратить собственное «я», заиграться и забыть, кто ты в действительности, променяв игру на реальность. И чем дольше человек остается в чужом обличье, тем сильней эта опасность. Любому ученику Школы известна история волшебника Борджера с острова Уэя, который очень любил превращаться в медведя и превращался в него все чаще и чаще, пока медвежья сущность не подменила в нем человеческую и он не стал настоящим медведем, а став им, разорвал в лесу собственного маленького сына, и тогда на него была объявлена охота, окончившаяся гибелью Борджера. Никто даже не представляет, сколькие из дельфинов, что резвятся в водах Внутреннего Моря, некогда были людьми, и людьми мудрыми, но в какой-то момент забывшими и о мудрости, и о собственном имени, променяв их на веселые игры в морских волнах.
Гед принял обличье сокола в ярости и отчаянье. Покидая Осскил, он думал лишь о том, чтобы лететь быстрее слуг Камня, быстрее ужасной Тени, чтобы спастись, бежать с этого холодного гиблого острова, попасть домой. Жестокость и бесстрашие, свойственные соколам, были сродни его собственным и легко проникли ему в душу; а стремительность соколиного полета давала юноше ощущение радости и свободы. Так миновал он остров Энлад, опустившись на землю лишь для того, чтобы напиться из дикого лесного озерка, гонимый страхом перед Тенью, что следовала за ним по пятам. Миновал и большой морской пролив под названием Челюсти Энлада, летел все дальше и дальше на юго-восток. Справа остались холмистые берега Оранеи, слева — горы острова Андрад, а впереди было одно лишь море; и, наконец, из волн морских встала неколебимо одна застывшая волна с белой шапкой, которая все росла и росла, постепенно приобретая знакомые очертания острова Гонт. В течение всего долгого полета, не прекращавшегося ни днем, ни ночью, Гед не расставался с крыльями и опереньем сокола, видел все его глазами и, отринув собственные мысли, воспринимал лишь то, что требуется соколу: необходимость утолить голод, направление ветра, конечную цель полета.
Цель была выбрана верно. Таких мест, где он снова мог бы превратиться в человека, на Роке было несколько, но на Гонте — только одно.
Снова став собой, Гед был очень молчалив и казался диковатым. Огион по-прежнему ни слова у него не спрашивал, только дал ему мяса и воды, позволив сколько угодно сидеть у огня. Нахохлившийся Гед мрачно сидел у камина, очень похожий на крупного, усталого и сердитого сокола. Наступила ночь, и он уснул. Пришел еще день, и, наконец, на третье утро он вошел в комнату, где сидел волшебник, приблизился к камину, в котором плясало пламя, и вымолвил:
— Учитель…
— Здравствуй, сынок, — откликнулся Огион.
— Я вернулся к тебе, Учитель, таким же, каким ушел отсюда. Глупцом. — Юноша говорил хриплым баском. Волшебник чуть улыбнулся и усадил Геда напротив, поближе к огню, потом начал готовить чай.
Падал снег, первый снег на Гонте в ту зиму. Окна в доме Огиона были плотно закрыты ставнями, но мокрый снег стучал по крыше, застилая все вокруг тяжелым плотным мягким белым одеялом. Многие часы провели они у огня, и Гед рассказал своему старому Учителю обо всем, что произошло с тех пор, как он уплыл с Гонта на судне под названием «Тень». Огион не задал ни одного вопроса и, когда Гед кончил рассказывать, еще долгое время сидел молча, спокойно размышляя о чем-то. Потом поднялся, принес хлеб, сыр и вино, поставил на стол, и они вместе поужинали. Покончив с едой, они прибрали за собой, и Огион наконец заговорил:
— Да, шрамы у тебя страшные, парень.
— У меня больше нет сил бороться с этой тварью, — ответил Гед.
Огион только покачал головой. Потом продолжал:
— Странно… У тебя ведь хватило сил, чтобы победить колдуна в его собственном доме, там, на Осскиле. И у тебя хватило сил, чтобы не попасть в ловушку Древних Сил и отбиться от слуг Камня. А на Пендоре у тебя хватило сил победить дракона…
— На Осскиле мне просто повезло, сила тут ни при чем, — ответил Гед и содрогнулся, вспомнив, как кошмарный сон, мертвящий холод замка Терренон. — Что же касается дракона, то я знал его подлинное ими. А у той твари, что охотится за мной, никакого имени нет.
— У всех вещей есть имена, — сказал Огион так уверенно, что Гед не решился повторить слова Верховного Мага Геншера о том, что силы тьмы, подобные этой, имен не имеют. Дракон на острове Пендор ведь тоже предлагал тогда назвать ему имя Тени, но Гед не слишком полагался на честность и искренность дракона, как не поверил и обещаниям Серрет насчет того, что Камень расскажет ему все, что он пожелает узнать.
— Если у этой Тени и есть имя, — сказал он наконец, — то, по-моему, она его мне не скажет…
— Нет, конечно, — сказал Огион. — Но ведь и ты не собирался говорить ей свое имя. Тем не менее оно стало ей известно. На вересковых пустошах Осскила она назвала тебя подлинным именем, которое дал тебе я. Это очень, очень странно…
Он снова впал в задумчивость. И в конце концов Гед не выдержал:
— Я пришел к тебе за советом, я не намерен прятаться здесь, Учитель. Не желаю я, чтобы эта тварь явилась и сюда, а она скоро это сделает, если я тут останусь. Однажды ты уже выгонял ее — из этой самой комнаты…
— Нет, то было всего лишь предвестие беды, тень Тени. Я не смог бы прогнать настоящую — теперь нет. Это сделать смог бы только ты сам.
— Но я перед ней бессилен. Неужели нет такого места… — И Гед умолк, так и не закончив своего вопроса.
— Такого места нет, — мягко сказал Огион. — Только больше не занимайся
превращениями, Гед. Этой твари только того и нужно: разрушить твое «я». И ей, надо сказать, это почти удалось, когда ты слишком долго пробыл в обличье сокола. Нет, я не знаю, куда следует тебе идти, но одна мысль относительно того, что тебе следует делать, у меня есть. Хоть и трудно сказать тебе такое.
Гед напряженно молчал, он жаждал услышать любую правду, и Огион наконец вымолвил:
— Ты должен идти в другую сторону.
— В другую?
— Если пойдешь в прежнем направлении, то так или иначе продолжишь свое бегство, и куда бы ты ни попал, везде встретишь опасности и зло, ибо это зло направляет тебя и само следует за тобой по пятам. Свой путь избирать должен ты сам. Ты сам должен начать поиски того, кто тебя ищет. Должен начать охоту на собственного преследователя.
Гед молчал, слушал.
— Когда-то на берегу реки Ар я дал тебе имя, — сказал старый волшебник, — на берегу той реки, что рождается высоко в горах и впадает в море. Человеку хотелось бы увидеть цель, к которой он движется, но увидеть ее он не может, пока не повернет назад, пока не вернется к своим истокам, не сохранит память о них в душе своей. Если он не хочет стать щепкой, бессильной в водах несущего ее ручья, то должен сам стать ручьем, стать сильнее влекущего его течения — и пройти путь от истоков до устья на берегу моря. Ты вернулся на Гонт, ты вернулся ко мне, Гед. Так заверши же круг, найди сокровенный источник и то, откуда он черпает свои силы. Там — твоя надежда и твое могущество.
— Там, Учитель? — в ужасе спросил Гед. — Но где?
Огион не ответил.
— Если я поверну назад, — помолчав, сказал Гед, — если я, как ты говоришь, начну охоту на своего же преследователя, то охота эта, по-моему, будет недолгой. Ведь главное желание Тени — встретиться со мной лицом к лицу. И она дважды уже делала это и дважды одерживала надо мной верх.
— Третий раз — волшебный, — заметил Огион.
Гед медленно обвел глазами знакомую комнату.
— Но если она полностью подчинит меня себе, — сказал он, споря то ли с Огионом, то ли с самим собой, — то овладеет и моими знаниями, и моей силой. Она воспользуется ими. Пока что она угрожает мне одному, но тогда моими руками она станет вершить страшное зло.
— Это так. Но только если она победит тебя.
— …А если я снова стану спасаться бегством, она, конечно же, отыщет меня снова… К тому же силы мои истощены… — Гед задумался; потом вдруг резко повернулся и встал перед Магом на колени. — Я встречался с великими волшебниками, я достаточно долго прожил на Острове Мудрых, но только ты — мой настоящий Учитель, Огион. — В голосе его звучала любовь и какая-то мрачная радость.
— Хорошо, — сказал Огион, — что ты это понял. Лучше поздно, чем никогда. Но придет еще время, и ты сам станешь моим учителем… — Он встал, подкинул в камин дров и, когда пламя разгорелось, повесил над огнем чайник; потом накинул куртку из овчины и сказал: — Пойду посмотрю, как там мои козы. А ты пока последи за чайником, парень.
Он вернулся, весь занесенный снегом, и долго отряхивал свои меховые сапоги. С собой он принес длинную тисовую дубинку и всю вторую половину короткого зимнего дня и еще после ужина старательно строгал ее ножом, при свете лампы отделывал шлифовальным камнем, нашептывал какие-то заклятия и бесконечное число раз проводил рукой по гладкой деревяшке, нащупывая невидимые глазу огрехи. За работой Огион несколько раз принимался что-то напевать. Гед, еще не совсем окрепший, начинал дремать под эти песни, и ему казалось, что он снова стал ребенком, снова живет в хижине тетки-ведьмы в Десяти Ольховинах, а ночь кругом снежная, в темноте виден лишь огонь в камине, воздух в теткином доме пропитан запахами трав и дыма… Гед далеко-далеко уносился на крыльях сна под те протяжные волшебные песни, что пел Огион, а пел он о героях древности, что боролись с темными силами и побеждали или погибали со славой в бою.
— Ну вот, — сказал наконец Огион и протянул Геду готовый посох. — Верховный Маг после окончания Школы дал тебе тисовый посох. Хороший выбор. Я с ним согласен. Сначала я хотел сделать из этой дубинки стрелу для большого лука, но так, пожалуй, будет лучше. Спокойной ночи, сынок.
У Геда не хватило слов, чтобы выразить Учителю свою благодарность. Он повернулся и пошел в свой альков. Огион, глядя ему вслед, сказал — но так тихо, что Гед услышать не мог:
— Удачного тебе полета, о юный мой сокол!
Наступил холодный рассвет, Огион проснулся и обнаружил, что Геда в доме уже нет. Он лишь оставил весточку, по волшебной традиции сделанную серебряными буквами на каминной доске. Буквы уже начинали тускнеть и расплываться; Огион едва успел прочесть: «Учитель, я вышел на охоту».
Глава 8
Охота
Гед вышел из дому еще затемно и по дороге, ведущей из Ре Альби вниз, успел к полудню добраться до побережья. Огион заранее приготовил ему отличную гонтскую обувь, рубашку, кожаную куртку и запас белья вместо роскошных одежд Осскила, но на случай зимних холодов Гед все же прихватил с собой великолепный теплый плащ, отороченный мехом пеллави. В этом самом плаще, держа в руках лишь высокий посох темного дерева, подошел Гед к воротам города, и стражники, что стояли, прислонясь к столбам в виде резных драконов, с первого взгляда признали в нем волшебника. Они склонили копья, пропустили его без единого вопроса и долго смотрели ему вслед, пока он шел по улицам к гавани.
На набережной и в доме Морской Гильдии он поспрашивал насчет кораблей, что намерены плыть на север или на запад — к Энладу, Андраду, Оранее. Все отвечали, что ни одно судно не выйдет уже из гавани, поскольку близится зимний Солнцеворот, и что рыбаки почти перестали плавать даже до Сторожевых Утесов — уж больно ненадежна погода осенью.
Геду предложили пообедать чем бог послал — волшебнику редко приходится просить, чтобы его накормили. Он немного побыл в компании портовых грузчиков, корабелов и заклинателей ветра, наслаждаясь их скупо роняемыми словами, их медлительно-ворчливой гонтской манерой вести беседу. Ему очень хотелось остаться здесь, на Гонте, забыть о своей магической силе и приобретенных знаниях, забыть обо всех страхах и мирно жить, как все эти люди, на родной, дорогой, до боли знакомой земле. Но то были лишь мечты. Цель же у Геда была иная. Так что он недолго задержался в порту, узнав, что больше корабли в море не выйдут, и двинулся вдоль берега залива. Вскоре он добрался до одной из многочисленных маленьких деревушек, что разбросаны по всему северному побережью Гонта. Здесь он стал расспрашивать рыбаков, нет ли у кого продажной лодки. Лодка нашлась.
Ее хозяин был суровым старым рыбаком. Лодка — четыре метра в длину, обшитая внакрой, — была такой ветхой и так пропускала воду, что едва ли годилась для плавания по морю вообще, и все же хозяин запросил за нее высокую цену: заклятье от морской погибели на целый год для него самого и для его сына. Гонтские моряки не боятся ничего на свете, даже волшебников — только моря.
Такие заклятия, широко распространенные в северной части Архипелага, по правде говоря, еще ни разу не спасли никого ни от штормового ветра, ни от высокой волны; однако заклятье, сплетенное тем, кто хорошо знает местные воды и понимает в морском деле, все же дает кое-какую защиту. Гед, наводя чары, постарался честь по чести; он колдовал всю ночь и весь день, не упустив ни одной мелочи, и делал все уверенно и тщательно, хотя за это время не раз, томимый страхом, он мысленно улетал далеко в страну тьмы, надеясь там отыскать поджидающую его Тень и узнать, как, когда и где в следующий раз встретится с ней. Когда морское заклинание было закреплено, Гед почувствовал, что совсем обессилел. Он переночевал в хижине рыбака, в гамаке, сплетенном из китовых кишок, и утром поднялся весь пропахший сушеной рыбой; чуть позже он направился вниз, в бухточку близ Северного Мыса, где причалена была его лодка.
Он столкнул ее на воду, и вода сразу стала заполнять дырявую посудину. Ступая мягко и легко, словно кот, Гед залез в лодку, выровнял погнутые доски, поменял сгнившие деревянные гвозди, помогая себе и плотницким инструментом, и колдовством, как когда-то вместе с Печварри в Лоу-Торнинге. Деревенские жители собрались на берегу, но слишком близко не подходили; они молча смотрели, как ловко он работает, время от времени тихо произнося какие-то непонятные слова. Эту работу Гед тоже сделал хорошо; терпеливо подогнал каждую дощечку, и теперь лодка стала вполне прочной и надежной. Потом с помощью заклятья он укрепил посох, подаренный ему Огионом, в качестве мачты и приделал к нему крепкую деревянную поперечину в метр шириной. С поперечины спускался сотканный им из ветра и волшебных слов квадратный парус, белый, как снег на вершине горы Гонт. Наблюдавшие за волшебным ткачеством женщины с завистью вздохнули.
Стоя рядом с мачтой, Гед надул парус легким волшебным ветерком, лодка вышла из бухточки и взяла курс на Сторожевые Утесы. Когда молчаливо наблюдавшие рыбаки увидели, что давно прохудившаяся шлюпка быстро скользит по волнам под белым парусом, легкая и опрятная, как птица-перевозчик, то разразились радостными криками, смехом, и Гед, на мгновение оглянувшись назад, увидел, как они приветливо машут ему вслед, стоя на холодном ветру в тени Северного Мыса, над которым виднелись заснеженные поля на склонах Гонта, чья вершина скрывалась в облаках.
Меж Сторожевых Утесов он вышел прямо в Гонтийское Море и взял курс на северо-запад, чтобы мимо северных берегов Оранеи вернуться назад тем же путем, каким прилетел сюда в обличье сокола. Иного плана у него пока не было. Пытаясь догнать сокола, мчавшегося без отдыха дни и ночи наперекор всем ветрам из Осскила, Тень вполне могла отстать и пока что скитаться в поисках его следа; впрочем, она могла и выйти прямо на него — тут ничего определенного сказать было нельзя.
Если только она навсегда не вернулась в царство смерти, то, разумеется, не упустит случая встретиться с Гедом, открыто идущим ей навстречу по волнам моря.
Он мечтал встретить ее в море, если этому все равно суждено случиться. Он и сам не понимал, почему так опасается встретить Тень снова на твердой земле. Глубины морские порождают порой бури и разных чудовищ, но силы зла рождаются не в морях: их порождает земля. И в том царстве Тьмы, куда однажды попал Гед, не было ни моря, ни быстрых рек, ни ручьев. Смерть предпочитает пустыню. И хоть море само по себе тоже было опасным в ту пору зимних штормов, но опасность эта и сам капризный нрав моря казались Геду даже какой-то защитой, предоставленной ему судьбой. В крайнем случае, если бы Тень встретилась ему здесь, над этими бурными водами, думал он, то можно было бы, крепко обхватив ее и удерживая тяжестью собственного тела и грузом смерти, рухнуть прямо в море, утопить ее в темных морских глубинах и ни за что не размыкать смертельных своих объятий, чтобы эта тварь никогда не смогла подняться вновь из океанской бездны. И тогда хотя бы смерть его искупит наконец-то зло, которое он выпустил в мир живых.
Гед плыл по волнам бурного холодного моря, а над ним плыли низкие тучи, похожие на серый огромный саван. Дул попутный северо-западный ветер, так что Геду нужно было лишь поддерживать созданный его волшебством парус, который сам поворачивался в нужную сторону, помогая могучему природному ветру нести суденышко все дальше и дальше. Без этого было бы трудновато держать утлую лодчонку прямо по курсу при такой волне. Гед зорко глядел по сторонам, высматривая врага. Жена старого рыбака дала ему с собой две буханки хлеба и кувшин с водой, так что, поравнявшись с атоллом Кэмебер, единственным островком между Гонтом и Оранеей, он поел и напился воды, с благодарностью вспомнив молчаливую женщину с острова Гонт, что позаботилась о незнакомце. Все дальше и дальше уплывал он от этого крохотного островка, забирая все больше к западу и по той влаге, что висела в воздухе над морем, определяя, что над островами, вполне возможно, уже выпал снег. Кругом стояло безмолвие, разве что слегка поскрипывала лодка да слабо шлепали о борта волны. Ему не встретилось ни одного судна, ни одна птица не пролетела у него над головой. Все было недвижимо, лишь играли волны да тучи неслись по небу, как и тогда, во время его соколиного полета, — на восток, только сам он теперь плыл на запад. Тогда он тоже видел внизу лишь серое море, как теперь — серые тучи над собой.
Горизонт впереди был пуст. Гед, измученный тщетными попытками разглядеть хоть что-нибудь сквозь дождливую дымку, встал на ноги. Он сильно продрог.
— Ну, давай же, — бормотал он, — нападай, чего же ты ждешь, проклятая тварь?
Ответа не было, и ничто темное не шевельнулось в туманном воздухе над мрачным морем. И все же Гед отчетливо сознавал, что Тень где-то совсем близко, что она, слепая, неуверенно ищет в холодных волнах его след. И, не выдержав, он закричал во весь голос:
— Я здесь! Я, Гед-Ястреб, вызываю тебя на поединок!
Скрипнула лодка, плеснула о борт волна, чуть зашипел ветер в белом парусе. Летели мгновения. Гед ждал, Держась одной рукой за мачту из тисового посоха и вглядываясь в леденящую влажную пелену, медленно, неровными клоками плывущую к северу. Прошло еще несколько минут, и сквозь завесу моросящего дождя Гед увидел, что Тень приближается.
С телом осскилианского гребца Скиорха было покончено; Тень преследовала свою жертву по всем волнам и морям уже не в обличье оборотня и не в виде немыслимого зверя, что набросился на него тогда на вершине Холма Рок и позже являлся во снах. Теперь она как бы обрела некую материальную оболочку, видимую даже при свете дня. Неотступно преследуя Геда — и особенно во время поединка на вересковой пустоши, — она вытянула из него немало сил, всосала в себя его энергию, а то, что сейчас он сам призвал ее, назвавшись своим подлинным именем при свете дня, придало ей еще большее сходство с живым существом. Она теперь определенно напоминала человека, но, сама будучи тенью, тени не отбрасывала. Она появилась со стороны пролива Челюсти Энлада и двигалась к Гонту, едва различимая в дымке дождя уродливая тварь, сгибающаяся под напором ветра. Холодный дождь хлестал сквозь нее.
Поскольку Тень слепил свет, да и не она сама нашла Геда, а он вызвал ее на поединок, то юноша заметил ее раньше, чем она его. Оба узнали друг друга сразу; они узнали бы друг друга везде — в мире живых существ или в мире теней.
Окруженный страшной пустыней зимнего моря, Гед прямо перед собой видел ту тварь, что внушала ему такой ужас. Ветер, похоже, отнес Тень чуть в сторону от лодки, и высоко вздымавшиеся волны не давали юноше как следует разглядеть своего врага. Однако Тень по-прежнему приближалась, и было неясно, сама ли она движется или ее несет к нему ветер. Наконец она заметила Геда. И хоть сердце его застыло при воспоминании о том леденящем прикосновении, о той черной боли, что некогда пыталась прервать в нем жизнь, он все же терпеливо ждал и не двигался. А потом вдруг призвал сильный волшебный ветер, парус надулся, и лодочка стрелой понеслась по серым волнам прямо навстречу чудовищу, несущему в себе смерть.
Тень заколебалась, как бы в порывах ветра, и в полном молчании повернулась и понеслась прочь.
Она мчалась прямо на север, и так же быстро преследовала ее лодка Геда, а волны и ветер били ему в лицо, и юноша, призвав на помощь всю свою магическую силу, понукал и понукал суденышко, как подгоняет гончих псов охотник, когда выходит на загнанного зверя. Такой мощный ветер надувал теперь его парус, что никакая обычная парусина не выдержала бы. Лодка неслась по волнам, словно клочок морской пены, нагоняя спасающуюся бегством Тень.
И тут Тень сделала странный полукруг, на мгновение исчезла из виду, потом появилась вновь, став более расплывчатой и неясной; теперь она гораздо меньше походила на человека — скорее на облако, клок темного тумана, влекомый бешеным ветром прямо к острову Гонт.
Сказав волшебное слово, Гед круто развернул лодку, которая, как дельфин подпрыгнув в воде, понеслась вдогонку за Тенью, становившейся в дождливой пелене все менее различимой. Снежная крупа, смешанная с ледяным дождем, хлестала Геда по спине, по левой щеке; вперед видно было не дальше чем метров на сто. Шторм становился все сильнее, и вскоре Тень совсем пропала вдали, но Гед был уверен, что по-прежнему идет по ее следу, словно это был след крупного зверя, отчетливо отпечатавшийся на снегу, а не бесплотного духа, летящего над водой. И хоть теперь ветер был уже попутный, Гед все же помогал лодке двигаться быстрее, так что пена клубами вылетала из-под носа его суденышка, которое на бешеной скорости взлетало на очередную волну, а потом с размаху шлепалось днищем о воду.
Безудержная роковая погоня продолжалась долго, и день начинал меркнуть. Гед понимал, что после нескольких часов бешеной гонки должен теперь находиться где-то южнее Гонта, ближе к острову Спиви или к Торхевену. Впрочем, вполне возможно, он уже проскочил мимо обоих островов прямо в Открытое Море. Он не в силах был более точно определить свое местонахождение, да это, впрочем, было ему безразлично. Он был занят охотой, шел по следу, и страх бежал впереди него, как гончий пес.
Вдруг совсем неподалеку он увидел Тень. Природный ветер стихал, яростный дождь со снегом уступал место влажному клочковатому густому туману. Сквозь этот туман Гед на мгновение и углядел Тень, летящую куда-то вправо от него. Он произнес заклятье, повернул румпель и бросился вдогонку, хотя плыть приходилось почти вслепую: туман быстро сгущался, кипя клубами там, где пласты его встречались с волшебным ветром, поднятым Гедом. Плотная серая пелена заполнила собой все пространство вокруг лодки, оказавшейся как бы в некоем бесформенном храме, под сводами которого умирали свет, видимость и звук. Однако Гед только еще начал произносить разгоняющее туман заклятье, как снова увидел Тень — по-прежнему справа от лодки и очень близко. Она двигалась совсем медленно; сквозь очертания ее головы, все еще напоминающие человеческую, проплывали клочья тумана. Гед еще раз повернул лодку, полагая, что теперь-то уж загонит выбившегося из сил врага на твердую землю, и в тот же миг Тень исчезла, а его лодка врезалась прямо в прибрежные скалы, скрытые густой пеленой. Гед едва не вылетел в море, но успел ухватиться за мачту-посох прежде, чем ударила очередная волна. Это была огромная волна; она подбросила лодчонку и швырнула ее о скалы так, как это делает человек, желающий разбить крепкую раковину.
Прочным и поистине волшебным был посох, сделанный Огионом. Он не только не сломался, но прекрасно поддерживал своего хозяина на воде. Не выпуская его из рук, Гед успел глубоко нырнуть под очередную нахлынувшую и очень высокую волну, вынырнул и оказался вне полосы прибоя. Ослепнув от соленой воды, задыхаясь, он старался все же держаться на поверхности и что было сил сопротивлялся могучим толчкам моря. За скалами виднелась полоска песчаного пляжа — Гед заметил ее, в очередной раз взлетев на волне. Собрав все силы, с помощью волшебного посоха он устремился к спасительному берегу. Но приблизиться не мог: волны, разбиваясь о скалы, крутили его, точно щепку, и уносили назад в море, а холод морских глубин быстро высасывал тепло из тела. Юноша все больше слабел и вскоре уже не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Он перестал видеть перед собой скалы и полоску песка на берегу и не сознавал более, куда несут его волны. Лишь рев их был слышен вокруг; волны ослепляли его, душили, пытались утопить…
Вдруг прямо перед ним из густого тумана как бы вспухла гигантская волна, подхватила его, перевернула и швырнула, словно обломок плавника, на песок, оставив наконец в покое это измученное тело.
Гед по-прежнему обеими руками сжимал тисовый посох. Волны поменьше тщетно пытались стащить юношу обратно в море, чтобы растерзать там; туман над ним то рассеивался, то снова густел; потом снова пошел снег с дождем.
Много времени прошло, пока Гед наконец смог пошевелиться. Потом поднялся на четвереньки и медленно пополз вверх по берегу, подальше от полосы прибоя. Его окружала непроницаемая ночная тьма, но он что-то шепнул своему посоху, и на конце его повис маленький волшебный огонек. Так он понемногу продвигался вперед, к дюнам, но был настолько избит и обессилен и так замерз, что ползти по мокрому песку под свист штормового ветра оказалось невероятно тяжело, тяжелее всего, что когда-либо приходилось ему делать в жизни. Один или два раза ему показалось, что шум моря и ветра стих, а песок под ним превратился в пепел, и он, как когда-то, вновь почувствовал немигающий взгляд чуждых этому миру звезд у себя на затылке, однако головы так и не поднял, упрямо продолжая ползти вперед. И через некоторое время услышал и собственное запаленное дыхание, и яростный вой ветра; почувствовал, как ледяные струи дождя хлещут ему в лицо.
В конце концов движение немного согрело его, а когда он заполз в дюны, где дождь и ветер свирепствовали меньше, то даже сумел подняться на ноги. Гед произнес заклинание, и светящийся шар на конце посоха стал больше и ярче, рассеивая черную плотную тьму, обступившую его со всех сторон. Опираясь на свой посох и без конца спотыкаясь, юноша двинулся в глубь острова. Вскоре, поднявшись на гребень очередной дюны, он снова услышал море, почти затихшее у него за спиной, и понял, что практически прошел островок насквозь. Точнее, это был обычный риф, крошечный клочок суши среди безбрежного океана.
Гед был слишком измучен, чтобы предаваться отчаянию, но все же некое подобие рыдания вырвалось у него из груди, и он застыл в неподвижности, опираясь на посох. Потом, понурив голову, побрел влево, чтобы ветер дул в спину, пытаясь отыскать во впадине меж дюн хоть какое-то убежище среди обледеневшей полеглой морской травы. Когда он приподнял посох, чтобы получше оглядеться, то вдруг заметил какой-то слабый отблеск на самом краю освещенного круга: это блестела мокрая от дождя стена какой-то хижины.
Хижина была настолько маленькой и хлипкой, словно ее построил ребенок. Гед стукнул своим посохом в низенькую дверь. Но никто не открыл. Гед толкнул дверь и вошел внутрь, для чего ему пришлось согнуться почти пополам. Впрочем, в хижине выпрямиться в полный рост он тоже не смог. В очаге краснели угли, и в этом неясном свете Гед разглядел человека с седыми длинными волосами, скорчившегося от ужаса у противоположной стены, и еще кого-то — неясно, женщину или мужчину, — выглядывавшего из-под кучи тряпья и шкур на полу.
— Я не причиню вам зла, — прошептал Гед.
Они не ответили, Гед переводил взгляд с одного лица на другое. Глаза хозяев хижины стали бессмысленными от ужаса. Когда юноша наконец положил свой посох, тот, что лежал под грудой тряпья, захныкал и совсем спрятался. Гед снял плащ, тяжеленный, насквозь пропитанный водой и покрытый ледяной коркой, разделся догола и осторожно придвинулся к очагу.
— Дайте чем-нибудь накрыться, — попросил он. Он сильно охрип и говорил с трудом; от холода у него стучали зубы, и дрожь сотрясала все тело. Если старики и поняли его, то ни один все равно не ответил. Гед протянул руку и взял с убогой лежанки какие-то лохмотья — когда-то это скорее всего было козьей шкурой, но теперь под толстым слоем жира разобрать было невозможно. Тот, что прятался под кучей тряпья, даже застонал от страха, но Гед уже не обращал на это внимания. Он насухо вытерся и просипел:
— Дрова-то у вас есть? Разожги-ка огонь пожарче, старик. Я ведь случайно попал к вам и ничего дурного не замышляю.
Старик не пошевелился и смотрел на него как в столбняке.
— Ты не понимаешь меня? Разве ты не знаешь ардического? — Гед подумал и снова спросил: — Может, ты говоришь по-каргадски?
Старик с готовностью кивнул — как старая печальная марионетка, которую дернули за веревочку. Но это был единственный вопрос, который Гед мог задать по-каргадски, так что беседа их на том и закончилась. Юноша сам нашел сложенное у стены топливо, сам разжег огонь, потом жестами попросил напиться: он наглотался морской воды и испытывал страшную жажду. Старик с поклоном указал на огромную раковину, полную пресной воды, и подтолкнул к очагу еще одну раковину с ломтиками вяленой рыбы. Гед, скрестив ноги, уселся у огня, немного поел и напился воды. По мере того как силы и разум начали возвращаться к нему, он попробовал понять, куда попал. Даже с помощью волшебного ветра он не смог бы доплыть до островов Каргада. Этот островок явно находился в Открытом Море, восточнее Гонта, но западнее Карего-Ат. Казалось невероятным, чтобы на столь крошечном и пустынном клочке земли, по сути дела отмели вокруг рифа, могли жить люди. Может, это изгнанники? Или потерпевшие кораблекрушение? Но он был слишком измучен, чтобы ломать над этим голову.
Гед все время переворачивал плащ, сушившийся у огня. Сначала и очень быстро высох серебристый мех пеллави, которым плащ был подбит; и как только сама шерстяная материя немного подсохла и отогрелась, Гед завернулся в плащ и растянулся прямо на полу у очага.
— Ступайте спать, бедолаги, — сказал он своим молчаливым хозяевам, уронил голову на песчаный пол хижины и тут же заснул.
Трое суток провел Гед на безымянном островке. Проснувшись на первое утро, он почувствовал, как невыносимо болит каждая мышца; его сотрясал озноб и одолевала слабость. Он валялся, как жалкий обломок плавника, в хижине у очага весь первый день и всю последующую ночь. Утром он все еще ощущал боль в одеревеневших мускулах, однако чувствовал себя почти здоровым. Он натянул высохшую и хрустящую от морской соли одежду — стирать ее было не в чем, пресной воды здесь явно не хватало — и вышел из хижины под серое небо, на продуваемый всеми ветрами берег, чтобы понять, куда обманом завлекла его проклятая Тень.
Это была скалистая отмель тысячи полторы шагов в ширину и чуть больше в длину, со всех сторон окруженная мелководьем и рифами. Здесь не росло ни единого деревца или куста, ни единой травинки, только склонялись под ветром морские водоросли. Старик со старухой жили здесь в полном одиночестве среди водной пустыни. Хижина их стояла в распадке меж дюн. Она была построена, точнее сложена, из плавника — принесенных морем кусков дерева и веток. Воду брали в маленьком примитивном колодце возле хижины; на вкус вода была солоноватой. Питались старики моллюсками и рыбой, свежей и вяленой, а также собранными у скал водорослями. В хижине имелся небольшой запас костяных иголок и рыболовных крючков, сухожилий для рыболовных снастей и топлива. Рваные шкуры оказались вовсе не козьими, как Гед решил вначале; они принадлежали пятнистым котикам. Как раз на таких островках котики и устраивают свои лежбища и выводят детенышей. Пожалуй, кроме котиков, в эти дикие края не заплывает никто. И старики боялись Геда вовсе не потому, что приняли его за духа, и не потому, что он был волшебником, но всего лишь потому, что он оказался обычным человеком. Они давно забыли, что в мире есть другие люди, кроме них двоих.
Тупой ужас, завладевший старым мужчиной в первые же мгновенья, ни на минуту не отпускал его. Если ему казалось, что Гед подошел слишком близко и может до него дотронуться, он тут же пытался, прихрамывая, убежать и мрачно поглядывал из-под копны спутанных грязных седых волос. Старуха сначала, стоило Геду чуть шевельнуться, со стонами скрывалась под грудой рванья; однако, лежа в полузабытьи на полу у очага, он видел, как она подползала к нему поближе, всматривалась в его лицо странным, туповатым, каким-то ищущим взглядом, а через некоторое время даже принесла ему напиться. Когда же он приподнялся, чтобы принять у нее раковину, она в ужасе выронила ее и разлила всю воду. Тогда она заплакала, вытирая глаза прядями серо-седых волос.
Сейчас старушка внимательно наблюдала, как он пытается из плавника и остатков своей лодки, выброшенных на берег, создать нечто, способное плавать по морю, работая грубым каменным веслом, позаимствованным у старика, и помогая себе заклятьями. Это была не починка старой лодки и не постройка новой — здесь не хватило бы дерева ни на то, ни на другое, — так что колдовство оказалось совершенно необходимым. И все же старуха наблюдала не столько за тем, что и как он делает, сколько за ним самим; боязливое выражение не сходило с ее лица. Впрочем, через некоторое время она все-таки потихоньку приблизилась — принесла подарок: горсть мидий, которые собрала на скалах. Гед тут же при ней съел их сырыми и мокрыми от морской воды. Он горячо поблагодарил ее, после чего старушка, казалось, набралась смелости, пошла в хижину и вернулась снова, неся в руках какой-то узелок из обрывка шкуры. Застенчиво заглядывая Геду в лицо, она развернула узелок и показала ему то, что там хранилось.
Это было маленькое детское платьице, вышитое шелком и жемчугом, все в пятнах соли, пожелтевшее от времени. На крошечном лифе жемчужинами был вышит знакомый Геду знак: двойная стрела Богов-Близнецов Империи Каргад; над этим символом красовалась королевская корона.
Старуха, морщинистая, грязная, в уродливой одежде из котиковых шкур, показала пальцем сначала на шелковое платьице, потом на себя и улыбнулась — нежной, бесхитростной улыбкой маленькой девочки. Из крохотного потайного кармашка на юбочке она достала и протянула Геду небольшой кусочек темного металла — то ли часть какого-то сломанного браслета, то ли половинку кольца. Гед смотрел на загадочный обломок, лежавший у нее на ладони, но она знаками показала, чтобы юноша взял его, и не отставала до тех пор, пока он не принял подарка; тогда она удовлетворенно кивнула, улыбнулась, словно удалась какая-то давняя ее затея, и снова бережно завернула платьице в грязную шкуру. Потом поплелась обратно в хижину, чтобы спрятать там свою единственную драгоценность.
Гед столь же бережно спрятал половинку сломанного кольца, или браслета, в карман, ибо сердце его было полно сострадания. Теперь он догадывался, что эти двое — скорее всего дети одного из лордов Каргада, которых тиран-император, опасаясь проливать невинную кровь, сослал на этот необитаемый остров, не заботясь о том, выживут ли здесь дети или умрут вдали от родины и в полном одиночестве. Один из них был тогда, наверно, мальчиком лет восьми от роду, а другая — пухленькой малышкой, принцессой в шелковом платьице, расшитом жемчугом; Дети не погибли и с тех пор жили здесь совсем одни — сорок, пятьдесят, шестьдесят лет на скалистом острове в океане — принц и принцесса Страны Одиночества.
Конечно же, он не знал, справедлива ли его догадка, и не узнал об этом до тех пор, пока, много лет спустя, поиски кольца Эррет-Акбе не привели его в Империю Каргад, в священные Гробницы Атуана.
Его третья ночь на островке закончилась светлым и спокойным рассветом. Это был день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году. Маленькая лодочка, созданная из обломков умелыми руками и волшебством, была готова. Гед попытался сказать старикам, что может отвезти их на любой из ближайших островов — на Гонт, на Спиви или на Ториклы; даже готов был оставить их где-нибудь на пустынном берегу Карего-Ат, если бы они того пожелали, хоть море у берегов Каргада всегда было опасным для жителей Архипелага. Но они ни за что не хотели покидать свой пустынный бесплодный островок. Старушка, похоже, просто не понимала, что Гед хотел выразить с помощью жестов и тихого голоса; старик все понял — и решительно отказался: его воспоминания об иных странах и людях были связаны лишь с кровавыми кошмарами, жуткими криками и воинами-гигантами. Гед прочитал все это по его лицу, когда старик несколько раз отрицательно покачал головой в ответ на все предложения юноши.
Итак, утром третьего дня Гед наполнил бурдюк из котиковой шкуры пресной водой и, поскольку не мог иначе отблагодарить стариков за кров и пищу, особенно старую женщину, которой ему очень хотелось что-нибудь подарить в ответ, сделал для них то, что мог: наложил заклятье на солоноватый ненадежный родничок. И вода струей забила из этого источника, поднявшись сквозь камни и песок, и была она вкусна и прозрачна, словно в горном ручье. Маленький колодец стариков стал неиссякаемым. Именно поэтому крошечный островок этот — всего-то песчаные дюны и острые скалы — нанесен теперь на все карты и даже получил название; моряки называют его Островом Родниковой Воды. Но нет больше и следа жалкой хижины, а зимние шторма за многие годы уничтожили все, что оставалось на острове от тех двоих, что провели там жизнь и умерли в одиночестве.
Старики спрятались в хижине и больше не выходили — словно боялись увидеть, как Гед уплывает на своей лодке в безбрежные воды. Природный ветер с севера наполнил волшебный парус, и суденышко быстро помчалось по морю к югу.
Теперь эта погоня уже представлялась Геду довольно сомнительным предприятием: он хорошо понимал, что охотится за неведомой дичью, к тому же находящейся неизвестно где. Теперь он вынужден был полагаться лишь на собственные догадки и предчувствия, да еще — на везение, то есть охотиться так, как раньше Тень охотилась на него самого. И охотник, и дичь сбивали друг друга с толку. Гед терялся от собственной неспособности увидеть Тень при свете дня и ощутить своего врага во плоти; Тень же при свете была слепа и не способна бороться с материальным противником. Одно лишь теперь стало ясно Геду: он перестал быть жертвой и стал охотником. Хотя бы потому, что Тень, обманом заманив его на скалы, вполне могла бы разделаться с ним, когда он лежал полумертвый на берегу или полз в темноте через дюны; однако она не воспользовалась своей властью. Обманув его, она сразу же бежала и не осмеливалась теперь встретиться с ним лицом к лицу. Все это подтверждало правоту Огиона: эта тварь никогда не сможет воспользоваться силой Геда, если он сам станет преследовать ее. Значит, он должен продолжать охоту, гнаться за своим врагом, хоть след его почти утрачен и ничто не может указать ему путь в безбрежности океана, разве что поможет попутный ветер да неясная догадка или предчувствие подскажет, куда — на юг или на восток — должен он теперь плыть.
В преддверии ночи Гед заметил вдали, чуть левее курса, длинную, едва видимую полоску земли — берег какого-то большого острова, должно быть, Карего-Ат. Сейчас он как раз находился в наиболее оживленном сплетении морских путей каргов, этих белокожих варваров. Гед внимательно и неустанно оглядывал морские просторы, чтобы вовремя заметить любое крупное судно и уйти в сторону. А в воспоминаниях его вновь и вновь всплывал тот подсвеченный красным туман — утро из его детства в деревне Десять Ольховин; вновь перед ним мелькали воины с перьями на шлемах, горящий дом, запах дыма… Вспоминая это, он вдруг спокойно осознал, что на этот раз Тень ускользнула от него при помощи его же собственной уловки — загнав его в туман, который будто вытащила из прошлой жизни своего врага, а потом, лишив видимости, бросила лодку на смертельно опасные скалы.
Гед по-прежнему плыл на юго-восток, и остров скрылся из глаз еще до наступления полной темноты. Но теперь ночь овладела этой половиной мира. Провалы между волнами казались заполненными жидкой чернотой, хотя на гребешках их еще играл красноватый отблеск заката. Гед громко спел «Зимнюю песню» и другие песни из «Сказания о подвигах Молодого Короля», какие припомнил. Ведь эти песни поют на празднествах в честь Солнцеворота. Голос его звучал ровно, однако безбрежная немота моря глушила его чистый звук. Быстро спускалась ночь, появились яркие зимние звезды.
В течение всей этой самой долгой в году ночи он не спал: смотрел, как плывут у него над головой звезды — прямо в промежуток между согнутой левой рукой и рулевым веслом — и тонут в далеких темных водах справа по борту, а непрерывно дувшие зимние ветры несли и несли его на юг по волнам невидимого во тьме океана. Он засыпал разве что урывками и сразу же просыпался, словно от толчка: ведь лодка, на которой он плыл, по-настоящему лодкой вовсе и не была и больше чем наполовину состояла из заклятий и колдовства, соединявших разрозненные доски и куски плавника, которые — если б только он позволил заклятью Воплощения чуть-чуть ослабнуть — тут же распались бы и поплыли в разные стороны. Да и парус, сотканный из магических нитей и воздуха, недолго продержался бы на таком ветру, если бы Гед заснул. Он просто исчез бы, словно вздох. Гед применил могущественные заклинания, но если цель не слишком значительна, то и сила этих заклятий недолговечна, а потому время от времени их следует укреплять, так что спать было никак нельзя. Конечно, он мог бы преодолеть этот путь куда легче и быстрее в обличье сокола или дельфина, но Огион не зря советовал избегать превращений. Гед знал цену советам Огиона, а потому и плыл к югу на утлой лодчонке под движущимися на запад звездами. Но вот долгая ночь подошла к концу, и первый день нового года засиял над морем.
Вскоре после восхода солнца Гед увидел впереди землю, но лодка едва двигалась: был почти полный штиль. Гед наполнил парус несильным волшебным ветерком и направил лодку к берегу. И тут страх вновь завладел его сердцем, тот самый леденящий душу страх, что заставил его когда-то свернуть с избранного пути, бежать, спасаться. Но теперь этот страх вел его, словно запах — охотничьего пса, словно хорошо заметный след когтистых лап огромного зверя, который в любую минуту может напасть на тебя из зарослей. Гед ясно чувствовал: враг близко.
Странный это оказался остров, и непонятными были его постепенно вырисовывающиеся очертания. То, что издали казалось сплошной отвесной каменной стеной, распалось на несколько скал, или, точнее, скалистых островков, между которыми в узких проливах, словно в туннелях, стремительно неслась вода. Гед изучил немало лоций и карт в Одинокой Башне у Мастера Ономатета, но они в основном имели отношение к островам Архипелага и Внутренних Морей. А он теперь вышел в Открытое Море, в его восточную часть, и остров этот был ему совершенно неизвестен. Впрочем, о географии он думал недолго. Мысли его почти полностью занимала предстоящая встреча с тем ужасом, что таится среди этих покрытых лесом утесов, коварно поджидая его. Но Гед жаждал этой встречи.
Увенчанные мрачными деревьями утесы нависали прямо над его лодкой, похожие на высокие темные неприветливые башни. Сильный прибой у скал с ног до головы заплевал его пеной и брызгами; между тем парус, надутый волшебным ветром, увлекал лодку куда-то в узкий, шириной не больше двух галер, пролив, ведущий в глубь острова. Море в этом коридоре беспокойно металось и билось о крутые скалы, почти отвесно уходившие в темную глубокую воду, на поверхности которой отражался холодный свет горных вершин. Здесь было безветрие; царила полная тишина.
Тень обманом заманила его на вересковые пустоши Осскила, обманом выбросила на скалы в тумане; может, это очередная ее уловка? Он ли загнал сюда эту тварь, или это она завлекла его в ловушку, Гед пока не понял. Он знал, что бесконечно измучен страхом, а потому должен непременно идти вперед, сделать наконец то, на что решился: довести охоту до конца, прогнать этот ужас к его истокам. Он осторожно плыл на веслах, внимательно обводя глазами каждый выступ на скалистых утесах, поднимавшихся по обе стороны. Солнечный свет остался далеко позади, в море. Здесь, в узком проливе, было почти темно. Отсюда выход на простор океана казался далекими светящимися воротами. Все выше и выше, почти смыкаясь над головой, поднимались утесы; он приближался к основанию горы, породившей эти скалы. Пролив становился все
уже. Гед с трудом продвигался по темному коридору, каменные стены которого были изрыты пещерами. Путь ему преграждали огромные валуны, на которых скрючились карликовые деревья; корни их наполовину висели в воздухе. Все казалось мертвым, недвижимым. Близился конец пролива — у высокой гладкой массивной скалы, где последние морские волны слабо плескались в узеньком, шириной с небольшой ручей, пространстве. Валуны, подгнившие стволы упавших деревьев, длинные корни подмытых растений оставляли совсем мало места для лодки. Ловушка. Темная ловушка в самом чреве безмолвной горы. А в ловушке он, Гед. Вокруг — ни впереди, ни позади — не двигалось ничто. Все замерло, оцепенело. Дальше пути не было.
Гед развернул лодку, осторожно подталкивая ее волшебными словами и веслом, чтобы не удариться о бесконечные валуны и не запутаться в заполонивших все корнях и ветвях деревьев. Он уже готов был призвать волшебный ветер, чтобы вернуться назад, в море, как вдруг слова заклятья замерли у него на устах, а сердце в груди похолодело. Гед оглянулся: прямо у него за спиной в лодке стояла Тень.
Если бы он хоть мгновение промедлил, то неминуемо пропал бы; но он был наготове и успел крепко схватить тварь, дрожавшую и извивавшуюся в его руках. Никакое волшебство теперь помочь ему не могло, лишь сила собственных рук да жажда жизни, восставшая против этой нежити. В атаку он бросился молча; от его резкого броска лодка качнулась и хлебнула воды. Нестерпимая боль хлынула по рукам прямо в грудь, в сердце, у него перехватило дыхание, леденящий холод заполнил душу, и ему показалось, что он ослеп, ибо в руках своих не видел ничего — только тьму, пустоту.
Гед, спотыкаясь, шагнул вперед и, чтобы не упасть, ухватился за мачту: внезапно глаза его вновь прозрели. Он увидел, как вырвавшаяся из его рук Тень, содрогаясь, собралась в комок и поднялась в воздух. Она распростерлась у него над головой, словно черный дым на ветру, потом свернулась в кольцо и унеслась прочь бесформенной дымкой, летя низко над водой прямо к ярко освещенному выходу из пролива в море.
Гед рухнул на колени. Маленькая, волшебством его созданная лодка сильно качнулась и с трудом сохранила равновесие на неспокойной воде. Ее хозяин свернулся на дне клубком, странно оцепенев и не в силах думать ни о чем, пытаясь лишь набрать в грудь побольше воздуха; но тут холодная вода, начавшая протекать в лодку прямо под Гедом, напомнила, что за волшебным суденышком надо следить. Юноша встал, по-прежнему держась за мачту-посох, и как можно тщательнее сотворил заклятье Воплощения снова. Он продрог до костей, был измотан до предела, руки и плечи его, покрытые ранами, болели. Ему даже показалось, что лучше, может быть, просто остаться здесь, в темноте, где море проникает в чрево горы, заснуть и долго-долго спать, покачиваясь на слабых волнах.
Он не знал, возникло ли это желание вследствие чар, навеянных Тенью перед бегством, или из-за ее ледяного смертельного прикосновения, или просто из-за того, что он давно уже не ел и не спал, израсходовав последние силы. И Гед решил в любом случае не сдаваться; он поднял
волшебный ветер и двинулся по проливу туда, куда умчалась черная Тень.
Ужас исчез. Но не было и радости. Погоня кончилась. Он больше не был ни жертвой, ни охотником. В третий раз он встретился с Тенью лицом к лицу после того, как по собственной воле искал ее. Он схватил ее руками, но не удержал, хотя теперь между ними создалась необычайно прочная связь, кольцо без единой трещины. Больше не требовалось преследовать Тень, вынюхивать ее след, несмотря на стремительное бегство. Теперь их встреча неизбежна, предопределена, и произойдет она в назначенном судьбой месте; это будет их последнее свидание.
Однако до той поры не будет Геду ни сна, ни покоя; ни днем, ни ночью; ни на земле, ни на море. Теперь он знал, и невероятно тяжела была эта истина: вовсе не требовалось исправлять некогда им совершенное — требовалось лишь завершить начатое.
Гед прошел меж темными утесами, и перед ним раскинулся морской простор. На небе разливалась заря, свежий ветер дул с севера.
Он напился солоноватой воды, остававшейся еще в бурдюке из котиковой шкуры, и поплыл вдоль берега острова на запад, пока не добрался до широкого пролива. Невдалеке был виден другой остров. Теперь он узнал это место, призвав на помощь все свои знания восточной части Открытого Моря. Это были острова под названием Руки — Западная и Восточная, — вытянувшие свои узловатые скалистые «пальцы» на север, словно пытаясь дотянуться до островов Каргада. Гед поплыл дальше между островами, а когда к полудню небо заволокло штормовыми тучами, высадился на берег; это была южная оконечность западного из островов. Он издали заприметил небольшую деревушку, чуть выше берега моря, откуда сбегал быстрый ручей. Геду было все равно, как его примут здесь, лишь бы удалось раздобыть воды, согреться у огня и поспать.
Жители деревни оказались грубоватыми застенчивыми людьми; они побаивались уже одного только волшебного посоха Геда и его необычного лица с темной кожей, однако встретили его приветливо, ибо он приплыл в одиночку через бурное зимнее море. Они дали ему не только достаточно пищи и воды, но и благодать живого огня, покой человеческих голосов, говорящих на знакомом языке, и, что самое главное, они дали ему много горячей воды, чтобы смыть с тела въевшуюся морскую соль и согреться, а еще — постель, где он мог наконец выспаться всласть.
Глава 9
Остров Иффиш
Три дня Гед провел в деревушке на острове Западная Рука. Он отдыхал и строил лодку — уже не из заклятий и кусков плавника, а из хорошего дерева. Лодка была крепко сшита, проконопачена, просмолена, с крепкой мачтой и настоящим парусом, которым легко было управлять, а при попутном ветре под ним можно было и поспать. Как и большинство лодок на Архипелаге и в Северном Пределе, лодка Геда была обшита внакрой, когда доски накладываются одна на другую и для пущей прочности еще и прибиваются. Вся она была сделана основательно и добротно и готова к плаванию в Открытом Море. Гед с помощью особых заклятий еще усилил ее надежность, ибо путь ему предстоял неблизкий. Лодка легко несла вес троих мужчин, и старик, прежний ее владелец, сказал, что он с братьями не раз выходил на ней раньше в море даже при плохой погоде.
В отличие от скуповатых и строптивых рыбаков с Гонта, старик этот из боязни и преклонения перед настоящим волшебником отдал бы лодку и за так, но Гед хорошо расплатился с ним: волшебным способом избавил его от катаракты, из-за которой старик почти ослеп. Излечившись, обрадованный донельзя старый рыбак сказал Геду:
— Мы-то называли лодку «Зуёк-перевозчик», но ты назови ее «Зоркая» да нарисуй у нее на носу глаза: это мои благодарные глаза будут смотреть вперед из слепого дерева и хранить тебя от скал и рифов. Я ведь почти забыл, как много еще света в нашем мире, а ты вернул мне этот свет.
Гед, живя в деревне, занимался и другими делами; к нему постепенно возвращались силы. Здесь, на крутых, поросших лесом берегах острова Западная Рука жили такие же простые люди, как те, кого он знал мальчишкой в родной деревне, только, пожалуй, чуть победнее. Здесь он чувствовал себя как дома, как никогда не чувствовал себя в богатых домах; он без подсказки и лишних вопросов понимал неизбывную горькую нужду этих людей. А потому наложил заклятье на их детей, особенно на тех, что были больными или хроменькими; отныне все дети должны были оставаться здоровыми. Наложил он заклятье и на тощих деревенских овец и коз — пусть набирают вес и размножаются. Древнюю руну Симн он использовал для наложения чар на веретена и ткацкие станки, на лодочные весла и инструмент из бронзы и камня, на все, что приносили ему люди: пусть спорится у них работа. А руну Пирр Гед начертал на крышах деревенских домов, чтобы защитить их обитателей от пожаров, ураганов и безумия.
«Зоркая» его была готова, и достаточно уже было запасено воды и вяленой рыбы, но Гед все-таки задержался еще на день в полюбившейся ему деревне, чтобы выучить с молодым регентом песнь о подвиге Морреда, а также песнь о хавнорской битве. Крайне редко суда с Архипелага бросали якорь у этих берегов, так что песни, сложенные века назад, были для здешних жителей почти новинкой. Им страшно хотелось узнать, что же случилось с героями этих песен потом. Если бы Гед не спешил, если бы необходимость завершить начатое не гнала его дальше, он с радостью остался бы еще на неделю или на месяц и спел им все известные ему героические песни, чтобы о знаменитых подвигах древних узнали еще на одном острове Земноморья. Но задерживаться Гед не мог.
С зарей поднял он свой парус и поплыл прямо на юг по морям Дальних Пределов — именно в этом направлении скрылась тогда Тень. Геду не требовалось ни колдовства, ни заклятий, чтобы выяснить, где она: он это просто знал, знал совершенно точно, как если бы тонкая неразрывная нить связывала его с Тенью, сколько бы ни было между ними морей и островов. Так что плыл он наверняка, не спеша и ни на что не надеясь, по тому единственному пути, какому должен был следовать, а зимний ветер гнал и гнал его на юг.
Сутки плыл он по пустынным водам и утром второго дня причалил к берегу небольшого островка, который, как ему сказали, назывался Вемиш. Люди в крошечной гавани поглядывали на Геда подозрительно, и вскоре не замедлил явиться местный колдун. Он пронзил Геда взором, поклонился и сказал напыщенно и льстиво:
— О великий маг! Прости мое безрассудство и соблаговоли принять от нас в дар все, что тебе потребуется для твоего дальнейшего путешествия — пищу, воду, парусину, веревки. Вот сейчас, например, к твоей лодке спешит моя дочь — несет только что зажаренных кур; я надеюсь, что она поступает благоразумно, не правда ли? Конечно же, ты продолжишь свой путь, когда сочтешь нужным, вот только люди у нас малость напуганы. Дело в том, что не далее чем позавчера был замечен странный человек, что шел пешком через наш островок с севера на юг; ни на берегу, ни на море не оставил он никакой лодки, чтобы потом продолжить свой путь, и, что самое странное, он не отбрасывал тени. Те, кто видел его, говорят, что он был в точности похож на тебя!
Услышав это, Гед лишь коротко кивнул, вернулся к причалу и быстро поплыл прочь от Вемиша, не оглядываясь назад. Ему не принесло бы пользы то, что жители города смертельно перепугались бы, а их колдун превратился бы в его врага. Лучше еще одну ночь провести в море, а заодно и обдумать хорошенько то, что сообщил ему колдун. Душа Геда сжалась от страшного предчувствия. День отошел, постепенно стемнев; наступила ночь и принесла с собой холодный дождь, шепот которого не умолкал над морскими просторами до серого рассвета. Дождь продолжался до полудня, а северный ветер все гнал и гнал «Зоркую» вперед; потом туман рассеялся, и порою даже начало проглядывать солнце, а ближе к вечеру Гед увидел прямо по курсу голубые холмы крупного острова, освещенные бледным зимним солнцем, готовым скрыться за горизонтом. Дым от каминных труб синим облаком висел над светло-серыми крышами домов в небольших опрятных селениях, расположившихся по склонам гор, — удивительно приятное зрелище после бесконечного однообразия моря.
Гед следом за рыбацкими судами вошел в гавань, причалил в порту и поднялся по крутой улице города, залитого золотым светом зимнего вечера. Вскоре он обнаружил харчевню под названием «Харрекки», где огонь камина, эль и жареные бараньи ребрышки согрели его тело и душу. В обеденном зале за столом сидели еще двое путешественников, торговцы с островов Восточного Предела, но в основном посетителями здесь были местные жители, собравшиеся, чтобы выпить доброго пивка, обменяться новостями и просто поболтать. Это были уже не грубовато-застенчивые рыбаки с острова Западная Рука, а настоящие горожане, веселые и общительные. Конечно же, они сразу признали в Геде волшебника, но об этом не было сказано ни слова, разве что хозяин харчевни мимоходом, а он явно любил поговорить, заметил, что их город, Исмей, к счастью, имеет — вскладчину с остальными городами острова — неоценимое сокровище: самого настоящего волшебника, получившего образование не где-нибудь, а в Школе на острове Рок, а волшебный посох ему вручил сам Верховный Маг Земноморья. Волшебника этого хоть в данный момент в городе и нет, но проживает он здесь, в родительском доме, а потому их городу никакого другого волшебника вроде бы больше и не требуется.
— Говорят ведь: «Два волшебных посоха в одном городе — жди несчастья!» Не правда ли, господин мой? — сказал хозяин, добродушно улыбаясь.
Этим нехитрым намеком он давал Геду понять, что должности городского волшебника здесь ему не видать, да и вообще — вряд ли он будет особо желанным гостем в Исмее. Получалось, что его сперва весьма недвусмысленно попросили убраться с Вемиша; теперь, почти по той же причине, только в более мягкой форме, его просили покинуть Исмей. Оставалось дивиться: он так много слышал о небывалом гостеприимстве жителей Восточного Предела. К тому же это был тот самый остров Иффиш, где родился его друг Ветч. Но остров этот встречал Геда вовсе не так тепло, как можно было судить по давним рассказам Ветча.
И все же было заметно, что лица у жителей Иффиша действительно очень добрые. Одна лишь мысль не давала Геду покоя: он не такой, как все, ему нужно держаться подальше от людей, на нем — страшное проклятье, его преследует черная Тень. Он ощущал себя ледяным ветром, случайно залетевшим в согретую очагом уютную комнату, черной невиданной птицей, занесенной злым штормом из дальних стран. И чем скорее он уберется отсюда вместе со своей злой судьбой, тем будет лучше этим добрым людям.
— Я спешу на поиски, — ответил он хозяину харчевни, — и пробуду здесь всего ночь или две.
Голос его звучал холодно. Хозяин взглянул на тисовый посох в углу и решил пока промолчать, зато наполнил кружку Геда темным пивом так щедро, что пена пошла через край.
Гед понимал, что ему следует провести в Исмее лишь одну ночь. Здесь ему тоже не были рады. Он должен следовать зову своей судьбы. Однако он смертельно устал от холодного пустынного моря и безмолвия, а потому решил, что проведет в Исмее еще сутки, а утром следующего дня уедет. Он спал очень долго, а когда проснулся, то увидел, что за окном падает легкий снежок. Потом он без цели слонялся по улицам и переулкам города, наслаждаясь будничной суетой вокруг: смотрел, как ребятишки в меховых шапках играют в снежную крепость и делают снеговиков; слушал разные сплетни; ловил обрывки разговоров, доносившихся из раскрытых дверей домов; зашел в кузню, где работал мастер по бронзе, мехи ему помогал качать мальчишка с раскрасневшимся потным лицом; за окнами, от которых отражался красновато-золотистый свет заката — короткий зимний день близился к концу, — он видел женщин за ткацкими станками, которые оборачивались порой, чтобы улыбнуться мужу или ребенку. От всего этого человеческого тепла Гед был как бы отделен; тяжкое одиночество охватило его, комом стояло в горле, но он ни за что не признался бы, что грустит потому, что всегда один. Настала ночь, но он продолжал слоняться по улицам, в гостиницу возвращаться не хотелось. Вдруг до него донеслись обрывки веселого разговора: разговаривали молодой мужчина и девушка, спускавшиеся мимо Геда к городской площади. Гед обернулся и застыл: он узнал голос мужчины.
Он двинулся следом и скоро нагнал их в темноте, освещаемой лишь тусклым светом фонарей. Девушка испуганно отшатнулась, а мужчина внимательно посмотрел на него и грозно поднял свой посох предостерегающим жестом. Это было уж слишком. Голос Геда дрогнул, когда он сказал:
— Я думал, ты узн
аешь меня, Ветч.
И все-таки Ветч колебался.
— Да, я узна
ю тебя, — сказал он наконец и опустил посох. Потом обнял Геда за плечи и стал жать ему руку. — Я узнаю тебя! Здравствуй! Здравствуй, дружок, добро пожаловать! Ты прости меня за такую встречу… прости, что смотрел на тебя, как на злого духа… Ведь я ждал тебя, ждал, когда ты приедешь, искал тебя!..
— Значит, это ты — тот великий волшебник, которым хвастают жители Исмея? Я еще подумал…
— Ну конечно, я их волшебник. Но послушай, дай рассказать, почему я не сразу признал тебя, парень. Может, я слишком рьяно искал тебя?.. Три дня назад… а ты случайно не был на Иффише три дня назад?
— Я приплыл сюда вчера.
— Три дня назад на улице соседней с нами деревушки Квор — она тут недалеко, в горах — я видел тебя. То есть, наверно, не тебя, а твою точную копию или просто кого-то очень похожего. Человек этот шел прямо передо мной, направляясь в Исмей, и на перекрестке я окликнул его. Но ответа не получил. Тогда я пошел за ним, но он сразу куда-то исчез, прямо как сквозь землю провалился. Только земля рядом с дорогой вдруг покрылась инеем. Все это показалось мне очень странным, и когда ты возник прямо передо мной из темноты, я решил, что это те же шутки. Ты прости меня, Гед.
Последнее слово он сказал совсем тихо, так что девушка, стоявшая поодаль, не смогла бы его расслышать.
Гед ответил, тоже тихо произнося подлинное имя своего друга:
— Ничего, Эстарриол. Но сейчас это действительно я, и я ужасно рад тебя видеть…
Возможно, Ветч услышал в его голосе нечто большее, чем просто радость. По-прежнему обнимая Геда за плечи, он сказал словами Истинной Речи:
— Пусть ты снова в беде и вышел из тьмы, но сколь радостен мне приход твой, о Гед!
И продолжал уже на ардическом со своим восточным акцентом:
— Ну, пойдем, пойдем к нам! Мы ведь как раз домой шли, поздно уже и на улице темно!.. Да, это моя сестра. Она самая младшая в нашей семье и, как видишь, гораздо красивее меня, зато куда глупее. Ярроу ее имя. А это, сестренка, мой Ястребок, самый лучший ученик нашей Школы, мой самый дорогой друг.
— Ах, господин волшебник, — приветствовала его девушка и в знак уважения склонила голову и прикрыла глаза руками, как это полагается женщинам Восточного Предела при встрече с незнакомым мужчиной; а вообще-то ее ясные глаза глядели хоть и застенчиво, но с любопытством. Было ей, наверно, лет четырнадцать; такая же темноволосая, как брат, но очень хрупкая, тоненькая. На рукаве ее висел, зацепившись когтями, настоящий крылатый дракон размером не больше ладони.
Втроем они двинулись по темной улочке вниз, и Гед заметил:
— У нас на Гонте считают, что гонтийки — самые храбрые женщины в мире, но я никогда не встречал там ни одной, чтобы дракона носила как украшение.
Ярроу рассмеялась и тут же ответила:
— Но это же только харрекки! Разве у вас на Гонте харрекки не водятся? — Она внезапно смутилась и опустила глаза.
— Нет, что ты, драконов у нас нет. А разве это не настоящий дракон?
— Настоящий, только маленький. Он живет на дубах, питается осами, гусеницами да воробьиными яйцами. Он больше этого не вырастает. Ах, господин волшебник, мой братец так часто мне рассказывал о каком-то замечательном зверьке, что у вас был, дикий такой, отак, кажется?.. Он еще у вас?
— Нет. У меня его больше нет.
Ветч обернулся к нему, словно собираясь что-то спросить, но прикусил язык и ничего спрашивать не стал. Расспросы начались потом, когда они остались вдвоем у камина в гостиной.
Несмотря на то что он являлся главным волшебником целого острова, Ветч поселился со своим младшим братом и сестрой в Исмее, маленьком городке, где родился. Отец его был морским торговцем и довольно состоятельным человеком; он оставил детям просторный дом, битком набитый посудой, тканями, красивыми сосудами из бронзы и меди, расставленными на резных полках и сундучках. В одном из углов гостиной стояла большая таонийская арфа, а в другом — ткацкий станок Ярроу, высокая рама которого была украшена слоновой костью. В Исмее Ветч при всей своей скромности был не только могущественным волшебником, но и хозяином собственного дома. При доме жили слуги, муж и жена, состарившиеся здесь, а еще — брат Ветча, сообразительный веселый парнишка, и Ярроу, быстрая и молчаливая, словно рыбка. Это она прислуживала друзьям за ужином и сама поужинала вместе с ними, тихонько слушая их беседу, а потом незаметно выскользнула из гостиной и удалилась в свою комнату. Казалось, все вещи в этом доме — на своем месте, все дышат миром и покоем. Гед, оглядывая освещенную камином комнату, сказал:
— Так вот только и должен жить человек. — И вздохнул.
— Что ж, для кого-то, может быть, и это — хороший дом, — откликнулся Ветч. — Для кого-то нет. А теперь, парень, расскажи, если можно, что все-таки с тобой приключилось, что обрел ты и что потерял со времени нашей последней с тобой беседы — два года тому назад. И скажи, куда это ты так спешишь, ведь я прекрасно вижу, что ты у нас не задержишься?
Гед рассказал ему все, а когда закончил свой рассказ, Ветч долгое время сидел задумавшись. Потом без обиняков заявил:
— Я пойду с тобой, Гед.
— Нет.
— Думаю, что так будет лучше.
— Нет, Эстарриол. Это не твой путь, и не на тебе лежит проклятье. Я один начал все это, один и должен покончить со злом. И не хочу, чтобы кто-то еще пострадал из-за меня, — меньше всего, чтобы пострадал ты, Эстарриол, ведь именно ты с самого начала пытался удержать меня от дурацкого поступка…
— Твоим умом всегда правила гордость, — сказал его друг, улыбаясь так, словно они говорили о пустяках. — Ну а теперь подумай: это, разумеется, твой враг и твой путь, но если погибнешь ты, то разве не нужно, чтобы кто-то узнал об этом и смог как можно скорее передать весть о грядущей опасности жителям Архипелага? Ведь Тень, победив тебя, обретет страшную, небывалую силу. А если ты победишь эту тварь, то разве не нужно, чтобы кто-то смог с гордостью разнести весть об этом по всему Земноморью, чтобы подвиг твой был воспет в героических песнях? Я понимаю, что пользы от меня в этом деле никакой, но все же, по-моему, нам лучше идти вместе.
Это было хорошо сказано, и Гед согласился, однако заметил:
— Мне просто не следовало задерживаться в Исмее еще на день. Я ведь знал это — и все-таки остался.
— Волшебники случайно друг с другом не встречаются, парень, — возразил Ветч. — И в конце концов, как ты сам только что сказал, это я был с тобой в самом начале твоего пути. По справедливости именно я и должен пойти с тобой до конца. — Он подбросил в камин дров, и они некоторое время сидели молча и глядели на пламя.
— Есть человек, о котором я больше ни разу не слышал с той ночи на вершине Холма; у меня, впрочем, и не возникало особого желания выяснять, куда он делся. Я имею в виду Джаспера.
— Он так и не получил посоха волшебника. Тем же летом он покинул Рок и отправился на остров О — в качестве придворного колдуна. Больше я о нем ничего не знаю.
Они снова помолчали, глядя в огонь и наслаждаясь теплом — ночь была холоднющая. Сидели они, поставив ноги прямо на край камина, чуть ли не на уголья: грелись.
Наконец Гед сказал очень тихо:
— Есть только одно существо, которого я боюсь, Эстарриол. И если ты отправишься со мной, страх этот еще возрастет. Там, на островах, что зовутся Руки, я заплыл в страшный тупик, в самое чрево горы и бросился на эту тварь — она была на расстоянии вытянутой руки; я схватил ее… попытался схватить… Но мне не за что было уцепиться, я не смог ее удержать, не смог победить. Она бежала, я последовал за ней. Но это может произойти снова, еще и еще раз… У меня нет власти над этой Тенью. Возможно, в конце пути не будет ни смерти, ни победы; нечего будет воспевать — ибо не будет самого конца. Возможно, я должен буду потратить всю свою жизнь на поиски ее по всем морям и океанам, плавая с одного острова на другой — в неведомых краях: бесконечное бессмысленное путешествие.
— Минуй нас! — быстро проговорил Ветч, особым образом выворачивая левую руку: так отводят зло, упомянутое вслух. И несмотря на мрачные свои мысли, Гед все-таки улыбнулся, заметив этот жест. Ведь слова эти — скорее детская присказка, чем хоть какое-то колдовство. В Ветче навсегда сохранилась некая деревенская наивность, но он, несомненно, мыслил четко, был упорен и сразу ухватывал самую суть дела. И теперь он сразу все понял и сказал: — Я думаю, что мрачные твои мысли не совсем верны. Мне почему-то кажется, несмотря на то, ЧТО я видел тогда на Холме Рок, что конец твоего пути близок. Как-нибудь да выясним, что такое эта Тень, чем она живет, и уж тогда ты ее не упустишь. Конечно, трудно сказать, что она такое… Например, кое-чего я совсем не понимаю, и это меня беспокоит: похоже, теперь эта тварь стала твоим двойником, по крайней мере обладает твоей внешностью; такой ее видели на Вемише. Такой я видел ее и здесь, на Иффише. Как такое могло случиться и почему? И почему, в таком случае, она никогда этого не делала раньше?
— Говорят, в Дальних Пределах все правила меняются.
— Да, это верно, могу подтвердить. На Роке, например, я выучил некоторые прекрасные заклинания, но здесь они не имеют никакой силы или действуют совсем наоборот; зато на этих островах существуют заклятья, совершенно неизвестные в Школе. Каждая страна сильна собственной силой; и чем дальше ты от Внутренних Островов, тем меньше известно тебе о природе этих сил и их действии. Но я думаю, что не только потому облик Тени так изменился.
— Мне тоже так кажется. Я почти уверен, что это произошло, когда я перестал спасаться от нее бегством и сам решил встретиться с ней лицом к лицу. Моя воля придала ей форму, а то, что я больше ее не боюсь, мешает ей высасывать из меня силы. Все мои действия эхом отзываются в ней; она создана мной.
— В Осскиле она назвала тебя по имени и пресекла всякую возможность применить против нее волшебство. Но почему она не сделала того же во второй раз?
— Не знаю. Возможно, она черпает свои силы лишь в моей слабости. Ведь она говорит голосом, очень похожим на мой — если не моим собственным… Иначе откуда ей знать мое подлинное имя? Как она узнала его? Я все время ломал над этим голову, с тех пор как покинул Гонт, плавая по морям и океанам, но так и не нашел ответа. Возможно, она вообще лишена голоса — в той своей ипостаси или, точнее, полной своей бесформенности — и говорит лишь чужими устами, как оборотень? Не знаю.
— Тогда тебе следует опасаться очередного оборотня.
— Я думаю, — ответил Гед, протягивая руки к красным угольям и чувствуя, как его охватывает озноб, — я думаю, что с оборотнем больше не встречусь. Теперь мы слишком крепко с ней связаны. Она уже не может освободиться от меня и завладеть чьей-то еще душой, опустошить ее, лишить воли и жизни, как Скиорха. Она может, однако, проникнуть в мою душу — если в минуту слабости я вновь попытаюсь бежать от нее, разорвав возникшую связь. Но, когда я хватаю ее руками, держу изо всех сил, сама она исчезает как дым, ускользает от меня… И снова, наверно, ускользнет, но все же не навсегда: я всегда могу найти ее. Я навечно связан с этим отвратительным жестоким существом и не смогу избавиться от него, пока не узнаю слово, которому проклятая тварь подчинится: ее имя.
Ветч задумчиво спросил его:
— А разве тени из царства Тьмы имеют имена?
— Верховный Маг Геншер считал, что нет. Мой Учитель Огион утверждал обратное.
— Великие Маги всегда остаются соперниками, — заключил Ветч с мрачноватой улыбкой.
— Та, что служила Древним Силам Земли на Осскиле, поклялась, что Камень скажет мне имя Тени, но этому я почти не верю. Однако ведь и дракон предлагал мне ее имя взамен собственного — чтобы отделаться от меня… Мне кажется, что, когда маги спорят между собой из-за чего-то, драконы могут просто это знать… Они ведь куда мудрее людей.
— Мудрее, но не добрее. Постой, а что это еще за дракон? Ты как-то позабыл рассказать, что теперь запросто беседуешь с драконами.
Они проговорили в ту ночь допоздна, но все время возвращались к одному и тому же горькому вопросу: что ожидает Геда в конце пути. Но счастье оттого, что теперь они вместе, гнало прочь все страхи; дружба их прошла испытания временем и судьбой, и ничто не смогло нарушить ее.
Утром Гед проснулся в доме друга и, еще не совсем расставшись с негой сна, почувствовал вдруг себя таким счастливым, словно навсегда теперь был защищен от любых бед и несчастий. И весь день в душе его оставалось это утреннее ощущение, которое он счел не просто добрым предзнаменованием, а великим даром. Ему казалось, что этот дом — последний милый его сердцу уголок на земле, которого больше он никогда не увидит, а потому, пока длился этот сладостный недолговечный сон, он страстно желал быть счастливым.
Поскольку у Ветча были дела, которые срочно приходилось закончить до отъезда, он отправился по острову Иффиш со своим юным учеником и помощником. Гед остался в Исмее с Ярроу и ее средним братом по имени Мурре. Мурре казался самым обыкновенным пареньком; он не обладал ни магической силой, ни волшебным знаком на челе и нигде не бывал, кроме Иффиша и соседних островов Тока и Холпа. Жизнь его была легка и беспечальна. Гед смотрел на Мурре с изумлением и некоторой завистью, как, впрочем, и Мурре на Геда: каждому странным казалось то, что другой столь сильно отличается от него самого, хоть они и ровесники — обоим по девятнадцать. Гед дивился, как это человек, проживший целых девятнадцать лет, может оставаться таким беззаботным. Завидуя миловидности и веселому нраву Мурре, Гед чувствовал себя неуклюжим, грубоватым и не догадывался, что Мурре сгорает от зависти даже при виде одних только шрамов на лице молодого волшебника, считая их следами когтей дракона или древними рунами — в общем, знаком героя.
В итоге оба юноши немного стеснялись друг друга, что же касается Ярроу, то она скоро утратила подчеркнуто почтительный тон в обращении с Гедом, хотя вела себя достойно и сдержанно, как и подобает хозяйке большого дома. Гед был с ней очень нежен, и девочка задавала ему великое множество вопросов, ссылаясь на то, что «Ветч никогда ничего не рассказывает». Она была страшно занята: готовила путешественникам еду в дорогу — пшеничные сухарики, вяленую рыбу, мясо и многое другое, пока Гед не запросил пощады, сказав, что не собирается плыть отсюда до самого Селидора.
— А где это — Селидор? — спросила Ярроу.
— Очень далеко, в Западном Пределе. На этом острове драконов больше, чем полевых мышей.
— Тогда у нас в Восточном Пределе лучше: наши драконы, по крайней мере, так же малы, как мыши, хотя их тоже хватает. Ну хорошо, вот вам мясо на дорогу. Ты считаешь, этого достаточно? Слушай, я не понимаю: вы с братом оба могучие волшебники, вам стоит рукой махнуть, что-то там пробормотать — и все готово. Так зачем же вам голодать? Вот на море, например, наступает время ужина, и вы просто говорите: пирог с мясом! И пожалуйста вам — пирог с мясом тут как тут!
— Что ж, можно, конечно, и так. Только что-то не хочется. Словами, как говорится, не наешься. Пирог с мясом — это ведь всего лишь слова… Мы можем снабдить их ароматом и вкусом, даже ощутить тяжесть в желудке, но все-таки слова останутся словами. Только обманывают желудок, но сил голодному человеку не дают.
— Значит, волшебники кухарить не могут, — сказал Мурре, сидевший у очага напротив Геда и вырезавший крышку красивой деревянной шкатулки; он был резчиком, хоть пока и не особенно умелым.
— Ну и повара тоже небось не волшебники, — сказала Ярроу, опустившись у печи на колени и пытаясь понять, готова ли последняя порция сухариков, которые подсушивались на кирпичах. Сухарики должны были стать золотисто-коричневыми. — Но я все-таки не понимаю, Ястребок. Я же видела, как мой брат и даже его ученик одним лишь словом своим зажигают свет в темноте; и свет этот негасим и ярок. Ведь это не слово, а именно свет разгоняет тьму!
— О да, — ответил Гед. — Свет — это энергия, благодаря которой существуем мы все, но она не зависит от наших потребностей, она вечна. Солнечный свет и свет далеких звезд измеряют время, а время само по себе — это свет. В солнечном свете, воплощенная в дни и годы, проходит жизнь. И в темноте жизнь может воззвать к свету, произнеся его имя… Впрочем, это нечто совсем иное, чем обычные заклинания волшебника, когда он подлинным именем называет тот или иной предмет. Свет сильнее любой магии. Хотя, чтобы призвать кого-то или что-то из иного мира, необходимы великое мастерство и большая магическая сила, которой без особой причины не пользуются… Во всяком случае — не тогда, когда просто хочется есть. Ярроу, твой дракончик украл сухарик.
Ярроу вся обратилась в слух, внимая непонятным речам Геда, и не заметила, как харрекки соскользнул с перекладины для чайника над очагом — самого теплого местечка в кухне — и схватил пшеничный сухарь, который был больше самого воришки. Ярроу взяла ящерку на колени и стала кормить крошками и обломками сухарей, размышляя над тем, что только что сказал ей Гед.
— Значит, вы не станете призывать настоящий пирог с мясом из боязни нарушить то, о чем вечно твердит мой брат… Я забыла, как это называется…
— Равновесие, — торжественно произнес Гед, потому что Ярроу была очень серьезна.
— Да. Но когда ты потерпел крушение на скалах, то уплыл с того островка на лодке, сделанной почти что из одних только волшебных слов. И воды она не пропускала! Разве это была иллюзия?
— Хм. Отчасти да, потому что чувствуешь себя очень неуютно, когда видишь воду прямо под собой сквозь дыры в лодке. Я поэтому и старался придать разрозненным кускам вид цельной вещи. Но прочность лодки иллюзией не была, как не была и сама лодка вызвана из другого мира. Это совсем другой вид волшебного искусства — Связующее заклятие. Им я связал все деревяшки воедино, превратив в маленькое суденышко. А что такое лодка, как не предмет, который не пропускает воду?
— Очень даже пропускает! Мне не раз приходилось из них воду вычерпывать, — вставил Мурре.
— Что ж, моя, конечно, тоже протекала, если я забывал укрепить заклятье. — Гед наклонился, схватил прямо с горячих кирпичей сухарик и жестом фокусника спрятал в руке.
— Вот, я тоже стащил сухарь, Ярроу.
— Наверно, все пальцы обжег. Вот потом, когда будешь голодать в безбрежном море, вдали от всех островов, вспомнишь еще об этом сухарике и скажешь: «Ах! Если б тогда я не крал сухаря, то сейчас мог бы съесть его! Увы!» Раз так, я тоже съем один — за моего братца, чтобы вы могли голодать вместе.
— Итак, Равновесие восстановлено, — заметил Гед, а Ярроу взяла и стала жевать горячий, еще недосохший сухарик, давясь от смеха, и в конце концов поперхнулась. Потом она снова стала серьезной и сказала:
— Я бы очень хотела действительно по-настоящему понять то, что ты говорил только что. Слишком, видно, я еще глупа.
— Сестренка, — сказал Гед, — это я виноват, что не умею как следует объяснить. Если бы у нас было больше времени…
— У нас будет больше времени, — воскликнула Ярроу. — Когда мой братец вернется домой, ты вернешься с ним вместе? По крайней мере ненадолго, ладно?
— Если смогу, — мягко ответил Гед.
Немного помолчали, потом Ярроу спросила, глядя, как харрекки взбирается обратно на перекладину для чайника:
— Скажи мне только одно, если это не секрет: какие еще великие силы есть в мире, кроме света?
— Это вовсе не тайна. Все силы имеют один источник и один конец. Годы и расстояния, звезды и свечи, вода и ветер, волшебство и мастерство человеческих рук, мудрость, заключенная в корнях дерева, — все это возникает одновременно. Мое имя и твое, подлинные имена солнца, ручья, не рожденного еще младенца — все это лишь звуки одного великого слова, которое очень-очень медленно выговаривает сиянием звезд Вселенная. Никакой другой энергии не существует. И другого имени у всего этого — тоже.
На мгновение перестав вырезывать свой узор, Мурре спросил, так и держа в руке нож:
— А как же смерть?
Девушка молчала, склонив головку с блестящими черными волосами.
— Чтобы слово прозвучало, — медленно ответил Гед, — должна быть тишина. До слова и после него. — Потом вдруг поднялся и сказал: — Я не имею права говорить об этих вещах. То единственное слово, которое должен был сказать я сам, я сказал неправильно. Поэтому лучше мне помолчать. Возможно, есть лишь одна по-настоящему могущественная сила — Тьма. — И Гед торопливо покинул теплую кухню: взял плащ и отправился бродить в одиночестве под дождем и снегом по улицам зимнего города.
— На нем лежит какое-то проклятье, — сказал Мурре, глядя ему вслед со страхом.
— Мне кажется, что путешествие, куда он собирается, ведет его к смерти, — откликнулась Ярроу. — Он боится, но все же отправляется в путь. — Она подняла голову, словно видела перед собой за пляшущими языками огня одинокую лодку, все дальше и дальше уплывающую по зимнему морю и скрывающуюся за горизонтом. На мгновение глаза девушки наполнились слезами, но вслух она ничего больше не сказала.
Ветч вернулся на следующий день и испросил у нотаблей Исмея разрешение уехать на время. Те очень не хотели его отпускать среди зимы в смертельно опасное путешествие по морю, связанное к тому же не с его собственными планами; но ни мольбы их, ни упреки не могли остановить его. Наконец бесконечное ворчание старцев ему надоело, и он сказал:
— Я ваш — по рождению, по обычаям и по тому долгу, который обязан выполнить. Я ваш волшебник. Но пора и вам вспомнить, что хоть я и служу вам, но все же не ваш раб. Когда я сделаю свое дело и смогу вернуться назад, я вернусь. А до той поры — прощайте.
Когда серый рассвет забрезжил над морем, «Зоркая» вышла из гавани Исмея, раскрыв коричневый прочный парус попутному северному ветру. На причале стояла Ярроу и смотрела вслед судну, как это делают жены и дочери моряков на всех островах Земноморья, провожая своих мужчин в Открытое Море; они не машут руками на прощание и ничего не кричат вслед, только стоят, закутавшись в плащи с капюшонами, серые или коричневые, там, на родном берегу, который остается все дальше и дальше позади, пока совсем не скрывается за широким морским горизонтом.
Глава 10
Открытое Море
Гавань скрылась из виду, и умытые волнами нарисованные глаза «Зоркой» смотрели теперь только вперед, в безграничный простор, становившийся все более и более пустынным. За двое суток друзья прошли от Иффиша до острова Содерс — достаточно много, если учесть, что ветер был переменчивым, а погода не слишком благоприятной. Они ненадолго остановились в тамошнем порту лишь для того, чтобы пополнить запасы воды и купить просмоленной парусины — прикрыть пожитки от морских брызг и дождя. Они не позаботились об этом раньше, потому что волшебники обычно решают подобные мелочи с помощью нехитрых заклинаний, весьма, кстати, распространенных. Действительно, нужно совсем немножко волшебства, чтобы опреснить морскую воду и не возить с собой бурдюки. Но Гед, похоже, на этот раз упорно не желал ни сам использовать свое волшебное мастерство, ни разрешать это Ветчу. Он один лишь раз сказал: «Лучше не надо», и его друг ничего больше не спрашивал и не спорил. Тем более что не успел их парус подняться, наполненный ветром, как оба одновременно ощутили тяжкое предчувствие, леденящее душу, как зимний ветер. Гавань, покой дома, безопасность — все осталось далеко позади. Теперь они плыли в такие края, где любое приключение могло стоить жизни и ничто не совершалось просто так. На том пути, каким они вынуждены были следовать, даже произнесение самого маленького заклятья могло спугнуть удачу, нарушить Мировую Гармонию, сдвинуть с места Судьбу, ибо шли они теперь к самому центру Равновесия, туда, где встречаются свет и тьма. Избравшие этот путь не произносят ни единого слова зря.
Не встретив ни одного судна, они обогнули остров Содерс, где занесенные снегом поля сливались с уходящими ввысь туманными горами, и Гед снова направил лодку к югу. В этих водах никогда не бывали вездесущие торговцы с Архипелага; это был самый юг Восточного Предела.
Ветч ничего не спрашивал, понимая, что Гед путь не выбирал и плывет туда, куда должен плыть. Когда Содерс почти скрылся из виду, а волны шипели и плескались, рассекаемые носом лодки, и, куда ни глянь, серая равнина моря сливалась с небесами, Гед спросил:
— Что за земли лежат дальше по курсу?
— Прямо к югу от Содерса островов нет. А довольно далеко, на юго-востоке, есть небольшие островки: Пелимер, Корнай, Госк и Астоуэлл. Астоуэлл называют еще Последней Землей. За ними — Открытое Море.
— А на юго-западе?
— Там Роламени, большой остров Восточного Предела, а рядом всякая мелочь; потом до самых границ Южного Предела — ничего и дальше — Руд и Тум, а также остров Большое Ухо, куда люди никогда не высаживаются.
— Мы можем, — сухо сказал Гед.
— Я бы лучше не стал, — возразил Ветч. — Это неприветливые места; говорят, там весь берег завален скелетами и вообще полно всяческих загадок. Моряки рассказывают, что в воде близ островов Большое Ухо и Фар-Сорр отражаются звезды, которых больше нигде увидеть нельзя и которые имени своего не имеют.
— Да, на том корабле, что впервые привез меня на Рок, один моряк тоже рассказывал об этом. И еще он рассказывал всякие истории о людях, постоянно живущих на плотах в морях Южного Предела; они никогда не сходят на землю, кроме одного раза в году: нарезать длинных жердей для своих плотов; все остальное время они проводят в океане, вдали от всякой земли, отдавшись на волю океанских течений. Я бы хотел посмотреть, как устроены эти селения на плотах.
— А я нет, — ухмыльнулся Ветч. — Мне подавай землю и людей, живущих на земле; пусть море остается в своей колыбели, я же предпочитаю свою, на суше…
— Еще мне бы хотелось увидеть все великие города Архипелага, — сказал Гед, по-прежнему держась за снасть и неотрывно глядя вперед, на безбрежные серые воды, — Хавнор, сердце Земноморья, и остров Эа, где зародились все наши легенды, и прекрасный город Шелитх с его фонтанами на острове Уэй — все города и все великие государства. И малые тоже, и даже самые загадочные, вроде тех, что находятся в Дальних Пределах. Хотелось бы, например, доплыть когда-нибудь до острова Драконьи Бега на самом западе. Или плыть и плыть на север, меж плавучих льдин, прямо к острову Хоген. Говорят, остров этот больше всех островов Архипелага вместе взятых. А еще говорят, это вовсе и не остров, а камни да рифы, скрепленные льдами. Никто не знает точно. И китов хочется увидеть в северных морях… Но нельзя. Я должен плыть туда, куда меня заставляют; я должен пока забыть об иных, прекрасных берегах. Слишком опрометчиво поступил я когда-то, и теперь времени у меня почти не осталось. Я сам променял этот солнечный мир, прекрасные города и дальние страны на миг власти, обернувшийся призрачной Тенью и властью Тьмы надо мной.
И Гед, как поступил бы на его месте любой настоящий волшебник, начал изливать горечь своих сожалений в песне, недолгой и грустной, обращенной к другу, и тот ответил ему словами из «Подвига Эррет-Акбе»: «Еще хоть раз увижу ль я лес белых башен предо мной и Хавнор, Хавнор милый мой…»
Так плыли и плыли они на юг по пустынным водам морей, и самым интересным событием за весь тот долгий день была стайка серебристых рыбок панни, тоже плывущих к югу. Ни разу не вынырнул рядом дельфин, не пролетела под серыми тучами ни чайка, ни гагарка, ни крачка. Когда небо на востоке потемнело, а на западе налилось закатным багрянцем, Ветч достал еду, разделил ее поровну и сказал:
— Вот тут еще немного эля. Выпьем за ту, что догадалась поставить бочонок с ним в лодку, чтобы согреть в холодную погоду сердца путников: за мою сестру Ярроу!
Тут Гед наконец отвлекся от мрачных своих мыслей и от души осушил кружку за Ярроу — может быть, даже с большим пылом, чем Ветч. В душе его воскресла память о ее почти женской мудрости и совсем детской нежности. Она не была похожа ни на кого из тех, с кем он встречался в жизни. А знал ли он кроме нее хоть одну девушку? Впрочем, об этом Гед никогда не думал.
— Она похожа на маленькую рыбку, гольяна, что водится в чистых ручьях и проточных озерах, — сказал он. — Вроде бы беззащитная рыбка, а попробуй поймай ее.
Услышав это, Ветч посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся:
— Ты и впрямь прирожденный маг, ведь ее настоящее имя Кест.
В Истинной Речи слово кест означает «гольян», это Гед знал и страшно обрадовался. Однако, помолчав, все же тихонько сказал:
— Наверно, тебе не стоило называть мне ее подлинное имя.
Но Ветч, которому бессмысленные поступки были вообще не свойственны, ответил:
— Ее имени в твоей душе так же безопасно, как и в моей. Кроме того, ты ведь и сам узнал его, прежде чем я успел сказать…
На западе небо из красного стало пепельным, потом черным. Все вокруг было погружено в непроницаемую тьму. Гед вытянулся на дне лодки, завернувшись в свой теплый плащ, и попытался уснуть. Ветч, держась рукой за снасть, тихонько напевал что-то из «Подвига Энлада» — о том, как волшебник Морред из Хавнора на большом парусном судне прибыл на остров Солеа и там увидел в весеннем саду прекрасную Эльфарран. Гед уснул еще до печального конца песни, когда Морред гибнет, Энлад разрушен и страшная морская буря уничтожает сады Солеа. К полуночи Гед проснулся и принял вахту. Лодочка легко бежала по волнам, гонимая сильным ветром, и нарисованные глаза ее ничего не могли разглядеть в кромешной тьме. Однако тучи все же понемногу рассеялись, и незадолго до рассвета тоненький месяц блеснул меж ними; слабый лучик лунного света упал на поверхность воды.
— Луна нынче ущербная, — проснувшись, прошептал Ветч, когда с рассветом ненадолго улегся холодный ветер. Гед посмотрел вверх, на белое полукольцо над почти бесцветными водами восточных морей, но промолчал. Безлунные ночи, что наступают сразу после
Солнцеворота, полярны празднику Полной Луны и Долгого Танца, что бывает летом. Это самое несчастливое время для путешественников и больных; в этот период не полагается совершать обряд имяположения, петь песни о великих подвигах прошлого, нельзя точить клинки и острые инструменты, нельзя давать клятвы. Это темная часть годовой оси, когда любой поступок может обернуться злом.
Через три дня пути от Содерса в окружении морских птиц и обломков судов они подошли к Пелимеру, маленькому гористому островку, поднимающемуся над морской гладью. Жители его говорили на их родном языке, но по-своему, и ардические слова звучали странновато даже для привычного Ветча. Путники хотели пополнить запасы питьевой воды и чуть передохнуть от морской качки. Поначалу их приняли хорошо, хоть и с большим изумлением и излишней суетливостью. В столице острова вообще-то имелся колдун, но он якобы сошел с ума и не желал разговаривать ни о чем, кроме гигантского змея, который разъедает основание острова, так что в скором времени Пелимер должен неминуемо отправиться в плавание по волнам, словно оторвавшаяся от причала лодка, а потом скользнуть за край земли и пропасть навеки. Колдун, впрочем, явился и весьма почтительно приветствовал молодых волшебников, но чем больше он рассказывал им про пресловутого змея, тем подозрительнее посматривал на Геда. Потом вдруг, спустя какое-то время, набросился на молодых людей прямо на улице, обзывая их шпионами и прислужниками морского чудовища. Постепенно и остальные жители Пелимера начали сторониться чужеземцев: все-таки это был их колдун, хоть и сумасшедший. Так что Гед и Ветч не стали особенно задерживаться, а еще до вечера ушли в море, держа курс на юго-восток.
За все эти дни и ночи Гед ни разу не заговорил о Тени или о цели своего путешествия впрямую. И когда Ветч пытался хоть как-то спросить, уверен ли его друг, что им следует продолжать идти тем же курсом, по-прежнему на юг, оставляя позади все известные острова Земноморья, Гед отвечал лишь:
— Уверен ли кусок железа, где лежит магнит?
Ветч только кивал согласно, и они плыли дальше, ничего больше на эту тему друг у друга не спрашивая. Иногда, впрочем, они подолгу разговаривали о волшебном мастерстве и различных хитрых приспособлениях, которыми волшебники в старые времена пользовались для того, чтобы отыскать тайное имя грозящего опасностью существа. Так, например, волшебник Негерер с острова Пальн узнал имя Черного Мага, подслушав разговор драконов; так Морред увидел имя своего врага, написанное каплями дождя в пыли, покрывавшей поле битвы в долине Энлада. Они разговаривали о заклятьях, способствующих отысканию вещи, и некоторых иных волшебных средствах, а также — о тех Вопросах-На-Которые-Есть-Ответ и задавать которые имеет право только Мастер Путеводитель с острова Рок. Но чаще всего разговоры кончались тем, что Гед начинал бормотать себе под нос слова, сказанные ему Огионом на склоне горы Гонт в давние времена ранней осенью: «Чтобы слышать других, самому нужно молчать». А потом умолкал, впадал в глубокую задумчивость и неотрывно, час за часом вглядывался в морскую даль. Иногда Ветчу казалось, что его друг видит за бесконечными волнами, за предстоящими еще им долгими днями пути и мрачный решающий конец их путешествия, и того, за кем они гонятся сейчас.
Они проплыли меж островами Корнай и Госк в непогодь и не увидели их берегов из-за густого тумана и дождя. Они поняли, что миновали их, лишь на следующий день, когда прямо по курсу увидели остров, окруженный острыми скалами, и огромные стаи чаек, чьи пронзительные крики слышались со всех сторон. Ветч сказал:
— Это, судя по всему, Астоуэлл. Последняя Земля. К востоку и югу от него на наших картах никакой земли больше нет.
— И все-таки жители его знают, возможно, об иных, неведомых нам землях, — возразил Гед.
— Почему ты так странно говоришь? — изумился Ветч. Гед с трудом выговаривал каждое слово, с какими-то придыханиями и остановками, и ответ его прозвучал тоже непонятно, отрывисто:
— Это не здесь, — сказал он, глядя на видневшийся впереди Астоуэлл и куда-то мимо или сквозь него. — Не здесь. Не на море. Нет, не на море, а на твердой земле. На какой земле? На той, что лежит дальше, чем истоки рек и ручьев, впадающих в море, дальше истоков всего, там, за Воротами Света…
И умолк. А когда снова заговорил, то уже обычным своим голосом, словно освободившись от чар или наважденья, и не очень хорошо помнил, что с ним было.
Главный порт острова Астоуэлл, расположенный в устье реки, прорывшей глубокое ущелье в горном массиве, окнами всех своих домов смотрел на север или на запад, словно сам остров повернулся лицом к Земноморью, к остальным людям, хоть и находился очень далеко от них.
Жители встретили путешественников с изумлением и беспокойством: в это время года ни одно судно обычно не показывалось вблизи Астоуэлла. Все женщины попрятались в своих плетеных хижинах и выглядывали из-за дверей, закрывая детишек юбками, а когда Гед и Ветч двинулись из гавани в город, испуганно нырнули куда-то в темноту. Мужчины же, худые, плохо для столь холодной погоды одетые, мрачно окружили чужеземцев, и у каждого был при себе каменный топор или острый нож из раковины. Но, когда первый их страх улегся, они приняли молодых людей вполне радушно и вопросам их не было конца. Редко заходили к ним корабли даже с острова Содерс или с Роламени, потому что торговать здесь было нечем и не на что даже обменять бронзу или красивый фаянс, которым славились жители Содерса. Здесь даже дерева не хватало. Лодки на Астоуэлле представляли собой сплетенные из тростника скорлупки, и лишь очень храбрый человек мог решиться плыть на таком суденышке до Госка или Корная. Они жили здесь совсем одни, на самом краю обозначенного на картах мира. Здесь не было ни ведьмы, ни колдуна, и люди эти, похоже, просто не поняли, что посохи у Геда и Ветча волшебные, и восхищались ими лишь потому, что сделаны они были из драгоценного для них материала — дерева. Вождь Астоуэлла был очень стар; он единственный из всех островитян видел человека, рожденного на островах самого Архипелага. А потому Гед был для местных жителей настоящим чудом; люди приводили своих маленьких сыновей, чтобы те посмотрели на человека «с больших островов» и запомнили на всю жизнь. Они никогда раньше не слышали о Гонте и знали лишь Эа и Хавнор. Геда они приняли за правителя Хавнора. Он изо всех сил старался не ударить лицом в грязь, отвечая на их вопросы о «белом городе» (которого, кстати, сам никогда не видел). Но к вечеру, как всегда, почувствовал беспокойство и, не выдержав, спросил у островитян, которые сгрудились у очага в вонючей духоте ночлежки — топили здесь сушеным козьим пометом и связками ракитника, иного топлива не было:
— А что находится к востоку от вашей земли?
Они молчали; одни ухмылялись, другие хмурились. Старый вождь ответил:
— Море.
— Там нет больше никаких островов?
— Это Последняя Земля. За ней больше ничего нет — кроме воды.
— Это мудрые люди, отец, — сказал человек помоложе, — скитальцы морей, путешественники. Может, они знают о такой земле, о которой не знаем мы?
— Нет никакой земли к востоку от этого острова! — твердо сказал старик, долгим взглядом посмотрел на Геда и больше с ним не разговаривал.
Они провели ночь в дымном тепле ночлежки. Еще до рассвета Гед разбудил друга, прошептав:
— Эстарриол, проснись. Мы не можем дольше оставаться здесь, мы должны плыть вперед.
— Ну куда ты так спешишь! — недовольно проворчал сонный Ветч.
— Не спешу, а боюсь опоздать. Я слишком медленно догонял ее. И она убежала слишком далеко. Я приговорен к вечному ее преследованию и не должен упустить последней возможности, иначе буду следовать за ней всю жизнь, а потеряв ее, потеряю и себя.
— Куда же теперь лежит наш путь?
— На восток. Вставай. Бурдюки уже полны воды.
Они покинули ночлежку еще до того, как проснулся первый житель селенья, только чей-то младенец заплакал в темноте и вскоре затих. При тусклом свете звезд они по крутой тропе спустились к гавани, отвязали «Зоркую» от причала и поплыли по темной воде — прочь от Астоуэлла, снова в Открытое Море. Это был первый день после Солнцеворота. Рассвет еще не наступил.
Небо над ними было безоблачным. Встречный ветер дул с северо-востока, холодный, порывистый, но Гед поднял волшебный ветерок, впервые применив волшебство с тех пор, как покинул острова Западная и Восточная Рука. Они быстро продвигались к востоку. Пенящиеся, залитые солнцем валы бились о борт лодки, сотрясая ее, но «Зоркая» шла уверенно, как и обещал человек, построивший ее когда-то; она точно следовала направлению волшебного ветерка, не хуже любого заколдованного судна с острова Рок.
За все утро Гед не проронил ни звука, только еще раз произнес волшебные слова, заклинающие ветер и усиливающие прочность паруса. Ветч наконец совсем проснулся; до сих пор он тихо спал на дне лодки. Ближе к полудню они немного поели. Гед подчеркнуто бережно разделил еду, и оба молча жевали соленую рыбу и сухари: говорить было не о чем — все и так было понятно.
Весь день они на большой скорости шли прежним курсом. Один лишь раз Гед нарушил молчание, сказав:
— А как по-твоему, за Дальними Пределами только морская пустыня или все-таки есть там неоткрытые острова? Или целые Архипелаги?
— Пока, — ответил шутливо Ветч, — я на стороне тех, кто считает, будто мир у нас плоский, так что, если заплыть слишком далеко, непременно свалишься вниз.
Гед даже не улыбнулся; ни сил, ни радости в нем совсем не осталось.
— Кто знает, что откроется человеку там, за морями. Не нам, разумеется; мы вечно жмемся поближе к знакомым берегам и гаваням, — тихо сказал он.
— Кое-кто пытался узнать, что там, да так и не вернулся. И никогда не приплывали к нам корабли из тех неведомых стран…
Гед промолчал.
Весь день и всю ночь плыли они, влекомые силой могучего волшебного ветра, через бескрайние просторы океана, на восток. Гед стоял на вахте с вечера до рассвета, ибо в темноте сила, что влекла его к себе, все возрастала. Он неотрывно смотрел вперед, хоть глаза его в безлунные ночи могли видеть не дальше разрисованного носа их «Зоркой». К утру его смуглое лицо стало серым от усталости; он закоченел на ветру и с трудом заставил себя вытянуться на дне лодки, укладываясь спать.
— Следи, чтобы волшебный ветер все время дул с запада, Эстарриол, — невнятно прошептал он и тут же заснул.
Солнце так и не выглянуло из-за облаков, вскоре начался дождь, хлеставший прямо им в лицо с северо-востока. Вскоре все в лодке промокло насквозь, несмотря на прикрывавшую вещи просмоленную парусину. Ветч чувствовал себя так, будто до костей пропитался водой; и Гед дрожал во сне. Жалея друга и отчасти себя самого, Ветч попробовал было чуть повернуть лодку, чтобы жестокий ливень не так заливал их, однако его умения заклинать погоду в этих водах оказалось недостаточно: ветер Открытого Моря не слушался его, и он с трудом поддерживал волшебный ветер в парусах, как велел ему Гед.
В душе Ветча шевельнулся страх; ему показалось, что у них с Гедом слишком мало осталось волшебных сил для дальнейшей борьбы и оставшиеся силы могут исчезнуть совсем, если они по-прежнему будут удаляться от тех мест, где могут и должны жить люди.
Всю ночь Гед снова стоял на вахте, всю ночь гнал лодку к востоку. С наступлением дня ветер на море немного утих, стало пригревать солнце, но гигантские валы накатывались с такой силой, что «Зоркая» сначала вставала дыбом, словно при подъеме на гору, потом повисала на пенистом гребне и резко падала носом вниз, чтобы снова и снова преодолевать волну за волной.
Вечером, после целого дня молчания, Ветч заговорил:
— Друг мой, ты все время был уверен: мы непременно должны приплыть к какой-то земле. Я не сомневаюсь в твоем ясновидении, но вдруг на этот раз нас снова заманили в ловушку, обманом загоняя все дальше и дальше в океан — дальше, чем это допустимо не только для человека, но и для волшебника. Ведь наша магическая сила может изменить нам в этих чужих морях, ослабеть, тогда как проклятая Тень не знает ни усталости, ни голода и даже утонуть не способна.
Они сидели на банке совсем рядом, но Гед смотрел на Ветча так, словно тот был где-то далеко-далеко. Тревога плескалась в его глазах, когда медленно, слишком медленно он ответил:
— Эстарриол, мы приближаемся к цели.
Услышав, как он говорит это, Ветч понял, что враг действительно близко. Ему стало страшно. Но он лишь положил руку на плечо друга и спокойно сказал:
— Ну что ж, вот и ладно, вот и хорошо.
И снова всю ночь Гед стоял на вахте: он совсем не мог спать в темноте. И на третьи сутки — тоже. Они по-прежнему мчались с неизменной легкостью и быстротой по бурному морю, и Ветчу нестерпимо хотелось узнать, какой немыслимой силой Гед сутками удерживает в парусах магический ветер, способный противостоять штормам Открытого Моря, где сам он, Ветч, чувствует себя таким беспомощным и слабым. А лодка все летела по морю, и Ветчу уже стало казаться, что, как и говорил Гед, они вскоре достигнут истока вод морских, что находится на востоке, у Ворот Света. Гед оставался у руля, как всегда глядя вперед. Но он не видел перед собой океана, точнее, это был не тот океан, который видел Ветч — огромное пространство соленой воды, сливающееся с горизонтом. Перед глазами Геда было теперь нечто вроде темной пелены, заслонившей и серое небо, и серое море и становившейся все плотнее и темнее. Ветч, взглянув на лицо друга, как бы тоже на мгновение увидел эту тьму. Они плыли все дальше и дальше, но было похоже, что только Ветч по-прежнему плывет по просторам океана к востоку, а Гед уже попал туда, где нет ни востока, ни запада, где не встает и не садится солнце, где не светит ни одна звезда, знакомая им, где незнакомые созвездия неподвижно застыли в небесах.
Внезапно Гед вскочил и что-то громко сказал. Волшебный ветер тут же улегся, и огромные волны стали швырять «Зоркую», словно щепку. Хотя природный северный ветер дул так же сильно, как и раньше, коричневый парус повис, как тряпка, и даже не шевелился. И сама лодка словно застыла, раскачиваясь в такт дыханию моря и не двигаясь с места.
Гед сказал:
— Спусти парус.
Ветч выполнил его приказание, а сам Гед вынул весла, вставил в уключины и сразу же начал грести.
Ветч, видевший вокруг лишь горы волн, меж которыми как бы проваливалась лодка, никак не мог понять, зачем Геду понадобилось идти на веслах, но терпеливо ждал. Вскоре природный ветер действительно ослабел и почти утих. Волны едва плескались у борта, лодка перестала раскачиваться, и мощные взмахи весел в руках Геда погнали ее вперед по морю, ставшему тихим, словно в укрытой от всех ветров бухте. И хотя Ветч не мог видеть того, что видел впереди Гед между взмахами весел, хотя Ветч не видел темных склонов огромной горы под неподвижными звездами, все же он понемногу разглядел с помощью волшебного зрения ту небывалую тьму, что как бы копилась во впадинах между волнами, окружая лодку со всех сторон; а еще он заметил, как слабеют и утихают волны, словно их душит невидимый песчаный берег.
Если все это и было иллюзией, то невероятно сильной: попробуй-ка заставить Открытое Море казаться землей! Пытаясь собраться с мыслями и силами, Ветч начал произносить слова волшебного Откровения, ожидая, не прекратится ли после этих долгих, медленно выговариваемых слов странная иллюзия: мель посреди океана. Но иллюзия не проходила. Возможно, заклинание, хотя оно, конечно, воздействует лишь на восприятие произносящего его человека, а не на волшебство самой иллюзии, не имело здесь силы. Или же это была вовсе не иллюзия и они действительно достигли конца света.
Все более медленно и как-то небрежно греб Гед, оглядываясь через плечо, осторожно выбирая путь в бесконечных протоках и проливах, минуя коварные отмели, видимые лишь ему одному. Лодка вздрогнула: ее киль задел дно. Там должны были быть бездонные глубины, и все же они достигли земли. Гед поднял весла, сложил их, скрипнув уключинами, и скрип этот страшно прозвучал в полном безмолвии, царившем вокруг. Все звуки — плеск воды, вой ветра, скрип дерева, хлопанье паруса — куда-то исчезли, растворились в вечной, глубокой, никогда не нарушавшейся тишине. Лодка застыла как изваяние. Ни дыхания ветерка. Море превратилось в песок, темный, тяжелый. Все было недвижимо в темном небе и на суше, в этой нереальной бескрайней пустыне, которую у горизонта стеной окружала сгущающаяся тьма.
Гед встал, взял в руки свой посох и легко переступил через борт. Ветч решил, что сейчас его друг исчезнет в волнах, которые — Ветч это знал наверняка — скрывались под этой неясной темной дымкой, поглотившей воду, небо и дневной свет. Но моря не было. Гед удалялся от лодки, и на песке видны были следы его ног. Песок слегка шуршал.
Вдруг волшебный посох Геда начал светиться. Но это был не обычный волшебный огонек, а слепящий белый свет, и пальцы юноши там, где он сжимал ими посох, просвечивали красным.
Гед быстро шел куда-то вперед, и понять, куда он идет, было невозможно: здесь не было сторон света, существовали лишь понятия «вперед» и «назад».
Ветчу свет в руках Геда казался яркой звездой, медленно плывущей в темноте, которая постепенно как бы уплотнялась, чернела, собирала силы. Усиливающуюся тьму видел и Гед, по-прежнему смотревший вперед. Там, впереди, у самой кромки светового круга, отбрасываемого посохом, он вскоре заметил Тень. Она медленно брела по песку ему навстречу.
Вначале Тень казалась совершенно бесформенной, но по мере приближения стала напоминать человека. Потом оказалось, что это старый, седой и угрюмый мужчина идет к Геду; но, узнав в нем своего отца, кузнеца, Гед тут же понял, что это уже не старик, а юноша. Теперь это был Джаспер, Гед узнал его дерзкое, красивое юное лицо, расшитый серебром плащ, твердую легкую поступь. Ненависти был исполнен взгляд Джаспера, устремленный на Геда в густеющей тьме. Гед не остановился, но шаг замедлил и поднял свой посох чуть выше. Посох засветился ярче, и Джаспер исчез, неожиданно превратившись в Печварри, но почему-то со смертельно бледным, раздувшимся, как у утопленника, лицом. Этот Печварри странным образом протягивал к Геду руки, словно манил к себе. И снова Гед не остановился и шел вперед, хотя между ним и Тенью оставалось всего несколько шагов. Тогда Тень полностью изменила свой облик. Она растеклась по обе стороны от Геда, будто распростерла два огромных крыла. Она извивалась и раздувалась, потом снова собиралась в комок. На мгновение в этом комке мелькнуло белое лицо Скиорха, потом стали видны два сумрачных, глядящих на Геда глаза, и вдруг появился ужасный лик, доселе ему неизвестный, — то ли человека, то ли чудовища, с судорожно кривящимся ртом и бездонными ямами глаз, в которых была черная пустота.
Гед как мог высоко поднял свой посох. Свет стал непереносимо ярким, и этот мощный поток белого света поборол, разорвал древнюю тьму. В ослепительном сиянии Тень утратила всякое сходство с человеком. Она собралась в комок, съежилась, еще больше почернела и, наконец, поползла на четырех когтистых лапах по песку, поднимая вверх слепую бесформенную морду. Когда они сошлись, в белом волшебном свете Тень стала абсолютно черной и поднялась в человеческий рост. Молча человек и Тень встретились лицом к лицу и остановились.
Громким и ясным голосом разорвав вечную тишину, Гед произнес имя Тени, и в тот же миг Тень своим лишенным губ и языка ртом произнесла то же самое слово Истинной Речи: Гед. И оба голоса слились в один.
Гед протянул к ней руки, выронил посох и крепко обхватил ее — ту черную часть собственного «я», которая тянулась ему навстречу. Свет и тьма встретились, соединились и слились воедино.
Но Ветчу, издали наблюдавшему происходящее на странном сумеречном песчаном острове, показалось, что Гед побежден: он увидел, как яркое свечение посоха померкло и стало едва заметным. Ярость и отчаяние овладели его душой, Ветч выпрыгнул из лодки на песок, чтобы спасти друга или погибнуть с ним вместе. Он хотел бежать к этому угасающему огоньку, но едва ступил на сушу, как песок провалился у него под ногами, и Ветч начал биться в его удушающем зыбучем потоке, пока с грозным ревом и победным светом дня, с обжигающим холодом зимы и горьким вкусом морской воды настоящий мир не вернулся к нему, и Ветч понял, что действительно оказался в живительных водах моря.
Рядом на волнах покачивалась лодка. Пустая. Больше ничего на поверхности моря Ветч разглядеть не мог. Пенистые волны заливали лицо, слепили, к тому же он не был хорошим пловцом, так что постарался поскорее добраться до лодки. Он перевалился через борт, откашлялся и попытался отряхнуть воду, струившуюся с его волос и одежды. Потом стал с безнадежным видом оглядываться вокруг, не зная, где искать Геда. В конце концов он заметил вдали на поверхности моря, среди волн, нечто темное — там, где раньше был песчаный остров. Тогда Ветч схватился за весла и могучими рывками погнал лодку к этому месту, успел схватить тонущего друга за руку и втащил его через борт в лодку.
Гед был в забытьи; глаза его, хоть и открытые, смотрели бессмысленно, однако на теле друга Ветч не заметил никаких ран. Посох из тиса совсем перестал светиться; Гед крепко сжимал его в правой руке и не отпускал. Он так ни слова и не произнес и лежал, обессиленный, промокший насквозь, дрожащий, у мачты, опершись о нее спиной и не глядя на Ветча, который поднял парус и развернул лодку по ветру, по-прежнему дувшему с северо-востока. Во тьме ничего вокруг не было видно, но вдруг прямо по курсу, на западе, меж перистых облаков в полосе чистого неба появился сияющий молодой месяц — тонкое полукольцо цвета слоновой кости, отраженный свет солнца.
Гед поднял лицо к яркому рогатому месяцу и снова застыл.
Потом вдруг встал во весь рост, держа обеими руками волшебный посох, как воин держит свой боевой меч, окинул взором небо, море, коричневый надутый парус над головой и лицо друга.
— Эстарриол, — сказал он, — знаешь, все кончено. Все позади. — Он засмеялся. — Рана моя зажила. Я теперь целый. Я снова стал самим собой. И я свободен. — И вдруг, склонив голову и спрятав лицо в ладонях, Гед разрыдался, как ребенок.
До этого Ветч наблюдал за другом с тревогой и ужасом: он не знал точно, что произошло там, на темном острове. Не знал даже, действительно ли это Гед был с ним в лодке сейчас. В течение нескольких часов Ветч не снимал руку с якоря и в любую минуту готов был пробить деревянную обшивку лодки и затопить ее прямо здесь, но не везти назад, к островам Земноморья, то исчадие ада, которое, как он опасался, приняло облик Геда. Теперь же, услышав, как тот говорит, он больше не сомневался и начинал понимать, что же все-таки произошло: в этом сражении Гед не проиграл и не выиграл, но, назвав Тень Смерти собственным именем, как бы соединил две половинки своей души — стал человеком, который, познав собственное «я», не может оказаться во власти иной силы и сам повелевает своей душой, а потому тратит жизнь только ради жизни и никогда — ради разрушения, боли, ненависти или воцарения тьмы. В «Создании Эа», старейшей из героических песен прошлого, говорится:
В молчании — слово,
А свет — лишь во тьме;
И жизнь после смерти
Проносится быстро,
Как ястреб, что мчится
По сини небесной,
Пустынной, бескрайней…
Эту песню пел теперь во весь голос Ветч, направляя лодку на запад, летя быстрее холодного зимнего ветра, что дул прямо им в спину из Открытого Моря.
Восемь дней плыли они и еще восемь, прежде чем впереди завиднелась земля. Не раз приходилось им пополнять запасы пресной воды с помощью колдовства. А еще они пробовали ловить рыбу, но, хоть и произносили заклятья, попадалось все равно очень мало, потому что рыбы в Открытом Море не знают своих настоящих имен, а потому на заклятья не обращают особого внимания. Когда у них совсем не осталось еды, кроме нескольких ломтиков копченого мяса, Гед вспомнил, что сказала Ярроу, когда он украл сухарик на кухне, и действительно пожалел об этой краже, потому что голод терзал их, и все же воспоминание о Ярроу было ему приятно. Ведь она тогда сказала еще, что они непременно вернутся снова домой.
Волшебный ветер всего три дня нес их по водам океана к востоку от Астоуэлла, Последней Земли, но им понадобилось целых шестнадцать дней, чтобы вернуться обратно. Ни один человек еще не возвращался из столь далекого плавания по Открытому Морю, да еще на рыбачьей лодке и в зимнее время. Однако молодые волшебники, Эстарриол и Гед, вернулись. Их миновали сильные шторма, и они довольно точно шли по курсу, указываемому компасом и звездой Толбегрен. Они прошли чуть севернее, а потому не вернулись на Астоуэлл и миновали Фар-Толи и Снег, даже не увидев их. Впервые они высадились на берег на самом южном мысу острова Коппиш. За прибоем виднелись каменные утесы, словно башни огромной крепости. Морские птицы жалобно кричали над волноломами, а над деревушками плыл голубоватый дым от множества очагов, и дым этот уносил ветер.
Отсюда до Иффиша было совсем близко. Они вошли в гавань Исмея тихим пасмурным вечером; из темных туч падали редкие снежинки. Гед и Ветч привязали «Зоркую», что пронесла их по всем морям до самого царства смерти и обратно, и двинулись по узенькой улочке в город. Легко было у них на сердце, когда отворилась дверь дома, согретого огнем камина, и Ярроу выбежала им навстречу, плача от радости.
* * *
Если Эстарриол с острова Иффиш все же исполнил свое обещание и сложил песнь о первом великом подвиге Геда, то она была потеряна. Впрочем, в Восточном Пределе очень распространена одна легенда о лодке, которая якобы села на мель прямо над океанской бездной, далеко-далеко от земли. На Иффише считают, что лодкой этой правил Эстарриол. На острове Ток полагают, что это были двое рыбаков, унесенных штормом далеко в Открытое Море. А на Хольпе рассказывают о каком-то местном рыбаке, который так и не смог сдвинуть лодку с неизвестно откуда взявшейся отмели в океане и остался там.
Итак, от «Песни о Тени» остались лишь разрозненные куски, которые, как плавник, носило от острова к острову долгие годы. Сказание «Подвиг Геда» даже не упоминает об этом путешествии и о встрече Геда с Тенью, происшедшей в самом начале его жизненного пути; там рассказывается о том, как он невредимым вернулся с острова Драконьи Бега, как потом вернул в Хавнор знаменитое Кольцо Эррет-Акбе, половинка которого хранилась в Гробницах Атуана, и как он возвратился на остров Рок и стал Верховным Магом Земноморья.
Книга II. ГРОБНИЦЫ АТУАНА
Эта книга рассказывает об одном из великих подвигов Геда — Верховного Мага — и о его встрече с юной жрицей Священных Храмов. Волшебник Гед спасёт совсем юную Тенар, служащую Великим Силам Тьмы, из подземелья, где она обречена провести всю жизнь.
Пролог
— Домой, Тенар! Домой!
В горной долине вот-вот должны были расцвести яблони; среди набухших бутонов в сумеречной тени сада неяркой звездочкой вспыхнул первый розово-белый цветок. Между деревьями по молодой густой траве, покрытой росой, бегала маленькая девочка. Бегала просто потому, что ей весело было бегать. Услышав, что ее зовут, она не сразу повернула к дому, а сделала по саду еще один большой круг и только потом побежала к матери. Та стояла на пороге со свечой в руках и смотрела, как хрупкая крошечная фигурка подскакивает и подлетает на бегу, словно пушок чертополоха над густой травой, темнеющей под деревьями.
Прислонившись к стене хижины и очищая испачканную землей мотыгу, отец девочки сказал:
— Ну зачем ты так прилепилась сердцем к этой малышке? Все равно ведь через месяц ее заберут. Навсегда. Она для нас все одно что умрет. А ты прямо-таки прикипела к ней… Да и то — пользы-то от девчонки никакой. Если б они хоть заплатили за нее, тогда еще куда ни шло, а то ведь заберут — и ни гроша! Заберут, и все тут.
Мать ничего не сказала; она любовалась дочкой, которая остановилась и смотрела сквозь ветви яблонь туда, где над высокими холмами, над садами ярко-ярко сияет в небе вечерняя звезда.
— Она же не наша! Ее у нас отняли когда еще! Явились и сказали: ваша малышка должна стать Великой Жрицей. Ну что ж ты никак этого не поймешь! — В хриплом голосе мужчины слышалась досада и горечь. — У тебя ведь еще четверо. Они-то останутся при тебе, а с этой все кончено. И незачем к ней привязываться. Пусть уходит!
— Когда придет время, — промолвила женщина, — я ее отпущу.
Она наклонилась навстречу девочке, которая спешила к ней, ступая маленькими босыми ножонками прямо по мягкой влажной земле, подхватила ее на руки и пошла в дом. Но чуть помедлила на крыльце, прижала малышку к себе и поцеловала в темноволосую головку. Светлые золотистые волосы матери как бы вспыхнули в отблесках пламени очага, освещавшего убогое жилище.
Муж остался снаружи, хотя ноги его тоже были босы и застыли от ледяной росы. Ясное весеннее небо над ним постепенно темнело. Невидимое в густых сумерках лицо мужчины было искажено горем — неизбывным, тяжким, злым, — которое он никогда бы не сумел выразить словами. В конце концов он лишь пожал плечами и пошел следом за женой в освещенную комнату, откуда доносились звонкие голоса детей.
Глава 1
Поглощенная
Один-единственный раз резко протрубил горн и смолк. Наступила тишина, прерываемая лишь шарканьем множества ног, медленно двигавшихся в такт негромкому барабанному бою. Через трещины в куполе Тронного Храма, через огромную дыру над колоннадой, где обвалилась целая секция кирпичной кладки и вся черепица, на пол падали косые неверные лучи солнца. Солнце взошло не более часа назад. Воздух был неподвижен и холоден. Сухая трава, умудрившаяся прорасти между мраморными плитами пола, серебрилась инеем, высокие былинки ломались, задетые длинными черными одеяниями жриц.
Жрицы шли по четыре в ряд длинной колонной. Барабан упрямо выстукивал одно и то же. Кроме молчаливых жриц, вокруг не было ни души. Факелы в руках облаченных в черное женщин казались бледно-красными, когда жрицы ступали в полосы солнечного света. А там, где было потемнее, — ярко вспыхивали. За дверями Храма, на крыльце, стояли мужчины — охранники, трубачи, барабанщики; внутрь могли пройти только женщины. Жрицы в черных платьях и плащах с капюшонами медленно брели к огромному пустующему трону.
Вошли еще две высокие, закутанные в черное женщины — одна гибкая и подвижная, другая медлительная, тяжеловесная, ступающая враскачку. Между ними шла девочка лет шести в прямой белой рубахе без рукавов, с непокрытой головой, босиком. Она казалась на удивление маленькой. У подножия лестницы, ведущей к трону, где уже выстроились темными рядами остальные жрицы, высокие женщины остановились и чуть подтолкнули девочку вперед.
Гигантский трон на высоком постаменте был с обеих сторон задрапирован, словно клочьями чудовищной паутины, огромными тяжелыми темными занавесями, спадавшими откуда-то из черноты, таившейся под крышей Храма. Были ли то действительно занавеси или просто невероятно глубокие тени, понять было трудно. Сам по себе трон был из черного камня: на подлокотниках и спинке неярко поблескивала инкрустация самоцветами и золотом. Трон поражал своими размерами. Любой человек на нем казался бы карликом — трон не был предназначен для людей и не соответствовал их размерам. Теперь он пустовал: там не было никого, кроме теней.
Девочка самостоятельно взобралась на четыре из семи ступеней тронной лестницы. Ступени из покрытого красными прожилками мрамора были так широки и высоки, что малышке приходилось сначала с помощью рук подтягивать одну ногу, ложиться на живот, подтягивать вторую ногу, потом вставать и только тогда начинать штурм следующей ступени. На средней, четвертой ступени возвышалась грубая деревянная колода с углублением посредине. Девочка встала на колени, уложила головку в это углубление, чуть повернув ее в сторону, и так застыла.
Вдруг откуда-то из темноты, справа от трона, вынырнула огромная человеческая фигура в длинном белом одеянии, перехваченном на талии ремнем. Лицо человека было закрыто белой маской. Он стал спускаться к девочке, держа в обеих руках огромный блестящий меч. Потом сразу, не произнеся ни слова, человек в белом взмахнул мечом прямо над тоненькой шейкой ребенка. Барабан смолк.
Когда страшное лезвие, взлетев в воздух, как бы застыло в верхней точке замаха, слева от трона появилась вторая человеческая фигура, но уже в черном, и этот человек поспешил к палачу, успел остановить его руку, перехватив ее тонкими пальцами. Острое лезвие, поблескивая, дрожало в воздухе. Белая и черная фигуры как бы балансировали некоторое время — обе одинаково безликие — над неподвижной девочкой, из-под распавшихся черных волос которой взору всех открылась белоснежная шейка.
Наконец их молчаливый танец закончился, черная и белая фигуры отодвинулись друг от друга и вновь скрылись за троном — каждая со своей стороны. Тогда к коленопреклоненной девочке приблизилась одна из высоких жриц и полила ступени рядом с ней какой-то жидкостью. В неясном свете Храма жидкость казалась черной.
Девочка встала и начала старательно спускаться вниз по высоким ступеням. Когда она наконец ступила на пол, две высокие жрицы надели на нее черное платье и черный плащ с капюшоном, а потом снова повернули ее лицом к семи ступеням и черному подсыхающему пятну на четвертой из них.
— Пусть Безымянные владеют этим ребенком, воплощением той, что рождена вечно быть безымянной. Пусть вся ее жизнь — каждый ее год до самой смерти — принадлежит им. Так же, как и ее смерть. Пусть Безымянные поглотят ее!
И другие голоса, страшные и пронзительные, как звуки трубы, отвечали:
— Поглощена! Она поглощена!
Малышка стояла, поглядывая из-под черного капюшона на трон. Его подлокотники в виде огромных когтистых лап, инкрустированные драгоценными камнями, были покрыты пылью, а резную спинку украшала густая паутина и белые пятна совиного помета. На последние три ступени, что вели к самому трону (и были выше той, где она преклонила колена), никогда не ступала нога смертного. Они были покрыты таким слоем пыли, что казались вылепленными из унылой серой глины, даже красноватые прожилки были совершенно незаметны под этими наслоениями, которых никто не касался бог знает сколько уже лет или веков.
— Она поглощена! Поглощена!
Внезапно раскатисто загремел барабан; ритм заметно ускорился.
В тишине раздался шорох шагов — процессия вновь построилась в том же порядке и двинулась прочь от трона, на восток, к светлому четырехугольному дверному проему в противоположной стене. Жрицы шли меж толстых, расположенных в два ряда колонн, похожих на огромные бледные ноги чудовища, скрывающегося во мраке под потолком. Среди жриц торжественно шла и девочка, теперь тоже вся в черном, как они. Девочка старательно переступала маленькими босыми ножонками по замерзшим стебелькам травы, по ледяным каменным плитам. Когда сквозь разрушенную крышу прорвался сноп солнечных лучей, преграждая ей путь, она даже глаз не подняла.
Стражники держали дверь наготове — распахнутой настежь. Черная процессия вышла на утренний ветерок под холодное солнце, которое ослепительно сияло, плывя над пустыней. На западе его желтый свет отражали горы и ворота Храма. На остальных строениях, расположенных ниже по склону холма, все еще лежали красноватые тени. И только Храм Богов-Близнецов на небольшом холме напротив был залит солнцем, его заново покрытая кровля так и сияла. Черная вереница жриц по-прежнему четверками спускалась с холма, где находились Священные Гробницы. Послышалось тихое пение. Нехитрая мелодия состояла всего из трех нот, а слово, вновь и вновь повторяемое жрицами, было настолько древним, что давно уже утратило свое первоначальное значение; так бывает с верстовыми столбами, нелепо торчащими там, где когда-то пролегала давно исчезнувшая дорога. Жрицы продолжали монотонно повторять в такт музыке это пустое, ничего не значащее слово. И весь тот день — день Возрождения Великой Жрицы — слышалось тихое пение и непрерывное гудение волынки.
Девочку вели из комнаты в комнату, из храма в храм. В одном месте на язык ей зачем-то положили соль; в другом она долго стояла на коленях лицом к западу, а ей тем временем отрезали ее длинные волосы и умастили голову душистым маслом и уксусом; еще в одном месте она легла на черную мраморную плиту за алтарем, а пронзительные голоса тем временем оплакивали «усопшую» в долгой литургии. Ни девочка, ни жрицы в тот день ничего не ели и не пили. Когда на небе загорелась вечерняя звезда, девочку уложили спать голышом на овечью шкуру, а сверху накрыли другой такой же шкурой. В этом доме она никогда еще не бывала. До этого дня он много лет простоял запертым. Комната ее напоминала глубокий колодец, и окон в ней не было. Там царил запах тлена, воздух был застоявшийся, несвежий. Молчаливые жрицы оставили девочку одну в темноте.
Малышка сжалась и застыла неподвижно в той самой позе, в какой они ее оставили. Глаза девочки были широко открыты. Прошло довольно много времени.
Вдруг она увидела на высокой стене дрожащее пятно света. Кто-то тихонько шел по коридору, явно прикрывая свет рукой, потому что отблеск на стене был не больше огненной мухи. Кто-то тихонько позвал шепотом:
— Эй, ты здесь, Тенар?
Девочка не ответила.
Чья-то голова просунулась в дверной проем; странная голова — безволосая, желтоватая, словно очищенная вареная картошка. Глаза, коричневые, маленькие, тоже были похожи на картофельные глазк
и. Нос утонул в гигантских жирных щеках, а рот казался уродливой щелью. Девочка не шевелясь смотрела на это лицо огромными темными неподвижными глазами.
— Эй, Тенар, милая ты моя, соты мои медовые! Вот ты где! — Голос был хриплый, но высокий, похожий на женский и в то же время не женский. — Мне не следует здесь появляться, я ведь не имею права входить внутрь и должен оставаться за дверью, на крыльце. Так оно и будет, но должен же я был посмотреть, как там моя девочка — после этих бесконечных церемоний, а? Как ты тут, малышка?
Он совершенно бесшумно придвинулся к ней еще ближе и ласково положил огромную руку на голову, как бы желая пригладить ее черные волосы.
— Я больше не Тенар, — сказала девочка, глядя на него в упор.
Огромная рука застыла; он так и не погладил ее по голове.
— Нет, конечно, я знаю… — откликнулся он шепотом, — знаю. Теперь ты маленькая Поглощенная. Но я…
Она не отвечала.
— Для такой малышки это был тяжелый день, — проговорил толстяк, отдуваясь; в большой желтоватой руке его мигал крошечный светильник.
— Тебе не следует приходить в этот дом, Манан.
— Да, да. Я знаю. Мне не следует приходить в этот дом, я и не буду. Ну хорошо, спокойной ночи, малышка… Спокойной ночи.
Девочка снова ничего не ответила ему. Манан медленно повернулся и пошел прочь. Последний отблеск света угас на высоких стенах ее кельи. Девочка, которая сегодня лишилась своего прежнего имени и теперь звалась Ара, что значит «поглощенная», лежала на спине и неотрывно смотрела во тьму.
Глава 2
За стеной
Подрастая, она утратила последние воспоминания о матери, не понимая даже, что теряет. Она принадлежала лишь этому Храму, Священным Гробницам; она принадлежала им всегда. Лишь порой, долгими июльскими вечерами, глядя на западные горы, словно покрытые сухой львиной шкурой золотистого цвета в лучах заходящего солнца, она будто бы припоминала точно такой же яркий желтый огонь в каком-то очаге — только когда-то давно-давно. И кажется, даже кто-то держал ее на руках, что вообще очень странно, потому что Ары не полагалось касаться. И еще всплывала память об аромате свежевымытых, прополосканных в отваре шалфея волос, длинных и светлых, того же цвета, что закат и тот давнишний огонь в очаге. Вот и все, что у нее осталось от прошлого.
Она, разумеется, знала больше, чем помнила: ей уже давно рассказывали о том, как она попала в Храм. А когда ей было лет семь или восемь, она впервые по-настоящему заинтересовалась тем, кто же она на самом деле и почему ее зовут Ара. Тогда она пошла к своему телохранителю Манану и потребовала:
— Расскажи, как меня выбирали Жрицей, Манан.
— Ох, но ты же все это давно знаешь, малышка.
И она действительно знала: высокая, с бесстрастным голосом жрица по имени Тхар много раз рассказывала ей об этом, и девочка помнила всю историю почти наизусть. Теперь она с удовольствием еще раз повторила ее сама Манану:
— Да, я знаю! Когда умерла Единственная, что служит Гробницам Атуана, обряды погребения и очищения длились целый лунный месяц. После чего несколько жриц с охраной отправились в иные края через пустыню, по разным городам и селеньям Атуана. Они внимательно искали сами и спрашивали разных людей. А искали они новорожденную девочку, появившуюся на свет в ту самую ночь, когда умерла Единственная. Когда жрицы находят такого ребенка, то достаточно долго ждут, наблюдая за ним. Дитя должно быть здорово телом и крепко рассудком, не должно болеть ни рахитом, ни оспой, не должно страдать слепотой или уродствами. Если девочка до пяти лет не бывает поражена никаким духовным или физическим недугом, это значит, что именно ее тело избрала душа покойной Великой Жрицы Гробниц. Ее отвозят в Авабатх и показывают Королю-Богу, а потом возвращают в Храм и обучают в течение года, в конце которого новая Ара проходит обряд посвящения, когда прежнее ее имя передается тем, кто теперь стал ее Хозяевами, то есть Безымянным. И с этого момента она сама становится безымянной, Единственной Вечно Возрождающейся Жрицей.
Девочка почти слово в слово повторила то, что ей рассказывала Тхар, у которой она никогда не осмеливалась спросить хоть что-то еще. Высокая тощая жрица вовсе не была жестокой, но с окружающими держалась холодно и жила в соответствии с железными законами Святого Места. Ара перед ней трепетала. Зато нисколько не боялась Манана, даже, пожалуй, с удовольствием им командовала.
— А теперь расскажи, как меня выбрали Жрицей!
И он снова и снова готов был рассказывать своей любимице:
— Сначала мы двинулись на северо-запад — это было на третий день после того, как народилась
луна, и точно в этот самый день, месяц назад умерла та Ара, что была прежде. Первым был город Тенакбах, довольно-таки большой, хотя те, кто видел Авабатх, считают, что он в сравнении со столицей все равно что блоха рядом с коровой. Но для меня-то и Тенакбах был достаточно велик; там небось не меньше десяти тысяч домов! Потом мы пошли в Гар, но и в этом городе тоже не родилось ни одной девочки на третий день новолуния в прошлом месяце. Были, правда, мальчики, да только мальчики не годятся… Тогда мы углубились в холмистую местность к северу от Гара, там много мелких селений. Это моя родина. Там, среди холмов, я когда-то родился; там множество рек и земля словно покрыта зеленым ковром… Не то что в этой пустыне! — Голос Манана в этом месте всегда начинал дрожать, а маленькие глазки совсем скрывались в глубоких складках на щеках; он даже умолкал ненадолго от волнения. Потом продолжал свое повествование: — И вот мы выяснили, у кого из здешних месяц назад родились девочки, и стали по очереди посещать каждый дом. Некоторые, конечно, пытались соврать: «О да, наша девочка родилась как раз на третий день новолуния!» Ведь бедняки, знаешь ли, часто даже рады избавиться от новорожденных дочерей. А еще встречались такие, что в своих жалких уединенных хижинах среди холмов совсем не вели счета дням и с трудом могли объяснить даже смену времен года, так что и сказать-то точно не могли, сколько дней их младенцу. Но всегда ведь можно докопаться до истины, если быть достаточно упорным. Впрочем, дело продвигалось медленно. Наконец в маленькой деревушке из десятка домов, утонувшей в яблоневых садах, которыми славятся долины к западу от Энтата, мы нашли маленькую девочку. Ей было уже восемь месяцев — вот как долго мы искали! — но она родилась именно в ту ночь, когда умерла Великая Жрица Гробниц, и в тот же час. До чего же славный был ребенок! Она сидела на коленях у матери и сияющими глазенками посматривала на всех, кто толпился вокруг, набившись в единственную комнату домика, словно летучие мыши в пещеру. Отец-то ее был бедняк. Садовник у какого-то богача и своего не имел ничего, кроме пятерых детей да козы. Даже домишко ему не принадлежал. Итак, все мы столпились там, и уже по тому, как жрицы, тихо переговариваясь, смотрели на младенца, можно было понять, что они нашли наконец Вечно Возрождающуюся. И мать девочки тоже это поняла. Она прижимала ребенка к себе, но не произносила ни слова. Ну ладно. На следующий день приходим мы снова — глядь, а ясноглазая малышка лежит, укрытая тряпьем, и вовсю плачет, кричит, тело у нее все красное, как при лихорадке, и покрыто сыпью. Еще громче плачет ее мать: «Ай-яй-яй! Это ведь следы Ведьминых Пальцев! Вон, все тело испятнала, проклятая!» Это она оспу имела в виду. У нас в деревне оспу тоже называли Ведьмиными Пальцами. Но Коссил, та, что теперь Верховная Жрица Короля-Бога, подошла к колыбельке да и взяла ребенка на руки. Все так и отпрянули, ну и я, конечно, тоже: не так уж я за свою жизнь цепляюсь, да только кто же входит в дом, где оспа? Но Коссил почему-то совсем не боялась. Взяла она ребенка и говорит: «У нее же никакого жара нет!» Да как плюнет на палец и давай тереть одну из красных отметин. Пятно и исчезло! Оказалось, это всего лишь ягодный сок. Бедная глупая мать надеялась, видно, обмануть нас и оставить дочку при себе! — Манан от всей души рассмеялся. Желтое лицо его осталось почти неподвижным, зато бурно заколыхались бока. — Ну, муж-то, конечно, побил ее, потому что боялся гнева жриц. И вскоре мы вернулись обратно в нашу пустыню, но каждый год кто-нибудь один отправлялся в деревню среди яблоневых садов, чтобы узнать, как растет девочка. Так прошло пять лет. Наконец Тхар и Коссил в сопровождении стражи — солдат в красных шлемах, специально присланных Королем-Богом, — отправились за девочкой. И привезли ее сюда, ибо она оказалась Возродившейся Единственной. Отныне она принадлежала Святому Месту. А ну-ка, скажи, кто была та девочка?
— Я, — отвечала Ара, глядя вдаль, словно пыталась разглядеть нечто, постоянно ускользавшее от нее.
Однажды она спросила:
— А что сделала та женщина… мать, когда жрицы пришли, чтобы увести девочку?
Но этого Манан не знал: он не был в том последнем путешествии.
А она никак не могла вспомнить. Да и что вообще хорошего в воспоминаниях? Все прошло, давно прошло. Она явилась туда, где должна быть. Во всем мире она знала одно лишь подобающее ей место: Гробницы Атуана.
Весь первый год Ара спала в большой спальной с другими новенькими — девочками от четырех до четырнадцати лет. Но уже тогда Манан специально был выделен ей в телохранители; и кроватка ее тоже стояла отдельно, в маленьком алькове, а не в общей длинной и плохо освещенной комнате Большого Дома, где девчонки пересмеивались и перешептывались, прежде чем уснуть, а утром, зевая, заплетали друг другу косы. Когда у нее отняли прежнее имя и назвали Арой, она стала спать одна в Малом Доме, в постели с одеялами из овечьих шкур, в той самой комнате без окон, которая теперь принадлежала только ей до конца жизни. Малый Дом всегда принадлежал Единственной, и никто не смел войти туда без ее разрешения. В детстве Аре очень нравилось отвечать тому, кто стучался в ее дверь: «Можешь войти!», и ее злило, когда обе Верховные Жрицы, Тхар и Коссил, не обращали должного внимания на ее разрешение и чаще всего входили без стука.
Пролетали дни, проходили годы — похожие один на другой. Девочки, что воспитывались при храмах, много времени уделяли различным полезным занятиям. Ни в какие игры они никогда не играли. Времени для игр просто не было. Они разучивали священные песни и танцы, предания о землях Каргада, сакральные мифы, посвященные различным богам, но чаще всего — либо Королю-Богу, чей дворец находился в Авабатхе, либо Богам-Близнецам, Атва и Вулуа. Из всех девочек только Ара изучала обряды, связанные с Безымянными, и учила ее Тхар, Верховная Жрица Богов-Близнецов. Каждый день, по крайней мере час, она занималась с Арой наедине. Но большую часть своего дня Ара, как и другие ученицы, проводила за работой. Девочки учились прясть и ткать шерсть для жреческих одеяний, сажали и сеяли различные растения и злаки, убирали урожай, учились готовить пищу на каждый день: чечевицу, кашу из зерна грубого помола или пресные лепешки. Все это во время трапез разнообразилось луком, капустой, овечьим сыром, яблоками и медом.
Самой лучшей наградой для учениц было разрешение пойти на рыбную ловлю к реке с темно-зеленой водой, что протекала недалеко от храмов. Можно было, прихватив с собой яблоко или холодную лепешку, весь день просидеть на берегу среди тростников в сухом солнечном тепле, любуясь медлительной зеленой водой и меняющимися очертаниями облаков над холмами. Однако если кто-то не выдерживал и взвизгивал от возбуждения, когда леса натягивалась и на берег вылетала плоская блестящая рыбка, начинавшая тут же задыхаться на песке, Меббет шипела ужом: «Сиди спокойно, дура визгливая!»
Меббет, жрица из Храма Короля-Бога, была еще молодой темнокожей женщиной, но с ужасным характером — твердым и острым, как обсидиановый нож. Рыбная ловля была ее страстью. К ней непременно требовалось подлизываться и стараться вообще не раскрывать рта, чтобы она не рассердилась и снова взяла с собой на рыбалку. Из-за Меббет вполне можно было ни разу в жизни больше не попасть на реку, разве что летом, когда воду для хозяйства таскали оттуда: колодец в жару совсем иссякал. Это было ужасно — тащить два полных ведра на коромысле по изнуряющей жаре, белым маревом висящей над пустыней, да еще поторапливаться. Первые сто шагов вверх по склону холма к Большому Дому давались относительно легко, но постепенно ведра становились все тяжелее и тяжелее, коромысло жгло плечи, как раскаленное железо, а песок блестел так, что больно было на него смотреть, и каждый следующий шаг был труднее предыдущего. Наконец, добравшись до прохладной тени на заднем дворе Большого Дома, нужно было опорожнить ведра в огромную бочку у овощного амбара и немедленно возвращаться назад, снова и снова проделывая все сначала.

На огороженной территории Святого Места — так назывались все здешние храмы и строения, — считавшегося самой древней святыней на всех четырех островах Империи Каргад, проживало около двух сотен человек. Здесь было три храма; Большой Дом и Малый; кельи евнухов-телохранителей и прилепившиеся к внешней стене хижины рабов, различные кладовые и овчарни, а также сараи для инвентаря. Издали все вместе это выглядело как маленький городок, окруженный голыми сухими холмами, где рос только шалфей, какая-то жестяная трава, торчавшая колючими кустиками, и прочая пустынная мелочь. С запада храмы закрывали холмы, зато с востока, из долин, даже издалека видна была золоченая крыша Храма Богов-Близнецов, сверкавшая и переливавшаяся в небе чуть ниже далеких горных вершин, подобно блестке слюды на каменистом откосе.
Сам по себе Храм Богов-Близнецов был похож на громоздкий каменный куб, облицованный белой плиткой, без окон, с низенькой дверью и крыльцом. Гораздо более красивым и юным — на целые века моложе — был Храм Короля-Бога, расположенный чуть ниже по склону. Его высокий портик украшали толстые белые колонны с разноцветными капителями; каждая из колонн была сделана из целого ствола огромного кедра, привезенного на корабле с острова Гур-ат-Гур, богатого кедровыми лесами. Каждый из таких стволов втаскивали к Святому Месту на веревках не менее двадцати рабов.
Разглядывая Святое Место из восточных долин, человек наконец замечал выше всех остальных построек, выше золотой крыши одного храма и белоснежных колонн другого, самый старый из них — огромный приземистый Тронный Храм с разрисованными стенами и плоским, как бы расползшимся куполом.
За этим храмом, окружая все Святое Место, тянулась толстенная каменная стена сухой кладки, во многих местах разрушенная. Стена петлей огибала отдельный участок за Тронным Храмом, где, подобно гигантским пальцам, из земли торчало несколько черных камней в три человеческих роста высотой. Они постоянно притягивали к себе взор и были исполнены некоего глубинного значения. Однако никому не было известно, что же в действительности они означают. Камней было девять. Один стоял совершенно прямо, остальные — более или менее наклонно; два камня упали. Камни были покрыты серыми и оранжевыми пятнами мхов, словно испачканы краской, — все, кроме одного: этот был совершенно гладкий, черный и будто лоснящийся. Поверхность его была скользкой как шелк. Под коркой мхов на других камнях прощупывалось или даже виднелось нечто вроде резьбы — какие-то рисунки, знаки. Этот огороженный участок с Девятью Камнями и назывался Гробницами Атуана. По слухам, Камни появились здесь еще до рождения самого первого человека, в те времена, когда только создавались острова Земноморья и на земле царила тьма. Камни были куда древнее Короля-Бога, правившего Империей Каргад; они были старше Богов-Близнецов; старше всего этого мира. Это были гробницы тех, кто правил землей прежде, чем возник мир людей; тех, кто не имеет имени; и жрица их имени тоже не имела.
Ара не слишком часто общалась с Камнями; остальные же и ногой не ступали внутрь каменной ограды на самой вершине холма. Два раза в год, в полнолуние близ весеннего и осеннего Солнцеворота, перед Троном совершалось жертвоприношение. Ара выносила из низкой двери в задней стене большой медный таз, полный дымящейся крови только что убитого козла; кровь она должна была разлить так: половину у гладкого черного Камня, остальное — вокруг тех Камней, что лежали на земле, среди мелких камешков, запятнанных кровавыми приношениями, свершавшимися в течение многих столетий.
Иногда Ара в полном одиночестве бродила ранним утром среди Камней, пытаясь разгадать смысл резных знаков на их поверхности, в косых утренних лучах видимых особенно ясно; или же садилась возле Камней и смотрела вверх, на западные горы, или вниз, на крыши и стены строений. Она видела, как пробуждается с приходом утра жизнь у Большого Дома, и возле хижин стражников и пастухов, и в стадах овец и коз, которых гнали на скромные пастбища по берегам реки. Больше среди Камней делать было совсем нечего. Она ходила туда только потому, что лишь ей одной позволено было туда ходить. А еще потому — что там могла побыть в одиночестве. Но это было страшное место. Даже в жаркий летний полдень, особенно жаркий в пустыне, возле Камней царил холод. Порой между двумя камнями, стоявшими близко друг к другу, слышался как бы свист ветра, и Камни эти склонялись друг к другу, словно беседуя о чем-то тайном. Но ни одна их тайная беседа так и не была ею услышана.
От каменной ограды, охранявшей территорию Гробниц, отходила другая каменная стена, пониже, образуя длинную, неправильной формы петлю вокруг Святого Места, чуть вытягиваясь к северу, к реке. Стена эта не столько защищала храмы, сколько делила их территорию на части: в одной — сами святыни, Большой Дом и жилища жриц и телохранителей, в другой — хижины стражников и рабов, которые возделывали землю и пасли скот, обеспечивая Святое Место провиантом. Слуги всегда оставались на своей половине; только по самым большим праздникам стражники, барабанщики и горнисты сопровождали процессию жриц; но в ворота храмов они никогда не входили. Прочие же люди вообще не смели ступить на территорию храмов. Некогда, правда, сюда совершались настоящие паломничества, приезжали короли и важные вельможи со всех четырех островов, чтобы поклониться святыням. Сам первый Король-Бог полтора столетия назад приезжал сюда — устанавливать порядок богослужения в собственном храме. И все-таки даже он не смог подойти к Камням; даже он вынужден был принимать пищу и спать за пределами стены, окружавшей Тронный Храм и Гробницы.
Взобраться на стену, окружавшую Святое Место, было довольно легко: она вся была покрыта трещинами и выбоинами, как ступеньками. Ара и еще одна девочка по имени Пенте как-то раз в полдень сидели на стене. Был конец весны. Обеим исполнилось по двенадцать лет. По правде говоря, они должны были находиться в Большом Доме за ткацкими станками, в огромном каменном зале, где из бесконечных клубков черной шерсти ткут унылую материю для жреческих одеяний. Девочки выскользнули наружу якобы для того, чтобы напиться во дворе у колодца, и тут Ара сказала: «Пошли скорей!» — и повела подружку вниз по склону холма кружным путем — чтобы не заметили из Большого Дома — к каменной стене. И вот теперь они сидели там, высоко над землей, свесив босые ноги по ту сторону стены и глядя на плоские равнины, уходящие далеко-далеко на восток и на север.
— Ой, как мне хочется море повидать! — сказала вдруг Пенте.
— А зачем? — спросила Ара, жуя какой-то горьковатый стебелек, сорванный прямо на стене. Пустыня вокруг только что отцвела. Ее некрупные цветы — желтые, розовые, белые — роняли на землю лепестки, повсюду посылали с ветром крошечные серо-белые перышки и зонтики семян. Белая пена опавших лепестков скрыла землю под яблонями в саду. Ветви окутала густая листва. Яблони были единственными зелеными деревьями в округе. Остальная растительность, куда ни глянь, имела сейчас один и тот же серо-коричневый пустынный оттенок, и только на западе горы отливали серебристо-голубым: там как раз зацвел шалфей.
— Ну… я не знаю зачем. Просто хочется увидеть хоть что-нибудь еще. Здесь все всегда одинаковое. И ничего никогда не случается.
— Все, что случается где-то еще, начинается здесь, — сказала Ара.
— Да-да, я знаю… Но вот бы посмотреть, как это там происходит! — Пенте улыбнулась. Она была вся какая-то мягкая, уютная. Она потерла свои босые ступни о нагретые солнцем камни и, немного помолчав, продолжала: — Знаешь, я ведь раньше жила у моря — когда была маленькой. Наша деревня начиналась сразу за дюнами, и мы часто играли на берегу. Однажды, помнится, мы видели целую флотилию кораблей, проплывавших мимо и довольно далеко от нашего берега. Мы сбегали в деревню, позвали всех, и все пришли тоже смотреть на них. Корабли эти были похожи на драконов с красными крыльями. У некоторых были настоящие драконьи головы. Они плыли со стороны Атуана, но не принадлежали каргам. Наш староста сказал, что они с запада, с Внутренних Островов. Тогда вся деревня высыпала на берег. Я думаю, люди боялись, что чужеземцы высадятся на остров. Но они только проплыли мимо, и никто не знал куда. Может быть, воевать с жителями Карего-Ат? Ты только подумай: они ведь явились оттуда, где живут настоящие волшебники! Где у всех людей кожа цвета красной глины, где любой может наложить на тебя заклятье, а ты и глазом моргнуть не успеешь.
— Ну уж нет! — с яростью сказала Ара. — Я-то на них и смотреть бы не стала. Эти колдуны служат злым силам. И как только они осмеливаются плавать так близко от Святой Земли!
— Ой, ну, надо думать, наш Король-Бог в один прекрасный день все-таки всех их завоюет и сделает своими рабами. Но мне ужасно хочется еще хоть разок повидать море! В оставленных отливом лужицах нам часто попадались маленькие осьминоги, и, если крикнуть «бу-у!», они сразу же становились белыми. Вон идет твой старый Манан, это он тебя ищет.
Телохранитель и верный слуга Ары медленно брел вдоль внутренней стороны стены. Время от времени он останавливался, чтобы выкопать дикий лук, которого у него собралась уже большая связка, потом снова распрямлялся и оглядывался вокруг своими равнодушными карими глазками. С возрастом Манан еще больше растолстел, и его безволосая желтая кожа лоснилась на солнце.
— Давай быстро вниз, на ту сторону, где живут рабы, — и тихо! — прошипела Ара, и обе девочки соскользнули, гибкие, как ящерки, за стену и присели там, невидимые с внутренней стороны. Они слышали, как Манан подошел ближе.
— У-гу-гу! Картофельная башка! — прогудела Ара, подражая вою ветра в траве.
Тяжелые шаги стихли.
— Эй, кто там? — неуверенно проговорил Манан. — Это ты, малышка? Ара?
Молчание.
Манан двинулся дальше.
— У-гу-гу! Картофельное брюхо! — подражая подруге, прошипела было Пенте, но тут же зажала рот, чтобы не прыснуть со смеху.
— Есть здесь кто-нибудь?
Молчание.
— Ах так? Ну хорошо, хорошо, — вздохнул евнух и медленно пошел дальше. Когда он скрылся за выступом холма, девочки снова вскарабкались на стену и уселись на ней. Пенте вся порозовела от жары и сдерживаемого смеха, но Ара выглядела свирепо.
— Старый глупый баран с бубенчиком! Что он за мной повсюду таскается?!
— Он же обязан, — разумно возразила ей Пенте. — Это его работа — присматривать за тобой.
— За мной присматривают те, кому я служу. Они мной довольны. И совершенно не требуется, чтобы кто-то еще был доволен мной. Все эти старухи и полумужики должны оставить меня и покое. Я здесь Единственная!
Пенте смотрела на нее во все глаза.
— Ох, — еле слышно проговорила она, — ох, я-то знаю, что ты Единственная, Ара…
— Тогда пусть они оставят меня в покое! И перестанут вечно приказывать мне!
Пенте ненадолго замолкла; только вздыхала, болтала в воздухе своими пухлыми ножками да смотрела вдаль, на широкие бледные равнины, постепенно сливающиеся с бесконечной линией горизонта.
— Ты скоро будешь сама приказывать им, очень скоро, ты ведь знаешь, — спокойно сказала наконец Пенте. — Еще два года, и мы пройдем обряд посвящения, перестанем быть детьми. Нам исполнится четырнадцать. Меня пошлют в Храм Короля-Бога — там все будет по-прежнему. Зато ты на самом деле станешь Единственной. Даже Коссил и Тхар обязаны будут тебе повиноваться.
Ара молчала. Лицо ее было печально, глаза под темными ресницами блестели, отражая бледный свет полуденного неба.
— Нам, наверно, пора возвращаться, — сказала Пенте.
— Нет.
— Но Главная Ткачиха может рассказать Тхар… Да и Девять Песнопений уже скоро.
— Я останусь здесь. Ты — тоже.
— Тебя-то они не накажут, а меня уж точно, — мягко попыталась возразить Пенте. Ара не ответила. Пенте вздохнула и осталась. Солнце затягивало дымкой, повисшей высоко в небе над равнинами. Где-то далеко разносился перезвон овечьих колокольчиков, блеяли ягнята. Сухой весенний ветерок налетал слабыми волнами, навевая сладкие ароматы трав.
Девять Песнопений уже почти закончились, когда Ара и Пенте подошли к Большому Дому. Меббет видела, как девочки сидели на «людской стене», и донесла об этом своей начальнице Коссил.
Тяжело ступая, Коссил подошла к ним и вперила в девочек неподвижный взгляд. С каменным лицом, ровным голосом она велела им следовать за ней и повела с крыльца Большого Дома на холм, к Храму Богов-Близнецов, Атва и Вулуа. Там она что-то сказала Верховной Жрице Храма — высокой сухопарой Тхар — и обратилась к Пенте:
— Снимай-ка платье.
И выпорола девочку пучком тростниковых стеблей, которые, ломаясь, оставляли неглубокие, но болезненные царапины. Пенте терпеливо перенесла наказание, молча глотая слезы. Потом ее отослали к ткацкому станку и оставили без ужина. Ведь следующий день она также должна была обходиться без еды.
— Если тебя еще раз увидят на «людской стене», — сказала Коссил, — наказание будет куда более суровым. Ты поняла, Пенте? — Голос Коссил звучал недобро.
Пенте ответила едва слышно и скользнула прочь, ежась и вздрагивая, потому что грубая шерсть платья касалась свежих царапин на спине.
Ара все время стояла рядом с Тхар и смотрела, как наказывают ее подругу. Теперь она молча следила за тем, как Коссил смывает с истрепанных тростниковых стеблей кровь.
— Не годится, чтобы ты бегала повсюду с остальными девчонками и забиралась куда не положено. Ты — Ара! — строго сказала ей Тхар.
Девочка мрачно молчала.
— Будет лучше, если ты не станешь нарушать правила Святого Места, ты все-таки будущая жрица. Ты — Ара!
На мгновение девочка подняла глаза и глянула в лицо Тхар, потом в лицо Коссил, и такая ненависть, такой гнев были в ее глазах, что обеим стало страшно. И все же тощая жрица ничуть не смутилась; она, пожалуй, была даже довольна и, наклонившись ближе к своей воспитаннице, почти прошептала:
— Да, ты действительно Ара. Ты — Единственная. И прошлое твое поглощено целиком.
— Прошлое поглощено целиком, — эхом повторила за ней Ара, как делала это каждый раз с шести лет.
Тхар слегка кивнула ей, удовлетворенная; Коссил тоже ей кивнула и убрала прочь розги. Но Ара на поклон не ответила, а просто повернулась и пошла прочь.
После ужина — картошки с зеленым луком, — съеденного в тишине узкой темной трапезной, после вечернего богослужения, после наложения священных заклятий на двери и короткого ритуала, Невыразимого Словами, дневным заботам пришел конец. Теперь девочки могли отправляться к себе и играть с яблочными косточками и палочками, пока не догорит единственная на всю спальню свеча, а потом, в лучшем случае, пошептаться в темноте с соседкой по кровати. Ара же, как всегда, направилась через всю обширную территорию Святого Места к Малому Дому, ибо спала там в одиночестве.
Ночной ветерок приносил сладостный аромат трав. Весенние звезды светили ярко и были похожи на пушистые маргаритки на весеннем лугу или на мелких животных в теплой апрельской воде. Но Ара никогда не видела ни лугов, ни моря в апреле. Да и в небо она сейчас не смотрела.
— Эй, как ты там, малышка?
— Манан, это ты? — равнодушно спросила она. Огромная тень зашевелилась, и Манан воздвигся с ней рядом; его лысая голова, казалось, отражает свет звезд.
— Тебя наказали?
— Меня нельзя наказывать.
— Да… это так…
— Они не могут наказать меня. Не посмеют!
Манан стоял с ней рядом, большие руки его свисали вдоль туловища; он напоминал бесформенную глыбу. Ара чувствовала острый запах лука и сладкий запах шалфея, исходившие от его старой черной хламиды, обтрепавшейся по краям и коротковатой.
— Они даже пальцем не могут меня тронуть. Я — Ара, — сказала она пронзительным, яростным голосом и расплакалась.
Огромные, ждавшие своего времени руки приблизились, обняли, нежно погладили по спутанным волосам.
— Ну-ну, маленькая моя пчелка, малышка моя…
Она слышала хриплый шепот, исходивший из самых глубин его необъятной груди, и прижалась к нему. Слезы скоро кончились, но Ара продолжала прижиматься к Манану, словно ноги не держали ее.
— Бедная ты моя малышка, — прошептал он, поднял девочку на руки и понес ко входу в ее одинокое жилище. На крыльце он поставил ее на ноги.
— Ну? Все в порядке, малышка?
Она кивнула, отвернулась и вошла в темный дом.
Глава 3
Узники
На крыльце Малого Дома послышались шаги Коссил, ровные и неторопливые. Высокая грузная фигура закрыла дверной проем, потом резко уменьшилась, когда жрица преклонила перед Арой одно колено, и снова неимоверно увеличилась, когда Коссил снова выпрямилась в полный рост.
— Госпожа моя.
— В чем дело, Коссил?
— Мне было дозволено взять на себя некоторые заботы, связанные с владениями Безымянных, — до поры до времени. Однако теперь пришла пора и тебе, госпожа, кое-чему научиться, кое-что увидеть самой и взять в собственные руки то, что в новой своей жизни ты до сих пор еще не вспомнила.
Ара сидела в своей комнате без окон, якобы погрузившись в медитацию, а на самом деле не занятая ничем и ни о чем не думая. Лишь спустя некоторое время застывшее, тупое, но и высокомерное выражение на ее лице чуть изменилось, хотя она и пыталась это скрыть. С затаенным лукавством она спросила:
— Ты имеешь в виду Лабиринт?
— В Лабиринт мы входить не будем. Однако в Священное Подземелье спуститься необходимо.
В голосе Коссил, пожалуй, даже звучало подобие страха. Или она притворялась? Может, чтобы запугать Ару? Девушка неторопливо встала и сказала спокойно:
— Что ж, прекрасно.
Однако, следуя за грузной фигурой Верховной Жрицы, она в душе ликовала: «Наконец-то! Наконец-то я увижу собственное царство!»
Ей исполнилось пятнадцать. Больше года назад она прошла обряд посвящения и стала полновластной и Единственной Жрицей Гробниц Атуана. Это был высший пост среди Верховных Жриц государства Каргад. Единственная не подчинялась даже Королю-Богу. Теперь все жрицы, встречаясь с ней, преклоняли одно колено, даже мрачная Тхар, даже Коссил; и все обращались к ней осторожно и почтительно. Но, в общем-то, ничто особенно не изменилось. Ничего так и не произошло. После торжественной церемонии посвящения дни Ары потекли точно так же, как и раньше. Нужно было прясть шерсть, ткать черную ткань, молоть зерно, соблюдать одни и те же обряды, по-прежнему каждый вечер исполнять Девять Песнопений и накладывать заклятье на двери храмов и дважды в год поить кровью священные Камни, а в безлунные ночи танцевать сакральные танцы перед Незанятым Троном. Так прошел еще один год, подобный всем предыдущим; неужели точно так же пройдут и все остальные годы ее жизни?
Тоска порой подступала под самое горло, превращаясь почти в ужас. Этот ужас начинал душить ее. И однажды, не так давно, ужас этот просто заставил ее выговориться, иначе она боялась сойти с ума. Разумеется, говорила она с Мананом. Кому-то из девушек довериться ей не позволяла гордость, а старшим жрицам — осторожность. Манан был ни то ни другое, старый верный баран с колокольчиком на шее; ему совсем не важно, что именно она скажет. Но, к ее удивлению, у старика уже был готов ответ ей.
— Давным-давно, — сказал Манан, — знаешь, малышка, еще до того, как наши четыре острова объединились в Империю, и до того, как Империей стал править Король-Бог, в Каргаде существовало много мелких властителей и князей. Они вечно ссорились друг с другом. И, чтобы разрешить свои споры, приходили сюда. Вот как это тогда было. Князья являлись сюда со своей челядью и охраной не только с нашего острова, но и с Карего-Ат, Атнини и даже с Гур-ат-Гура. И все спрашивали тебя, Единственную, как им поступить. И ты должна была пойти к Незанятому Трону и спросить совета у Безымянных. Но так было давно. А потом к власти пришли Короли-Боги, сначала на Карего-Ат, затем вскоре и на Атуане; и теперь они уже четыре или пять человеческих жизней правят всеми четырьмя островами, создав единую Империю. И все изменилось. Король-Бог может самостоятельно и свергнуть строптивого князя, и разрешить любой спор между соперниками. Сам будучи божеством, он, как ты понимаешь, не обязан слишком часто советоваться с Безымянными.
Аре требовалось как следует все это обдумать. Здесь, в пустыне, близ вечных, неменяющихся Камней, время значило не слишком-то много, здесь с начала мира жизнь шла своим чередом, монотонная, неизменная. И Ара не привыкла задумываться о том, что все вещи имеют свойство меняться, а старые отношения между людьми отмирают, уступая место новым. И поверить в то, что это действительно так, ей было нелегко.
— Но могущество Короля-Бога куда меньше могущества Безымянных, которым служу я, — сказала она напряженно.
— Конечно… конечно… Но никто ведь не скажет об этом Королю-Богу прямо в глаза, медовая моя. Или его жрице. — И Манан подмигнул ей.
Поймав взгляд его маленьких карих глазок, Ара подумала о Коссил, Верховной Жрице Короля-Бога, которой боялась с самого первого своего дня здесь, и поняла, что именно хотел сказать Манан.
— Но ведь Король-Бог и его люди совсем перестали поклоняться Гробницам. Никто из них здесь больше не бывает.
— Ну, Король присылает сюда узников для жертвоприношений — об этом он не забывает. Да и дары, что он приносит Безымянным…
— Дары! Его собственный храм каждый год красят заново, у него алтарь из чистого золота — мер сто ушло, наверно! И лампы в его храме заправляют розовым маслом! А посмотри на Тронный Храм — кровля вся в дырах, купол вот-вот рухнет, в трещинах живут мыши, совы, упыри… Но он переживет и Короля-Бога, и все его храмы, и всех новых Королей Империи! Мой Храм существовал задолго до появления первого Короля-Бога и будет стоять здесь, когда даже память об этих божествах исчезнет, ибо он — центр мирозданья.
— Да, малышка, это центр мирозданья.
— Храм этот обладает несметными сокровищами. Иногда мне о них рассказывает Тхар. Их там столько, что можно доверху набить десять храмов Короля-Бога и еще останется. Золотые монеты, разные военные трофеи, скопившиеся за сотни поколений. Сокровища эти заперты в колодцах и подвалах глубоко под землей. Жрицы пока не спешат показывать их мне, заставляют меня все ждать и ждать… Но я-то знаю, что там, под самим Тронным Храмом, подо всем Святым Местом, под нами, вот здесь, где мы с тобой стоим, — огромный Лабиринт, невероятное сплетение темных коридоров и тупиков. Лабиринт подобен гигантскому, погруженному во тьму городу во чреве горы. Он полон золота, драгоценного оружия, принадлежавшего героям древности, старинных королевских корон, человеческих костей, прошедших лет и тишины.
Ара была словно в трансе и говорила с необычайным воодушевлением. Манан наблюдал за ней. Его заплывшее жиром лицо никогда не отличалось выразительностью, на нем навсегда застыла равнодушная и слегка настороженная печаль; однако теперь лицо его изменилось: стало значительно печальнее, чем обычно.
— Что ж, хорошо. И ты — хозяйка всего этого, — сказал он. — Хозяйка этой тишины… и этой тьмы.
— Да, хозяйка! Но они же мне ничего не показывают — только те помещения, что находятся над землей, к примеру комнаты за Троном. Они даже до сих пор не показали мне, где вход в Подземелье; только все что-то бормочут себе под нос. Они не пускают меня в мои собственные владения! Почему, ну почему они заставляют меня без конца ждать?
— Ты еще так молода… И, может быть… — сказал Манан своим сиплым женоподобным голосом, — может быть, они просто боятся, малышка. Они там не властны, в конце концов. Это твои владения. Им опасно даже входить туда. Нет такого человека, что не боялся бы Безымянных.
Ара промолчала, однако глаза ее сверкнули. Манан снова дал ей урок, научив видеть вещи иначе. Ах, какими недосягаемыми, холодными и уверенными в себе казались ей всегда Тхар и Коссил! Она и представить себе не могла, что Верховные Жрицы способны чего-то бояться. И все же Манан прав. Они боятся Подземелья, боятся тех могущественных сил, частью которых является Ара и которым принадлежит. Они боятся, что темнота подземных туннелей поглотит их.
И вот теперь, спускаясь впереди Коссил с крыльца Малого Дома, а потом поднимаясь на вершину холма по извилистой тропинке, ведущей к Тронному Храму, она вспоминала тот свой разговор с Мананом и торжествовала. Неважно, куда именно ее отведут и что ей покажут: бояться она все равно не станет. Она знает свой путь.
Следуя за ней по тропе, Коссил заговорила:
— Одной из твоих обязанностей, госпожа, как известно, является принесение в жертву узников, преступников из благородных семей, святотатством или предательством оскорбивших Господа нашего Короля.
— Или Безымянных, — сказала Ара.
— Верно. Пока Поглощенная не достигнет зрелости, не годится ей самой исполнять этот долг. Но ты, моя госпожа, больше не дитя. В Комнате Узников есть несколько человек, которых прислали сюда месяц назад милостью Короля-Бога из Авабатха.
— Я не знала, что узники уже доставлены. Почему мне не сообщили об этом?
— Узников привозят по ночам, тайно, в согласии с обрядом, установленным древними служительницами Гробниц. Моя госпожа, тебе следует идти вдоль этой стены, чтобы попасть к тайной двери.
Ара свернула со знакомой тропы и пошла вдоль могучей каменной стены, отделявшей тот участок, где возвышались черные Камни. Глыбы, из которых была сложена стена, поражали своей массивностью: самая маленькая весила куда больше взрослого человека, а самые большие размером превосходили карету. Казалось бы, совершенно бесформенные, они тем не менее были тщательно подогнаны, притерты друг к другу и скреплены раствором. Но все же верхняя часть стены кое-где успела разрушиться, и там огромные куски скалы лежали как придется. Такое могли сотворить лишь безжалостное время, долгие века, бесконечная череда сменяющих друг друга жарких дней и ледяных ночей пустыни, тысячелетия, в течение которых неощутимо изменились даже сами эти холмы.
— На эту стену очень легко взобраться, — заметила Ара.
— У нас здесь не хватает мужчин, чтобы восстановить ее, — ответила Коссил.
— Зато у нас хватает мужчин, чтобы ее охранять.
— Но это всего лишь рабы. Им доверять нельзя.
— Им можно было бы доверять, если как следует запугать их. Пусть наказание для них, как и для любого осквернителя Святой Земли, будет одинаковым.
— Каким же? — Коссил спрашивала не для того, чтобы узнать ответ. Она давно уже сама научила Ару, что в этом случае следует отвечать.
— Пусть все они будут обезглавлены перед Троном.
— Неужели моя госпожа хочет, чтобы какие-то рабы влезли на священную стену, окружающую Гробницы Атуана?
— Да, я так хочу, — ответила девушка. От напряжения она стиснула пальцы, скрытые длинными рукавами черного платья. Она знала, что Коссил не желает отпускать рабов ни охранять эту стену, ни чинить ее. Впрочем, это действительно было никчемное занятие, но тогда для чего же вообще эти люди присланы сюда? Вряд ли кто-то случайно или намеренно станет бродить в окрестностях Святого Места. Да его же сразу заметят! Он просто не сможет подобраться к Гробницам. И все же охрана Гробниц — дело чести. У Коссил не хватило доводов, чтобы возразить Аре, и она вынуждена была подчиниться.
— Здесь, — произнесла Коссил ледяным тоном.
Ара остановилась. Она и прежде часто ходила по этой тропе вдоль стены и хорошо ее знала, как, впрочем, почти каждый клочок земли вокруг храмов, каждую колючку, каждый кустик чертополоха. Каменная стена в три человеческих роста высотой была слева; справа склон холма постепенно спускался в сухую лощину, за которой вскоре снова начинался подъем — первые отроги западных гор. Ара внимательно осмотрелась, но нового так ничего и не увидела.
— Под красными камнями, госпожа.
Чуть ниже по склону выход красной лавы на поверхность образовал нечто вроде маленького утеса или уступа. Когда Ара спустилась туда и встала лицом к красному уступу, то заметила наконец нечто, похожее на грубо вырубленную низенькую дверцу; войти в нее можно было лишь согнувшись.
— Что нужно сделать?
Она уже давно усвоила, что в священных местах не стоит и пытаться открыть, скажем, потайную дверцу, если не знаешь, как это сделать.
— У моей госпожи есть ключи от всего Лабиринта.
С момента своей инициации Ара стала носить на поясе железное кольцо, где висел маленький кинжал и тринадцать ключей; одни — длинные и тяжелые, другие — совсем маленькие, не больше рыболовного крючка. Она перебирала ключи.
— Вот этот, — указала пальцем Коссил и ткнула этим же пальцем в маленькую трещинку меж двумя камнями, покрытыми мхом.
Ключ — длинный железный стержень с двумя бороздками, украшенный резьбой, — легко вошел в отверстие. Ара обеими руками с трудом повернула его, и он не сразу, но неожиданно легко повернулся.
— А теперь?
— Нужно вместе…
Вместе они налегли на скалу и стали толкать ее куда-то влево. Тяжело, но без малейшей заминки и почти совсем бесшумно скала подалась, и приоткрылась узкая щель, за которой было совершенно темно.
Ара шагнула и вошла внутрь.
Коссил, женщина грузная, в тяжелых одеждах, с трудом протиснулась в узкую щель за ней следом. Оказавшись внутри, она сразу же налегла на дверцу спиной и с явным напряжением ее захлопнула.
Их окружала чернота. Ни огонька. Казалось, тьма лежит на открытых глазах подобно влажному войлоку.
Они совсем скрючились, согнулись чуть ли не вдвое под давящими низкими сводами, где выпрямиться было невозможно. И коридор был так узок, что Ара, шаря в темноте руками, тут же наткнулась на влажные каменные стены справа и слева от себя.
— Ты захватила свечу, Коссил?
Она прошептала это — в темноте люди почему-то всегда понижают голос.
— Нет, — ответила Коссил у нее за спиной. Она тоже говорила шепотом, и все же в голосе ее Ара уловила какую-то странную насмешку. Коссил никогда не улыбалась при свете. У Ары екнуло сердце, кровь застучала у самого горла. Она яростно сказала себе: «Это мое место. Я принадлежу Им. Я не боюсь». Вслух же она не сказала ничего. И двинулась вперед.

Идти можно было только в одном направлении — внутрь и вниз. Коссил, тяжело дыша, следовала за ней; одежда ее шуршала и цеплялась за неровные каменные стены и выбоины в полу.
Внезапно стало гораздо просторнее: Ара смогла выпрямиться во весь рост и, раскинув руки в стороны, стен не коснулась. Тяжелый, пахнущий землей воздух показался ей более холодным и влажным; в нем ощущалось некое слабое движение, какой-то сквозняк, словно в обширном, неправильной формы помещении. Ара сделала несколько осторожных шажков вперед, в черноту, плотной стеной окружавшую их. Какой-то камешек со стуком выскользнул из-под ее сандалии, породив многократное эхо, не умолкавшее несколько минут и удаляющееся вглубь по невидимым коридорам. Подземелье, видно, было поистине огромным, но не пустым: что-то там, в темноте, разбивало эхо на тысячу отзвуков.
— Здесь мы, должно быть, прямо под Камнями, — сказала Ара шепотом, и шепот ее полетел во тьму и расслоился на множество звуковых нитей, тонких, как паутина, которые довольно долго еще липли к слуху.
— Да. Это храмовое Подземелье. Идем дальше. Я не могу оставаться здесь. Следуй вдоль этой стены налево. Пропусти три прохода.
Шепот Коссил звучал как шипение змеи, ему маленькими змейками вторило неумолчное эхо. Коссил боялась. Ей по-настоящему было очень страшно здесь, в царстве Безымянных, спящих в своих гробницах, в темноте Священного Лабиринта. Она была здесь чужой, она не смела распоряжаться здесь.
— В следующий раз я приду сюда с факелом, — сказала Ара, на ощупь продвигаясь вдоль стены подземного коридора и дивясь странной формы каменным выступам и впадинкам — какой-то удивительной резьбе, то кружевной с острыми краями, то довольно грубой, а кое-где идеально гладкой, словно художественное литье: это, конечно же, старинные скульптуры, решила она. Возможно, все Подземелье — плод работы древних мастеров, живших в незапамятные времена.
— Свет здесь запрещен! — Шепот Коссил прозвучал резко.
Даже не дослушав ее, Ара поняла, что так оно и должно быть. Здесь было самое сокровенное убежище Тьмы, самое средоточие Ночи.
Три раза пальцы ее нащупывали провалы в стене — куда-то в непроницаемую тьму. На четвертый раз она, ощупав руками высоту и ширину коридора, свернула в него. Коссил шла следом.
Туннель вел снова чуть вверх; они миновали один проход слева и затем у развилки пошли направо, ощупывая стены и полагаясь лишь на интуицию и память в ослепляющей темноте и оглушающей тишине. Этот коридор был достаточно узок, чтобы все время касаться обеими руками стен и не пропустить ни одного проема, которые здесь необходимо было считать, чтобы не сбиться с пути. Осязание служило здесь зрением; дорогу нельзя было увидеть, но можно было нащупать.
— Это уже Лабиринт?
— Нет. Пока все еще Священное Подземелье, то, что под Храмом.
— А где вход в Большой Лабиринт?
Аре нравилась эта игра в темноте; ей хотелось разгадывать все более и более трудные загадки.
— Второй проем в стене, вдоль которой мы шли, когда были под Камнями. Теперь справа должна быть дверца, деревянная, возможно, впрочем, что мы ее уже пропустили…
Ара слышала, как Коссил неловко шарит руками по стене, задевая ногтями грубый камень. Девушка легко скользнула кончиками пальцев по холодным плитам и через мгновение ощутила гладкую деревянную поверхность. Она нажала на нее, и дверь, скрипнув, легко отворилась. На мгновение Ара застыла, совершенно ослепнув от света.
Они вошли в большую низкую комнату со стенами из отесанных каменных плит, освещенную одним-единственным факелом, свисающим с цепи. Комната была заполнена факельным дымом, который не находил выхода. У Ары защипало глаза и потекли слезы.
— Где же узники?
— Там.
Наконец она осознала, что три непонятные кучи на полу в дальнем конце комнаты и есть люди.
— Эта дверь не заперта. Разве здесь нет стражи?
— Стражи не требуется.
Ара сделала несколько шагов, неуверенно вглядываясь в дымную мглу. Каждый из узников был прикован за обе лодыжки и за одно запястье к большому кольцу, вделанному в стену. Если ему хотелось прилечь, то
прикованная рука все равно оставалась задранной кверху. Волосы и бороды узников превратились в сплошной колтун и так отросли, что совершенно скрывали их лица, и без того плохо различимые в темноте. Один из этих людей полулежал, двое других то ли сидели, то ли просто присели на корточки. Все были совершенно нагими. Запах от них исходил такой, что перешибал даже факельную гарь.
Один из узников, похоже, наблюдал за Арой: ей показалось, что глаза его как-то особенно блеснули. Остальные даже не пошевелились и голов не подняли. Ара отвернулась.
— Это больше не люди, — сказала она.
— Они ими никогда и не были. Это демоны, чудовища, вступившие в сговор против Короля-Бога! — В блестящих глазах Коссил отражался красноватый факельный свет.
Ара снова посмотрела на узников — со страхом и любопытством одновременно. Разве может человек осмелиться пойти против божества?
— Как это ты, к примеру, смог поднять руку на живого Бога?
Тот, что наблюдал за ней исподтишка, только глянул сквозь спутанную копну волос и ничего не сказал.
— Языки у них отрезаны еще до того, как их отослали сюда из Авабатха, — пояснила Коссил. — Не говори с ними, госпожа. Они сеют вокруг себя скверну. Ты можешь как угодно распоряжаться узниками, но ни разговаривать с ними, ни смотреть на них, ни думать о них не надо. Ты должна отдать их Безымянным.
— Каким способом следует принести их в жертву?
Ара на узников больше не смотрела. Она повернулась к Коссил, черпая силы в ее массивной фигуре, в холодном, спокойном голосе. У нее кружилась голова, ее тошнило от факельного угара и чудовищной вони, но со стороны казалось, что Ара думает и говорит совершенно спокойно. Разве в своей прежней жизни не совершила она множества жертвоприношений?
— Жрица Гробниц лучше остальных знает, как умертвить жертву, чтобы доставить удовольствие своим Хозяевам. Так что право выбора за тобой. Существует множество способов…
— Пусть Гобар, капитан стражи, отсечет им головы. А кровь будет пролита на пол перед Троном.
— Как если бы приносили в жертву козу? — Коссил, казалось, насмехается над недостатком ее воображения. Ара тупо молчала. Коссил продолжала: — Кроме того, Гобар — мужчина. Ни один мужчина не смеет входить в Священное Подземелье, и, разумеется, моя госпожа помнит об этом? Если мужчина войдет сюда, то никогда не выйдет…
— Кто доставил узников сюда? Кто их кормит?
— Мои телохранители, Дьюби и Уахто: они евнухи и могут совершать здесь жертвоприношения в честь Безымянных, как могу это и я. Солдаты Короля-Бога оставили узников привязанными с внешней стороны стены, а я с телохранителями провела их сюда через Дверь Узников, что посреди Красных Камней. Так делалось всегда. Пищу и воду для них спускают через дверь-ловушку, что находится за Троном.
Ара посмотрела вверх и увидела, что цепь, на которой висит факел, прикреплена к деревянной квадратной раме, вделанной в каменный потолок. Отверстие было слишком мало, чтобы через него мог пролезть человек, но веревка с корзиной должна была опуститься как раз рядом со средним узником.
— Пусть им больше не приносят ни еды, ни питья. Пусть уберут факел.
Коссил поклонилась.
— А куда девать их тела, когда они умрут, госпожа моя?
— Пусть Дьюби и Уахто похоронят их в том большом подземелье, через которое мы проходили, — в том, что под Камнями, — быстро сказала девушка странным звенящим голосом. — Пусть сделают это в темноте. Мои Хозяева поглотят тела жертв.
— Все будет исполнено.
— Теперь хорошо, Коссил?
— Хорошо, госпожа.
— Тогда давай уйдем отсюда, — сказала Ара совсем тоненьким голоском. Повернувшись, она поспешила назад к деревянной двери, прочь из Комнаты Узников, во тьму туннеля, который принес ее душе тишину и отраду и был похож на беззвездную ночь, когда не слышно ни единого вздоха, не видно ни единого огонька, не чувствуется ни малейших проявлений жизни. Она погрузилась в чистую темноту, как в воду, и двинулась вперед, разрезая ее, словно пловец. Коссил, задыхаясь, поспешала сзади, все больше отставая, все чаще спотыкаясь. Без малейших колебаний Ара повторила весь путь в обратном направлении, точно запомнив все пропуски и повороты; прошла вдоль стены наполненного гулким эхом Подземелья под Гробницами, согнувшись в три погибели, преодолела последний коридор и вышла к закрытой двери. Там, совсем скрючившись, она отыскала длинный ключ у себя на поясе. В сплошной непроницаемой стене перед ней не было ни малейшего просвета. Пальцы ее скользнули по поверхности двери, отыскивая скважину или хоть какой-нибудь болт или ручку, но ничего не нашли. Куда же вставляется ключ? Как им выбраться наружу?
— Госпожа! — Голос Коссил, размноженный эхом, шипел и гулко разносился далеко позади.
— Госпожа, дверь нельзя открыть изнутри. Здесь нет выхода наружу. Этим путем вернуться нельзя.
Ара прижалась к скале. Говорить она не могла.
— Ара!
— Я здесь.
— Иди за мной.
Она пошла. Поползла на четвереньках, словно собака, и уцепилась за юбку Коссил.
— Направо. Скорее! Я не должна здесь задерживаться. Мне здесь не место. Следуй за мной.
Ара поднялась на ноги, по-прежнему держась за платье Коссил. Они пошли вперед вдоль покрытой странными резными изображениями стены подземелья, потом направо и — довольно не скоро — свернули в черный коридор, ведущий во тьму. Теперь они все время поднимались куда-то по коридорам, по лестницам, и Ара так и не выпускала платье Коссил из рук. Глаза ее были закрыты.
Наконец она почувствовала свет, казавшийся красным из-за плотно сжатых век. Ара подумала было, что это снова Комната Узников, и никак не хотела открывать глаза. Но тут в лицо ей сладостно пахнул сухой воздух Храма, знакомый, чуть приправленный плесенью; ноги ее ступили на крутую, почти отвесную лесенку. Она наконец отпустила платье Коссил и огляделась. Над ее головой была открыта очередная дверь-ловушка. Она вслед за Коссил протиснулась в нее. Дверка вела в знакомую ей комнату, маленькую каменную келью позади Трона, где хранились какие-то ящики и железные сундуки. За дверями Храма мерцал дневной свет, серый и тусклый.
— Через ту дверь, что ведет в Комнату Узников, можно только войти. Выйти нельзя. Единственный выход здесь. Если из Лабиринта и есть еще какой-нибудь выход, то ни мне, ни Тхар ничего о нем не известно. Ты должна его непременно запомнить — если отыщешь случайно. Но я не думаю, что есть еще хоть один.
Коссил говорила по-прежнему еле слышно и с нескрываемой враждебностью. Ее обрюзгшее лицо под черным капюшоном было бледным и мокрым от пота.
— Я не помню, сколько поворотов и где нужно сделать, чтобы выйти из Лабиринта.
— Я их тебе назову. Но только один раз. И ты должна запомнить. Впредь я с тобой не пойду. Мне не годится бывать здесь. Ты должна ходить сюда одна.
Девушка кивнула. Она посмотрела на Коссил и подумала: как странно она выглядит — белая от ужаса, но все же торжествующая, словно тайно радуется ее слабости.
— В следующий раз я пойду одна, — сказала девушка и, отворачиваясь от Коссил, вдруг поняла, что ноги больше не держат ее, почувствовала, как комната поплыла и перевернулась вверх дном, а потом черной бесформенной массой рухнула без чувств прямо к ногам старой жрицы.
— Ничего, научишься, — сказала Коссил, все еще тяжело дыша и не двигаясь с места. — Научишься.
Глава 4
Сны и легенды
Несколько дней Ара была нездорова. Ее лечили якобы от лихорадки. Она большей частью лежала в постели или сидела на крыльце, греясь в лучах нежаркого осеннего солнышка и глядя на западные горы. Она чувствовала себя слабой и глупой, в голове крутились одни и те же мысли. Ей было нестерпимо стыдно, что она тогда упала в обморок. Ни одного охранника так и не появилось на стене у Гробниц, однако теперь она бы ни за что не осмелилась спрашивать Коссил, почему та не выполнила приказа. Она вообще не хотела больше видеть Коссил — никогда! И все потому, что тогда так позорно лишилась чувств.
Часто, сидя на солнышке, она обдумывала, как станет вести себя в следующий раз в Священном Подземелье и какой смертью прикажет умертвить следующую партию узников. Она постарается выбрать более изощренную казнь, соответствующую тем мрачным обрядам, что вершатся у Незанятого Трона.
Каждую ночь в темноте она просыпалась от собственного крика: «Они ведь до сих пор не умерли! Они все еще умирают!»
Ей снилось множество разных снов. Ей снилось, что она должна готовить еду — огромные котлы, полные вкусной каши, — и выливать ее в дыру в полу. Ей снилось, что она в полной темноте должна отнести огромный медный кувшин, полный воды, кому-то, умирающему от жажды. Но так и не могла добраться до этого человека. Она просыпалась и сама мучилась жаждой, но не вставала, чтобы напиться. Так и лежала без сна, с открытыми глазами в своей лишенной окон келье.
Однажды утром ее пришла навестить Пенте. Ара с крыльца увидела, как Пенте идет к Малому Дому с беззаботно-рассеянным видом, будто забрела сюда случайно. Если бы Ара не окликнула ее, Пенте сама ни за что не поднялась бы на крыльцо. Но Ара измучилась в одиночестве и заговорила первой.
Пенте низко поклонилась ей — как и все, кто приближался к Единственной Жрице Гробниц, — и тут же как ни в чем не бывало шлепнулась на ступеньку чуть ниже Ары и шумно выдохнула воздух: «Уфф!» Она выросла и пополнела; от любого усилия щеки ее тут же покрывались темно-вишневым румянцем, и теперь, после быстрой ходьбы, они прямо-таки пылали.
— Ты, я слышала, болеешь. Я тут тебе яблочек приберегла, — она быстрым жестом извлекла откуда-то из-под своей необъятной черной хламиды грубую плетенку с несколькими отличными желтыми яблоками. Пенте теперь была посвящена Королю-Богу и состояла в команде Коссил; но жрицей пока еще не стала и по-прежнему посещала уроки и разучивала священные гимны вместе с новичками. — В этом году нам с Поппе выпало яблоки перебирать, а самые лучшие я отложила для тебя. Здесь вечно самые лучшие высушивают. Конечно, так хранить их удобнее, но все равно ужасно жалко… Правда, они красивые?..
Ара пощупала бледно-золотистую матовую шкурку яблока с неотломанным сучком, на котором сохранились скрученные в трубочку коричневые листики.
— Да, очень.
— Съешь яблочко, — предложила Пенте.
— Не сейчас. Съешь ты.
Пенте из вежливости выбрала самое маленькое и моментально съела, с упоением похрустывая сочной мякотью.
— Я целыми днями могу есть, — сказала она. — Мне все мало. Мне бы поварихой быть, а не жрицей. Уж я бы готовила получше, чем скряга Натхабба; а еще можно было бы горшки вылизывать… Ой, ты слышала о Мунитх? Ей было велено отполировать бронзовые кувшины с пробками, в которых хранят розовое масло, — знаешь, такие длинногорлые. А Мунитх решила, что изнутри тоже нужно все протереть, и сунула руку с тряпкой внутрь, представляешь? И не могла вытащить обратно. Она и так и сяк старалась, рука у нее вся раздулась и в запястье опухла, так что стало еще хуже. Она прямо-таки в ловушку попала. Испугалась и давай бегать по всему дому с криками: «Не могу вытащить! Не могу вытащить!» А Пунти теперь стал совсем глухим и решил, что начался пожар. Тут он разошелся и погнал телохранителей спасать новичков! А Уахто в это время доил коз и на минутку выбежал из сарая посмотреть, в чем дело; ну а дверь-то оставил открытой, и все молочные козы разбежались по двору и стали носиться, бодать Пунти, евнухов и малышню. Тут Мунитх наконец содрала этот дурацкий кувшин с руки и разревелась, как дура, и вся эта кутерьма продолжалась до тех пор, пока из Храма не пришла Коссил. И говорит: «В чем дело? Что здесь происходит?»
Пенте тщетно пыталась сопротивляться рвущемуся наружу смеху и сохранять мрачно-серьезную мину на своем милом круглом личике, пытаясь подражать Коссил, но все равно у нее получалось ужасно похоже, так что даже Ара рассмеялась — только каким-то испуганным, нервным смехом.
— «В чем дело? Что здесь происходит?» — говорит Коссил, и тут… тут бурый козел как боднет ее!.. — Пенте прямо-таки зашлась от смеха, на глазах у нее выступили слезы. — А М-м-Мунитх как стукнет… как стукнет козла своим кувшином!..
Обе подруги повалились на спину, потом от смеха согнулись пополам, задыхаясь и обхватив колени руками.
— И тут Коссил оборачивается и снова говорит: «В чем дело? Это еще что такое?», а перед ней… козел!.. козел!.. — Конец истории потонул в раскатах смеха. Наконец Пенте вытерла глаза и нос и рассеянно уставилась на одно из яблок.
От хохота Ару начало немножко знобить. Она постаралась успокоиться и, немного помолчав, спросила:
— Как ты оказалась здесь, Пенте?
— О, я была шестой дочкой в семье, так что родителям моим просто не под силу было бы вырастить стольких девиц и выдать их потом замуж. А потому, когда мне исполнилось семь лет, меня привели в Храм и посвятили Королю-Богу. Это было в Оссаве. Но, по-моему, там в тот год новичков оказалось слишком много, и довольно скоро я попала сюда. А может, они считали, что я стану особенно хорошей жрицей или кем-нибудь в этом роде? Только тут они ошибались! — Пенте все-таки надкусила яблоко с веселым и одновременно печальным выражением лица.
— А ты не хотела становиться жрицей?
— Не хотела? Конечно! Я бы лучше замуж за свинопаса вышла и жила бы с ним в канаве. Я бы лучше что угодно сделала, лишь бы не помирать с тоски в этой пустыне проклятой, среди сплошных женщин. Сюда ведь никто даже не заходит! Да чего там — только хуже от этих мечтаний! Я ведь уже и обряд посвящения прошла, и клятвой связана… Но я все-таки надеюсь — правда-правда! — что в следующей своей жизни непременно стану танцовщицей в Авабатхе! Уж к этому времени я такую участь заслужу!
Ара смотрела на Пенте мрачно и спокойно. Она ее не понимала. Ей казалось, что она никогда раньше по-настоящему Пенте не видела, просто никогда по-настоящему на нее не смотрела — вот и не видела, какая она кругленькая, полная жизненных соков, как похожа на одно из этих замечательных золотистых яблок.
— А Святое Место хоть что-нибудь значит для тебя? — спросила Ара довольно резко.
Пенте, которую обычно легко было подчинить, сбить с толку, на этот раз не проявила ни малейшего волнения.
— О, я понимаю, что для тебя твои Хозяева очень важны, — сказала она, но столь равнодушно, что Ара вздрогнула. — По крайней мере, в этом хоть есть какой-то смысл: ведь ты их Единственная Жрица. Тебя не просто отдали кому-то в услужение, ты именно для этого родилась. А посмотри на меня? Разве от меня можно ожидать священного трепета и тому подобной ерунды? В конце концов, Король-Бог — всего лишь человек, и пусть даже он живет в Авабатхе в огромнейшем дворце под золотой крышей. Ему не меньше пятидесяти, и он совсем лысый. Это даже на всех его статуях видно. И, клянусь, ему приходится стричь ногти на ногах, как и всем прочим смертным. Да, я знаю, что он одновременно еще и Бог. Но вот что я думаю: он будет куда божественнее, когда умрет.
Ара была согласна с Пенте, потому что втайне уже и сама пришла к выводу, что все эти самозванцы, Божественные Императоры Каргада, — просто выскочки, фальшивые боги, пытающиеся присвоить славу и достоинство подлинных и вечных: Правителей Мира. Но с чем-то, стоящим за словами подруги, она согласиться не могла — с чем-то совершенно для нее новым, пугающим. Она еще не осознала, насколько разнятся между собой люди, сколь по-разному воспринимают они жизнь. Она чувствовала себя так, как если бы вдруг, подняв глаза, увидела прямо перед собой новую планету, огромную и густонаселенную; прямо за привычным окном — совершенно новый мир, такой, где боги не имеют никакого значения. Она была до глубины души уязвлена стойким неверием Пенте. И, уязвленная, нанесла ответный удар:
— Это все верно. Мои Хозяева умерли много-много лет тому назад, и Они никогда не были людьми… А ты знаешь, Пенте, я ведь могу и тебя призвать на службу Гробницам. — Она говорила миролюбиво, словно предлагая подруге нечто лучшее, чем теперь.
Вишневый румянец тут же исчез со щек Пенте.
— Да, — сказала она, — это ты можешь. Но я не… я не гожусь для службы Гробницам.
— Почему?
— Я боюсь темноты, — тихонько проговорила Пенте.
Ара слегка фыркнула: она была довольна. Она оказалась права: Пенте может не верить в своих богов, но она боится не имеющих имени сил Тьмы — как и каждый смертный.
— Ты ведь знаешь, что я не стану этого делать, если ты сама не захочешь, — сказала Ара.
Повисло длительное молчание.
— Ты становишься все больше и больше похожа на Тхар, — сказала Пенте, как всегда мягко и спокойно-мечтательно. — Слава Богу, что еще не на Коссил!.. Но ты все-таки очень сильная! Я бы тоже хотела быть сильной. Но я так люблю покушать…
— Ну так вперед! — весело сказала Ара, чувствуя себя значительно старше и умнее, и Пенте медленно съела третье яблоко, вместе с семечками.
Необходимость исполнять бесконечные обряды в Храме уже через несколько дней заставила Ару покинуть свое уединенное жилище. К тому же у одной из коз не ко времени родилась двойня, и козлят следовало непременно принести в жертву Богам-Близнецам: это был очень важный ритуал, требовавший присутствия Единственной. Ночи были безлунными, и перед Незанятым Троном также должна была состояться церемония почитания Тьмы. Ара дышала опьяняющими благовониями и танцевала перед Троном — одна и в полной темноте. Она танцевала для невидимых мертвых и нерожденных душ, и во время танца души собирались в воздухе вокруг нее, следуя кружению ее тела, медленным и уверенным движениям рук. Она пела священные песни, которых не понимал никто и которые она выучила давным-давно звук за звуком от Тхар. Хор жриц, спрятанный во тьме за двойным рядом колонн, вторил ей, произнося те же странные слова, и воздух в огромном полуразрушенном Храме гудел от непривычных звуков, словно собравшиеся там духи снова и снова повторяли слова священного песнопения.
Король-Бог из Авабатха больше не присылал узников в Святое Место, и постепенно Аре перестали сниться те трое, которых давно уже погребли в неглубоких могилах огромного Лабиринта.
Она призвала все свое мужество, чтобы снова пойти туда. Она должна была сделать это: Жрица Гробниц обязана входить в свое царство без страха; обязана знать там каждый поворот, каждый камень.
Когда Ара в первый раз одна вошла в дверь-ловушку, ей было очень страшно, но все же не так, как она думала.
Ей удалось приучить себя к мысли, что войти одной в Лабиринт необходимо, и спуск туда даже немного ее разочаровал: бояться оказалось нечего. Там могли встретиться могилы, но она их не видела во тьме. Тьма царила здесь, тьма и тишина. И больше никого.
Каждый день Ара спускалась в Священное Подземелье через дверь-ловушку, находившуюся за Троном. Она старательно изучала Малый Лабиринт, пока не запомнила всю систему его коридоров со странными, покрытыми барельефами стенами настолько хорошо, насколько вообще можно запомнить то, чего не видишь. Она передвигалась только вдоль стен, чтобы не утратить чувства направления в темноте и не потерять путь. Ибо — это она усвоила еще в тот, самый первый раз — очень важным здесь было знать, сколько поворотов ты совершил, сколько миновал и сколько еще осталось. Главное — не сбиться со счета, потому что на ощупь все коридоры кажутся одинаковыми. У Ары была хорошо тренированная память, ей было не так уж трудно запомнить нужное число поворотов и пропусков, причем на ощупь, а не с помощью зрения и логики. Вскоре она прекрасно ориентировалась в Малом Лабиринте — той части подземелья, которая располагалась под Гробницами и Храмом. Но был один коридор, куда она не сворачивала никогда: второй налево от двери в Красной скале; он вел туда, откуда она могла бы никогда не найти выхода, — в Большой Лабиринт. Ее бесконечно тянуло войти в этот коридор, идти дальше и дальше, и желание это день ото дня все росло, но она сдерживала его до тех пор, пока не выспросила все, что могла, о Большом Лабиринте у Тхар.
Тхар знала немного; разве что названия отдельных комнат и перечень пропусков и поворотов, которые нужно было запомнить, чтобы попасть в известные ей помещения. Она рассказывала все это Аре, но никогда не рисовала путь — ни на земле, ни в воздухе; и сама никогда по этим коридорам не ходила, никогда в Большой Лабиринт не спускалась. Но если Ара спрашивала ее, например: «Как пройти от железной двери в Расписную Комнату?» или «Как попасть из Зала Скелетов в туннель вдоль реки?», Тхар, помолчав, начинала на память перечислять нужное количество поворотов и пропусков, которые когда-то давным-давно узнала от той Ары-Что-Была: столько-то перекрестков пройти, столько-то раз повернуть налево и так далее, и тому подобное. И все это Ара запоминала на слух, и притом обычно с первого раза. Лежа по ночам в постели, она без конца повторяла и повторяла про себя эти маршруты, представляя, что движется из зала в зал по коридорам, совершает один поворот за другим.
Тхар показала Аре множество смотровых глазков, через которые видны были отдельные части Лабиринта; глазки имелись во всех строениях и храмах Святого Места, они были даже за стеной, среди камней и скал. Паутина каменных туннелей распространялась далеко за пределы Святого Места; там, во тьме, можно было бродить месяцами. Никто, кроме Ары, двух Верховных Жриц и их личных телохранителей, евнухов Манана, Уахто и Дьюби, не знал о том, что повсюду, подо всей территорией самого Святого Места и вокруг, протянулись под землей мрачные туннели Лабиринта. Среди людей, правда, ходили смутные слухи о расположенных под Гробницами подземных пещерах или залах. Но никто не проявлял особого любопытства в том, что как-либо касалось Безымянных, их Храма и Гробниц. Возможно, людям казалось, что, чем меньше они знают об этом, тем безопаснее. Ара же не могла сдержать любопытства и, зная, что везде существуют наблюдательные глазки, давно уже искала их; однако они были настолько хорошо замаскированы, что она так ни одного и не нашла, даже того единственного, что находился в Малом Доме, пока его ей не показала Тхар.
Однажды ночью ранней весной Ара взяла фонарь и, не зажигая его, спустилась в Подземелье, прошла под Гробницами к заповедному второму повороту налево, что находился в коридоре недалеко от входа у Красной скалы.
В темноте она сделала еще шагов тридцать и нащупала что-то вроде дверного проема — железную раму, вделанную в камень: до сих пор это был предел ее путешествий. Но теперь, миновав Железную Дверь, Ара долго шла по туннелю, а у первого поворота вправо зажгла фонарь и осмотрелась. Свет в Большом Лабиринте был разрешен; это было не настолько священное место, как Подземелье под Гробницами. Впрочем, место это было еще страшнее: чудовищная паутина Большого Лабиринта раскрылась перед ней. Стены, своды, пол — все было из грубого камня; ее, стоявшую в крошечном кружке света, со всех сторон окружал камень. Воздух был мертвым. Перед ней и позади — чернота бесконечного туннеля.
Коридоры казались одинаковыми; они пересекались, сливались, расходились в разные стороны. Ара, как всегда старательно, считала вслух повороты и пропуски, сопоставляя с тем, что рассказывала ей Тхар, наставления которой помнила великолепно. Заблудиться в Большом Лабиринте было равносильно смерти. В Священном Подземелье и коротких ближних коридорах Лабиринта Коссил и Тхар еще могли бы ее отыскать; Манан тоже знал путь, потому что Ара несколько раз брала его туда с собой. Здесь же никто из них никогда не бывал: только она одна. И мало ей будет проку, даже если они спустятся в Малый Лабиринт и станут там звать ее во весь голос; она все равно будет блуждать по головоломным сплетениям туннелей где-нибудь совсем рядом, но выйти к ним не сможет. Она представила, что уже слышит эхо зовущих ее голосов в каждом коридоре и пытается выбраться к людям, но только запутывается еще больше. И так живо представила она себе эту картину, что даже остановилась: ей показалось, что она слышит далекий, зовущий ее голос. Ничего! Она не заблудится! Она очень осторожна; все это — ее владения. Силы Тьмы, Безымянные, станут руководить здесь каждым ее шагом точно так же, как не допустят вторжения кого-либо еще из смертных в свою обитель.
В тот первый раз она не пошла далеко, но все-таки прошла достаточно, чтобы в душе возникла странная, горьковатая, но все же приятная уверенность в своем полном одиночестве; именно эта уверенность приводила ее сюда снова и снова, и каждый раз она заходила все дальше и дальше. Наконец она добралась до Расписной Комнаты, до Перекрестка Шести Путей, потом по длинному туннелю внешнего круга попала в странный извилистый коридор, который выводил в Зал Скелетов.
— А когда был создан Лабиринт? — спросила она как-то Тхар.
И сухопарая жрица ответила ей:
— Госпожа, я не знаю. Никто этого не знает.
— Для чего же он создан?
— Чтобы спрятать сокровища, принадлежащие Гробницам, а также для наказания тех, кто попытается их похитить.
— Но все сокровища, что я видела, находятся в комнатах за Троном и в Подземелье под Камнями. Что же скрывается в Большом Лабиринте?
— Там несметные и гораздо более древние богатства. Ты хочешь на них посмотреть?
— Да.
— Лишь ты одна можешь войти в Сокровищницу Гробниц. Ты можешь брать с собой телохранителей даже в Большой Лабиринт, но не в Сокровищницу. Если твой Манан только войдет туда, сразу проснется гнев Тьмы; живым из Лабиринта он уже не выйдет. Туда ты должна ходить только одна, всегда одна. Я знаю, где находится Великое Сокровище. Ты рассказала мне, как туда попасть, еще пятнадцать лет назад, перед тем как умерла, чтобы я запомнила и рассказала тебе, когда ты вернешься в этот мир. Я могу напомнить тебе дорогу туда после Расписной Комнаты; а вот этот серебряный ключик с изображением дракона, что висит на твоем кольце, и есть ключ от Сокровищницы. Но ты должна идти непременно одна.
— Расскажи мне, как туда идти.
Тхар рассказала, и Ара запомнила, как запоминала все, что ей говорили. Но почему-то не пошла смотреть на Великое Сокровище Гробниц. Странное чувство незавершенности собственных намерений, или скорее знаний, удерживало ее. А может быть, ей просто хотелось что-то оставить про запас, на потом, чтобы впереди всегда была манящая цель, как бы отбрасывающая свет на стены бесконечных коридоров, то заводящих в тупики, то в пыльные и пустые камеры для несуществующих узников. Нет, она еще немного подождет, она еще успеет увидеть свои сокровища.
В конце концов, разве она не видела их раньше?
Ей все еще порой было немного странно, когда Тхар и Коссил говорили с ней о вещах, которые она якобы видела или говорила до того, как умерла. Она знала, что действительно умерла и потом снова возродилась в новом теле в тот самый час, когда старое ее тело прекратило жить: и возродилась не единожды, пятнадцать лет назад, а возрождалась и пятьдесят лет назад, и еще раньше, и еще много-много раз за многие сотни лет, прожитые многими сотнями поколений людей. Она родилась почти в самом начале времен, когда еще только был создан этот Лабиринт, когда были установлены Камни, когда Самая Первая Жрица Безымянных танцевала в Храме перед Незанятым Троном. Все они были одной Арой; все их жизни слились с ее собственной. Теперешняя Ара была и той Первой Жрицей. Все живые существа способны возрождаться в одном и том же обличье. Так, сотни раз повторяя про себя пути и этого Лабиринта, она наконец добралась до потайной комнаты, дававшей знание.
Порой она думала, что действительно помнит все это. Темное Подземелье под Храмом было так знакомо ей, словно было ее родным домом. Когда она, надышавшись дурманящих благовоний, танцевала в безлунные ночи перед Незанятым Троном, голова ее становилась совсем легкой, а тело больше ей не принадлежало; и она танцевала как бы сквозь века, вечно босая, вечно в черных одеждах, и знала, что танец этот никогда не кончается.
И все-таки всегда было немного странно, когда звучали слова Тхар: «Ты рассказывала мне об этом, прежде чем умерла…»
Однажды Ара спросила:
— Кто были те люди, что пытались ограбить сокровищницу? И удавалось ли это кому-нибудь?
Мысль о таком ограблении казалась ей невероятной, неправдоподобной. Как могли воры тайком пробраться в Святое Место? Пилигримы здесь бывали очень редко, еще реже, чем узники. Порой присылали новых стражников или рабов; иногда группа паломников желала принести святые дары — золото или драгоценный ладан — одному из храмов. И все. Случайно сюда никто не приходил. Или просто из любопытства. Здесь ничем не торговали и ничего не покупали. Даже стащить что-то никто не пробовал. Без веления сверху никто сюда не являлся. Ара даже не знала, далеко ли ближайший город, сколько до него часов или дней пути. Впрочем, городок этот был невелик. Святое Место со всех сторон охраняла и защищала безлюдная пустыня. Любой, кто попытается пройти через нее незамеченным, думала Ара, имеет не больше шансов, чем черная овца на заснеженном поле.
Ара проводила большую часть своего времени в обществе Тхар и Коссил — когда не оставалась одна в Малом Доме или не бродила по Подземелью. Однажды ветреной холодной апрельской ночью они сидели в комнате Коссил с задней стороны Храма Короля-Бога у маленького очага, над которым висел котелок с отваром шалфея. За дверью Манан и Дьюби играли в азартную детскую игру с палочками и фишками: подбрасывали пучок палочек и старались как можно больше поймать тыльной стороной ладони. Ара и до сих пор иногда играла в нее с Мананом — тайком, во внутреннем дворике Малого Дома. Шуршание палочек, невнятное бормотание, приглушенные возгласы восторга или огорчения, слабое потрескивание дров в очаге — только эти звуки окружали трех безмолвных жриц. Вокруг, за стенами, стояла полная тишина, глубокое молчание ночной пустыни. Лишь порой налетал порыв ветра да тяжелые капли дождя стучали по кровле.
— Когда-то давно многие пытались похитить сокровища Гробниц, только никому это не удавалось, — сказала вдруг Тхар. Она хоть и была неразговорчива, однако теперь довольно часто рассказывала всякие интересные истории — под видом наставлений Аре. Сегодня, похоже, из нее вполне можно было вытянуть еще одну.
— Но как могли люди осмелиться?..
— Такие вполне могут, — сказала Коссил. — Это ведь все колдуны были, волшебники с Внутренних Островов. И первые из них являлись сюда еще до того, как Короли-Боги стали править Империей Каргад; мы тогда еще не были так сильны. Волшебники приплывали сюда с запада, высаживались на Карего-Ат и Атуан, грабили города на побережье, грабили фермы, посягали даже на священный город Авабатх. Говорили, что спешат на битву с драконами, а сами занимались грабежом.
— А их «великие герои» даже специально оставались здесь, чтобы орудовать своими мечами, — подхватила Тхар, — и произносить богомерзкие заклятья. Один из них, волшебник и Повелитель Драконов, самый могущественный из всех, попал здесь в беду. Это случилось давно, очень давно, но историю эту помнят хорошо не только у нас. Колдуна этого звали Эррет-Акбе. Он считался королем западных островов и великим мудрецом. Дело было так: он явился в Авабатх и вступил в сговор с некоторыми из не покорившихся Королю правителей. Он сражался на их стороне против самого Верховного Жреца Богов-Близнецов. Долго длилась эта битва у стен столицы — человеческое волшебство против божественных молний, — и храм вокруг них превратился в руины. Наконец Верховный Жрец сломал колдовской посох волшебника и разбил его могущественный амулет, одержав победу. Волшебник спасся бегством, и с островов каргов он бежал через все Земноморье на дальний запад, где был убит впоследствии драконом, ибо волшебной силы своей лишился. С тех пор сила и могущество Внутренних Островов стали слабеть. А Верховный Жрец был назван Интатином, что значит «непобедимый», и стал основоположником рода Тарба, от которого тянется длинная родословная священных Жрецов Карего-Ат, а от них — Королей-Богов Империи Каргад. После битвы Интатина с волшебником могущество нашего государства неустанно росло. Те же, кто пытался потом выкрасть из Сокровищницы половинку амулета Эррет-Акбе, все были колдунами. Они проникли в Лабиринт, но амулет по-прежнему там, куда положил его на хранение Верховный Жрец. Там же лежат и кости грабителей… — Тхар указала себе под ноги. — А другая половина амулета пропала навсегда.
— Как пропала? — изумилась Ара.
— Одна его половина — та, что осталась в руке Интатина, — была передана им в Сокровищницу, где и лежит до сих пор. Другая же осталась у волшебника в руке, и тот, перед своим бегством с Каргадских островов, передал ее одному из бунтовщиков по имени Toper из Гупуна. Не знаю, почему он это сделал.
— Чтобы посеять смуту, чтобы Toper возгордился, — сказала Коссил. — Собственно, так оно и произошло. Потомки Торега вскоре снова восстали против воцарившегося рода Тарба, против нашего первого Короля-Бога, отказываясь признать в нем верховного правителя и божество. Это был проклятый род, околдованный — род Торега. Теперь никого из них в живых не осталось.
Тхар кивнула и прибавила:
— Отец нынешнего Короля-Бога, Тот-Что-Воскрес-Из-Мертвых, искоренил этот род, уничтожив все их владения и замки. И половинка волшебного амулета, хранившаяся у них со времен Эррет-Акбе и Интатина, была утрачена навсегда. Никто не знает, что с ней сталось. Давно это было, очень давно.
— Ее, конечно же, просто выбросили — с виду в ней ничего ценного или особенного не было! Да будет оно проклято, это кольцо Эррет-Акбе! Да будут прокляты все волшебники! — Коссил плюнула в огонь.
— А ты видела ту половину кольца, что хранится в Сокровищнице? — спросила Ара у Тхар.
Тощая жрица покачала головой.
— Она хранится в той части Лабиринта, куда не может попасть никто, кроме Единственной. Возможно, это самое главное сокровище Храма. Не знаю. Но думаю, что так. Ибо многие сотни лет сюда пробираются воры-волшебники с Внутренних Островов, вновь и вновь пытаясь выкрасть его, и воры те проходят мимо открытых сундуков с золотом: им нужна только эта, одна-единственная вещь. Давно жили на свете Эррет-Акбе и Интатин, но все осталось по-прежнему; старую историю по-прежнему помнят и рассказывают по всему Земноморью. Большей частью вещи стареют и утрачивают свой смысл, за долгие века исчезая с лица земли. Очень редко встречается то, что не теряет своей ценности никогда. И очень редки те легенды, которые помнят вечно.
Ара какое-то время размышляла над этими словами.
— Они, должно быть, очень храбрые или слишком глупые, раз осмеливались осквернить святыню. Разве им не ведомо, сколь могущественны Безымянные? — сказала она наконец.
— Нет, — холодно ответила ей Коссил. — Просто у них нет богов. Они умеют колдовать, а потому считают богами самих себя. Но они не боги. И когда умирают, то не возрождаются вновь. И души их, покинув тело, недолго плачут на ветру, пока ветер не развеет прах, ибо души их не бессмертны.
— Но что это за волшебство? — спросила Ара, совершенно очарованная рассказом. Она уже совсем забыла, как однажды заявила Пенте, что и смотреть бы не стала, если бы к берегу их плыли суда волшебников с Внутренних Островов. — Как они все это делают? Как действует их магия?
— Трюки, обман, фокусы, — сказала Коссил.
— И кое-что еще, — добавила Тхар. — Конечно, если в сказках об этом есть хоть доля истины. Волшебники с запада могут поднять ветер и заставить его улечься, а могут заставить его дуть в нужном им направлении. Это-то всем известно; все легенды об этом рассказывают одинаково. Именно благодаря своему умению все они великие мореплаватели. Они могут даже бури морские усмирять. А еще говорят, что они способны вызывать по собственному желанию свет и тьму; умеют превращать простые камни в алмазы, а свинец — в золото; они в мгновение ока могут построить огромный дворец или целый город — по крайней мере, иллюзия будет полной; и еще они умеют превращаться в медведей, рыб или даже драконов, если захотят…
— Не верю я всему этому! — сказала Коссил. — То, что они опасны, знают всякие фокусы и скользкие, как угри, — это точно. Зато говорят, что если у волшебника отнять его посох, то и силы в нем никакой не останется. Возможно, на этих посохах пишутся их проклятые колдовские руны.
Тхар, не согласная с этим, покачала головой.
— У каждого из них действительно в руках волшебный посох, но это лишь инструмент, с помощью которого проявляется та сила, что заключена в самих этих людях.
— Но откуда она в них? — спросила Ара. — Откуда они черпают ее?
— Все это ложь, — сказала Коссил.
— Они знают нужные слова, — сказала Тхар. — Так мне объяснил один человек, который видел великого колдуна с Внутренних Островов, мага, как их там называют. Карги захватили его в плен. Он показал им сухую палку и что-то сказал ей. И… ах! Палка расцвела! Тогда он сказал что-то еще, и… ах! На палке появились красные яблочки. И тут он произнес еще одно слово, и палка, и цветы, и яблоки — все исчезло, а вместе с ними и сам колдун. С помощью одного лишь слова он исчез, как исчезает радуга в небе, — в мгновение ока, без следа. Они так и не нашли его потом. Разве это простые фокусы?
— Дурацкое дело нехитрое, — пробурчала Коссил.
Тхар умолкла, избегая ссоры, но Аре вовсе не хотелось прекращать разговор на столь увлекательную тему.
— А как выглядят эти волшебники? — спросила она. — Правда ли, что они совсем черные и с белыми глазами?
— Они черные и отвратительные. Я никогда ни одного не видела! — с удовлетворением заявила Коссил, поудобнее умащивая свой обширный зад на низенькой табуретке и протягивая руки к огню.
— Да хранят нас от них Боги-Близнецы, — прошептала Тхар.
— Да они больше сюда и не явятся, — откликнулась Коссил.
Дрова в очаге затрещали, дождь застучал по крыше, а за мрачными закрытыми дверями пронзительно взвизгнул Манан: «Ага! Половина моя! Половина моя!»
Глава 5
Свет в подземелье
Близилась зима. Умерла Тхар. Еще летом странная изнуряющая хворь напала на нее; она, и без того худая, стала совсем похожа на скелет; без того молчаливая, совсем почти умолкла. Разве что с Арой говорила она порой, но лишь с глазу на глаз; потом и эти беседы прекратились, и Тхар тихо покинула этот мир. Ара горевала от всей души. Суровая Тхар никогда не была жестокой. И учила Ару ничего не бояться, всегда блюсти собственное достоинство.
Теперь из Верховных Жриц осталась одна Коссил.
Новую жрицу для Храма Богов-Близнецов обещали прислать из Авабатха только весной. До тех пор все обряды там должны были отправлять Ара и Коссил. Пожилая жрица называла девушку «госпожа» и обязана была во всем ей подчиняться. Но Ара уже давно научилась ничего не приказывать Коссил. Она имела на это полное право, но у нее не хватало сил держать в узде ревнивую зависть Коссил, находившейся на более низкой ступени жреческой иерархии, чем Ара, и ее ненависть ко всему и всем, что ей не подчинялось.
Поскольку Ара теперь уже знала (от добросердечной Пенте) о существовании тех, кто не верит в ее богов, среди обитателей Святого Места и принимала это как данность, хоть и пугающую, она научилась смотреть на Коссил более или менее спокойно и даже отчасти понимать ее. В сердце Коссил не было настоящей веры ни в Безымянных, ни в других богов. Кроме власти, для нее не было ничего святого. В данный момент власть находилась в руках Императора Каргада, так что пока в ее глазах он действительно являлся Королем-Богом, и она верно ему служила. Но сами храмы были для Коссил всего лишь декорацией, Священные Камни — просто кусками скалы, Лабиринт — темными норами под землей, страшными, но пустыми. Она бы и Незанятому Трону перестала поклоняться, если б осмелилась. И Единственную уничтожила бы — но пока не решалась.
Ара даже это научилась принимать довольно спокойно. Возможно, понять это помогла ей Тхар, хотя ничего никогда прямо и не говорила. Сначала, еще не погрузившись в полное молчание, она просила Ару приходить каждые несколько дней и подолгу разговаривала с ней, много рассказывала о деяниях Короля-Бога, о его предшественнике, о королевском дворе в Авабатхе — это все Тхар как Высшая Жрица знала достаточно хорошо, однако многие ее рассказы свидетельствовали не в пользу Короля и его придворных. А еще Тхар рассказывала о своей жизни: описывала, как выглядела Ара до того, как умерла; как она вела себя. Иногда, но нечасто, старая жрица говорила о том, какие опасности и трудности могут грозить Аре в ее теперешней жизни. Ни разу не назвала она Коссил по имени. Но Ара была достойной ученицей все эти одиннадцать лет, и легкого намека или чуть измененной интонации ей было вполне достаточно, чтобы все понять и запомнить.
После бесконечных мрачных Погребальных Церемоний Ара начала избегать Коссил. Когда заканчивались утомительные ежедневные хлопоты, она спешила в свое уединенное жилище; едва выдавалась свободная минутка, открывала дверь-ловушку за Троном и спускалась во тьму Подземелья. Днем ли, ночью ли — тьма там оставалась неизменной. Ара продолжала тщательно обследовать свои владения. Подземелье под Камнями было заповедно для всех, кроме Верховных Жриц и их телохранителей-евнухов. Любой другой человек, мужчина или женщина, попытавшийся проникнуть туда, непременно был бы покаран Безымянными. Но среди множества правил, которые Ара знала наизусть, не было такого, которое запрещало бы обычным людям входить в Большой Лабиринт. В том просто не было нужды: туда путь лежал через Священное Подземелье. Да и нужны ли мухам правила, чтобы попасть в сети паука?
Так что Ара довольно часто брала с собой Манана в ближнюю часть Лабиринта, чтобы он научился там немного ориентироваться. Ему туда вовсе не хотелось, но он, как всегда, подчинялся. Она убедилась в том, что Дьюби и Уахто, евнухи Коссил, прекрасно знают дорогу в Комнату Узников и обратно. Но ничего больше. Их она никогда не брала с собой в Лабиринт: не хотела, чтобы кто-то, кроме Манана, преданного ей всей душой, знал эти тайные пути. Лабиринт принадлежал лишь ей, ей одной. Она все глубже заходила в его коридоры. Всю осень бродила она там, но было еще огромное количество отсеков, в которые она никогда не сворачивала. Бесконечная, кажущаяся бессмысленной паутина коридоров ужасно утомляла; уставали ноги, мозг тупел в вечном запоминании поворотов и пропусков. Лабиринт — удивительно сложная система туннелей — был сделан в сплошной
скальной породе и походил на огромный подземный город; только улицы этого города были созданы специально затем, чтобы до смерти измотать того, кто осмелится ступить на них, и смутить его душу. Даже Жрица его должна была все время помнить, что в конце концов Лабиринт и ее приведет к пустоте, к чудовищной ловушке.
Тянулись зимние месяцы, наступили холода, и Ара почти прекратила свои исследования, проводя время в основном в Тронном Храме, изучая его алтари, альковы, кладовки, заставленные сундуками и шкафами, рассматривая содержимое этих сундуков и шкафов, отыскивая потайные дверцы в стенах Храма, где под обвалившимся куполом гнездились сотни летучих мышей. Это была как бы обветшавшая прихожая Ее Величества Тьмы.
Кожа и одежда Ары пропахли сладким мускусом, превратившимся в порошок за восемь веков хранения в металлических коробках; на лбу, бровях и ресницах налипла черная паутина; она могла час простоять на коленях, изучая резьбу на крышке красивого, рассохшегося от времени сундука из кедрового дерева — дара Храму от одного из королей, живших столетия тому назад. На крышке был изображен сам этот король, маленький человечек в напряженной позе и с большим носом, и Тронный Храм с его плоским куполом и двойным рядом колонн. Каждая колонна была выполнена в мельчайших подробностях. Все это сделал неизвестный художник, давным-давно превратившийся в прах. И Единственная, вдыхающая курения, поднимавшиеся с бронзовых подносов, тоже была там; она давала советы королю с длинным носом, впрочем, на этом изображении нос короля был отломан, а лицо Жрицы слишком мало, чтобы различить ее черты. И все же Ара считала, что это ее собственное лицо. Ей ужасно хотелось узнать, что же она говорила тогда длинноносому королю и был ли он ей благодарен за советы.
В Храме у нее были свои любимые места — как у всякого человека в родном доме. Прежде всего те уголки, куда заглядывает солнышко. Так, Ара часто поднималась в маленькую кладовку на чердаке, где хранились старинные платья и костюмы еще с тех пор, когда великие правители Каргада часто приезжали поклониться Святому Месту и Гробницам Атуана, признавая, что здесь обитают властелины куда более могущественные, чем любой из смертных. Иногда юные принцессы, надев платья из мягкого белого шелка, украшенные топазами и фиолетовыми аметистами, танцевали вместе со Жрицей Гробниц у Трона. В кладовой сохранились маленькие инкрустированные слоновой костью столики, на их столешницах был изображен и один из таких танцев, и то, как сами правители, будучи мужчинами, ожидают за дверьми Храма. Их дочерям было позволено не только входить туда, но и танцевать вместе с Единственной, тогда, как и сейчас, одетой в грубую домотканую шерстяную хламиду черного — всегда только черного — цвета. Аре нравилось перебирать прелестные нежные полуистлевшие одеяния из белого шелка и рассматривать не поддающиеся времени драгоценные камни, которые под собственным весом потихоньку отрывались от одряхлевших одежд. В этих сундуках пахло совсем иначе, чем в Храме, пропитанном запахами мускуса и благовоний: запах шелковых белых платьев, казалось, был более свежим, легким и молодым.
В задних комнатах Храма она порой проводила всю ночь, исследуя содержимое всего лишь какого-нибудь одного небольшого сундука, рассматривая один драгоценный камешек за другим, вынимая покрытое ржавчиной оружие, шлемы с поломанными перьями, перебирая застежки, заколки, брошки, бронзовые статуэтки, серебряные и золотые слитки.
Совы, которых ничуть не смущало ее присутствие, спокойно сидели на балках и хлопали своими желтыми глазищами. Сквозь дыры в кровле были иногда видны звезды; порой на руки Аре падали снежинки, легкие и холодные, как эти древние шелка, и тут же превращались в ничто.
Однажды ночью, глубокой зимой, совсем замерзнув в Храме, она подошла к двери-ловушке, подняла ее и скользнула по ступеням вниз, плотно закрыв за собой дверь. Ара наизусть знала этот путь, ведущий прямо в Священное Подземелье. Здесь она, разумеется, огня никогда не зажигала, даже если у нее был с собой фонарь, припасенный для Большого Лабиринта или для того, чтобы увереннее ступать, когда поднимется на поверхность. Она гасила свечу, еще только приближаясь к Подземелью, и никогда не видела, как оно выглядит, — ни разу за всю бесконечно долгую жизнь Единственной Жрицы Гробниц. Вот и теперь, в первом же коридоре, она потушила фонарь, взятый с собой, и, не замедляя шага, скользнула в непроницаемую тьму, легкая, словно рыбка в темной воде. Здесь, независимо от времени года, всегда царила одинаково промозглая сырость, чувствовался запах плесени и температура оставалась неизменной. Там, над головой, трещали морозы и яростные зимние ветры разносили по пустыне клоки снежного покрывала. Здесь не существовало ни ветров, ни времен года; здесь было тесно, тихо, безопасно.
Она шла в Расписную Комнату. Она иногда любила ходить туда и рассматривать странные рисунки на стенах. Из темноты в мерцающем свете свечи на нее смотрели люди с длинными крыльями и огромными глазами, спокойными и мрачными. Никто не мог сказать ей, кто эти люди. Нигде в Святом Месте больше не было таких изображений. Аре казалось, что это души проклятых, тех, что неспособны возрождаться. Расписная Комната находилась в Большом Лабиринте, так что все равно путь лежал сначала через Подземелье под Камнями. Она почти вошла туда по наклонному коридору, как вдруг заметила слабый серый свет, какое-то едва различимое мерцание, отдаленное световое эхо. А может, ей просто привиделось?
Она решила, что это так и есть: свет часто мерещится в непроницаемой тьме подземелий. Она закрыла глаза — мерцание исчезло. Открыла их — и снова увидела свет.
Тогда она остановилась и замерла. Вокруг все было серое. Не черное! Едва видимое свечение нарушало ту грань, за которой все должно быть черно.
Она сделала несколько шагов вперед и коснулась рукой стены там, где туннель сворачивал в сторону, и… разглядела свою собственную руку.
Она пошла дальше, не в силах ни думать ни о чем, ни даже бояться — таким странным был этот слабый отблеск света там, где никакого света быть не могло, в самом сердце обители Тьмы. Ара, одетая в черное, словно черная тень, бесшумно ступала босыми ногами. У последнего поворота она остановилась; потом очень медленно сделала еще один шаг и увидела…
…Увидела то, чего никогда не видела раньше, хоть и прожила не меньше ста человеческих жизней. Перед ней была огромная сводчатая пещера, находившаяся прямо под Священными Камнями и вырытая не руками человеческими, а Древними Силами Земли. Стены ее были разукрашены драгоценными каменьями, всюду высились резные башенки, прекрасные изваяния из белого известняка — здесь многие тысячелетия работали подземные воды. Это походило на огромный алмазный дворец, стены и кровля которого струились водопадом, сверкали искрами драгоценных камней самой причудливой формы — аметистов, горного хрусталя, — и древняя Тьма была изгнана из этих сияющих чертогов.
Свет, сотворивший это чудо, не был ярким, но все же раздражал глаза, привыкшие к темноте. Он был похож на мерцающий болотный огонек, который неторопливо плыл через Подземелье, и тысячи отблесков вспыхивали на кровле, тысячи причудливых теней плясали на стенах.
Огонек горел на конце деревянного посоха, не давая ни дыма, ни запаха. Посох держала человеческая рука. Потом Ара увидела и лицо — оно было освещено достаточно хорошо. Это было лицо мужчины.
Она не пошевелилась.
Долгое время человек просто медленно бродил по пещере, будто что-то искал. Заглядывал за кружевные известковые наросты, подходил к темным пастям туннелей, но туда войти не пытался. Ара, по-прежнему недвижимая, стояла в своем убежище и ждала.
Для нее труднее всего было осознать, что она видит проникшего в Священное Подземелье человека. Она и раньше-то редко видела посторонних. Наверно, это один из евнухов-телохранителей… нет, скорее один из тех, что живут за стеной — пастух или стражник. Какой-то презренный раб забрался сюда, чтобы выведать тайны Безымянных или, может быть, даже что-то украсть…
Украсть! Ограбить Сокровищницу Темных Сил.
Святотатство. Это слово медленно возникло в мозгу Ары. Какой-то мужчина — а ни один мужчина не смеет ступать на территорию Священных Гробниц Атуана! — здесь, в самом сердце ее Храма! Он проник сюда, зажег огонь там, где это запрещено, где никогда не было света. Почему же Безымянные не покарали его?
Теперь он стоял и рассматривал каменные плиты под ногами, потрескавшиеся от времени. Было заметно, что в этом месте пол вскрывали и снова клали плиты на место. Мокрые безжизненные комья земли, оставшиеся после погребения узников, до сих пор не были убраны.
Тех троих ее Хозяева поглотили. Почему же этот до сих пор жив? Чего они ждут?
Пусть сделают что-то, путь заговорят…
— Уходи! Уходи! Убирайся! — пронзительно вскрикнула Ара. Сильное эхо зазвенело по всему Подземелью; оно, казалось, рассеяло даже тьму, и встревоженное лицо чужака в изумлении повернулось в ее сторону. Свет метнулся к ней, нарушая очарование пещеры; мужчина успел ее увидеть. Потом свет погас. Все исчезло. Все поглотила слепящая тьма и тишина.
Освободившись от чар света, Ара вновь обрела способность думать.
Мужчина скорее всего пробрался в Подземелье через дверцу в Красной скале, через которую сюда приводят узников, и наверняка попытается через нее же выйти наружу. Легкая, неслышная, как мягкокрылые совы в ее Храме, Ара стремительно сделала полукруг по знакомым коридорам и оказалась у низенькой двери, что открывалась лишь вовнутрь. Воздух снаружи в Подземелье не поступал: мужчина не закрепил дверь, не оставил ни малейшей щели; он просто захлопнул ее за собой — и попался в ловушку. Если он все еще в Лабиринте, конечно.
Впрочем, в ближних коридорах его не было. Она была в этом уверена. В тесноте прохода она бы услышала его дыхание, почувствовала тепло, само биение жизни в нем. Рядом с ней не было никого. Она стояла, напряженно прислушиваясь. Где же он?
Тьма давила ей на глаза, как повязка. Душа ее пребывала в смятении: она видела Священное Подземелье! Она хорошо знала его — но лишь по тому, с какой силой отдавались звуки от его стен; знала на ощупь каждый выступ; по сквознякам, разгуливающим в таинственной темноте, знала, где начинается какой коридор. Это была великая тайна, недоступная взору. Она же увидела все, и тайна стала совсем иной: ужас уступил место красоте, еще более таинственной, чем Тьма.
Ара неуверенно двинулась вперед. Она нащупала второй проход налево: отсюда начинался путь в Большой Лабиринт. Здесь она остановилась и прислушалась.
Уши во тьме сказали ей не больше, чем глаза. Но она все стояла и стояла, опершись обеими руками о стену туннеля и ощущая слабое, неясное дрожание каменных сводов, движение сырого воздуха, сохранившего запах, не принадлежавший Лабиринту: запах шалфея, что растет на холмах в пустыне, там, над головой, под открытым небом.
Медленно и уверенно двинулась она дальше по коридору, следуя за этим запахом.
Примерно через сотню шагов она услышала: мужчина двигался в темноте почти так же бесшумно, как и она, но не так уверенно. Вот он слегка споткнулся, но сразу выровнял шаг. Снова наступила тишина. Ара подождала и пошла медленно дальше, едва касаясь стены кончиками пальцев правой руки. Наконец пальцы ее ощутили знакомую железную раму. Ара остановилась, встав на цыпочки, дотянулась до мощной грубой рукоятки. И резко, изо всех сил рванула ее вниз.
Раздался ужасный скрип и грохот. Голубые искры водопадом посыпались вниз. Эхо заполнило туннели, и отзвуки его, сплетаясь и разлетаясь по всему Лабиринту, замерли где-то у нее за спиной. Она снова вытянула руки, еще раз нащупала совсем рядом с собственным лицом покрытую оспинами поверхность Железной Двери и с облегчением глубоко вздохнула.
Медленно возвращаясь назад и стараясь держаться правой стены, Ара добралась до двери-ловушки за Троном. Она не спешила, ступая совсем неслышно, хотя в соблюдении особой тишины уже не было необходимости. Вора она поймала. Дверь, через которую он пробрался внутрь, была единственным входом в Большой Лабиринт, и открыть ее можно было только снаружи.
Теперь он там, внизу, во тьме подземелий, и никогда больше оттуда не выйдет.
Она по-прежнему двигалась медленно, с достоинством. Высоко подняв голову, прошла мимо Незанятого Трона по длинному, украшенному колоннами залу и приблизилась к бронзовой чаше на треножнике, наполненной красноватыми раскаленными угольями, потом повернула назад и подошла к лестнице из семи ступеней, что вела к Трону.
На самой нижней ступени она опустилась на колени и низко склонила голову, коснувшись лбом холодных камней, покрытых пылью и мелкими мышиными костями, которые роняли хищные совы.
— О Безымянные, простите меня! Я видела, как нарушили Вашу Тьму, — молилась она про себя. — Простите, что я видела, как осквернили Ваши Гробницы. Но Вы будете отомщены! Смерть станет его стражником и палачом. Никогда не суждено будет осквернителю родиться вновь!
И все-таки даже сейчас, молясь Безымянным, видела она дрожащие блики света на стенах пещеры, жизнь там — где царит смерть; и почему-то не ужас свершенного святотатства и не гнев терзали ее; нет, она думала лишь, как это было прекрасно, как странно…
«Но что я скажу Коссил? — задумалась Ара, выйдя навстречу порывам зимнего ветра и плотнее кутаясь в плащ. — Да ничего. Я — хозяйка Лабиринта. И Король-Бог не имеет к нему никакого отношения. Впрочем, может быть, я все-таки скажу ей — когда вор будет мертв. Как же мне умертвить его? Пусть бы Коссил смотрела, как он умирает. Она это обожает. Однако что он там искал? Он, должно быть, сумасшедший. И как он попал внутрь? Только у меня да у Коссил есть ключ от дверцы в Красной скале и от двери-ловушки. Нет, он, конечно же, прошел через дверь в Красной скале. Но ее может открыть только колдун… Колдун!»
Она резко остановилась, хотя ветер буквально сбивал с ног.
Так это колдун! Волшебник с Внутренних Островов, который ищет здесь амулет Эррет-Акбе.
И происшедшее вдруг окрасилось таким немыслимым очарованием древних легенд, что Аре стало жарко на пронизывающем ветру, и она громко рассмеялась. Все вокруг — храмы, пустыня — было темным и безмолвным; в Большом Доме ни огонька; мелкий, почти невидимый снежок несло сильным ледяным ветром.
Если он сумел открыть с помощью волшебства ту дверь, то может открыть и другие. Он может спастись, уйти от расплаты.
От этой мысли она вздрогнула, но почти тут же успокоилась. Безымянные позволили ему войти? Почему бы и нет? Он не может причинить им ущерба, этот вор, которому не выйти из обворованной Сокровищницы. Возможно, у него в запасе достаточно заклятий и всяких магических штучек, и он, наверно, достаточно могущественный волшебник, раз сумел забраться так далеко. Но дальше-то что? Все его заклинания окажутся бессильны там, где властвуют Безымянные, те великие Короли, чей Трон пустует в ее Храме.
Чтобы убедиться в своей правоте, она поспешила по тропе вниз, к Малому Дому. Манан спал в дверях, завернувшись в плащ и драное меховое одеяло — как всегда зимой. Она тихонько скользнула внутрь, стараясь не разбудить его, и свет зажигать не стала. Прошла в маленькую комнатку, больше похожую на шкаф, высекла кремнем искру, которой ей достало, чтобы найти нужную плитку в полу, которую она и приподняла, встав на колени. Отверстие было еще прикрыто грязной тряпицей, которую она отшвырнула, и… отшатнулась. Прямо ей в лицо снизу ударил луч света.
Через мгновение очень осторожно она снова заглянула в глазок. Она просто забыла, что у волшебника на конце посоха горит загадочный огонек, и ожидала самое большее послушать, как он бродит там, в темноте. О том, что он везде зажигает свет, она не подумала. Зато, как она и ожидала, он оказался прямо под глазком, у Железной Двери, преграждавшей ему выход из Лабиринта.
Он стоял, задумчиво подбоченясь и склонив набок голову. В другой руке он держал свой посох, на конце которого висел огонек. Она видела его с высоты чуть больше человеческого роста. Одет он был точно так же, как и все путешественники или пилигримы зимой: короткий теплый плащ, кожаный жилет, шерстяные чулки и башмаки с ремешками; за спиной — небольшой легкий мешок с привязанной к нему флягой с водой; на бедре — кинжал в ножнах. Он стоял неподвижно, как статуя, но был очень спокоен и о чем-то думал.
Потом медленно поднял свой посох и поднес его освещенный конец к двери, которую Аре в глазок видно не было. Огонек на конце посоха уменьшился, но стал ярче, светил, как фонарь. Волшебник что-то громко сказал. Язык этот был Аре незнаком, но еще более странным, чем слова неведомого языка, был голос мужчины, глубокий и звучный.
Свет на конце посоха стал еще ярче, потом вдруг мигнул и пропал совсем. Какое-то время она не видела ничего.
Потом снова появился бледный ровный свет, похожий на болотные огни; она увидела, что теперь он стоит к двери спиной: заклинание не действовало. Силы, накрепко запершие эту дверь, оказались сильнее всей его магии.
Он огляделся, словно раздумывая: а что же теперь?
Коридор, в котором он стоял, был узкий и очень высокий. Грубый каменный пол, зато стены довольно гладкие, сухой кладки. Впрочем, каменные плиты лежали плотно, впритирку, так что между ними вряд ли можно было просунуть даже лезвие ножа. Стены туннеля слегка наклонялись внутрь, образуя подобие свода.
Вокруг волшебника была пустота.
Он пошел было вперед и с первого шага исчез из поля зрения Ары. Свет почти померк, и она уже намеревалась положить обратно тряпку и плиту, но тут снова легкий отблеск мелькнул на стенах — волшебник возвращался. Наверно, понял, что если уйдет от двери и заберется глубже в Лабиринт, то вряд ли сможет снова найти выход.
Он что-то сказал тихим голосом. Собственно, одно лишь слово: «Эменн!» Потом еще раз громче: «Эменн!» Железная дверь содрогнулась, и негромкое эхо прокатилось по сводчатым туннелям. Аре даже показалось, что пол у нее под ногами заколыхался.
Но дверь была прочна и выстояла.
Тогда он рассмеялся — тем коротким смешком, каким смеется человек, думая: ну до чего же глупо я себя вел! Он еще раз окинул взглядом окружающие его стены, и, когда смотрел вверх, Ара заметила, как его темное лицо осветила улыбка. Потом он сел, развязал свой узелок, достал оттуда кусок черствого хлеба и стал есть. Потом отвернул пробку кожаной фляги, встряхнул ее; фляга выглядела в его руках маленькой и легкой, похоже, она была наполовину пуста. Он снова закрыл флягу, пить так и не стал. Потом положил мешок себе под голову, как подушку, завернулся в плащ и лег, держа посох в правой руке. Когда он улегся, маленький светящийся шарик оторвался от конца посоха, взлетел и повис в воздухе у него над головой. Левая рука волшебника лежала у него на груди, придерживая что-то, висевшее на тяжелой цепи. Он лежал будто в собственной постели — удобно устроившись, чуть согнув ноги в коленях. Взгляд его скользнул по глазку, в который смотрела Ара, и двинулся дальше. Волшебник вздохнул и смежил веки. Свет потихоньку стал меркнуть. Он спал.
Стиснутая рука у него на груди разжалась, соскользнула вбок, и Ара сверху разглядела тот талисман, что носил он на цепи: странное металлическое полукружие или полумесяц. Так ей, во всяком случае, показалось.
Последний слабый отблеск волшебного света исчез. Теперь человека окружала тишина и темнота.
Ара положила тряпицу и каменную плиту на место, бесшумно встала и скользнула в свою комнату. Там она долго лежала во тьме без сна, слушая вой ветра и все время видя перед собой хрустальное сияние на стенах обители смерти, легкий холодный огонек на конце волшебного посоха, каменные стены туннелей, спокойное лицо спящего мужчины.
Глава 6
Ловушка для людей
На следующий день, после свершения всех обрядов, закончив разучивать с новенькими сакральные танцы, Ара ускользнула к себе, в Малый Дом, и, погасив свет, приоткрыла наблюдательный глазок. В Лабиринте было темно. Она и не надеялась, что он надолго останется у запертой двери, но искать его сверху она могла только через этот глазок. Как же теперь найти его, если он заблудился?
Тхар считала, что туннели Лабиринта — собственно, и сама Ара уже убедилась в этом — это несколько дней пути, особенно если считать боковые коридоры, ответвления, спиралевидные проходы и тупики. Слепая Аллея, проходящая почти по периметру Лабиринта, казалось бы, находилась совсем недалеко от Храма — если смотреть сверху. Но там, внизу, под землей, нигде нельзя было пройти по прямой. Все туннели без конца сворачивали куда-то, сливались, разъединялись, расходились лучами в разные стороны, переплетались между собой, образовывая петли и столь изощренный рисунок, что, казалось, там вообще нет ни начала, ни конца. Можно было идти и идти, но не прийти никуда, ибо там не было точки отсчета, не было центра, не было сердца. Как только дверь-ловушка захлопывалась за твоей спиной, Лабиринту уже не было конца. Ни одно избранное направление не оказывалось верным, если не помнить пути наизусть.
И хотя расположение комнат и пути к ним были навечно запечатлены в памяти Ары, даже она порой брала в наиболее дальние походы клубок тонкой бечевы, благодаря которому потом находила обратный путь. Ведь если пропустить хотя бы один из бесконечных поворотов или боковых коридоров, которые следует миновать, легко можно заблудиться даже ей, Единственной. Все коридоры и все проходы были похожи друг на друга как две капли воды.
Тот мужчина вполне мог уже много часов бродить по бесконечным туннелям Лабиринта, а на самом деле быть в какой-то сотне шагов от той же самой двери.
Ара сходила в свой Храм, потом в Храм Богов-Близнецов, потом в погреб под кухней Большого Дома. Всюду, улучив момент, когда никого не было рядом, она заглянула в смотровые глазки — в леденящую плотную тьму. Когда наступила ночь, морозная и звездная, она обежала все потайные места на склоне холма, где, подняв соответствующие камни, тоже можно было заглянуть в Лабиринт. Везде было темно.
Он, конечно же, был там. Должен был там быть. И все-таки от нее он сбежал. И теперь, наверно, умрет от жажды раньше, чем она разыщет его. Может, лучше послать в Лабиринт Манана, чтобы тот отыскал тело, когда пройдет достаточно времени? Нет, об этом даже думать было невыносимо. При мысли об очередной жертве она без сил опускалась на мерзлую землю, над которой горели зимние звезды, и в глазах ее закипали слезы ярости.
Ара вернулась по тропе, что вела прямо к Храму Короля-Бога. Колонны с резными капителями были покрыты сверкающим белым инеем — казалось, это тонкая резьба по кости. Девушка постучала в заднюю дверь Храма, и Коссил открыла ей.
— Что привело сюда мою госпожу? — Голос могучей жрицы звучал холодно и настороженно.
— Жрица, там, в Большом Лабиринте, мужчина.
Сообщение застигло Коссил врасплох. Этого она никак не ожидала и стояла, уставившись на Ару так, что глаза ее, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Ара почему-то вдруг подумала, что сейчас Коссил ужасно похожа на ту, какой ее изображала Пенте, и с трудом подавила желание расхохотаться ей в лицо.
— Мужчина? В Лабиринте?
— Мужчина, чужеземец. — Потом, поскольку Коссил продолжала смотреть недоверчиво, Ара прибавила: — Я вообще-то знаю, как выглядят мужчины, хоть и не много их видела.
Коссил на шутку не отреагировала.
— Как он попал туда?
— С помощью колдовства, я думаю. Он темнокожий — наверно, с Внутренних Островов. Вор, конечно. Сначала я его обнаружила в Подземелье под Храмом, под самыми Камнями. Он поспешил ко входу в Лабиринт, когда почуял меня, словно знал, куда бежит. Я заперла Железную Дверь прямо у него за спиной. Он произносил разные заклинания, но дверь так и не открылась. А утром он ушел глубоко в Лабиринт, и теперь я не могу его отыскать.
— Свет у него был?
— Да.
— А вода?
— Маленькая фляжка, неполная.
— Его свеча теперь уже совсем догорела, — Коссил размышляла вслух. — Еще четыре или пять дней. Может быть, шесть. Потом можешь послать моих телохранителей — пусть извлекут тело. Кровь будет принесена в жертву Трону, а…
— Нет! — сказала вдруг Ара с неожиданной вспышкой ярости. — Я хотела бы найти его живым.
Коссил посмотрела на девушку сверху вниз, громоздясь над ней своей тушей.
— Почему?
— Пусть он… Пусть он умирает дольше. Он осквернил обитель Безымянных, зажег в Священном Подземелье свет… И он вор! А потому заслуживает наказания более жестокого, чем просто смерть от жажды в тиши и одиночестве.
— Да, — сказала Коссил задумчиво. — Но как ты поймаешь его, госпожа? Только если повезет… Ему-то самому на везение рассчитывать нечего! В Лабиринте хватает костей тех, кто без спросу вошел в его коридоры… Пусть Темные Силы накажут его по-своему — как обычно наказывает Лабиринт. Смерть от жажды — жестокая смерть.
— Я знаю, — сказала девушка, повернулась и вышла в ночь, набросив на голову капюшон, защищавший от пронзительного ледяного ветра. Это-то она знала хорошо!
До чего же по-детски, до чего же глупо она поступила, явившись за советом к Коссил! Она все равно бы не получила здесь никакой помощи. Коссил ничего не понимает. Ей доступно лишь холодное ожидание — и смерть жертвы в итоге. Она не понимает, не видит смысла в том, чтобы искать совершившего святотатство. Но с ним не должно быть так, как с теми, предыдущими. Она, Ара, больше этого не вынесет. Если еще кто-то должен умереть, пусть умрет быстро и при свете дня. Конечно же, лучше бы этот вор, первый человек за многие столетия, решившийся ограбить Сокровищницу, умер от удара меча. Он ведь не бессмертен и не сможет возродиться вновь. Так что душа его будет вечно слоняться со стонами по Лабиринту… Нет! Нельзя допустить, чтобы он умер там от жажды в темноте и одиночестве.
В ту ночь Ара спала плохо. Следующий день был до краев наполнен заботами, совершением обрядов и прочей суетой. Ночью же она спать не легла, а бесшумно переходя от одного наблюдательного глазка к другому и не зажигая огня, обошла их все — и в помещениях, и на продуваемых ветром склонах холма. Когда до рассвета оставалось всего два или три часа, она наконец отправилась к себе и легла, но так и не смогла заснуть. На третий день уже ближе к вечеру она тайком отправилась через пустыню к реке, теперь засыпанной снегом. Тростники вдоль берегов вмерзли в лед. Ара вдруг вспомнила, что как-то осенью прошла по Лабиринту очень далеко; после того места, где в разные стороны расходилось сразу шесть коридоров, она долго-долго шла по одному и тому же извилистому туннелю и там за каменной стеной слышала журчание воды. Наверно, ведь человек, испытывающий жажду, если он добрался туда, там и останется? Там, где слышна вода? Возле реки, разумеется, тоже были наблюдательные глазки; нужно было только их разыскать под снегом; Тхар в прошлом году показала ей их все до одного. Особого труда не потребовалось: ее память о форме отдельных камней и скал была схожа с памятью слепого — на ощупь все помнилось ей куда лучше, чем зрительно. Отыскав на плоской поверхности одного из камней глазок, самый дальний от ее Храма, она прикрыла голову капюшоном, заслоняя дневной свет, и заглянула вниз: в туннеле под собой она заметила слабое мерцание волшебного фонарика.
Он был там, в самом конце Слепой Аллеи. Ара могла видеть лишь его согнутую напряженную спину и правую руку. Он сидел на полу у сходящихся углом стен и пытался проковырять отверстие в камне своим кинжалом, коротким стальным клинком с инкрустированной самоцветами ручкой. Конец лезвия был уже отломан. Отломанный кусок валялся прямо под наблюдательным глазком. Он сломал кинжал, пытаясь раздвинуть камни и добраться до воды, журчание которой слышал в мертвой неподвижности подземелья за стеной, — до чистой живой воды, что текла по другую сторону этой непреодолимой стены.
Он двигался вяло и выглядел иначе: трое суток в Лабиринте сильно изменили облик этого спокойного, ловкого и уверенного в себе человека, который смеялся тогда над собственной слабостью, стоя перед запертой Железной Дверью. В нем все еще жило упрямство, но силы уже иссякли. И не было заклятья, способного раздвинуть эти камни; был только бесполезный нож. Даже волшебный огонек над ним светился совсем слабо. Ара видела, что огонек этот все время мигает, словно собираясь погаснуть. Вдруг волшебник уронил голову, и кинжал выпал у него из рук. Однако уже через мгновение он поспешно подобрал нож и снова попытался просунуть сломанное лезвие между камнями стены.
Лежа на льду в тростниках и не сознавая, что делает и где находится, Ара вдруг приблизила губы к отверстию в скале, сложила рупором ладони, чтобы усилить звук, и сказала туда:
— Волшебник!
Голос ее, скользнув по каменному горлу, ледяным шепотом разнесся по подземным коридорам.
Мужчина вздрогнул и с трудом поднялся на ноги. И тут же пропал из ее поля зрения. Она снова приложила губы к отверстию и сказала:
— Иди назад, вдоль той стены, что выходит к реке, до второго поворота. Потом первый поворот налево. Пропусти справа два прохода, в третий сверни. Пропусти один справа, сверни во второй. Потом налево, потом направо. Жди в Расписной Комнате.
Когда она заглянула в глазок снова, то поняла, что неосторожно позволила лучику дневного света скользнуть туда: волшебник снова был виден весь, стоял и смотрел вверх, прямо на глазок. Его лицо — теперь она рассмотрела хорошо — было покрыто какими-то шрамами, напряженное и нетерпеливое. Губы пересохли и почернели, но глаза горели ярко. Он поднял свой посох, поднося волшебный огонек ближе, ближе к ее лицу… Испуганная, она отпрянула, прикрыла отверстие плотно подогнанным камнем, потом встала и быстро пошла обратно в Храм. Руки у нее дрожали, порой начинала сильно кружиться голова. И она совершенно не представляла, как ей быть дальше.
Если он все-таки пошел тем путем, который она ему подсказала, то должен непременно пройти мимо Железной Двери и попасть в Расписную Комнату. Там для него не было ничего хорошего, и идти ему туда, в общем-то, было незачем. Но в потолке Расписной Комнаты был наблюдательный глазок, удобный и хороший, который выходил в Сокровищницу Храма Богов-Близнецов; может быть, она именно поэтому и подумала об этой комнате. Она и сама этого не знала. Все-таки почему же она с ним заговорила?
Она может спустить немного воды через наблюдательное отверстие. Вода позволит ему прожить чуть дольше. Так долго, как захочется ей, Аре. Если она время от времени будет спускать вниз воду и пищу, он продержится еще долго — дни, месяцы, скитаясь по Лабиринту. А она будет наблюдать за ним и говорить, где в этот раз его поджидает вода, чтобы он пошел туда и зря искал там воду — все равно ведь пойдет и будет искать! Хороший урок тому, кто пытался обмануть Безымянных, кто своим поганым мужским естеством осквернил Гробницы!
Но пока в Лабиринте будет находиться он, она туда войти не сможет. Почему же нет? — спрашивала она себя, и сама же отвечала: потому что ей придется оставить открытой Железную Дверь, через которую он уже пытался бежать… С другой стороны, дальше Священного Подземелья не убежит… На самом же деле Ара просто боялась встретиться с волшебником лицом к лицу. Она боялась его магической силы, мастерства, которое помогло ему проникнуть в Лабиринт, того колдовства, что поддерживало живым его волшебный огонек. И все же разве он так уж страшен? Силы Тьмы на ее стороне! Вряд ли он способен так уж проявить свои магические способности в царстве Безымянных. Он же не смог открыть тогда Железную Дверь; и не добыл ни еды, ни воды, хотя вода-то была совсем рядом, за стеной; и не призвал на помощь никакого чудовища, чтобы сломать стену. А она ведь на самом деле боялась, что он сделает что-нибудь такое. Но он даже выхода из Лабиринта не нашел, трое суток прослонявшись совсем рядом с дверью в Сокровищницу, ради которой, собственно, и залез под землю. Сама Ара еще ни разу в Сокровищнице не была, хотя хорошо запомнила все наставления Тхар; она все откладывала и откладывала путешествие туда из-за непонятного страха, сомнений и странного ощущения, что время для этого еще не пришло.
Теперь она решила заставить его пройти этот путь прежде нее. Пусть ищет там что хочет! Очень это ему поможет! Она вдоволь посмеется над волшебником и предложит ему вместо еды золото, а вместо воды — алмазы.
С той же нервозной, лихорадочной поспешностью, что владела ею последние три дня, Ара бросилась к Храму Богов-Близнецов, отперла его маленькую сводчатую сокровищницу и приоткрыла отлично замаскированный глазок в полу.
Расписная Комната находилась прямо под ней, но там было темно, как в колодце. Путь сюда по Лабиринту был куда длиннее и сложнее, чем по земле; как она об этом забыла. Мужчина, конечно, сильно ослабел и шел небыстро. Кроме того, он, возможно, перепутал ее наставления и свернул не туда. Очень немногие способны запомнить все повороты и пропуски с одного раза — как она, Ара. Возможно, он просто не понимает ее языка. Если это так, то пусть и скитается во тьме, пока не упадет мертвым, глупец, чужак, осквернитель! А душа его так и будет со стонами бродить по каменным тропам Гробниц Атуана, пока Тьма не поглотит и ее…
На следующее утро, едва рассвело, после короткого ночного отдыха, полного дурных сновидений, Ара вернулась к глазку в маленьком храме. Заглянула вниз и ничего не увидела: сплошная чернота. Тогда она опустила в отверстие маленький зажженный фонарь на цепочке. Волшебник был там, в Расписной Комнате. Фонарь выхватил из тьмы его ноги и одну безвольно упавшую руку. Она прошептала в отверстие, которое здесь было довольно большим — в целую плиту, какими был вымощен пол:
— Волшебник!
Он не пошевелился. Может, умер? Неужели сил его хватило так ненадолго? Ара презрительно фыркнула, но сердце у нее упало.
— Волшебник! — крикнула она, и голос ее зазвенел в пустой комнате с расписными стенами. Человек вздрогнул и медленно сел, изумленно озираясь. Потом посмотрел вверх и долго глядел, щурясь, на свисающий с потолка фонарь. Лицо его было страшно: распухшее, черное, как у мумии.
Он протянул руку к посоху, что лежал рядом на полу, но волшебный огонек не зажегся: у человека совсем не осталось сил.
— Хочешь посмотреть сокровища Гробниц Атуана, волшебник?
Он снова устало поднял глаза к потолку. Хотя свет слепил его, он смотрел и смотрел, ибо это было единственное, что он мог видеть. Потом со странной гримасой, которая, по всей вероятности, должна была изображать улыбку, один раз кивнул.
— Выйди из этой комнаты и сверни налево по первому коридору… — Она выпалила длинную череду указаний без единой паузы и в самом конце прибавила: — Там ты найдешь то, за чем сюда явился. А еще, возможно, найдешь воду. Чего тебе больше хочется сейчас, волшебник?
Он встал на ноги, помогая себе посохом. Глядя вверх невидящими глазами, он попытался сказать что-то, но в его пересохшей глотке не осталось голоса. Он слегка пожал плечами и вышел из Расписной Комнаты.
Никакой воды она ему не даст. Он все равно никогда не найдет пути в Сокровищницу. Слишком длинными были ее указания, чтобы он успел их запомнить; и еще там Колодец — если он вообще до него доберется. Теперь его фонарик погас, и он идет в темноте, и в конце концов непременно собьется с пути, упадет и умрет в одном из узких низеньких боковых проходов. Потом Манан отыщет его труп и вытащит наружу. И тогда все. Ара придавила обеими руками плитку, прикрывавшую наблюдательный глазок, и стала раскачиваться всем телом — туда-сюда, туда-сюда, кусая губы, словно пытаясь перетерпеть какую-то ужасную боль. Нет, воды она ему не даст. Не даст. Не даст. Она даст ему смерть, смерть, смерть, смерть, смерть!..
В тот черный час к ней и подкралась Коссил — Ара не заметила, как жрица вошла в Сокровищницу своей тяжелой походкой, огромная в черных зимних одеждах.
— Этот мужчина уже мертв?
Ара вскинула голову. В глазах ее не было слез, ей нечего было скрывать.
— Думаю, да, — сказала она, поднимаясь и отряхивая юбку. — Его огонек больше не светится.
— Он, возможно, хитрит. Эти смертные очень хитры.
— Я подожду еще один день, чтобы знать наверняка.
— Да. Или, лучше, два дня. Тогда Дьюби может спуститься вниз и вытащить его тело. Он сильнее, чем старый Манан.
— Но Манан состоит на службе у Безымянных, а Дьюби нет. Есть такие места в Лабиринте, куда Дьюби ходить не должен, и проклятый вор как раз находится в таком месте.
— Но раз этот мужчина уже осквернил священные места…
— Его смерть снова очистит их! — сказала Ара. Она видела по удивленному лицу Коссил, что на ее собственном лице написано нечто странное, непривычное. — Это мои владения, жрица. Я должна заботиться о них, как это велено мне моими Хозяевами. Меня больше не требуется учить, как следует умерщвлять жертвы.
Лицо Коссил, казалось, нырнуло в глубину капюшона, как голова пустынной черепахи — в панцирь. Мрачное, неподвижное, холодное лицо.
— Прекрасно, госпожа.
Они расстались перед алтарем Богов-Близнецов. Ара неторопливо дошла до Малого Дома и позвала Манана. После разговора с Коссил она не сомневалась в том, что должна сделать.
Вместе с Мананом они поднялись по склону, вошли в Тронный Храм, спустились в Подземелье. Вдвоем налегли на длинный рычаг, отворили Железную Дверь и пошли в глубь Лабиринта уже с зажженными фонарями. Путь их лежал в Расписную Комнату, а оттуда — в Сокровищницу Гробниц.
Вор не успел уйти слишком далеко. Они с Мананом прошли всего шагов пятьсот по извилистым коридорам Лабиринта, когда наткнулись на него, бесформенной грудой тряпья лежащего в одном из боковых коридоров. Прежде чем упасть, он, видимо, выронил посох, и тот лежал несколько в стороне. Рот мужчины представлял собой сплошную кровавую корку, глаза были полузакрыты.
— Он еще жив, — сказал Манан, опускаясь на колени и нащупывая своей огромной желтой рукой пульс на темной шее волшебника. — Может, мне задушить его, госпожа?
— Нет. Мне он нужен живым. Подними его и неси за мной.
— Живым? — встревоженно переспросил Манан. — Но зачем, маленькая госпожа?
— Чтобы сделать его рабом Гробниц! Не распускай язык и делай как я говорю.
С еще более меланхоличным, чем всегда, выражением лица Манан подчинился и, без малейшего усилия, словно длинный тюк, взвалив молодого человека себе на плечо, поплелся следом за Арой. Но груз все-таки был достаточно велик, и они по крайней мере раз десять останавливались, чтобы Манан мог перевести дыхание. Коридоры везде выглядели совершенно одинаково: серовато-желтые, плотно пригнанные друг к другу камни, сводчатые стены, неровный каменный пол, застойный, мертвый воздух. Манан постанывал и задыхался, чужеземец выглядел совершеннейшим трупом. Оба фонаря неярко светили, образовывая два светлых конуса, которые сужались, уходя во тьму коридора в обоих направлениях. На каждой остановке Ара чуть смачивала водой, принесенной с собой во фляге, пересохший рот мужчины — совсем понемножку, чтобы жизнь, вернувшись разом, не убила его совсем.
— В Комнату Узников? — спросил Манан, когда они вышли в тот коридор, что вел к Железной Двери; и тут Ара впервые задумалась по-настоящему, куда же ей девать своего пленника. Пока она еще не решила.
— Нет, только не туда, — сказала она, как всегда почувствовав слабость при одном воспоминании о факельной гари, ужасающей вони и о тех безъязыких, не способных ничего воспринимать существах, лица которых были скрыты колтунами волос. И потом, в Комнату Узников может прийти Коссил… — Он… он должен оставаться в Лабиринте, чтобы вновь не обрести свою колдовскую силу. Где бы нам найти место…
— В Расписной Комнате есть дверь, она запирается; а наверху есть глазок, госпожа. Если ты, конечно, этому волшебнику доверяешь насчет дверей.
— Здесь, в Лабиринте, он лишен волшебной силы. Неси его туда, Манан.
Манану пришлось тащить свою ношу обратно, почти половину того пути, который они только что проделали, но он слишком устал и запыхался, чтобы протестовать. Когда они наконец добрались до Расписной Комнаты, Ара сняла свой длинный тяжелый зимний плащ из черной шерсти и расстелила его на пыльном полу.
— Положи его сюда, — сказала она.
На меланхолическом лице Манана отразилось недоумение, он даже задохнулся.
— Но, маленькая госпожа!..
— Я хочу, чтобы этот человек жил, Манан. Иначе он быстро умрет от холода: посмотри, как он дрожит.
— Но твоя одежда будет осквернена. Плащ жрицы! Он же неверующий, он мужчина! — негодовал Манан, зажмурившись, словно от боли.
— Я потом сожгу этот плащ, и мне соткут новый. Давай, Манан.
Манан не нашел больше возражений и послушно свалил узника со спины прямо на черный плащ жрицы. Волшебник лежал неподвижно, словно мертвый, но пульс у него на шее бился сильно и частые судороги сотрясали распростертое тело.
— Узника следует заковать в цепи, — сказал Манан.
— Разве он так опасен? — усмехнулась Ара, но Манан только показал ей на железную скобу, вделанную в стену. Именно здесь следовало приковать узника, и она позволила своему телохранителю принести из Комнаты Узников цепь и замок. Манан поплелся по коридорам, шепотом повторяя повороты; ему уже не раз приходилось ходить в Расписную Комнату и обратно, но еще ни разу — в одиночку.
В слабом свете единственного фонаря казалось, что картины на стенах комнаты движутся, существа на них обретают формы, явно человеческие, только с огромными ниспадающими крыльями; они вытягиваются, приседают, не в силах сдвинуться с места в бесконечной тоске.
Ара опустилась на колени и стала по капле лить воду в запекшийся рот узника. Наконец он закашлялся и потянулся слабыми руками к фляжке. Она позволила ему напиться вдоволь. Он лег на спину, все лицо его было мокро, испачкано пылью и кровью; он что-то пробормотал — какое-то слово или два на неведомом ей языке.
Наконец вернулся Манан, таща за собой изрядный кусок цепи, огромный замок с ключом и какой-то железный обруч, который он надел мужчине на пояс и запер.
— Свободновато, пожалуй, выскользнуть может, — бормотал Манан, прикрепляя другой конец цепи к кольцу в стене.
— Нет, что ты, посмотри. — Теперь она гораздо меньше боялась своего узника и показала Манану, что не может просунуть ладонь между железным обручем и ребрами человека. — Если только заставить его поголодать дня четыре…
— Маленькая госпожа, — плаксиво сказал Манан, — я не смею спрашивать, но… какой в нем прок Безымянным? Он ведь мужчина, маленькая госпожа, как он может быть их рабом?
— Да, он мужчина, а ты просто старый дурак, Манан. Ну ладно, пошли, хватит тебе возиться.
Узник наблюдал за ними измученными, но ясными глазами.
— Где его посох, Манан? А, вот он! Я его возьму с собой: в нем заключено волшебство. О, и вот это тоже возьму, — быстрым движением она сдернула с шеи мужчины серебряную цепь, видневшуюся в вырезе кожаного жилета, хотя тот и пытался поймать ее за руку. Манан пнул узника в спину. Ара покачала цепью у мужчины над головой, не давая ему дотянуться. — Это твой талисман, волшебник? Он очень тебе дорог? Вообще-то дорогим он не выглядит. Разве ты не в состоянии позволить себе что-нибудь получше? Ладно, я сберегу его для тебя. — И она надела цепь себе на шею, опустив подвеску в вырез тяжелого шерстяного платья.
— Ты не знаешь, что с ним делать, — хрипло сказал он, не совсем верно, но достаточно внятно произнося слова каргадского языка.
Манан снова ударил его, и узник со слабым стоном зажмурился.
— Перестань, Манан. Пошли.
Она выскользнула из комнаты. Манан, ворча, последовал за ней.
В ту ночь, когда погасли все огни на холме, Ара снова, уже одна, поднялась к своему Храму. Она набрала полную флягу воды из колодца, а еще прихватила с собой большую пресную лепешку из гречневой муки. Потом прошла в Расписную Комнату и положила все это возле двери так, чтобы узник мог дотянуться. Он спал и даже ни разу не пошевелился. Потом Ара вернулась в Малый Дом и в ту ночь наконец спала долго и крепко.
Днем она, снова в одиночестве, вернулась в Лабиринт. Хлеб исчез, фляга была пуста, а незнакомец сидел, прислонившись спиной к стене. Его лицо все еще выглядело ужасно — в грязи и крови, — но выражение глаз было вполне живым и осмысленным.
Ара остановилось у противоположной стены, где волшебник мог бы даже и не пробовать достать ее. Она долго смотрела на него, потом отвернулась. Смотреть было, собственно, не на что. Но заговорить Ара никак не могла. Сердце билось, как испуганная птица. Хотя бояться было абсолютно нечего: он был полностью в ее власти.
— Приятно, когда светло, — сказал он мягким глубоким голосом. Она еще больше смутилась.
— Как тебя зовут? — спросила она повелительным тоном. Но голос ее, похоже, прозвучал неожиданно пискляво.
— Ну, чаще всего меня называют Ястребом.
— Ястреб? Это у тебя имя такое?
— Нет.
— Каково же твое настоящее имя?
— Этого я тебе сказать не могу. Это ты — Единственная Жрица Гробниц?
— Да.
— Как тебя здесь называют?
— Меня называют Ара.
— «Та, которую поглотили» — так, кажется? — Его темные глаза внимательно наблюдали за ней. Он слегка улыбнулся. — А как твое настоящее имя?
— У меня нет имени. И больше не задавай мне вопросов. Откуда ты явился?
— С Внутренних Островов, с запада.
— Из Хавнора?
Это было единственное название то ли города, то ли острова во Внутреннем Море, которое она знала.
— Да, из Хавнора.
— Зачем ты пришел сюда?
— Гробницы Атуана славятся среди моего народа.
— Но ты ведь не веришь в наших богов!
Он покачал головой:
— О нет, жрица, я верю в Силы Тьмы! Я уже встречался с Безымянными в иных местах.
— В каких иных местах?
— На Архипелаге, на Внутренних Островах — там есть такие места, которые принадлежат Древним Силам, как и Гробницы Атуана. Но ни в одном из тех мест, что я видел, Древние Силы не обладают таким могуществом, как здесь. Нигде больше не имеют они своего храма, жриц и такого поклонения, как здесь.
— Значит, ты пришел, чтобы поклониться Святому Храму? — издевательским тоном спросила Ара.
— Я пришел, чтобы его ограбить, — ответил он.
Она уставилась на его мрачное лицо.
— Хвастун!
— Я знал, что это будет нелегко.
— Нелегко? Да это невозможно! Если бы ты действительно верил в Них, ты бы это знал. Безымянные заботятся о том, что им принадлежит.
— То, что ищу я, не принадлежит им.
— Может быть, это твое?
— Мое — по праву.
— В таком случае, кто же ты? Божество? Король? — Она окинула его презрительным взглядом: на цепи, весь грязный, измученный. — Ты никто, ты жалкий вор! — в гневе бросила Ара.
Он ничего не сказал, но глаз не отвел и смотрел прямо на нее.
— Нечего так на меня смотреть! — пронзительно выкрикнула она.
— Госпожа моя, — сказал он, — я ведь не хотел никого обидеть. Я здесь чужой, я здесь случайно. Я не знаю ваших обычаев, не знаю правил, которым обязаны подчиняться жрицы Гробниц. Я весь в твоей власти, и прости, если я тебя обидел.
Она стояла и молчала, почувствовав, как к щекам ее приливает кровь — глупая горячая волна. Но он на нее не смотрел и не видел, как она покраснела. Он уже подчинился ей и опустил свои темные глаза.
Некоторое время оба молчали. Нарисованные на стенах фигуры отовсюду смотрели на них своими печальными невидящими глазами.
Ара принесла каменный кувшин с водой, и он не сводил с кувшина глаз. Чуть погодя она сказала:
— Пей, если хочешь.
Он рванулся к кувшину, подняв его так легко, словно это был кубок с вином, и пил долгими длинными глотками. Потом смочил краешек одежды и тщательно стал стирать грязь, запекшуюся кровь и липкую паутину со своего лица и рук. Девушка наблюдала за ним. Он умывался, как кошка, и в итоге стал выглядеть явно лучше, однако умывание обнажило шрамы у него на щеке — старые, давно зажившие, белыми полосами сверкавшие на темной коже. Четыре параллельных следа от глаза до подбородка, словно отметины чьей-то когтистой огромной лапы.
— Что это? — спросила она. — Такие шрамы…
Он не сразу ответил.
— Это, наверно, дракон? — не унималась она, однако старалась, чтобы голос ее звучал по-прежнему насмешливо. Ведь она же спустилась сюда специально для того, чтобы поиздеваться над своей жертвой, помучить волшебника его же беспомощностью.
— Нет, это не дракон.
— Ну так ты, по крайней мере, хоть не Повелитель Драконов? И то хорошо!
— Нет, к сожалению, — как-то неохотно сказал он, — как раз я и есть Повелитель Драконов. Вот только шрамы эти заработал гораздо раньше, чем стал им. Я уже говорил тебе, что мне приходилось встречаться с Темными Силами… Так вот: это отметины одного из Безымянных. Впрочем, имя этой твари я в конце концов узнал.
— Что ты имеешь в виду? Какое имя?
— Этого я сказать тебе не могу, — ответил он и улыбнулся, но лицо его оставалось мрачным.
— Неправда, дурацкая болтовня, кощунство! Это же Безымянные! Ты просто не понимаешь…
— Понимаю, и гораздо лучше, чем ты, жрица, — тихо сказал он. — Посмотри еще раз! — И повернулся так, чтобы Ара могла получше разглядеть четыре ужасные отметины у него на щеке.
— Я не верю тебе! — упрямо сказала она, но голос ее дрогнул.
— Жрица, — мягко возразил он, — ты еще слишком молода, ты еще не успела прослужить достаточно долго Темным Силам.
— Нет, я служу им давно, очень давно! Я — Первая Жрица, Возрождаемая Вечно. Я служила моим Хозяевам тысячу лет и еще тысячу. Я Их Единственная служанка, Их голос, Их руки. Я — орудие Их мести, а Они мстят тем, кто оскверняет Их Гробницы и пытается увидеть то, чего видеть нельзя! Прекрати же, наконец, лгать и хвастать! Разве тебе не ясно, что стоит мне произнести лишь слово, и мой телохранитель войдет и отрубит тебе голову? А если я просто уйду и запру эту дверь, то никто никогда не придет сюда, и ты умрешь здесь, в темноте, и Те, кому я служу, поглотят твою плоть и душу, и лишь твои пустые кости останутся лежать здесь в пыли…
Он тихонько кивнул.
От волнения она начала заикаться, она не находила слов и выбежала прочь из комнаты, с лязгом задвинув засов. Пусть думает, что она больше не вернется! Пусть покрывается потом там, в темноте, пусть извивается и дрожит от страха! Пусть произносит свои дурацкие, бесполезные здесь заклинанья!
Но почему-то вдруг Ара подумала, что он наверняка ведет себя точно так же, как тогда, перед запертой Железной Дверью: вытянулся себе и преспокойно спит, безмятежный, как овечка на залитом солнцем лугу.
Она плюнула на запертую дверь и легким жестом отогнала скверну, а потом почти бегом бросилась по коридорам в сторону Священного Подземелья.
Когда она ощупью пробиралась к двери-ловушке, то пальцами вновь ощутила те гладкие поверхности и ажурные каменные узоры, похожие на замерзшие кружева. Ей нестерпимо захотелось зажечь фонарь, еще раз увидеть — хоть на мгновение! — изрезанные временем камни, очарование мерцающих огней. Ара плотнее зажмурилась и поспешила прочь.
Глава 7
Великое сокровище
Никогда еще ежедневные заботы не казались ей столь многочисленными, столь маловажными и столь долгими. Все эти бледные беспокойные девочки-ученицы со своими тайными делишками, все эти важные жрицы, на вид суровые и холодные, а на самом деле опутанные тайными сетями зависти, несчастий, мелких амбиций и нерастраченных страстей, — все эти женщины, среди которых она жила всегда, которые составляли для нее мир людей, теперь казались ей просто жалкими и надоедливыми.
Но сама она служит Великим Силам; она жрица мрачной Ночи и свободна от мелочной суеты. Она не обязана заботиться об однообразном убожестве их быта, когда единственная отрада — более густой слой жира на чечевице в твоей тарелке, а не в тарелке соседки… Она свободна ото всех этих забот, связанных с дневной жизнью. Там, под землей, дня не существует, там всегда ночь, только ночь.
И в этой бесконечной ночи — ее узник: темнокожий человек, владеющий тайным мастерством колдуна; на нем железные оковы, он заперт среди каменных стен и ждет, что принесет она ему на этот раз: воду, хлеб и жизнь или мясницкий нож, чашу для жертвенной крови и смерть.
Она никому, кроме Коссил, не говорила о проникшем в Лабиринт мужчине, ну а Коссил, разумеется, тоже. Теперь узник уже три дня и три ночи находился в Расписной Комнате, но Коссил так и не задала Аре ни одного вопроса. Может, она считает, что мужчина умер и Ара велела Манану оттащить его труп в Комнату Скелетов? Что-то не похоже на Коссил. Слишком редко она принимает что-нибудь на веру. Но Ара решила, что ничего страшного в молчании Коссил нет: она ведь сама хотела, чтобы вся эта история оставалась в тайне, а кроме того, ненавидела, когда ее, Верховную Жрицу, вынуждали задавать вопросы. Да еще после того, как Ара сказала, чтобы она не лезла не в свое дело. Коссил просто подчинилась приказанию Единственной.
Но если считается, что этот человек в Лабиринте умер, то Ара не может больше просить для него еду. Что ж, придется обойтись без еды самой, время от времени воруя в кладовой яблоки и лук. Завтрак и ужин ей в Малый Дом приносили, поскольку она заявила, что предпочитает есть в одиночестве. И каждую ночь она относила всю свою еду в Расписную Комнату, оставляя себе лишь суп. Она привыкла к постам, дня по четыре легко могла обойтись совсем без еды, так что пока не придавала этому особого значения. Пленник заглатывал приносимую ею жалкую порцию хлеба, сыра и фасоли, как жаба муху: хоп — и готово! Совершенно очевидно, что он мог бы съесть и раз в пять-шесть больше; но каждый день он так торжественно благодарил ее, словно она задала ему настоящий пир. О пирах во дворце Короля-Бога она слыхала; во всех этих историях рассказывалось об оковалках жареного мяса, толстых, намазанных маслом ломтях хлеба, о вине в хрустальных бокалах… Все-таки этот волшебник был очень странным!
— А как живут люди на Внутренних Островах?
Она принесла из Храма маленький складной стульчик из слоновой кости, так что теперь у нее не было необходимости стоять, задавая ему вопросы, и не нужно было садиться на пол, оказываясь при этом на одном уровне с ним, узником.
— Ну, на каждом острове по-разному, там ведь очень много разных островов. Четыре раза по сорок — так говорят. И это только острова Архипелага, а есть еще и Пределы. Никому еще не удавалось проплыть по всем Пределам из конца в конец, никто еще не сосчитал всех тамошних островов. Каждый из них чем-то отличается от других. Но самый красивый, пожалуй, все-таки Хавнор, великий остров в самом сердце нашего мира. Там, на берегу широкого залива, где всегда полно разных кораблей, расположена его столица, город Хавнор. С башнями из белого мрамора. Над каждым достаточно богатым домом возвышается такая башня — целый лес белых башен… Дома крыты красной черепицей, а мосты над каналами и проливами украшены мозаикой — красной, синей и зеленой. И флаги у каждого княжеского рода тоже разноцветные; они гордо реют над белыми башнями. На самой высокой башне города укреплен меч великого Эррет-Акбе — острым концом в небо. Когда над Хавнором встает солнце, то самые первые его лучи попадают как раз на этот клинок и он весь сверкает, а на закате становится совсем золотым и с наступлением сумерек некоторое время еще светится в темном небе.
— А кто такой Эррет-Акбе? — хитро притворилась Ара.
Он поднял на нее глаза и сначала не сказал ничего, только слегка усмехнулся. Потом, словно передумав, заговорил:
— Правда, ты ведь, наверно, знаешь о нем совсем мало. Вряд ли намного больше, чем то, что он некогда бывал на земле каргов. Так что же все-таки ты сама знаешь о нем?
— Что он потерял свой амулет и свой колдовской посох и утратил свою волшебную, силу, как и ты, и… — начала она, — …и что он бежал от нашего Верховного Жреца и скрылся где-то на западе, и драконы убили его… Впрочем, если бы он тогда попал сюда, в Лабиринт, драконам нечего было бы делать!
— Это верно, — откликнулся узник.
Ей вдруг расхотелось продолжать разговор об Эррет-Акбе: она словно почувствовала здесь некую опасность.
— Говорят, что он был Повелителем Драконов. И ты вроде бы тоже. Ну-ка расскажи мне, что это такое?
Она все время старалась говорить насмешливо, однако он отвечал ей прямо и просто, принимая все вопросы как должное.
— Это тот, с кем драконы станут разговаривать, — сказал он. — Только такой человек может называться Повелителем Драконов; во всяком случае, суть в этом. Ни трюком, ни обманом нельзя заставить дракона слушаться человека, хотя большинство людей считают, что это возможно. У драконов хозяев нет. И вопрос всегда лишь в том, будет ли дракон говорить с тобой или просто тебя съест. Если можно рассчитывать, что все-таки он соизволит с тобой заговорить, вот тогда ты и можешь считаться Повелителем Драконов.
— Разве драконы умеют говорить?
— Разумеется! На самом древнем языке, что называется Истинной Речью; мы, люди, учимся ей с большим трудом и используем лишь отдельные слова для своих магических заклинаний и прочего волшебства. Ни один человек не знает всех слов Истинной Речи — даже десятой их части. Человечество для этого слишком молодо. Драконы же существуют многие тысячелетия… Так что с ними поговорить стоит, как ты можешь догадаться.
— А здесь, в Атуане, драконы есть?
— Нет, и уже много столетий. Мне кажется, на острове Карего-Ат их тоже нет. А вот на самом вашем северном острове, Гур-ат-Гур, говорят, все еще живут в горах крупные драконы. С Внутренних Островов все они теперь убрались далеко на запад, на самый край Предела. Никто из людей не живет там, и очень редко проплывают мимо тех островов суда. Проголодавшись, драконы порой летают на острова, расположенные восточнее, но это случается редко. Я видел остров, куда они прилетали специально на свои драконьи балы. Мощные крылья поднимают их все выше и выше над Западным Морем, и они кружат, словно подхваченные ветром золотые и осенние листья… — Это воспоминание захватило его, и он остановившимся взором уставился в разрисованные стены своей темницы, словно видел сквозь них, сквозь толщу земли, сквозь тьму, Открытое Море, тихие воды на закате и в вышине — золотистых драконов, кружащих в порывах теплого ветра.
— Ты лжешь! — яростно сказала Ара. — Ты все это выдумал!
Он озадаченно посмотрел на нее.
— Зачем же мне лгать, Ара?
— Чтобы сделать из меня дурочку, чтобы показать, какая я глупая и трусливая, чтобы самому казаться мудрым, храбрым и могущественным, и Повелителем Драконов, и так далее и тому подобное… Ты видел, как танцуют драконы, и видел башни Хавнора, и ты знаешь обо всем. А я не знаю совсем ничего и нигде никогда не была. Но все, что ты якобы знаешь, — ложь! Ты ничтожество, ты просто вор и мой пленник, и у тебя нет бессмертной души, и ты никогда не выйдешь отсюда! Даже если и существуют океаны, и драконы, и белые башни, и все прочее — ты никогда больше не увидишь их, ты никогда больше не увидишь даже солнечного луча. Да, мне ведомы лишь тьма, ночь, Подземелье. Это все, что здесь действительно есть. И это все, что мне, в конце концов, нужно знать. Молчание и темнота. Ты, волшебник, знаешь все. А я — одну лишь вещь, зато подлинную!
Он опустил голову. Его руки с длинными пальцами, золотисто-коричневые, покоились на коленях. Она видела четыре белых страшных полосы у него на щеке. Да, он бывал в более далеких и темных местах, чем ее Лабиринт; он лучше нее знал, что такое смерть, даже это… Волна ненависти поднялась у нее в груди, ненависть душила ее. Ну почему, почему он сидит вот так — беззащитный и одновременно такой сильный? Почему она не может одержать над ним верх?
— Я ведь почему оставила тебя в живых? — неожиданно сказала она, не думая, что говорит. — Я хочу, чтобы ты показал мне всякие колдовские трюки. Пока у тебя хватит умения показывать мне что-то новое, будешь жив. Если же все это окажется враньем, тогда что ж, придется с тобой покончить. Это ты понимаешь?
— Да.
— Прекрасно. Тогда давай начинай.
На мгновение он уронил голову на руки, пытаясь как-то переменить позу. Железный обруч вокруг талии не давал ему возможности сесть поудобнее; относительно спокойно можно было лишь лежать, вытянувшись на полу.
Наконец он поднял к ней лицо и заговорил очень серьезно:
— Слушай, Ара. Я действительно маг, хоть ты и называешь меня колдуном. Я обладаю знанием некоторых Высших Искусств и Сил. Правда также и то, что здесь, где властвуют Древние Силы, мое могущество крайне мало, а мастерство и знания перестают мне подчиняться. Я, конечно же, и сейчас способен создать для тебя иллюзию, или «чудо», как ты это называешь, но это самая примитивная часть волшебства. Я мог создавать иллюзии еще совсем ребенком; это у меня получится даже здесь. Но, если ты поверишь в иллюзии, они в конце концов могут и напугать тебя; тогда ты разгневаешься и захочешь меня убить. А если ты в эти чудеса не поверишь, то сама увидишь, что любая иллюзия — всего лишь обман, фокус, как ты правильно сказала. Так что в любом случае за иллюзии мне придется заплатить жизнью. А мне пока что — и это моя основная цель — хочется остаться в живых.
Ей почему-то стало весело, и она ответила:
— О, ты некоторое время в любом случае еще останешься в живых. Разве ты этого не понял? Глупец! Хорошо, покажи мне свои иллюзии. Я знаю, что все это ненастоящее, и бояться не стану. Я бы не испугалась, даже если бы все это было на самом деле, кстати сказать. Но давай, начинай. Твоя драгоценная шкура в безопасности, по крайней мере до сегодняшнего вечера.
Теперь рассмеялся уже он — ее неумелой грубости. Они играли сейчас его жизнью, словно мячом.
— Что бы ты хотела увидеть?
— А что ты можешь мне показать?
— Что угодно.
— Ох, ну почему ты все время хвастаешь!
— Нет, — сказал он, явно обиженный. — Я не хвастаюсь. Что-что, а хвастаться я не собирался.
— Покажи мне что-нибудь на свой вкус. Чтобы стоило посмотреть. Что угодно!
Он опустил голову и какое-то время внимательно смотрел на свои руки. Ничего не происходило. Сальная свеча в ее фонаре горела неярко и ровно. Темные существа на стенах, крылатые, словно птицы, но не способные улететь, смотрели на них своими мутно-красными и белыми глазами, склонялись ближе в полной тишине. Ара вздохнула, разочарованная и немного огорченная. Он был слишком слаб; говорил о великом, а сам даже самой малости сделать не способен. Врать он горазд и больше ничего! Даже вора и то из него хорошего не получилось.
— Ну хорошо, хватит, — сказала она, потеряв терпение, и подобрала свои юбки, намереваясь встать. Материя как-то странно зашуршала. Ара посмотрела вниз и застыла в изумлении.
Тяжелое черное одеяние, которое она носила много лет, исчезло. Ара была в платье из бирюзового шелка ясного мягкого оттенка, напоминающего вечернее небо. Платье широкими фалдами ниспадало до полу, красиво облегая бедра; юбка была расшита тонкими серебряными нитями, мелким жемчугом и каплями горного хрусталя; все это нежно переливалось, светилось и играло, словно легкий апрельский дождь.
Она глянула на волшебника, не в силах произнести ни слова.
— Нравится тебе?
— Где же…
— Это похоже на то платье, что я видел однажды на принцессе в Хавноре, во время празднования Солнцеворота, — сказал он, удовлетворенно глядя на созданное им чудо. — Ты сказала «чтобы стоило посмотреть»… Мне захотелось показать тебе — тебя.
— Сделай так… сделай так, чтобы это исчезло.
— Ты отдала мне свой плащ, — сказал он как бы с упреком. — Разве не могу я дать тебе хоть что-нибудь взамен? Ну хорошо, не беспокойся. Это ведь только иллюзия. Смотри.
Он, казалось, и пальцем не пошевелил и явно не сказал ни единого слова, но голубое чудо шелков исчезло. Ара снова стояла перед ним в грубом своем черном одеянии.
Некоторое время она не двигалась и молчала.
— А как мне узнать, — спросила она наконец, — что ты на самом деле такой, каким кажешься?
— Ты и не сможешь, — ответил он. — Я же не знаю, каким кажусь тебе.
Она снова задумалась.
— Ты можешь обмануть меня, и я стану видеть в тебе… — Она внезапно умолкла, потому что он едва заметным жестом указал наверх. Она решила было, что он наводит чары, и быстро отпрянула к двери; но, проследив, куда он показывает, обнаружила на темном фоне сводчатого потолка комнаты маленький, чуть более светлый квадратик: открытый наблюдательный глазок!
Из глазка не проникало яркого света, и Ара ничего не успела заметить, ничего особенного не услышала оттуда, сверху, но волшебник снова незаметно показал туда и посмотрел на девушку вопросительно. Оба на какое-то время замерли.
— Твое волшебство — просто забава для детей, — ясным голосом громко сказала Ара. — Все это фокусы и обман. Я видела достаточно. Тебя скормят Безымянным. Я больше сюда не приду.
Взяла фонарь и вышла, закрыв дверь со страшным лязгом и до отказа задвинув засов. За дверью она остановилась в полном смятении. Что же ей теперь делать?
Как много видела и слышала Коссил? О чем они говорили? Она уже не могла припомнить. Похоже, она не сказала узнику ничего из того, что намеревалась сказать. Он все время сбивал ее с толку своими рассказами о драконах, о белых башнях, о том, как узнал имя одного из Безымянных, о том, что хочет жить, о том, как благодарен ей за теплый плащ, на котором лежит… И ни разу не сказал он о том, о чем вроде бы должен был просить ее. Она и сама не спросила его о том талисмане, что прятала на груди.
В любом случае ужасно, что Коссил давно их подслушивала.
Впрочем, пусть ее! Что плохого может сделать ей, Единственной, какая-то Коссил! Но она уже знала ответ: нет ничего проще, чем убить ястреба, посаженного в клетку. Этот узник совершенно беспомощен в своей каменной темнице; к тому же он закован в цепи. Жрице Короля-Бога нужно лишь послать своего телохранителя Дьюби, и тот задушит пленника ночью; или, если они с Дьюби не решатся так далеко заходить в Лабиринт, Коссил может просто насыпать в Расписную Комнату через глазок какого-нибудь ядовитого порошка. У нее ведь целые короба, полные сосуды всяких гнусных снадобий; некоторыми из них можно отравить воду или еду; некоторыми — воздух. Вдыхая этот воздух, человек неизбежно умирает. И волшебник уже к утру был бы мертв, и все кончилось бы. И там, в Священном Подземелье, никогда больше не было бы света.
Ара спешила по узким каменным коридорам к входу со стороны Священного Подземелья, где ждал ее Манан, терпеливо сидя на корточках в темноте, словно старая жаба. Он очень волновался во время ее визитов к узнику. Ара не позволяла ему провожать ее. Но разрешила ждать у выхода из Подземелья. Теперь она обрадовалась, что он здесь, под рукой. Ему, по крайней мере, она доверяла полностью.
— Манан, послушай. Ты прямо сейчас должен пойти в Расписную Комнату. Скажи этому человеку, что тебе велено его заживо похоронить в Священном Подземелье под Гробницами. — Маленькие глазки Манана загорелись. — Скажи это очень громко. Отопри замок на оковах и отведи его… — она запнулась, потому что еще не решила, где лучше спрятать узника.
— В Священное Подземелье, — с готовностью подсказал Манан.
— Нет, глупец. Я велела тебе это сказать, а не сделать. Погоди…
Какое же место недосягаемо для Коссил и ее шпионов? Лишь самое сердце Лабиринта, священное, потаенное, куда, боясь Безымянных, Коссил ходить не осмеливается. Но ведь Коссил способна на все! Возможно, она и боится Темных Сил, но вполне может подчинить свой страх намеченному плану. Совершенно неизвестно к тому же, какую часть Лабиринта она знает — возможно, ей все рассказала Тхар или сама Ара в своей предыдущей жизни, а может, она самостоятельно исследовала подземные коридоры с давних пор. Ара подозревала, что Коссил в любом случае знает куда больше, чем хочет показать. Но существовал один путь, о котором она не знала наверняка. Самый тайный.
— Ты поведешь этого человека следом за мной. Причем в полной темноте. Затем я приведу тебя обратно, ты выроешь здесь яму и опустишь туда пустой гроб, а сверху снова забросаешь землей, так, чтобы было заметно, что могила свежая — если кто-то вздумает искать ее. Могила должна быть глубокой. Ты понял?
— Нет, — ответил Манан мрачно и испуганно. — Малышка, этот обман… лишен мудрости. Это нехорошо. Мужчины не должны быть среди Безымянных! Неизбежно наказание…
— Одному старому дураку в наказание отрежут язык, о да! Ты еще осмеливаешься говорить мне, что я делаю мудро, а что нет! Я следую приказаниям Темных Сил! Иди за мной!
— Прости, маленькая госпожа, прости меня.
Они вернулись в Расписную Комнату. Там Ара подождала за дверью, пока Манан отпирал оковы. Она слышала, как низкий голос волшебника спросил: «А теперь куда, Манан?», и хриплый альт евнуха ответил сердито: «Моя госпожа говорит, что тебя похоронят заживо. Под Гробницами. Вставай!» Она слышала, как брякнули тяжелые цепи — ее словно ударили хлыстом.
Узник вышел из Расписной Комнаты со связанными кожаным ремнем Манана руками. Сам Манан подгонял его сзади, ведя, словно собаку, на короткой сворке, только железный ошейник был у пленника не на шее, а на талии. Глаза волшебника метнулись было к девушке, но она быстро задула свечу и беззвучно скользнула в темноту. Она шла впереди той слегка замедленной походкой, какой обычно ходила здесь, не зажигая света, легко и почти постоянно касаясь стен кончиками пальцев обеих рук. Манан и узник неуклюже тащились сзади; из-за короткой цепи они постоянно натыкались друг на друга. Но она не желала, чтобы тот или другой запомнил этот путь, а потому заставляла их идти в темноте.
Поворот налево от Расписной Комнаты, пропуск, поворот в коридор направо, пропуск справа, потом длинный извилистый коридор и череда ступеней, ведущих вниз, много-много ступеней, скользких и чересчур узких для нормальной человеческой ступни. Дальше этой лестницы она не ходила никогда.
Здесь еще больше пахло могилой; воздух был совершенно неподвижен, в нем чувствовался какой-то еще странный запах. Она ясно помнила всю схему пути, даже слышала интонации Тхар, с которыми та перечисляла ей когда-то повороты и пропуски. Вниз по ступеням (у Ары за спиной узник споткнулся в непроницаемой тьме, и она услышала, как он охнул, когда Манан резким рывком цепи поставил его на ноги) и в конце лестницы свернуть налево. Держаться левой стороны, сделать три пропуска, потом свернуть в первый коридор направо. Туннели изгибались, образовывали углы, ни один из них не был достаточно прямым. «Теперь ты должна обойти по краю Колодец, — прозвучал в ее памяти голос Тхар. — Там очень узко».
Она замедлила шаг, ощупала вокруг себя стены и — одной рукой — пол перед собой. Довольно большой участок туннеля здесь был прямым и широким, создавая обманчивое ощущение безопасности. Внезапно ее рука, ни на мгновение не перестававшая ощупывать каменный пол, ощутила пустоту. Сначала край Колодца и дальше — Ничто. Справа стена коридора отвесно уходила в Колодец. Слева по самому краю был узенький выступ, вряд ли намного шире человеческой ладони.
— Здесь Колодец. Встаньте лицом к левой стене, прижмитесь как можно ближе и идите боком. Нащупывайте путь ногами. Держись за цепь, Манан… Ты уже встал на выступ? Он постепенно становится уже. Не опирайся на пятки. Вот, я уже прошла. Давай руку. Ну вот…
Дальше туннель шел короткими изгибами со множеством боковых проходов. Из некоторых странным образом, как бы стелясь по полу, доносилось эхо их шагов; еще более странным было здесь едва заметное движение воздуха, как бы всасываемого куда-то внутрь. Эти боковые коридоры, должно быть, все оканчивались колодцами, подобными тому, который они только что миновали. Возможно, под этой, самой нижней частью Лабиринта, было некое пустое пространство, гигантская пещера, настолько глубокая, что сам Лабиринт не шел с ней ни в какое сравнение. Необъятная черная пустота.
Над этой пустотой, там, где они шли и шли по темным туннелям, подземелье постепенно становилось все уже и ниже, пока Аре не пришлось замедлить шаг. Неужели этому пути нет конца?
Конец наступил неожиданно: они уперлись в запертую дверь. Согнувшись, Ара бросилась к ней, протягивая вперед руки, и нащупала замочную скважину; потом нашла у себя на поясе, в общем кольце, маленький ключик, которым никогда еще не пользовалась: серебряный, с головкой в виде дракона. Ключ легко вошел в скважину и повернулся. Она открыла дверь в Великую Сокровищницу Гробниц Атуана. Сухой кисловатый застойный воздух пахнул из темноты им навстречу.
— Манан, ты не можешь входить туда. Подожди за дверью.
— Ему можно, а мне нет?
— Если ты войдешь туда, Манан, обратно не выйдешь. Это закон для всех, кроме меня. Ни одна живая душа, кроме Единственной, ни разу не вышла из Сокровищницы назад. Ну что, пойдешь?
— Я лучше подожду снаружи, — меланхолично ответил Манан в темноте. — Госпожа, госпожа, не закрывай дверь…
Его страх так подействовал на нее, что она оставила дверь распахнутой настежь. Это место внушало ей какой-то тупой ужас, она даже стала опасаться за своего пленника, хотя тот и был крепко связан. Внутри она зажгла свет. Руки ее дрожали. Свеча в фонаре разгоралась неохотно; воздух был спертым и мертвящим. В желтоватых отблесках света, который казался ярким после долгого пути по темным коридорам, стены Сокровищницы как бы нависали над людьми. По стенам плясали тени.
Там стояло шесть огромных сундуков, целиком вытесанных из камня и покрытых толстенным слоем пыли, серой, словно плесень на засохшей хлебной корке. Больше там не было ничего. Стены из грубых каменных глыб, потолок низкий. И холод. Тот глубинный, могильный холод, который, казалось, останавливал в жилах кровь. Там даже паутины не было, только серая пыль. Ничего живого, даже тех редких маленьких белесых паучков, что жили в Лабиринте. Пыль лежала плотным слоем, и каждая пылинка, возможно, равнялась прошедшему здесь дню. Здесь не было ни времени, ни света: дни, месяцы, годы, века — все стало прахом, серой пылью.
— Вот место, которое ты искал, — сказала Ара ровным голосом. — Это Великая Сокровищница. Ты пришел сюда. И никогда не сможешь отсюда уйти.
Он не сказал ничего, и лицо его было спокойно, но в глазах мелькнуло нечто, тронувшее Ару: отчаяние, чувство преданного человека…
— Ты сказал, что хочешь жить. Это единственное место, известное мне в Лабиринте, где ты можешь остаться в живых. В любом другом Коссил убьет тебя сама или заставит меня сделать это, Ястребок. Но сюда ей не добраться.
Он по-прежнему молчал.
— Ты все равно никогда не смог бы выйти из Подземелья, разве тебе это не понятно? Так что терять нечего. Зато ты все-таки добрался до… до конца своего путешествия. То, что ты искал, находится здесь.
Он сел на один из огромных сундуков; казалось, он измучен до предела. Тянущаяся за ним цепь резко звякнула о камень. Он посмотрел вокруг — на серые стены, на пляшущие тени, потом на нее, Ару.
Она отвернулась и стала разглядывать каменные сундуки. Не было ни малейшего желания открывать их. Ей было все равно, какие бы богатства ни гнили там.
— Здесь тебе не нужны цепи, — она подошла к нему и отперла замок на железном обруче, потом развязала Мананов кожаный ремень, стягивавший его запястья. — Я должна буду запереть дверь, но когда я приду снова, то оставлю ее открытой; я верю тебе. Ты понимаешь, что не можешь уйти, что не должен даже пытаться сделать это? Я — оружие Их мести, я выполню Их волю; но если я обману Их — если ты обманешь меня! — то Они станут мстить сами. Не пробуй уйти отсюда, не старайся навредить мне или обмануть меня, когда я приду в следующий раз. Ты должен мне верить.
— Я сделаю, как ты говоришь, — мягко сказал он.
— Когда смогу, я принесу еду и воду. Немного, правда. Воды, наверно, достаточно, а еды пока маловато. Я ведь голодаю, ты разве не заметил? Впрочем, еды тоже будет вполне достаточно, чтобы не умереть с голоду. Может быть, мне не удастся прийти день или два; может быть, даже дольше. Мне нужно сбить Коссил со следа. Но я непременно приду. Обещаю. Вот фляжка. Экономь воду, я не смогу скоро вернуться. Но я приду.
Он поднял к ней лицо. Выражение его было странным.
— Осторожней, Тенар, — сказал он.
Глава 8
Имена
Ара отвела Манана обратно по узкому извилистому коридору и оставила его в Священном Подземелье, чтобы он немедленно выкопал могилу — доказательство для Коссил, что вор наказан по заслугам. Было уже поздно, и она сразу прошла к себе, в Малый Дом, легла в постель, но среди ночи вдруг проснулась. Она вспомнила, что забыла свой плащ в Расписной Комнате. У него нет ни одной теплой вещи в этом сыром подвале, только его собственный плащ, короткий и слишком легкий; ему не на что будет лечь — только на холодные пыльные камни… Ледяная могила, ледяная могила, в отчаянии думала она. Однако слишком устала, чтобы проснуться окончательно, и вскоре снова скользнула в сон. Ей снилось, что фигуры, изображенные на стенах Расписной Комнаты, — это души умерших. Они были похожи на потрепанных птиц с человеческими руками, ногами и лицами. Они сидели на корточках в пыли темного подземелья; летать они не могли. Пищей им служила глина, питьем — пыль. Это были души тех, кто не возродился, тех древних людей, тех неверующих, кого поглотили Безымянные. Они так и сидели вокруг нее на корточках, погруженные в тень, и время от времени издавали какое-то странное поскрипывание или попискивание. Вдруг один из них подошел к ней совсем близко. Она сначала испугалась и хотела отбежать, но не могла даже пошевелиться. У крылатого существа было какое-то птичье, нечеловеческое лицо, а волосы очень красивые, золотистые, и нежный, тихий женский голос.
— Тенар, — сказало существо, — Тенар.
Ара как бы проснулась. Но рот ее оказался залепленным глиной, и лежала она в каменной гробнице глубоко под землей. Руки и ноги были крепко связаны. Ни шевелиться, ни говорить она не могла.
И тут отчаяние ее достигло такого предела, что грудь разорвалась и душа, словно огненная птица, вылетела оттуда, сотрясла, разрушила каменные стены темницы и вырвалась к свету дня — настоящему, только очень слабому: она проснулась в своей лишенной окон комнатке Малого Дома.
На этот раз проснувшись по-настоящему, Ара села в постели, совершенно измученная ночными кошмарами; голова была как в тумане. Девушка натянула платье и пошла к бочке с водой, стоявшей во внутреннем дворике Малого Дома. Она опустила сперва руки, потом лицо, потом всю голову в ледяную воду, пока ее не начало трясти от холода, буквально останавливавшего кровь. Потом, откинув назад мокрые волосы, по которым ручьями стекала вода, Ара долго стояла, выпрямившись и глядя в утреннее небо.
Солнце взошло совсем недавно, был ясный зимний день. Прозрачная голубизна небес чуть отливала желтым. Высоко-высоко в небе, отражая солнечные лучи и вспыхивая золотом, кружила какая-то крупная птица, то ли сокол, то ли орел.
— Я — Тенар, — сказала она про себя и содрогнулась от холода, ужаса и возбуждения, по-прежнему стоя под чистым утренним небом. — Я вновь обрела свое имя. Я — Тенар!
Золотистая птица в небе полетела на запад, к горам, и скрылась из виду. Солнечные лучи позолотили крышу Малого Дома. Зазвенели овечьи колокольчики в хлеву. Запах дыма и гречневой каши из кухни распространился в прозрачном свежем воздухе.
— Ох, до чего же я голодна!.. Но как он узнал? Как он узнал мое имя? Ох, мне просто необходимо немедленно поесть, как ужасно я голодна…
Она надвинула на голову капюшон и побежала завтракать.
После трех дней полуголодного существования она ощутила приятную тяжесть в желудке и уверенность в собственных силах; она уже не чувствовала себя маленькой дикаркой, беззаботной и пугливой одновременно. Теперь она знала, что у нее достанет сил, чтобы справиться с Коссил.
Она сама подошла к величественной жрице на пути из трапезной и тихо сказала:
— Я покончила с вором… Что за чудесный сегодня день!
Холодные серые глаза искоса глянули на нее из-под черного капюшона.
— Я полагала, что Единственная должна воздерживаться от пищи после принесения человеческой жертвы в течение трех дней?
Коссил сказала правду. Ара совсем забыла об этом, и на лице ее появилось растерянное выражение.
— Он скорее всего еще не умер, — сказала она наконец, овладев собой и стараясь сохранить тот же легкий равнодушный тон, что и в начале разговора. — Он похоронен заживо. Под Камнями. В гробу. Там еще осталось сколько-то воздуха — ведь это не железный, а деревянный гроб. Это будет довольно медленная смерть. Как только я узнаю, что он умер, тут же начну пост.
— А как ты узнаешь?
Сбитая с толку, Ара снова заколебалась.
— Узнаю. Безы… Мои Хозяева сообщат мне.
— Понятно. Где же могила?
— В Священном Подземелье. Я велела Манану выкопать ее прямо под гладким Камнем. — Она не должна была отвечать торопливо, дурацким извиняющимся тоном! Перед Коссил ей нужно держаться в высшей степени достойно.
— Живым? В деревянном гробу? Дело рискованное, если учесть, что он волшебник, госпожа моя. Ты проверила, заткнут ли его рот, чтобы он не мог произнести заклятье? И связаны ли его руки? Они умеют плести колдовство едва заметным движением пальцев, даже если у них отрезан язык.
— Ничего особенного в его волшебстве нет, все это просто фокусы! — заявила Ара громко. — Он похоронен, и мои Хозяева ждут его душу. А остальное тебя не касается, жрица!
На этот раз она явно переборщила. Их могли услышать: совсем рядом шла Пенте с двумя подружками; Дьюби и жрица Меббет тоже находились неподалеку. Девушки, естественно, тут же навострили уши, и Коссил это заметила.
— Меня касается все, что здесь происходит, госпожа. Все, что происходит в его королевстве, касается нашего Короля-Бога, которому я верно служу. Он может заглянуть в любое подземелье, даже в сердце любого человека может он заглянуть — и никто не смеет запретить ему это!
— Я могу. В Гробницы никто войти не смеет, это запрещено Безымянными. Безымянные существовали задолго до появления твоего Короля-Бога, они будут существовать и после него. Говори о Них тихим голосом, жрица. Опасайся их гнева. Они могут явиться в твои сны, проникнуть в самые темные, потайные закоулки твоей души, и безумие охватит тебя.
Глаза Ары сверкали. Лицо Коссил было скрыто, как бы втянуто внутрь черного капюшона. Пенте и остальные наблюдали за ними с ужасом и восторгом.
— Они слишком стары, — голос Коссил звучал негромко, это был скорее какой-то свистящий шепот, доносившийся из глубин капюшона. — Они стары. Им уже забывают поклоняться всюду, разве что только здесь о них еще помнят. Ушла их сила. Теперь они лишь тени былого. Они бессильны, и не пытайся запугать меня, Ара. Ты — Первая Жрица, но разве не может статься, что и Последняя?.. Ты меня не обманешь. Я вижу тебя насквозь. Тьма ничего не может от меня скрыть. Берегись, Ара!
Коссил повернулась и двинулась дальше своим широким размашистым шагом, круша замерзшие комья земли тяжелыми башмаками с ремешками и пряжками. Она шла к храму с белыми колоннами, принадлежащему Королю-Богу.
Девушка осталась стоять посреди двора, тонкая, темноволосая, словно примерзнув к земле. Все остальные вокруг тоже как бы застыли. Во всем огромном пространстве Святого Места только Коссил упорно двигалась к своей цели на фоне мертвой пустыни и неподвижных гор на горизонте.
— Да поглотят Безымянные твою душу, Коссил! — крикнула вдруг Ара странным голосом, похожим на пронзительный крик ястреба, и, подняв руку с вытянутыми пальцами, застыла, произнося свое проклятье прямо в спину толстой жрицы. Коссил в этот миг уже ступила на первую ступеньку лестницы, ведущей в храм; она вздрогнула, но не остановилась и не обернулась. Медленно поднялась по ступеням и вошла в открытую дверь.
Весь тот день Ара провела на нижней ступени Незанятого Трона. Она не осмеливалась пойти в Лабиринт; не хотела появляться и среди других жриц. Тяжесть, лежавшая на душе, заставила ее много часов просидеть в одиночестве в холодном полумраке Храма. Она тупо смотрела на двойной ряд толстых бледных колонн, уходящих во мрак в дальнем конце зала, на пятна солнечного света, проникавшего сюда сквозь дыры в кровле, на плотные клубы дыма, поднимающегося с бронзового блюда на треножнике возле Трона. Тоненькой мышиной косточкой она что-то рисовала в пыли, покрывавшей мраморные ступени. Голова опущена, ум лихорадочно работает, но словно вхолостую. Кто же я? — спрашивала она себя. И не находила ответа.
Пришел Манан. Отдуваясь, протащился через весь зал с двойным рядом колонн. Дневной свет совсем перестал пробиваться сквозь дыры в крыше, а холод усилился. Тестообразное лицо Манана было очень печально. Он остановился на некотором расстоянии от Ары, бессильно свесив
огромные свои руки. Обтрепанная кромка его грязного одеяния была сзади вся затоптана каблуками.
— Маленькая госпожа…
— В чем дело, Манан? — Она посмотрела на него с какой-то туповатой нежностью.
— Малышка, позволь мне сделать то, что ты велела… что ты велела мне якобы сделать. Он должен умереть, малышка! Он просто заколдовал тебя. И Коссил тебе непременно отомстит. Она старая и жестокая, а ты еще слишком молода. У тебя не хватит сил…
— Она ничем не может мне повредить.
— Если бы она даже убила тебя при всех, в открытую, то все равно во всей Империи никто не осмелился бы ее наказать. Она Верховная Жрица Короля-Бога, а Король-Бог правит нашей страной. Но в открытую она тебя не убьет. Она сделает это тайком, с помощью яда, в ночи.
— Тогда я снова воскресну.
Манан стиснул свои громадные руки.
— Может быть, она и не станет убивать тебя, — прошептал он.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Она может запереть тебя в какой-нибудь комнате в… там, внизу… Как ты сделала это с ним. И ты проживешь, может быть, еще годы и годы. Годы… И не сможет родиться новая Единственная, ибо ты не будешь мертва. И в Храме не будут больше исполнять священные танцы в безлунные ночи, не будут совершать жертвоприношения, не станут разливать кровь у Трона, и само поклонение Темным Силам может быть предано забвению — навсегда. Она и ее Король-Бог хотели бы, чтобы это произошло.
— Но Они освободят меня, Манан.
— Только не тогда, когда Они исполнены гнева, маленькая госпожа, — прошептал он.
— Гнева?
— Из-за него!.. Это неотомщенное святотатство! О, малышка, малышка! Такого Они не прощают!
Ара по-прежнему сидела в пыли на нижней ступеньке лестницы, низко склонив голову. Она внимательно изучала крошечную косточку на своей ладони; это был мышиный череп. Совы на балках под куполом слегка завозились; приближалась ночь.
— Не ходи сегодня ночью в Лабиринт, — очень тихо проговорил Манан. — Ступай в свой дом и ложись спать. А утром сходи к Коссил и скажи, что сняла с нее проклятие. И все. Тебе больше не нужно будет тревожиться. Я представлю ей доказательство.
— Доказательство?
— Мертвого колдуна.
Ара не пошевелилась. Только медленно сжала руку, и крошечный череп хрустнул и сломался. Когда она вновь раскрыла ладонь, там не было ничего, кроме мелких осколков и пыли.
— Нет, — сказала она. И отряхнула пыль с ладони.
— Он должен умереть. Он наложил на тебя заклятье, опутал чарами. Ты погибла, Ара!
— Никакого заклятья он на меня не накладывал. Ты стар и труслив, Манан; старуха напугала тебя. Как ты намерен добраться до него, войти, убить и получить свое «доказательство»? Разве ты знаешь путь к Великой Сокровищнице? Неужели, пройдя по темным туннелям прошлой ночью, ты запомнил все повороты? И можешь добраться до лестницы? До Колодца? До той двери? А как ты откроешь эту дверь?.. О, бедный старый Манан, твои мозги совсем заплыли жиром. Она просто напугала тебя. Ты ступай себе в Малый Дом, ложись спать и забудь обо всем этом. И никогда не тревожь меня больше разговорами о смерти… Я приду позже. Иди, иди, старый глупец, старый чурбан. — Она уже встала на ноги и мягко подталкивала Манана в широкую грудь, будто гладила и прогоняла одновременно. — Доброй ночи, Манан! Доброй ночи!
Он неуклюже повернулся — не хотел уходить, мучимый предчувствиями, — но все-таки покорно потащился прочь через длинный зал вдоль ряда колонн под провалившейся крышей. Она смотрела ему вслед.
После того как он скрылся за дверьми, Ара подождала еще немного, повернулась, обошла Трон и исчезла за ним во тьме.
Глава 9
Кольцо Эррет-Акбе
В Великой Сокровищнице Гробниц Атуана время не двигалось. Ни лучика света, ни малейшего движения паука в пыли или червя в холодной земле. Камень, тьма и неподвижное время.
На каменной крышке одного из сундуков лежал, распростершись, вор, что прибыл сюда с Внутренних Островов, — лежал, словно резное надгробие. Пыль, потревоженная движениями человека, осела теперь на его одежду. Он не шевелился.
Скрипнул дверной замок. Дверь отворилась. Свет нарушил мертвящую тьму, чуть более свежий воздух потревожил застойный дух Сокровищницы. Мужчина по-прежнему лежал недвижимый, обессиленный.
Ара закрыла дверь и заперла ее изнутри; потом поставила фонарь на один из сундуков и медленно, осторожно подошла к неподвижной фигуре. Глаза девушки были широко распахнуты, зрачки до предела расширены после длительного путешествия сквозь тьму.
— Ястреб!
Она коснулась плеча мужчины, снова и снова повторила его имя. Наконец он шевельнулся и застонал. Потом сел. Лицо у него было измученным, глаза пустыми. Он смотрел на Ару и не узнавал ее.
— Это я, Ара… Тенар. Я принесла тебе воды. Вот, пей.
Он рванулся к фляге, но взял ее неуверенно, словно руки его не слушались, и пил, но маленькими глотками.
— Как долго это продолжалось? — спросил он, с трудом выговаривая слова.
— Два дня прошло, как ты здесь. Сейчас третья ночь. Я не могла прийти раньше. Нужно было украсть еду… вот… — Она достала из сумки, которую принесла с собой, плоскую большую лепешку из серой муки, но он только головой покачал.
— Я не хочу есть. Это… это гиблое место. — Он уронил голову на руки и застыл.
— Ты, наверно, замерз. Я принесла тот плащ из Расписной Комнаты.
Он не ответил.
Она положила плащ и стояла рядом, глядя на узника. Ее слегка знобило, а зрачки все еще были расширены.
Вдруг она перегнулась пополам, упала на колени, скрючилась на полу, и глубокие рыдания сотрясли все ее тело, не вызывая слез.
Он неловко сполз с сундука и склонился над ней.
— Тенар…
— Я не Тенар. Я не Ара. Боги мертвы, мои боги мертвы…
Он тронул ее рукой, откинул с головы капюшон. Начал что-то говорить. Голос его звучал мягко, но слова эти были ей неведомы. Звук их проникал прямо в душу, словно шум несильного дождя. Она утихла и стала слушать.
Когда девушка успокоилась, он поднял ее и посадил, как ребенка, на крышку того самого сундука, на котором лежал. Своей рукой накрыл ее руку.
— Почему ты плакала, Тенар?
— Сейчас скажу. Неважно, что я скажу тебе. Ты все равно не сможешь ничего сделать. Ты не сможешь помочь. Ты ведь тоже умираешь, разве не так? Так что это неважно. Все неважно. Коссил, Верховная Жрица Короля-Бога, — она всегда была жестокой — все старалась заставить меня принести тебя в жертву. Убить точно так же, как тех, других. Я не хотела. Разве она имела право заставлять меня? И она богохульствовала! Насмехалась над Безымянными! Я ее прокляла. И с тех пор боялась ее, потому что Манан прав: она не верит в моих богов. Она хочет, чтобы о Них забыли. Она бы, конечно, убила меня во сне. Так что я совсем не спала. Я вообще не вернулась в Малый Дом. И всю ночь оставалась в одной из кладовых Храма — там, где белые платья для ритуальных танцев. Еще до рассвета я пробралась в Большой Дом и стащила на кухне кое-что из еды; потом вернулась в Тронный Храм и пробыла там весь день. Я пыталась решить, что же мне делать теперь. А сегодня вечером… вечером я уже слишком устала и решила, что могу пойти в Священное Подземелье и немного поспать там, потому что она скорее всего не решится туда спуститься. Я так и сделала, отправилась в ту большую пещеру, где впервые увидела тебя. И… и она была там! Она, должно быть, вошла через дверцу в Красной скале. Она была там с фонарем! Ковырялась в той могиле, которую для тебя вырыл Манан, — проверяла, на месте ли труп. Как крыса на кладбище, как огромная толстая черная крыса, копалась она в яме. И в Священном Подземелье горел свет! Там, где должна быть вечная тьма. И Безымянные не сделали ей ничего. Не убили ее, не свели с ума. Они слишком стары — она сказала правду. Они уже мертвы. Их больше нет. И я больше никакая не Жрица.
Мужчина стоял и слушал, не снимая своей руки с ее, чуть склонив голову. В лице его и взгляде вновь засквозила былая энергия, хотя шрамы на лице были по-прежнему серыми от пыли, пыль покрывала его одежду и волосы.
— Я прошла мимо нее в Лабиринт. От ее фонаря больше было теней, чем света, а шагов моих она не услышала. Мне хотелось уйти от нее как можно дальше и все время казалось, что она меня преследует. Во всех коридорах, везде я слышала у себя за спиной чьи-то шаги. И я не знала, куда мне идти. Я думала, что здесь буду в безопасности, я думала, что мои Хозяева защитят меня, заступятся… Но Они не заступились, Они ушли отсюда, Они мертвы…
— Ты из-за Них плакала — из-за Их гибели? Но Они здесь, Тенар, здесь!
— Откуда тебе-то знать? — спросила она почти равнодушно.
— Каждый миг с тех пор, как я оказался в Подземелье под Священными Камнями, мне приходилось тратить силы на то, чтобы сдерживать Их, чтобы Они не шли по моему следу. Все мои силы и уменья я растратил на это. Я заполнил темные коридоры Лабиринта бесконечной паутиной заклятий — заклятий сна, неподвижности, покоя, — но Они все же чувствовали мое присутствие, правда, наполовину бодрствуя, наполовину усыпленные мной. Но только наполовину! И тем не менее я остался совсем без сил после тщетных попыток бороться с Ними. Человек, попав сюда в одиночку, лишен даже самой малой надежды на спасение. Я уже умирал от жажды, когда ты дала мне воды; но не только вода спасла мне жизнь. Меня спасла сила рук, что дали мне напиться. — И он перевернул ее руку в своей ладошкой вверх и минуту смотрел на нее; потом отпустил ее руку, отвернулся и сделал несколько шагов по комнате; и снова остановился возле Тенар. Она ничего не говорила.
— Неужели ты действительно думаешь, что Они умерли? Душа твоя знает лучше. Они темны и бессмертны, и Они ненавидят свет, тот краткий яркий проблеск нашей жизни от рождения до смерти. Они бессмертны, но Они не боги. И никогда ими не были. Они не заслуживают поклонения ни единой человеческой души.
Она слушала, тяжелым взглядом уставившись на мерцающий свет фонаря.
— Они хоть что-нибудь дали тебе, Тенар?
— Ничего, — прошептала она.
— Им нечего дать человеку. Они лишены созидательной силы. Они способны лишь разрушать во тьме. Отсюда Они уйти не могут: Святое Место — это Они сами; пусть оно Им и остается. Их не следует ни отрицать, ни забывать, но и поклоняться Им не стоит. Земля прекрасна; она яркая, добрая — но не только: она еще и ужасна, темна, жестока. Умирая на своем зеленом лугу, кролик пронзительно кричит от боли. В прекрасных морях водятся акулы, а в глазах людей живет жестокость. И там, где люди поклоняются злу, где они позволяют злым силам уничтожать их, там зло крепнет, там собирается Тьма, там властвуют безраздельно те, кого мы называем Безымянными — Древние Силы Земли, возникшие задолго до рождения нашего мира, Силы Тьмы, хаоса, безумия… Я думаю, Они давно уже свели с ума твою Коссил; наверно, она когда-то слишком долго бродила по Лабиринту, как теперь бродит по коридорам собственной души, не находя выхода, и больше уже не видит по-настоящему свет дня. Она сказала тебе, что Безымянные мертвы; только потерянная душа, та, которой истина недоступна, может верить этому. Они действительно существуют. Но это не твои Хозяева. И никогда не были ими. Ты свободна, Тенар. Тебя просто научили быть рабыней, но теперь ты вырвалась на свободу.
Она слушала его с тем же выражением лица. Он умолк, и теперь молчали оба. Но это была совсем не та тишина, что царила здесь, когда девушка вошла. Теперь здесь слышалось дыхание двоих, ощущалось движение жизни в их кровеносных сосудах, и здесь горела свеча в жестяном фонаре — слабый живой свет.
— Как случилось, что ты знаешь мое имя?
Он прошелся по комнате, смахнул пыль с одежды, растер руки, подвигал плечами, словно пытался стряхнуть с себя оцепенение.
— Знать имена — моя профессия, мое искусство, мое ремесло. Понимаешь ли, чтобы соткать магическое заклятье, сначала необходимо узнать подлинное имя предмета. У меня на родине люди всю жизнь скрывают свои подлинные имена ото всех, кроме немногих близких, кому доверяют без оглядки. Ибо в подлинном имени заключена огромная сила и огромная опасность. Некогда, в начале времен, когда Сегой поднял острова Земноморья из океанских глубин, все вокруг имело подлинные имена. И теперь вся магия, все волшебство зависят от знания именно этого — подлинных имен, слов Истинной Речи, возникшей вместе с нашим миром. Их необходимо вновь и вновь изучать и запоминать. Есть, конечно, такие заклятия, которые запоминаются как простой набор непонятных слов; но и в этом случае необходимо знать о возможных последствиях. Настоящий же волшебник всю свою жизнь тратит именно на выяснение подлинных имен людей и вещей.
— А как ты узнал мое?
Он пристально посмотрел на нее, ярко блеснув глазами в полутьме; мгновение он колебался.
— Я не могу открыть тебе эту тайну. Ты похожа на фонарь, который то вспыхивает, то гаснет в темноте. И все-таки свет исходит от тебя постоянно; даже Они не могут погасить этот свет, не могут навсегда спрятать тебя от людей в своих подземельях. Узнав природу этого света, я узнал тебя, узнал твое имя, Тенар. Это мой дар, моя волшебная сила. Большего я сказать тебе не могу. Но ответь мне, что ты будешь делать теперь?
— Не знаю.
— Итак, Коссил уже обнаружила пустую могилу. Что дальше?
— Не знаю. Если я вернусь, она может сделать так, что меня казнят. За ложь Жрице Гробниц полагается смерть. Она может принести меня в жертву на ступенях, ведущих к Трону, — если захочет. Тогда уж Манану придется по-настоящему отрубить мне голову и не ждать, подняв меч, пока Посланец Тьмы остановит его. Теперь-то уж его никто не остановит. И меч опустится, и голова моя покатится по ступеням.
Она говорила равнодушно, медленно роняя слова. Он весь напрягся.
— Если мы задержимся здесь, — сказал он, — ты сойдешь с ума, Тенар. Гнев Безымянных тяжким бременем давит на твою душу. И на мою. Правда, мне теперь, когда ты здесь, лучше, гораздо лучше. Но ты так долго не приходила, что я почти полностью израсходовал свои силы. Никто не способен долго сопротивляться Безымянным в одиночку. Они слишком сильны… — Он умолк; голос его звучал глухо, порой превращаясь в шепот; он, казалось, утратил нить собственных рассуждений. Он потер лоб рукой и начал жадно пить из фляжки. Потом отломил кусок хлеба, сел на сундук напротив и стал есть.
Он сказал правду. На душе у Тенар было тяжело; казалось, что-то давит на сердце, путает, затемняет мысли и ощущения. И все-таки здесь ей было уже не так страшно, как когда она шла по коридорам одна. Сейчас пугала только эта абсолютная тишина, что царила за стенами комнаты. Почему это так? Раньше она никогда не боялась тишины Лабиринта. Но раньше у нее и в мыслях не было ослушаться Безымянных, она не смела бунтовать против них. С коротким жалобным смешком она наконец сказала:
— И вот мы сидим на величайшем сокровище Империи! За один лишь этот сундук Король-Бог отдал бы всех своих жен. А мы даже крышки ни одной не открыли, даже не заглянули ни в один.
— Я открывал, — сказал Ястреб, по-прежнему жуя хлеб.
— В темноте?
— Я зажег маленький огонь. Волшебный. Здесь это трудно даже с помощью моего посоха, а уж без него — все равно что пытаться разжечь костер под проливным дождем. Но в конце концов все получилось. И я нашел то, что искал.
Она медленно подняла голову и посмотрела на него.
— То кольцо?
— Половинку кольца. Вторая у тебя.
— У меня? Но вторая половина потеряна…
— И найдена. Я носил ее на цепи на шее. Ты отобрала ее. Ты тогда еще спросила, неужели я не мог выбрать себе талисман получше. Единственный талисман, который лучше того, что у меня был, — это целое Кольцо Эррет-Акбе. Но лучше, как говорится, все-таки пол-лепешки, чем ни одной. Так что теперь моя половина у тебя, а твоя у меня. — Он улыбнулся ей в полумраке.
— Ты сказал, когда я взяла ее, что я не знаю, что с ней делать.
— Это правда.
— А ты знаешь?
Он кивнул.
— Скажи мне, зачем оно. Расскажи, что это за кольцо, и как ты нашел его потерянную половинку, и как ты попал сюда, и зачем. Мне это знать необходимо: может быть, тогда я пойму, что мне делать дальше.
— Может быть. Ну что ж. Значит, во-первых, что представляет собой Кольцо Эррет-Акбе? Ты и сама видишь, что драгоценным оно не выглядит, и вообще это даже и не кольцо — уж слишком большое. Скорее браслет, хоть и очень маленький. Никто из людей не знает, для кого точно оно было сделано. Говорят, некогда его носила прекрасная Эльфарран — еще до того, как остров Солеа исчез в пучине морской; но и тогда Кольцо это уже было достаточно старым. Потом оно попало в руки Эррет-Акбе… Кольцо было из литого серебра, и в нем проделаны девять отверстий. А еще его украшал рисунок в виде волн — насечка на внешней поверхности, а на внутренней были написаны девять могущественных рун. На той половинке, что у тебя, написаны четыре руны и часть еще одной; на моей половинке столько же. Трещина прошла как раз посредине одного из символов и нарушила его. Этот символ с тех пор так и назывался: Утраченная Руна. Остальные восемь известны магам: Пирр, защищающая от безумия, от ветра и от пожара; Гес, дающая стойкость, и так далее. Но Утраченная Руна соединяла людей и земли. Это была знаменитая Связующая Руна, знак мира. Ни один король не сможет править своей страной хорошо, если правит не под этим знаком. Никто не знает, как пишется эта руна. И после того как она была утрачена, в Хавноре больше не рождались великие правители. Там были благородные принцы, были и тираны и много споров и войн, в которых участвовали все острова Земноморья.
Ну и, конечно, наиболее мудрые из правителей и магов Архипелага всегда хотели вернуть Кольцо Эррет-Акбе и восстановить Утраченную Руну. Но в конце концов сдались и перестали посылать людей на поиски Кольца, потому что ни один из них так и не смог добыть его вторую половину из Гробниц Атуана. Первая же, которую Эррет-Акбе некогда отдал какому-то каргадскому королю, была неизвестно где. Итак, много веков назад было решено, что всякие поиски Кольца бессмысленны.
А теперь о том, как я сам занялся этими поисками. Когда я был лишь немногим старше тебя, мне пришлось… много охотиться за одной тварью по всем морям и океанам. И тварь эта долго водила меня за нос, и однажды из-за нее я попал на пустынный островок недалеко от берегов Карего-Ат и Атуана, к юго-западу от них. Это была крошечная песчаная отмель, намытая вокруг рифа; там росла на дюнах морская трава, да в самом центре островка был слабенький источник с солоноватой водой — и ничего больше.
Но там жили два человека. Старик и старушка; брат и сестра, по-моему. Когда я появился там, они пришли в ужас. Они бог знает сколько лет не видели лица человеческого. Но я был в беде, и они проявили доброту. У них была жалкая хижина из плавника и очаг. Старушка кормила меня ракушками, которые собирала на скалах во время отлива, вяленым мясом морских птиц, которых они сбивали камнями… Она боялась меня, но кормила. Потом, когда я оказался не таким уж страшным, она понемножку привыкла и даже показала мне свое сокровище. У нее тоже было сокровище. Маленькое детское платьице. Все расшитое шелком и жемчугами. Платьице маленькой принцессы. Сама же старуха была одета в грубые тюленьи шкуры.
Разговаривать мы не могли. Я тогда еще не знал языка каргов, а они не знали ни одного из известных мне языков и даже свой собственный — довольно плохо. Их, должно быть, привезли на этот островок совсем малышами и оставили — умирать. Они вообще ничего не знали, кроме этого островка, ветра и моря. Но, когда я уезжал, старушка сделала мне подарок. Она отдала мне потерянную половинку Кольца Эррет-Акбе. — Он мгновение помолчал. — Я тогда и понятия не имел, что это такое. А она и подавно. Величайший дар нашего времени был сделан несчастной глупой старухой в тюленьих шкурах невежественному деревенскому парню, который просто сунул его в карман и сказал «спасибо». А потом уплыл прочь… Ну ладно, тогда я все-таки поплыл дальше и сделал то, что должен был сделать. А потом… подоспели другие заботы. Мне пришлось побывать на острове Драконьи Бега в Западном Пределе и даже дальше. Но я всегда носил с собой подарок старой женщины, потому что был глубоко благодарен ей за столь щедрый дар. Я продел в одно из сквозных отверстий цепь и носил половинку сломанного Кольца на шее, никогда не задумываясь о его предназначении. А потом однажды на Селидоре, на самом дальнем из островов Западного Предела, на том самом, где погиб Эррет-Акбе в битве с драконом по имени Орм, — так вот, на Селидоре мне довелось поговорить с одним из потомков Орма. И он объяснил мне, что я ношу на груди.
Ему показалось очень смешным, что я этого не знал. Драконы вообще находят нас забавными. Но о ни помнят и Эррет-Акбе; о нем они говорят так, как если бы он был драконом, а не человеком.
Когда я наконец вернулся на острова Внутреннего Моря, то сразу отправился в Хавнор. Я родился на острове Гонт, что лежит не так уж далеко от ваших каргадских земель, к западу от них; и я достаточно много скитался по разным морям, но на Хавноре никогда раньше не бывал. Настала пора побывать там. Я увидел белые башни, я говорил с великими правителями, богатыми купцами, с князьями и лордами, потомками старинных родов. Я рассказал им, чем владею. А еще я сказал им, что, если они того хотят, я попробую отыскать вторую половнику Кольца в Гробницах Атуана, чтобы восстановить Утраченную Руну, ключ к миру на земле. Ибо Земноморью мир необходим. Жители Хавнора расточали мне похвалы; а один даже дал денег на покупку лодки и всего необходимого для путешествия. Потом я выучил ваш язык и приплыл сюда.
Он умолк, глядя перед собой на движущиеся тени.
— Разве люди в городах Каргада не признавали в тебе чужеземца, пришельца с запада — по твоему цвету кожи, по тому, как странно ты говоришь?
— О, обмануть людей очень легко, — сказал он как-то рассеянно, — для этого есть много разных фокусов. Благодаря иллюзии так меняешься, что порой только другой маг и способен разобраться, что там на самом деле было когда-то. А у вас на островах почему-то нет ни волшебников, ни магов. Странно. Вы сами давным-давно уничтожили их и строго-настрого запретили заниматься магией, а теперь с трудом даже верите в то, что волшебники все-таки существуют.
— Меня учили не верить им. Они противоречат всей нашей религии. Но я знаю, что только колдовство могло помочь тебе проникнуть в Лабиринт через дверь в Красной скале.
— Не только. Еще и добрый совет. Мы записываем множество различных советов, гораздо больше, чем вы, по-моему. Ты читать-то умеешь?
— Нет. Это одно из запретных искусств.
Он кивнул.
— Но очень полезное искусство. В давние времена один такой же вор, как я, кое-что написал о Гробницах Атуана и дал кое-какие наставления по поводу того, как туда войти. Конечно, записями этими могли воспользоваться только те, кому ведомо хотя бы одно из Великих Заклинаний, открывающих двери. Эти записи я нашел в одной из книг во дворце правителя Хавнора. Он позволил мне читать их. Таким вот образом я и отыскал дорогу в ту большую пещеру…
— Священное Подземелье.
— Тот вор, что описал, как туда добраться, считал, видно, что сокровище хранится именно там. Там я и искал его, но мне все же казалось, что оно должно быть спрятано лучше, где-то глубоко в Лабиринте. Я знал, где находится вход в Лабиринт, и, увидев тебя в Подземелье, двинулся в глубь туннелей, надеясь там спрятаться и поискать Кольцо. Разумеется, я совершил ошибку. Безымянные уже овладели мной, смутив мой разум. И с тех пор я становился все слабее и глупее. Нельзя подчиняться им, нужно изо всех сил сопротивляться, верить в себя… Это я понял уже давно. Но сделать это необычайно трудно, особенно здесь, где они обладают такой силой. Они не боги, Тенар. Но они сильнее любого из смертных.
Долгое время оба молчали.
— А что еще ты нашел в сундуках? — равнодушно спросила она.
— Ерунду всякую. Золото, драгоценные камни, короны, шпаги… Ничего, что было бы очень уж нужно для жизни. Скажи мне вот что, Тенар: как тебя избрали Жрицей Гробниц?
— Когда умирает Единственная, жрицы ищут по всему Атуану девочку, родившуюся в час ее смерти. И всегда находят. Ибо Единственная всегда возрождается. В пять лет девочку привозят сюда, в Святое Место. А в шесть — отдают Темным Силам, и те поглощают ее душу. С этого момента она принадлежит им, как принадлежала с начала времен. И она лишается прежнего имени.
— Ты веришь в это?
— Раньше всегда верила.
— А сейчас?
Она ничего не сказала.
И снова наступила тишина; по стенам скользили тени. Прошло довольно много времени, прежде чем Ара снова заговорила:
— Скажи мне… расскажи мне о тех драконах с запада.
— Тенар, что все-таки ты собираешься делать теперь? Мы же не можем вечно сидеть здесь и рассказывать друг другу истории; свеча скоро догорит, и снова наступит тьма.
— Я не знаю, что мне делать. Я боюсь. — Она сидела на каменном сундуке, выпрямившись, руки стиснуты, голос звенит напряженно, словно от боли. — Я боюсь темноты.
Он мягко ответил:
— Тебе придется выбирать. Или ты оставишь меня, запрешь дверь, отправишься в свой Храм и предашь меня своим Хозяевам, а потом пойдешь к жрице Коссил и помиришься с ней. И это положит конец всей истории. Или ты отопрешь дверь, и мы уйдем отсюда вместе. Ты покинешь Гробницы, покинешь сам Атуан и отправишься со мной за дальние моря. Ты должна остаться Арой или вновь стать Тенар. Обеими одновременно ты быть не можешь.
Глубокий голос его звучал мягко, но уверенно. Она видела в полумраке его лицо, суровое, покрытое шрамами, но лишенное жестокости и лукавства.
— Если я перестану служить Темным Силам, они убьют меня. Если я покину Святое Место, то умру.
— Ты не умрешь. Умрет Ара.
— Я не могу…
— Чтобы возродиться, сначала нужно умереть, Тенар. Это вовсе не так трудно, как кажется.
— Они не выпустят нас отсюда. Никогда.
— Может быть, и нет. И все-таки попробовать стоит. Ты много знаешь, я многое умею, и у нас есть еще… — Он замолчал.
— У нас есть Кольцо Эррет-Акбе.
— Да, оно. Но я думал о другом, что между нами возникло. Можешь назвать это доверием… Таково одно из слов Истинной Речи. Это величайший дар. Хоть каждый из нас поодиночке и слаб, но, обладая доверием, мы становимся сильнее, чем Тьма… — Его глаза на покрытом шрамами лице светились чистым ясным огнем. — Послушай, Тенар! — сказал он. — Я пришел сюда как вор, как вооруженный враг, как твой противник; ты показала мне, что значит быть милосердной, ты мне поверила. И я поверил тебе — с первого раза, едва увидев твое лицо тогда в пещере, в Священном Подземелье — ах, какая там красота!.. Ты доказала, что веришь мне. Но я все еще в долгу перед тобой. И долг этот непременно верну. Запомни, мое подлинное имя Гед. А это — тебе; сохрани его. — Он встал, протягивая ей серебряный полукруг с загадочными отверстиями. — Пусть Кольцо станет целым.
Она взяла половинку Кольца с его ладони. Легким движением сняла с шеи серебряную цепь и отсоединила вторую половинку. Потом сложила их обе на ладошке так, что сломанные края в точности совпали. Глаз она по-прежнему не поднимала.
— Я пойду с тобой, — сказала она, помолчав.
Глава 10
Гнев Тьмы
После этих слов Гед взял руку девушки со сломанным кольцом в свою. Она в изумлении вскинула на него глаза и увидела, что лицо его горит от радости. Жизнь возвращалась к нему. Он улыбался. Она растерялась, ей даже стало страшно.
— Ты освободила нас обоих, — сказал он. — Никто не выигрывает свободу в одиночку. Пошли! Не будем терять времени — если оно у нас еще есть! Только покажи мне его снова, на минутку.
Она разжала пальцы: сломанные края кольца плотно сомкнулись.
Он не тронул его, только коснулся пальцами и что-то сказал. Лицо его вдруг покрылось крупными каплями пота. Она ощутила странное, едва заметное дрожание у себя на ладони — словно чуть шевельнулось маленькое животное, спавшее там. Гед вздохнул, его напряжение прошло, он утер пот со лба.
— Ну вот, — сказал он и, взяв Кольцо Эррет-Акбе, надел его ей на правую руку; пальцы ее легко скользнули в него, но ладонь прошла с трудом. Кольцо свободно охватило запястье. — Ну вот! — Гед удовлетворенно смотрел на дело своих рук. — Подходит. Это, должно быть, женский браслет. Или детский.
— А оно больше не сломается? — нервно прошептала она, ощущая холодок легкого серебряного кольца у себя на запястье.
— Нет. Здесь не годилось простое заклятье, какими пользуются, скажем, деревенские колдуньи, чтобы починить прохудившийся чайник. Для соединения Кольца я должен был применить Заклятье Созидания, Великое Заклятье. Теперь Кольцо вновь стало целым, словно никогда и не было сломано. Тенар, мы должны идти, пора. Я принесу сумку и флягу. Надень свой плащ. Мы ничего больше не забыли?
Когда она надавила на дверь, отпирая ее, он сказал:
— Как бы мне хотелось, чтобы посох мой был тут!
И она ответила:
— Он за дверью. Я взяла его с собой.
— Почему ты это сделала? — с любопытством спросил он.
— Я подумала… решила, что все равно отведу тебя к двери. Отпущу тебя.
— Этого как раз тебе сделать бы не удалось. Ты могла либо держать меня в качестве раба и сама оставаться рабой, либо выпустить меня и сама уйти вместе со мной — на волю. Пойдем, малышка, смелей, поверни же ключ.
Она повернула ключ с изображением дракона и открыла дверь в низкий черный коридор. Вместе с мужчиной она вышла из Великой Сокровищницы, и на руке у нее было Кольцо Эррет-Акбе.
Слабая, почти бесшумная дрожь прошла по каменным стенам и полу коридоров. Это было похоже на далекий гром, словно где-то далеко-далеко упало что-то огромное.
От ужаса у нее зашевелились волосы, и, даже не зная почему, она поспешно задула свечу в жестяном фонаре. Она слышала, как Гед идет за ней следом; его спокойный голос послышался совсем близко — дыхание коснулось волос Тенар.
— Не зажигай фонарь. Я могу вызвать свет, если понадобится. Сколько там сейчас времени снаружи?
— Было далеко за полночь, когда я пришла сюда.
— Тогда нам нужно идти быстрее, — сказал он, но не двинулся с места. Она поняла, что должна вести его сама. Только она знала, где выход из Лабиринта.
Она двинулась вперед согнувшись, потому что туннель здесь был очень низким, но шла довольно быстро. Из невидимых перекрестков доносилось ледяное дыхание и острый могильный запах — безжизненный аромат беспредельной пустоты, что лежала у них под ногами. Когда своды стали чуть повыше и она смогла выпрямиться, то пошла медленнее, считая шаги: они приближались к Колодцу. Легконогий, повторяющий каждое ее движение, Гед следовал за ней на расстоянии шага. Едва она остановилась, он тоже застыл на месте.
— Здесь Колодец, — прошептала она. — Я не могу найти кромку. Нет, вот она. Осторожней, мне кажется, камни расшатались… Нет, нет, погоди… они и правда расшатались… — Она скользнула назад в безопасное место, когда камни качнулись у нее под ногой. Он поймал ее за руку и крепко сжал. Сердце у нее упало. — Там опасно, камни шатаются.
— Сейчас зажгу маленький огонек, и мы посмотрим. Может быть, мне удастся немножко их укрепить. Не волнуйся, малышка.
Она подумала, как это странно: он называет ее так, как всегда называл Манан. А когда слабый огонек засветился на конце волшебного посоха — не ярче гнилушки или далекой звездочки в туманном небе, — на узенькой кромке, на самом краю черной бездны она увидела огромную темную фигуру и узнала в ней Манана. Но слова застряли у нее в горле, голос будто попал в ловушку, и она не смогла окликнуть его.
Когда Манан попытался столкнуть Геда, ступившего на ненадежную тропу, то Гед, увидев его, с возгласом то ли изумления, то ли гнева ударил евнуха посохом. Сверкнул огонь, белое, нестерпимо яркое пламя. Манан резко поднял громадную ручищу, защищая лицо от огня, отчаянно дернулся, пытаясь схватить Геда, промахнулся и упал в Колодец.
Он даже не крикнул. Ни единого звука не донеслось из черной пасти, не слышно было и стука ударившегося о дно тела — вообще ничего. Сжавшись в комок, застыв на коленях у самого края бездны, Гед и Тенар напряженно вслушивались, но ничего не слышали.
Свет стал сероватым, едва заметным.
— Пошли! — решительно сказал Гед, протягивая ей руку; она крепко за нее ухватилась, и в три прыжка они перемахнули через опасное место. Он погасил свет, и Тенар снова пошла впереди, прокладывая путь. Голова была пустой, движения вялыми. Лишь спустя некоторое время она вдруг подумала: а теперь направо или налево? И остановилась.
Тоже остановившись в нескольких шагах от нее, Гед мягко спросил:
— Что случилось?
— Я заблудилась. Зажги свет.
— Заблудилась?
— Я… я потеряла счет поворотам.
— Я считал, — сказал он, подходя чуть ближе. — Мы свернули налево после Колодца; потом направо, потом снова направо.
— Тогда надо снова направо, — автоматически произнесла девушка, но не двинулась с места. — Зажги свет.
— Свет не покажет, куда нам идти, Тенар.
— Никто нам этого не покажет. Путь утрачен. Мы заблудились.
Шепот ее утонул в мертвой тишине, подземелье поглотило его.
В холодной темноте она чувствовала тепло своего спутника: он стоял совсем близко теперь. Взял ее руку в свои.
— Пойдем дальше, Тенар. Следующий поворот направо.
— Зажги огонь, — молила она. — Туннели порой так изгибаются…
— Я не могу. У меня не осталось сил. Тенар, они… Они ведь знают, что мы вышли из Сокровищницы. Они знают, что мы миновали Колодец. Они ищут нас, стремятся завладеть нашей волей, нашими душами. Чтобы погасить в нас жизнь, чтобы поглотить нас самих. Я должен был осветить тропу над Колодцем. На это ушла вся моя сила. И еще — я должен сопротивляться им, вместе с тобой. Ты помогаешь мне. Но мы должны идти вперед.
— Отсюда нет выхода, — сказала она, но один шаг вперед все-таки сделала. Потом другой, нерешительно, словно каждый раз у нее под ногами открывалась черная бездна, пустота. Ее руку сильно сжимала его теплая рука.
Они шли вперед, прошло, как им показалось, довольно много времени, и они наконец приблизились к череде ступеней. Никогда они не казались ей такими крутыми и узкими. Теперь это были едва ощутимые выбоины в каменной стене. Но они преодолели и это препятствие и пошли дальше чуть быстрее, потому что Тенар помнила: после подъема по крутой лестнице извилистый коридор идет довольно долго без единого поворота. Наконец ее пальцы, постоянно касавшиеся левой стены, ощутили провал.
— Здесь, — прошептала она; но Гед почему-то не двигался с места, словно сомневался в правильности ее решения.
— Нет, — пробормотала она смущенно, — не этот. Следующий налево. Не знаю. Не помню… Я больше не могу! Мы не выйдем отсюда.
— Мы сейчас идем к Расписной Комнате, — прозвучал в темноте его спокойный голос. — Как нам отсюда туда попасть?
— Левый поворот после пропуска.
Она снова пошла впереди по длинной дуге коридора, мимо последнего тупика к повороту направо и прямо к Расписной Комнате.
— Дальше я помню, — прошептала она, и все страхи остались позади. Теперь ей были хорошо знакомы все эти коридоры, ведущие к Железной Двери, она сотни раз считала здешние повороты и пропуски. Даже странная тяжесть, что по-прежнему смущала душу девушки, не могла уже сбить ее с толку. Она старалась ни о чем не думать, но ей все время казалось, что они приближаются к той невидимой угрозе, что нависала со всех сторон, давила, окружала; ноги почему-то вдруг стали усталыми, тяжелыми, и она даже раз или два споткнулась, стараясь заставить их двигаться. И спутник ее тоже глубоко вздыхал, словно с трудом переводил дыхание после невероятно тяжелой работы, измотавшей его до предела. Порой он глухо и отрывисто произносил то ли слово, то ли несколько слогов. Наконец они достигли Железной Двери. Протянув к рычагу руку, девушка с внезапным ужасом отдернула ее.
Дверь была открыта.
— Быстрей! — сказала она и протолкнула своего спутника в кем-то оставленную щель. Там, по другую сторону двери, она замерла.
— Почему Железная Дверь была открыта? — спросила она.
— Потому что твои Хозяева хотели, чтобы закрыли ее твои руки.
— Мы приближаемся к… — Голос у нее сорвался.
— К самому сердцу Тьмы. Я знаю. И все-таки мы вышли из Лабиринта. Сколько выходов из Священного Подземелья?
— Только один. Войти можно через ту дверь, которой воспользовался ты, но она изнутри не открывается. Нам теперь нужно идти через все Подземелье, потом вверх по коридорам до двери-ловушки, что находится за Троном, в Храме.
— Хорошо. Так мы и пойдем.
— Но там ОНА, — прошептала девушка. — В Подземелье. В пещере. Роется в пустой могиле… Я не могу снова пройти мимо нее, о нет!
— Она наверняка уже ушла.
— Я не могу пройти там!
— Тенар, сейчас я пока еще держу крышу над нашими головами. Я сдерживаю стены, грозящие сомкнуться и раздавить нас. Я с трудом удерживаю землю у нас под ногами, чтобы она не разверзлась. Я делал это весь тот путь, что мы прошли от Колодца, где ждал Их слуга. Если я в силах сдержать землетрясение, то тебе не стоит бояться встречи с жалкой и злобной человеческой душонкой, пока мы вместе! Верь мне так, как я верю тебе. Пойдем же, скорей.
И они двинулись дальше.
Бесконечный туннель вывел их туда, где даже во тьме возникало ощущение большого простора, — в Священное Подземелье.
Они двинулись по дуге вдоль правой стены этой огромной пещеры. Тенар сделала лишь несколько шагов и тут же остановилась.
— Что это? — прошептала она, едва шевеля губами.
Внутри огромного черного пузыря мертвого воздуха слышалось странное гуденье: отзвук далекой лавины или взрыва, от которого стыла в жилах кровь, холодели конечности. Изрезанные временем каменные стены под ее пальцами едва заметно дрожали, вибрировали.
— Иди вперед! — сухо и напряженно велел Гед. — Скорее, Тенар.
Она, споткнувшись, двинулась вперед, подавив в себе крик ужаса; в душе ее царил такой же мрак и такое же смятение, как под этими сотрясаемыми изнутри сводами. «Простите меня, о мои Хозяева, о Безымянные! Простите меня, Древние Силы, простите, простите меня!..» — молила она. Ответа не было. Они никогда не отвечали ей.
Тенар и Гед прошли по последнему коридору, поднялись по лестнице до самой двери-ловушки. Девушка нажала на пружину замка, но дверь не открывалась.
— Она сломалась! Теперь она никогда не откроется!
Гед протиснулся мимо нее и налег спиной на дверь. Это не помогло.
— Дверь не заперта, — сказал Гед. — Просто приперта чем-то снаружи. Очень тяжелым.
— Можешь ли ты открыть ее?
— Попробую. Но, мне кажется, ОНА будет там ждать. У Коссил есть помощники? Мужчины, я имею в виду?
— Дьюби и Уахто, ее евнухи; может быть, она позвала и кого-то еще из телохранителей… Мужчины туда приходить не могут…
— Я не смогу одновременно отпирать дверь с помощью заклятья, сдерживать банду Коссил и пытаться противостоять воле Тьмы, — проговорил Гед ровным голосом, будто размышляя. — Нам остается только поискать другой выход… Может быть, попробовать выйти через ту дверь, что в скалах? Через которую я вошел. Она знает, что ее изнутри отворить нельзя?
— Знает. Она как-то дала мне попробовать…
— Тогда она наверняка за ней не следит. Пошли. Пошли скорей, Тенар!
Она сползла вниз по каменным ступеням; лестница дрожала и качалась, словно гигантская тетива лука, туго натянутая над бездной и готовая выстрелить.
— Что это? Почему все дрожит?
— Пойдем, — сказал он таким ровным и уверенным голосом, что она подчинилась и поползла обратно по коридорам и лестницам в кошмар Подземелья.
Они вошли туда, и тут слепая чудовищная и невидимая ненависть обрушилась на Тенар с такой силой, словно гневалась сама земля. Девушка в ужасе, не сознавая, что делает, громко вскрикнула:
— Они здесь! Здесь!
— Тогда пусть знают, что и мы… здесь, — сказал Гед, и от его посоха и рук разлилось белое сияние; свет переливался, словно волны морские под солнцем, отражаясь от тысяч блестящих самоцветов на сводах пещеры: торжество света, оберегавшего двоих, что бежали напрямик по обители Тьмы; темные тени людей метались по белому кружеву стен, по сверкающим сводам, по пустой разверстой могиле… Они бежали к низенькой дверце, вниз по туннелю — она, спотыкаясь, впереди, он за ней. Там, в туннеле камни гудели и двигались у них под ногами. Но волшебный ослепительный свет по-прежнему был с ними. И в этом свете она увидела перед собой чье-то мертвое каменное лицо на стене, услышала наверху, где-то над головой, гром небесный, перекрываемый голосом Геда, упорно произносившего одно и то же слово, и когда она упала на колени, его посох с силой ударил прямо у нее над головой в красный камень запертой двери. Скалы раскалились добела, словно охваченные пламенем, и раскололись.
За дверью было бледное предутреннее небо, чуть желтоватое на востоке. На нем высоко и холодно светилось несколько белых звезд.
Тенар увидела звезды и на лице ощутила сладостное дыхание ветра; но встать не смогла, а поползла на четвереньках — как бы между небом и землей.
Мужчина — странная темная фигура в предрассветных сумерках — повернулся и потянул ее за руку, заставляя встать. Лицо его, казавшееся черным, было искажено страшной гримасой, как у демона. Она отшатнулась и хрипло забормотала; одеревеневший язык словно чужой двигался у нее во рту:
— Нет, нет! Не прикасайся ко мне… оставь меня… Уходи!
Извиваясь, она поползла прочь от него в содрогающиеся, будто что-то жующие безгубые уста Гробниц.
Он слегка ослабил тиски своих рук и тихим голосом сказал:
— Ради того, что связывает нас, и того, что носишь ты на руке, заклинаю тебя, Тенар: пойдем.
Она заметила вдруг, как свет звезд играет на серебряном Кольце у нее на запястье. Не сводя с браслета глаз, она поднялась, вложила свою руку в его ладонь и, спотыкаясь, пошла за ним. Идти быстрее она не могла. Когда они спускались с холма, из черной пасти в скалах у них за спиной исторгся долгий стонущий вопль — вопль ненависти и тоски. Вокруг скатывались камни. Земля колыхалась. Они шли вперед, и девушка по-прежнему не сводила глаз с браслета, на серебре которого отражались звезды.
Теперь они уже спустились в туманную долину к западу от Святого Места и начали снова подниматься. Неожиданно Гед остановил ее:
— Смотри!
И оба увидели. Они стояли как раз на одном уровне со Священными Камнями, только на
противоположном конце долины. Девять огромных монолитов, что раньше стояли или лежали на земле, скрывавшей пещеру с кружевными стенами и черными могилами в полу, теперь двигались: вздрагивали, слегка наклонялись, словно мачты корабля. Один из них, казалось, пытается вылезти из земли, все больше и больше возвышаясь над ней; потом по нему прошла дрожь и он упал. Упал и второй; упав, он ударился о первый и раскололся. За Камнями виден был низкий купол Тронного Храма — черный на фоне желтого рассветного неба; Храм содрогался. Стены его рушились на глазах, сплетение камня и деревянных балок превращалось в некую аморфную массу, которая меняла форму, словно комок мягкой глины, брошенной в реку, с ревом проваливалась сама в себя и внезапно взрывалась осколками камня и пылью, разлеталась в стороны, рушилась. Сама земля в долине шла волнами, складывалась в складки, становилась на дыбы; между Священными Камнями вдруг разверзлась огромная щель, как бы выпустив наружу часть подземной тьмы в виде облака черной пыли, похожего на дым. Камни, которые все еще стояли более или менее вертикально, опрокинулись прямо в эту дыру и были поглощены разверстым зевом земли. Потом с грохотом, эхо которого разнеслось, кажется, до самого неба, неровные черные губы сомкнулись, холмы вокруг содрогнулись еще раз и замерли.
Она отвела глаза от ужасного зрелища и посмотрела на стоящего рядом мужчину, чьего лица она еще никогда не видела при дневном свете.
— Ты задержал его! — сказала она, и голос ее был тонок, как свист ветра в тростниках; он казался детским и слабым по сравнению с могучими воплями и стонами земли. — Ты задержал землетрясение, ты смог противостоять гневу Тьмы…
— Мы должны идти дальше, — сказал Гед, отворачиваясь от восходящего солнца и разрушенных Гробниц. — Я устал, замерз…
Он все время спотыкался, когда они снова пошли, и она взяла его за руку. У обоих не было сил идти быстрее, они едва тащились, похожие на двух маленьких паучков, ползущих по огромной стене. С трудом преодолели они невероятно длинный подъем и остановились на вершине холма, где сухая земля была окрашена желтым светом восходящего солнца и словно полосками покрыта длинными редкими тенями от стеблей шалфея. Пред ними высились западные горы; подножия их казались красными, а вершины и склоны сияли золотом. Оба на мгновение задержались, любуясь этим зрелищем, потом начали спускаться по другому склону холма, откуда Гробницы уже не были видны, и исчезли из виду.
Глава 11
Западные горы
Тенар проснулась, пытаясь стряхнуть оцепенение ночного кошмара: во сне она долго-долго шла по какой-то странной местности, так долго, что плоть ее, источенная временем, обвалилась с костей и она могла видеть сами кости — локтевые и лучевые, слабо поблескивающие во тьме. Открыв глаза навстречу золотистому свету солнца, она почувствовала запах шалфея и ощутила, как в нее входит благодать. Счастье медленно заполняло ее, пока не заполнило до краев, и тогда она села, выпростав руки из-под черного плаща, и с беспечной радостью осмотрелась.
Был вечер. Солнце садилось за горы, которые были совсем близко и казались очень высокими. Из-за них исходило закатное сияние, наполнявшее воздух и небо вокруг — бескрайнее, ясное, зимнее небо — золотом. Беспредельная пустынная золотая страна гор и широких долин. Ветер улегся, было холодно, стояла абсолютная тишина. Все было недвижимо. Листья густых зарослей шалфея были серыми и сухими, невысокая пустынная трава колола руки. Безбрежное молчаливое великолепие света горело в каждой былинке, в каждом свернувшемся листке, в каждом стебле, на холмах вокруг, в самом воздухе.
Она посмотрела налево и увидела Геда, лежащего на земле. Он плотно завернулся в плащ, подложил руку под голову и крепко спал. Лицо его и во сне было суровым, напряженным; однако сильная левая рука его, безвольно откинутая, лежала в пыли рядом с маленьким кустиком чертополоха, который все еще был одет в свои рваные лохмотья из сероватого пуха и слабые доспехи из колючек. Мужчина и маленький пустынный кустик чертополоха; кустик чертополоха и спящий мужчина…
Он из тех, чья сила столь же могущественна, как Древние Силы Земли, и сродни им; он из тех, кто беседует с драконами, сдерживает землетрясение одним лишь словом. И вот он лежит на пыльной земле и спит, а рядом с его рукой мирно растет маленький кустик чертополоха. Это было так странно. Жить, быть в этом мире оказалось куда значительнее и загадочнее, чем все то, о чем она когда-либо мечтала. Сияние небес коснулось запыленных волос Геда и на какое-то мгновение сделало кустик чертополоха совсем золотым.
Свет медленно гас. А холод становился все более жестоким, усиливаясь буквально каждую минуту. Тенар встала и начала собирать сухие стебли шалфея, отламывая мелкие веточки от мощных стеблей, которые порой достигали здесь толщины дубовой ветви. Они остановились на отдых примерно в полдень, когда еще было тепло. Они устали настолько, что больше не могли сделать ни шагу. Парочка низкорослых кустов можжевельника и сам западный склон холма, через гребень которого они только что перевалили, обеспечивали сносное убежище; они попили воды из фляжки и заснули мертвым сном.
Под можжевельником она нашла несколько довольно крупных веток и подложила их в самый низ, сверху забросав всякой мелочью. Потом разожгла огонь с помощью своего кремня и кресала. Охапка сухих стеблей и листьев шалфея вспыхнула сразу. Сухие можжевеловые ветки загорелись розовым пламенем, пахнувшим смолой. Теперь костер со всех сторон окружала темнота; на небе стали появляться первые звезды — снова звезды и это потрясающее огромное небо.
Потрескиванье костра разбудило спящего. Он сел, потер руками свое мрачное лицо, неловко встал на ноги и подошел поближе к огню.
— Интересно знать… — начал он сонным голосом.
— Я понимаю, но мы все же не можем просидеть здесь всю ночь без огня: становится слишком холодно. — Через минуту она добавила: — Разве что у тебя найдется какая-нибудь хитрость, которая поможет нам согреться или сделает невидимым этот огонь…
Он уселся у костра, почти сунув туда ноги, обхватив колени руками.
— Брр! — сказал он. — Настоящий костер все-таки значительно лучше любого волшебства. Я тут немножко поколдовал вокруг нас — на всякий случай. Если кто-нибудь будет проходить мимо, пусть ему покажется, что мы просто камни. Ты как думаешь? Станут они нас преследовать?
— Я очень этого боюсь, но все-таки думаю, что не будут. Никто, кроме Коссил, не знал, что ты в Лабиринте. Кроме Коссил и Манана. А они мертвы. Она ведь наверняка была в Тронном Храме, когда он обрушился. Ждала у двери-ловушки. А все остальные, должно быть, думают, что это я была в Храме и погибла во время землетрясения. — Тенар тоже обхватила руками колени и передернулась. — Надеюсь, что остальные здания не пострадали. Трудно было разглядеть с холма в такой туче пыли. Наверно, все храмы и дома разрушиться не могли? Например, Большой Дом, где спят девочки?..
— Думаю, что нет. Просто Гробницы поглотили сами себя. Я видел золотую крышу какого-то храма, когда мы уходили. Он по-прежнему стоял. И там везде были видны человеческие фигурки; люди бежали куда-то…
— Что-то они скажут, что подумают?.. Бедная Пенте! Она могла бы стать теперь Высшей Жрицей. И ведь именно она всегда мечтала убежать оттуда! Не я. Впрочем, теперь она, возможно, тоже убежит. — Тенар улыбнулась. В ее душе светилась такая радость, которую не могли затмить никакие страшные мысли, никакой ужас; это была та самая уверенная радость, которая возникла в ней, когда она проснулась навстречу золотистому свету. Она раскрыла свой мешок и вытащила оттуда две маленькие плоские лепешки; одну она протянула над костром Геду, а сама вцепилась зубами во вторую. Лепешки были черствыми, кисловатыми и замечательно вкусными.
Некоторое время оба жевали в полном молчании.
— Как далеко мы находимся от моря?
— У меня путь от побережья сюда занял два дня и две ночи. Сейчас нам потребуется больше времени.
— Я сильная, — сказала она.
— Да, сильная. И храбрая. Но спутник твой очень устал, — сказал он с улыбкой. — И хлеба у нас с тобой маловато.
— А воду мы найдем?
— Завтра, в горах.
— А еду для нас ты не мог бы отыскать? — спросила она еле слышно, смущаясь.
— Охота требует много времени и оружие.
— Я имела в виду… Ну, ты же понимаешь, всякие заклинания.
— Я могу позвать кролика, — сказал он, подбрасывая в огонь кривую ветку можжевельника. — Сейчас кролики как раз выходят из норок. Вокруг их полно. Вечер — они охотятся. Я могу назвать кролика по имени, и он тогда непременно придет. Но сможешь ли ты поймать, освежевать и поджарить кролика, которого так подозвала к себе? Может быть, если будешь совсем умирать с голоду. Мне кажется, это значит нарушить доверие.
— Конечно. Я думала, что ты, может быть, просто…
— Вызвать нам ужин заклинанием? — договорил он. — О, это я могу. На золотых тарелках, если угодно. Но это только иллюзия, а когда ешь иллюзии, то в итоге только больше хочется есть. Это примерно то же самое, что питаться собственными словами. — Она заметила, как его белые зубы блеснули в свете костра.
— Странная у тебя магия, — сказала она с едва заметным высокомерием. Как Великая Жрица могущественному волшебнику. — Похоже, что она годится лишь для великих дел.
Он еще подбросил в огонь топлива, и костер вспыхнул, распространяя запах можжевеловой смолы; снопы искр с треском взлетали вверх.
— А ты действительно можешь позвать кролика? — вдруг спросила Тенар снова.
— Тебе этого хочется?
Она кивнула.
Он отвернулся от костра и ласково позвал, обращаясь к необъятной, заполненной светом звезд ночи:
—
Кеббо… О, кеббо…
Тишина. Ни звука. Ни одного движения. Но вскоре на самом краешке освещенного костром круга блеснул круглый глазок — словно камешек гагат, совсем рядом с землей. Изгиб пушистой спинки, ухо, длинное, настороженное, приподнятое…
Гед снова что-то сказал. Ухо дернулось, и неожиданно из тени возник пушистый кролик, он повернулся, и Тенар ненадолго увидела его целиком — маленького, мягкого, легкого прыгуна, тут же бессознательно вернувшегося к своим ночным заботам.
— Ой! — выдохнула она восторженно. — Как замечательно! — И тут же спросила: — А я могу это сделать?
— Ну…
— Это тайна? — Она тут же приняла надменный вид.
— Тайна — только имя кролика. Во всяком случае, нельзя просто так звать его по имени. А сама способность призывать живые существа вовсе тайной не является.
— О! — сказала она. — Этим-то даром ты обладаешь сполна. Я знаю! — Волнения, слышавшегося в ее голосе, не могла скрыть даже притворная насмешка. Он посмотрел на нее и не ответил.
Он действительно еще не пришел в себя и был совсем без сил после сражения с Безымянными. Свое волшебное могущество он израсходовал в содрогавшихся от землетрясения туннелях. Он одержал победу, но устал настолько, что не мог ликовать по этому поводу. Вскоре он снова свернулся калачиком на земле, как можно ближе к огню, и уснул.
Тенар сидела, подбрасывала в костер топливо, смотрела на сияние зимних созвездий, раскинувшихся от одного края неба до другого, пока голова ее не закружилась от этого великолепия и тишины: тогда заснула и она.
Проснулись оба одновременно. Костер потух. Звезды, которыми любовалась Тенар, теперь ушли далеко за горы, и на востоке появились новые. Обоих разбудил холод, сухой холод пустынной ночи, пронзительный, как ледяной нож, ветер. С юго-запада наползала вуалью череда облаков. Собранное топливо почти кончилось.
— Давай пойдем, — сказал Гед, — скоро рассветет.
Зубы у него стучали так, что Тенар с трудом понимала его. Они двинулись в путь, поднимаясь по длинному пологому склону. Кустарники и камни казались при свете звезд черными, но видно было хорошо, как днем. Сначала они очень замерзли, но потом при быстрой ходьбе согрелись и, задохнувшись на подъеме, остановились, переводя дыхание и дрожа; потом сбавили темп. К восходу они уже добрались до подножия западных гор, всю жизнь ограничивавших видимое Тенар пространство.
Они устроили привал в роще, где золотистые дрожащие, листья все еще жались к ветвям деревьев. Он объяснил ей, что это осины; она не знала других деревьев, кроме можжевельника и низкорослых тополей, росших по берегам впадающих в реку ручейков; да еще в саду при храмах было около сорока яблонь. Маленькая птичка тоненьким голоском проговорила на ветке осины: «Пинь-пинь». Под деревьями бежал ручей, узкий, но быстрый, громкоголосый, мускулистый; он пробивался среди валунов решительно и торопливо, чтобы не замерзнуть. Тенар почти боялась его шумливости. Она привыкла к пустыне, где вещи были молчаливы и медлительны: вялая река, тени облаков, кружащие в небесах стервятники…
На завтрак они поделили последнюю лепешку и последний крошащийся кусочек сыра, немного передохнули и двинулись в путь.
К вечеру они поднялись уже довольно высоко в горы. Подмораживало, дул сильный ветер — настоящая зима. Они заночевали в лощине, тоже у ручья. Здесь было полно валежника, и на этот раз они разожгли настоящий костер из больших ветвей, так что вполне согрелись.
Тенар была счастлива. Она нашла полную орехов беличью кладовую, обнаружившуюся при падении невысокого дерева. Там оказалось два кармана прекрасного фундука и еще каких-то незнакомых орехов с гладкой скорлупой, которые Гед, не зная каргадского их названия, называл по-своему:
убир. Тенар один за другим колола их с помощью двух плоских камней и каждый второй отдавала Геду.
— Мне бы так хотелось навсегда остаться здесь, — сказала она, глядя на расстилавшуюся внизу меж холмами сумеречную равнину, продуваемую всеми ветрами. — Мне очень нравится это место.
— Хорошее место, — согласился Гед.
— Люди никогда не придут сюда…
— Во всяком случае, вряд ли… Я сам родился в горах, — сказал он, — на острове Гонт. Мы проплывем мимо него на пути в Хавнор; он чуть севернее. Гонт очень красив зимой — весь белый и поднимается из волн морских, словно шапка самой высокой волны. Около моей деревни протекал как раз такой вот ручей… А ты где родилась, Тенар?
— На севере Атуана, в Энтате, по-моему. Я ведь совсем не помню дома.
— Тебя так рано забрали?
— Мне было пять лет. Я помню огонь в очаге и… больше ничего.
Гед задумался, потер подбородок, который хоть и зарос уже редкой щетиной, но, по крайней мере, наконец-то был чистым: несмотря на холод, оба тщательно вымылись в горном ручье. Смотрел он сурово. Тенар наблюдала за ним и ни за что не смогла бы прямо определить то, что было у нее на душе, когда она смотрела на него, особенно здесь, среди гор, в отблесках костра.
— Что бы ты хотела делать в Хавноре? — спросил Гед, словно обращаясь не к ней, а к огню. — Я и не ожидал, что ты сможешь настолько — действительно по-настоящему! — возродиться.
Тенар кивнула, чуть улыбнувшись. Она поистине чувствовала себя новорожденной.
— Для начала тебе следовало бы выучить их язык.
— Твой язык?
— Да.
— С удовольствием!
— Ну хорошо. Вот это кабат. — Он бросил маленький камешек в подол ее черного платья.
— Кабат. Это на языке драконов?
— Нет, нет. Ты ведь не собираешься колдовать, я надеюсь; ты, наверно, хочешь просто разговаривать с другими людьми?
— А как будет «камешек» на языке драконов?
—
Ток, — сказал он. — Но я вовсе не собираюсь брать тебя в ученицы и делать колдуньей. Сейчас мы с тобой будем учить тот язык, которым люди пользуются по всему Архипелагу, по крайней мере, на всех Внутренних Островах. Я вот должен был выучить твой язык, прежде чем явился сюда.
— Ну, ты говоришь на нем довольно-таки странно.
— Несомненно. Итак,
аркемми кабат, — и он протянул к ней руку, чтобы она отдала камешек ему.
— А я обязательно должна ехать в Хавнор?
— А куда же еще ты хотела бы поехать, Тенар?
Она колебалась.
— Хавнор — прекрасный город, — сказал он. — И ты привезешь туда Кольцо, символ мира, утраченное сокровище. Тебя будут встречать в Хавноре как принцессу. Будут носить на руках, каждый будет счастлив приветствовать тебя… В этом городе живут благородные и великодушные люди. Тебя наверняка станут называть Белой Дамой — из-за светлой кожи; а то, что ты так молода, вызовет к тебе всеобщую любовь. И еще ты красива. Там у тебя будет сотня таких платьев, как то, что я создал для тебя с помощью иллюзии, но только настоящих. Со всех сторон ты будешь чувствовать всеобщую любовь и восхищение. Ты, которая раньше знала лишь одиночество, зависть и тьму.
— Там был еще Манан, — сказала Тенар, словно защищаясь; губы ее слегка дрожали. — Он любил меня и был ко мне добр — всегда. Он охранял меня, оберегал, не жалея жизни, а я его за это убила; он упал в черный Колодец… Не хочу я ехать в Хавнор. Не хочу. Я хочу остаться здесь.
— Здесь? В Атуане?
— В горах. Вот здесь, где мы сейчас.
— Хорошо, Тенар, — сказал Гед мрачно и спокойно, — тогда мы останемся. У меня, правда, нет с собой ножа, так что если пойдет снег, будет трудновато. Но до тех пор, пока мы сможем находить пищу…
— Нет. Я понимаю: мы не можем здесь остаться… Я веду себя просто глупо! — сказала Тенар, встала, стряхнула ореховые скорлупки и подбросила в костер топлива. Она стояла, освещенная пламенем, тоненькая и очень прямая в своем изодранном, перепачканном землей платье и черном плаще. — Все, что я знала раньше, теперь не имеет ни малейшего смысла, — сказала она, — а пока что я не знаю больше ничего. Но я постараюсь научиться.
Гед отвернулся и стал смотреть в сторону, сморщившись, как от боли.
На следующий день они прошли перевал и по поросшему лесом склону стали спускаться вниз. На перевале дул сильный ветер, сбивал с ног, нес колючий слепящий снег. И пока они не вышли из-под снеговых туч, нависших над вершинами, Тенар не могла как следует разглядеть земли, что лежали за первой горой. Все вокруг там оказалось зелено-зелено от сосен, от покрытых травой лугов, от юных всходов на полях. Даже среди зимы, когда кустарник по ту сторону горы был нагим и серым, как и лес, здесь зеленели свежие и юные всходы. Они смотрели на эту красоту со скалистого утеса. Потом Гед молча указал на запад, где солнце тонуло в пенистой воздушной гряде облаков. Собственно, самого солнца уже не было видно, но на горизонте разливалось сияние, похожее на хрустальные сверкающие стены Священного Подземелья, на дивный райский храм…
— Что это? — спросила девушка.
— Море, — ответил ее спутник.
Вскоре она увидела куда менее значительную, но все же достаточно удивительную картину. Они вышли на дорогу и шли по ней; и уже в сумерках дорога привела их в какую-то деревню: дюжина домиков, приткнувшихся к дороге. Тенар с тревогой посмотрела на своего спутника, ведь сейчас они должны были оказаться среди чужих людей, каргов. Посмотрела — но Геда не увидела! Рядом с ней в одежде Геда и в его башмаках шел его же походкой совсем другой человек. Светлокожий, безбородый. Он взглянул на нее — глаза оказались голубыми. Человек подмигнул ей.
— Обману я их, как ты думаешь? — сказал он голосом Геда. — Как тебе твоя одежда?
Она глянула вниз, на свое платье. На ней оказалась коричневая крестьянская юбка, кофта и большая красная шерстяная шаль.
— О! — сказала она, от неожиданности останавливаясь. — О, ты действительно — действительно Гед! — И едва она произнесла его имя, как тут же увидела совершенно отчетливо знакомое темнокожее, покрытое шрамами лицо, темные глаза… И все-таки рядом с ней шагал совершенно незнакомый человек с молочно-белой кожей!
— Не произноси моего подлинного имени в присутствии других людей. Как и я не произнесу твоего. Мы с тобой брат и сестра, пришли сюда из Тенакбаха. И если я увижу сколько-нибудь доброе лицо, то сразу же попрошу о самом скромном ужине для нас. — Он взял ее за руку, и они вошли в деревню.
Утром, наевшись до отвала, они двинулись дальше, отлично выспавшись на сеновале.
— Разве у магов принято просить милостыню? — спросила Тенар. Они шли по дороге, которая вилась меж зеленых полей, где паслись козы и мелкие пятнистые коровенки.
— А почему ты спрашиваешь?
— Похоже, тебе это не впервой. Во всяком случае, это у тебя хорошо получается.
— Ну что ж, в общем, да. Я всю свою жизнь только и делал, что милостыню просил — если посмотреть с твоей точки зрения. Волшебники ведь не богаты, знаешь ли. У них, в общем-то, и нет ничего, кроме посоха да одежды, особенно во время странствий. Но их принимают обычно как дорогих гостей, дают им пищу и кров. Они ведь кое-чем гостеприимство оплачивают.
— Как оплачивают?
— Ну, к примеру, у этой женщины в деревне я вылечил коз.
— А что с ними случилось?
— У обеих было воспаление вымени. Я ведь пас коз, когда был мальчишкой.
— А ты сказал ей, что вылечил их?
— Нет. Как я мог? Да и зачем?
Она помолчала и сказала:
— Я вижу, твое волшебство все-таки годится не только для великих подвигов.
— Гостеприимство, — сказал он, — доброе отношение к чужому человеку — тоже великое дело, иногда даже подвиг. Конечно, вполне достаточно и благодарных слов. Но мне стало жаль коз.
В полдень они подошли к большому городу, выстроенному в основном из необожженного кирпича и обнесенному по периметру, как обычно в Каргаде, стеной с зубчатым верхом; со сторожевыми башнями по четырем углам и единственными воротами, перед которыми погонщики пасли большое стадо овец. Крытые красной черепицей крыши по крайней мере сотни домов возвышались над стенами из желтоватого кирпича. У ворот стояли два стражника в шлемах с красными перьями — солдаты Короля-Бога. Тенар раньше видела солдат в таких шлемах: раз или два в году они привозили в Святое Место жертвоприношения — рабов или деньги — в основном для Храма Короля-Бога. Она рассказала об этом Геду, пока они шли вдоль городской стены, и он ответил:
— Я тоже видел их раньше, когда был совсем мальчишкой. В тот раз они напали на остров Гонт. И в конце концов добрались до моей деревни, намереваясь ее разграбить. Но их оттуда погнали. И состоялась битва в устье реки Ар, на самом ее берегу. Много тогда полегло людей, говорят, сотни. Что ж, может быть, теперь, когда Кольцо вновь соединено и восстановлена Утраченная Руна, больше не будет ни грабительских войн, ни смертельных схваток между жителями Империи Каргад и Внутренних Островов.
— Было бы глупо продолжать их, — откликнулась Тенар. — Да и что, в конце концов, Королю-Богу делать с таким количеством рабов?
Ее спутника, похоже, это даже позабавило. Он немного подумал.
— Это если Каргад победит все страны Архипелага, ты хочешь сказать?
Она кивнула.
— Не думаю, чтобы это могло произойти.
— Но посмотри, как сильна Империя, какие в ней большие города, вот, скажем, этот — с толстыми стенами и таким множеством людей! Как могут ваши острова противостоять каргам, если те на них нападут?
— Это вовсе не такой уж большой город, — осторожно и мягко сказал Гед. — Я бы тоже, наверно, решил, что он огромен, когда впервые попал в иные края, оставив Гонт… Но в Земноморье есть много, очень много городов, по сравнению с которыми этот — всего лишь деревня. Существует ведь очень много разных стран… И ты непременно увидишь их, Тенар!
Она ничего не ответила. Тащилась по дороге, и лицо ее было печально.
— Пойми, это удивительно и прекрасно — видеть новые земли, когда они поднимаются навстречу твоему судну из океана. Поля и леса, города с гаванями, дворцами, рыночными площадями, где продается все, что только есть в мире…
Она кивнула. Она понимала, что Гед пытается подбодрить ее, и все же радость ее осталась там, высоко в горах, в залитой закатным солнцем долине у ручья. Теперь в ней проснулся и с каждой минутой рос ужас. Все, что впереди, было ей неведомо. Она не знала в жизни ничего, кроме пустыни и Гробниц. Но что они дали ей? Да, она знала каждый поворот в древнем Лабиринте, она выучила множество сакральных танцев, которые исполнялись у Незанятого Трона, у поверженного алтаря. Но ничего, совсем ничего не знала она ни о лесах, ни о городах, ни о душах людей.
Вдруг Тенар спросила:
— А ты останешься со мной — там?
На него она при этом не смотрела: он по-прежнему был в своем колдовском отвратительном обличье белокожего каргадского крестьянина, и ей неприятно было смотреть на него, когда он такой. Но голос его не изменился, это был тот же голос, что говорил с ней в темноте Лабиринта.
Он помедлил с ответом.
— Тенар, я иду туда, куда меня посылают, куда зовет меня душа. Она еще никогда не позволяла мне долго засиживаться на одном месте. Понимаешь? Я делаю то, что должен делать. И туда, куда я иду, я должен идти один. Пока я буду нужен тебе, я останусь с тобой в Хавноре. И если когда-нибудь еще я понадоблюсь тебе, позови меня. Я приду. На твой зов я пришел бы даже из собственной могилы, Тенар! Я не могу остаться с тобой навсегда.
Она промолчала. Через некоторое время он пояснил:
— Там я буду недолго нужен тебе. Ты и без меня будешь счастлива.
Она молча кивнула, соглашаясь.
Рядом шли они по направлению к морю.
Глава 12
Путешествие
Он спрятал свою лодку в одной из пещер мощного скалистого утеса, сильно выдающегося в море. Облачный Мыс — так называли его жители близлежащих деревень. В одной из них Геда и Тенар накормили ужином, дав целый горшок рыбного рагу.
Они спустились к морю, когда серый день уже совсем померк. Пещера была похожа на узкую и глубокую трещину в сплошной скале; песчаный пол в ней был пропитан водой, потому что был лишь чуть выше линии прилива. Вход в пещеру был виден с моря, и Гед сказал, огня зажигать не стоит, чтобы рыбаки, что вышли на ночную ловлю и плавают в своих суденышках вдоль берега, не проявляли излишнего любопытства. Так что, к сожалению, они улеглись прямо на влажный песок, который кажется таким мягким, когда его пропускаешь между пальцами, но оказывается твердым как камень, когда ложишься на него усталым телом. Тенар слушала море, плескавшееся в двух шагах от входа в пещеру. Оно обрушивалось на скалы, с чмоканьем и гулом вливалось в узкие проливы, а дальше, на песчаных пляжах, протянувшихся далеко к востоку, прибой грохотал как гром. Снова, снова и снова бросалось море на берег, и голос его каждый раз звучал чуточку иначе. Море никогда не отдыхало. У всех берегов и всех островов волны его продолжали свой бег, неутомимые, неумолчные, беспокойные. Пустыня, горы — о, те хранили покой и молчание. Но море вечно говорило что-то громким, чуть глуховатым голосом. Вот только язык его не был Тенар известен, она его не понимала.
С первыми серыми проблесками рассвета начался отлив; Тенар очнулась от нескончаемого полусна и увидела, что волшебник выбрался из пещеры и ходит босиком в подпоясанном ремнем плаще по покрытым черными волосами водорослей мокрым скалам. Он явно что-то искал. Потом вдруг на мгновение в пещере стало темно — Гед, вернувшись, заслонил собой вход в нее.
— Вот, — сказал он, протягивая девушке горсть мокрых забавных штучек, похожих на красные камешки с оранжевыми губами.
— Что это такое?
— Мидии, ракушки такие, я их собрал на скалах. А вот это две устрицы, они еще лучше — вкуснее. Смотри, вот как нужно.
С помощью маленького кинжала, что когда-то висел у нее на поясе вместе с ключами от Лабиринта (она отдала ему нож еще в горах), Гед открыл раковину и съел оранжевого моллюска, окропив его в качестве приправы морской водой.
— Ты даже не варишь их? Ты ешь их живыми!
Она не стала смотреть на него, когда он хоть и с пристыженным, но упрямым выражением лица продолжал открывать раковины и поедать моллюсков.
Когда с мидиями было покончено, Гед прошел в глубь пещеры к лодке, которая лежала кормой к входу на подложенных под нее стволах плавника. Тенар уже рассмотрела лодку вчера вечером — недоверчиво и непонимающе. Лодка оказалась значительно больше, чем она себе представляла, — в три человеческих роста длиной. Там было множество предметов, предназначения которых Тенар не знала, и выглядели они какими-то опасными. На лице лодки (так Тенар называла ее нос) были глаза, и сквозь дрему девушка постоянно чувствовала, что лодка на нее смотрит.
Гед повозился где-то в глубине пещеры и через некоторое время вернулся со свертком в руках. Это оказались сухари, плотно и тщательно завернутые, чтобы уберечь от сырости. Он протянул девушке большой сухарь.
— Я не хочу есть. — Лицо у Тенар было сердитым.
Он посмотрел на нее, убрал сухарь, снова тщательно все завернул и уселся у входа в пещеру.
— До прилива еще часа два, — сказал он. — Тогда можно выходить в море. Ты плохо спала ночью, может, поспишь сейчас?
— Я не хочу спать.
Он отвечать не стал. Сидел себе, скрестив ноги и повернувшись к ней боком в темной каменной арке; сверкающая, переливающаяся полоса морской воды была прямо за ним; его профиль четко вырисовывался на светлом фоне моря. Гед был неподвижен, как скалы вокруг. Неподвижность распространялась вокруг него, словно круги от брошенного в воду камня. Его молчание было не просто отсутствием разговора, но обладало собственным значением, подобно молчанию пустыни.
Молчание это длилось долго. Наконец Тенар встала и подошла к входу в пещеру. Гед не пошевелился. Она посмотрела вниз, на его лицо. Это было лицо бронзовой статуи — застывшее, темное, глаза открыты и смотрят в землю, рот сурово сжат.
Он сейчас был так же недоступен и непонятен ей, как море. Где же он сейчас? По каким неведомым тропам бродит его душа? Она, Тенар, никогда не сможет последовать за ним в те края…
Он просто заставил ее пойти за ним. Назвал подлинным именем, приманил — вот она и потянулась робко к его руке, как тот дикий кролик ночью в пустыне. И теперь, когда он получил Кольцо, когда Гробницы разрушены, а Жрица их стала клятвопреступницей, теперь она больше не нужна ему, он просто ушел от нее в такие края, где ей его не догнать. Нет, он никогда бы не остался с ней! Он обманул ее и теперь, конечно же, бросит ее одну.
Она нагнулась и быстрым движением отцепила от его пояса маленький стальной кинжал, который сама дала ему. Он по-прежнему не шевелился, так что она словно статую ограбила.
Нож был совсем маленький, не длиннее пальца, и заточен только с одной стороны; это была миниатюрная копия жертвенного ножа, часть облачения Жрицы Гробниц; кинжал всегда висел у нее на кольце вместе с ключами, но она никогда им не пользовалась, разве что во время одного из танцев перед Троном в безлунные ночи, когда она должна была подбрасывать нож в воздух и ловить его. Ей нравился этот танец; он был какой-то дикий, первобытный, без музыки, ритм отбивали лишь ее собственные босые ноги. Она много раз успела обрезаться, разучивая этот танец, пока не научилась ловить ножик точно за рукоятку. Маленькое лезвие было достаточно острым, чтобы рассечь палец до кости или перерезать вену на шее. Она все-таки еще послужит своим Хозяевам, пусть сами они и предали ее, отреклись от своей Жрицы. Они направят ее руку в этом последнем жертвоприношении Тьме. Они примут эту жертву.
Она, прижав руку с зажатым в ней ножом к бедру, склонилась над Гедом. Вдруг он медленно поднял к ней лицо и посмотрел так, словно только что вернулся из далеких краев, где встретился с чем-то ужасным и теперь испытывал облегчение. Лицо его было спокойно, но глаза полны боли. Он внимательно смотрел на Тенар; казалось, он впервые начинает видеть ее по-настоящему. Выражение его лица прояснилось. Наконец он сказал:
— Тенар! — словно поздоровался с ней после долгой разлуки и доверчиво протянул руку к резному с дырочками серебряному браслету у нее на запястье, как бы черпая в нем силы и веру. Ножа в ее руке он не заметил. Смотрел вдаль, на волны, высоко вздымавшиеся у скал внизу; потом, словно совершив над собой усилие, сказал: — Пора!.. Пора нам отправляться в путь.
И тут ярость в ее душе погасла, сменившись страхом.
— Ты оставишь Их позади, Тенар. Теперь ты от Них уходишь, уходишь свободной, — неожиданно энергично сказал Гед и вскочил на ноги. Он расправил плечи, туго обернулся в плащ и застегнул потуже пряжку ремня. — Помоги-ка мне с лодкой. Под нее специально подложен плавник, чтобы легче было столкнуть ее в воду. Вот так, толкай еще… еще… Ну хватит, хватит, довольно. Теперь будь готова прыгнуть в нее, когда я скажу… Прыгай!.. Это ничего, что сразу не получилось, прыгни еще разок. Вот так! И сразу проходи на середину! — И, прыгнув в лодку за ней следом, он поймал девушку, когда та чуть не вывалилась за борт.
Гед усадил Тенар на дно, сам встал, широко расставив ноги, и заработал веслами, направляя лодку по уходящей от берега воде меж скал в Открытое Море, мимо ревущей, покрытой пеной полосы прибоя у выдающейся вперед оконечности мыса, все дальше и дальше от берега.
Потом, когда кипящая полоса воды осталась позади, он положил весла, укрепил мачту и поднял парус. Теперь, когда бескрайнее море расстилалось вокруг, лодка показалась Тенар очень маленькой.
Парус наполнился ветром. Все снасти казались старыми, испытанными; неяркий красный парус был бережно залатан, а сама лодка чисто и аккуратно прибрана. Суденышко было похоже на своего хозяина: побывало в дальних краях и вернулось домой, хотя пережить там пришлось немало.
— Теперь, — сказал Гед, — мы от Них уже далеко, теперь мы совсем свободны, и руки наши остались чисты, Тенар. Чувствуешь ли ты это?
Она действительно это чувствовала. Темная рука отпустила наконец ее сердце, которое держала в плену всю жизнь. Но радости — той, что возникла тогда в горах, — не было. Уронив голову на руки, Тенар горько заплакала, слезы лились ручьем. Она оплакивала свою даром прожитую жизнь, потраченную на служение злу. Неожиданно обретенная свобода причиняла ей боль.
Она уже начала понемногу понимать, что свобода — это тяжкий груз, великое, загадочное бремя для души. Нелегко нести его. Это не подарок, но сделанный тобой выбор; и выбор этот может иметь самые неожиданные последствия. Путь свободы ведет наверх, к свету, но, если бремя ее слишком тяжело, можно никогда не достигнуть конца пути.
Гед дал девушке выплакаться, не сказав ни слова утешения; он молчал и тогда, когда Тенар, уже перестав плакать, еще долго сидела, глядя на тающий в голубой дали низкий берег Атуана. Лицо его было суровым и решительным; он, казалось, не замечал присутствия своей спутницы, его больше волновали парус и рулевое весло; быстрый в движениях и молчаливый, он все время смотрел только вперед.
В полдень он показал Тенар вправо — теперь они шли прямо на юг.
— Это Карего-Ат, — сказал он, и Тенар, проследив за взмахом его руки, увидела далекие, затянутые дымкой холмы, похожие на облака, — великий остров Короля-Бога. — Атуан у них за спиной совсем исчез из виду. На сердце у Тенар было тяжко. Солнце било ей в глаза золотым молотом.
На ужин были сухари и вяленая рыба, которая показалась Тенар удивительно противной. Да еще вода из бочонка, который Гед наполнил из ручья на Облачном Мысу. Зимняя ночь спустилась быстро, на море особенно холодная. Далеко на севере они какое-то время видели мерцание огоньков — желтых костров на берегу Карего-Ат. Потом огоньки исчезли в дымке, что повисла над океаном, и лодка оказалась совсем одна среди беззвездной ночи над бездонными глубинами.
Тенар клубочком свернулась на корме; Гед устроился на носу, подложив под голову вместо подушки бочонок с водой. Лодка размеренно двигалась дальше, невысокие волны бились о ее борта, хотя южный ветер скорее напоминал едва ощутимое дыхание. Здесь, вдали от скалистых берегов, море казалось даже излишне молчаливым; лишь касаясь бортов лодки, оно что-то шептало чуть слышно.
— Если ветер дует с юга, — спросила Тенар шепотом, как и море, — то разве лодка плывет не на север?
— Да, на север, если не поменять галс. Но я поднял волшебный ветер, так что сейчас мы плывем на запад. К завтрашнему утру выйдем из каргадских вод. Тогда пусть наши паруса надует настоящий ветерок.
— А что, наша лодка сама собой управляет?
— Да, в общем-то, — мрачно ответил Гед, — если ей приказать. Впрочем, ей много объяснять не нужно. Она уже бывала в Открытом Море, дальше самого далекого из островов Восточного Предела; и на Селидоре она тоже бывала — это тот остров, где погиб Эррет-Акбе, самый дальний в Западном Пределе. Моя «Зоркая» — мудрая, умелая лодка. Можешь ей доверять.
Лодка благодаря силе магического ветра легко скользила над бездной моря; на корме лежала девушка, запрокинув лицо и глядя вверх, во тьму. Всю свою жизнь Тенар видела тьму, но эта ночь над океаном была поистине беспредельна. Она плыла над морем и, казалось, не кончится никогда. От края до края над головой было лишь звездное небо. Вечные силы двигали их суденышко. Силы эти возникли раньше света и будут существовать после него. Раньше жизни, раньше зла возникли они, они сильнее всего, они будут всегда…
В темноте Тенар снова заговорила:
— Тот маленький островок, где тебе подарили половинку Кольца, ведь где-то здесь, в этом море?
— Да, — откликнулся Гед, — где-то здесь, наверно, чуть южнее. Я уж, пожалуй, и не смогу его отыскать.
— Я знаю, кто была она, та старая женщина, что дала тебе Кольцо.
— Знаешь?
— Мне рассказывала эту легенду Тхар. Это обязательно для Первой Жрицы — знать такие легенды. Сначала она мне рассказывала ее в присутствии Коссил, потом, гораздо подробнее, когда мы были одни — она тогда в последний раз разговаривала со мной перед смертью. В Гупуне существовал один благородный каргадский род, вместе с другими восставший против власти Верховных Жрецов в Авабатхе. Основателем этого рода был король Toper, и среди сокровищ, которые оставил он своим потомкам, была половинка Кольца, некогда подаренного ему Эррет-Акбе.
— Да, так говорится и в наших сказаниях об Эррет-Акбе. На твоем языке это звучит примерно так: «Когда Кольцо было сломано, половинка его осталась в руках Верховного Жреца Интатина, а вторая половинка — в руках героя. И Верховный Жрец отослал свою половину Безымянным в Атуан, и она попала во Тьму, в неведомые места. А Эррет-Акбе отдал половинку сломанного Кольца прямо в руки девицы Тиаратх, дочери того мудрого короля, и сказал: «Пусть это будет приданое девушки, пусть половинка Кольца остается в этой земле, пока не соединится со второй своей половинкой». Так сказал герой, прежде чем отправился на запад…»
— Правильно, и она, должно быть, передавалась от матери к дочери в этом роду в течение долгих лет. Она не была потеряна, как думали ваши люди. А Верховные Жрецы постепенно превратились в Жрецов-Правителей, а потом, создав Империю, стали называть себя Королями-Богами. Род Торега к этому времени совсем обеднел и ослабел. И, наконец, так рассказывала мне Тхар, из всего рода остались лишь двое — маленькие дети, мальчик и девочка. В Авабатхе тогда правил отец нынешнего Короля-Бога, и он приказал выкрасть детей из дворца в Гупуне, ибо, согласно предсказанию, один из потомков Торега непременно должен был привести Империю к краху, и это пугало Короля-Бога. Он приказал выкрасть детей и увезти прочь, а потом оставить их на одиноком островке посреди океана совсем без ничего — без одежды и без пищи.
Он опасался убивать их с помощью ножа, петли или яда; все-таки они были королевской крови, а убийство королей навлекает проклятие даже на богов. Звали детей Энзар и Антиль. Это Антиль дала тебе половинку Кольца.
Гед долго молчал.
— Ну вот и конец этой давней истории, — сказал он, — и Кольцо тоже обрело целостность. Ах, какая жестокая легенда, Тенар!.. Маленькие дети, необитаемый островок, старик и старуха, встретившиеся мне… Они ведь едва умели говорить по-человечески…
— Можно я попрошу тебя о чем-то?
— Проси.
— Я не хочу ехать в Хавнор. Я вообще не хочу на Внутренние Острова — я там чужая и останусь чужой в этих больших городах, среди незнакомых людей… Я на любой земле останусь чужой: я предала свой народ, у меня больше нет родины. И я совершила преступление. Высади меня одну на какой-нибудь остров, как высадили тех королевских детей. И пусть этот остров будет необитаемым, пусть не будет там ни единого человека. Оставь меня там и отвези Кольцо в Хавнор. Оно твое, а не мое. Ко мне оно не имеет ни малейшего отношения. Как и весь твой народ. Дай мне наконец остаться одной!
Медленно, но все же успев удивить ее, перед ней подобно тонкому месяцу на черном небе зажегся волшебный свет, вызванный его волей. Огонек прилепился к концу посоха Геда, который тот держал вертикально, сидя на носу лодки. Волшебный полумесяц освещал своим серебряным сиянием нижнюю часть паруса, оснастку и лицо Геда, который смотрел прямо на девушку.
— Какое преступление совершила ты, Тенар?
— Я приказала запереть тех троих в Комнате Узников, чтобы они умерли там с голоду. И они умерли и похоронены в Подземелье. Священные Камни упали на их могилы… — она запнулась.
— Что-нибудь еще?
— Манан.
— Эта смерть на моей совести.
— Нет. Он умер, потому что любил меня и был мне предан. Он думал, что защищает меня. Ведь это он держал меч над моей головой, когда я была совсем маленькой. Он был ко мне добр… когда я плакала… — она снова запнулась, с трудом сдерживая слезы, но больше плакать не стала. Только стиснула руки, лежавшие на коленях поверх ее черного платья. — Я никогда не была к нему добра. Я не поеду в Хавнор. Я не поеду с тобой. Найди такой остров, где не бывает никто, и оставь меня там. За зло надо платить злом! Я еще не свободна.
Нежный свет волшебного полумесяца, кажущийся жемчужным из-за повисшей над морем дымки, мерцал между ними.
— Послушай, Тенар, послушай меня внимательно. Ты была сосудом зла, но зло вылито наружу. С ним теперь покончено. Зло похоронено в своей гробнице. Ты никогда не предназначалась для того, чтобы хранить зло, для жестокости и тьмы; ты создана, чтобы хранить свет — так хранит и отдает свет зажженный светильник. Просто я нашел этот светильник незажженным. Я никогда не оставлю тебя на необитаемом острове; никогда не отброшу, словно ненужную вещь, этот не зажженный пока светильник. Я привезу тебя в Хавнор, я скажу правителям Земноморья: «В самой обители Тьмы нашел я свет: душу этой девушки! Благодаря ей древнее зло обратилось в прах. Благодаря ей я выбрался на свет из могилы. Благодаря ей сломанное
вновь стало целым. Там, где царила ненависть, благодаря ей воцарился мир».
— Я не поеду! — с отчаянием сказала Тенар. — Я не могу. Это несправедливо!
— …А после этого, — продолжал Гед спокойно, — я увезу тебя прочь от этих правителей и богатых лордов, ибо это верно: ты среди них чужая. Ты слишком молода и слишком мудра. Я отвезу тебя к себе на родину, на остров Гонт, к моему старому Учителю. Его зовут Огион Молчаливый. Он величайший маг, и душа его пребывает в покое. Живет он в маленьком домике на утесах Ре Альби, высоко над морем. У него есть несколько коз и небольшой сад. Осенью он обычно странствует по острову в полном одиночестве. Бродит по лесам, горным склонам, речным долинам… Я когда-то жил у него — в детстве. Но недолго оставался там: на это у меня не хватило мудрости. Я уехал — в поисках зла, и, разумеется, нашел его… Но ты придешь туда, чтобы от зла спастись, придешь в поисках свободы и тишины, пока не обретешь свой собственный путь. Там ты найдешь и доброту, и тишину, Тенар. Никакой ветер не сможет задуть горящий в тебе свет. Поедешь?
Между их лицами проплывали серые волны морского тумана. Лодка чуть приподнималась на широкой волне. Вокруг расстилалась ночь, под ними — море.
— Поеду, — сказала Тенар, глубоко вздохнув. Потом помолчала и добавила: — Ах, как бы я хотела, чтобы это случилось скоро… чтобы мы могли поехать туда прямо сейчас…
— Но это будет очень скоро, малышка.
— А ты когда-нибудь приедешь туда?
— Как только смогу — приеду.
Волшебный огонек давно погас; вокруг них царила полная темнота.
Еще много было восходов и закатов над морем, были тихие дни и дули ледяные ветры, но наконец они приплыли к Внутренним Островам. Непрерывно встречаясь то с огромными кораблями, то с маленькими суденышками, они приближались теперь к острову Хавнор, прямо через залив — к его главному порту. Пред ними вставали белые башни и весь город, усыпанный белым сверкающим снегом. Снегом были покрыты красные черепичные крыши, и украшенные разноцветной мозаикой мосты, и мачты судов в гавани, что сверкала тонким ледком под зимним солнцем. Весть об их прибытии опередила «Зоркую», ибо ее залатанный красный парус хорошо известен был в этих местах. Огромная толпа собралась у заснеженных причалов, и разноцветные флаги хлопали на холодном ветру под ясным солнцем.
Тенар сидела на носу, прямая, в своем черном потрепанном плаще. Она посмотрела на серебряное Кольцо у себя на запястье, потом — на разноцветную толпу на берегу, обвела взглядом дворцы и белые башни. Потом высоко подняла правую руку, и солнце сверкнуло на серебре. Радостный гул пронесся над неспокойной водой. Гед причалил лодку, и сотня рук протянулась ему на помощь. Он выпрыгнул на пирс и обернулся, протягивая руку своей спутнице.
— Иди сюда! — сказал он, улыбаясь, и Тенар встала и пошла к нему.
Мрачным было ее лицо, когда она шла рядом с Гедом по белым улицам Хавнора; она крепко держала его за руку — словно ребенок, которого ведут домой.
Книга III. НА ПОСЛЕДНЕМ БЕРЕГУ
Магия Земноморья угасает, краски жизни тускнеют. Один из магов преступил все запреты и саму грань между жизнью и смертью — кто он, обещающий вечную жизнь по ту сторону? Выяснить это надо Геду. В сопровождении юного принца Аррена, ему предстоит доплыть до края мира, и вступить во владения смерти…
Глава 1
Ясень
Во дворике у фонтана яркое мартовское солнце просвечивало сквозь юную листву ясеней и вязов; в полосах света и тени журчала и переливалась струя воды. Дворик с четырех сторон был замкнут высокими каменными стенами Большого Дома, где, помимо жилых помещений для учеников и Мастеров, было множество залов, загадочных коридоров и переходов, лестниц и башен. Сам Большой Дом окружали мощные крепостные стены, которые способны были выдержать любую осаду неприятеля, любое землетрясение, любую, самую страшную морскую бурю, ибо стены Школы Волшебников на острове Рок были не только сложены из массивных каменных глыб, но и скреплены нерушимым заклятьем, самой надежной магией. Ведь остров Рок — это Остров Мудрецов, и учат в Школе Волшебников тонкому искусству Высшей Магии; а Большой Дом — самое сердце Школы и средоточие всякого чародейства и волшебства. А посреди Большого Дома, в глубине его, есть маленький внутренний дворик под открытым небом, где струя воды играет в фонтане да шелестят листвой деревья — под дождем, под солнцем ли, или при свете звезд.
Ближайшее к фонтану дерево — рослый ясень — взломало своими корнями мраморные плиты, устилавшие дворик. Трещины разбежались во все стороны и проросли ярко-зеленым мхом, которого было много на небольшой лужайке; посреди лужайки находился бассейн с фонтаном. Мох забрался и на мраморные плиты, которыми был выложен бортик бассейна; на этих плитах сидел юноша, внимательно следивший за тем, как взлетает и падает струя воды в фонтане. Он был почти уже взрослым, но все-таки еще мальчик, стройный, в богатых одеждах. Его лицо было словно отлито из золотистой бронзы — столь четкими и правильными были его черты, столь неподвижно-застывшим было оно само.
В нескольких шагах за спиной юноши, по другую сторону зеленой лужайки, в центре дворика стоял под деревьями мужчина — впрочем, кажется, стоял: трудно было утверждать это, так прихотливо переплетались тени и играли теплые солнечные блики. Нет, он все-таки точно был там — мужчина в белом, стоявший совершенно неподвижно. Юноша смотрел на струю воды в фонтане, мужчина — на юношу. Ни единого звука, ни одного движения, только шелест листьев да журчание воды, вечное пение струй.
Мужчина сделал несколько шагов вперед. Ветерок коснулся ветвей ясеня, шевельнул его нежную листву. Юноша гибким движением вскочил мужчине навстречу и, смутившись, склонился перед ним в почтительном приветствии.
— Господин мой Верховный Маг…
Мужчина остановился прямо перед ним; невысокий, с гордой осанкой, энергичный, в белом шерстяном плаще с капюшоном. На фоне белых складок откинутого на спину капюшона лицо его казалось красновато-коричневым, очень темным; у Мага был ястребиный нос, на одной щеке — старые шрамы; ясный пронзительный взгляд горячих глаз. Впрочем, голос его звучал мягко.
— Здесь приятно посидеть у фонтана, — сказал он, жестом останавливая готового извиняться юношу. — Ты приехал издалека и еще не успел отдохнуть. Так что сиди.
Сам Верховный Маг опустился на колени у края бассейна и подставил руку под сверкающий водопад; вода текла между его пальцами. Юноша вновь присел на разорванные корнями ясеня мраморные плиты, и с минуту оба молчали.
— Итак, ты сын правителя Энлада и Энладских островов, — сказал Верховный Маг, — наследник княжеского рода Морреда. Во всем Земноморье нет более древней и чистой родословной. Я видывал сады Энлада весной, и золотые крыши Берилы… Как звать тебя?
— Меня зовут Аррен.
— Это, должно быть, слово из энладского диалекта. Что оно значит на языке Архипелага?
— Меч, — ответил юноша.
Верховный Маг кивнул. Снова воцарилась тишина. Чуть погодя Аррен промолвил не то чтобы с вызовом, но и ничуть не смущаясь:
— Я думал, что Верховный Маг знает все языки.
Мужчина, не отрывая взгляда от фонтана, покачал головой.
— И все имена…
— Все имена? Только Сегой, что произнес Первое Слово, поднимая острова Земноморья из глубин морских, знал все имена. Впрочем, — и быстрый неистовый взгляд скользнул по лицу Аррена, — если мне нужно будет узнать твое подлинное имя, я его узнаю. Пока в этом нет необходимости. Я буду звать тебя Аррен, а меня зовут Ястреб. Расскажи-ка мне о своем путешествии сюда.
— Слишком длинное.
— Ветер не был попутным?
— Да нет, попутный был ветер, просто вести, что я привез сюда, дурные, господин мой.
— Ну так говори, в чем дело, — мрачно сказал Верховный Маг, словно уступая нетерпеливому ребенку, и, пока Аррен рассказывал, не сводил глаз с прозрачного занавеса из водяных струй, что падали сверху в нижнюю часть бассейна; лицо у него при этом было такое, словно он не то чтобы не слушал юношу, но просто слышал значительно больше того, чем тот рассказывал.
— Ты знаешь, господин Ястреб, что отец мой, правитель Энлада, сам имеет отношение к магии, будучи в родстве с Морредом; кроме того, в юности он целый год провел в Школе на острове Рок и приобрел кое-какие знания в этом искусстве. Однако и знаниями этими, и волшебной силой, данной ему от рождения, он пользуется очень редко; все его время поглощают государственные заботы, управление городами, торговля и дипломатия. Суда с Энладских островов плавают главным образом на запад, до самого Западного Предела, где покупают сапфиры, олово и бычьи шкуры. И вот в начале этой зимы один из шкиперов привез в Берилу, столицу нашего государства, такие вести, узнав о которых мой отец тут же послал за этим человеком, чтобы самому послушать его рассказ. — Юноша говорил быстро, он явно учился у образованных, светских людей и, к счастью, был лишен самонадеянности, столь свойственной юнцам из богатых фамилий. — Шкипер сообщил, что на острове Нарведен, что на западе от нас в двух-трех днях пути и посещается различными судами очень часто, больше нет волшебства. Заклятия не имеют там силы, сказал он, и забыты все волшебные слова. Отец мой спросил его, не потому ли это, что все ведьмы и колдуны, по слухам, покинули этот остров, и шкипер ответил: нет, там еще остались те, кто когда-то мог колдовать, только заклятья им больше не подвластны, даже такие, что помогают починить прохудившийся чайник или отыскать потерянную иголку. И мой отец спросил: огорчены ли жители Нарведена этим? И снова капитан ответил: нет; им, похоже, все равно. И еще, сказал он, они как будто чем-то больны; урожай у них этой осенью был бедным, но им безразлично и это. И еще он сказал — я собственными ушами слышал этот его разговор с моим отцом, повелителем Энлада, — что жители Нарведена похожи на того смертельно больного человека, которому говорят, что жить ему осталось не больше года, а он не верит и продолжает считать, что будет жить вечно. Они ходят, не глядя по сторонам, так сказал шкипер, и живут, не видя, что происходит вокруг них. Когда вернулись другие торговые суда, то их команды рассказывали то же самое: что Нарведен страшно обеднел, что там позабыто магическое искусство. Но все эти истории, однако, касались лишь жизни далекого от Энлада Западного Предела, а истории о дальних землях всегда немножко странные и кажутся выдумкой, так что один только мой отец всерьез задумался над этими вестями. Потом, перед Новым годом, на празднике Ягнят, во время которого жены гуртовщиков приносят в город первых новорожденных ягнят, отец мой призвал волшебника по имени Рут, чтобы тот произнес традиционное заклятье процветания над ягнятами. Но Рут вернулся к нам во дворец совершенно убитый, положил свой посох и сказал: «Мой повелитель, я не могу произнести ни одного заклинания». Отец мой все расспрашивал его, но он лишь отвечал: «Я забыл слова заклятий и правила их сотворения». Тогда отец сам отправился на рыночную площадь, сам сотворил заклятье, и праздник был благополучно завершен. Но я видел, каким он вернулся во дворец в тот вечер — мрачным как туча и страшно усталым; он тогда сказал мне: «Я произнес нужные слова, но не знаю, имели ли они смысл». И действительно, этой весной стада овец бедствуют, ярки умирают родами, много мертворожденных ягнят, а некоторые из них… уроды. — Бойкая речь юноши как бы утратила связность, голос дрогнул; он поморщился, произнося последнее слово, и судорожно сглотнул. — Я некоторых видел… — прибавил он и замолчал. Потом, справившись с собой, продолжал: — Отец мой полагает, что и этот случай с ягнятами, и рассказы об острове Нарведен свидетельствуют о власти злых сил в нашей части Земноморья. И он жаждет совета Мудрых.
— То, что он послал сюда тебя, уже доказывает серьезность его опасений, — сказал Верховный Маг. — Ты его единственный сын, а путь от Энлада до Рока неблизкий. Ты хочешь еще что-то рассказать?
— Только то, о чем болтают кумушки в горных деревнях Энлада.
— Так о чем же они болтают?
— Что все колдуньи-предсказательницы, гадая по дыму и воде, прочли, что пришла беда; а еще говорят, что ни один любовный напиток не имеет больше силы. Но ведь деревенские колдуньи не обучены настоящему волшебству…
— Предсказание судьбы и изготовление любовного напитка действительно к Высшей Магии не относятся, но старых колдуний стоит послушать. Ну хорошо, вести, которые ты принес, Мастера непременно обсудят. Но я не знаю, Аррен, какой совет они смогут дать твоему отцу. Ибо Энлад — не первый остров, с которого приходят подобные вести.
Путешествие Аррена с северного Энлада на юг, мимо великого острова Хавнор к острову Рок, через все Внутреннее Море, было его первым настоящим путешествием. Лишь за эти последние недели он воочию убедился в существовании иных земель, узнал, что значит расстояние и разнообразие, увидел, что за прекрасными холмами Энлада раскинулся огромный мир, где живет множество различных народов. Он еще не привык мыслить достаточно широко и не сразу понял суть сказанного Верховным Магом.
— Откуда же еще? — спросил он наконец немного растерянно. Ведь он надеялся незамедлительно доставить домой, в Энлад, рецепт избавления от страшной напасти.
— Во-первых, из Южного Предела. А недавно даже с юга самого Архипелага, с острова Уотхорт. Люди говорят, что волшебство на Уотхорте совсем утратило силу. Вряд ли это так. Эти земли с давних пор славились своей непокорностью и пиратскими нравами, и, как говорится, слушать торговца с юга — все равно что слушать очередного лжеца. И все-таки суть всех историй одна и та же: источники волшебства пересохли.
— Но здесь, на острове Рок…
— Здесь, на острове Рок, мы до сих пор ничего подобного не замечали. Мы здесь защищены от всех бурь, напастей и перемен. Может быть, слишком хорошо защищены. Что ты намерен предпринять?
— Я вернусь на Энлад, когда смогу представить отцу своему хоть какие-то сведения о природе этого несчастья и о том, как от него излечиться.
Верховный Маг снова прямо посмотрел в глаза юноше, и на этот раз Аррен, несмотря на всю свою воспитанность и выучку, не выдержал и отвернулся. Он не знал, почему так происходит: ничего недоброго не было в темных глазах, что смотрели на него. Взгляд волшебника был беспристрастным, спокойным, сочувственным.
В Энладе все смотрели на отца Аррена снизу вверх, а он был настоящим сыном своего отца. Еще никто и никогда не смотрел на него так, видя в нем не принца, сына правителя Энлада, а просто Аррена самого по себе. Не хотелось думать, что он страшится взгляда Верховного Мага, но посмотреть ему прямо в глаза он не мог. Взгляд волшебника, казалось, раздвигал границы окружавшего Аррена мира, на просторах которого не только Энлад становился не слишком значительной величиной, но и сам он, Аррен, невероятно уменьшался, становился крошечной, почти незаметной фигуркой на фоне бесчисленных островных государств, над которыми сгущалась тьма.
Аррен сидел, выщипывая по былинке живой мох, проросший сквозь трещины в мраморных плитах, и вдруг услышал свой собственный голос, который только в последние года два стал похож на голос взрослого мужчины, а сейчас снова звучал ломко и хрипло:
— И я сделаю так, как ты велишь мне.
— Ты подчиняешься своему отцу, а не мне, — возразил Верховный Маг.
Он по-прежнему смотрел прямо на Аррена, и теперь юноша осмелился поднять глаза. Он уже подчинился этому человеку, забыл о собственной гордости и только теперь по-настоящему увидел Верховного Мага: величайшего из волшебников, который заткнул пасть Черного Колодца Фундаура; завоевал Кольцо Эррет-Акбе, сокрытое в Гробницах Атуана, построил глубоко уходящую в землю могучую дамбу близ Неппа; величайшего из мореплавателей, который бороздил моря от Астоуэлла до Селидора; единственного из ныне живущих Повелителей Драконов. И этот человек стоял на коленях у фонтана, невысокий и немолодой, с тихим голосом, с глубокими, словно вечернее небо, глазами.
Аррен поспешно и неловко вскочил на ноги и тут же в полном соответствии с этикетом преклонил перед Магом колена.
— Господин мой, — сказал он, слегка заикаясь, — позволь мне быть твоим слугой!
Вся его самоуверенность улетучилась без следа, лицо вспыхнуло румянцем, голос дрожал.
На бедре у Аррена висел меч в новеньких ножнах из кожи, инкрустированной золотом и красными самоцветами; однако сам меч был очень скромен, с потертой рукоятью и гардой из посеребренной бронзы. Юноша торопливо выдернул меч из ножен и протянул рукоятью к Верховному Магу — как вассал своему сеньору.
Верховный Маг даже не коснулся старинной рукояти. Только посмотрел на нее, потом на самого Аррена.
— Это твой меч, не мой, — сказал он. — И ты никому не слуга.
— Но мой отец сказал, что я, вполне возможно, задержусь на Роке, чтобы научиться понимать природу этого зла и еще, наверно, чтобы познать хоть что-то из Высшего Искусства — я ведь ничего не умею и не думаю, чтобы во мне от природы была какая-то волшебная сила, хотя среди моих далеких предков и были настоящие маги… Если бы я чему-то мог научиться и был бы тебе полезен…
— Твои предки прежде всего были королями, а не волшебниками, — сказал Верховный Маг.
Он встал и молча, решительным шагом приблизился к Аррену, взял его за руку и поднял с колен.
— Благодарю тебя за предложение служить мне, и хоть сейчас я его не принимаю, но все же могу принять — впрочем, лишь после того, как состоится Совет. Предложение, сделанное от чистого сердца, не годится отвергать с легкостью. Как не следует и отвергать предложенный тебе потомком Морреда меч!.. А теперь ступай. Парень, что проводил тебя сюда, позаботится и о том, чтобы ты смог умыться, поесть и отдохнуть. Иди, иди… — И он слегка подтолкнул Аррена в спину между лопатками — фамильярный жест, которого никто до сих пор себе не позволял и которого юный принц никому бы не простил; однако сейчас чувствовал себя так, будто Верховный Маг посвятил его в рыцари.
Аррен всегда был очень живым, любил всяческие игры и развлечения, с удовольствием развивая свое тело и ум; он умело справлялся и с придворными обязанностями и церемониями, хотя ни те, ни другие особой легкостью и простотой не отличались. Но ничему он никогда не предавался всей душой. Все давалось ему легко, и он ко всему относился легко, поверхностно; дела представлялись ему игрой, в которую он с удовольствием играл. Но теперь были потревожены самые глубины его души, и разбужены они были не игрой и не мечтой, но мыслями о чести и опасности, человеческой мудростью, покрытым шрамами лицом, тихим голосом и той темнокожей рукой, что сжимала, нимало не заботясь о заключенной в нем силе, тисовый посох, на самом верху которого серебром по черному дереву была начертана Утраченная Руна Королей.
Вот так, неожиданно, и делаешь ты первый шаг из своего детства, делаешь его без оглядки, без излишних размышлений, ничего не храня про запас.
Позабыв о придворном этикете, Аррен коротко простился с Верховным Магом и поспешил прочь, неуклюжий, сияющий, покорный. А Гед, Верховный Маг Земноморья, стоял и смотрел ему вслед.
Он некоторое время постоял под ясенем у фонтана, потом поднял лицо к залитому солнцем небу.
— Добрый посланник, да вести дурные, — пробормотал он себе под нос, обращаясь как бы к фонтану. Фонтан, впрочем, его не слушал, а серебряным голоском продолжал напевать что-то свое, и Гед еще немного внимал его песне. Потом подошел к дверце, которую Аррен не заметил и которую, по правде сказать, заметили бы очень и очень немногие, если бы даже очень близко подошли к ней, и окликнул:
— Мастер Привратник!
Появился человечек без возраста. Молод он не был, так что его, пожалуй, следовало бы назвать пожилым, однако слово это ему не шло. У него было сухое, цвета слоновой кости лицо и приятная улыбка, от которой на щеках пролегли две длинные складки.
— В чем дело, Гед? — спросил он, назвав Верховного Мага его подлинным именем, поскольку они были одни. Привратник был одним из тех семи человек, что знали это имя. Известно оно было также Мастеру Ономатету с острова Рок; Огиону Молчаливому, волшебнику из Ре Альби, который много лет тому назад на горе Гонт дал Верховному Магу его подлинное имя; Белой Даме с острова Гонт — Тенар Владеющей Кольцом; самому обыкновенному волшебнику с острова Иффиш по прозвищу Ветч и еще одной женщине с того же острова — Ярроу, жене плотника и матери трех дочерей, что понятия не имела о магии, но владела иной мудростью. Кроме того, на противоположном конце Земноморья, на самом краю дальнего Западного Предела знали это имя два дракона: Орм Эмбар и Калессин.
— Сегодня вечером нам следует всем собраться на Совет, — сказал Гед. — Я схожу к Мастеру Путеводителю. И пошлю кого-нибудь к Курремкармерруку, чтобы он на время отложил свои бесконечные списки и дал ученикам отдохнуть вечерок, а сам поприсутствовал на Большом Совете — хотя бы и не во плоти. Может быть, ты позаботишься о том, чтобы пришли остальные?
— Непременно, — сказал, улыбаясь, Привратник и тут же исчез; исчез и сам Верховный Маг; и фонтан продолжал напевать что-то уже только для себя — свежая, чистая, неиссякающая струя в золотистом свете ранней весны.
Чаще всего Имманентную Рощу можно было увидеть с запада или с юга от Большого Дома. На картах она не отмечена, и пути к ней не существует ни для кого, за исключением тех немногих, кому открыт этот путь. Но видеть ее могут даже новички из Школы, и простые горожане, и фермеры, однако всегда как бы в отдалении — небольшой лесок, где листья высоких деревьев отсвечивают золотом даже среди буйной весенней зелени. И еще людям — ученикам Школы, горожанам и фермерам — кажется, что Роща каким-то загадочным образом движется по кругу. Однако это ошибка: движется не Роща, ибо корни ее — это корни самого бытия, а как раз все то, что Рощу окружает.
Гед шел от Большого Дома прямо через поля. Он скинул свой белый плащ, потому что полуденное солнце палило вовсю. Какой-то крестьянин, пахавший поле на коричневом склоне Холма Рок, поднял руку, приветствуя Верховного Мага, и тот махнул ему в ответ. Из-под ног с писком и щебетом вспархивали маленькие пташки. Всюду зацветал горицвет, особенно в канавах и по краю дороги. В вышине чертил дугу по сини небес ястреб. Гед взглянул вверх и снова приветственно поднял руку. Камнем, стрелой, шелестя перьями на ветру, ястреб упал с неба и уселся точно на подставленное запястье, сжав его желтоватыми когтями. Это был не ястреб даже, а крупный сапсан, что водится на острове Рок, с бело-коричневым оперением, большой любитель рыбной ловли. Он искоса посматривал на Геда круглым золотисто-коричневым глазом, потом щелкнул клювом и уставился прямо в глаза человеку обоими своими глазищами.
— Бесстрашный, — сказал ему человек на Языке Созидания, — бесстрашный.
Птица захлопала огромными крыльями и еще плотнее сжала когти на запястье Геда, глядя ему в глаза.
— Ну ладно, ступай, брат мой бесстрашный.
Тот фермер, что пахал на склоне Холма, остановился и смотрел на них. Однажды прошлой осенью он видел, как Верховный Маг точно так же посадил дикую птицу себе на запястье, а уже через мгновение не было ни птицы, ни человека — только в вышине в потоках ветра кружили два сокола.
На этот раз, однако, они расстались: птица взлетела в небесную высь, а человек пошел дальше по не просохшим еще полям.
Гед вышел точно на ту тропу, что вела в Имманентную Рощу, — тропа эта всегда была абсолютно прямой вне зависимости от того, по какой кривой обращалось вокруг нее время и сам мир, — и вскоре вошел под сень волшебных деревьев.
Некоторые стволы были поистине огромны. Глядя на них, действительно можно было предположить, что Роща оставалась неизменной со дня сотворения мира: стволы напоминали древние памятники, старинные башни, седые от старости; корни этих деревьев были столь же глубоки, как корни гор. И все же огромные деревья не были бессмертны; самые старые из них почти совсем лишились листьев и были украшены мертвыми, сухими ветвями. Меж этих гигантов росла молодь — высокие, полные сил деревья с пышными кронами и множеством стручков с семенами; стручки были длиной с ребенка.
Земля под деревьями была мягкой, плодородной — на нее многие годы падала слоями и перепревала листва. На этой благодатной почве росли папоротники и разные лесные травы, однако деревьев других пород в Роще не было — только эти, старинные, не имеющие названия на современном ардическом языке Земноморья. Под кронами их воздух был свеж и п
ахнул землей, оставляя во рту вкус родниковой воды.
На поляне, образовавшейся много лет тому назад, когда упало одно из деревьев-великанов, Гед встретил Мастера Путеводителя, который жил прямо в Роще и очень редко, почти никогда не выходил за ее пределы. Волосы его были желты, как масло; он не был уроженцем Архипелага. После того как Кольцо Эррет-Акбе вновь стало целым, варвары с Каргадских островов прекратили свои грабительские войны и принялись заключать сделки и договоры с торговцами Внутренних Земель. Они по натуре не были миролюбивы и по-прежнему держались замкнуто, но время от времени то молодой каргадский воин, то сын каргадского купца по собственной воле являлся на один из западных островов, влекомый любовью к приключениям или мечтая выучиться волшебству. Таким был и Мастер Путеводитель лет десять тому назад — молодой дикарь родом с Карего-Ат с мечом на поясе и красными перьями на шлеме; он прибыл на Рок дождливым утром и без лишних слов заявил Привратнику, ужасно коверкая здешний язык: «Я пришел учиться!» И вот теперь он стоял в золотисто-зеленом свете под деревьями Рощи, высокий мужчина с длинными светлыми волосами и странными ясными зелеными глазами — Мастер Путеводитель Земноморья.
Возможно, он тоже знал подлинное имя Геда, но даже если это было и так, ни разу не произнес его. Они лишь кивнули друг другу в знак приветствия.
— За кем это ты наблюдаешь? — поинтересовался Верховный Маг, и Мастер Путеводитель ответил:
— За пауком.
На поляне между двумя высокими стеблями осоки паук сплел свою паутину — изящную кружевную сеть округлой формы. Серебряные нити переливались в солнечном свете. В самом центре паутины поместился ткач — серо-черное существо не больше зрачка.
— Тоже ведь настоящий мастер — хорошо знает свой путь, — сказал Гед, изучая искусно сплетенную сеть.
— А в чем здесь зло? — спросил более молодой Маг.
Круглая сеть с черной точкой в сердцевине, казалось, наблюдала за ними обоими.
— Зло в тех сетях, что плетем мы, люди, — ответил Гед.
В этом лесу не пели птицы. В полуденные эти часы он был полон молчания, пронизанного солнцем и зноем. Вокруг высились деревья и лежали полосы теней.
— Пришло известие с Нарведена и Энлада: то же самое.
— Сначала юг и юго-запад. Теперь север и северо-запад, — пробормотал Путеводитель, не отрывая глаз от округлой паутины.
— Сегодня вечером мы придем сюда. Это самое лучшее место для Совета.
— Что до меня, то мне посоветовать нечего. — Теперь Путеводитель смотрел прямо на Геда, и его зеленые глаза были холодны. — Я боюсь, — прибавил он. — Кругом страх. Страх поселился даже в корнях.
— О да, — согласился Гед. — По-моему, нам придется добираться до самых истоков. Мы слишком долго позволяли себе греться на солнышке, слишком долго наслаждались покоем после восстановления Кольца, занимаясь мелочами, ловя рыбку на мелководье. Сегодня мы должны заглянуть в глубины. — Сказав это, он оставил Путеводителя одного; тот по-прежнему не сводил глаз с паутины в весенней траве.
На опушке Рощи, где листья волшебных деревьев-великанов касались уже самой обыкновенной травы, Гед сел на землю, прислонившись спиной к могучему корню и положив посох на колени. Он закрыл глаза, словно отдыхая, и послал свою душу в полет над холмами и полями к северной оконечности острова Рок, на исхлестанный морскими валами мыс, где высилась Одинокая Башня.
— Курремкармеррук, — окликнул Гед Мастера Ономатета, и тот, подняв голову от толстенной книги с именами корней, стеблей, листьев, семян и лепестков, которые перечислял своим ученикам, отозвался:
— Я здесь, господин мой.
Потом он стоял и слушал кого-то невидимого, высокий худой старик, с наброшенным на седые волосы капюшоном, а студенты за столами во все глаза смотрели на него и изумленно переглядывались.
— Я приду, — сказал наконец Курремкармеррук и снова склонил голову к своей книге, забормотав: — Теперь пойдем дальше. Этот лепесток травы моли носит имя Йебера, а чашелистик ее — имя Партонатх, а стебель, листья и корень имеют свои собственные имена, каждый в отдельности…
Но тут сидевший под деревом Имманентной Рощи Гед призвал свою душу обратно — он и так знал все имена, принадлежащие траве моли. Поудобнее вытянув ноги и плотно закрыв глаза, он быстро уснул в пятнистой тени волшебных деревьев.
Глава 2
Мастера острова Рок
На острове Рок существует Школа Волшебников, куда со всех островов Внутреннего Моря посылают мальчиков, проявивших способности к занятиям магией, чтобы там они познали Высшие Искусства. В Школе они овладевают различными уровнями мастерства, изучая подлинные имена, старинные руны, всяческие науки и разные способы наложения заклятий, а также то, что следует и чего не следует делать магу и почему. После долгих лет ученья, если руки их, ум и душа начинают наконец действовать во взаимосвязи друг с другом, они могут получить звание волшебника и обрести могущественный посох. Настоящими волшебниками становятся только на острове Рок; но поскольку обычные колдуны и ведьмы есть на всех островах Земноморья, а колдовство порой не менее полезно людям, чем хлеб насущный, и не менее приятно, чем звуки музыки, то Школа Волшебников жителями Земноморья почитается особо. Девять Магов, Мастеров Школы, считаются равными великим правителям Архипелага. Хранитель острова Рок, глава Мастеров и Верховный Маг Земноморья не обязан отчитываться ни перед кем, за исключением Короля Всех Островов, но и это лишь проявление уважения к своему правителю, скорее веление сердца, ибо даже Король не может заставить столь великого Мага подчиняться обычным законам. Но даже в те давние времена, когда не существовало еще подлинных Королей, Верховные Маги подчинялись правителям и соблюдали общепринятые законы, как и все остальные жители Земноморья. На острове Рок всегда все оставалось так, как было устроено много-много столетий тому назад; остров этот казался местом, хранимым от любых бед, и всегда в гулких коридорах Большого Дома слышался смех мальчиков-учеников.
Провожатый Аррена, плотно сбитый юноша в плаще, перехваченном у горла серебряной пряжкой в знак того, что он прошел обряд посвящения, получил звание колдуна и теперь учится дальше, чтобы стать настоящим волшебником и обрести свой посох, сказал, что его зовут Гэмбл, что значит «риск».
— Это потому, — пояснил он, — что мои родители, у которых уже было шесть дочерей, родили седьмого ребенка, чтобы, как сказал отец, рискнуть и испытать судьбу еще разок.
Это был приятный спутник, сообразительный и скорый на язык. В иное время Аррен наслаждался бы его шутками, но сегодня душа его была слишком переполнена впечатлениями, и он почти не обращал на своего нового приятеля внимания. Гэмбл, чувствуя себя уязвленным, заливался соловьем: сначала рассказывал рассеянно слушавшему его Аррену о странных происшествиях в Школе Волшебников, потом перешел к откровенным небылицам, однако на все Аррен отвечал одинаково: «Да-да, понятно», так что в конце концов Гэмбл решил, что этот княжеский сынок — полный идиот.
— Разумеется, еду здесь никто не готовит, — вещал Гэмбл, показывая Аррену огромную каменную кухню, сверкающую блеском медных котлов и кастрюль, наполненную стуком огромных кухонных ножей и пропахшую едким запахом лука. — Это все просто для видимости. Мы приходим в трапезную, и каждый наколдовывает себе то, что ему больше нравится. К тому же и посуду мыть не надо.
— Да-да, понятно, — вежливо откликнулся Аррен.
— Ну и, конечно, новички, которым заклятия пока не даются, на первых порах сильно худеют; они стараются учиться побыстрее, чтобы не голодать. Тут есть один парень из Хавнора, так он все пробует себе жареного цыпленка наколдовать, а получается одна просяная каша. Не выходит — и все тут. Каша да каша. Правда, вчера он в придачу к ней получил еще вяленую треску.
Гэмбл совсем уж заврался, пытаясь привлечь внимание гостя или хотя бы вызвать его недоверие. Однако в конце концов сдался и умолк.
— А откуда… с какого острова прибыл сюда Верховный Маг? — спросил его Аррен, даже внимания не обратив на великолепную резьбу, покрывавшую стены и сводчатый потолок величественной галереи, по которой они шли. Там изображено было Древо Жизни с тысячью листьев.
— Он с Гонта, — сказал Гэмбл. — Коз в деревне пас.
— Он пас коз?
— Ну да, в основном все гонтийцы этим занимаются, если не становятся колдунами или пиратами. Я же не говорю, что он каким был, таким и остался, знаешь ли!
— Но каким же образом пастух может стать Верховным Магом?
— Точно так же, как и князь или княжеский сынок! Приехал на Рок, превзошел в науках всех Мастеров, потом выкрал Кольцо с острова Атуан, побывал на островах Драконьи Бега, а со временем стал величайшим магом Земноморья со времен Эррет-Акбе. А ты что думал?
Они вышли с галереи через северные ворота. Над словно зеленым мхом покрытыми холмами, над крышами города Твил, над заливом плыл теплый летний полдень. Юноши остановились и наконец поговорили как следует.
— Конечно, все это случилось уже давно, — сказал Гэмбл. — Он ничего особенного не совершил с тех пор, как стал Верховным Магом. Все они так. По-моему, Верховные Маги просто должны все время находиться на острове Рок и следить за Мировым Равновесием. Да ведь он уже и старый к тому же.
— Старый? Сколько же ему лет?
— Ну, там сорок или пятьдесят.
— А ты его видел?
— Конечно, видел! — резко ответил Гэмбл. Этот княжеский сынок оказался не только идиотом, но и порядочным задавалой.
— Часто?
— Нет. Он сторонится людей. Но когда я в первый раз прибыл на Рок, то видел его во дворе у фонтана.
— Я с ним говорил там сегодня, — промолвил Аррен. Тон, каким он произнес эти слова, заставил Гэмбла внимательно посмотреть на собеседника и ответить более полно.
— С тех пор три года прошло. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был и так испугался, что как следует его и не рассмотрел. Там ведь, у фонтана, и не поймешь сразу, кто какой на самом деле. Лучше всего я помню его голос и еще журчание воды. — Он помолчал минутку и добавил: — А еще по говору сразу ясно, что он с Гонта.
— Если бы я мог разговаривать с драконами на их языке, — сказал Аррен, — мне было бы все равно, какой у меня говор.
Тут Гэмбл глянул на него весьма одобрительно и спросил:
— А ты, принц, что, приехал в Школу поступать?
— Нет. Я привез послание Верховному Магу.
— Энлад ведь когда-то входил в состав Королевства, да?
— Да. Энлад, Илиен и Уэй. И когда-то еще Хавнор и Эа, но потомки Великих Королей на этих островах вымерли. На Илиене, например, их родословная восходит к Гемалю Морем Рожденному и Махариону. На Уэе — к Акамбару и Шелитху. На Энладе самый древний королевский род, основанный Морредом и его сыном Сериадхом. Ими построен Дворец Энлада.
Аррен рассказывал это с мечтательным видом школьника, который знает урок назубок, но думает совсем о другом.
— Как, по-твоему, успеем ли хоть мы увидеть на своем веку нового Короля в Хавноре?
— Я никогда об этом не думал.
— А у нас, на острове Арк, частенько об этом думают. Сейчас мы входим в состав княжества Илиен — с тех пор, как был восстановлен мир. Не помнишь, когда это случилось? Где-то лет семнадцать-восемнадцать назад, когда Кольцо с Королевской Руной было возвращено в Башню Королей на Хавноре. Тогда некоторое время дела всюду пошли хорошо, зато теперь — хуже некуда. Пора, пора уже настоящему Королю воцариться на троне Земноморья и править под Знаком Мира. Люди устали от войн, от пиратских налетов, от жадных купцов, от князей, что дерут с подданных по три шкуры, от раздоров между правителями. Здешние Мудрецы могут наставить на путь истинный, но править миром они не могут. Их забота — Мировое Равновесие, а власть должна стать заботой истинного Короля.
Гэмбл говорил искренне, с воодушевлением, забыв все свои шуточки и вранье, и в конце концов воодушевился и Аррен.
— Энлад страна богатая и миролюбивая, — медленно проговорил он. — Мы никогда не участвовали в междуусобицах. Однако знаем о бедах, постигших иные земли. Впрочем, на троне Хавнора вот уже восемьсот лет — со дня смерти Махариона — не было ни одного Короля. Примут ли государства нового Правителя, подчинятся ли ему?
— Если он будет достаточно силен и взойдет на трон с мирными намерениями, если Рок и Хавнор признают его притязания справедливыми.
— А ведь было еще пророчество, которое непременно должно свершиться, не правда ли? Махарион сказал, что следующий Король должен быть магом.
— Наш Мастер Регент сам родом с Хавнора и очень этим пророчеством интересуется. Он вот уже три года вдалбливает в наши головы слова Махариона: «Тот унаследует мой трон, кто живым пройдет по темному царству смерти и выйдет к дальнему берегу дня».
— Вот потому-то он и должен быть магом.
— Да, ибо только волшебнику или великому магу дано побывать в стране мертвых и вернуться обратно. Но всю ее из конца в конец даже они пройти не могут. Во всяком случае, они всегда говорят о ней так, словно граница у нее только с одной стороны, а конца вообще нет. Что же в таком случае значат эти слова: «дальний берег дня»? Однако таково пророчество Последнего Короля, и непременно когда-нибудь родится тот, кто выполнит его завет. И тогда остров Рок признает его, и все флоты, армии и все народы станут ему служить. И снова в Башне на острове Хавнор — в самом сердце нашего мира — воцарится настоящий Король. Я бы и сам преклонил перед ним колена и служил бы ему верой и правдой, — сказал Гэмбл, пожал плечами и засмеялся, чтобы Аррен не подумал, что он слишком расчувствовался. Но Аррен смотрел на него дружелюбно и думал: «Он был бы так же предан настоящему Королю, как я Верховному Магу». Вслух же он сказал:
— Любому королю понадобятся такие верные помощники, как ты.
Так они и стояли, каждый думая о своем, но чувствуя дружеское расположение друг к другу, когда у них за спиной в Большом Доме прозвучал колокол.
— Ага! — сказал Гэмбл. — Сегодня на ужин чечевица и луковый суп. Пошли!
— Я думал… ты же говорил, что здесь никто еду не готовит, — растерянно сказал Аррен, следуя за ним.
— А, ну иногда бывает… по ошибке…
Никакого волшебства на ужин не было, зато было много вкусной еды. Наевшись, они снова отправились бродить по холмам, где над полями уже повисли мягкие вечерние сумерки.
— Вот это знаменитый Холм острова Рок, — сказал Гэмбл, когда они начали взбираться на округлую гору. По ногам хлестала покрытая росой трава, внизу на болотистых берегах речки Твилберн хором заливались лягушки, приветствуя первые теплые деньки и все более короткие звездные ночи.
Здесь все, казалось, было окутано тайной. Гэмбл сказал тихонько:
— Этот Холм первым поднялся из вод морских, когда было произнесено Слово Созидания.
— И он последним скроется в них, когда придет всеобщее разрушение, — сказал Аррен.
— Значит, это самое безопасное место в мире, — сказал Гэмбл, стараясь избавиться от неожиданно овладевшей им робости, и тут же, вновь оробев, воскликнул: — Смотри! Роща!
К югу от Холма среди полей что-то ярко светилось, словно там всходила полная луна. Однако настоящий тонкий месяц давно уже висел на западном краю небосклона, а в том сиянии, что разливалось на юге, было что-то неверное, странное, свет мерцал и трепетал, словно листва деревьев под ветром.
— Что это?
— Это светится Имманентная Роща; там, должно быть, собрались Мастера. Говорят, она светится вот так, словно луна, когда они собираются на Большой Совет, скажем, чтобы выбрать Верховного Мага — как пять лет назад. Но зачем они собрались сегодня? Не ради ли новостей, которые ты привез?
— Возможно, — ответил Аррен.
Гэмбл страшно разволновался, забеспокоился и решил вернуться в Большой Дом, чтобы узнать, какие слухи ходят там насчет сегодняшнего Совета Мастеров. Аррен пошел за ним следом, постоянно оглядываясь и не в силах оторвать взгляд от волшебного сияния, пока оно не скрылось за склоном Холма и на небе не остался один лишь настоящий месяц да весенние звезды.
Спать его уложили в отдельной комнатке-келье с каменными стенами. Аррен лежал в полной темноте с открытыми глазами без сна. Всю свою жизнь он спал на роскошной постели, под мягкими шерстяными одеялами; даже на той двадцативёсельной галере, что привезла его сюда с Энлада, удобств было куда больше, чем здесь, где ему полагался лишь соломенный тюфяк на голом каменном полу да рваное войлочное одеяло. Но ничего этого он, похоже, не замечал. «Я нахожусь в самом центре нашего мира, — думал он. — Великие Мастера сейчас советуются в том священном месте. Что-то они предпримут? Соткут новое волшебство, способное спасти древнее искусство магии? Может ли статься, что волшебство в нашем мире погибнет? Существует ли опасность, способная угрожать даже острову Рок? Я непременно останусь здесь. Не поеду домой. Я скорее попрошусь в подметальщики в Школе Волшебников, чем снова стану лишь наследником Энлада. Позволит ли ОН мне остаться в качестве ученика? Но, может быть, никого больше уже и не будут учить искусству магии? Не станут изучать подлинные имена вещей? У моего отца врожденный волшебный дар, а у меня его нет; может быть, это потому, что волшебство в нашем мире действительно вымирает? И все-таки я останусь с НИМ рядом, даже если ОН утратит все свое могущество и искусство. Даже если я никогда больше ЕГО не увижу. Даже если ОН никогда больше не скажет мне ни слова…» Такое даже представить себе было слишком тяжело, и Аррен постарался как бы проскочить в мыслях мимо столь неприятной темы; уже через минуту он снова увидел себя в том самом дворике, под ясенем, лицом к
лицу с Верховным Магом, и небеса над головой были черны, и на дереве не было ни листочка, и молчал фонтан, а сам Аррен говорил: «Господин мой, буря прямо над нами, но я останусь с тобой и буду верно тебе служить» — и Верховный Маг улыбался ему… Но тут юноше не хватило воображения, ибо он пока еще не видел улыбки на этом темнокожем лице.
Утром Аррен встал с ощущением, что со вчерашнего вечера успел превратиться из мальчишки в мужчину. Он был готов ко всему. Однако уже утренние новости застали его врасплох.
— Верховный Маг хочет поговорить с тобой, принц Аррен, — сообщил ему, приоткрыв дверь, мальчишка-новичок, подождал чуть-чуть и умчался, прежде чем Аррен успел собраться с мыслями и ответить.
Юноша спустился по винтовой лестнице в нижние этажи башни, не представляя, как ему попасть по бесконечным каменным коридорам к дворику с фонтаном. Однако в коридоре его поджидал тот пожилой человек с широкой улыбкой, от которой две глубокие складки пролегли на его щеках от крыльев носа до подбородка. Это он встретил его вчера у ворот Большого Дома, когда Аррен поднялся от гавани по улочкам Твила; тот самый, что потребовал, чтобы юноша назвал свое подлинное имя, прежде чем впустил его.
— Пойдем-ка со мной, — сказал Аррену Мастер Привратник.
Залы и переходы в этой части здания были тихи и пустынны, сюда не долетал вечный шум и гам, оживлявший остальную часть Большого Дома, где царили юные ученики. Здесь явственно ощущался возраст старинных каменных стен. Волшебство, которым скреплены были эти древние камни, которое защищало здешних обитателей от любых бед, казалось, можно было пощупать. На каменных плитах через определенные промежутки были вырезаны руны. Резьба была очень глубокой. Некоторые знаки написаны серебром. Ардические руны Аррен научился различать благодаря урокам отца, однако ни одной из этих древних рун он не знал, хотя смысл некоторых, казалось, почти угадывал или, может быть, когда-то знал, только сейчас никак не мог вспомнить.
— Вот, парень, ты и пришел, — сказал ему Привратник, которому любые титулы были глубоко безразличны. Аррен следом за ним вошел в длинную с низким сводчатым потолком комнату, где на одном конце в камине горел огонь и языки пламени играли на блестящем дубовом полу, а на противоположной стене стрельчатые окна пропускали совсем немного света, занавешенные серым утренним туманом. Перед камином стояла группа людей. Все посмотрели на Аррена, едва тот вошел, однако сам он видел одного лишь Верховного Мага. Юноша остановился, поклонился и застыл в молчании.
— Это Мастера нашей Школы, Аррен, — сказал Верховный Маг, — здесь семеро из девяти. Мастер Путеводитель никогда не покидает свою Рощу, а Мастер Ономатет уже отбыл в Одинокую Башню, что в двух днях пути отсюда к северу. Все они знают, зачем ты прибыл сюда. Друзья, это потомок Морреда.
При этих словах ни капли гордости не почувствовал Аррен в душе своей — скорее ужас. Он гордился своими предками, но думал о себе только как о наследнике княжеского рода, одном из разветвленного клана. Морред, основатель клана правителей Энлада, умер две тысячи лет тому назад. Деяния его были воспеты в легендах и не принадлежали миру сегодняшнему. С тем же успехом Верховный Маг мог назвать его потомком героя мифа, сыном мечты.
Юноша не осмеливался поднять глаза на восьмерых волшебников. Он уставился в окованный железом конец волшебного посоха Верховного Мага и слушал, как в ушах звенит кровь.
— Пойдем, позавтракаешь вместе с нами, — сказал ему Верховный Маг и пригласил всех к столу, накрытому у окна. На столе было молоко и горькое пиво, хлеб, свежее масло и сыр. Аррен сел вместе со всеми и принялся за еду.
Ему много раз с самого детства приходилось бывать в обществе знатнейших людей, правителей государств, богатых купцов. Дворец его отца в Бериле был полон ими — этими людьми, которые, и без того много имея, все время что-то покупали и продавали, прибирая к рукам все, до чего могли дотянуться. Все они много ели, и пили много вина, и много говорили, добиваясь чего-то для себя самих. Несмотря на юный возраст, Аррен научился кое-что понимать в поведении людей, в их пороках и пристрастиях. Но никогда не приходилось ему бывать в обществе таких людей, как эти Мастера. Они ели простой хлеб, говорили мало, лица их были спокойны. Если же они чего-то и добивались, то не для себя. И тем не менее то были люди, обладавшие огромным могуществом: это Аррен тоже почувствовал сразу.
Ястреб, Верховный Маг Земноморья, сидел во главе стола и, казалось, внимательно слушал то, что говорили другие, однако вокруг него как бы висело непроницаемое облако тишины и прямо к нему не обращался никто. Аррен также был предоставлен самому себе, так что у него хватило времени, чтобы прийти в себя. Слева от него сидел Мастер Привратник, а справа — седовласый человек с очень добрым лицом, который наконец обратился к нему:
— Мы ведь земляки, принц Аррен. Я родился в восточном Энладе, близ леса Аол.
— Мне приходилось охотиться в этом лесу, — ответил Аррен, и они немножко поговорили о лесах и городах Энлада, Острова Легенд. Вспомнив родной дом, Аррен немного успокоился.
Когда трапеза была закончена, они перешли к камину; одни сели, другие остались стоять, и все молчали.
— Вчера вечером, — сказал Верховный Маг, — мы собирались на Совет. Долго говорили, но так и не пришли ни к какому решению. Я бы хотел сегодня, при свете дня, услышать, поддерживаете ли вы вчерашний план или отвергаете его.
— То, что мы не пришли ни к какому решению, — сказал Мастер Травник, плотный темнокожий человек со спокойными глазами, — уже само по себе что-то значит. Путь открывается всегда в Роще, однако мы его не нашли, нам помешали разногласия.
— Только потому, что об этом пути мы не имеем ясного представления, — уточнил седовласый уроженец Энлада, Мастер Метаморфоз. — Мы просто знаем слишком мало. Слухи с острова Уотхорт, вести из Энлада… Странные вести, которые заслуживают большего внимания… Однако для серьезных опасностей пока оснований мало. Во всяком случае, нашему могуществу ничто не угрожает из-за того лишь, что несколько колдунов позабыли слова заклинаний.
— Вот и я то же самое говорю, — подхватил худой востроглазый Мастер Ветродуй. — Разве не сильны мы по-прежнему? Разве перестали расти в Роще деревья? Разве не распускаются на них новые листья? Так стоит ли бояться того, что может быть утрачено искусство магии — самое древнее из известных человеку искусств?
— Ни один человек, — басом сказал Мастер Заклинатель, высокий, моложавый, с темнокожим благородным лицом, — ни один человек и никакая сила не могут остановить действие волшебства или произнесенного заклятья. Ибо слова наших заклятий принадлежат Истинной Речи, и тот, кто заставит их молчать, сумеет разрушить весь мир.
— О да, и тот, кто способен сделать такое, вряд ли находится на острове Нарведен или Уотхорт, — сказал Метаморфоз. — Скорее он поспешил бы сюда, на остров Рок, к воротам Школы: тогда конец света не заставил бы себя долго ждать! Однако пока положение дел иное.
— И все-таки неладно что-то в нашем мире, — вступил в разговор еще один из Мастеров, и все обернулись к нему. С широкой грудью, крепкий как дубовый бочонок, сидел он у огня, и голос его звучал спокойно и уверенно, подобный звону большого колокола. Это был Мастер Регент. — Где тот Король, что должен править в Хавноре? Остров Рок — отнюдь не центр Вселенной. А центр Земноморья — та белая башня, где вместо шпиля меч Эррет-Акбе. В ней возвышается трон Серриадха, Акамбара, Махариона. Восемь веков пустует сердце нашего мира! Есть у нас королевская корона, да нет Короля, что надел бы ее. Есть у нас Утраченная Руна, Королевская Руна, Знак Мира, возвращенный нам, да только есть ли у нас мир? Пусть на своем троне воцарится настоящий Король, тогда воцарится и мир в Земноморье, тогда даже в самых дальних Пределах колдуны спокойно вернутся к своим занятиям, тогда восстановится порядок, тогда всему будет свое время.
— Да, верно, — сказал Мастер Ловкая Рука, стройный быстрый человек, сдержанный, с ясными внимательными глазами. — Я согласен с тобой, Регент. Разве удивительно, что волшебство теряет силу, когда порядок нарушен повсеместно? Если разбрелось все стадо, то что же нашей черной овечке оставаться на привязи?
При этих словах Привратник рассмеялся, но ничего не сказал.
— Значит, — начал Верховный Маг, — всем вам кажется, что ничего особенно страшного в мире не происходит; а если что-то и происходит, то причина лишь в том, что земли наши не имеют достойного правителя, а при имеющихся негодных правителях все искусства и тонкие ремесла гибнут в небрежении. С этим я в известной степени согласен. Действительно, на юге Земноморья нормальной торговли практически не существует, суда плавают туда все реже, и мы вынуждены питаться лишь слухами об этих краях. А что нам известно о западе — за исключением вестей с острова Нарведен? Если бы суда спокойно пускались в далекое плавание и возвращались без опаски обратно, как бывало раньше, и если бы острова Земноморья были постоянно и прочно связаны между собой, мы, разумеется, знали бы, что происходит в самых дальних уголках нашего мира, и могли бы действовать по обстоятельствам. И, по-моему, нам уже пора начинать действовать! Ибо, друзья мои, если правитель Энлада сообщает нам, что, творя заклятье, произнес вслух слова Истинной Речи, не понимая их смысла, если Мастер Путеводитель говорит, что страх таится в самых корнях, и не прибавляет больше ни слова, то разве это не достаточные поводы для беспокойства? Буря всегда начинается с небольшого облачка на горизонте.
— Ты всегда зло за версту чуешь, Ястребок. С самого детства, — сказал Мастер Привратник. — Скажи, что, по-твоему, в нашем мире неладно?
— Не знаю. Иссякают запасы энергии. Словно все стремительно распадается и нужно срочно что-то менять… Солнце уже не светит так ярко, как прежде. Я чувствую, друзья мои… что мы сидим здесь и разговариваем, не замечая, что смертельно ранены, и пока длится наша бесконечная беседа, кровь потихоньку вытекает из ран, и мы слабеем, слабеем…
— И ты, конечно, готов немедленно вскочить и начать действовать?
— Конечно.
— Что ж, — сказал Привратник, — разве могут совы помешать ястребу летать?
— Но куда бы хотел ты направиться? — спросил Метаморфоз, и ему ответил Регент:
— На поиски настоящего Короля, разумеется, чтобы вернуть его на наш трон.
Верховный Маг остро глянул на Регента, но сказал лишь:
— Я пойду туда, где кроется несчастье.
— То есть на юг или на запад, — уточнил Мастер Ветродуй.
— А также — на север или на восток, если понадобится, — прибавил Мастер Привратник.
— Но ты нужен здесь, господин мой, — сказал Метаморфоз. — Может быть, вместо того, чтобы бродить в поисках неведомого по неведомым путям среди недружелюбных народов, мудрее было бы остаться здесь, где магия обладает прежней силой, и с помощью нашего искусства понять природу этого зла, разрушающего Миропорядок?
— Искусство мое останется при мне, — сказал Верховный Маг. Что-то в его голосе было такое, что заставило всех посмотреть на него трезво и печально. — Я — Хранитель острова Рок. Мне нелегко его покинуть. Я бы очень хотел, чтобы мы были единодушны на нашем последнем Совете, но, видно, не суждено. Вот мое окончательное решение: я должен отправляться в путь.
— И твоему решению мы, конечно, уступаем, — сказал Мастер Заклинатель.
— Но я пойду один. Вы составляете Совет Мудрецов, он не должен быть нарушен. Впрочем, одного человека я возьму с собой. Если он согласится. — Маг посмотрел на Аррена. — Вчера ты предложил мне свою службу. И вчера вечером Мастер Путеводитель сказал: «Никогда никто не приплывает к берегам острова Рок случайно. Не случайно гонцом сюда явился потомок Морреда». И больше за всю ночь не сказал он нам ни слова. А потому я спрашиваю тебя, Аррен: пойдешь ли ты со мной?
— Да, господин мой, — ответил Аррен пересохшим ртом.
— Князь, отец твой, разумеется, никогда не разрешил бы тебе отправиться в столь опасное путешествие, — сказал ему Метаморфоз, пожалуй, резковато, потом обернулся к Верховному Магу. — Этот мальчик еще слишком юн и совсем не обучен волшебству.
— Моих лет и ведомых мне заклинаний хватит на нас обоих, — сухо откликнулся Ястреб. — Аррен, что скажет твой отец?
— Отец, конечно, отпустил бы меня.
— Как можешь ты это знать? — спросил Заклинатель.
Аррен не понимал, ни куда требовалось ехать, ни когда, ни зачем. Он был совершенно сбит с толку, подавлен присутствием этих мрачных, благородных, невыносимых людей. Если бы у него хватило времени подумать, он, по всей вероятности, вообще ничего не смог бы ответить. Но времени подумать у него не было, а Верховный Маг спрашивал: «Пойдешь ли ты со мной?»
— Посылая меня сюда, мой отец сказал мне: «Боюсь, наш мир накрывает черная страшная туча. А потому моим гонцом будешь именно ты: ты сам сможешь разобраться, просить ли нам помощи у Острова Мудрых в эту тяжелую пору, или самим предложить им помощь Энлада». Так что если кому-то здесь нужна моя помощь, то я для того сюда и приехал.
И тут он увидел, как Верховный Маг улыбнулся. И мимолетная эта улыбка была удивительно хорошей, доброй!
— Вы видите? — спросил Ястреб. — Так может ли почтенный возраст или искусство магии что-либо прибавить к этому?
Аррен почувствовал, что теперь все Мастера смотрят на него одобрительно, однако все еще с некоторым удивлением и как бы в замешательстве. Первым заговорил Заклинатель, насупившись так, что густые дуги его бровей слились в сплошную линию.
— Этого я не понимаю, господин мой! Ну хорошо, ты решил непременно ехать сам. Ты томишься здесь, как зверь в клетке, целых пять лет. Но раньше ты всегда отправлялся в путь один; отсюда ты всегда уходил в одиночку. Почему же на этот раз ты берешь кого-то с собой?
— Раньше я никогда в помощи не нуждался, — сказал Ястреб, и в голосе его прозвучала не то едва ощутимая угроза, не то насмешка. — К тому же я отыскал подходящего спутника. — Теперь Верховный Маг как бы излучал опасность, и долговязый Мастер Заклинатель не стал задавать ему лишних вопросов.
Но тут поднялся со своего места и встал подобно статуе Мастер Травник, человек со спокойными глазами и темной кожей, похожий на мудрого и терпеливого вола.
— Иди, господин мой, — сказал он, — иди и бери с собой мальчика. И да пребудет с тобой наша вера.
И, единодушно подтвердив свое согласие с этими словами, поодиночке и парами Мастера стали покидать зал. Один лишь Заклинатель чуть задержался.
— Ястреб, — сказал он, — я не пытаюсь выведать, что ты решил на самом деле. Я только хочу сказать: если ты прав, если действительно нарушено Равновесие и существует опасность воцарения зла, то любого путешествия — на Уотхорт, или в Западный Предел, или даже на край света — недостаточно. Разве справедливо брать с собой мальчика туда, где можешь ты в результате поисков оказаться? Разве может он вернуться оттуда?
Аррен стоял чуть поодаль от них, а говорил Заклинатель чуть слышно, но Верховный Маг ответил ему в полный голос:
— Да, может, и это справедливо.
— Ты говоришь мне не все, что тебе известно, — упрекнул его Мастер Заклинатель.
— Если бы я что-то знал, то сказал бы. Но я ничего не знаю. Хотя догадываюсь о многом.
— Позволь мне пойти с тобой.
— Кто-то должен стеречь ворота.
— Этим ведь занимается Привратник…
— Не только ворота Рока. Оставайся здесь и следи за восходом — будет ли он ясным; а еще следи за каменной стеной, чтобы вовремя заметить, кто перебирается через нее и куда обернуто его лицо. В ткани мирозданья есть какая-то брешь, Торион, да, брешь, дыра, рана, и вот ее-то я и отправляюсь искать. Если я не вернусь, может быть, повезет тебе… Но подожди. Умоляю тебя, дождись меня. — Верховный Маг использовал слова Истинной Речи, с помощью которых создаются все заклинания, любое волшебство; редко, очень редко Истинной Речью пользуются при простом разговоре, разве что драконы, у которых нет иного языка. Мастер Заклинатель больше не спорил и не протестовал; он только тихо поклонился обоим — Верховному Магу и Аррену — и удалился.
В камине потрескивал огонь. Вокруг стояла полная тишина. За окнами сгустился туман; мутные клубы его были похожи на дым.
Верховный Маг смотрел на пламя, словно не замечая присутствия юноши. Тот стоял в отдалении, не зная, то ли ему уйти, то ли подождать, пока его отпустят, нерешительный и как будто забытый. Он снова чувствовал себя крошечной фигуркой в темном, бескрайнем, ошеломляющем пространстве.
— Сначала наш путь лежит в город Хорт, — сказал Ястреб, отворачиваясь от камина. — Там собираются новости со всего Южного Предела, так что мы, возможно, обнаружим хоть какую-то ниточку. Энладский корабль все еще ожидает тебя в порту. Попроси шкипера передать весточку твоему отцу. Я полагаю, что нам нужно отправляться в путь как можно скорее. Завтра на рассвете. Я буду ждать тебя у лодочного причала, приходи.
— Господин мой, что… — он запнулся, — но что именно ты ищешь?
— Не знаю, Аррен.
— Но тогда…
— Тогда как же я буду искать? И этого я тоже не знаю. Может быть, оно само попытается отыскать меня. — Он слегка улыбнулся Аррену, но лицо его в сером свете, просачивающемся из-за затянутого туманом окна, было твердым, словно отлитым из металла.
— Господин мой, — сказал Аррен, и теперь голос его звучал твердо, — я действительно потомок Морреда, насколько вообще можно установить, кто чей потомок в столь невероятно древнем роду. И если я смогу оказаться тебе полезным, то сочту это за величайшую честь и самую большую удачу в своей жизни. Я хотел бы служить только тебе. Но, боюсь, ты по ошибке принимаешь меня за более сильного человека, чем я есть на самом деле.
— Возможно, — сказал Верховный Маг.
— У меня нет особых талантов, и умею я немного. Владею как коротким мечом, так и двуручным. Умею управляться с лодкой. Хорошо танцую. Могу погасить любую свару среди придворных. Люблю борьбу, но довольно плохо стреляю из лука. Зато хорошо играю в лапту. Умею петь, играю на арфе и лютне. И это все. Больше ничего не умею. Так какая от меня тебе польза? Мастер Заклинатель прав…
— А, так ты все понял? Он просто ревнует. Взывает к старой дружбе и верности. Считает, что для меня это важнее.
— Как и большее мастерство, господин мой.
— Может быть, ты предпочтешь, чтобы со мной отправился он, а ты остался?
— Нет! Но я боюсь…
— Боишься чего?
На глазах у юноши сверкнули слезы.
— Боюсь подвести тебя, — сказал он.
Верховный Маг снова отвернулся и стал смотреть на огонь.
— Садись, Аррен, — сказал он, и юноша присел на каменный выступ у очага. — Я вовсе не заблуждаюсь относительно твоих магических или воинских доблестей. Я вообще не считаю тебя уже сложившимся, взрослым человеком. И почти совсем не знаю, что ты из себя представляешь. Зато мне приятно было узнать, что ты умеешь управляться с лодкой… Кем ты станешь, не знает никто. Но вот то немногое, что знаю о тебе я: ты потомок Морреда и Серриадха.
Аррен молчал.
— Это правда, господин мой, — с трудом заговорил он, — но… — Верховный Маг молча ждал, и юноше пришлось закончить начатую фразу: — Но я не Морред. Я — это всего лишь я сам.
— И ты не гордишься своими предками?
— Нет, я ими горжусь, благодаря им я наследник Энлада; это большая честь, недоступная вершина, к которой нужно стремиться…
Верховный Маг утвердительно, хотя и резковато, кивнул.
— Именно это я и имел в виду. Пренебрегать прошлым — значит пренебрегать и будущим. Человек не сам строит свою судьбу: он ее либо принимает, либо отвергает. Если у ясеня слишком слабые корни, то и крона его не будет пышной. — При этих словах Аррен изумленно взглянул на волшебника, ибо его подлинное имя — Лебаннен — означало «ясень». Но Верховный Маг так и не произнес этого имени вслух. — Корни твои глубоки, — продолжал он. — И сила в тебе есть, так что необходим лишь простор для роста. Этот простор я и предлагаю тебе вместо спокойного путешествия обратно домой — простор и путь с опасной и неведомой целью. Ты волен не участвовать в этом путешествии. Право выбора остается за тобой. Но я предлагаю тебе: выбирай. Устал я от безопасности, от стен и крыш, что окружают и охраняют меня. — Ястреб вдруг резко оборвал себя, пронзительный взгляд его ясных глаз стал каким-то странно невидящим: он словно ничего больше не замечал вокруг. И Аррен понял, сколь глубока тревога этого человека, и испытал страх перед его неукротимостью. Однако страх лишь усиливает возбуждение, и ответ юноши прозвучал от всего сердца:
— Господин мой, я выбрал: мы пойдем вместе.
Аррен вышел из Большого Дома глубоко потрясенный. Он решил было, что это и есть счастье, однако слово как-то не очень годилось. Тогда он подумал, что в нем поет гордость: ведь сам Верховный Маг назвал его сильным, способным выбрать свою судьбу человеком. Однако и гордости он не испытывал. Почему же? Самый могущественный волшебник Земноморья сказал ему: «Завтра мы с тобой уплывем на край света», а он лишь согласно кивнул головой, готовый к опасному путешествию; разве не стоит этим гордиться? И все-таки гордости не было — было лишь изумление.
Аррен спустился по крутым извилистым улочкам Твила к гавани, отыскал у причала своего шкипера и сказал ему:
— Завтра поутру мы с Верховным Магом отплываем в Южный Предел, на остров Уотхорт. Передай князю, отцу моему, что я вернусь в Берилу, как только закончу службу.
Шкипер при этих словах помрачнел. Он знал, как будет принят, явившись с подобным известием во дворец правителя Энлада.
— Мне нужна бумага, написанная твоей рукой, принц, — сказал он.
Аррен нашел это требование справедливым и поспешил — ему казалось, что теперь он все время должен поторапливаться, — в первую же лавчонку, впрочем, странноватую на вид, где купил чернильный камень, кисточку и лист хорошей мягкой бумаги, плотной как войлок; потом быстро вернулся в гавань и устроился на краю причала, чтобы написать родителям письмо. Когда он подумал о матери, о том, как она возьмет вот этот лист бумаги и станет читать послание сына, душу его охватила грусть. Мать была веселой и кроткой, но он прекрасно знал, что ее радость и спокойствие зависят от него одного; знал, как страстно ждет эта терпеливая женщина его скорейшего возвращения. И не было никакой возможности успокоить ее и хоть как-то утешить во время его долгого отсутствия. Письмо получалось сухим и коротким. Он подписал его руной Меча — «Аррен» — и заклеил каплей смолы из котла на пристани. Потом протянул шкиперу, но вдруг крикнул: «Погоди!» — словно корабль уже отчаливал — и помчался вновь в ту же странную лавчонку, которую отыскал не без труда, ибо в припортовых улочках было нечто непостоянное, как и во всем городе Твиле; казалось порой, что даже повороты улиц постоянно меняются. В конце концов Аррен выбрался на нужную улицу и ворвался в лавку, загремев длинными нитями красных глиняных бус, украшавших вход. Еще покупая чернила и бумагу, он приметил на блюде среди разнообразных застежек и украшений серебряную брошь в форме дикой розы. Имя его матери было Роза.
— Я ее покупаю, — торопливо бросил он с подобающим настоящему принцу высокомерием.
— Это старинная работа ювелиров с острова О. Похоже, вы ценитель древностей, — сказал хозяин лавки, внимательно разглядывая меч Аррена — но отнюдь не новенькие ножны, а потертую рукоять. — Брошь стоит четыре пластины.
Аррен без возражений заплатил эту довольно-таки большую цену: в кошельке у него было предостаточно пластинок из слоновой кости, что заменяют на Внутренних Островах деньги. Мысль о том, что он пошлет матери достойный подарок, радовала душу. Выйдя из лавчонки, Аррен щегольским жестом положил руку на эфес меча.
Меч этот преподнес ему отец накануне отплытия с Энлада. Аррен торжественно принял дар и носил меч так, словно это было почетной обязанностью; даже на борту корабля он его не снимал. Он гордился, ощущая на бедре его тяжесть — тяжесть долгих веков, бременем ответственности ложившуюся на его душу. Ведь то был меч Серриадха, сына Морреда и Эльфарран, и не было в мире более древнего меча, кроме того, что принадлежал когда-то Эррет-Акбе, а теперь красовался на Королевской Башне в Хавноре. Меч Серриадха никогда не откладывали на время, никогда не хранили в сокровищнице; он всегда сопровождал своих хозяев, однако со временем ничуть не постарел и даже за много столетий не утратил ни на гран своей волшебной силы, ибо выкован был с помощью величайшего заклятия. Согласно преданиям, обнажать этот меч можно было лишь тогда, когда он служил жизни. Правило это должно было соблюдаться вечно. Никогда не позволил бы меч Серриадха, чтобы им воспользовались в кровожадных целях, из мести или из зависти, а также для захвата чужих земель. От этого меча, самого большого сокровища их семьи, и получил Аррен домашнее прозвище; ребенком его звали Аррендек, что значит «маленький меч».
Ему до сих пор еще ни разу не пришлось воспользоваться старинным мечом, как, впрочем, и его отцу, а также деду. Давно уже в Энладе царил мир.
Но теперь, на улице загадочного города, на Острове Мудрецов, рукоять меча вдруг показалась ему чужой, неудобной и страшно холодной. Меч почему-то стал слишком тяжелым и мешал при ходьбе. И чудесное возбуждение, что владело им, хоть и не прошло совсем, но как бы остыло. Аррен вернулся на пристань, попросил шкипера передать брошь матери и пожелал судну счастливого плавания и успешного возвращения на родину. Бредя назад, к Школе, юноша набросил на плечи плащ, прикрыв им ножны с древним непокорным и смертельно опасным мечом, что достался ему в наследство. Красоваться ему расхотелось. «Что я делаю? — спрашивал он себя, медленно поднимаясь по узким улочкам к похожему на крепость Большому Дому, возвышавшемуся над Твилом. — Как случилось, что я не еду назад, домой? Почему ищу то, чего вовсе не понимаю, с человеком, которого не знаю совсем?»
И ответа на эти вопросы он не находил.
Глава 3
Город Хорт
В предрассветной тьме Аррен, облачившись в подаренную ему матросскую робу, довольно поношенную, но чистую, торопливо прошел по молчаливым залам Большого Дома к восточной его стене, к дверце, вырезанной из драконьего зуба. Там его выпустил наружу Мастер Привратник, указав, как ему лучше пройти к лодочной пристани, и чуть улыбнувшись при этом. По самой верхней улице Твила Аррен добрался до тропы, которая спускалась прямо к лодочным сараям, принадлежавшим Школе, — чуть южнее основной гавани Твила. Тропа в сумерках была едва различима. Деревья, крыши домов, холмы казались неясными, расплывчатыми формами, огромными сгустками не рассеявшейся еще ночной тьмы; воздух был недвижим и холоден, все вокруг казалось отрешенным, загадочным, и только на востоке, на самом горизонте, слабо светилась полоска пробуждающейся зари.
У лестницы, ведущей к причалам, не было ни души. В толстой матросской робе и шерстяной шапке Аррен не чувствовал особого холода, но все же его била дрожь, когда он стоял в полном одиночестве на каменных ступенях в темноте и ждал.
Лодочные сараи мрачно возвышались над черной водой; вдруг где-то внутри одного из них раздался негромкий глуховатый стук, повторившийся три раза. У Аррена волосы зашевелились на голове. На воду совершенно бесшумно скользнула длинная темная тень. Это была лодка, которая тихонько подошла к причалу. Аррен сбежал по ступенькам и прыгнул через борт.
— Берись за румпель, — сказал Верховный Маг, чья невысокая худощавая фигура виднелась на носу, — держи ровней, а я пока парус поставлю.
Они уже вышли в залив; парус, словно белое крыло, затрепетал над лодкой, отражая разгорающийся свет зари.
— Ветер западный, так что за весла браться не придется: прощальный подарок Мастера Ветродуя, конечно. Следи за рулем, парень, эта лодка очень послушная! Вот так. Ну что ж, западный ветер и ясная заря — подходящая погодка для весеннего равноденствия.
— А это и есть «Зоркая»? — Аррен знал о лодке Верховного Мага из песен и легенд.
— Конечно, — ответил тот, занятый снастями. Ветер свежел, и лодка то ныряла вниз, то взлетала на гребень волны. Аррен, сжав зубы, старался держать суденышко строго по курсу.
— Ею очень легко управлять, но вообще-то она с норовом, господин мой.
Верховный Маг засмеялся.
— Пусть делает что хочет. Можешь не беспокоиться: она достаточно умна. Послушай, Аррен, — он чуть помедлил, стоя на коленях на банке и глядя юноше в лицо, — я теперь больше не «твой господин» и ты для меня не принц. Меня зовут Хок, что значит «коршун», я торговец, а ты мой племянник и ученик, и зовут тебя просто Аррен; родом мы оба из Энлада. Вот только из какого города? Да из любого большого — а то как бы «земляка» не встретить!
— Темере на южном побережье подойдет? Тамошние суда плавают во все Пределы.
Верховный Маг кивнул.
— Вот только, — осторожно начал Аррен, — у тебя, господин мой, не совсем энладский выговор…
— Знаю. Выговор у меня гонтский, — засмеялся его спутник и посмотрел на разгорающуюся зарю. — Но я полагаю, что смогу еще кое-чему научиться у тебя. Итак, мы с тобой родом из Темере, а лодка наша называется «Дельфин», и я никакой не маг, не твой господин, не Ястреб, а… как меня теперь зовут?
— Хок, господин мой.
И Аррен прикусил язык.
— Тренируйся, племянничек, — сказал Верховный Маг, — нужно просто немного потренироваться. Ты ведь никогда никем, кроме наследного принца, не был, а уж мне-то кем только не приходилось становиться, и, надо сказать, меньше всего времени я пробыл действительно Верховным Магом… Мы с тобой плывем на юг в поисках лазурита — знаешь, таких голубых камешков, на которых всякие заклятья пишут? По-моему, в Энладе они весьма ценятся. С их помощью заговаривают ревматизм, растяжение связок, прострелы, а также когда шею надует или язык прикусишь…
Аррен уже буквально с ног валился от смеха. Отсмеявшись, он поднял голову, и как раз в этот миг лодка взлетела на волне и впереди над горизонтом блеснул краешек поднимающегося из моря золотого солнца.
Ястреб стоял, одной рукой держась за мачту, потому что лодку изрядно болтало, и, глядя на восходящее солнце переломного дня весны, вдруг запел. Аррен не понимал Истинной Речи — языка волшебников и драконов, — но в песне он слышал хвалу и радость и ощущал четкий ритм, схожий с плавным набегом волн, с неизменной сменой дня и ночи. Чайки кричали на ветру; берега Твила уплывали назад и в стороны: лодка вышла из залива в бурные воды Внутреннего Моря, залитого солнечным светом.
От Рока до Хорта не так уж далеко, однако они провели в море целых три ночи. Верховный Маг очень торопился с отплытием, однако, едва покинув Рок, стал куда более спокойным, нетерпение его ушло. Ветер сменился на восточный, как только они вышли из зачарованных прибрежных вод, но Ястреб не воспользовался волшебством, как это сделал бы любой заклинатель погоды; вместо этого он часами обучал Аррена управлять лодкой при постоянном встречном ветре в скалистой бухточке у восточного побережья острова Иссел. На второй день с самого утра не переставая лил дождь, холодный, с сильным ветром — настоящая мартовская погода, но Ястреб ни слова не вымолвил, чтобы остановить дождь и ветер. Третью ночь они дрейфовали у входа в гавань Хорта при полном штиле в холодной туманной мгле, и Аррен все время с удивлением думал, почему это за весь недолгий период их знакомства Верховный Маг ни разу не воспользовался магией.
Впрочем, моряком он оказался несравненным. Аррен за три дня узнал от него куда больше, чем за десять лет занятий шлюпочным спортом в заливе порта Берила. А ведь волшебное и морское искусство весьма схожи: и маги, и моряки имеют дело с силами неба и земли, используют могучие ветры для того, чтобы приблизиться к бесконечно далекой цели. Впрочем, у Верховного Мага, или торговца Хока, цель была одна.
Волшебник был молчалив, но обладал редкостным добродушием. Его совершенно не раздражала неловкость Аррена; он держался просто и дружелюбно; для плавания по морю лучшего спутника нечего было и желать. Однако порой он настолько уходил в себя, погрузившись в молчание на долгие часы, что если в период такой задумчивости Аррен о чем-то спрашивал его, то голос волшебника звучал непривычно резко, а глаза смотрели как бы сквозь собеседника. От этого, впрочем, любовь юноши к Верховному Магу не ослабевала, хотя первоначальная его восторженность несколько поостыла и волшебник иногда внушал ему даже некоторый страх. Возможно, Ястреб это почувствовал, потому что в туманную ночь, когда они дрейфовали близ Уотхорта, он долго, с паузами и остановками, рассказывал Аррену о себе и о том, что его тревожит.
— Мне так не хочется завтра вновь оказаться среди людей, — сказал он. — Я все старался представить себе, будто снова стал свободен… Что ничто не нарушено в мире. Что я не Верховный Маг и даже не обыкновенный колдун. Что я всего лишь Хок, торговец из Темере, что я никому ничего не должен и никакими привилегиями не пользуюсь… — Он помолчал и заговорил снова: — Старайся осторожно делать свой выбор, Аррен, когда придет время. Когда я был молод, мне пришлось выбирать между спокойной созерцательностью бытия и вечной деятельностью. Жажда деятельности влекла меня несказанно, я вцепился в эту возможность, как форель в наживку. Однако каждое твое деяние, даже самый маленький поступок, связывают тебя последствиями, заставляя действовать снова и снова. Передышки случаются редко — такие, как сейчас у меня, — и только во время передышек можно позволить себе просто жить, просто подумать, кто же ты, в конце концов, такой.
Как может такой человек, думал Аррен, еще сомневаться в себе и собственном предназначении? Он всегда считал, что подобные сомнения — удел юнцов, еще ничего в своей жизни не совершивших.
Лодка покачивалась в серой холодной мгле.
— Вот за это я и люблю море, — неожиданно прозвучал во тьме голос Ястреба.
Аррен понимал его; однако собственные мысли юноши стремились вперед, в течение этих трех долгих дней и ночей — только вперед, к цели их поисков. И поскольку волшебник явно пребывал в разговорчивом настроении, Аррен наконец решился спросить:
— Ты думаешь, мы найдем то, что ищем, в порту острова Уотхорт?
Ястреб только головой покачал: то ли не был уверен, то ли просто не знал.
— Может быть, это какое-то поветрие, вроде чумы, что ползет с острова на остров, пожирая урожай, скот и даже человеческие души?
— Всякое поветрие или мор — это, в общем-то, обычное колебание маятника в часах Великого Равновесия. Теперь же происходит нечто иное. Здесь явно попахивает вмешательством злых сил. Мы порой испытываем страдания, когда Миропорядок стремится обрести утраченное на миг равновесие, однако не теряем надежды, даже если приостанавливается развитие искусств и люди ненадолго забывают слова Созидания. Это ведь тоже естественное состояние Природы. Однако сейчас происходит отнюдь не восстановление утраченного Равновесия, а все большее его нарушение. И только одно существо способно полностью нарушить баланс.
— Человек? — напряженно спросил Аррен.
— Да, люди.
— Но почему?
— Из-за своей неуемной жажды жизни.
— Жизни? Но разве это плохо — желать жить?
— Нет, это не плохо. Но когда мы силой заставляем природу выполнять наши желания, когда мы требуем, требуем, требуем — несокрушимого здоровья, абсолютной безопасности, бессмертия, — тогда естественное желание превращается в алчность. А когда алчность подкреплена Знанием, она открывает ворота Злу. И тогда Великое Равновесие нарушается, и Зло тяжким бременем тянет чашу мировых весов вниз.
Аррен некоторое время размышлял над услышанным, потом спросил:
— Значит, мы ищем все-таки человека?
— О да, человека и мага. Мне думается, это так.
— Но я всегда считал — так объясняли мне отец и учителя, — что искусство Высшей Магии пребывает в зависимости от Великого Равновесия, от существующего Миропорядка и именно поэтому не может быть использовано во зло.
— Это, — сухо откликнулся Ястреб, — давний спорный вопрос. Бесконечны споры магов между собой. На любом острове Земноморья найдутся ведьмы, что творят злые заклятья, и колдуны, использующие свое ремесло, чтобы разбогатеть. Но есть и другие. Например, великий маг, Повелитель Огня, который пытался уничтожить Тьму и остановить полуденное солнце в зените. Даже Эррет-Акбе вряд ли смог бы одержать над ним победу. А вот другой пример: тот, кто погубил Морреда. На его сторону переходили целые армии. Заклятье, которое он сотворил против Морреда, было столь сильно, что даже когда проклятый волшебник погиб, действие этого заклятья приостановить было нельзя, и остров Солеа со всеми жителями исчез в пучине морской. То были люди, своим великим могуществом и знаниями служившие Злу и питаемые Злом. Всегда ли может волшебство, служащее Добру, оказаться сильнее? Неизвестно. Мы можем на это только надеяться.
Всегда испытываешь некоторое разочарование, когда вместо твердой уверенности обретаешь всего лишь надежду. И Аррен вдруг почувствовал себя неуютно на холодных вершинах столь высоких материй.
— Мне кажется, — сказал он, — я теперь понимаю, почему зло творит лишь человек. Ведь по сравнению с людьми даже акулы невинны: они убивают потому, что должны это делать.
— Именно поэтому ничто в мире не способно противостоять людям. Одно лишь может служить препятствием человеку с исполненным зла сердцем: другой человек. В позоре нашем кроется и наша слава. Лишь человеческий дух, способный вершить зло, способен и одержать над ним победу.
— Ну а драконы? — спросил Аррен. — Разве не творят они зла? Разве они так уж невинны?
— Драконы! Драконы кровожадны, ненасытны, коварны; они не знают жалости или угрызений совести. Но являются ли драконы носителями зла? Кто я такой, чтобы судить о деяниях драконов?.. Они значительно мудрее людей. С ними, Аррен, как со снами. Нам, людям, снятся сны, мы занимаемся магией, творим добро и зло. Драконы не видят снов. Они сами — сон, мечта; волшебство — это их сущность, а потому они не занимаются магией как наукой. Магия — основа их бытия. Они не совершают поступков: они просто существуют.
— В Серилюне, — сказал Аррен, — есть шкура дракона Бар Отха, убитого Кеором, князем Энлада, триста лет тому назад. С того дня ни один дракон больше не пролетел над Энладом. Я видел шкуру Бар Отха. Она тяжела, как железные доспехи, и так велика, что, как говорят, могла бы закрыть всю рыночную площадь в Серилюне. Зубы у него не меньше моей руки. И все-таки Бар Отх считался молодым драконом, не достигшим полной зрелости и величины.
— Тебе страшно хочется увидеть драконов, — сказал Ястреб.
— Да.
— Кровь их холодна и ядовита. Нельзя смотреть им в глаза. Они гораздо старше людей… — На некоторое время волшебник погрузился в молчание, потом продолжил: — И все же, хоть порой я и начинаю забывать или сожалеть о содеянном когда-то, я всегда буду помнить, как однажды на закате видел парящих в потоках ветра драконов над далекими западными островами. И каждый раз воспоминание это дарит мне радость.
Теперь замолчали оба. Ничто не нарушало тишины, кроме шепота волн, бьющихся о лодку в кромешной тьме. Потом путешественники наконец уснули, а лодка мирно покачивалась над темной морской бездной.
Утренняя дымка была просвечена ярким солнцем, когда они входили в бухту Хорта. На рейде стояла добрая сотня судов; некоторые быстро шли к причалам. Там были лодки рыбаков и краболовов, траулеры, торговые суда, две двадцативёсельные галеры и одна огромная, шестидесятивёсельная, требовавшая значительного ремонта; несколько легких парусников с треугольными парусами, предназначенными для того, чтобы ловить высокий ветер в теплых и тихих морях Южного Предела.
— Это военное судно? — спросил Аррен, когда они проплывали мимо одной из двадцативёсельных галер, и спутник его ответил:
— Скорее рабовладельческое, раз там на скамьях для гребцов крепеж для цепей. Здесь, в Южном Пределе, людьми тоже торгуют.
Аррен с минуту обдумывал это сообщение, потом вытащил из рундука свой меч, бережно завернутый в кусок ткани еще при отплытии с Рока. Он развернул тряпицу и застыл в нерешительности, держа обеими руками меч и не вынимая его из ножен. Перевязь свисала до земли.
— Для ученика морского торговца этот меч не подходит, — сказал он. — Ножны слишком хороши.
Ястреб, правивший лодкой, бросил в его сторону быстрый взгляд.
— Если хочешь, возьми его с собой.
— Я подумал, что он, возможно, весьма пригодится там…
— Если меч сам просится в дело, мешать ему не следует, — сказал волшебник, внимательно следя, чтобы не столкнуться с кем-нибудь в забитом судами заливе. — Этого меча надо слушаться.
Аррен кивнул.
— Да, так мне говорили. Но он все-таки убивал. Людей. — Юноша посмотрел на изящную, чуть потертую рукоять. — Он уже убивал, а я еще нет. И в его присутствии чувствую себя дураком. Ведь он настолько старше меня… Возьму-ка я лучше нож, — заключил он, снова заботливо заворачивая меч и поглубже засовывая его в ящик. Лицо его было озабочено и сердито. Ястреб ничего на это не сказал и, помолчав немного, предложил:
— Может, сядешь теперь на весла, парень? Нам нужно причалить вон там, у лестницы.
Город Хорт, один из семи крупнейших портов Архипелага, покоился на трех высоких холмах, поражая многоцветьем своих улиц и шумной портовой жизнью. Дома, в основном глинобитные, были раскрашены в красные, оранжевые, желтые и белые цвета; крыши из пурпурно-красной черепицы; красные купы цветущих деревьев виднелись повсюду. Разноцветные полосатые тенты были натянуты от крыши до крыши, затеняя маленькие рыночные площади. Причалы были залиты солнцем; улочки, отходящие от них в глубь города, казались темными щелями, полными теней, людей и шума.
Когда они причалили и как следует привязали «Зоркую», Аррен уже хотел было выпрыгнуть на пирс, но Ястреб чуть помешкал, якобы проверяя прочность узла, и сказал юноше в спину:
— Сынок, здесь, в Хорте, есть люди, которые знают меня слишком хорошо. Так что смотри внимательно, чтобы в случае чего сразу отличить меня в толпе.
Когда он выпрямился, то шрамы на лице его совсем исчезли, волосы побелели, а нос стал курносым и похожим на грушу.
Вместо высокого тисового посоха в руке у него появилась палочка из слоновой кости, а может и хлыст, который он сунул за пазуху.
— Что, парень, не узнаешь? — сказал он, широко улыбаясь и с чисто энладским выговором. — Неужто никогда раньше не видел? Что ж ты дядюшку своего не признал!
Аррену приходилось видеть, как волшебники при дворе в Бериле до неузнаваемости меняли свой облик, представляя в лицах сказание о подвигах Морреда, так что поняв, что это всего лишь иллюзия, быстро справился с собой и даже оказался в силах ответить:
— О, ну как же, конечно узнаю, дядюшка Хок!
Но пока волшебник торговался с портовой стражей по поводу слишком высокой платы за стоянку и охрану лодки, Аррен не сводил с него глаз: хотел быть уверенным, что сможет узнать повсюду. И чем дальше, тем больше почему-то тревожило его это превращение. Слишком сложным оно оказалось, и теперь это был уже вовсе не Верховный Маг, не мудрый наставник… Плата за стоянку и впрямь была высокой, и Ястреб ворчал, расплачиваясь с охраной, и продолжал ворчать, когда они с Арреном двинулись в город.
— Того гляди, лопнет мое терпение! — приговаривал он. — Надо же, еще и плати этому толстопузому за то, чтоб он за лодкой присматривал, когда и половинки заклятья хватит, чтобы сохранить ее в два раза лучше! Вот она, плата за маскарад… я ведь и нормальный-то язык совсем позабыл, так-то, племянничек!
Они шли по забитой народом вонючей пестрой улочке, по обеим сторонам которой тянулись лавчонки, чуть больше будки сторожа, так что владельцы их стояли в дверях, выложив наружу гору товаров, и во весь голос зазывали покупателей. Там продавались глиняные горшки и кувшины, чулки и шляпы, лопаты и заколки для волос, сумки, чайники, корзины, ножи, веревки, судовые снасти, гвозди и болты всех размеров, постельное белье — любая хозяйственная утварь, инструмент и снедь.
— Это ярмарка?
— А? — Незнакомый курносый тип рядом склонил к нему свою грязноватую голову.
— Это ярмарка, дядюшка?
— Ярмарка? Нет, что ты. Тут у них цельный год такая ярмарка. Да не надо нам ваших пирожков с рыбой, сударыня! Я уже позавтракал!
Аррен тем временем пытался отделаться от сомнительного типа с подносом, уставленным какими-то маленькими бронзовыми кувшинчиками. Торговец тащился за ним по пятам и ныл:
— Купи, посмотри, красавчик, они тебе понравятся и не подведут, а уж аромат! — в точности розы Нумимы: ни одна женщина не устоит. Попробуй-ка, юный повелитель морей, принц-красавчик…
В мгновение ока Ястреб оказался между Арреном и торговцем, грозно вопрошая:
— Что за снадобья?
— Это не снадобья! — скривился человек, пытаясь удрать. — Я снадобьями не торгую, шкипер! Только сиропы, чтобы усластить дыхание после выпивки или хазии, только сиропы, мой повелитель! — Торговец шлепнулся прямо на камни мостовой; сосуды на его подносе зазвенели и загремели, а некоторые так качнулись, что капли вязкой густой жидкости, розовой или ярко-красной, выплеснулись наружу.
Ястреб отвернулся и, не говоря больше ни слова, повел Аррена дальше. Вскоре толпа поредела, а лавчонки стали на удивление жалкими. Оборванные хозяева их продавали то горсть погнутых гвоздей, то сломанный пестик, то старый чесальный гребень. Но эта нищета, как ни странно, угнетала Аррена меньше: раньше, на богатом конце улицы, он чувствовал, что вот-вот задохнется от невероятного, немыслимого количества товаров, от бесконечных воплей — купи! купи! Сильно подействовали на него и приставания продавца благовоний. Он вспоминал холодные чистые улицы своего родного северного города. «Никто в Бериле не стал бы так приставать к незнакомцу», — подумал он.
— Это какие-то сумасшедшие! — сказал он вслух.
— Сюда, племянничек, — сказал его спутник, не обратив на его слова ни малейшего внимания.
Они свернули в проход между двумя высокими красными глухими стенами каких-то домов, уступами поднимавшихся вверх по склону холма, прошли в какую-то арку, украшенную обвисшими драными флагами, и оказались на залитой солнцем площади — там был еще один рынок с точно такими же лавчонками и навесами, точно так же кишащий людьми и мухами.
По краям рыночной площади совершенно неподвижно сидели или лежали люди, мужчины и женщины. Рты у них были какие-то странные: черные, будто засохшие раны; и на губах кишели мухи, собираясь в грозди, похожие на засохший виноград.
— Как же их много! — тихо и торопливо проговорил Ястреб своим собственным голосом: видно, и он тоже был потрясен до глубины души. Но когда Аррен взглянул на него, то увидел лишь равнодушно-туповатое лицо торговца Хока, которому на все это было наплевать.
— А что с этими людьми? Они больны?
— Это все хазия. Она утешает и дарит забвение, отпуская тело на волю из-под власти разума. Впрочем, и разум тоже обретает свободу… Вот только возвратившись в прежнее тело, требует все больше и больше хазии… И жажда эта становится все сильнее, а жизнь — все короче, ибо дрянь эта, хазия, — сущий яд. Сначала у человека начинают дрожать руки и ноги, потом наступает паралич, а вслед за ним — смерть.
Аррен посмотрел на одну из женщин, привалившуюся спиной к теплой стенке; женщина подняла было руку, чтобы отогнать мух, но рука вдруг описала в воздухе странный неровный круг, словно ее хозяйка совсем забыла о прежнем намерении, и непроизвольно задергалась, будто в судорогах наступающего паралича. Это чуть-чуть напоминало некоторые магические жесты, которыми сопровождается наложение заклятий, однако было совершенно лишено какого бы то ни было смысла.
Торговец Хок тоже смотрел на женщину, однако без особого волнения.
— Пошли! — сказал он.
И повел Аррена дальше через рыночную площадь к небольшой лавочке. Солнце просвечивало сквозь полосатую ткань натянутой над ее входом маркизы, и разложенные на продажу товары — одежда, шали, плетеные пояса — были покрыты разноцветными полосами, зелеными, оранжевыми, алыми, лазурными. Разноцветные солнечные зайчики плясали по стенам, ибо прическу дамы, вероятно хозяйки магазина, украшали многочисленные зеркала и высокий плюмаж. Дама была поистине гигантских размеров и густым голосом пела, зазывая покупателей:
— Шелка, сатины, холстины, меха, войлок, любая пряжа, шерстяные ткани с Гонта, тончайший газ с Соула, шелка Лорбанери! Эй, северяне, снимайте свои суконные кафтаны, вы что ж, не видите: солнце на небе! Гляньте-ка — разве не стоит такое отвезти домой в Хавнор да подарить своей девчонке? Вы посмотрите — вот южные шелка, тонкие, легкие, словно крылья бабочки!
И она ловкими своими руками раскинула перед путешественниками рулон воздушного шелка, нежно-розового с серебряной ниткой.
— Ой нет, госпожа, мы ведь женаты не на королевнах, — сказал торговец Хок, и голос женщины тут же сорвался на визг:
— Так во что ж вы там своих женщин одеваете, а? В мешковину, что ли? А может, в парусину? Жалкие вы людишки! Даже кусочка шелка не хотите купить своим бедняжкам, что вечно мерзнут в ваших северных снегах! А вот как раз для них: прекрасная гонтийская шерсть, она их согреет в холодные зимние ночи! — И тетка швырнула на прилавок целую штуку шерстяной материи в кремово-коричневую клетку из той шелковистой козьей шерсти, которой славятся северо-восточные острова Земноморья. Фальшивый торговец Хок протянул руку, пощупал материю и улыбнулся:
— Ну конечно, ведь ты и сама небось с Гонта, а? — спросил он неожиданно глубоким голосом, голосом волшебника Ястреба, и голова женщины в гигантском уборе, качнувшись в знак согласия, послала тысячу разноцветных пятнышек на прилавок с раскинутой на нем тканью.
— Это андрадская работа, ясно? Здесь всего четыре нити основы на ширину пальца укладываются. А на Гонте — не меньше шести. Но лучше скажи-ка мне, что это ты вдруг свое колдовство забросила? Всякой ерундой торгуешь. Еще несколько лет назад, когда я прошлый раз заезжал сюда, то сам видел, как ты вызывала пламя, которое вырывалось у людей из ушей и превращалось потом то в птичек, то в золотые колокольчики. То была куда лучшая торговля, чем теперь.
— Никакая то была не торговля! — сердито сказала огромная женщина, и на мгновение Аррен перехватил ее взгляд — тяжелый и неподвижный. Глаза ее, напоминавшие темные агаты, внимательно следили за ним и Хоком из-под копны волос, качающихся перьев и путаницы сверкающих зеркал.
— Это было красиво — когда из ушей вылетало пламя, — грустновато, но совсем простодушно сказал торговец Хок. — Я-то надеялся племяннику своему показать…
— Ну вот что! Слушайте меня внимательно, — сказала женщина уже не так сердито, опираясь своими коричневыми ручищами и могучей грудью о прилавок. — Мы здесь больше такими штуками не занимаемся. Людям они не нравятся. Приелись. Теперь вот эти зеркала — мне кажется, ты и мои зеркала запомнил, — и она поправила свой головной убор так, что разноцветные солнечные зайчики стремительно заметались вокруг них, — ну, ими еще можно кого-то удивить, так они сверкают, да еще кое-какими словами и другими штуками, о которых я тебе не скажу. И человек в конце концов решает, что видит нечто такое, чего никогда еще не видывал, чего и на свете-то быть не может. Да и на самом деле нет, как не было и того пламени, и золотых колокольчиков или роскошных костюмов, в которые я любила наряжать моряков, — из золотой парчи, бриллианты величиной с абрикос… А они расхаживали в них, словно короли… Но то все были фокусы, обман. Людей обмануть ничего не стоит. Они как цыплята, зачарованные змеей: их пальцем помани, они и подойдут. Да, в общем-то люди глупы, как куры. До них только потом доходит, что их просто-напросто обманули, и они начинают страшно злиться, вот подобные развлечения и перестают им нравиться. Я потому торговлей и занялась. Конечно, не все шелка здесь настоящие, не вся шерсть привезена с Гонта, да только они все равно будут это носить. Будут! Все это настоящее, не обман и не иллюзия, как те мои одежды из золотой парчи.
— Ну-ну, — сказал торговец Хок, — значит, во всем Хорте больше никого не осталось, кто сумел бы из чужих ушей пламя извлечь или еще какое чудо сотворить, как бывало?
При слове «чудо» женщина насторожилась, выпрямилась и начала аккуратно складывать шерстяную материю.
— Те, кому нужны лживые виденья, жуют хазию, — сказала она презрительно. — Вот с ними и говорите, если хотите! — И мотнула головой в сторону неподвижных фигур по краям площади.
— Но здесь ведь были и настоящие колдуны, из тех, что могли наполнить ветром парус или наложить охраняющее заклятье на грузы. Что же, и они все тоже в торговлю ударились?
Сильно разгневанная этими словами, толстая торговка заорала:
— Остался еще один, если вам так уж нужно; великий колдун, с волшебным посохом и все такое!.. Может, заметили его там, на площади? Когда-то он с самим Эгре плавал, заклинал для него ветры и отыскивал самые богатые галеры. Да только все это ложь, и капитан Эгре в конце концов наградил его по заслугам: оттяпал ему напрочь правую руку! Вот он и сидит там — поглядите-ка! — с полным ртом хазии и пустым брюхом. И все кругом ложь! Одна ложь! Вот тебе и вся магия, капитан Козел!
— Ну-ну, госпожа, — сказал торговец Хок мягко и терпеливо, — я ведь только спросил.
Но хозяйка лавки вдруг резко повернулась к нему спиной, так что кругом замелькала прямо-таки бешеная карусель из солнечных зайчиков, и Хок бочком, бочком выбрался на улицу. Аррен за ним.
Ястреб вовсе не испугался: совсем рядом с дверью лавчонки сидел, привалившись к стене и глядя в никуда, тот человек, на которого указала торговка. Когда-то темнокожее бородатое лицо его было, видимо, очень красивым. А теперь сморщенная безобразная культя правой руки была бесстыдно обнажена и лежала на камнях тротуара под ярким жарким солнцем юга.
Позади них в лавчонках возникла странная суматоха. Однако Аррену было не под силу отвести глаза от этого человека: мучительное очарование охватило его.
— А он действительно был волшебником? — спросил он очень тихо.
— Вполне возможно, и он скорее всего тот, кого раньше звали Харе: он служил заклинателем погоды у знаменитого пирата Эгре… Ага, осторожней, Аррен! — Какой-то человек, на полной скорости вынырнувший откуда-то из гущи лавок, врезался в них и чуть не сбил с ног. Потом появился другой, тоже куда-то страшно спешивший, сгибаясь под тяжестью подноса на голове, где грудой были навалены всякие кружева, галуны и мотки тесьмы. Одна из будок вдруг с треском развалилась, и толпа бросилась расхватывать оказавшийся на улице товар. На рыночной площади уже образовались целые небольшие смерчи из людей, где-то дрались, кто-то отчаянно кричал, однако вопли и шум перекрывал пронзительный голос толстой торговки в шляпе с зеркалами; Аррен успел заметить, как она ловко отбивается чем-то вроде палки или хлыста от группы мужчин, нанося удары с уверенностью опытного фехтовальщика. Была ли это одна из обычных рыночных свар, переросшая во всеобщую потасовку, или организованное нападение воровской банды, или вспышка постоянной вражды между соперничающими кланами торговцев, сказать было трудно; люди мчались куда-то с полными руками чужого добра, а может, и собственного, которое они, хотя бы частично, пытались спасти. В ход шли не только кулаки, но и ножи; гвалт стоял невероятный.
— Вон туда, — сказал Аррен, указав на ближайшую боковую улочку, и поспешил к ней, ибо было совершенно ясно, что чем скорее они уберутся с площади, тем лучше. Однако волшебник схватил его за руку. Аррен оглянулся и увидел, что тот человек, Харе, пытается встать на ноги. Когда это ему наконец удалось, он немного постоял, покачиваясь, и, даже не посмотрев вокруг, двинулся по краю площади, здоровой рукой касаясь стен домов — словно надеясь на их поддержку.
— Следи за ним, — сказал Ястреб, и они пошли следом за Харе. Не встретив никаких препятствий, они уже через минуту благополучно выбрались с рыночной площади и стали спускаться по тихой узкой и извилистой улочке.
Крыши домов почти смыкались у них над головами, закрывая свет; камни под ногами были скользкими от помоев и отбросов. Харе довольно быстро шел все дальше и дальше, по-прежнему касаясь рукой стены, словно слепой. Они вынуждены были следовать за ним буквально по пятам, иначе вполне могли бы потерять его из виду на любом перекрестке. Арреном вдруг овладел азарт погони; все его чувства были обострены, словно во время охоты на оленей в лесах Энлада; он четко видел каждое лицо, мелькавшее мимо, и явственно различал в сладковатой вони городских отбросов запахи пищи, горьковатый запах дыма и даже аромат цветов. Когда они пересекали одну из широких, заполненных народом улиц, он услыхал барабанный бой и краем глаза успел заметить вереницу обнаженных мужчин и женщин, цепями прикованных друг к другу за руки и за талии; их спутанные волосы свисали клочьями. В следующее мгновение процессия уже скрылась из виду, а они, по-прежнему следуя за Харе, спустились по лестнице на небольшую площадь, совершенно безлюдную. Лишь несколько женщин судачили, стоя у фонтана.
Здесь Ястреб догнал Харе и положил руку ему на плечо. Харе съежился, будто ожидая удара, и отшатнулся; потом вдруг попятился к массивной двери одного из зданий, утопленной в стене. Там он остановился, весь дрожа и глядя на них невидящими глазами загнанной жертвы.
— Тебя, кажется, зовут Харе? — спросил Ястреб. Говорил он своим собственным голосом, по природе суховатым и резким, но сейчас звучавшим почти нежно. Человек не отвечал, то ли не воспринимая, то ли просто не слыша вопроса. — Мне кое-что от тебя нужно, — сказал Ястреб. И снова не получил ответа. — Я тебе заплачу.
— Слоновой костью или золотом? — Реакция, впрочем, была довольно вялой.
— Золотом.
— Сколько?
— Настоящий волшебник знает цену своего заклятья.
Лицо Харе исказилось и на какое-то мгновение стало живым, но почти тут же его снова заволокло пеленой безразличия.
— Это все в прошлом, — сказал он. — В прошлом.
Приступ кашля согнул его пополам; он сплюнул черным. Потом наконец распрямился и стоял, весь обмякший, дрожащий, казалось, совсем забыв, о чем они только что говорили.
И снова Аррен, зачарованно наблюдая за ним, во всем видел какой-то особый смысл. Угол, куда забился Харе, был образован двумя выступающими из стены человеческими фигурами с согбенными под тяжестью фронтона плечами; их мускулистые тела выпирали из стены, словно гиганты пытались вырваться из этих каменных объятий, вернуться к жизни, но на середине пути потерпели неудачу. Дверь, охраняемая статуями, прогнила, петли были ржавыми, и весь дом, или скорее бывший дворец, буквально на глазах превращался в руины. Мрачные тяжеловесные лица гигантов были покрыты выбоинами и мхом. Между этими невероятными громадами человек по имени Харе казался тощим и хрупким, и глаза его были так же темны, как окна опустелого дворца. Он протянул изуродованную руку к Ястребу и проныл:
— Подайте что-нибудь бедному калеке, господин…
Волшебник съежился, словно от боли или стыда; Аррен заметил, что на мгновение перед ним предстало подлинное лицо Ястреба, искаженное маской отвращения. Потом Верховный Маг снова положил руку на плечо Харе и что-то тихонько сказал на том самом волшебном языке, которого Аррен не понимал.
Зато понимал Харе. Он вцепился в Ястреба своей единственной рукой и, заикаясь, забормотал:
— Ты все еще можешь говорить на… на… Пойдем же со мной, пойдем…
Маг кивнул ему в ответ, глянув при этом на Аррена.
По крутым улочкам они спустились в одну из долин между тремя холмами, на которых раскинулся город Хорт. Улочки становились все уже, темнее, безлюднее. Светлая полоска неба казалась зажатой над головой крышами и стенами тесно стоящих домов, стены которых были почему-то сырыми… Это узкое каменное ущелье вывело их к небольшой речке или ручью, от которого воняло, как от сточной канавы. Через речку были перекинуты арки мостиков, по берегам беспорядочно толпились дома. В темную дверь одного из этих домов и нырнул Харе, вдруг пропав из виду, словно задутая в темноте свеча. Они последовали за ним.
Ступени неосвещенной лестницы скрипели и качались под ногами. На самом верху Харе толчком отворил какую-то дверь, и они смогли наконец оглядеться: пустая комната, в углу соломенный тюфяк, в стене единственное незастекленное окошко, закрытое ставнями и едва пропускавшее в комнату немного света.
Харе обернулся к Ястребу и снова схватил его за руку. Он шевелил губами, тщетно пытаясь что-то выговорить. Наконец, заикаясь, он произнес:
— Дракон… дракон…
Ястреб спокойно смотрел ему в глаза, не говоря ни слова.
— Не могу сказать! — Харе с отчаянием отпустил руку Ястреба и заплакал, скорчившись на полу.
Маг опустился рядом с ним на колени и о чем-то тихо заговорил словами Истинной Речи. Аррен стоял у закрытой двери, держа руку на рукояти ножа. Серый свет, грязная комната и двое мужчин, стоящих на коленях прямо на полу. И еще — странная тихая музыка слов того языка, на котором говорят драконы. Все это вместе напоминало сон и, казалось, не имело ни малейшего отношения ни к тому, что происходит вне этих стен, ни к настоящему времени вообще.
Харе медленно поднялся. Единственной рукой отряхнул пыль с колен. Изуродованную руку он прятал за спину. Потом огляделся, внимательно посмотрел на Аррена: теперь он уже ясно видел то, что было вокруг. Потом быстро отвернулся и уселся на свой тюфяк. Аррен остался на страже, однако Ястреб с простотой, свойственной тем, чье детство протекало в такой же бедности, спокойно сел, скрестив ноги, прямо на голый пол.
— Расскажи мне, как ты утратил свое мастерство и позабыл Язык Созидания, — сказал он.
Некоторое время Харе не отвечал. Он начал беспокойно постукивать своей изуродованной рукой по бедру, все больше приходя в волнение, и, наконец, выговорил, как бы с трудом выталкивая слова наружу:
— Они отрезали мне руку. Я не могу больше плести заклятья. Они отрезали мне руку. Кровь вытекала, пока не иссякла…
— Но это было уже после того, как ты утратил свое могущество, Харе, иначе они просто не смогли бы этого сделать.
— Могущество…
— Могущество, которое позволяло тебе командовать ветрами и волнами морскими. И людьми. Ты называл их подлинными именами, и они подчинялись тебе.
— Да, я помню, что когда-то был жив, — сказал Харе тихим хриплым голосом. — И я знал нужные слова и подлинные имена…
— Разве теперь ты мертв?
— Нет. Жив. Жив. Только однажды я был драконом… Я не умер. Иногда я сплю. Сон ведь очень похож на смерть, всем это известно. Как и то, что мертвые во сне оживают, ходят… Они приходят к тебе, как живые, и говорят с тобой. Они приходят из царства смерти прямо в твои сны. Есть такой путь. И даже если пройти по нему очень далеко, все равно всегда можно вернуться назад. Можно вернуться. Ты тоже сможешь найти этот путь, если будешь знать, где искать его. И если захочешь уплатить цену.
— А какова цена? — Голос Ястреба проплыл в сумрачном свете, словно тень упавшего с дерева листа.
— Жизнь — что же еще? За счет чего же еще можно выкупить жизнь, кроме самой жизни? — Харе качался взад-вперед на своем тюфяке; в глазах его горел какой-то жуткий хитроватый огонек. — Видишь, — сказал он, — они могут отрезать мне руку. Могут отсечь мне голову. Но это неважно. Я все равно смогу найти путь назад. Я знаю, где искать. Только очень могущественные люди могут пойти этим путем.
— Ты имеешь в виду волшебников?
— Да. — Харе заколебался, как бы пробуя несколько раз произнести нужное слово, но сделать этого не смог. — Могущественные люди, — повторил он. — И они должны… они должны отдать свое могущество. Уплатить цену.
Потом он погрузился в молчание, словно выражение «уплатить цену» наконец пробудило в нем цепь воспоминаний и способность соображать, и до него дошло, что он просто проболтался, вместо того чтобы продать свою тайну. Больше от него ничего добиться было нельзя, даже прежних невнятных намеков на «возвращение назад», в которых Ястреб почему-то усматривал некий смысл. Вскоре Верховный Маг решительно поднялся с пола.
— Ну что ж, половина ответа — все же лучше, чем ничего, — сказал он. — Впрочем, и плата тоже будет соответствующей. — Ловким жестом фокусника он извлек откуда-то золотой и бросил его на тюфяк рядом с Харе.
Харе схватил монету. Он смотрел то на нее, то на Ястреба, то на Аррена, и голова его странно подергивалась.
— Погодите, — заикаясь, проговорил он. Увидев золото, он утратил всякий контроль над собой и теперь снова самым жалким образом тщетно старался выговорить то, что хотел раньше. — Сегодня ночью, — сказал он наконец. — Ждите. Сегодня ночью. Хазия у меня есть.
— Мне она не нужна.
— Чтобы показать тебе… Чтобы показать путь. Сегодня ночью. Я возьму тебя с собой. Ты сможешь пройти туда, потому что ты… ты… — Он мучительно пытался выговорить нужное слово, пока Ястреб не договорил за него:
— Потому что я волшебник.
— Да! Так что мы можем… мы сможем попасть туда. На тот путь. Когда я сплю. Во сне. Понимаешь? Я возьму тебя с собой. Ты пойдешь со мной в… по тому пути.
Ястреб стоял, спокойно размышляя о чем-то, посреди этой мрачной мерзкой комнаты.
— Может быть, я и приду, — сказал он наконец. — Если мы придем, то жди нас ближе к полуночи. — Потом он повернулся к Аррену, и юноша тут же распахнул дверь, готовый побыстрее уйти.
После жилища Харе вонючая темная улочка казалась светлым садом. Они двинулись в верхний город самым коротким путем, по крутой каменной лестнице, поднимавшейся меж поросших плющом стен. Аррен отдувался и фыркал, как морской лев.
— Уф! Неужели мы снова пойдем туда?
— Ну, если я не смогу добыть нужных сведений из менее опасного источника, то пойду. Похоже, нам готовят засаду.
— Но разве ты, господин мой, не защищен от воров и тому подобного?
— Защищен? — удивился Ястреб. — Что ты имеешь в виду? Ты что же, думаешь, что я хожу, весь опутанный заклятьями, как старуха, опасающаяся ревматизма? У меня и времени-то на это не было. Я скрыл свое лицо, чтобы скрыть цель нашего путешествия; и это все. Мы и так можем позаботиться друг о друге. Но дело в том, что нам и впредь не удастся избегать опасных случайностей.
— Естественно, — сухо сказал Аррен, уязвленный и рассерженный. — Я к этому и не стремлюсь.
— Ну и очень хорошо, — невозмутимо и добродушно, хотя и чуточку насмешливо заключил волшебник, слегка охладив пыл своего юного спутника.
Аррен и сам удивился своей вспышке гнева; ему и в голову не приходило, что когда-нибудь он станет таким тоном разговаривать с Верховным Магом. С другой стороны, это вроде бы был и не совсем Верховный Маг, а какой-то торговец Хок: курносый нос, квадратные, плохо выбритые щеки… И голос какой-то странный — то так звучит, то этак; в общем, совсем непонятный человек, на которого и положиться-то нельзя.
— Разве есть какой-нибудь смысл в том, что наболтал этот Харе? — спросил Аррен. Ему ужасно не хотелось снова возвращаться в темную комнату на берегу вонючей речки. — Насчет того, что он и жив, и умер, и может вернуться, даже если ему отрежут голову?
— Не знаю, есть ли в этом смысл. Я хотел поговорить с волшебником, который утратил свое могущество. Он считает, что не утратил его, а отдал в уплату — в обмен. На что? Жизнь на жизнь, так он сказал. Могущество на могущество. Нет, я его не понимаю, но послушать его стоит.
Спокойная рассудительность Ястреба пробудила в душе Аррена стыд за самого себя. Ведь он вел себя капризно и нетерпеливо, как малый ребенок. Харе сначала заинтересовал его, но теперь, когда интерес к нему почти пропал, Аррен чувствовал лишь какое-то липкое отвращение, словно съел какую-то гадость. Он решил больше не заговаривать на эту тему, пока не возьмет себя в руки. И тут неожиданно поскользнулся на сбитых скользких ступенях и, чтобы не скатиться вниз, ухватился за камни руками.
— Да будь он проклят, этот вонючий город! — гневно воскликнул он.
И Верховный Маг ответил ему сухо:
— По-моему, это уже случилось.
И правда, в Хорте было неладно. Что-то дурное, болезненное чувствовалось даже в самом его воздухе, так что всерьез можно было предположить, что на городе лежит проклятье. Причем Хорт не то чтобы приобрел какое-то новое отвратительное качество, а скорее утратил что-то важное и ослабел, как от болезни, как от таинственной заразы, что проникает в душу каждого, кто сюда попадает. Даже тепло весеннего полуденного солнца было каким-то нездоровым — слишком сильной для марта была эта жара. Жизнь и суета кипели на площадях и улицах города, но в нем не чувствовалось ни порядка, ни процветания. Выбор товаров был беден, цены высоки, а рынки небезопасны как для продавцов, так и для покупателей: они прямо-таки кишели разнокалиберными ворами и бандитами. Женщины на улицах встречались редко, да и то больше группками. В городе как бы не существовало ни законов, ни правительства. Из бесед с самыми разными людьми Аррен и Ястреб скоро поняли, что здесь больше не существует ни городского совета, ни мэра. Одни представители прежних властей умерли, другие подали в отставку, кое-кого убили; город поделили между собой главари различных банд; портовая стража набивала себе карманы, терроризируя прибывающие в Хорт суда. В городе не осталось не только центральной власти, но — во всяком случае, так казалось — и самого центра, средоточия культурной и торговой жизни. И люди в нем, несмотря на неугомонную деятельность, суетились как-то бессмысленно. Ремесленники, похоже, совсем утратили желание работать как следует, и даже воры воровали только потому, что это было единственное, чему они были обучены. Все кипение жизни и яркая пестрота огромного портового города оказались как бы поверхностной пленкой, и стоило лишь приподнять ее за краешек, как становились видны многочисленные пожиратели хазии, неподвижно сидящие вдоль улиц. Да и самая обычная, будничная жизнь тоже казалась ненастоящей — даже сами лица людей, даже звуки, даже запахи. Все это как бы исчезало порой — за тот долгий жаркий день, пока Ястреб и Аррен слонялись по городу, беседуя с его жителями; это случалось несколько раз: пропадали и краски, и звуки, исчезали полосатые маркизы, грязные прилавки, разноцветные стены, вся пестрота и живость портовой суеты как бы растворялась в невидимой дымке, и город превращался в призрак, в сон, пустой и ужасный в солнечном мареве.
Только ближе к вечеру, когда они забрались на самую вершину одного из холмов, чтобы передохнуть, этот мертвящий сон-кошмар отпустил их.
— В этом городе не будет удачи, — сказал Ястреб еще несколько часов назад, и теперь после долгих и бесплодных блужданий и разговоров с незнакомыми людьми он выглядел усталым и мрачным. Даже волшебная маска его как бы истончилась, и под внешностью грубовато-добродушного морского торговца стало проглядывать суровое темнокожее лицо совсем другого человека. Аррен так и не смог избавиться от раздражения, охватившего его еще утром. И сердито плюхнулся рядом с Ястребом на жесткую короткую траву на опушке небольшой рощицы. Деревья с темно-зелеными листьями были густо усыпаны бутонами красных цветов; некоторые цветы уже распустились. Отсюда видны были лишь черепичные крыши города, которые, громоздясь друг над другом, неровными ступенями спускались к морю. Широко раскинувшийся залив слабо голубел под весенним, подернутым дымкой небом, на горизонте сливаясь с ним. Все вокруг было расплывчатым, нечетким. Они сидели и смотрели на этот необъятный голубой простор. И душа Аррена постепенно как бы очистилась и вновь открылась навстречу окружающему миру, готовая славить его красоту.
Чуть поодаль они напились из небольшого ручейка; чистая родниковая вода струилась по коричневым валунам, сбегая сверху из чьего-то богатого сада. Аррен пил долгими глотками, потом сунул голову прямо под холодные струи. Наконец, утолив жажду, он выпрямился и продекламировал несколько строк из «Подвига Морреда»:
Восславьтесь, фонтаны Шелитха,
Вы, арфы серебряной струны.
Но именем я заклинаю:
Пусть славится вечно источник,
Что жажду мою утолил!..
Ястреб чуть посмеялся над ним, и самому Аррену тоже вдруг стало смешно. Он встряхнул головой, как собака, и брызги воды ярко вспыхнули в последних золотых лучах заходящего солнца.
Однако пора было уходить, покинуть этот благословенный уголок и снова спускаться на улицы города. Когда они поужинали в мерзкой забегаловке жаренными в сале пирожками с рыбой, в воздухе уже сгущалась ночная тьма, быстро заполняя узкие улочки.
— Нам, пожалуй, надо идти, парень, — сказал Ястреб, и Аррен с надеждой спросил:
— К лодке?
Хотя знал, что вовсе не к лодке, а к тому дому над грязной рекой, в ту пустую, вонючую, отвратительную комнатенку.
Харе ждал их у входа.
Он зажег масляную лампу, чтобы осветить им путь, пока они поднимались по темной лестнице. Слабенькое пламя мигало и колебалось, и на стенах плясали огромные, быстро исчезающие тени.
Харе успел даже где-то раздобыть охапку соломы, чтобы гостям было на что сесть, однако Аррен все-таки уселся на голом полу возле двери. Дверь открывалась вовне, так что в принципе ему как сторожу лучше было бы усесться снаружи; но остаться на темной — хоть глаз выколи — лестничной площадке было выше его сил, а кроме того, ему хотелось заодно присматривать и за Харе. Внимание Ястреба, а также, возможно, и его силы будут отвлечены тем, что Харе расскажет или покажет ему; поэтому именно Аррену предстояло позаботиться о безопасности и вовремя распознать любой подвох.
Теперь Харе держался спокойнее и меньше дрожал; он вычистил зубы, умылся и поначалу разговаривал вполне здраво, хотя и возбужденно. Его глаза при свете лампы казались абсолютно темными и непроницаемыми, как у дикого зверя; белки почти не были видны. Он на полном серьезе уговаривал Ястреба непременно пожевать хазии.
— Я хочу взять тебя… взять тебя с собой. Мы должны пойти одним и тем же путем. И скоро я уже уйду, и неважно, готов ли ты. Так что хазия тебе надобна, если хочешь успеть за мной.
— Я думаю, что смогу пойти с тобой и без хазии.
— Только не туда, куда я сейчас направляюсь. Это… не сделаешь с помощью заклятья. — Казалось, он не в состоянии произнести слово «волшебник» или «волшебство». — Я знаю, что ты можешь попасть в… в то… место, ты знаешь, за стеной… Но это не там. В то место ведет другая дорога.
— Если ты пойдешь первым, я смогу последовать за тобой.
Харе покачал головой. Его когда-то красивое лицо, теперь изъеденное хазией и временем, покраснело; он часто через плечо посматривал на Аррена, как бы включая его в общий разговор, хотя обращался только к Ястребу.
— Смотри: существуют ведь два типа людей, разве не так? Такие, как мы, и все остальные. Или… драконы и все остальные. Люди, не обладающие могуществом, живут только наполовину. Их вообще можно не принимать в расчет. Они не понимают того, что им снится, они боятся темноты. Но другие, повелители людей, не боятся посещать владения тьмы. У нас есть для этого сила.
— До тех пор, пока мы помним подлинные имена вещей.
— Но имена не значат там ничего — вот ведь в чем самое главное, вот в чем! Дело вовсе не в том, что ты делаешь именно то, что тебе нужно, и понимаешь, что именно ты делаешь. Заклятья не помогут. Ты должен все это забыть, выбросить из головы. Тут-то и помогает хазия: ты забываешь имена вещей, предметы утрачивают для тебя свою форму, и ты попадаешь прямо в тот мир. Я намерен отправиться туда очень скоро, с минуты на минуту, так что если хочешь узнать путь, делай так, как я говорю. А я говорю, как Он. Ты должен властвовать над людьми, чтобы получить власть над жизнью. Ты должен решить загадку. Я мог бы назвать тебе имя… название… но что такое имя? Имя вообще нереально, не настолько реально, не навсегда… Драконы туда пойти не могут. Драконы смертны. И все тоже смертны. Я сегодня принял так много хазии, что тебе меня не догнать. Впрочем, это ерунда. Там, где я собьюсь с пути, меня поведешь ты. Помнишь, в чем секрет? Помнишь? Смерти нет. Нет смерти, нет! Нет потной постели и разваливающегося гроба, и не будет никогда. Никогда! И кровь высыхает, словно река, и исчезает. Нет страха. Нет смерти. Все имена исчезли, исчезли все слова, исчез страх. Покажи мне такое место, где я мог бы заблудиться, покажи мне, господин мой…
И этот задыхающийся горячечный бред все продолжался и продолжался; Харе словно распевал слова заклинания, только это было не заклинание, а нечто невнятное, лишенное смысла. Аррен слушал, вслушивался, изо всех сил старался понять. Ах, если бы только он мог понять! Ястребу придется поступить так, как говорит Харе, и на этот раз принять зелье, чтобы последовать за ним и выяснить, что это за тайна, о которой он не желает или не может сказать. Иначе зачем еще они здесь? Но тут Аррен перевел взгляд с искаженного дурманом лица Харе на профиль волшебника и понял, что тот, возможно, уже догадался, о какой тайне идет речь… Профиль его был тверд, словно выточенный из камня. Куда девался бесформенный курносый нос и добродушно-глуповатый вид? Торговец Хок исчез. На полу сидел великий волшебник, Верховный Маг Земноморья.
Голос Харе превратился в едва слышное бормотание; он сидел, скрестив ноги, и раскачивался. Лицо его выглядело совсем измученным, губы вяло обвисли. Сидя лицом к нему в слабом ровном свете масляной лампы, стоявшей на полу между ними, волшебник не произнес ни слова, просто взял Харе за руку и крепко держал ее в своих руках. Аррен даже не заметил, когда это произошло. В последовательности событий были как бы некие провалы, провалы в небытие, какие-то временн
ые пустоты. Прошло, по крайней мере, несколько часов, теперь скорее всего уже за полночь. А если он, Аррен, уснет, то не сможет ли и он последовать за Харе в тот его сон? И попасть в неведомое место по таинственному пути? А вдруг может? Теперь это казалось ему вполне возможным. Но он обязан охранять вход. Они с Ястребом почти не говорили об этом, но оба прекрасно понимали, что, заставив их вернуться сюда ночью, Харе явно задумал заманить их в западню: он ведь и сам когда-то был разбойником. Так что Аррен чувствовал, что обязан быть на страже, ибо пока душа волшебника совершает свое загадочное путешествие, тело его совершенно беззащитно. Надо было быть последним дураком, чтобы оставить свой меч в лодке! Какой прок от его ножа, если дверь вдруг распахнется у него за спиной? Нет, он приготовится заранее: он будет очень внимательно слушать и непременно услышит любые шаги. Харе совсем умолк, оба они теперь погрузились в молчание, и весь дом был объят тишиной. В такой тишине никто не сможет подняться по шаткой скрипучей лестнице совершенно бесшумно. Аррен ведь может и на помощь позвать, если услышит какой-то подозрительный шум; он громко закричит, и тогда транс прервется. Ястреб вернется в этот мир и защитит себя и его, ударит волшебной молнией во врага… Когда Аррен садился у двери, Ястреб посмотрел на него; один лишь взгляд — но в нем было и одобрение, и доверие. И вот Аррен на страже. И никакая опасность не угрожает Ястребу, пока он на страже. Но так трудно, ужасно утомительно все время видеть лишь эти два застывших лица да крошечный жемчужный огонек лампы между ними на полу. Волшебник и Харе сидели совершенно неподвижно, в полном молчании, глаза их были открыты, но ничего не видели — ни тусклого света, ни грязной комнаты, ни этого мира. Перед ними был сейчас какой-то совсем иной мир — то ли страна снов, то ли царство смерти… Трудно было только смотреть на них и не попытаться пойти следом…
Там, в бескрайней темной пустыне, стоял некто и звал его, Аррена. «Иди», — говорил он, этот высокий повелитель теней, и в руке его горел крошечный огонек, не больше жемчужины, и он протягивал огонек Аррену, предлагая ему жизнь. Аррен медленно сделал один шаг и пошел к нему.
Глава 4
Волшебный огонь
Рот у него совершенно пересох. В нем чувствовался вкус пыли. Губы были покрыты грязной коркой.
Не поднимая головы, он следил за игрой теней на полу. Тени были большие, они двигались и останавливались, раздувались и съеживались, а более мелкие и слабые метались по стенам вокруг и по потолку, словно передразнивая большие. Одна из теней застыла в углу, другая неподвижно лежала на полу. Обе ни разу не пошевелились.
В затылке возникла острая боль. И сразу, как бы озаренное внезапной вспышкой, в мозгу пронеслось воспоминание: Харе, скрючившийся в углу; Ястреб, распростертый на полу, и человек, склонившийся над ним; другой человек собирал золотые монеты, а третий стоял на страже. У этого третьего в руках была лампа и кинжал — кинжал Аррена.
Если они и говорили что-то, то он их не слушал. Он слушал лишь собственные мысли, которые сразу и весьма решительно подсказали ему, как поступить. Он тут же послушался. Очень медленно прополз вперед шага на два, дотянулся левой рукой до мешка с награбленным, потом вскочил на ноги и с диким воплем ссыпался вниз по шатким ступеням, ни разу даже не оступившись в кромешной тьме, даже не чувствуя лестницы под ногами, словно не бежал, а летел по воздуху. Вырвался на улицу, что было сил рванулся вперед и исчез в ночи.
Дома темными громадами высились на фоне неба. Звездный свет слабо поблескивал на речной воде справа от него, и хотя он не мог разобрать, куда ведут улицы, но вполне различал перекрестки, сворачивал там и путал след. Они упорно преследовали его; он слышал их сзади, даже довольно близко. Они были босиком, так что их тяжелое дыхание он слышал более отчетливо, чем шаги. Он бы, пожалуй, засмеялся, только времени не было. Теперь он наконец узнал, каково это — быть загнанной жертвой, а не охотником во главе забавляющейся оравы. Чтобы уйти, нужно было остаться в одиночестве и на свободе. Он резко свернул вправо и, чуть помедлив, перемахнул через бортик очередного моста, потом скользнул на боковую улочку, за угол, назад к реке и какое-то время бежал вдоль берега, а потом по следующему мосту перебрался на другой берег. Башмаки его громко стучали по мостовой — единственный звук во всем спящем городе; он немного задержался на мосту, пытаясь расшнуровать и снять ботинки, но шнурки затянулись в узел, а преследователи по-прежнему шли по пятам. Фонарь на мгновение мелькнул на противоположном берегу, и тихие тяжелые шаги бандитов снова стали приближаться. Он не мог совсем оторваться от них, он мог лишь бежать все дальше и дальше, заставляя их догонять себя, уводя их подальше от той пыльной комнаты, уводя их от нее далеко-далеко… Они успели снять с него куртку, ремень вместе с кинжалом, и он остался в одной рубашке, ему было легко и жарко, голова кружилась, и боль в затылке резко вспыхивала при каждом шаге, но он бежал, бежал, бежал… Тяжелый мешок мешал ему. Он резко отшвырнул его в сторону: один золотой с чистым звоном покатился по камням мостовой. «Вот ваши деньги!» — крикнул он хрипло, задыхаясь. И побежал дальше. И тут вдруг улица кончилась. Не было ни перекрестка, ни звезд впереди — глухой тупик. Не останавливаясь, он развернулся и помчался прямо на своих преследователей. Фонарь у него перед глазами метался как бешеный, и Аррен что-то вызывающе орал, когда столкнулся с ними лицом к лицу.
Перед ним туда-сюда качался фонарь, слабое пятно света в огромном море шевелящейся серости. Он долго смотрел на него. Потом свет стал слабеть: чья-то тень закрыла его, а когда тень исчезла, фонарь больше уже не горел. Ему было немного жаль, что фонарь потух; а может быть, жаль самого себя, потому что теперь пора было просыпаться.
Фонарь, уже потушенный, по-прежнему свисал с мачты. Вокруг был только океан, освещенный восходящим солнцем. Бил барабан. В такт ему тяжело скрипели весла; деревянная обшивка судна плакала и стонала на тысячу ладов; какой-то человек на носу, обернувшись, отдал приказание матросам. Все те, кто был скован одной цепью с Арреном, молчали. У каждого железный обруч на талии и наручники на запястьях были с помощью короткой тяжелой цепи соединены с оковами соседа; железный пояс к тому же был дополнительно прикреплен цепью к скобе в палубе, так что можно было только сидеть или лежать скрючившись, но не стоять. Впрочем, они сидели так тесно, что лечь тоже было невозможно. Небольшой трюм судна был прямо-таки забит рабами. Аррен оказался в переднем углу, у самого выхода. Если он чуть выше приподнимал голову, то видел поручни, трап и край палубы шага в два шириной.
Он не слишком
хорошо помнил, что произошло прошлой ночью после погони и ее бесславного конца в уличном тупике. Он дрался, его сбили с ног, превратили в отбивную, а потом куда-то долго тащили. Он запомнил голос одного из бандитов, вернее, какой-то странный шепот. Потом они оказались в помещении, напоминавшем маленькую кузницу, в горне ярко горел огонь… Вот, пожалуй, и все, что он мог вспомнить. Однако понимал, что находится на рабовладельческом судне, что его везут на продажу.
Ему, в общем-то, было все равно. Слишком мучила жажда. Все тело болело, а голова просто раскалывалась. Когда взошло солнце, яркие лучи, словно стрелы, вонзились ему в глаза, причиняя нестерпимую боль.
Где-то ближе к полудню им дали по куску хлеба и напиться — по одному глотку из огромного кожаного бурдюка, который по очереди подносил к их губам человек с тяжелым резким лицом. Шея его была перехвачена широким позолоченным ремнем, напоминавшим собачий ошейник, и когда Аррен услышал, как он говорит, то узнал странный шепчущий голос ночного налетчика.
Питье и еда принесли некоторое облегчение; в голове прояснилось. Аррен впервые осмотрелся, разглядел лица своих товарищей по несчастью — троих в его ряду, четверых сзади. Они большей частью сидели, положив голову на согнутые колени; один совсем скрючился: то ли был болен, то ли наелся хазии. Ближайший сосед Аррена оказался парнем лет двадцати с широким плоским лицом.
— Куда они везут нас? — спросил его Аррен.
Парень посмотрел на него — лица их почти соприкасались — и ухмыльнулся, пожав плечами. Аррен подумал, что он, наверно, тоже этого не знает, но парень качнул скованной рукой, как бы подзывая поближе, и, разинув все еще ухмыляющийся рот, показал туда, где должен был быть язык: там зияла пустота и виден был только черный корень.
— Наверно, в Шоул, — сказал один из пленников позади Аррена, а другой подхватил:
— Или на рынок в Амруне.
И тут же вездесущий человек в ошейнике свесился в трюм и прошипел:
— А ну тихо, не то акулам на обед пойдете!
И все тут же умолкли.
Аррен попытался вообразить себе эти города — Шоул, Амрун. Там на рынках продают и покупают рабов. Их, наверно, выстраивают перед покупателями, как волов или баранов у них в Бериле. И он тоже будет стоять там, закованный в цепи. Кто-то купит его, отведет к себе домой, ему будут отдавать приказания, и он, конечно, откажется подчиняться. Или подчинится, но попытается бежать. И тогда его убьют. Убьют, впрочем, в любом случае. И даже не то чтобы он всем сердцем заранее возмущался при мысли о предстоящем рабстве — нет, он был для этого слишком слаб и растерян; просто он знал, что не сможет быть рабом, а потому в течение одной-двух недель все равно умрет или будет убит. Он воспринимал это как реальность, и все-таки ему стало страшно, так страшно, что он решил больше не думать о будущем. И уставился в пол, разглядывая черные подгнившие доски; а жаркие солнечные лучи жгли его обнаженные плечи, и нестерпимая жажда иссушала рот и горло.
Село солнце. Спустилась ночь, ясная и холодная. С небес смотрели пронзительные глаза звезд. Стоял полный штиль, и барабанный бой, словно медленные удары сердца, задавал ритм гребцам. Ночью страшнее всего оказался холод. Лишь спине Аррена доставалось чуточку тепла из-за уткнувшихся в нее ног соседа сзади, а левому боку — от немого парня, который сидел сгорбившись и мычал на одной ноте какую-то странную мелодию. Сменились команды гребцов, снова начал бить барабан. Аррен мечтал о темноте, но уснуть никак не мог: все тело болело, а сменить позу было невозможно. Он сидел, страдая от боли и дрожа от холода, с опухшей пересохшей глоткой, уставившись на звезды, что покачивались на небе в такт усилиям гребцов, на мгновение замирали, и снова начинали покачиваться, и снова замирали…
Возле трюма у мачты остановились двое — человек в ошейнике и еще кто-то; маленький фонарь, висевший над ними, отбрасывал на палубу их тени.
— Туман, будь он неладен! — послышался ненавистный свистящий шепот человека в ошейнике. — Откуда, скажи мне, туман в Южном Пределе в такое время года? Ах, чертово невезенье!
Барабан продолжал отбивать ритм. Звезды покачивались, скользили, останавливались. Рядом с Арреном человек с вырванным языком вдруг резко вздрогнул и, подняв голову, испустил леденящий душу нутряной вопль: ему, видно, приснилось нечто ужасное.
— Эй, тихо там! — проревел второй человек из тех, что стояли у мачты.
Немой еще раз вздрогнул и затих, только жевал во сне деснами. Звезды, как бы украдкой, соскользнули с небес вперед, в пустоту. Мачта странно заколебалась и скрылась из виду. На спину Аррену, казалось, уронили ледяное серое одеяло. Барабанщик сбился, потом восстановил ритм, но более медленный.
— Плотный, как пахта! — сказал кто-то грубым голосом прямо над головой Аррена. — Эй, там, гребите как следует! Здесь никаких мелей нет! — Мозолистая, покрытая шрамами нога появилась из тумана, какое-то время повисела в воздухе перед носом у Аррена и исчезла.
В таком тумане двигаться вперед не имело смысла, надо было только удерживаться на месте, едва шевеля веслами. Рыдания барабана чуть стихли. Было сыро, промозгло. Влага от оседавшего на волосах Аррена тумана стекала ему в глаза; он пытался поймать капли языком, разинутым ртом хватая влажный воздух и стараясь хоть как-то утолить нестерпимую жажду. Зубы у него стучали от холода. Ледяная цепь касалась бедра, обжигая, как огонь. Барабан тихо бормотал, пока не смолк совсем.
— Эй, барабанщик! В чем дело? — просвистел в наступившей тишине знакомый сиплый шепот. Ответа не последовало.
Судно слегка покачивалось на спокойной воде. За едва различимыми перилами трапа не было видно ничего: пустота. Что-то стукнулось в темноте о борт корабля. В мертвой тишине стук этот показался довольно громким.
— На мель сели, — сказал кто-то из пленников шепотом, и шепот его растворился в тумане.
Потом туман вдруг начал светиться, словно где-то внутри его расцветал невиданный яркий цветок. Теперь Аррен отчетливо различал головы скованных с ним одной цепью людей и даже мелкие капельки влаги, осевшие на их волосах. Снова судно качнулось, и он настолько, насколько позволяли оковы, вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит на палубе. Туман светился над судном, как полная луна, чуть прикрытая легким облачком. Свет был такой же — холодный и ясный. Гребцы застыли, как каменные изваяния. Члены команды собрались на корме, чуть поблескивая глазами. У левого борта в полном одиночестве стоял человек, от которого исходило это загадочное свечение — светились его руки, лицо, а посох сверкал, словно расплавленное серебро.
У ног светящегося человека скрючилась какая-то странная темная фигура.
Аррен попытался заговорить и не смог. Окутанный великолепием света, Верховный Маг подошел к нему и опустился на колени. Аррен ощутил прикосновение его рук, услышал его голос, почувствовал, как пали оковы. По всему трюму слышался звон падающих цепей. Но ни один человек не двинулся с места; Аррен хотел было встать и не смог: он совершенно закоченел, руки и ноги одеревенели и отказывались слушаться. Верховный Маг крепко сжал его руку, и, чувствуя эту помощь, Аррен кое-как выполз из трюма и рухнул на палубу.
Верховный Маг отошел чуть в сторону; туманное великолепие света коснулось лиц неподвижных гребцов. Он остановился возле той черной фигуры, что скрючилась у самого входа в трюм.
— Я никогда никого не наказываю, — тяжело прозвучал его ясный и холодный голос, похожий на этот волшебный светящийся туман. — Но во имя справедливости, Эгре, я возьму на себя этот грех: да будет язык твой нем, пока ты не отыщешь такое слово, которое стоило бы произнести вслух!
Волшебник повернулся к Аррену и помог ему встать на ноги.
— Пойдем-ка, сынок, — сказал он, и Аррен с его помощью как-то двинулся вперед и полупрополз-полуперевалился в лодку, что покачивалась на воде у борта корабля: это была их «Зоркая», и парус ее белел в тумане, как крыло бабочки.
По-прежнему стояла полная тишина и безветрие; свет погас, лодка повернулась и скользнула в сторону. Почти сразу же сама галера, неяркий фонарь на ее мачте, неподвижные гребцы, высокий темный борт скрылись из виду. Аррену показалось, что он слышит позади крики, но звуки были настолько слабыми, что вскоре потонули во тьме. Чуть позже туман начал рассеиваться, расползаться. Его разносил ночной ветерок. Над ними вновь было чистое ночное небо, а «Зоркая» бесшумно, словно летящая бабочка, понесла их по морю под ясными звездами.
Ястреб укутал Аррена в одеяла, дал ему воды и сел рядом, положив руку на плечо юноши; и тут вдруг Аррену страшно захотелось плакать. Волшебник не говорил ни слова, но такая нежность и спокойствие исходили от него, таким теплым было прикосновение его руки, что постепенно Аррена охватил покой. Ему было тепло, лодка мягко покачивалась, на сердце становилось легче.
Он взглянул вверх, на своего спутника. Его темнокожее лицо больше не светилось неземным светом и на фоне звездного неба было едва различимо.
Лодка плыла и плыла, гонимая волшебным ветром. Волны, словно чем-то удивленные, перешептывались у ее бортов.
— Кто этот человек в ошейнике?
— Лежи спокойно. Морской разбойник, Эгре. Он носит этот ремень, чтобы скрыть шрам на глотке, которую ему однажды перерезали. Похоже, он пал так низко, что из пирата превратился в работорговца. Но на этот раз он остался в дураках. — В спокойном суховатом голосе послышались удовлетворенные нотки.
— Как ты нашел меня?
— Волшебство, еще кое-что… Я слишком много потерял времени. Мне не хотелось, чтобы все видели, как Верховный Маг и Хранитель острова Рок таскается по трущобам Хорта. И я все еще жалею, что не удалось до конца сохранить то мое обличье. Мне пришлось сначала выследить одного, потом другого, и когда, наконец, я обнаружил, что корабль работорговцев отплыл еще до рассвета, то попросту вышел из себя. Взял «Зоркую», поднял ветер, поскольку стоял полный штиль, и покрепче замкнул весла всех судов в заливе — ненадолго! Пусть-ка теперь попробуют объяснить, что с ними произошло, если все волшебство, с их точки зрения, сплошная ложь! Но я был зол и слишком спешил, а потому проскочил мимо корабля Эгре, который двигался не прямо на юг, а чуть восточнее обычного курса — чтобы обойти отмели. Все, что делал я в тот день, получалось отвратительно. Нет в городе Хорте удачи… Ну ладно, в конце концов я сотворил заклятье, помогающее найти утерянное, и в темноте настиг судно Эгре. Может, все-таки теперь поспишь?
— Нет, мне хорошо, я и чувствую себя куда лучше! — Озноб у Аррена сменился легким жаром, и он действительно почувствовал себя значительно лучше; несмотря на общую слабость, голова работала хорошо, мысли легко перескакивали с одного предмета на другой. — А как ты очнулся ото сна? И что случилось с Харе?
— Меня разбудил утренний свет; и, к счастью, — всего лишь с тяжелой головой: у меня за ухом здоровенная опухоль длиной с огурец и приличная дырка. Харе по-прежнему был в забытьи.
— Я плохо стерег…
— Но не потому, что уснул.
— Нет, — Аррен колебался, — я был… это было…
— Ты был там впереди меня; я тебя видел, — сказал Ястреб странным тоном. — Именно поэтому им и удалось застать нас врасплох и порубить, словно ягнят на бойне, да еще золото прихватить, одежду и раба, за которого можно было взять высокую цену. Это они за тобой охотились, парень. За тебя на рынке рабов в Амруне можно получить столько, сколько стоит хорошая ферма.
— Они не очень сильно стукнули меня. Я успел очнуться. Уж они у меня побегали! Я рассыпал украденное ими золото по всей улице, прежде чем они загнали меня в угол. — Глаза у Аррена сверкали.
— Так ты очнулся еще там… и побежал? Но почему?
— Чтобы увести их от тебя. — Изумленный тон Ястреба больно задел его, и он сердито добавил: — Я думал, они охотятся за тобой. Боялся, что тебя могут убить. Я сперва дотянулся до мешка с награбленным, а потом заорал изо всех сил, чтобы они заметили, и бросился бежать. И они, конечно, вдогонку.
— О да… еще бы им не побежать! — Вот и все, что сказал в ответ Ястреб. Ни словечка похвалы. Впрочем, некоторое время волшебник сидел, задумавшись, а потом вдруг спросил: — А тебе не приходило в голову, что я, возможно, был в тот момент уже мертв?
— Нет.
— Сначала убей, потом ограбь — так ведь безопаснее.
— Я об этом не думал. Я думал только о том, как увести их от тебя.
— Почему?
— Потому что ты, наверно, смог бы защитить нас, вытащить нас обоих из этой истории, если бы успел прийти в себя. Или, по крайней мере, сам бы смог как-нибудь выпутаться из этого. Я стоял на страже и недоглядел. Вот и надо было исправить свою оплошность. Ведь это тебя я охранял, сидя у двери. И во всем этом деле ты главный, а я — всего лишь подручный; я нужен, например, для того, чтобы стоять на страже или для чего-нибудь еще в этом роде — в общем, что ты прикажешь; в конце концов, именно ты поведешь нас к цели, именно ты сможешь попасть туда, куда мы должны попасть — где бы это место ни находилось, — и только ты сможешь исправить то, что было нарушено.
— Да? — спросил волшебник. — Впрочем, и я так думал до прошлой ночи. Я считал, что у меня есть послушный спутник, который пойдет за мной куда угодно. Однако это я последовал за тобой, сынок. — Голос его звучал холодно и, пожалуй, чуть иронично. Аррен не знал, что сказать. Он совсем растерялся. Он полагал, что его оплошность — то, что на посту он то ли заснул, то ли впал в какой-то транс, — вряд ли можно искупить отчаянной попыткой отвести разбойников от Верховного Мага, едва не стоившей ему, Аррену, жизни. Однако теперь оказывалось, что попытка эта как раз и была глупостью, тогда как впадание в транс в самый неподходящий момент оказалось на удивление мудрым.
— Прости меня, господин мой, — сказал он наконец непослушными губами, снова с трудом сдерживая слезы, — прости, что я подвел тебя. А ты еще спас мне жизнь…
— А ты, возможно, мне! — резко возразил волшебник. — Кто знает? Они вполне могли бы перерезать мне горло, если бы… И давай больше не говорить об этом, Аррен. Я рад, что ты снова со мной.
Он вытащил из рундука маленькую походную жаровню, раздул угли и стал что-то готовить. Аррен лежал и смотрел на звезды, постепенно успокаиваясь. Мысли переставали метаться как бешеные. И понемногу он начал понимать, что сделанное им или, наоборот, несделанное не получит никакого осуждения. Он что-то сделал, и Ястреб принял это как свершившийся факт. «Я никого никогда не наказываю», — холодно бросил он этому Эгре. Он ни кого и не награждал. Но бросился что было мочи вдогонку за Арреном по ночному морю, отдав ради него всю силу своего волшебства; и снова поступит так, если понадобится. Он из тех, на кого можно положиться всегда, из тех, от кого зависит твоя жизнь.
И он стоил той великой любви, которую испытывал к нему Аррен, и великой его веры. И прежде всего именно потому, что сам доверял Аррену полностью. То, что делал Аррен, и для него было правильным.
Ястреб повернулся к юноше, протягивая кружку исходящего паром горячего вина.
— Может быть, это поможет тебе уснуть. Смотри, язык не обожги.
— А откуда взялось вино? Я что-то не видел на борту бурдюка с ним…
— На «Зоркой» куда больше всего, чем кажется на первый взгляд, — сказал волшебник, присаживаясь рядом, и Аррен услышал в темноте его короткий и почти беззвучный смешок.
Он сел и стал пить вино. Оно было очень вкусным и пробуждало силы в душе и теле.
— А куда мы плывем теперь? — спросил минуту спустя Аррен.
— На запад.
— А куда ты ходил с Харе?
— Во тьму. Я не терял его из виду, но он сам заблудился. Он скитался по внешним границам в бесконечной путанице полубреда-полукошмара. Душа его плакала, словно птица, в тех ужасных местах: так далеко в море кричат чайки. Он нас никуда привести не может. Он утратил путь навсегда. Ибо, каково бы ни было когда-то его волшебное мастерство, пути перед собой он никогда не видел; он видел лишь самого себя.
Аррен не все понял из сказанного, но ему и не хотелось понимать все. Особенно теперь. Он и сам немножко зашел в эту «тьму», про которую говорил волшебник, и ему не хотелось об этом вспоминать; она не имела к нему никакого отношения. Он ведь действительно тогда не хотел спать, пока «тьма» не привиделась ему словно во сне, пока высокий человек, похожий на тень, державший в руках светящуюся жемчужину, не начал шепотом звать его: «Пойдем».
— Господин мой, — сказал Аррен, стараясь побыстрее избавиться от этих воспоминаний, — скажи…
— Спи! — ответил ему Ястреб мягко, но настойчиво.
— Я не могу спать, господин мой. Мне хотелось бы знать, почему ты не освободил остальных рабов?
— Освободил. Я никого не оставил прикованным к этому судну.
— Но люди Эгре вооружены! Вот если бы ты их связал…
— Ах так! Если бы я их связал? Их всего-то там было шестеро. Гребцы были такими же, как ты, рабами, закованными в кандалы. Эгре и его команда теперь, наверно, уже мертвы или сами закованы в цепи и будут проданы в рабство; но я предоставил им возможность драться или заключить сделку. Я пленных не беру.
— Но ты же знаешь, сколько зла они совершили…
— Что же, и мне в таком случае следовало им уподобиться? Последовать их дурному примеру? Я не стану решать за них, что им делать, но не позволю никому, и им тоже, решать это за меня.
Аррен молчал: эти слова в очередной раз поставили его в тупик. Волшебник вскоре заговорил вновь, и голос его звучал мягче:
— Видишь ли, Аррен, наши поступки вовсе не похожи — как полагает большинство молодых людей — на камень, который можно поднять с земли, бросить, и он либо попадет в цель, либо пролетит мимо. На чем его полет и закончится. Когда камень поднимают, земля становится чуть легче, рука же, что держит его, тяжелее. Брошенный кем-то камень изменяет траектории звезд, и в зависимости от того, попадет ли он в цель или пролетит мимо, соответственно изменяется Вселенная. От каждого нашего действия зависит равновесие всего сущего. Ветры и моря, сила воды, сила земли и сила света, как и все, что творят эти силы, и все, для чего существуют звери и растения, все это задумано хорошо и правильно. И все эти силы действуют как бы внутри Мирозданья, все они связаны Великим Равновесием. Ураганы и фонтаны воды, которые выбрасывает плывущий кашалот, падение на землю сухого листа и полет мухи — все это тесно связано с равновесием целого мира. И постольку поскольку нам дана сила повелевать миром и друг другом, мы непременно должны научиться поступать так, как в соответствии со своей природой поступают сухой листок, кит и ветер. Мы должны научиться хранить Равновесие. Обладая разумом, мы не должны совершать неразумных поступков. Обладая выбором, мы не должны поступать безответственно. Кто я такой — хотя и обладаю вполне достаточным могуществом, — чтобы кого-то наказывать или награждать, играя судьбами людей?
— Но тогда, — сказал юноша, по-прежнему глядя на звезды, — может быть, Равновесие лучше всего сохранить, не делая ничего? Конечно же, человек должен действовать, даже не зная всех последствий своих поступков! Если вообще в этом мире что-то должно быть сделано.
— Не беспокойся об этом. Человеку значительно легче совершить поступок, чем от него удержаться. Мы будем по-прежнему совершать добрые и злые деяния… Но если бы нами всеми снова правил истинный король, который искал бы совета у магов — как то случалось в давние времена, — и я был бы тем магом, то я сказал бы ему: «Господин мой, не делай ничего из того, что кажется тебе правильным, заслуживающим похвалы или благородным; ничего не делай из того, что считаешь полезным; делай только то, что ты должен сделать, и то, что ты не можешь сделать никак иначе».
Что-то в голосе волшебника заставило Аррена посмотреть на него. Ему показалось, что снова от лица его исходит сияние; он увидел ястребиный нос, покрытую шрамами щеку, неукротимый взгляд темных глаз… Аррен смотрел на него с любовью и страхом, думая: «Он слишком высок для меня». Однако пока он в упоении не сводил с волшебника глаз, ему стало ясно, что это вовсе не волшебный огонь, не холодный отсвет великого могущества, которое явственно ощущалось в каждой чеканной черточке этого лица, но самый настоящий рассвет: наступило утро, принеся обычный свет наступающего дня. И это была куда б
ольшая сила, чем та, которой обладал Верховный Маг. А годы оказались не более добры к нему, чем к любому другому: резкие тени на его лице оказались морщинами, и он все больше выглядел усталым в разгорающемся свете зари. Потом зевнул…
Продолжая смотреть, удивляться и раздумывать надо всем увиденным и услышанным, Аррен наконец уснул. Но Ястреб сидел возле него и смотрел, как занималась заря, как вставало солнце — так порой изучают сокровищницу, чувствуя, что в ней чего-то не хватает; так рассматривают трещину в драгоценном камешке; так смотрит отец на своего заболевшего ребенка.
Глава 5
Морские сны
Ближе к полудню Ястреб велел волшебному ветру улечься, и лодка пошла своим ходом. Природный ветер, что несильно дул в юго-западном направлении, наполнил ее паруса. Справа вдали проплыли холмы южного Уотхорта и растаяли, превратившись в невысокие голубые волны тумана среди настоящих морских волн.
Когда Аррен проснулся, море, точно в корзине из золотистых солнечных лучей, лежало под куполом горячего полуденного неба — безбрежные воды под бесконечно льющимся светом. На корме сидел Ястреб в одной короткой набедренной повязке и каком-то подобии тюрбана из парусины. Он негромко напевал что-то, отбивая ритм ладонью по скамье. Ритм был легкий, хотя и несколько монотонный. Песня его не имела ни малейшего отношения к волшебным заклятиям или сказаниям о героях древности или великих королях; это был всего лишь веселый речитатив, набор всякой чепухи — такую песенку может сочинить любой мальчишка-пастух, лениво присматривая за козами в долгий летний полдень, забравшись высоко в горы Гонта и сидя там в полном одиночестве.
Над поверхностью моря взлетела рыбка и довольно далеко пронеслась по воздуху на жестких дрожащих плавниках, раскрывшихся, словно крылья стрекозы.
— Вот мы и в Южном Пределе, — сказал Ястреб, закончив песню. — Это самая странная часть Земноморья, здесь рыбы летают, а дельфины поют — так, во всяком случае, говорят. Но вода, вообще-то, очень теплая — хорошо бы искупаться, а с акулами отношения у меня вполне добрые. Смой следы грязных рук работорговцев со своего тела, сынок!
У Аррена болела каждая мышца, и он едва двигался. К тому же плавал он плоховато, ибо море близ Энлада очень холодное, так что купание там скорее напоминает сражение, а не удовольствие. В ледяных волнах очень быстро устаешь. Здесь вода была куда более синей, чем в Энладе, и сначала она тоже показалась ему холодной, потом стало хорошо и приятно. Вода как бы вымыла боль из его тела. Он плескался у самого борта «Зоркой», ныряя, как морской змей, и поднимая фонтаны брызг. Ястреб присоединился к нему и плавал, уверенно загребая руками. Послушная и надежная, «Зоркая» ждала их, белокрылая на сверкающей воде. Какая-то рыбка пролетела по воздуху. Аррен погнался за ней. Она нырнула, снова выпрыгнула — то ли плывя в воздухе, то ли летя в воде — позади юноши, как бы догоняя его.
Аррен, гибкий, покрытый золотистым загаром, купался и играл в море и солнечных лучах, пока солнце не спустилось за край моря. Темнокожий сухощавый Ястреб вел себя более сдержанно; он тоже много и с удовольствием плавал, однако успевал и держать лодку по курсу, и ладить навес из парусины, и с неподдельной нежностью смотрел, как плавает его юный спутник наперегонки с летучими рыбками.
— Куда мы плывем теперь? — спросил Аррен уже совсем поздним вечером, после ужина. Когда, от души наевшись солонины и сухарей, он снова начинал погружаться в сладостную дремоту.
— На Лорбанери, — ответил Ястреб, и это мягкое сплетение звуков в совершенно незнакомом слове было последним, что услышал Аррен, погружаясь в сон, так что сны его в ту ночь сначала сплетались вокруг этого «Лорбанери». Ему снилось, что он движется среди волн чего-то мягкого, нежного, окрашенного в светлые тона — это были то ли какие-то хлопья, то ли нити розового, золотого, лазоревого цвета; сам же он был охвачен каким-то глупым счастьем, и кто-то сказал ему: «Это шелковые поля Лорбанери, где никогда не бывает тьмы». Но позже, во вторую половину ночи, когда в весеннем небе почему-то высыпали осенние звезды Южного Предела, ему приснилось, что он попал в какой-то разваливающийся старый дом. В доме было сухо. Все покрывал толстый слой пыли и лохмотья пропылившейся старой паутины. Ноги Аррена запутались в этой паутине, она облепила его всего, забила рот, ноздри, он задыхался. Но самым ужасным было то, что он узнал высокий обветшалый зал: это был тот самый зал, где он когда-то завтракал с Мастерами, и находился он в Большом Доме Школы Волшебников на острове Рок.
Аррен проснулся со смятенным сердцем, пытаясь унять его бешеный стук. Скрюченные ноги затекли. Он сел, стараясь прогнать воспоминания о страшном сне. Заря еще не алела на востоке, но тьма уже понемногу рассеивалась. Мачта поскрипывала, легкий парус, надутый северо-восточным ветром, сверкал белизной и трепетал у него над головой. На носу крепко и неслышно спал его товарищ. Аррен снова лег и задремал; окончательно его разбудил уже яркий свет нового дня.
Море было таким голубым и тихим, что плавание в чистой и теплой воде скорее напоминало скольжение или полет — странный, похожий на сон.
Днем он спросил:
— А к снам волшебники относятся серьезно?
Ястреб ловил рыбу, внимательно следя за лесой. Он долго молчал, потом спросил:
— А что?
— Мне хотелось знать, есть ли в снах хоть доля правды.
— Конечно.
— И они действительно говорят правду о том, что будет?
Но тут у Ястреба стало клевать, и через десять минут, когда он вытащил их будущий обед в лодку — великолепного серебристо-синего окуня, — вопрос Аррена был начисто забыт.
После обеда, когда они нежились под навесом, дающим защиту от нещадно палящего солнца, Аррен спросил:
— А что нам нужно в Лорбанери?
— То, за чем мы вообще пустились в путь, — ответил Ястреб.
— В Энладе, — чуть погодя проговорил Аррен, — есть одна история — о мальчике, чьим учителем был камень.
— Вот как?.. Ну и чему он у него учился?
— Не задавать вопросов.
Ястреб фыркнул, словно подавив приступ смеха, и сел прямо.
— Ну ладно! — сказал он. — Хоть я и предпочитаю не говорить ни о чем, пока не пойму сам, о чем говорю. Почему волшебство больше не действует в городе Хорте, и на острове Нарведен, и, возможно, во всех Пределах? Именно это мы и пытаемся узнать, разве не так?
— Так.
— Знаешь старую поговорку:
в дальних Пределах все правила меняются? Ее очень любят моряки, но придумали волшебники, и она значит, что даже волшебство само по себе зависит от конкретного места. Настоящее заклятие, прекрасно действующее на Роке, может оказаться набором пустых слов на Иффише. Язык Созидания помнят не везде; тут одно слово, там другое. А плетение заклятий само по себе связано с землей и водой, с ветрами и солнечным светом тех мест, где оно родилось. Однажды мне пришлось заплыть так далеко на восток, что ни вода, ни ветер не слушались моих команд, поскольку сами не знали своих подлинных имен. Ибо мир очень велик. Открытое Море простирается дальше всех ведомых человеку Пределов и где-то там, далеко, существуют иные миры. Если представить себе громадное пространство Вселенной и немыслимую протяженность времен, то вряд ли найдется такое слово, которое везде и всегда будет иметь одно и то же значение, свое подлинное значение и свою силу; кроме самого Первого Слова, которое произнес Сегой, создавая все сущее, или Последнего Слова, которое никогда еще не произносилось и не будет произнесено до Всеобщего Разрушения… Так что даже внутри нашего мира, Земноморья, на тех небольших островках, что ведомы нам, существует множество различий, загадок и разнообразных явлений. И наименее известный людям полный тайн Южный Предел. Очень немногие из волшебников с Внутренних Островов бывали в этих краях. Здешние жители не любят волшебников, поскольку обладают — так, во всяком случае, считается — некоей собственной магией. Но слухи об этом неясны, и, возможно, само искусство волшебства никогда и не было здесь достаточно хорошо известно и понято. Если это так, то искусство это легко можно было уничтожить совсем, если кто-то всерьез решил этим заняться; или, по крайней мере, ослабить его было бы куда легче, чем развитое магическое искусство Внутренних Островов. В таком случае вполне объяснимы и разные истории о том, как исчезло волшебство на юге Земноморья. Ибо любая наука или искусство — это как бы построенный людьми канал, в берегах которого все их деяния проистекают мощно и глубоко; там же, где нет такого русла, деяния людские мелки и часто ошибочны, бесцельны. Так и та толстуха с зеркалами, утратив свое волшебное мастерство, думает, что никогда им не обладала. Так и Харе жует свою хазию и думает, что с ее помощью отправляется дальше, чем самые величайшие маги, хотя на самом деле едва добирается до границы, где кончаются сны, и тут же теряет путь… Но в какую же страну, как ему кажется, он попадает? Что именно ищет? Что за сила уничтожила его мудрость и знания? По-моему, мы достаточно видели в Хорте, так что поплывем дальше на юг, в Лорбанери, и посмотрим, как там поживают волшебники, попробуем найти то, что ищем… Ты получил ответ на свои вопросы?
— Да, но…
— Тогда позволь своему «камню» некоторое время помолчать! — сказал волшебник. И уселся спиной к мачте в желтоватой тени навеса и стал смотреть куда-то в море, на запад, а лодка плыла и плыла на юг под полуденным небом. Волшебник просидел, не шелохнувшись, несколько часов. Аррен успел пару раз искупаться, осторожно соскальзывая в воду с кормы — ему не хотелось пересекать линию того мрачного взгляда, каким волшебник упорно смотрел на запад и, казалось, видел куда дальше яркой линии горизонта, дальше голубого купола неба, видел то, что находилось за пределами этого мира света.
Наконец Ястреб прервал свое мрачное молчание и снова стал откликаться на вопросы Аррена; впрочем, отвечал весьма скупо, роняя буквально по одному слову. Должным образом воспитанный, Аррен быстро понял, что отвечает его товарищ лишь из вежливости, а природная сдержанность не позволяет ему показать, как тяжело у него на душе. Юноша умолк и больше не приставал с вопросами, а ближе к вечеру сказал:
— Если я спою, это не помешает тебе думать?
Ястреб в ответ попробовал пошутить:
— Ну, это зависит от качества пения.
Аррен сел, прислонившись спиной к мачте, и запел. Его голос уже не был столь звонким и чистым, как когда-то, несколько лет назад, когда он старательно занимался музыкой дома в Бериле и преподаватель задавал ему тон, перебирая струны арфы; теперь самые высокие ноты он брал чуть хрипловато, зато голос его стал глубже и походил на звук виолы, чистый и печальный. Он пел «Плач о Белом Чародее» — песнь, которую сложила Эльфарран, когда узнала о смерти Морреда и ждала собственной кончины. Песнь эту поют нечасто, и петь ее нелегко. Ястреб слушал, как юный голос, сильный, уверенный и печальный, летел между багровым закатным небом и морем, и внезапно слезы, туманя взор, выступили у него на глазах.
Аррен, закончив песнь, некоторое время молчал; потом снова запел, но более короткие и более простые песенки, и пел негромко, стараясь не нарушать великое однообразие недвижимого воздуха, тяжело вздыхающего моря, меркнущего света — встречая торжественно приближающуюся ночь.
Когда он умолк совсем, все вокруг словно застыло, ветер улегся, волны едва вздымались, деревянная обшивка и снасти поскрипывали чуть слышно. Море лежало успокоенное, и над ним одна за другой загорались звезды. Вдруг на юге возник пронзительно яркий свет, отразившись на поверхности моря золотистой дорожкой сверкающих бликов.
— Смотри! Сигнальный маяк! — воскликнул Аррен и через минуту спросил: — А может, это звезда?
Ястреб некоторое время молча смотрел на юг и наконец промолвил:
— Я думаю, что это, должно быть, звезда Гобардон. Она видна только в Южном Пределе. Гобардон значит «корона». Курремкармеррук говорил, что если плыть все дальше и дальше на юг, то непременно увидишь еще восемь ярких звезд, расположенных ниже звезды Гобардон; вместе они составляют крупное созвездие. Кое-кто считает, что оно похоже на бегущего человека, другие говорят, что это руна Агнен. Руна Конца.
Они смотрели, как звезда Гобардон ясно и спокойно горит в небесах над неспокойным морем, словно зовет вперед.
— Ты так пел песнь Эльфарран, — проговорил вдруг Ястреб, — словно сам пережил ее горе и донес эти чувства до меня… Из всех историй о Земноморье именно эта всегда была наиболее близка моему сердцу. И великое мужество Морреда в час отчаянья; и Серриадх, рожденный как бы по ту сторону горя — добрый и милосердный король. И она, Эльфарран. Даже когда я совершил величайшее в своей жизни зло, то и тогда я думал, что взываю к ее красоте; и я видел ее — да, какое-то мгновение я видел живую Эльфарран…
Ледяной озноб прошел по спине Аррена. Он судорожно сглотнул и сидел, примолкнув, глядя на великолепную, зловещую, желтую, словно золотистый топаз, звезду.
— А кто из героев древности нравится тебе больше всех? — спросил волшебник, и Аррен ответил:
— Эррет-Акбе.
— Да, он действительно был величайшим из них.
— Но чаще всего я думаю о его смерти — одинокой смерти после битвы с драконом Ормом на берегу Селидора. Он мог бы править всем Земноморьем. Но все же предпочел такую вот судьбу.
Волшебник не ответил. Оба некоторое время думали каждый о своем. Потом Аррен спросил, все еще глядя на желтую звезду Гобардон:
— Так, значит, это правда, что мертвые могут быть возвращены к жизни силой магии?
— Они могут быть возвращены к жизни, — сказал волшебник.
— Неужели это когда-либо случалось? И как это делается?
Похоже, Ястребу не очень хотелось отвечать на этот вопрос.
— С помощью Великого Заклятья, вызывающего души мертвых, — сказал он и не то поморщился, не то зажмурился. Аррен решил, что больше он ничего не скажет, однако Ястреб, помолчав, заговорил снова: — Такие заклинания особенно хорошо известны мудрецам с острова Пальн. Мастер Заклинатель не только не учил нас ему, но и сам никогда им не пользовался. Великое Заклятье вообще используется крайне редко. И никогда — мудро, по-моему. Например, Великим Заклятьем тысячу лет назад пользовался Серый Маг с острова Пальн. Он призывал души великих героев и великих волшебников, даже душу самого Эррет-Акбе на совет к правителям Пальна во время войн или для решения особенно важных государственных проблем в мирное время.
— И что происходило?
— Живым мало толку от такого Совета Великих Мертвецов. И в Пальне настали тяжелые времена. Серый Маг был изгнан и умер в безвестности.
Волшебник говорил как-то не слишком охотно, однако продолжал рассказывать, словно сознавая право Аррена на ответ. И Аррен упорно продолжал расспрашивать его.
— Значит, теперь уже никто больше этими заклятьями не пользуется?
— Я знал только одного человека, который свободно пользовался ими.
— Кто же это?
— Он жил в Хавноре. Его считали обычным колдуном, но, от природы одаренный необычайно щедро, он на самом деле был великим магом. Он зарабатывал на жизнь своим искусством, показывая любому, кто заплатит, того, кого тот захочет видеть — умершую жену, или мужа, или ребенка; и дом его вечно заполняли тревожные тени, вызванные из седых глубин времени, — прекрасные женщины, Великие Короли. Я сам видел, как он вызвал из Страны Мертвых моего старого Учителя Неммерля, который во времена моей юности был Верховным Магом Земноморья. Вызвал просто ради забавы, развлекая праздных лентяев! И дух великого человека явился по его зову, словно собака по свистку хозяина. Я был разгневан и вызвал его на поединок. Тогда Верховным Магом я еще не стал. И я сказал ему: «Ты заставляешь их являться в свой дом, так, может, последуешь за мной в их обитель?» И я заставил его пойти туда, хотя он сопротивлялся всеми силами своей души, менял обличье и громко рыдал во тьме.
— Значит, ты убил его? — в ужасе прошептал Аррен.
— Нет! Я заставил его последовать за мной в Страну Мертвых и потом отвел обратно. Ах, как ему было страшно! Он, кто столь легко вызывал души умерших в этот мир, больше всех, кого я когда-либо знал, боялся смерти — прежде всего своей собственной. А у стены из камней… Но я рассказал тебе слишком много для неофита. А ты ведь еще даже и неофитом у нас не стал. — В сгущающихся сумерках глаза его остро блеснули: он пронзительно посмотрел прямо в глаза Аррену, смутив его. — Впрочем, это не имеет значения. Есть там каменная стена, как раз на самой границе. Через нее после смерти душа отправляется в Темную страну, а живой человек может вернуться назад, если, конечно, знает путь… Так вот У этой каменной стены тот волшебник упал на землю, скрючился, цеплялся руками за камни — по ту сторону, где жизнь, — плакал и стонал. Я заставил его пойти дальше. Мне был отвратителен его страх, и я злился. К этому времени мне уже пора было понять, что я поступаю неправильно. Но я весь был во власти гнева и тщеславия. Он был силен, а мне страшно хотелось доказать, что я сильнее.
— А что он стал делать потом… когда вы вернулись?
— Ползал по земле и поклялся больше никогда не пользоваться древней мудростью острова Пальн; он целовал мне руки — и он убил бы меня, если б осмелился.
— Что же с ним сталось?
— Из Хавнора он уехал куда-то на запад, может быть, даже на Пальн. Я больше о нем никогда не слышал. Он уже был сед, когда я знал его, хотя был еще очень ловким и сильным длинноруким человеком, похожим на профессионального борца. Он теперь, должно быть, уже умер. Я даже имя его не могу вспомнить.
— Его подлинное имя?
— Нет! Это-то я помню… — Он запнулся и на две-три секунды как бы застыл.
— В Хавноре его звали Коб-паук, — сказал он вдруг изменившимся голосом и как-то чересчур осторожно. В полной темноте Аррен не мог разглядеть его лица, но увидел, как он обернулся и глянул на желтую звезду, поднявшуюся еще выше над морем и бросавшую на его поверхность изломанную золотую дорожку, тонкую, как паутинка. Помолчав немного, волшебник сказал: — Не только во снах, Аррен, мы сталкиваемся с грядущим лицом к лицу; это часто открывается нам в том, что давно забыто; и часто сказанное кажется нам чепухой, потому что мы не желаем понять истинного значения этих слов.
Глава 6
Лорбанери
Лорбанери они увидели издалека над залитым солнцем морем. Он был зеленым, изумрудным, как тот мох, что рос в Школе Волшебников у фонтана. Когда они подплыли ближе, на общем зеленом фоне стали вырисовываться листья и стволы деревьев, темные тени под ними, дороги и дома, а потом и лица, и пестрая одежда людей, и пыль над дорогами — все, что представляет собой обычный обитаемый остров. И все-таки основным цветом Лорбанери был зеленый, ибо каждый акр его, где не ходили люди и не стояли дома, был отдан низеньким, с округлыми кронами деревьям урба, листьями которых питаются мелкие черви, вырабатывающие шелковое волокно. Потом это волокно, превращая его в шелковые нити, пряли мужчины, женщины и дети Лорбанери. В сумерки над Лорбанери снует множество маленьких серых летучих мышей, которые питаются шелковичными червями, однако им позволено поедать их; шелководы терпят их и не убивают. Они вполне серьезно считают дурным предзнаменованием убить серокрылую летучую мышь. Ибо, по их мнению, если уж люди живут за счет червей, то и серые мыши, конечно, имеют на это право.
Дома на острове были довольно странные, с маленькими окошками в почти глухих стенах; их со всех сторон окружали заросли деревьев урба, стволы которых казались совершенно зелеными от облепивших их мхов и лишайников. Когда-то это был богатый остров, как и большинство островов дальних Пределов, и былой достаток все еще ощущался в нарядно окрашенных и красиво убранных внутри жилищах, в больших, полных прялок и ткацких станков мастерских, расположенных как в жилых домах, так и в отдельных зданиях; по-прежнему красивы были отделанные камнем набережные в гавани главного порта Лорбанери Сосары, у пирсов которой могли бы одновременно пришвартоваться несколько торговых галер. Но сейчас в порту не было ни единого судна. Краска на стенах жилых домов поблекла, облупилась, а мебель в них заметно обветшала. Прялки и ткацкие станки большей частью молчали в бездействии, покрытые пылью и паутиной.
— Колдуны? — спросил мэр города Сосара, коротенький человечек с лицом таким же твердым и коричневым, как земля под его ногами. — Никаких колдунов на Лорбанери нет и быть не может.
— Да неужели? — не то восхитился, не то изумился Ястреб. Он сидел с местными жителями — их было человек восемь или девять — и потягивал здешнее винцо из ягод урбы, слабенький горьковатый напиток. Ему уже пришлось рассказать им о том, что ищет он в Южном Пределе некий «лазоревый камень», однако внешность свою он на этот раз менять не стал, только велел Аррену спрятать меч в лодке, как обычно, ну а волшебного посоха (в его теперешнем уменьшенном виде) все равно никто бы и не заметил. Местные жители казались поначалу какими-то сердитыми, неприветливыми и, чуть что, готовы были вспылить; только предельная вежливость и природное чутье Ястреба, умело выбиравшего слова и темы для разговора, заставили их чуть более ласково смотреть на непрошеных гостей.
— Удивительные у вас тут люди, все с деревьями возятся, — сказал после долгой паузы Ястреб. — А что как заморозки ударят?
— Это ничего, — ответил тощий человек на дальнем конце завалинки. Местные все сидели в ряд, прислонясь спинами к стене гостиницы, под нависающим козырьком тростниковой крыши. Босые ноги их были выстроены в одну линию; прямо за этой линией по земле стучали теплые капли тихого апрельского дождя.
— Да, заморозки — это пустяки, — подхватил мэр, — дождь — вот беда. От дождя коконы гниют. И уж если он польет, то никому его не остановить. И раньше не могли! — Он самым решительным образом был настроен против колдунов и колдовства; кое-кто из остальных, похоже, думал иначе.
— Никогда раньше в это время года дождь не
шел, — сказал один из них. — Впрочем, тогда еще старик жив был.
— Кто? Старый Милди? Ну так что ж, теперь-то он умер, — откликнулся мэр.
— Его еще Садовником звали, — сказал тот тощий, с дальнего конца.
— Да, точно. Звали его так, — подхватил другой. И тишина повисла, словно дождливое облако.
В единственной комнате для постояльцев, что имелась в местной гостинице, сидел у окна Аррен. Он снял со стены старую трехструнную лютню с длинным грифом — такие когда-то были широко распространены здесь, на Шелковом Острове, — и теперь тихонько наигрывал на ней, пытаясь настроить. Музыка его звучала не громче стука дождевых капель по тростниковой крыше.
— На рынках Хорта я видел всякие дрянные ткани, которые выдавали за шелка с Лорбанери, — сказал Ястреб. — Кое-какие из них и впрямь напоминали ваши шелка. Но ни одной настоящей шелковой ткани с Лорбанери я там не видел.
— У нас несколько сезонов подряд неудачные, — ответил тощий. — Уж лет пять, поди.
— Пять лет и есть, как раз с Осеннего Равноденствия, — прошамкал добродушно какой-то древний старик. — В аккурат с того дня, как старый Милди помер. Да, взял вот и помер, а ведь он тогда моложе меня был. Да и помер-то прямо накануне Равноденствия.
— Ну и что ж, что шелка не хватает, зато цены на него растут, — заявил мэр. — За один рулон синего шелка-сырца мы теперь получаем столько, сколько раньше за три.
— Если бы. Где торговые корабли-то? Да и цвет синий совсем не тот, — сказал тощий, и они по крайней мере полчаса спорили по поводу качества красок, которыми пользуются теперь в общественных мастерских.
— А кто у вас тут краски делает? — спросил Ястреб, и тут же посыпались новые жалобы. Самым главным было то, что лучшими красильщиками острова издавна считались члены одной семьи, причем вроде бы семьи колдунов. Может, когда-то они и правда были колдунами, да только теперь свое мастерство утратили. Потеряли ключи к нему, а никто другой так эти ключи и не подобрал — как горько заметил все тот же тощий человек. С этим согласились все, кроме мэра. Все считали, что знаменитые синие шелка Лорбанери и несравненный алый «драконов огонь», который носили когда-то давно королевы в Хавноре, стали теперь уже не те. Что-то из них ушло. То ли беспричинные дожди были виноваты, то ли природные красители, то ли мастера.
— А может, глаза? — ехидно спросил тощий. — Глаза тех, кто не может отличить небесную лазурь от синей глины? — и глянул на мэра. Тот вызова не принял, и снова все погрузились в молчание.
Легкое вино, казалось, сделало их настроение лишь еще более кислым. Лица помрачнели, никто не говорил ни слова, и лишь дождь стучал по листьям бесчисленных садов в долине да где-то внизу шептало море — недалеко, в конце их улицы. И в темноте за закрытыми дверями гостиницы мурлыкала что-то лютня.
— Он петь-то умеет, твой парнишка, что больше на девку смахивает? — спросил мэр.
— О да, петь он умеет. Аррен! Спой-ка нам, сынок.
— Я не могу заставить эту лютню перестать играть в миноре! — Аррен с улыбкой высунулся из окна. — Ей, видно, хочется плакать. Что вам угодно послушать, дорогие хозяева?
— Что-нибудь новенькое, — пробурчал мэр.
Лютня слегка вздрогнула, когда юноша коснулся ее струн.
— Может быть, это будет для вас новинкой, — сказал он и запел:
По белым отмелям Солеа,
Где ветви красные склонили
Деревья пышные в цвету,
Бредет в тоске невыразимой,
В тоске по милому супругу,
Склонив, подобно белой ветви,
Свою прелестную головку
И ожидая скорой смерти…
В своей печали бесконечной
Двумя вот этими ветвями —
Цветущей красною и белой —
Клянусь я, Серриадх, запомнить,
Что погубило эти жизни.
Запомнить, навсегда запомнить
Жестокую несправедливость,
Быть Эльфарран достойным сыном
И Морреда, что славен вечно.
Они так и застыли — с горькими, упрямыми выражениями на лицах, усталые, уронив натруженные руки. Сидели не шевелясь в теплых дождливых сумерках южного вечера и слушали песню, похожую на тоскливый крик лебедя над холодными водами Эа, лебедя, потерявшего свою подругу. И еще некоторое время, когда Аррен уже кончил петь, сидели они, по-прежнему не двигаясь.
— Странная какая-то музыка, — сказал один неуверенно.
Другой, видимо полагающий, что Лорбанери — центр Вселенной, заявил:
— Иноземная музыка всегда какая-то странная да мрачная.
— А вы нам что-нибудь свое спойте, — сказал Ястреб. — Я бы и сам с удовольствием что-нибудь веселое послушал. Парень-то мой вечно поет о древних героях, что давно во славе почили.
— Ну давай, что ли, я спою, — вызвался последний из говоривших и ударил по струнам арфы. Песня его была о распрекрасном бочонке, полном доброго винца — и «хей-хо! как мы здорово живем!». Но никто почему-то подпевать ему не стал, и он в полном одиночестве выкрикивал — все тише и тише — свое «хей-хо».
— Ну вот, уже и петь-то никто как следует не умеет! — сердито сказал он. — А все молодежь эта, все чего-то меняют да делают по-другому, а старые песни и не знают вовсе.
— Да не в этом дело, — сказал тощий, — просто теперь уж никто ничего как следует не умеет. Все кругом как-то не так.
— Да, точно, — прошамкал самый старый, — ушло счастье-то. Вот ведь какая штука. Была удача, да вся вышла.
После этих слов говорить оказалось особенно не о чем. Жители по двое — по трое разошлись по домам, и вскоре Ястреб остался в полном одиночестве на завалинке под окном их комнаты. И тут наконец волшебник рассмеялся. Но невеселый то был смех.
В комнату, где сидел с лютней Аррен, вошла застенчивая жена хозяина гостиницы и приготовила им постели на полу; потом тихонько вышла, и они улеглись спать. Однако высокие балки комнаты оказались прибежищем множества летучих мышей. Через незастеклённые окна комнаты всю ночь напролет влетали и вылетали с тонким пронзительным писком мыши. Только на заре, вернувшись наконец в свои гнезда, они успокоились и аккуратными серыми кулечками свесились с балок головами вниз.
Возможно, из-за непрерывно снующих мышей Аррен спал тревожно. Он уже много дней не спал на берегу; тело отвыкло от неподвижности земли, и ему все казалось, едва он начинал засыпать, что земля под ним качается, качается, качается, будто волны… а потом начинает ускользать, проваливаться, и он в ужасе просыпался. Когда же наконец ему удалось по-настоящему заснуть, то он оказался прикованным цепью к скамье работоргового судна; рядом были еще такие же рабы, только все мертвые. Он несколько раз просыпался, пытаясь прогнать этот кошмар, однако, заснув, снова возвращался на ту же палубу. И он был там совсем один, намертво прикованный цепью. И вдруг чей-то странный тягучий голос прозвучал у него в ушах: «Освободись от оков. Пусть падут твои цепи». Он попытался встать и, как ни странно, встал. И тут же оказался на мрачной бескрайней вересковой пустоши, небо над которой было закрыто тяжелыми тучами. Что-то ужасное таилось и в самой этой местности, и в плотном воздухе над ней — ужас, ужас окружал его со всех сторон. Он находился как бы внутри этого ужаса, и не было перед ним пути, чтобы выбраться оттуда. Он должен был непременно отыскать этот путь, но не видел ни одной тропы: пути не было. А сам он был маленький, словно младенец, словно муравей, а ужасное пространство, казалось, не имело границ, не имело пределов. Он попытался идти куда-то, споткнулся и проснулся.
Тот страх теперь, когда он проснулся, как бы притаился внутри его, но от этого не стал ни меньше, ни слабее. Аррену показалось, что черная тьма комнаты душит его, и он стал искать звезды в неясно видимом проеме окна, но, хотя дождь и прекратился, звезд на небе не было. Он лежал без сна и боялся, а летучие мыши сновали взад-вперед на своих бесшумных перепончатых крыльях. Порой Аррен различал их невероятно тонкий писк — почти на пределе возможностей человеческого слуха.
Утро было ясное, и они вышли из дому рано. Ястреб честно порасспрашивал всех о «лазоревом камне». Хотя никто из местных и не знал, что это за камень, у каждого нашлась своя теория относительно его поисков, и в итоге разгорелся спор. Ястреб внимательно слушал, стараясь уловить нечто совсем иное: камень его не интересовал. В конце концов они с Арреном пошли по той дороге, которую присоветовал мэр. Дорога вела к карьерам, где добывали синий минерал для окраски тканей. Однако вскоре Ястреб свернул куда-то в сторону.
— Должно быть, вот этот дом и есть, — сказал он. — По их словам, здесь живет семья тех потомственных красильщиков, что раньше считались колдунами, да только силы в них теперь не осталось.
— А есть ли смысл разговаривать с ними? — спросил Аррен: история с Харе была еще слишком свежа в его памяти.
— Откуда-то же началось здешнее невезение, — сказал волшебник резко. — Должна же быть точка отсчета. Словно есть какая-то прореха, в которую утекло все счастье и благополучие Лорбанери. Мне нужен проводник к этому месту! — И он двинулся дальше. Аррену оставалось только последовать за ним.
Дом красильщиков стоял на отшибе и со всех сторон был окружен зарослями урба. Когда-то это было добротное каменное строение, но теперь и сам дом, и деревья вокруг пришли в полное запустение. Выцветшие коконы шелковичных червей, которые никто так и не собрал, свисали с обглоданных червями ветвей, а земля вокруг деревьев была покрыта толстым слоем мертвых личинок и бабочек. Вокруг стоял запах гнили, и, едва они ступили под эти деревья, Аррен отчетливо вспомнил тот ужас, что окружал его ночью, во сне.
Они не успели подняться на крыльцо, как дверь резко распахнулась, оттуда высунулась седая старуха и злобно уставилась на них какими-то подозрительно красными глазами. Потом заорала:
— А ну пошли вон, черт бы вас побрал, воры, бродяги, полоумные лжецы, недоноски паршивые! Убирайтесь вон, вон, говорю! Чтоб вам в жизни удачи не было!
Ястреб остановился, казалось, несколько озадаченный, потом быстро сотворил какой-то странный жест и пробормотал:
— Минуй нас!
Завидев это, женщина сразу перестала визжать и уставилась на него.
— Ты зачем это сделал?
— Чтобы отвести твое проклятье.
Она еще некоторое время разглядывала его, потом хрипло спросила:
— Чужеземцы небось?
— Да. С северных островов.
Она подошла ближе. Сначала, когда старуха начала на них орать с крыльца, Аррену страшно хотелось еще поддразнить ее, но теперь, увидев ее рядом, он смутился. Она была ужасно грязная, одета в лохмотья, изо рта у нее воняло, а в глазах застыла мука мученическая.
— У меня нет больше сил, чтобы наводить порчу, — сказала она. — Нет сил. — Она повторила жест Ястреба. — Этим что же, все еще пользуются там, откуда вы приплыли?
Ястреб кивнул. Он внимательно наблюдал за ней, и она тоже не сводила с него глаз. Лицо ее понемногу ожило, выражение стало более осмысленным. Она спросила:
— А где же твой посох?
— Я его здесь не показываю, сестра.
— Что ты, нельзя! При нем тебе здесь жизни не будет. Когда у меня еще сила была, мне тоже жизни здесь не было. Вот я свою силу и потеряла. Все позабыла, что знала, все слова, все имена. Они, как тоненькие паутинки, выползали через мои глаза и рот — в никуда. Видно, в мире где-то есть дыра, и через эту дыру уходит свет. А вместе с ним — и нужные слова. Ты знаешь об этом? Мой сын сидит целыми днями и смотрит во тьму, пытаясь высмотреть, где та прореха в ткани мирозданья. Он говорит, что видел бы лучше, будь он слепым. Он потерял руку, когда был красильщиком. Мы — знаменитые Красильщики с Лорбанери! Смотри! — Она потрясла перед ними своими худыми, но когда-то сильными руками, до плеч покрытыми несмывающимися тусклыми разноцветными разводами. — Это уж никогда не отойдет, — сказала она, — зато мозги отмываются начисто. Добела. Никаких следов не останется. А ты-то сам кто?
Ястреб ничего не ответил, только посмотрел женщине прямо в глаза, и даже Аррену, который наблюдал за ними со стороны, стало не по себе.
Старуха, сразу задрожав, прошептала:
— Я тебя узна
ю…
— О да. Подобный всегда узнает подобного, сестра.
Странно было видеть, как она в ужасе отшатнулась от волшебника, словно пытаясь убежать прочь, и в то же время потянулась к нему, стремясь пасть перед ним на колени.
Он крепко взял ее за руку и удержал от этого.
— Ты хотела бы вернуть назад свою силу, вспомнить свое мастерство, подлинные имена? Я могу дать тебе это.
— Ты — Великий Человек, — прошептала она, — Король Теней, Правитель Темной Страны…
— Нет. Я никакой не король. Я простой человек, простой смертный, брат твой и подобен тебе.
— Но ты ведь никогда не умрешь?
— Умру.
— Но потом вернешься и будешь жить вечно?
— Нет. И никто из людей этого не может.
— Значит, ты не… не тот Великий Человек, что приходит во тьме, — сказала она как-то напряженно. И теперь смотрела на него вопрошающе, но не так испуганно. — Но ты тоже Великий Человек. Неужели их двое? Как твое имя?
На мгновение жесткое лицо Ястреба помягчело.
— Этого я тебе сказать не могу, — ласково ответил он.
— Я тебе открою одну тайну, — сказала старуха. Теперь она выпрямилась и глядела ему прямо в лицо; какое-то отдаленное эхо былого достоинства слышалось в ее голосе и повадке. — Я не хочу жить, жить и жить — бесконечно. Я бы, пожалуй, лучше вспомнила все забытые мной подлинные имена. Но это все ушло. И ничьи подлинные имена теперь значения не имеют. Никаких тайн больше не существует. Хочешь узнать мое имя? — Глаза ее сверкнули. Стиснув руки, она наклонилась вперед и прошептала: — Мое имя Акарен. — Потом вдруг громко вскрикнула: — Акарен! Акарен! Мое имя Акарен! Теперь все они знают мое тайное, мое подлинное имя, и нет больше никаких тайн, нет больше истины, нет больше смерти… смерти… смерти… смерти! — Она, рыдая, выкрикивала это слово, и брызги слюны слетали с ее губ.
— Успокойся, Акарен!
Она замерла. Слезы текли по ее грязному лицу, занавешенному прядями нечесаных седых волос.
Ястреб взял это морщинистое, залитое слезами лицо в свои ладони и совсем легонько, нежно поцеловал закрытые глаза старой колдуньи. Она стояла неподвижно. Ястреб быстро склонился к ее уху, прошептал что-то из Истинной Речи, еще раз поцеловал старуху в глаза и отпустил.
Она открыла глаза и некоторое время смотрела на него, удивленно и довольно бессмысленно. Так новорожденный смотрит на мать; так порой и сама мать смотрит на свое дитя. Потом старая женщина медленно повернулась и побрела к дому; вошла и затворила за собой дверь. Все произошло в полном молчании; лицо старухи по-прежнему хранило изумленное выражение.
Не нарушая молчания, волшебник повернулся и пошел назад к дороге. Аррен последовал за ним. Задавать вопросы он не осмеливался. Пройдя немного, Ястреб остановился прямо в одичавшем саду и сказал:
— Я взял у нее ее прежнее имя и дал ей новое. А это отчасти новое рождение. Больше ей ничем помочь было нельзя, и никакой надежды у нее не оставалось.
Голос его звучал напряженно и глухо.
— То была настоящая волшебница. Не просто ведьма или знахарка. Она обладала подлинным мастерством и Высшим Знанием; она использовала свое искусство для создания прекрасного — гордая и достойная уважения женщина. В этом искусстве была вся ее жизнь. И вот жизнь эта потрачена зря. — Он резко повернулся и отошел прочь, куда-то в самую гущу сада; там он остановился не оборачиваясь.
Аррен ждал его на жарком, чуть смягченном жалкой тенью обглоданных деревьев солнцепеке. Он понимал, что Ястребу стыдно взваливать на него груз собственных переживаний; и действительно, юноша ничем не мог ему помочь. Однако в душе он изо всех сил сострадал своему другу, может быть, не так, как в первые дни своего романтического восхищения и обожания, но испытывая за него самую искреннюю боль, словно из сердца его теперь протянулась прочная нить, связывающая их обоих, и невозможно было порвать эту нить. Ибо в той любви, что он испытывал теперь к Верховному Магу, больше всего было сострадания, без которого не бывает ни настоящей, ни долговечной любви.
Вскоре Ястреб вновь подошел к нему. Оба молча двинулись дальше под зеленой сенью деревьев. Было уже очень жарко; земля после вчерашнего дождя успела просохнуть, и дорога пылила у них под ногами. С раннего утра день этот казался Аррену холодным и тоскливым, словно в него проник ужас из его снов; и теперь ему были даже приятны жгучие укусы солнца и благодать тени, и он с удовольствием шагал, отбросив всякие размышления относительно конечной цели их путешествия.
Такое настроение пришлось кстати, потому что как раз цели-то никакой они пока и не достигли. Весь день они провели в карьере, разговаривая с рудокопами. Потом немного поспорили с ними насчет цены тех непонятных камней, которые якобы и являлись «лазоревыми». Когда они тащились обратно в Сосару, а низкое солнце тяжело било им в затылок, Ястреб заметил:
— Это голубой малахит; но я не думаю, чтобы в Сосаре знали, что это за камень на самом деле.
— Какие-то они здесь все странные, — откликнулся Аррен. — И ведь во всем так: они будто совсем одно от другого отличить не способны. Тот тип вчера правильно сказал мэру, что они лазурь от синей глины не отличают. Они жалуются, что настали плохие времена, но не знают даже, когда эти времена начались; говорят, что работа не клеится, а сами даже не пытаются как-то поправить дела; для них даже нет разницы между простым ремесленником и волшебником. Как будто ручной труд и искусство магии — одно и то же! В головах у них, что ли, все перемешалось — все пути, рисунки, действия и цвета? Все для них одинаковое — и все серого цвета.
— Да, это верно, — задумчиво проговорил волшебник. Потом некоторое время шел молча, нахохлившись, и был очень похож на настоящего ястреба. Несмотря на невысокий рост, шагал он широко. — Но чего же все-таки им недостает? — вдруг спросил он.
— Радости в жизни, — не колеблясь ответил Аррен.
— О да! — воскликнул Ястреб и снова задумался. — Я рад, — сказал он наконец, — рад, что ты выразил мои мысли, сынок… Отчего-то я чувствую себя усталым и глупым. Что-то на душе у меня с утра было скверно — с тех пор, как мы поговорили с ней, с той, что когда-то звалась Акарен. Я терпеть не могу бессмысленных утрат и запустения. И врага я не ищу. Если я непременно должен иметь врага, то, по крайней мере, не желаю искать его сам и встречаться с ним умышленно — тоже!.. Если затеваешь поиски, то целью должно быть сокровище, а не отвратительная тварь.
— Там, в конце пути, враг, господин мой, — сказал Аррен. Ястреб кивнул.
— И когда она говорила о Великом Человеке, о Повелителе Теней…
Ястреб снова утвердительно кивнул.
— Скорее всего это именно так, — сказал он. — По-моему, в конце пути мы найдем не только место, которое ищем, но и человека. Зло, зло творится на этом острове. Мастерство утрачено, гордость потеряна, кругом безрадостная жизнь и запустение… Это, конечно, дело рук служителей зла. Или служителя. Но только зло это не связано конкретно ни с этим островом, ни с этой Акарен, ни с шелками Лорбанери. След, по которому мы с тобой идем, напоминает след от сорвавшейся и полетевшей вниз по круче повозки, которая вызвала страшный горный обвал.
— А не могла ли она, Акарен, рассказать тебе побольше об этом враге: кто он, и где находится, и что ему надо?
— Сейчас не стоило ее спрашивать, сынок, — сказал волшебник тихо и печально. — Она, без сомнения, могла бы рассказать многое. Даже в ее безумии все еще оставалась значительная доля мудрости. Но я не мог заставлять ее отвечать. Она слишком страдала.
И он двинулся дальше, снова нахохлившись так, словно его самого мучила боль, от которой он мечтал избавиться.
Заслышав вдруг шарканье ног за спиной, Аррен обернулся. Их, пыхтя, догонял какой-то человек. Поднятая его ногами пыль, что повисла над дорогой, и рыжие волосы, похожие на проволоку и освещенные закатным солнцем, создавали вокруг его головы нечто вроде красноватого ореола, а невероятно длинная тень его фантастическим образом извивалась и подпрыгивала среди деревьев, росших вдоль дороги.
— Стойте, — кричал человек, — послушайте! Я нашел!
Он наконец нагнал их. Аррен сначала рукой похватал пустой воздух у бедра, где должна была быть рукоять меча, потом поискал на поясе украденный нож, потом рука его сама собой сложилась в кулак; все — в полсекунды. Набычившись, он двинулся на незнакомца. Тот был на целую голову выше Ястреба и значительно шире в плечах, и вообще — как-то странно задыхался, пыхтел, глядя безумными, вылезающими из орбит глазами. Должно быть, сумасшедший, подумал Аррен. «Я нашел, нашел!» — повторял тот неустанно, пока Аррен суровым угрожающим тоном не рявкнул: «Что тебе нужно?» — и не начал теснить безумца со всей решительностью. Тот попытался обойти юношу и подобраться к Ястребу с другой стороны, но Аррен снова вырос перед ним.
— Так ты тот самый Красильщик из Лорбанери? — спросил Ястреб.
И тут Аррен понял, как глупо вел себя, пытаясь защитить своего друга. Он отступил в сторону, пропуская незнакомца, который после слов волшебника прекратил задыхаться и судорожно махать руками, огромными, покрытыми несмываемыми пятнами краски; взгляд его стал спокойней; он кивнул в ответ.
— Я был Красильщиком из Лорбанери, — сказал он, — но теперь не могу больше заниматься этим ремеслом. — Он вопросительно глянул на Ястреба, ухмыльнулся и тряхнул своей густой рыжей пропылившейся гривой. — Это ты взял имя у моей матери. Теперь я ее не узнаю, а она не узнает меня. Мать все еще сильно меня любит, но только покинула меня. Умерла.
У Аррена до боли сжалось сердце, но тут он заметил, что Ястреб слегка покачал головой.
— Нет, нет, — сказал он, — она не умерла.
— Но она умрет. Умрет!
— О да. Человек всегда сначала живет, а потом умирает, — сказал волшебник. Красильщик, казалось, некоторое время разгадывал смысл этих слов, потом подошел вплотную к Ястребу и стиснул его плечи, склонившись над ним. Двигался он так быстро, что Аррен не успел ему помешать, однако хорошо расслышал его шепот.
— Я обнаружил дыру во тьме. Там, возле нее, стоял Король. Он следит за ней, она в его власти. У него в руке маленький огонек, свеча. Он подул, и свеча погасла. Снова подул, свеча загорелась. Загорелась!
Ястреб никак не протестовал ни против того, что ему шепчут прямо в лицо, ни против того, что его мертвой хваткой держат за плечи. Он только спросил:
— Где же ты был, когда видел все это?
— В своей постели.
— Спал?
— Нет.
— Был за стеной?
— Нет, — ответил Красильщик, неожиданно посерьезнев и как будто почувствовав себя неуютно. Он отпустил волшебника и слегка попятился. — Нет, я не знаю… не знаю, где это было. Но я это место нашел бы. Хоть и не знаю где.
— Именно это-то мне и нужно знать, — сказал Ястреб.
— Я могу помочь тебе.
— Как?
— У тебя есть лодка. Ты приплыл на ней сюда и собираешься плыть дальше. На запад поплывешь? Как раз туда и нужно плыть. Там начинается путь, по которому Он приходит в наш мир. Приходит, потому что жив — не как те духи или призраки, что перебираются на эту сторону через стену, совсем не так. Он переходит сюда во плоти! Тело его бессмертно! Я видел, как один лишь его вздох зажигал во тьме потухший свет. Я сам видел это. — Лицо Красильщика исказилось; в вечернем золотисто-красном свете оно казалось диким и почти красивым. — Я знаю, что ему удалось преодолеть смерть, ведь когда-то и я был волшебником! И ты знаешь это, и ты пойдешь туда. Так возьми меня с собой.
Тот же вечерний свет скользнул по лицу Ястреба, но оно осталось неподвижным и суровым.
— Я попытаюсь попасть туда, — сказал он.
— Позволь мне пойти с тобой!
Ястреб коротко кивнул.
— Если поспеешь к часу нашего отплытия, — сказал он прежним холодноватым тоном.
Красильщик попятился еще на шаг и застыл, внимательно наблюдая за волшебником. На возбужденное лицо его как бы постепенно наползала тень; взгляд стал странным, тяжелым; казалось, разумные мысли стараются пробиться сквозь бурю слов и чувств, смущающих его душу. Наконец он молча повернулся и побежал назад, вскоре исчезнув в висевшей над дорогой пыльной дымке, поднятой прежде им же самим. Аррен глубоко и с облегчением вздохнул.
Ястреб тоже вздохнул, но отнюдь не с облегчением.
— Что ж, — сказал он, — по странным дорогам нас водят странные провожатые. Пойдем, Аррен.
— Ты же не возьмешь его с нами? — спросил юноша, идя с ним рядом.
— Это уж как он сам захочет.
С внезапным гневом Аррен подумал: «Нет уж! Это еще и как я захочу!» Но вслух ничего не сказал, и они пошли дальше в молчании.
Встретили их в Сосаре неважно. На таком маленьком острове, как Лорбанери, все становится известно всем, едва успев случиться, и, без сомнения, кто-то видел, как они свернули с дороги к дому семьи красильщиков и как разговаривали с сумасшедшим. Хозяин гостиницы был как-то не слишком услужлив, а его жена выглядела до смерти напуганной. Вечером, когда местные пришли посидеть на завалинке у гостиницы, то вовсю старались даже не заговаривать с чужеземцами и развлекались собственными шутками-прибаутками. Однако веселья особого не получалось. Смех вскоре стих, они довольно долго сидели молча, и, наконец, мэр спросил Ястреба:
— Нашел ты свои синие камни?
— Да, кое-что нашел, — вежливо ответил тот.
— Уж это, конечно, Попли показал тебе, где их найти!
Остальные нарочито громко рассмеялись столь изысканной шутке.
— Попли — это, должно быть, тот рыжеволосый человек?
— Сумасшедший. Ты еще к его матери утром заходил.
— Я искал волшебника, — сказал волшебник.
Тощий человек, что сидел к нему ближе всех, сплюнул в темноту.
— А зачем?
— Я думал, что волшебник поможет мне найти то, что я ищу.
— Люди приезжают на Лорбанери за шелком, — сказал мэр. — А за камнями сюда ездить нечего. И за колдовством тоже. За всякими там волшебными штучками и фокусами. Здесь живут честные люди и занимаются честным трудом.
— Так, так, он правду говорит, — загомонили остальные.
— И нам никого другого здесь не надо! Ни к чему нам чужеземцы, которые все что-то вынюхивают да суют нос в чужие дела.
— Правду, правду он говорит! — раздался целый хор голосов.
— Да если б здесь хоть один нормальный колдун нашелся, мы бы и ему тут же дали честную работу в ткацкой, да только колдуны ведь и понятия не имеют — как это честным трудом заниматься!
— Они могли бы научиться у вас, если бы было чему, — ответил Ястреб. — Ваши мастерские пусты, сады запущены, запасы шелка на складах истощились уже много лет назад. Чем вы занимаетесь здесь, на Лорбанери?
— Мы занимаемся своим делом! — рявкнул мэр, но тут вдруг тощий возбужденно спросил:
— А скажи-ка, почему это к нам суда торговые не приходят? Чем эти торговцы там занимаются, в Хорте? Если у нас работа не ладится, так в том, что у них торговля не идет, тоже мы виноваты?..
Его гневно прервали. Все начали кричать друг на друга, вскочили на ноги, мэр погрозил Ястребу кулаком, его сосед вытащил нож. Казалось, все посходили с ума. Аррен напряженно смотрел на Ястреба, ожидая, что тот предстанет перед всеми в сиянии волшебного света и заставит их онеметь перед лицом возродившегося могущества магии. Но он почему-то этого не делал, а сидел и смотрел то на одного, то на другого, слушая их угрозы. И постепенно они затихли, словно на гнев, как и на веселье, сил у них тоже не хватало. Нож был спрятан, угрозы превратились в обычное ворчание. Потом они начали потихоньку разбредаться, словно псы после драки — кто бегом, а кто ползком.
Когда они остались вдвоем, Ястреб встал, вошел в их комнату и долго пил из стоявшего за дверью кувшина.
— Пошли, парень, — сказал он. — С меня на сегодня хватит.
— К лодке?
— Да. — Он положил две местные серебряные монеты на подоконник в уплату за постой и собрал легкий вещевой мешок. Аррен устал, ему хотелось спать, но он оглядел комнату гостиницы, грязноватую и неприветливую, где на балках шевелились бесчисленные летучие мыши, вспомнил прошлую ночь, проведенную здесь, и с готовностью последовал за волшебником. К тому же, подумал он, спускаясь к пристани по одной из темных улочек Сосары, если они отплывут прямо сейчас, то сумасшедший тип по имени Попли наверняка опоздает. Однако он уже ждал их на пирсе.
— А, это ты, — сказал волшебник. — Ну что ж, залезай в лодку, если хочешь.
Попли молча забрался в лодку и скрючился у мачты, словно большая неряшливая собака. У Аррена все перевернулось в душе.
— Но, господин мой! — возмутился он. Ястреб обернулся; они стояли лицом к лицу высоко над водой. — Они все здесь сумасшедшие, но я считал, что ты-то в здравом уме. Почему же ты берешь его с собой?
— Как проводника.
— Проводника?.. Куда он поведет нас — к полному безумию? К смерти? Чтобы наша лодка потонула или ты получил нож в спину?
— Да, он поведет нас к смерти, но по тому пути, которого я не знаю.
Аррен горячился. Ястреб, хотя и отвечал ему спокойно, все же с трудом сдерживал ярость: он не привык, чтобы его допрашивали, да еще таким тоном. Аррен, еще с той минуты, когда он попытался там, на пыльной дороге, защитить Ястреба от бросившегося на него безумца, понял, насколько бесполезны, бессмысленны все его старания. С горечью он ощутил, что его любовь и преданность своему господину, столь сильные еще сегодня утром, сейчас будто разбились о каменную стену: никому его преданность была не нужна. Он не в силах был защитить Ястреба; ему даже не было позволено принимать самостоятельные решения; ему не было позволено даже понять цель затеянных ими поисков, а сам он не мог догадаться об этом. Его просто вели за ручку, бесполезного и беспомощного, точно дитя. Однако ребенком он уже не был.
— Я не стану спорить с тобой, господин мой, — он старался говорить ледяным тоном. — Но это… это в высшей степени неразумно!
— Да, это в высшей степени неразумно. Мы идем туда, где разум бессилен. Ты пойдешь со мной или нет?
От гнева у Аррена на глазах выступили слезы.
— Я уже давно сказал, что пойду с тобой повсюду и буду служить тебе. Я не нарушаю данного мной слова.
— Вот это хорошо, — мрачно сказал волшебник и уже будто бы отвернулся, но потом снова посмотрел Аррену прямо в лицо. — Ты очень нужен мне, Аррен, а я — тебе. И вот что я скажу: сейчас я уверен, что мы идем тем путем, который предназначен для тебя; и ты должен пройти его — не из покорности или верности мне, но потому, что так было предначертано судьбой еще до того, как мы с тобой впервые встретились, до того, как ты ступил на берег острова Рок, до того, как ты покинул Энлад. Ты не можешь ни сойти с этого пути, ни повернуть назад. — Голос его звучал по-прежнему сурово. И Аррен отвечал ему не менее мрачно:
— Как же могу я повернуть назад, не имея лодки? Как вернусь я назад отсюда, с самого края света?
— Это, по-твоему, край света? Нет, он гораздо дальше. Но мы вполне можем еще до него добраться.
Аррен коротко кивнул и спрыгнул в лодку. Ястреб отвязал конец от причала и поднял волшебный ветер. Едва они вышли из мрачной пустой гавани Лорбанери, стало холоднее, вольный ветер подул с чернеющего в северной стороне Открытого Моря, а луна расстелила серебряную дорожку прямо перед ними и поплыла рядом, по левому борту, когда лодка, огибая остров, двинулась к югу.
Глава 7
Безумец
Сумасшедший красильщик по-прежнему сидел у мачты, обхватив колени руками и уронив на них голову. Спутанная копна его рыжих волос в лунном свете казалась черной. Ястреб, плотно завернувшись в одеяло, улегся спать на корме. Ни тот, ни другой не шевелились. Аррен сидел на носу: он поклялся себе, что всю ночь простоит на вахте. Если Ястребу угодно считать, что этот безумец не причинит вреда ни ему самому, ни Аррену и не нападет на них в ночи, то и ради бога; он, Аррен, тоже кое-что смыслит, и у него свои соображения на этот счет, так что он сам позаботится о безопасности.
Однако ночь оказалась слишком длинной и тихой. С неба неустанно лился лунный свет. Скрючившийся у мачты Попли похрапывал тихо и протяжно. Лодка медленно шла по курсу; незаметно и Аррен соскользнул в сон. И сразу же проснулся. И увидел, что луна едва успела сдвинуться с места. Тогда он решил отказаться от самопожертвования, устроился поудобнее и крепко заснул.
Ему тут же приснился сон, как почти во все ночи их путешествия. Сначала сны его были короткими, отрывочными, но неожиданно приятными, вселяющими надежду.
Вместо мачты на «Зоркой» выросло дерево с широкой раскидистой кроной; лебеди влекли лодку за собой, хлопая широкими крыльями; далеко впереди над сине-зеленым берилловым морем светился город с белыми башнями. Потом Аррен почему-то оказался в одной из этих башен; он поднимался по винтовой лестнице — почти бежал, легко и с удовольствием. Видения эти сменяли друг друга, повторялись, за ними следовали другие, что уносились прочь без следа. И вдруг он снова оказался в сумерках на той самой ужасной вересковой пустоши, и прежний страх вновь возник в нем и продолжал расти, пока у него не перехватило дыхание. Однако он двинулся вперед — он должен был это сделать. Он шел долго и наконец понял, что здесь идти вперед — значит идти по кругу, снова и снова возвращаясь на то же место. Нужно было как-то выбраться, бежать, желание это становилось все более жгучим, и он побежал. Он бежал, а круги все сужались и сужались, земля под ногами превратилась в склон холма. Сумерки сгущались, и он бежал все быстрее и быстрее, как бы по кромке, по самому краю огромной воронки, которая постепенно засасывала его куда-то во тьму. Едва успев понять это, он поскользнулся и упал…
— В чем дело, Аррен? — раздался с кормы голос Ястреба.
На небе занимался серый рассвет, море было удивительно тихим.
— Да так, ничего.
— Страшный сон приснился?
— Нет, ничего.
Аррен совсем замерз, правая рука, которую он отлежал, затекла и болела. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть светлеющего неба, и подумал: «Он все время на что-то намекает, но так и не говорит, куда мы на самом деле плывем и зачем и почему именно я должен плыть туда. А теперь еще и этого сумасшедшего с нами тащит. Впрочем, кто из нас безумнее — этот красильщик или я сам? Я-то ведь тоже продолжаю тащиться за ними следом. Эти двое, наверно, смогут друг друга понять — именно волшебники теперь утратили разум, так он сам сказал. А я сейчас мог бы быть уже дома, в Бериле, в своей комнате с украшенными резьбой стенами, с красным ковром на полу. В камине горел бы огонь, а я проснулся бы пораньше, чтобы отправиться на соколиную охоту с отцом… Почему я пошел с ним? Почему он взял с собой именно меня? Потому, что это мой путь — так он сказал; только все это пустая болтовня волшебника, пытающегося сделать свои поступки значительнее с помощью громких слов. Вот только смысл этих слов вечно ускользает. Если передо мной и лежит какой-то путь, то это путь домой; довольно скитаться безо всякого смысла по далеким Пределам. У меня хватает дел и дома, я просто пренебрегаю своими обязанностями. Если он действительно считает, что реально существует некто могущественный, вредящий всем людям и волшебникам, то почему же он взял с собой одного лишь меня? Он мог бы взять в помощники другого мага — да хоть целую сотню магов. Он мог бы взять с собой армию, флот… разве так выходят навстречу грозной опасности — старый волшебник и юноша вдвоем в жалкой лодчонке? Это же просто безумие. Он, видно, и сам сумасшедший; к тому же он говорил, что ищет смерти. Он ищет смерти и хочет взять с собой меня. Но я пока еще с ума не сошел и до старости мне далеко; я не хочу умирать, и я не пойду с ним».
Аррен приподнялся на локте, глядя вперед. Луна, которая взошла у них прямо по курсу, когда они покидали залив Лорбанери, теперь снова оказалась там же и тонула в море. Сзади, на востоке, занималась бледная заря. Небо было чистым, но затянутым какой-то неприятной дымкой. Позже, днем, когда стало по-настоящему жарко, солнце все равно наполовину скрывалось за этой дымкой.
Целый день они плыли вдоль берегов Лорбанери; низкие, зеленые, они тянулись справа. С суши дул ветерок, наполняя их парус. К вечеру они обогнули последний, далеко выдающийся в море мыс; бриз улегся. Ястреб поднял волшебный ветерок, и, словно сокол с запястья ловчего, «Зоркая» рванулась вперед, радостно раздув паруса и оставляя Шелковый Остров позади.
Красильщик весь день проторчал на одном месте; совершенно очевидно, он боялся и моря, и лодки и к тому же страдал от морской болезни. Он был совершенно измучен и только хрипло спросил:
— Мы на запад плывем?
Закат во все небо горел прямо у него перед носом, но Ястреб, проявляя поразительное терпение, ответил на этот глупейший вопрос кивком.
— На остров Обеголь?
— Обеголь тоже лежит к западу от Лорбанери.
— Значительно западнее. До него еще далеко. Может быть, это место там.
— А на что это место похоже?
— Откуда мне знать? Разве я мог его рассмотреть? Оно ведь не на Лорбанери! Я годами пытался найти его, целых пять лет искал во тьме, по ночам, закрывая глаза, и всегда приходил Он и звал меня: «Пойдем, пойдем!» — но я пойти с ним не мог. Я не настолько могущественный волшебник, чтобы отыскать путь в Темной Стране. Но и под солнцем есть место, куда можно прийти и тоже попасть туда. Вот этого как раз Милди и моя мать понять не желали. Они продолжали искать во тьме. Потом старый Милди умер, а моя мать сошла с ума. Она позабыла заклятья, которыми мы пользовались при крашении, и от этого заболела. Она хотела умереть, но я сказал, чтобы она пока не спешила. Подождала, пока я не найду то место. Должно же оно где-то быть. Раз мертвые могут возвращаться обратно в этот мир, значит, в нем должен существовать путь, по которому они приходят.
— А разве мертвые оживают и возвращаются в этот мир?
— Я думал, тебе-то такие вещи известны, — помолчав, ответил Попли и вопросительно посмотрел на Ястреба.
— Нет, но мне бы очень хотелось об этом узнать.
Попли ничего не сказал. Волшебник вдруг твердо посмотрел ему прямо в глаза, хотя голос его прозвучал тихо и ласково:
— Уж не ищешь ли ты способа жить вечно, Попли?
Попли с минуту тоже смотрел ему в глаза, потом уткнулся своей лохматой темно-рыжей башкой в колени, обхватил ее руками и стал качаться взад-вперед. Очевидно, он принимал такую позу каждый раз, когда боялся чего-то, а когда он чего-то боялся, то уже не способен был ни говорить о чем-либо, ни что-либо слушать. Аррен с отвращением и отчаянием отвернулся. Как они будут плыть дальше в обществе этого Попли долгие дни и недели в лодке, длина которой едва десять шагов? Это было все равно что поселиться в одном теле с чьей-то больной душой…
Ястреб подошел к юноше и оперся коленом о распор, глядя в желтоватый вечерний туман над морем.
— У этого человека нежная душа, — сказал он.
Аррен ничего не ответил. Потом холодно спросил:
— Что такое Обеголь? Я никогда не слышал такого названия.
— Мне этот остров тоже известен только по картам, так что я о нем почти ничего не знаю… Смотри-ка: вот и подруги Гобардон!
Теперь огромная, цвета золотистого топаза звезда горела еще выше над морем, а чуть ниже ее, почти над самой поверхностью воды, сияли в дымке белая звезда слева и бело-голубая справа, образовывая как бы треугольник.
— Есть ли у этих звезд имена?
— Мастер Ономатет этого не знал. Может быть, у жителей Обеголя и Уэллоджи и есть — какие-то свои. Не знаю. Мы теперь плывем по неведомым морям, Аррен, под знаком Конца.
Юноша не ответил, почти с ненавистью глядя на яркие безымянные звезды над бесконечными водами моря.
Они плыли все дальше и дальше на запад, и море постепенно окутывало тепло южной весны; над головой сияли безоблачные небеса. Но Аррену почему-то казалось, что солнечному свету здесь не хватает яркости, он словно просачивался сквозь не слишком чистое стекло. Вода в море была теплой, как парное молоко, и купание приносило очень мало облегчения. Соленая пища не вызывала аппетита и казалась безвкусной. Все вокруг, казалось, утратило свежесть и яркость красок, вот только по ночам незнакомые звезды светили так ярко, как ему никогда прежде не доводилось видеть. Он обычно лежал, глядя на них, пока не засыпал. И ему снились сны: всегда одни и те же — о вересковой пустоши, или о колодце, или о долине, окруженной неприступными утесами, или о долгой дороге, ведущей вниз по склону горы под низко висящими тучами; и всегда сны эти были наполнены тусклым светом, леденящим душу ужасом и безнадежным желанием спастись.
Он ни разу не заговаривал об этом с Ястребом. Он вообще ни о чем сколько-нибудь важном с ним не говорил, разве что о повседневных мелочах; Ястреб, которого и раньше-то нужно было специально раскачивать для беседы, теперь большую часть времени проводил в молчании.
Аррен окончательно осознал, каким был глупцом, доверив душу и жизнь свою этому беспокойному и скрытному человеку, который позволял мгновенным желаниям властвовать над собой и не делал ни малейшего усилия, чтобы как-то обезопасить себя, спасшись от смерти. Настроение у волшебника было какое-то обреченное; а все потому, думал Аррен, что он боится признать неудачу — ведь он не смог удержать на прежней высоте силу волшебства, самую великую в мире людей силу.
Теперь стало ясно, что для тех, кто знал тайны, не так уж много и существовало настоящих тайн, связанных с искусством магии, благодаря которой и сам Ястреб, и бесконечные поколения колдунов и волшебников добились своей славы и могущества. Ничего особенного в этом не было; кое-кто, правда, умело заклинал погоду, лечил травами да еще создавал такие хитрые иллюзии, как туман, таинственное свечение и изменение внешности; все это, конечно, могло привести в священный трепет невежду, но Аррен-то знал, что все это фокусы, трюки. Действительность неизменна. И нет в волшебстве ничего такого, что давало бы настоящую власть над людьми, не могло оно защитить и от смерти. Великие маги жили не дольше, чем обычные люди. И все ведомые лишь им одним слова даже на один час не могли задержать приход их собственной смерти.
Даже при решении не столь уж важных проблем полагаться на магию не стоило. Ястреб всегда очень мало пользовался своим мастерством; естественный ветер надувал их
паруса, едва это становилось возможно; они ловили рыбу, чтобы прокормиться, и аккуратно делили запасы воды, как это делают все моряки. Целых четыре дня Аррен непрерывно менял галсы, пытаясь поймать нужный ветер, очень устал и попросил волшебника хоть ненадолго помочь ему своим волшебством. Когда Ястреб в ответ лишь отрицательно покачал головой, юноша не выдержал:
— Ну почему же нет?
— Я никогда не стану просить больного человека бежать со мной наперегонки, — ответил Ястреб, — и никогда не положу еще один камень в уже переполненную корзину на спине носильщика.
Было не совсем понятно, говорил ли он о себе или о мире в целом. Он и всегда-то отвечал не слишком охотно, теперь же его ответы было и вовсе трудно понять. Вот в этом и заключается самая суть их волшебства, думал Аррен: многозначительно намекнуть, но, в общем-то, ничего не сказать, да еще сделать так, чтобы ничегонеделание казалось вершиной мудрости.
Аррен давно уже старался не замечать Попли, но это оказалось просто невозможно; он так или иначе постоянно сталкивался с безумным красильщиком. Впрочем, Попли вовсе не был таким уж безумным или был не просто безумным, как это могло показаться при виде его всклокоченной шевелюры и безумных глаз. На самом деле безумным в нем был тот немыслимый ужас, который он испытывал перед морем. Войти впервые в лодку стоило ему такого насилия над собой, что он так и не смог до конца от этого оправиться; он сидел, скрючившись и низко опустив голову, и старался без необходимости не менять этой позы, чтобы не видеть ни воды, раскачивающей лодку и плещущейся у самого борта, ни самой лодки — этой хрупкой скорлупки в пугающей безбрежности вод. При малейшей попытке встать на ноги он испытывал сильнейшее головокружение и постоянно жался к мачте. Когда в первый раз Аррен решил поплавать и нырнул с носа лодки, Попли в ужасе заорал; когда же Аррен снова вскарабкался в лодку, бедняга прямо-таки весь позеленел от пережитого потрясения.
— Я думал, ты утопиться решил, — сказал он, и Аррен не смог сдержать смеха.
Как-то в полдень, когда Ястреб сидел, погрузившись в какие-то свои мысли и ничего вокруг не замечая и не слыша, Попли, осторожно цепляясь за снасти, подобрался к Аррену и прошептал:
— Ты ведь не хочешь умирать, да?
— Конечно, нет.
— А он — хочет! — сказал Попли, мотнув в сторону Ястреба подбородком.
— С чего ты взял?
Аррен вдруг заговорил гордо и надменно, что, по правде сказать, получалось у него вполне естественно, и Попли воспринял этот тон как должное, хоть и был лет на десять-пятнадцать старше Аррена. Он ответил с покорной готовностью, но по-прежнему отрывисто и невнятно:
— Он хочет добраться до тайного места. Но я не знаю зачем. Он не хочет… Он не верит… в обещание.
— В какое обещание?
Попли метнул на Аррена взгляд, в котором на миг ожило его утраченное достоинство; однако воля его оказалась слабее, чем у юноши, и он тихонько ответил:
— Ты сам знаешь. В жизнь. В вечную жизнь.
Аррен вздрогнул. Он вдруг вспомнил свои сны, вересковую пустошь, ужасную воронку, утесы, сумеречный свет… то была смерть, то был ужас смерти. От смерти он должен бежать, должен найти путь, ведущий прочь из ее царства. А на пороге его стоит человек, увенчанный тенями, и держит в руке огонек не больше жемчужины — отблеск бессмертия. Аррен впервые посмотрел Попли прямо в глаза: глаза были светло-карие, очень ясные; они подтверждали, что догадка Аррена правильна и что Попли разделяет с ним это знание.
— Он, — сказал Красильщик с Лорбанери, снова мотнув подбородком в сторону Ястреба, — ни за что имени своего не отдаст. А вместе с именем его никто туда протащить не сможет. Путь слишком узок.
— А ты видел этот путь?
— Во тьме, в душе. Но этого недостаточно. Я хочу попасть туда сам, хочу этот путь увидеть по-настоящему. В этом мире. И найти здесь его начало. Что, если я… если я умру, так и не отыскав то место? Большая часть людей не способна найти этот путь, они даже не знают, что он есть. Только немногие обладают необходимым для этого могуществом… И волшебных слов там больше не существует. И никаких имен. Мысленно попасть туда очень трудно. А когда ты… умираешь, умирают… и твои мысли. — Он каждый раз спотыкался на слове «умирать». — Я хочу
твердо знать, что могу вернуться. Я хочу там побывать. Но с той стороны, где жизнь. Я хочу жить, жить без опаски. И я ненавижу… ненавижу эту воду…
Красильщик совсем свернулся в клубок и стал похож на паука, который падает на паутинке вниз; даже всклокоченную рыжую голову свою он втянул в плечи, чтобы не видеть моря.
После этого Аррен перестал избегать разговоров с ним, понимая, что Попли ведомы не только такие же сны, но и страх; именно это, если случится самое худшее, сделает Попли союзником Аррена против Ястреба.
Они все плыли и плыли — очень медленно, потому что часто наступал штиль или попутный ветер был совсем слабым, — на запад, куда, как притворялся Ястреб, их якобы вел Попли. Но Попли никуда их не вел: ведь он совсем не знал моря, в глаза никогда не видел морской карты, ногой раньше не ступал в лодку и смертельно боялся воды. Это сам волшебник вел их, и вел намеренно по ложному курсу. Аррен давно его раскусил и ясно понимал причины этого обмана. Верховный Маг знал, что они, как и многие другие люди, жаждут бессмертия, которое было им обещано, которое вполне возможно. Но в своей немыслимой гордыне Ястреб боялся не столько того, что кто-то обретет бессмертие, сколько просто завидовал; да, завидовал и боялся, что на земле может появиться человек, более могущественный, чем он сам. И теперь хотел одного: уплыть как можно дальше в Открытое Море, где нет больше никаких островов, окончательно затеряться в безбрежных водах и уже никогда не возвращаться назад, в мир людей. Там, в Открытом Море, они просто умрут от жажды. Потому что для Ястреба лучше умереть самому, но не дать кому-то обрести вечную жизнь.
То и дело Ястреб коротко заговаривал с Арреном о каких-то мелочах — о руле и снастях, например, или о купании в теплом море; или желал ему спокойной ночи под яркими звездами — и тогда все эти черные мысли казались Аррену сущей чепухой. Он смотрел на своего спутника, видел его спокойное твердое терпеливое лицо и думал: «Это мой господин и мой друг». И ему казалось невероятным, что он осмелился усомниться в этом. Но проходило немного времени, и Аррен опять начинал сомневаться и обмениваться с Попли многозначительными взглядами при виде их «общего врага».
Каждый день жаркое солнце по-прежнему затягивало дымкой. Его рассеянный свет глянцем ложился на медленно вздымающуюся поверхность моря. Вода была неизменно синей, чисто синей. То поднимался, то затихал ветерок, и они постоянно меняли галс, чтобы поймать его, и едва ползли на запад к неведомой цели.
Однажды днем наконец подул довольно сильный попутный ветер, и Ястреб, показав куда-то вверх, в сторону заката, сказал:
— Смотрите.
Высоко над мачтой тянулась по небу вереница диких гусей, своими очертаниями похожая на руну Конца, нанесенную черным по синей глади небес. Гуси летели на запад; следуя в том же направлении, на следующий день «Зоркая» приблизилась к берегам крупного острова.
— Вот это место, — сказал Попли. — На этом острове. Мы должны здесь высадиться.
— То место, которое ты ищешь, там?
— Да. Мы непременно должны высадиться на этот остров. Дальше нам плыть невозможно.
— Это скорее всего Обеголь. За ним в Южном Пределе есть еще один остров, Уэллоджи. А на юге Западного Предела есть и более далекие острова. Ты уверен, что это именно здесь, Попли?
Красильщик с Лорбанери просто вышел из себя; глаза его сверкали злобой, но изрекал он теперь вовсе не такую бессмыслицу, подумал Аррен, как прежде, много дней назад, когда они впервые встретились с ним.
— Да, уверен! Мы должны высадиться здесь. Мы уже достаточно далеко заплыли, хватит! Место, которое мы ищем, здесь. Может, ты хочешь, чтобы я в этом поклялся? Хочешь, я поклянусь своим именем?
— Ты не сможешь, — тяжко уронил Ястреб и пристально посмотрел на Попли, возвышавшегося над ним: Попли намеренно встал на ноги, крепко держась за мачту, чтобы получше разглядеть, что за земля впереди. — Лучше и не пытайся, Попли.
Красильщик весь скривился — не то от гнева, не то от боли. Потом посмотрел на горы вдали, окутанные синей дымкой, что лежали прямо по курсу, и сказал:
— Ты взял меня как проводника. Это — место, которое ты ищешь. Здесь мы должны высадиться. Высадиться на берег.
— Мы в любом случае высадимся на берег. Нам нужно пополнить запасы воды, — сказал Ястреб и взялся за руль. Попли уселся на прежнее место, что-то бурча. Аррен слышал, как он сказал: «Клянусь своим именем. Именем своим», и повторял это без конца, и каждый раз все больше мрачнел.
Они подошли к острову при северном ветре и поплыли вдоль берега, подыскивая подходящую бухту, чтобы причалить, но волны с ревом и грохотом бились о северный берег Обеголя. В глубине острова под раскаленными лучами солнца словно пеклись зеленые, до самых вершин покрытые лесом горы.
Обогнув очередной мыс, они наконец заметили довольно глубокий полумесяц залива с белой полосой песка на берегу. Волны неторопливо лизали песок; силу их ударов гасил мыс. Здесь вполне можно было причалить. Никаких следов человеческой жизни не было заметно ни на берегу, ни в лесах, покрывавших горные склоны; они не увидели ни лодки, ни крыши дома, ни столба дыма. Легкий ветерок совсем стих, едва «Зоркая» успела войти в бухту. Штиль, безмолвие, жара. Аррен сел на весла. Ястреб встал к рулю. Скрип весел в уключинах казался здесь единственным живым звуком. Зеленые вершины гор мрачно возвышались над заливом, закрывая горизонт. Солнце расстелило на воде белоснежные жаркие простыни света. Аррен чувствовал, что в ушах у него молотом стучит кровь. Попли, покинув безопасное место у мачты, выполз на нос и, вцепившись в распорки, весь вытянулся в сторону острова. Темное, покрытое шрамами лицо Ястреба блестело от пота, словно намазанное маслом; взгляд его внимательно скользил вдоль полосы прилива и по густолиственным зарослям у подножия начинавшихся прямо от берега гор.
— Давай! — крикнул он, обращаясь то ли к Аррену, то ли к лодке. Аррен сделал три мощных гребка, и «Зоркая» легко вылетела на песок. Ястреб тут же соскочил с кормы, чтобы подтолкнуть ее, однако вдруг споткнулся и чуть не упал. И тут почему-то вместо того, чтобы толкать лодку к берегу, подальше от линии прилива, он мощным рывком потащил ее обратно, на глубину, вместе с отбегающей волной. Потом перевалился через борт, упал на дно, и лодка как бы зависла между морем и берегом.
— Греби! — выдохнул Ястреб, стоя на четвереньках и пытаясь перевести дыхание. Вода лила с него ручьями. В руках у него откуда-то взялось короткое копье или дротик локтя два длиной с бронзовым наконечником. Где это он его взял? Потом откуда-то прилетело еще копье и воткнулось в банку у самого краешка, расщепив дерево и пронзив борт насквозь. Изумленный Аррен греб что было сил, однако успел заметить, что в невысоком кустарнике чуть выше песчаного пляжа крадутся, осторожно приседая, какие-то люди. В воздухе послышались негромкие свистящие, звенящие звуки. Аррен втянул голову в плечи и с новой силой взялся за весла: два взмаха, чтобы отойти подальше на глубину, еще три — чтобы развернуть лодку и погнать ее прочь от берега.
Попли, стоявший на носу за спиной Аррена, вдруг дико закричал, и руки юноши оказались стиснуты с такой силой, что весла вылетели из воды и ручка одного из них ударила его под ребра так, что на несколько секунд Аррен ослеп от боли и не мог ни охнуть, ни вздохнуть.
— Поворачивай назад! Назад! — орал Попли. Лодка, накренившись, зачерпнула воды и закачалась. Попли вдруг разжал судорожно сжимавшие Аррена руки. Почувствовав свободу, юноша, совершенно разъяренный, обернулся и тут же снова ухватился за весла. Попли исчез. Лишь глубокие воды залива вздыхали и переливались под солнцем.
Аррен, чувствуя себя идиотом, еще раз обернулся, потом внимательно осмотрел лодку и вопросительно уставился на Ястреба, скрючившегося на корме.
— Вон там, — сказал волшебник, указывая куда-то за борт, но там ничего не было, только солнечные блики играли на поверхности моря. Дротик, пущенный из духовой трубки, упал совсем рядом с лодкой и бесшумно скрылся под водой. Аррен сделал еще десять-двенадцать мощных гребков, потом вычерпал воду и снова посмотрел на Ястреба.
Руки волшебника и его левое плечо, к которому он прижимал кусок парусины, были в крови. Копье с бронзовым наконечником валялось на дне лодки. Он вовсе не держал его в руках, как тогда показалось Аррену: его наконечник глубоко воткнулся ему под мышку. Ястреб не сводил глаз с полосы воды между лодкой и белым песчаным берегом, по которому в солнечном мареве металось несколько маленьких фигурок, махавших руками. Потом скомандовал:
— Давай!
— Но Попли…
— Он так и не вынырнул.
— Неужели он утонул? — спросил Аррен, не веря.
Ястреб кивнул.
Аррен греб до тех пор, пока берег не превратился в тонкую белую полоску, за которой тянулась зеленая полоса кустарников и деревьев, взбирающихся по склонам гор. Ястреб сидел у румпеля, зажимая рану на плече куском тряпки и не обращая на нее особого внимания.
— В него попал дротик?
— Нет, он прыгнул сам.
— Сам? Но он… он же не умел плавать! Он так боялся воды!
— О да. Смертельно боялся. Он хотел… Хотел попасть на землю.
— Почему они напали на нас? Кто они такие?
— Они, должно быть, думали, что мы их враги. Ты не мог бы… не мог бы немного помочь мне с этим? — И тут Аррен заметил, что тряпица, которую волшебник прижимал к ране на плече, насквозь промокла от крови.
Дротик угодил между плечевым суставом и ключицей, порвав одну из крупных артерий, так что кровотечение было очень сильным. Следуя указаниям волшебника, Аррен разорвал на бинты льняную рубашку и наложил повязку. Ястреб попросил его принести попавший в него дротик, и когда Аррен положил дротик ему на колени, он правой рукой стал ощупывать наконечник из довольно грубо обработанной бронзы, длинный и узкий, похожий на ивовый лист. Потом он открыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но только покачал головой.
— Нет у меня сил для заклинания, — сказал он. — Позже. Все будет в порядке. Ты сможешь вывести лодку из залива, Аррен?
Юноша молча вернулся к веслам. И, согнувшись, принялся за работу. Вскоре, поскольку сил в его стройном гибком теле было предостаточно, «Зоркая» вышла в Открытое Море. Стоял глубокий полдневный штиль, обычный для морей Южного Предела. Парус висел как тряпка. Солнце светило сквозь дымку, и зеленые вершины позади, казалось, дрожат и расплываются в жарком мареве. Ястреб вытянулся на дне лодки, пристроив голову повыше; он лежал неподвижно, глаза и губы чуть приоткрыты. Аррену было неприятно смотреть на его лицо, и он отвел глаза. Дальше, за кормой, жаркое марево качалось над водой, словно густая паутина. Казалось, эта паутина затянула и весь небосклон. Руки юноши дрожали от усталости, но он продолжал грести.
— Куда ты правишь? — раздался вдруг хриплый голос Ястреба. Волшебник чуть приподнялся на локте и вопросительно смотрел на Аррена. Тот, обернувшись, снова увидел дугу залива, будто белыми руками обнимавшую их с обеих сторон, и близкие горы, толпившиеся в вышине. Он и не заметил, как развернул лодку и поплыл в обратном направлении.
— Все. Больше я грести не могу, — сказал Аррен и осушил весла. Потом пошел и лег, свернувшись в клубок, на носу. Ему продолжало казаться, что за спиной у него, по-прежнему прижавшись к мачте, сидит Попли. Они слишком много времени провели вместе, слишком неожиданной была его смерть, слишком бессмысленной. Все вообще было слишком непонятно, бессмысленно…
Лодка словно висела, чуть покачиваясь на волне; парус был совершенно безжизненным. Начинался прилив; волны все сильней обрушивались на берег, потихоньку разворачивали лодку боком, подталкивали ее к белой линии песка на берегу.
— «Зоркая», — нежно позвал волшебник и прибавил еще пару слов Истинной Речи. Лодка мягко качнулась, развернулась и заскользила прочь от острова по слепящей водной глади.
Впрочем, не прошло и часа, как она будто устала и парус ее снова безжизненно обвис. Аррен оглянулся и увидел, что спутник его лежит на дне лодки в прежней позе, только голова его запрокинута, глаза закрыты.
Все это время Аррен ощущал тяжкий дурнотный ужас, который становился все сильнее, сковывал движения, словно тонкими нитями опутывая тело, туманил мозг. И мужество не восставало в нем против этого страха; он чувствовал лишь что-то вроде слабого негодования и сожалений относительно собственной судьбы.
Аррен отлично понимал, что нельзя оставаться здесь и дрейфовать близ берегов острова, чьи жители нападают на чужеземцев, однако в душе ему было и это все равно. А что, собственно, оставалось делать теперь? Плыть на веслах до острова Рок? Нет, конечно же, он пропал, все кончено, он затерян в безбрежности Открытого Моря, и не осталось больше никаких надежд. Он никогда не сможет проложить обратный курс или хотя бы довести лодку до ближайшего острова, где их приняли бы дружески. Может быть, под руководством волшебника ему бы это и удалось, но Ястреб смертельно ранен и совершенно беспомощен. И все случившееся было таким же неожиданным и бессмысленным, как и смерть Попли. Лицо волшебника изменилось, расслабилось; щеки приобрели желтоватый оттенок: похоже, он уже умирал. Аррен понимал, что нужно бы перенести раненого под навес, в тень, и дать ему напиться — человек, потерявший столько крови, должен больше пить. Но у них уже много дней не хватало воды; бочонок был почти пуст. Впрочем, и это тоже не имеет значения. Ничего хорошего все равно ждать не приходится, все утратило смысл. Удача от них отвернулась.
Так прошло несколько часов. Солнце по-прежнему жгло беспощадно; жаркое сероватое марево окутывало Аррена со всех сторон, но он продолжал сидеть неподвижно.
Вдруг лба коснулось чье-то холодное дыхание: то была вечерняя роса. Солнце село; запад горел багрянцем. Дул слабый восточный ветерок, и «Зоркая» медленно огибала крутые лесистые берега Обеголя.
Аррен пробрался на корму и занялся своим спутником: устроил ему постель под навесом и дал напиться. Он делал все торопливо, стараясь не смотреть на пропитавшуюся кровью повязку, которую давно пора было сменить. Ястреб сильно ослабел и все время молчал; пил он жадно, но даже и тогда глаза его оставались закрытыми. Потом он снова погрузился в забытье, словно сейчас сон был для него важнее и сильнее жажды. Он так и лежал, тихий и недвижимый, и, когда с наступлением ночи ветер стих, паруса вновь повисли и лодка лениво закачалась на зеркально гладкой поверхности чуть вздыхающего моря: поднять волшебный ветер Ястреб не смог. Зато горы, которые еще недавно мрачно возвышались справа, совсем рядом с ними, отодвинулись и казались лишь черной изломанной линией на фоне звездного неба. Аррен долго смотрел на звезды. И рисунки южных созвездий показались ему странно знакомыми, словно он уже раньше видел их, словно знал их с детства.
Спать он улегся, как всегда, лицом к югу: там, высоко в небе над монотонно-спокойной гладью моря горела звезда Гобардон. Чуть ниже — еще две, образующие с ней вместе как бы вершины треугольника, а еще ниже, в основании этого треугольника, выстроились по прямой еще три звезды. Потом, ближе к полуночи, выскользнули на свободу из блещущей серебром черноты моря и ярко зажглись в небесах еще две звезды. Эти были желтыми, как Гобардон, хоть и светили более слабо. Теперь, считая предыдущие звезды, на небе начал образовываться второй, более крупный треугольник: там горело восемь из девяти звезд созвездия, которое, очевидно, и должно было походить на бегущего человека или на ардическую руну Агнен. Что касается Аррена, то он никакого человека в рисунке звезд не обнаружил; если только, как это часто случается с созвездиями, изображение его не было в значительной степени условным. Зато руна Агнен виделась ему совершенно ясно — с крючкообразной ручкой и поперечной чертой в середине, она отчетливо светилась в небе, дописанная почти до конца, ибо последняя звезда еще не взошла.
Ожидая ее появления, Аррен уснул.
Когда же на рассвете он проснулся, то оказалось, что «Зоркую» отнесло еще дальше от Обеголя. Туман совсем скрыл его берега, лишь едва виднелись вершины гор. Туманная дымка плыла над фиолетовыми водами Южного Моря, и сквозь нее едва виднелись в небесах последние звезды.
Аррен взглянул на своего спутника. Ястреб дышал неровно, словно даже в забытьи чувствовал сильную боль, не дававшую ему крепко уснуть. На лице его отчетливо проступили морщины, в холодном ровном утреннем свете оно выглядело неожиданно старым. Аррен вдруг увидел перед собой человека, который до конца израсходовал свои силы, и теперь у него не осталось ни волшебства, ни могущества, ни даже молодости — ничего. Он не спас Попли, не отвернул от себя ранивший его дротик. Из-за него все они оказались в опасности, но он ничего не сделал для их спасения. Попли мертв. Ястреб умирает, и Аррен скоро тоже непременно умрет. И все — только из-за ошибки этого человека, просто так, совершенно бессмысленно.
Аррен смотрел на волшебника с полной безнадежностью, словно в пустоту.
Ни одно воспоминание о прошлом не шевельнулось в его душе: ни фонтан под ясенем, ни белый волшебный свет над рабовладельческим судном в тумане, ни обглоданные червями деревья близ дома красильщиков. Ни воля, ни упрямство, ни гордость не проснулись в его сердце. Он смотрел, как разливается восход над спокойным морем, над легкими бледно-сиреневыми волнами, и все вокруг казалось ему похожим на сон, на невнятное, неясное, безжизненное видение. И в глубинах этого сна, как и в глубинах сиреневого моря, не было ничего — провал, пропасть, пустота…
Лодка то застывала на месте, то медленно двигалась куда-то в зависимости от желаний налетающего ветерка. Вершины Обеголя, уплывая назад, становились все меньше, все чернее на фоне разгорающейся зари; ветер дул с востока, унося лодку прочь от этого острова, прочь от мира людей, все дальше и дальше в Открытое Море.
Глава 8
Дети Открытого Моря
Где-то в полдень Ястреб шевельнулся и попросил воды. Напившись, он спросил:
— Куда мы плывем? — Парус у него над головой был надут, и лодка ласточкой неслась по волнам.
— На запад или на северо-запад.
— Мне холодно, — сказал Ястреб.
Солнце светило вовсю, заливая лодку зноем, и Аррен промолчал.
— Постарайся держать курс на запад. На Уэллоджи — он расположен к юго-западу от Обеголя. И там причаль: нам необходима вода.
Взгляд юноши был устремлен вперед, куда-то поверх пустынных волн.
— В чем дело, Аррен?
Аррен не отвечал.
Ястреб попытался сесть, но это ему не удалось; тогда он попытался дотянуться до посоха, что лежал у рундука, и тоже не смог. Он хотел было снова что-то сказать, но слова застряли в пересохшем рту. Снова открылось кровотечение; из-под задубевшей повязки, которая вновь промокла, по темной коже поползли тонкие, как паутинки, полоски ярко-алого цвета. Волшебник со стоном вздохнул и закрыл глаза.
Аррен смотрел на него совершенно равнодушно и вскоре отвернулся. Прошел на нос и снова уселся там, скрючившись и глядя вперед. Во рту страшно пересохло. Восточный ветер, что теперь постоянно дул над Открытым Морем, напоминал иссушающий ветер пустыни. В бочонке осталось не больше двух-трех кружек воды; Аррен считал, что эта вода — только Ястребу. Ему даже в голову не приходило отпить хоть глоток. Он поставил удочки: за время их долгого путешествия он узнал, что сырая рыба утоляет не только голод, но и жажду. Но на крючок никогда ничего не попадалось. Впрочем, и это было неважно. Лодка плыла и плыла по бесконечной водной пустыне. В вышине медленно, хотя в конце концов всегда выигрывая эту гонку через пространство, плыло солнце — тоже с востока на запад.
Как-то раз Аррену показалось, что на юге он видит голубую вершину — вполне возможно, остров. А впрочем, может, и просто облако. Он даже не попытался сменить галс: просто позволил лодке плыть дальше, куда-то на северо-запад, куда она уже много-много часов неслась безостановочно. Остров то был или нет — все равно. Нет никакой надежды; Аррену теперь даже мощное великолепие ветра, солнца и моря казалось ненадежным и фальшивым.
Наступила ночь, потом снова день; тьма и свет казались медленными ударами барабана по туго натянутой ткани небес.
Аррен опустил руку в воду у борта. На мгновение он удивительно ясно увидел под живой водой зеленоватые очертания пальцев. Он наклонился и облизал их. Вода была горькой, больно жгла губы, но он снова обмакнул пальцы и облизал их. Потом его стошнило, он, скрючившись, свесился за борт; его выворачивало наизнанку, но сплюнуть удалось лишь немного чего-то жгучего. Напоить раненого ему было нечем, воды совсем не осталось, и Аррен боялся подходить к волшебнику. Он прилег: несмотря на жару, его бил озноб. Все вокруг было безмолвным, иссушающим и нестерпимо ярким. Спасаясь от яркого света, он прикрыл глаза рукой.
Они стояли рядом с ним в лодке; их было трое; худые, стройные, с горделивой осанкой, с удлиненными серыми глазами, они были похожи на диковинных темных цапель или журавлей. Языка их он не понимал. Голоса были тонкие, птичьи. Один наклонился к нему и поднес к пересохшему рту какой-то темный пузырь. Это была вода. Аррен пил жадно, задыхался, откашливался и снова пил, пока не выпил все до последней капли. Потом наконец осмотрелся и попробовал встать, тревожно спрашивая:
— Где, где он?
В лодке с ним рядом были только эти трое — странные хрупкие существа. Они непонимающе смотрели на него.
— Другой человек, — прокаркал он; воспаленное горло и распухшие, как оладьи, губы не повиновались ему, — мой друг…
Один из них понял его тревогу — даже если не понял самих слов — и, положив свою легкую руку Аррену на плечо, другой рукой указал куда-то.
— Там, — сказал он, пытаясь успокоить юношу. Аррен посмотрел в указанном направлении и увидел: прямо по курсу и к северу лодку окружало множество плотов; одни собрались в плотную кучу, другие были раскиданы по морю довольно далеко друг от друга. Их было так много, что они казались осенними листьями на поверхности пруда. Плоты были невысокие, на каждом — одна или две хижины ближе к центру; на некоторых плотах были даже мачты. Подобно листьям, плоты кружились, поднимались и опускались вместе с волнами, несомые сильным западным течением. Полоски воды между ними сверкали серебром; в небесах курчавились пышные фиолетовые и золотистые дождевые облака, на западе сгущавшиеся в темные грозовые тучи.
— Там, — повторил человечек, указывая на большой плот рядом с «Зоркой».
— Жив?
Все одновременно посмотрели на Аррена. Они не понимали. Наконец один догадался:
— Жив. Он жив.
И тут Аррен заплакал; сухие, без слез рыдания разрывали грудь. Тогда один из незнакомцев взял его за руку и повел на тот плот, к которому была пришвартована «Зоркая». Этот плот был так велик и прочен, что даже не качнулся под их общим весом. Аррена провели на другой его конец, и один из незнакомцев, перевесившись через край, тяжелой острогой с наконечником из зуба китовой акулы подцепил и подтащил ближе еще один, соседний плот. Они легко перебрались на него, и Аррен оказался перед навесом или примитивной хижиной, сделанной из циновок, одна стена которой была поднята.
— Ложись, — сказали ему, и больше Аррен ничего не помнил.
Потом он лежал на спине, вытянувшись, и смотрел на грубо сплетенную зеленую крышу, пронизанную маленькими пятнышками света. Он решил было, что оказался в яблоневых садах Семермина, где обычно проводят лето принцы Энлада, в холмистой местности близ Берилы, и лежит в густой траве, глядя в небо сквозь просвечивающие солнцем ветви цветущих яблонь.
Потом вдруг услышал влажный шлепок и плеск воды где-то под плотом, над бездонной глубиной, и высокие голоса людей, что живут на этих плотах. Они пользовались ардическим языком, на котором говорят повсюду на Архипелаге, только произношение и интонации были у них часто совершенно иными, так что сразу понять было трудно. Теперь Аррен знал, что он очень далеко от Архипелага, дальше самых дальних Пределов, в безбрежном Открытом Море. Но он почему-то и на это реагировал на удивление спокойно и лежал себе на мягком и удобном ложе, словно в садах своей далекой родины.
Потом он решил, что пора, пожалуй, встать, и встал, обнаружив при этом, что тело стало слишком худым и как будто подсушенным на солнце; впрочем, ноги хоть и дрожали, но вполне слушались. Он отвел в сторону циновку, изображавшую стену, и вышел наружу. Был полдень. Все время, пока он спал, шли дожди. Крупные, гладкие, с квадратным сечением бревна, тесно пригнанные друг к другу и проконопаченные, были мокрыми и темными. Черные волосы хрупких полуобнаженных жителей плотов блестели после дождя. Грозовые тучи умчались уже далеко на северо-восток, тая в серебристой дымке.
Один из черноволосых людей осторожно приблизился к Аррену и остановился шагах в двух от него. Он был стройный и гибкий, небольшого роста — не выше двенадцатилетнего мальчишки. На Аррена внимательно смотрели продолговатые большие и темные глаза. В руках незнакомец держал копье с зазубренным наконечником из кости.
— Я обязан тебе и твоему народу жизнью своей, — сказал Аррен.
Человек кивнул.
— Ты отведешь меня к моему товарищу?
Человек обернулся и крикнул что-то пронзительным, похожим на крик морской птицы голосом. Потом присел на корточки у края плота, словно чего-то ожидая; Аррен последовал его примеру.
На их плоте мачты не было, хотя на большей части плотов они имелись. К мачтам крепились паруса, довольно маленькие по сравнению с огромными плотами; паруса были изготовлены из какого-то коричневого материала — не парусины и не холста, — а скорее сплетенного или сотканного из каких-то странных волокон; причем волокна даже, пожалуй, и не ткали, а сбивали, как войлок. На одном из плотов, шагах в трехстах от них, спустили парус, и плот этот медленно двинулся к ним, лавируя между другими плотами. Когда до него оставалось не больше двух шагов, человек, сидевший рядом с Арреном, встал и, ни секунды не раздумывая, легко прыгнул. Аррен последовал за ним и весьма неуклюже приземлился на четвереньки, настолько ослабели и лишились былой упругости его ноги. Он поднялся и заметил, что маленький человечек смотрит на него вовсе не насмешливо, а с одобрением и сочувствием.
Этот плот был больше и выше остальных; сделанный из толстых бревен — шагов тридцать в длину и семь-восемь в ширину, — он почернел от дождей и старости, дерево его как бы лоснилось. Загадочные резные деревянные фигуры возвышались рядом с хижинами в центре — то ли храмами, то ли просто жилищами; в каждом из четырех углов плота был укреплен высокий шест, увенчанный пучком перьев морских птиц. Провожатый подвел Аррена к самой маленькой из хижин, и там юноша наконец увидел Ястреба, погруженного в глубокий сон.
Аррен подошел и сел рядом с ним. Провожатый вернулся на свой плот; никто Аррена не беспокоил. Незнакомая женщина принесла ему поесть: что-то похожее на холодное рыбное рагу, в котором попадались кусочки чего-то зеленого и желеобразного, солоноватого, невкусного; она дала ему также маленькую чашечку воды, несвежей, пахнущей смолой. Аррен заметил — по тому, как она подносила ему воду, — что это здесь драгоценность, почитаемая превыше всего. Он принял и выпил ее с должным уважением и больше не попросил, хотя мог бы выпить раз в десять больше.
На плечо Ястреба была мастерски наложена повязка; он спал глубоким сном выздоравливающего человека. Когда же проснулся, глаза его глядели ясно. Увидев Аррена, он улыбнулся доброй счастливой улыбкой — улыбка всегда поразительно меняла его суровое лицо. Аррен вдруг снова почувствовал, что к глазам у него подступают слезы. Он накрыл рукой руку волшебника и молчал, не в состоянии вымолвить ни слова.
Тут в хижину вошел один из представителей «плавучего народа» и присел на корточки неподалеку. Большая соседняя хижина представляла собой нечто вроде храма с очень сложным рисунком, выложенным с помощью мозаики над входом. Резная дверная рама изображала двух больших китов, выпускающих фонтаны воды. Пришедший был таким же хрупким и невысоким, как все люди на плотах. Он был похож на мальчика с удивительно сильным волевым лицом зрелого мужчины. На нем была лишь набедренная повязка, но достоинство окутывало его подобно королевской мантии.
— Он должен спать, — сказал он, и Аррен, оставив Ястреба, подошел к незнакомцу.
— Ты вождь этого народа, — сказал юноша, как всегда узнавая великого правителя с первого взгляда.
— Да, — ответил человек, коротко кивнув. Аррен, выпрямившись, застыл перед ним. Темные глаза человека только скользнули по его лицу. — Ты тоже вождь, — уверенно заключил он.
— Да, — ответил Аррен. Ему страшно хотелось узнать, как вождь «плавучего народа» об этом догадался, однако он и глазом не повел. — Но сейчас я служу своему господину.
Маленький вождь еще что-то проговорил, но уже совсем непонятное, столь странно звучали в устах этого народа слова ардического языка. А может быть, то были чьи-то имена, которых Аррен не знал. Потом вождь спросил:
— Зачем вы явились в Балатран?
— В поисках… — И Аррен запнулся, не зная, как выразить всю ту мешанину мыслей и чувств, что обуревала его, и неуверенный, можно ли сказать этому человеку правду. Все, что с ними произошло, как и сама суть их поисков, казалось, уплыло, затерялось в далеком прошлом. Все перепуталось в его памяти. Наконец он сказал: — Мы приплыли к острову Обеголь. Его жители напали на нас, когда мы хотели высадиться на берег. И мой господин был ранен.
— А ты?
— Я остался цел, — спокойно сказал Аррен: холодное самообладание, воспитанное в нем с детства королевскими слугами, и на этот раз сослужило ему хорошую службу. — Но потом что-то такое произошло со мной… с нами… что-то вроде помешательства. Наш спутник утопился… Во всем таился какой-то страх… — Он умолк и застыл.
Вождь наблюдал за ним своими темными непроницаемыми глазами. Потом сказал:
— Значит, вы попали сюда случайно?
— Да. А мы все еще в Южном Пределе?
— В Пределе? О нет. Острова… — вождь изящным взмахом тонкой темнокожей руки описал в воздухе полукруг с севера на восток, — острова находятся там. Все острова. — Потом таким же изящным жестом обвел закатное море перед ними по кругу — с севера через запад на юг — и сказал: — Это все море.
— А с какого острова вы сами, господин мой?
— Мы не с острова. Мы — Дети Открытого Моря.
Аррен смотрел на его умное живое лицо, на огромный плот с храмом, окруженным высокими идолами, вырезанными из цельных стволов могучих деревьев… То были их боги — полудельфины-полурыбы-полулюди-полуптицы… Потом он обвел взглядом плоты, где люди были заняты самой обычной работой: плели корзины и циновки, вырезали что-то из дерева, ловили рыбу, готовили еду на возвышениях для очага, возились с детьми. Плотов было по меньшей мере десятков семь, они порой были разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга. Это был настоящий город: вдали над хижинами виднелись тонкие струйки дыма; ветер разносил звонкие голоса детей. Да, это был настоящий город, вот только под полом его жилищ была морская бездна.
— Неужели вы никогда не высаживаетесь на землю? — спросил юноша шепотом.
— Один раз в год. Тогда мы приплываем к Долгой Дюне. Там мы рубим лес и чиним плоты. Это бывает осенью. А потом мы уходим вслед за серыми китами к северу. Зимой мы расстаемся — каждый плот дрейфует сам по себе. Весной же все собираются в Балатране, в этих водах. Мы ходим друг к другу в гости, играем свадьбы, потом состоится Долгий Танец. Здесь пролегают пути Балатрана; отсюда великие течения несут нас на юг. Все лето мы плывем по их воле, пока не увидим, как Великие — большие серые киты — поворачивают на север. Тогда мы и пускаемся следом за ними и в конце концов возвращаемся к селению Эмах, что на Долгой Дюне.
— Но это просто поразительно, господин мой! — сказал Аррен. — Никогда не слышал я о таких людях, как вы. Мой дом очень далеко отсюда. Но и там, на острове Энлад, мы тоже танцуем Долгий Танец в преддверии лета.
— Только вы утаптываете землю, делая ее более прочной, — сухо откликнулся вождь, — мы же танцуем над бездной морской. — Он помолчал немного и спросил: — Как зовут его, твоего господина?
— Ястреб, — ответил Аррен. Вождь правильно повторил это слово, однако смысла его явно не понимал. И одно это заставило Аррена безоговорочно поверить в правдивость рассказа вождя о том, как его народ всю свою жизнь, год за годом, проводит в Открытом Море, где никаких островов нет и в помине, куда даже птицы сухопутные не долетают, — в этих неведомых жителям Земноморья водах.
— Смерть стояла с ним совсем рядом, — сказал вождь. — Он должен много спать. А ты пока возвращайся на плот Стара; я потом за тобой пошлю. — Он встал. Будучи полностью уверенным в себе, вождь не до конца понял, кто такой Аррен и как с ним д
олжно ему обращаться: как с равным или как с обычным мальчишкой. Аррену в таком положении больше по душе было бы последнее, и он даже обрадовался, что его отсылают прочь, но тут возникла проблема совсем иного рода. Плоты разнесло далеко друг от друга, по крайней мере на добрую сотню шагов, и гладкая поверхность моря блестела меж ними под солнцем.
— Плыви же, — коротко бросил ему вождь.
Аррен бросился в воду. Ее прохладные ладони ласкали обожженную солнцем кожу. Он проплыл расстояние до ближайшего плота, где его поджидала компания из пяти-шести ребятишек и несколько молодых людей, наблюдавших за незнакомцем с доброжелательным интересом. Какая-то малышка сказала:
— Ты плывешь, как рыба, попавшаяся на крючок.
— Как же мне нужно плавать? — вежливо спросил Аррен. Он, хоть и почувствовал некоторое унижение, все же ни за что не смог бы нагрубить такому невероятно крошечному человечку. Девочка была похожа на хрупкую изысканную статуэтку из полированного красного дерева.
— А вот как! — крикнула она и нырнула, словно маленький тюлень, в сверкающую воду. Только очень не скоро услышал он где-то вдали ее пронзительный голосок и увидел черную гладкую головку над поверхностью моря.
— Давай теперь ты, — сказал Аррену юноша примерно одних с ним лет, хотя ростом и телосложением больше походил на двенадцатилетнего. Лицо у него было довольно мрачное, а во всю спину татуировка: синий краб. Юноша нырнул, и все остальные тоже, даже трехлетний малыш, так что Аррену пришлось последовать их примеру. Он плыл, изо всех сил стараясь не поднимать брызг.
— Ты плыви, как угорь, — сказал тот юноша с крабом на спине, выныривая возле его плеча.
— Или как дельфин, — предложила Аррену хорошенькая девушка с прелестной улыбкой и тут же исчезла в глубине.
— Или как я! — с удовольствием выкрикнул трехлетний малыш, бултыхаясь, как пустая бутылка.
В тот вечер до самой темноты и весь следующий золотой от солнца длинный день, и еще много-много дней Аррен плавал, беседовал и работал вместе с молодежью, жившей на плоту Стара. И из всего, что произошло за время их путешествия, с того момента, когда он в корне изменил свою жизнь, отплыв с Ястребом от берегов острова Рок, происходящее теперь казалось Аррену в известном смысле самым странным, ибо все это никак не было связано с тем, что случилось раньше — ни за время путешествия, ни за всю его жизнь; а еще меньше — с целью их поисков. Ночью, укладываясь спать вместе со всеми прямо под звездным небом, он думал: «Все так, словно я уже умер и это происходит со мной после смерти, в краю, где вечно светит солнце, за пределами нашего мира, среди сыновей и дочерей моря…» Прежде чем уснуть, он обязательно искал и всегда находил на юге желтую звезду Гобардон и руну Конца, которую вместе с Гобардон составляли ее младшие сестры. Однако теперь звезды всходили позже, и он был не в состоянии бодрствовать до тех пор, пока все созвездие не покажется над горизонтом. Днем и ночью плоты плыли на юг, но в море никогда ничего не менялось, ибо то, что меняется постоянно, всегда выглядит неизменным. Майские дожди прекратились, по ночам небо было усыпано яркими звездами, а днем вовсю светило солнце.
Аррен понимал, что жизнь на плотах не всегда так легка и беспечна, словно приятный сон. Он расспрашивал своих новых друзей о зиме, и они рассказывали о долгих дождях, о мощных водяных валах, об одиноких плотах, дрейфующих меж высоких волн под серым беспросветным небом над чернотой океана — неделю за неделей, месяц за месяцем. В прошлую зиму во время шторма, который длился дней тридцать, они видели такие огромные волны, которые, по их словам, были «словно грозовые тучи»: слова «гора» они не знали. С гребня одной такой волны можно было видеть следующую, невероятных размеров, за несколько тысяч шагов от первой, и эти громады одна за другой обрушивались на их плоты. «Выдерживают ли плоты такие бури?» — спрашивал Аррен, и они отвечали: «Да, но не всегда. Весной, когда мы собираемся на Путях Балатрана, обычно не хватает двух, трех, шести плотов…»
Они вступали в брак совсем юными. Голубой Краб, тот самый юноша с татуировкой в честь собственного имени, и хорошенькая девушка по имени Альбатрос уже были мужем и женой, хотя ему исполнилось лишь семнадцать, а ей — на два года меньше; и подобных браков было множество. Бесчисленные младенцы ползали и спали прямо на бревнах, привязанные длинными веревками к угловым столбам хижины, стоявшей в центре; они сами заползали под навес, спасаясь от дневной жары, и спали там вповалку живыми шевелящимися грудами. Старшие дети присматривали за младшими, а мужчины и женщины любую работу делали вместе. Все без исключения по очереди занимались сбором крупных морских водорослей с коричневыми листьями, «нилгу Балатрана», немного похожих на папоротник, но очень длинных — от сорока до пятидесяти шагов в длину. Все вместе трудились, сбивая нилгу в ткань типа войлока или сплетая жесткие волокна в веревки или сети; все вместе занимались рыбной ловлей, сушили и вялили рыбу, изготавливали различные инструменты из китовой кости, и вообще — выполняли любую необходимую для жизни на плотах работу. Но всегда у них находилось время, чтобы
поплавать или поговорить друг с другом, и никогда не назначался точный срок, к которому та или иная работа должна была быть выполнена. Время там измерялось не часами, а днями и ночами — целиком. После нескольких таких дней и ночей Аррену уже казалось, что он прожил на плоту невероятно долго, а Обеголь просто дурной сон, за которым маячили еще более туманные сны и — какой-то далекий, другой мир, в котором он когда-то жил — все время на суше — и был принцем Энлада.
Когда вождь наконец призвал Аррена на свой плот, Ястреб некоторое время изучал его, потом сказал:
— Ты выглядишь, как тот Аррен, которого я видел во дворике у фонтана; гладкий, как золотистый тюлень. Видно, хорошо тебе здесь, сынок.
— О да, господин мой!
— Да, но где же мы теперь? Все острова остались позади. Мы заплыли в такие края, которые не указаны ни на одной карте… Давным-давно я слышал историю о народе, живущем на плотах, но решил тогда, что это всего лишь очередная сказка о Южном Пределе, выдумка, беспочвенная фантазия. Однако эта «фантазия» вовремя оказалась рядом и спасла нас от смерти.
Он говорил улыбаясь, словно тоже вкусил безвременно летней, легкой, полной света жизни; но исхудалое лицо его было обтянуто кожей, а в глазах затаилась беспросветная тьма. Аррен, заметив это, решился сказать все.
— Я предал… — начал он и запнулся. — Я предал твое доверие, твою веру в меня.
— Это почему же, Аррен?
— Там… в Обеголе, когда в первый и единственный раз я оказался нужен тебе. Ты был ранен, тебе нужна была моя помощь… Но я не сделал ничего! Лодка дрейфовала сама по себе, и я позволил ей это, пустил по воле волн. Ты страдал от боли, но я ничем не облегчил твоих страданий. Я видел другой остров… да, я видел его, но даже не попытался повернуть лодку…
— Спокойно, парень, — сказал волшебник твердо, и Аррен подчинился. Ястреб спросил: — Скажи, о чем ты думал тогда?
— Ни о чем, господин мой… ни о чем! Я считал, что совершенно бессмысленно предпринимать что-либо. Я думал, что все твое могущество улетучилось без следа — нет, что его никогда и не было! Что ты давно уже обвел меня вокруг пальца… — На лбу у Аррена выступили капли пота; ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать говорить, однако он превозмог себя: — Я боялся тебя. Я боялся смерти. Я так ее боялся, что мне не хотелось смотреть на тебя, потому что ты, возможно, уже умирал. Я ни о чем больше не мог думать, кроме того, что для меня существует… существует путь к бессмертию, если я смогу найти его. Но жизнь все вытекала и вытекала из меня, словно во мне была большая кровоточащая рана — такая, как у тебя. И рана эта была как бы во всем. И я не делал ничего, ничего не предпринимал, только пытался спрятаться от ужаса медленной смерти.
Аррен замолчал, потому что говорить правду вот так, ему в лицо, вслух, было непереносимо стыдно. Хотя больше юноше мешал не стыд, а страх — все тот же страх. Он понял теперь, почему эта спокойная жизнь на море, пронизанном солнечными лучами, казалась ему нереальной, похожей на жизнь в раю или на сон: в глубине души он знал, что действительность пуста — в ней нет жизни, нет тепла, нет ярких красок, радостных звуков, нет смысла. И нет в ней ни высот, ни глубин. И вся эта прелестная игра в превращения, солнечные блики на поверхности воды и солнце в глазах людей — лишь иллюзии, забавы, выдумки. А внизу — бездна.
Но очарование миновало, и в душе остались пустота и холод. Больше ничего.
Ястреб по-прежнему внимательно смотрел на него, и юноша потупился, чтобы избежать этого взгляда. Но тут в нем неожиданно и несмело заговорил голос мужества или, возможно, самоиронии. Голос этот звучал высокомерно и безжалостно: «Трус! Трус! Неужели ты и друга своего сбросишь со счетов?»
С огромным трудом Аррен заставил себя поднять глаза и посмотреть Ястребу в лицо.
Тот потянулся к нему, крепко сжал его руку, и они снова встретились — не только взглядом, но и душами.
— Лебаннен, — сказал волшебник. Он никогда еще не произносил вслух подлинного имени Аррена, и Аррен никогда его ему не называл. — Да, Лебаннен. И это твоя сущность. Спасения нет, как и нет конца. Лишь в тишине можно услышать слово. Лишь в полной тьме — увидеть звезды. И великий танец всегда танцуют на краю пропасти, над страшной бездной.
Аррену больше всего хотелось удрать, но волшебник крепко держал его за руку: не пускал.
— Я не оправдал твоих надежд, — сказал юноша. — И это случится еще не раз. У меня не хватает сил!
— Сил у тебя вполне хватает. — Голос Ястреба звучал почти нежно, но в нем звенела твердость и легкая насмешка, родственная той, что заставила Аррена только что преодолеть свой внутренний страх. — Ты не перестанешь любить то, что любишь. И доведешь до конца начатое дело. На тебя можно положиться, Аррен. Ничего удивительного, если ты сам этого до сих пор еще не понял: у тебя в распоряжении было всего семнадцать лет. Но учти, Лебаннен: отказываться от смерти значит отказываться от жизни.
— Но я же искал смерти! — Аррен поднял голову и непонимающе уставился на Ястреба. — Как Попли…
— Попли смерти не искал. Он хотел положить конец своему страху перед смертью.
— Но ведь существует какой-то путь… Тот путь, который искал Попли. И Харе. И другие тоже. Путь назад к жизни, к бесконечной жизни, к жизни без смерти… Ты… ты ведь лучше других… ты должен знать об этом пути…
— Я этого пути не знаю.
— Ну а другие волшебники?
— Мне известно, что некоторые его ищут. Но известно мне также и то, что все они умрут. Как умер Попли. Что умру я. Что умрешь и ты.
Твердая рука его по-прежнему сжимала руку Аррена.
— И я очень ценю это знание — великий дар. Дар понимания собственной сути. Ибо принадлежит нам только то, что мы боимся потерять. Самопознание — это наш крест, наше величие, наша человечность, но оно не вечно. Самовосприятие меняется, исчезает, уходит, словно волна в море. Хотел бы ты, чтобы море навсегда стало спокойным, застыло и приливы перестали вздымать волну за волной? Разве отдашь ты уменье своих рук, страсть своей души, жажду познания ради полной безопасности?
— Безопасности? — эхом повторил Аррен.
— Да, — подтвердил волшебник. — Безопасности.
И выпустил руку юноши и отвернулся от него, словно забыв вдруг о его существовании, хотя они по-прежнему сидели лицом к лицу.
— Не знаю, — сказал наконец Аррен. — Я не понимаю, что я ищу, куда иду, кто я такой.
— Зато я знаю, кто ты такой, — сказал Ястреб тем же тихим суровым голосом. — Ты мой проводник. Благодаря своей невинности и мужеству, своему неведению и верности ты стал моим проводником — дитя, которое я послал впереди себя во тьму. Это твой страх ведет меня. Ты думал, что я жесток по отношению к тебе, но никогда не подозревал, насколько жестоко я пользуюсь твоей любовью — как человек свечой, сжигая ее дотла, чтобы осветить перед собой путь. Но мы должны идти дальше. Должны. Мы должны пройти этот путь до конца. Должны добраться до пересохшего источника, до тех мест, куда влечет тебя страх смерти.
— Где же это, господин мой?
— Не знаю.
— Я не могу отвести тебя туда. Но я пойду с тобой.
Взгляд волшебника был мрачен и непостижим.
— Но если я снова подведу тебя и предам…
— Я сохраню веру в тебя, сын Морреда.
И оба погрузились в молчание.
Высокие резные идолы чуть покачивались над ними на фоне синего южного неба — слитые воедино тела дельфинов, крылья чаек, лица людей с выпученными рачьими глазами…
Ястреб медленно, с трудом поднялся: он был еще далеко не здоров и рана его еще не зарубцевалась.
— Устал я от сидения, — сказал он. — От безделья я, пожалуй, еще растолстею. — И начал мерить плот медленными шагами. Аррен присоединился к нему. Они неспешно беседовали; Аррен рассказывал, как проводит время, с кем подружился. Однако даже неукротимая душа Ястреба вынуждена была уступить напору физической слабости: сил у него было пока маловато. Он остановился возле одной из девушек, ткавшей что-то из волокон нилгу на своем станке за Храмом Великих, и попросил ее разыскать вождя, а сам вернулся в хижину. Туда вскоре и прибыл вождь, приветствовав Ястреба с должным почтением, и волшебник ответил ему тем же. Втроем они уселись на пятнистой шкуре тюленя под навесом.
— Я долго думал, — медленно, с подобающей торжественностью начал вождь, — о том, про что ты рассказал мне. Как люди надеются вернуться из царства смерти и стать такими же людьми во плоти и крови, как прежде; как они при этом забывают своих богов, потребности своей души и тела и сходят с ума. Это все очень дурно! Видимо, все они сошли с ума. Думал я и о том, имеет ли это отношение к нам. Мы не общаемся с другими народами, не бываем на островах, где они обитают; наши пути не пересекаются, мы не ведаем, как они создавали и теперь разрушают свой мир. Мы живем в море, и жизни наши принадлежат морю. Мы не надеемся спасти их, но и не спешим до времени их потерять. То, ваше, безумие нас не затронуло. Мы не высаживаемся на землю, и жители суши не бывают у нас. Когда я был молод, нам порой случалось беседовать с людьми, которые приплывали на лодках к Долгой Дюне. Мы рубим там бревна для плотов и починки зимних жилищ. Часто осенью мы видели паруса судов с Оголя и Уэлуи (так он произносил названия островов Обеголь и Уэллоджи); эти суда охотились на серых китов. Иногда они следовали за нашими плотами на дальние расстояния, потому что мы знаем пути и места встреч Великих. Но то были мои единственные встречи с сухопутными жителями, а теперь они больше не появляются совсем. Возможно, они все уже сошли теперь с ума и вступили в войну друг с другом. Два года назад над северной оконечностью Долгой Дюны в течение трех дней был виден дым большого пожара. Но даже если это действительно был пожар, то что нам до того? Мы — Дети Открытого Моря. Мы следуем его путями.
— И все-таки, заметив принадлежащую жителям островов лодку, попавшую в беду, вы приблизились к ней, — сказал Ястреб.
— Кое-кто из наших считал, что поступать так глупо; они предлагали не трогать лодку — пусть плывет хоть за край моря, — ответил вождь высоким бесстрастным голосом.
— Ты не был одним из тех.
— Нет. Я сказал, что хоть это и люди с островов, мы все же им поможем. Так и было сделано. Но к вашим поискам мы не имеем ни малейшего отношения. Если среди жителей островов поселилось безумие, они сами должны с этим бороться. Мы же следуем путем Великих. Мы не можем помочь вам. Но вы можете оставаться с нами так долго, как сами того пожелаете: мы будем рады. Уже совсем скоро праздник Долгого Танца; после него мы поплывем назад, на север, и восточное течение, завершив круг, к концу лета принесет нас опять к Долгой Дюне. Если вы останетесь с нами и ты излечишься от своего недуга, это будет хорошо. Если же вы сядете в свою лодку и поплывете своим путем — то и это тоже будет для нас хорошо.
Волшебник поблагодарил его, вождь встал — тонкий, напряженный, словно цапля, — и снова оставил их наедине.
— У невинности не хватает сил, чтобы бороться со злом, — холодновато сказал Ястреб, — однако для добра сил у нее хватает… Мы побудем с ними еще немного; я постараюсь поскорее избавиться от этой проклятой слабости.
— Это мудрое решение, господин мой, — сказал Аррен. Физическая хрупкость Ястреба поразила и тронула его; теперь он решил защитить этого неукротимого человека от него же самого, от горевшей в нем страсти, от мучившей его необходимости решить поставленную перед собой задачу. Юноша решил настоять, чтобы они не отправлялись в путь, по крайней мере до тех пор, пока у волшебника не прекратятся боли.
Ястреб смотрел на него, как бы пораженный похвалой.
— Они все тут очень добрые, — продолжал Аррен, не замечая удивления Ястреба. — Похоже, их душ вовсе не коснулась та болезнь, что точит жителей Хорта и других мест. Возможно, больше и не осталось островов в Земноморье, где нам тогда помогли бы и так хорошо приняли бы, как здесь, на этих затерянных в просторах океана плотах.
— Очень возможно, ты прав.
— И летом жизнь у них весьма приятна…
— Да, это так. Хотя есть выловленную в холодных глубинах рыбу всю свою жизнь и так ни разу и не увидеть персикового дерева в цвету, не попробовать живой воды из родника, в конце концов, наверное, здорово поднадоест!
После этого разговора Аррен снова вернулся на плот Стара, где работал, плавал и отдыхал вместе с остальными молодыми людьми, а прохладными вечерами беседовал с Ястребом и потом ложился спать под звездами. Так проходили дни, приближался праздник Долгого Танца, отмечающий середину лета, а огромные плоты по-прежнему медленно дрейфовали к югу, влекомые течением Открытого Моря.
Глава 9
Орм Эмбар
Всю ночь, самую короткую ночь в году, горели факелы на плотах, образовывавших огромный круг под усыпанным звездами небом; кольцо огней отражалось в движущейся воде. Жители плотов танцевали без музыкального сопровождения, не звучали ни барабаны, ни флейты, лишь босые ноги отбивали ритм на огромных бревнах да раздавались высокие голоса певцов, словно жалобные крики чаек в безбрежном морском просторе, что был для них родным домом. Луна не появлялась, и тела танцоров мелькали, словно тени, в неярком свете звезд и факелов. То и дело кто-то нырял в волны, как рыбка, и вскоре появлялся на соседнем плоту; ныряльщики описывали в воздухе изящные высокие дуги, соревнуясь друг с другом и стремясь побывать на всех плотах по очереди, потанцевать на каждом из них и успеть до рассвета замкнуть круг.
Аррен танцевал со всеми вместе, ибо Долгий Танец празднуют на каждом из островов Земноморья, хотя фигуры танца и слова песен могут немного различаться. Постепенно в течение ночи многие танцоры начали выходить из круга; они садились в сторонке, чтобы отдохнуть и посмотреть на других, а когда голоса певцов несколько охрипли, Аррен с группой наиболее упорных юношей-ныряльщиков добрался до плота вождя и остался там, а его приятели двинулись дальше.
Ястреб сидел рядом с вождем и тремя его женами возле храма. В дверном проеме между резными изображениями китов устроился певец, чей высокий голос не умолкал в течение всей ночи. Неутомимый, он пел, отбивая руками ритм по бревнам плота, просто ради собственного удовольствия.
— О чем он поет? — спросил Аррен волшебника, потому что никак не мог разобрать слов, которые певец слишком растягивал то за счет трелей, то за счет странных пауз в середине.
— О серых китах, и альбатросах, и о штормах… Им неведомы песни о героях древности. Имени Эррет-Акбе они не знают. Чуть раньше он пел о Сегое, о том, как он создал земли среди моря; вот и все, что они помнят из нашего фольклора. Но все остальное в его песнях — о море.
Аррен слушал; и слышал свист дельфина, о котором слагал свою песню певец. Видел профиль Ястреба, выхваченный из темноты светом факела, темный и твердый, точно вырезанный из камня; видел влажный блеск глаз женщин, жен вождя, тихонько переговаривавшихся друг с другом. Он ощущал неторопливое спокойное покачивание плота на поверхности утихшего моря и, убаюканный, постепенно соскользнул в сон.
Пробуждение было резким из-за внезапно наступившей тишины. Певец умолк, и не только на их плоту; на всех плотах, дальних и ближних, затихли высокие голоса певцов, похожие на крики чаек, и веселье замерло.
Аррен глянул через плечо на восток, ожидая увидеть зарю. Однако ущербный месяц только еще вставал низко над горизонтом — золотистый серпик среди крупных летних звезд.
Потом, посмотрев на юг, Аррен увидел высоко-высоко в небе желтую звезду Гобардон и ниже — восемь ее спутниц, включая последнюю: руна Конца ясно и страшновато светилась над морем. И, обернувшись к Ястребу, юноша увидел, что темное лицо волшебника тоже повернуто к созвездию Гобардон.
— Почему ты перестал петь? — спросил вождь певца. — Еще не утро, заря еще не занялась.
Тот, заикаясь, ответил:
— Не знаю.
— Пой дальше! Долгий Танец еще не окончен.
— Я не знаю слов, — сказал певец, и голос его зазвенел, словно от страха. — Я не могу петь. Я забыл песню.
— Тогда пой другую!
— Нет больше песен. Все кончено! — прокричал певец и пал ниц перед вождем. Вождь изумленно воззрился на него.
Слышно было, как шипят и плюются факелы на покачивающихся плотах. Великая тишина океана как бы поглотила этот крошечный всплеск жизни и света на своей поверхности. Не двигался ни один танцор.
Аррену в этот миг показалось, что даже великолепие звезд померкло, однако и проблесков зари не было заметно на востоке. Ужас охватил его, он подумал: «Не будет больше восхода. И дня тоже не будет».
Волшебник встал. И тут же неяркий белый огонек быстро пробежал вверх по его посоху и ярко вспыхнул на руне Мира, что была инкрустирована серебром на черном тисовом дереве.
— Долгий Танец еще не окончен, — сказал Ястреб, — и ночи еще далеко до конца. Пой, Аррен.
Аррену хотелось сказать: «Я не могу, господин мой!» — но вместо этого он еще раз посмотрел на девять звезд, ярко горевших на юге, набрал в грудь побольше воздуха и запел. Поначалу голос его был негромок и чуть хрипловат, но постепенно стал громче, а пел он одну из стариннейших в Земноморье песен о создании Эа, о том, как пришли в равновесие свет и тьма, о том, как были созданы зеленые острова Земноморья тем, кто сказал Первое Слово и был самым первым Повелителем людей — Сегоем.
Он не успел допеть до конца, а небо уже посветлело, стало серо-голубым, и видны теперь были только истонченный месяц да желтая звезда Гобардон; в порывах утреннего ветерка факелы шипели особенно яростно. Когда песнь была спета, Аррен умолк, и танцоры, что со всех сторон собрались послушать его, потихоньку стали возвращаться на свои плоты, а на востоке разгорался яркий свет зари.
— Это хорошая песня, — сказал вождь. Голос его звучал неуверенно, хотя он очень старался говорить прежним бесстрастным тоном. — Было бы нехорошо завершить Долгий Танец не по правилам. Я прикажу, чтобы ленивых моих певцов высекли плетьми из волокон нилгу.
— Лучше успокой их, — посоветовал Ястреб. Он по-прежнему стоял во весь рост; голос его звучал сухо. — Ни один певец не предпочтет песне молчание. Пойдем-ка со мной, Аррен.
И он направился к своей хижине; Аррен последовал за ним. Однако необычность этого восхода, видно, еще не была исчерпана до конца: когда восточный край моря у горизонта стал белым, с севера к плотам стала приближаться какая-то огромная птица. Так высоко летела она, что крылья ее временами закрывали свет солнца, которое едва появилось над морем. Огромные крылья, золотистые в солнечных лучах, с шумом разрезали воздух прямо над плотами. Аррен изумленно вскрикнул, указывая вверх. Волшебник тоже удивленно поднял глаза. Лицо его вдруг загорелось яростью и торжеством, и во весь голос он крикнул:
—
Нам хиетха арв Гед аркваисса! — что на Речи Созидания значило: «Если ты ищешь Геда, то найдешь его здесь».
И тут, подобно свинцовому грузу, широко распахнув золотистые крылья, гремящие в воздухе, и выпустив когти, что способны поднять в воздух вола словно мышь, с вырывающимся из продолговатых ноздрей завитком дымного пламени упал с неба дракон и, подобно ловчей птице, застыл совершенно неподвижно на покачивающемся плоту.
Кто-то пронзительно закричал, кто-то упал ничком, кто-то нырнул в море, а кто-то так и остался стоять неподвижно, потрясенный чудом, которое превосходило страх.
Дракон возвышался над плотом. Шагов пятьдесят, по крайней мере, было в размахе его кожистых крыльев, сверкавших в лучах народившегося солнца подобно золотистому дыму, да и длина тела его была не меньше; тело у дракона было гладкое, поджарое, как у серой гончей, когтистые лапы ящера, змеиная чешуя. Вдоль узкого хребта тянулся ряд крупных загнутых шипов, похожих по форме на колючки розы, только посередине туловища высота их достигала локтей четырех, а потом постепенно уменьшалась, так что последний, на кончике хвоста, был не длиннее лезвия перочинного ножа. Шипы эти были серого цвета, а чешуя, покрывавшая тело дракона, — стального, но в целом весь он слегка отливал золотом. Зеленые узкие глаза были полуприкрыты.
Страх за свой народ заставил вождя позабыть об опасности, грозящей ему самому, и он вышел из своего дома с гарпуном в руках; с такими обычно охотятся на китов. Гарпун был длиннее самого охотника, с большим и острым зазубренным наконечником из китовой кости. Уложив его на свое хрупкое, но довольно мускулистое плечо, вождь бросился было вперед, рассчитывая поразить дракона в наименее защищенную часть брюха, что нависала над плотом. Однако Аррен, очнувшись от столбняка, успел схватить вождя за руку и вместе с ним рухнул на плот, уронив и гарпун, приготовленный для броска.
— Ты что, хочешь разозлить его этой дурацкой булавкой? — выдохнул Аррен. — Пусть сперва свое слово скажет Повелитель Драконов!
Вождь, отчасти утративший спесь и оглушенный падением, тупо переводил взгляд с Аррена на волшебника и с волшебника на дракона. Но ничего не говорил. И тут заговорил сам дракон.
Никто на плотах, кроме Геда, к которому, собственно, он и обращался, не мог понять его, ибо драконы пользуются только Истинной Речью — родным для них языком.
Голос дракона был негромок и походил на шипение разъяренного кота, только кота огромного, мощного; в нем слышалась какая-то ужасная музыка. Каждый, услышав подобный голос, застыл бы на месте, превратившись в слух.
Волшебник ответил ему одним лишь словом:
мемеас, что значит «приду», и поднял свой посох из тисового дерева. Дракон чуть приоткрыл челюсти, и из пасти его вырвалось изящное кольцо дыма. Золотистые крылья грохотнули, словно гром, поднялся сильный ветер, пахнувший пожаром, и огромный дракон поднялся и полетел на север.
На плотах было очень тихо, лишь порой слышались тоненькие голоса малышей, плач младенцев и бормотание успокаивающих их женщин. Мужчины с несколько пристыженными лицами взобрались обратно на плоты, а забытые факелы так и горели в ярких лучах утреннего солнца.
Волшебник повернулся к Аррену. Лицо его как-то странно светилось — то ли от радости, то ли от сильного гнева. Но говорил он спокойно.
— Теперь нам пора в путь, парень. Прощайся с друзьями и приходи.
И Ястреб повернулся к вождю «плавучего народа», чтобы поблагодарить его за все и попрощаться с ним. Потом быстро прошел по большому плоту к трем меньшим, которые были причалены к нему, туда, где крепко привязана была его «Зоркая». Лодка вместе с плотами совершила длинное неспешное путешествие на юг; пустая и легкая, покачивалась она на слабой волне. Однако Дети Открытого Моря успели наполнить пустой бочонок драгоценной дождевой водой и весьма значительно пополнили запасы продовольствия, выражая тем самым свое уважение нежданным гостям; многие из них считали волшебника одним из Великих, который на этот раз предстал перед ними в обличье человека, а не серого кита. Когда Аррен присоединился к Ястребу, тот уже поднял парус. Аррен отвязал веревку от колышка на плоту и спрыгнул в лодку. В ту же секунду «Зоркую» отнесло в сторону, парус ее надулся, как при сильном ветре, хотя веял лишь слабый утренний ветерок. Лодка резво развернулась и понеслась на север вслед за улетевшим драконом, легкая, словно сорванный ветром листок.
Оглянувшись, Аррен увидел вдали город Детей Моря, который казался теперь всего лишь скоплением кусков плавника; отсюда не видны были ни хижины, ни столбы для факелов по углам плотов. А вскоре и все остальное тоже скрылось в слепящей утренней дымке, пронизанной солнцем. «Зоркая» мчалась вперед. Когда ее нос рассекал волны, назад отлетали легкие прозрачные брызги, а ветер — так быстро шла лодка — свистел в ушах, отметая назад волосы и заставляя щуриться.
Ни один из дующих на земле ветров не мог бы заставить эту лодку двигаться с такой скоростью, разве что штормовой. Однако при штормовом ветре «Зоркую» скорее всего захлестнули бы волны. Нет, вперед гнал ее не земной ветер, но слово волшебника и его замечательная сила.
Ястреб долгое время стоял у мачты и внимательно смотрел вперед. Потом наконец уселся на свое прежнее место у румпеля и, положив на него одну руку, взглянул на Аррена.
— Это был Орм Эмбар, — сказал он, — великий дракон с Селидора, потомок того Великого Орма, что смертельно ранил Эррет-Акбе и сам был убит им.
— Он охотился, господин мой? — спросил Аррен, ибо не был уверен, разговаривал ли волшебник с драконом приветствуя его или угрожая.
— Охотился. За мной. Если драконы за чем-то охотятся, они всегда настигают свою жертву. Он прилетел просить меня о помощи. — Ястреб коротко рассмеялся. — И это как раз такой случай, в возможность которого я бы никогда не поверил. Нет, я не поверил бы рассказам о том, как дракон обратился к человеку за помощью. И уж из всех драконов — этот в последнюю очередь! Он не самый старый из них, хотя и он, конечно же, очень стар, но в своем племени самый могущественный. Он не скрывает своего настоящего имени, как обычно должны поступать драконы и люди. Он не боится, что кто-то окажется сильнее его. Но он и не совершает предательств, как это свойственно драконам. Когда-то давно на Селидоре он не только оставил меня в живых, но и сообщил мне великую истину: рассказал, как найти Королевскую Руну, Утраченную Руну. Ему я обязан Кольцом Эррет-Акбе. Но я никогда не думал, что сумею как-то отплатить своему благодетелю за эту услугу. Такому благодетелю!
— Чего же он просит?
— Он хочет показать мне тот путь, который я ищу, — сказал волшебник, мрачнея. И, помолчав, добавил: — Он сказал: «На западных островах есть еще один Повелитель Драконов; он разрушает наш мир, он сильнее нас». Я спросил: «Даже сильнее тебя, Орм Эмбар?» — и дракон ответил: «Даже сильнее меня. Ты мне нужен; следуй за мной, не мешкай». И я подчинился.
— И больше ничего ты пока не знаешь?
— Потом узнаю больше.
Аррен свернул в кольцо швартовочный конец, положил его на место, немного прибрал в лодке, и все это время в нем пело напряженное возбуждение, словно натянутая тетива лука, и это же веселое напряжение пело в его голосе, когда он наконец заговорил.
— Вот это настоящий проводник! — сказал он. — Уж получше предыдущих.
Ястреб посмотрел на него и засмеялся.
— О да! — сказал он. — Уж теперь-то, надеюсь, мы не заблудимся.
Так волшебник и юноша начали свою великую гонку через весь океан. Много дней пути было от пустынных южных морей до острова Селидора — самого западного из всех островов Земноморья. День за днем занималась ясная заря над горизонтом; вечерами солнце тонуло в красных закатных водах; и под золотой дугой солнечного света, и под серебристым сиянием, льющимся с неба звездными ночами, летела лодочка к северу, одна-одинешенька во всем бескрайнем море.
Порой где-то в стороне собирались могучие грозовые тучи, столь частые в середине лета, они отбрасывали на воду красноватые тени. Тогда Аррен глаз не мог отвести от волшебника: выпрямившись в полный рост, голосом и рукой Ястреб повелевал тучам приблизиться и облегчиться дождем над их лодкой. Сверкали молнии, колокольными раскатами гудел гром, а волшебник стоял с воздетой рукой, пока дождь не проливался именно там, где он приказывал, прямо над их головами, наполняя все сосуды, которые они заранее выставляли наружу, и как бы сглаживая поверхность моря своими мощными потоками. Промокшие насквозь, волшебник и Аррен только радостно улыбались: еды у них, в общем-то, было достаточно, хоть и не в избытке, а вот воды постоянно не хватало. И яростное великолепие бури, подчинившейся слову волшебника, приносило им великую радость.
Аррена поражало то невероятное могущество, которым волшебник теперь пользовался с необычайной легкостью. Однажды юноша заметил:
— Когда мы начали свое путешествие, ты, господин мой, никаких заклятий не произносил!..
— Первая и последняя заповедь Школы Волшебников гласит:
Делай только то, что необходимо. Но не больше!
— Значит, между первой и последней заповедью учатся как раз этому необходимому?
— Именно так. Нужно во всем соблюдать равновесие. Но если равновесие нарушено, то приходится учитывать и другие вещи. И прежде всего — поторапливаться.
— Но как же так: все волшебники Южного Предела — да теперь, наверно, и везде в Земноморье, — даже те певцы на плотах, все, как один, утратили свое мастерство, и только ты сохранил свою силу?
— Потому что мне, кроме моего мастерства, больше ничего не нужно, — ответствовал Ястреб. И, помолчав, добавил: — И если уж мне тоже вскоре суждено утратить свою силу, то я хоть напоследок попользуюсь ею всласть.
И он действительно с удовольствием и беспечно пользовался своим искусством. Аррен, видевший его всегда столь осторожным и сдержанным, даже не подозревал, что Верховный Маг может быть таким веселым и свободным. Любой чародей получает удовольствие от хорошо сработанного трюка: волшебники — прирожденные трюкачи. Когда Ястреб столь сильно изменил свою внешность в городе Хорте — что очень раздражало Аррена, — то и это тоже было в некотором роде игрой, не слишком сложным фокусом для того, кто в силах изменить не только лицо и голос, но даже и сущность свою, превратившись, скажем, в рыбу или дельфина, а может быть, и в настоящего ястреба. А однажды волшебник сказал:
— Смотри, Аррен, я покажу тебе Гонт, — и велел смотреть на поверхность воды в котелке, налитом до краев.
Многие колдуны могут вызвать изображение на поверхности водного зеркала, но здесь было нечто большее: сперва появилась вершина высокой горы, окутанная облаками, у ее подножия плескалось серое море. Потом картина стала иной. Аррен отчетливо увидел на этом острове-горе утес, притом сам он как бы парил в воздухе над этим утесом, превратившись в какую-то птицу — чайку или сокола. Утес, словно башня, возвышался над волнами, а на одном из его выступов приютился маленький домик.
— Это Ре Альби, — сказал Ястреб. — Там живет мой Учитель, Огион. Давным-давно он остановил ужасное землетрясение. А теперь пасет своих коз, собирает травы и хранит молчание. Хотелось бы мне знать, бродит ли он все так же в полном одиночестве по горам? Он теперь, должно быть, очень стар. Но я, конечно же, сразу узнаю, если он умрет… — В голосе его не было уверенности, и на мгновение изображение покрылось волнами, словно гигантский утес начал падать в море. Потом картина снова прояснилась, а голос волшебника зазвучал более твердо: — Он обычно уходит высоко в горы, в дальние леса к концу лета и проводит там часть осени. Так и я с ним впервые встретился; я тогда был сопливым мальчишкой из горной деревни. Он дал мне мое подлинное имя. И вместе с именем — настоящую жизнь. — Изображение теперь изменилось: Аррену казалось, что он, по-прежнему будучи птицей, залетел в лес и уселся среди ветвей, глядя на залитые солнцем луга ниже по склону. А над его головой возвышалась покрытая снегом вершина, и к ней вела дорога, очень крутая, тенистая, и золотые солнечные зайчики пробиваются сквозь листву… — Нет в мире лучшей тишины, чем тишина этих лесов, — с тоской сказал Ястреб.
Изображение затуманилось и исчезло, только слепящий диск полуденного солнца отражался в воде, налитой в котелок.
— Туда, — сказал Ястреб, глядя на Аррена со странной, чуть насмешливой улыбкой, — туда — если я и сам еще смогу когда-либо вернуться — за мной не сможешь последовать даже ты.
Впереди открылся остров с низкими берегами. В полуденном мареве он казался голубым, словно облако тумана.
— Это Селидор? — спросил Аррен, и сердце его бешено забилось, но волшебник ответил:
— Обб, я думаю, или Джесседж. Мы еще и половины пути не прошли, парень.
За ночь они проплыли от одного острова до другого, но огней на берегу не видели, зато в воздухе висел запах дыма, настолько сильный, что раздражал легкие, вызывая кашель. Когда рассвело, они посмотрели на оставшийся за кормой восточный из островов Джесседж и ужаснулись: остров был буквально сожжен дотла, до черноты; неясная синяя дымка висела над ним.
— Они сожгли свои поля, — прошептал Аррен.
— Да. И деревни. Я уже слышал когда-то такой запах.
— Разве в Западном Пределе живут дикари?
Ястреб покачал головой:
— Обычные люди. Крестьяне, горожане.
Аррен не мог оторвать глаз от черной изуродованной земли, страшных обугленных деревьев в садах — зловещих на фоне небес. Лицо юноши посуровело.
— Какое зло причинили людям эти деревья? — гневно проговорил он. — Неужели за свои ошибки человек должен наказывать траву? Нет, это дикари, раз они жгут свои поля и сады, вступив в войну с другими людьми.
— Никто не руководит ими, — сказал Ястреб. — У них нет настоящего короля; а все, кто мог бы стать королем, все мудрецы и волшебники отстранены от власти, все заняты копанием в собственных душах: ищут дверцу, которая поможет им пройти невредимыми через царство смерти и обрести бессмертие. Так было в Южном Пределе, так, по-моему, обстоят дела и здесь.
— Неужели все это плоды деятельности одного лишь человека — того, о котором говорил дракон? Но это просто невероятно!
— Почему же нет? Если бы в Земноморье правил настоящий король, то ведь и он был бы единственным. Он один правил бы всеми землями. Один человек может столь же легко совершать разрушения, как и править миром: либо быть Великим Королем, либо — Великим Разрушителем.
И снова в его голосе послышалась не то насмешка, не то вызов; почему-то Аррен рассердился:
— У любого короля есть слуги, армия, послы, советники и всякие другие помощники. Он правит благодаря им. Но где же помощники этого… антикороля?
— В наших душах, парень. В наших душах. Это там таится предатель. Это твое «я» кричит: «Я хочу жить! Пусть мир страдает, пусть даже разлагается заживо, лишь бы я оставался живым!» Маленький этот предатель — наша жалкая душонка — живет внутри нас, прячась во тьме, словно паук в углу сундука. Все мы слышим его голос. Но лишь немногие понимают его. Мудрецы, певцы — все, кто созидает душой. И еще герои. Те, кто стремится всегда быть самим собой. А всегда оставаться собой — вещь редкостная, великий дар. Но быть самим собой вечно — это ли не подлинное величие?
Аррен посмотрел Ястребу прямо в глаза:
— Ты хочешь сказать, что вечная жизнь вовсе не важна. Но ответь мне, почему? Я был совсем ребенком, когда мы отправились в это путешествие. Я не верил в смерть. Кое-чему я за это время научился; может быть, не столь уж многому, но все же. Так, я научился верить в смерть. Но радоваться ей я так и не научился! Я не буду рад ни своей смерти, ни твоей. Если я по-настоящему люблю жизнь, то, наверно, естественно, что я ненавижу, когда она кончается?
Учителем фехтования у Аррена был в Бериле человек лет шестидесяти, невысокий, лысый и строгий. Аррен много лет с трудом терпел его, понимая, впрочем, что мастер это непревзойденный. И вот, в один прекрасный день на уроке Аррен выбрал момент, когда учитель его отвлекся, и выбил шпагу у него из рук. С тех пор он навсегда запомнил, какой невероятной, непостижимой радостью вспыхнуло вдруг лицо его холодного наставника. Искренняя надежда, счастье — вот он, соперник, наконец-то равный ему! С того дня учитель гонял его совершенно безжалостно, и когда они сходились по-настоящему, на лице старого мастера появлялась та же упрямая, безжалостная улыбка, которая все светлела по мере того, как Аррен сильнее теснил его. Похожая улыбка освещала сейчас лицо Ястреба.
— Жизнь без конца, — сказал волшебник. — Жизнь без смерти. Бессмертие. Каждая живая душа жаждет этого, и чем эта душа здоровее, тем сильнее жажда жизни. Но будь осторожен, Аррен. Ты из тех, кто может осуществить свое желание.
— И что тогда?
— А тогда — то, что уже происходит сейчас: полный упадок. Позабытые искусства. Утратившие голос певцы. Невидящие глаза. А дальше? Король-обманщик на троне Земноморья. Навечно. И навечно земли его пребудут в разрухе. Не будет рождений, не будет детей. Не начнутся новые жизни. Только те, что смертны, способны нести в себе жизнь, Аррен. Только в смерти — залог возрождения. Великое Равновесие не равно спокойствию или застою. Это вечное движение, вечное становление нового.
— Но какую опасность представляет для Великого Равновесия один лишь человек, какое значение имеет для него одна-единственная человеческая жизнь? Нет, это невозможно, этого, конечно, нельзя допустить… — Он внезапно умолк.
— Нельзя? Но кто наложит запрет? Кто позволит?
— Не знаю.
— Я тоже.
Почти смирившись, Аррен покорно спросил:
— Но тогда почему ты так уверен в своей правоте?
— Просто я хорошо знаю, сколько зла может сотворить один-единственный человек, — сказал Ястреб, и его покрытое шрамами лицо помрачнело. — Я знаю это, ибо сам некогда совершил зло. Почти такое же. И тоже движимый гордыней. Я приоткрыл проход между нашими двумя мирами — жизни и смерти, света и тьмы. Всего лишь щель, маленькую и узкую, с единственной целью: доказать, что я сильнее, чем сама смерть. Я был молод и со смертью еще не встречался — как и ты пока… Потребовалось все могущество Верховного Мага Неммерля, все его мастерство и — вся его жизнь, чтобы края этой щели сомкнулись. Можешь полюбоваться, какую отметину оставила на моем лице та ночь. Такая же — в моей душе. Но его эта ночь убила. О да, дверь между царством света и царством тьмы можно открыть, Аррен! Для этого нужны немалые силы, но это вполне возможно. Однако закрыть ее снова — совсем-совсем не так просто; другое нужно для этого…
— Но то, что тогда сделал ты, конечно же, не равносильно…
— Почему же? Потому что я хороший человек? — Он холодно глянул на Аррена, и тот словно снова почувствовал укол шпаги старого мастера фехтования. — А что такое «хороший человек», Аррен? Может быть, это тот, кто ни за что не сотворит зла, кто никогда не впустит в этот мир тьму, тот, в чьей душе тьмы нет? Давай-ка сначала, парень. Заглянем теперь чуть дальше. То, что ты узнаешь сейчас, понадобится тебе для того, чтобы пойти туда, куда ты пойти должен. Загляни себе в душу! Разве ты не слышал голоса, зовущего: «Пойдем!» Разве не последовал ты этому зову ни разу?
— Последовал… Но… я думал, что это Его голос.
— Это и был его голос. Но и твой тоже. Как еще мог он заговорить с тобой и со всеми остальными, кто может его услышать, как не вашими собственными голосами?
— Но тогда почему же его не слышишь ты?
— Потому что не желаю слушать! — яростно ответил Ястреб. — Я был рожден, чтобы властвовать; точно так же, как и ты. Но ты еще молод. Ты только подошел к границе своих возможностей, а потому в стране теней, в царстве снов и мечтаний ты и слышишь его зов: «Пойдем!» Как и я когда-то услышал. Но теперь я стар. Я уже совершил свой выбор, я сделал то, что должен был сделать. И при свете дня я не отворачиваюсь перед лицом собственной смерти. Я знаю: лишь одна сила достойна того, чтобы ею обладал человек. Это — умение не брать ничего силой, но принимать как должное. Не иметь, а давать.
Джесседж остался далеко позади — голубое пятно на поверхности моря.
— В таком случае я тоже его слуга? — спросил Аррен.
— Да. А я твой.
— Но кто же он? Что он такое?
— По-моему, человек.
— Не тот ли человек, о котором ты мне как-то рассказывал, — колдун из Хавнора, который вызывал души умерших? Может быть, это он?
— Вполне возможно.
— Но ведь, по твоим словам, он уже был стар, когда вы встречались, много лет тому назад… Разве он уже не должен был бы умереть?
— Может быть, и умер, — согласился Ястреб.
И больше они не сказали друг другу ни слова.
В ту ночь море было полно огня. Островерхие волны, рассекаемые носом «Зоркой», движение каждой рыбы у поверхности воды были ясно видны и как бы одушевлены светом. Аррен сидел, положив руку на румпель, а голову на руку, и смотрел на бесконечные изгибы и извивы серебристых светящихся линий. Потом опустил в воду руку, а когда вытащил ее, то жидкий свет медленно стек по его пальцам.
— Смотри, — сказал он Ястребу, — я теперь тоже волшебник.
— Нет, этим даром ты не обладаешь, — ответил его товарищ.
— Много же от меня будет тебе пользы без него, — сказал Аррен, не сводя глаз с беспокойно переливающейся воды, — когда мы встретимся с врагом.
Ибо он все-таки надеялся — с самого начала надеялся! — что Верховный Маг выбрал для этого путешествия его, одного из многих, благодаря какой-то волшебной силе, полученной им в наследство от Морреда, его великого предка, и сила эта в самый трудный час, при самой черной нужде непременно проявится, и тогда он, Аррен, спасет и себя, и своего господина, и весь белый свет от страшного врага. Потом он не раз думал об этом, словно разглядывая себя издалека, со стороны; и мечта эта показалась ему похожей на то, как он совсем еще маленьким тоже мечтал — померить отцовскую корону; и как горько он плакал, когда ему это запретили. Надежда на унаследованную волшебную силу тоже оказалась совершенно детской. Не было в нем никакой волшебной силы. И никогда не будет.
Однако действительно может наступить такое время, когда он сможет и должен будет по праву надеть отцовскую корону и станет править Энладом. Но все это теперь казалось ему малозначащим, а родной дом — крошечным и очень далеким островом. Нет, он остался верен родине, только верность эта стала шире, сильнее и покоилась на иной, серьезной основе, связанной с многообещающими надеждами. Он понял теперь, в чем его слабость, и, поняв это, научился рассчитывать свои силы. А сила в нем есть — это он знал точно. Но что толку в обычной силе, если, кроме нее, у него нет ни особого таланта, ни волшебного могущества — ничего, что мог бы он предложить своему господину? Разве что верную службу и преданность? Но будет ли этого достаточно там, куда они направляются?
Ястреб как-то сказал: «Чтобы свет свечи казался ярким, нужно, чтобы вокруг было темно». Этими словами Аррен пытался утешить себя, однако слишком утешительными их не находил.
На следующее утро, когда они проснулись, все вокруг — и воздух, и вода — было серым. Только высоко над мачтой слегка просвечивала голубизна: низко над водой стелился густой туман. Для северян Аррена и Ястреба туман этот был даже приятен, словно старый друг, заглянувший в гости с Энлада или Гонта. Он мягко обволакивал лодку со всех сторон, так что они ничего не видели впереди, и обоим казалось, что они вдруг попали в давно знакомую комнату после долгих недель плавания по слишком ярко освещенному и слишком безлюдному, продуваемому всеми ветрами морю.
Они возвращались в родные широты и были теперь, по всей вероятности, уже на широте острова Рок.
Где-то днях в трех пути отсюда к востоку ясный солнечный свет играл на золотистой листве Имманентной Рощи, освещал зеленую вершину Холма Рок и высокую черепичную крышу Большого Дома.
Мастерская чародеев помещалась в Южной Башне; это была большая комната, вся заставленная ретортами и перегонными кубами, пузатыми бутылями с изогнутым горлом, толстостенными тиглями и крошечными горелками; на столах лежало множество щипцов; ручные мехи, разнообразные штативы, плоскогубцы, напильники, трубочки и трубки; везде стояли сундучки, пузырьки и кувшины, заткнутые пробками и помеченные как ардическими, так и более древними рунами; имелся здесь и прочий алхимический инструмент: стеклодувные трубки, приборы для получения драгоценных металлов высокой пробы, медицинские приборы и так далее. Среди всех этих загроможденных столов и скамей стояли Мастер Метаморфоз и Мастер Заклинатель.
Седовласый Метаморфоз держал в руках большой камень, издали похожий на необработанный алмаз. Камень был очень твердый, прозрачный, как бы изнутри светящийся аметистово-розовым светом, а на самом деле бесцветный, как вода. И все же в этой прозрачности глаз вскоре замечал как бы нечто замутненное; поверхность камня не отражала абсолютно ничего из окружающего, и человеческий глаз как бы проникал в бесконечные глубины кристалла, одна плоскость сменяла другую, человек видел все глубже и глубже, пока не погружался в сон, из которого не было пути назад. То был знаменитый Камень Шелитха. Он издавна хранился у правителей острова Уэй и служил то просто украшением их сокровищницы, то снотворным средством, а иногда использовался и для куда более опасных целей: теми, кто слишком долго и без определенной цели смотрел в бесконечные глубины кристалла, могло овладеть безумие. Но Верховный Маг Геншер был родом с острова Уэй и, прибыв на Рок, привез Камень Шелитха с собой, ибо в руках мага камень этот изрекал истину.
Однако истина эта оказалась изменчивой: она зависела от того, в чьих руках находился Камень Шелитха.
А потому Метаморфоз, держа в руках волшебный кристалл и глядя в бесконечное бледно-сиреневое глубинное колыхание граней, говорил громко и отчетливо, описывая то, что видел:
— Я вижу нашу землю как бесконечную равнину, словно нахожусь на самой Горе Онн в центре мирозданья и все расстилается у ног моих… вижу Земноморье вплоть до самого дальнего островка самого дальнего предела и даже дальше. И все видно очень отчетливо. Вижу также корабли в водах Илиена, вижу дым очагов над крышами Торхевена, вижу даже крышу той башни, где мы сейчас стоим. Но дальше острова Рок теперь не видно ничего. Никаких островов на юге. Никаких островов на западе. Я не могу разглядеть Уотхорт там, где он должен быть; не вижу ни одного из островов Западного Предела, даже самого близкого к нам — Пендора. А где же Осскил и Эбосскил? Над Энладом висит туман, плотный и серый, очень похожий на паутину. Едва я пытаюсь разглядеть что-то получше, как исчезает еще несколько островов, и море в тех местах, где эти острова когда-то были, девственно и пусто, словно еще до Века Созидания… — он споткнулся на последнем слове и выговорил его с трудом.
После чего Метаморфоз поставил Камень обратно на резную подставку из слоновой кости и отошел подальше от него. Его доброе лицо казалось совершенно измученным.
— А теперь рассказывай, что видишь ты, — сказал он.
Мастер Заклинатель взял Камень в руки и медленно повернул его, словно отыскивая на сверкающей поверхности такую грань, сквозь которую ему было бы лучше видно. Долгое время с напряженным лицом он крутил Камень и так и сяк. Потом поставил на место и сказал:
— Метаморфоз, я слишком мало вижу. Какие-то фрагменты, что-то мелькает, но целостной картины нет.
Седовласый Метаморфоз в волнении стиснул руки.
— Разве само по себе это уже не странно?
— Отчего бы?
— У тебя что, так часто слепнут глаза? — гневно закричал Метаморфоз. — Неужели ты не видишь, что… что… — он запнулся и только с трудом, заикаясь, смог продолжить, — там… там словно чья-то рука прикрывает твои глаза — точно так же, как и мой рот?
— Ты, видно, перетрудился и устал, господин мой, — успокаивающе сказал Заклинатель.
— Вызови заклятием душу Камня, — потребовал Метаморфоз. Сейчас он говорил довольно спокойно, но все равно как бы с трудом.
— Зачем?
— Зачем? Ну хотя бы потому, что я прошу тебя об этом.
— Успокойся, Метаморфоз. Зачем ты подзадориваешь меня, как мальчишку перед медвежьим логовом? Разве мы с тобой дети?
— Да! Перед тем, что показал мне Камень Шелитха, я всего лишь испуганное дитя. Вызови душу Камня! Неужели я должен умолять тебя, господин мой?
— Нет, конечно, что ты, — ответил долговязый Заклинатель, однако весь напрягся и поспешно отвернулся от старшего товарища. Потом высоко и широко воздев руки в том жесте, с которого начинается Великое Заклятие, вызывающее души, он поднял голову и начал произносить слова заклинания. И по мере того, как одно за другим падали эти торжественные слова, внутри Камня Шелитха как бы разгорался свет. В мастерской вдруг стало темнеть; темные тени сгустились, стали совсем черными, зато Камень сиял, как звезда. Мастер Заклинатель соединил руки и поднял волшебный кристалл ближе к глазам, уставившись в ту точку, откуда исходило яркое свечение. Некоторое время он молчал, потом тихо заговорил:
— Я вижу фонтаны Шелитха. Озера, пруды, искусственные водоемы, водопады и пещеры, занавешенные стеной падающей воды; там по замшелым берегам растут папоротники; я вижу белые пески на берегах озер; я вижу, как сочится капля за каплей вода, вижу, как струится она в родниках, берущих начало в потаенных недрах земли, чувствую сладость этих струй, вижу их источник… — Он внезапно снова умолк и некоторое время стоял, не говоря ни слова; лицо его было настолько бледным, что светилось как серебро в свете, излучаемом Камнем. Потом Заклинатель громко вскрикнул, ничего так и не рассказав, с грохотом уронил кристалл, упал на колени и спрятал лицо в ладони.
Черные тени исчезли. Летнее солнце светило в окна неубранной мастерской. Волшебный Камень лежал под столом в пыли, но был совершенно цел.
Мастер Заклинатель, шаря руками, словно слепой, ухватился за руку своего товарища. Он напоминал испуганного ребенка. Прошло несколько минут, прежде чем он глубоко вздохнул и с трудом встал, опираясь о плечо Метаморфоза.
— Я больше никогда не приму твоего вызова, господин мой, — выговорил он прыгающими губами, тщетно пытаясь улыбнуться.
— Что же ты видел, Торион?
— Я видел фонтаны Шелитха. И видел, как они вдруг опали, как высохли ручьи, как сомкнулись уста родников и вода из них ушла назад, в землю. И земля вокруг была черной, сухой. Ты видел в Камне пустынное море, каким оно было до Созидания, но я увидел… то, что придет после… Великое Разрушение. — Заклинатель облизнул пересохшие губы. — Мне очень хотелось бы, чтобы Верховный Маг оказался сейчас здесь, — сказал он.
— А я бы хотел, чтобы мы оказались там, с ним.
— Вот только где? Разве его теперь найдешь… — Заклинатель посмотрел вверх, на окна, за которыми сияло голубое безмятежное небо. — И весточку ему теперь не пошлешь, и ни одно заклинание не сможет вызвать его сюда. Он сейчас там, где ты видел пустое море. Он приближается к тем местам, где иссыхают источники. И там, где он сейчас, мастерство наше никуда не годится… И все-таки даже теперь можно еще отыскать заклятья, что смог ли бы призвать его, — некоторые из тех, что знавали на острове Пальн…
— Но этими заклятьями вызывают в мир живых души мертвых.
— А некоторыми отправляют живые души в мир мертвых.
— Но ты же не думаешь, что он умер?
— Я думаю, что он идет к смерти, что его влечет туда некая сила. Как и всех нас. Мы теряем свое могущество, свои надежды, свое счастье. Все источники постепенно пересыхают.
Метаморфоз некоторое время смотрел на него, очень встревоженный.
— Так не пытайся послать ему весть, Торион, — сказал он наконец. — Он знал, чего ищет, — задолго до того, как это узнали мы. Для него этот мир словно Камень Шелитха: он заглядывает в его глубины и видит, что есть и что непременно должно случиться… Мы не в силах помочь ему. Великие Заклятья стали очень опасны, но наибольшая опасность таится в тех, о которых ты упоминал только что. Мы должны стоять твердо, как он завещал нам, и охранять стены Рока, и помнить Имена.
— О да, — сказал Заклинатель. — Но мне еще нужно все это обдумать. — И он покинул мастерскую в Южной Башне, неловко переставляя длинные ноги, но высоко подняв свою благородную темноволосую голову.
Утром Метаморфоз долго искал его. Войдя в комнату Мастера Заклинателя после тщетных попыток достучаться, он нашел его лежащим на каменном полу с раскинутыми руками, словно какой-то тяжелый удар в грудь отбросил его. Руки застыли в том самом жесте, с помощью которого он произносил Великое Заклинание, и были холодны как лед, а открытые глаза ничего не видели. И хотя Метаморфоз, опустившись перед ним на колени, три раза призвал его подлинным именем, Заклинатель по-прежнему лежал неподвижно. Он еще не умер, но в нем осталось так мало жизни, что лишь едва билось сердце да слабое дыхание ощущалось на устах. Метаморфоз взял его руки в свои и прошептал:
— Ах, Торион! Это я заставил тебя заглянуть в глубины Камня. Это я во всем виноват!
Потом он быстро вышел из комнаты и громко сказал собравшимся у ее дверей Учителям и ученикам:
— Враг добрался сюда, на наш остров, преодолев все стены. Враг нанес удар в самое сердце наше! — Метаморфоз был добрый и мягкий человек, но сейчас он был так мрачен и суров, что окружающим стало страшно. — Позаботьтесь о Мастере Заклинателе, — сказал он. — Хотя кто позовет обратно его душу, если сам он, Мастер своего искусства, покинул ее?
И Метаморфоз направился к себе, и, давая ему пройти, все расступились перед ним.
Явился Мастер Травник, который велел немедленно уложить Заклинателя в постель, укрыть потеплее, но варить целебного отвара не стал, как не стал петь и тех песен, что помогают излечиться больному телу или встревоженной душе. При нем был один из его учеников, совсем юный, еще не ставший даже колдуном, но весьма способный в искусстве врачевания; и мальчик этот спросил:
— Учитель, неужели ему ничем нельзя помочь?
— По эту сторону стены — нет! — ответил Мастер Травник. Потом, вспомнив, с кем говорит, пояснил: — Это не болезнь, сынок. Но даже если бы это была лихорадка или иной физический недуг, я не уверен, что наша наука смогла бы теперь помочь ему. Кажется, травы мои утратили свои лечебные свойства, а в тех заклинаниях, что я произношу, не осталось былой целительной силы.
— Ты говоришь совсем как Мастер Регент. Вчера он вдруг остановился посреди песни, которую разучивал с нами, и сказал: «Я не понимаю значения этой песни». И вышел из комнаты. Кое-кто из мальчиков засмеялся, но мне показалось, что пол уходит у меня из-под ног.
Травник посмотрел на открытое смышленое лицо своего ученика, потом на лицо Мастера Заклинателя, холодное и застывшее.
— Он еще вернется к нам, — сказал он. — И песни наши не будут забыты.
В ту же ночь Метаморфоз покинул остров Рок. Никто не знал, как именно он это сделал. Он лег спать в своей комнате, окна которой выходили в сад. Утром окна оказались открытыми, а Мастера нигде не было. В итоге все решили, что он, совершив превращение — уж он-то хорошо умел это делать! — в новом обличье отправился на поиски Верховного Мага. В метаморфозах для него не было ничего невозможного: он мог превратиться во что угодно — в птицу, зверя, в туман или ветер. Однако более опытные из Мастеров, хорошо зная, как во время таких превращений можно оказаться во власти собственного заклятья, если допустить хоть малейший промах или чуть ослабить волю, тревожились о нем, но никому ничего о своих страхах не говорили.
Итак, с острова Рок исчезли уже трое Мастеров, входивших в знаменитый Совет Мудрецов. Дни проходили за днями, но не было никаких известий ни от Верховного Мага, ни от Метаморфоза, а Мастер Заклинатель по-прежнему лежал, словно мертвый. Холод и мрак все больше заполняли залы Большого Дома. Мальчики перешептывались между собой, и кое-кто уже поговаривал о том, чтобы покинуть Школу, потому что искусства, ради которых они приехали сюда, больше им почти не преподавались.
— Возможно, — говорил один, — все это с самого начала были враки — насчет всяких тайных искусств, магии и волшебных сил. Из всех здешних Мастеров только Мастер Ловкая Рука все еще на что-то способен. Да только всем известно, что это фокусы, иллюзии. А все остальные попрятались и носа не кажут: поняли, что их на чистую воду вывели!
— Вот именно, — откликнулся другой, — да и что такое на самом деле это волшебство? Разве это «магическое искусство» на что-то, кроме фокусов, способно? Спасло ли оно хоть раз человека от смерти? Или хоть жизнь кому-то продлило? Ведь если бы маги обладали той силой, которой похваляются, все они, конечно же, жили бы вечно!
И мальчики наперебой принимались рассказывать о том, как умирали великие маги; как Морред погиб на поле боя; как Серым Магом был убит волшебник Негерер; как дракон смертельно ранил Эррет-Акбе; как Геншер, предпоследний Верховный Маг Земноморья, заболел самой обычной болезнью и умер в своей постели. Обладавшие завистливыми сердцами слушали с удовольствием; остальные же из учеников страдали, слушая это.
Мастер Путеводитель все время проводил в Имманентной Роще и никого туда не пускал.
Однако Мастер Привратник, хоть его видели и не так часто, совсем не изменился. Печаль не таилась мрачной тенью у него в глазах. Он по-прежнему улыбался и держал двери Большого Дома крепко запертыми до возвращения его хозяина.
Глава 10
Драконьи Бега
В морях близ внешних границ Западного Предела хозяин Большого Дома и Хранитель Острова Мудрых холодным и ясным утром проснулся в своей лодчонке, скрюченный и закоченевший за ночь. Он сел, во весь рот зевнул и тут же, указывая на север, сказал своему тоже зевающему спутнику:
— Вот они! Два острова, видишь? Это самые южные из тех, что относятся к гряде под названием Драконьи Бега.
— У тебя поистине глаза ястреба, господин мой, — сказал Аррен, сонно вглядываясь в морскую даль и не видя ровным счетом ничего.
— Потому у меня и прозвище такое, — откликнулся волшебник; он по-прежнему пребывал в прекрасном настроении и, похоже, старался не думать ни о грядущих планах, ни о грядущих действиях. — А ты что же, совсем ничего не видишь?
— Я вижу чаек, — тупо проговорил Аррен, протирая глаза и изо всех сил пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в бескрайнем серо-голубом пространстве.
Волшебник засмеялся.
— Ну, знаешь, даже ястребу не под силу высмотреть чаек на расстоянии двух часов пути!
По мере того как солнце пробивалось сквозь туман, маленькие кружащие в воздухе пятнышки, которые Аррен принял за чаек, начали как-то странно посверкивать, словно брызги на гребне морской волны или пылинки в золотистых солнечных лучах. И тут юноша наконец понял, что это драконы.
Чем ближе «Зоркая» подходила к островам, тем отчетливее было видно, как драконы высоко парят и кружат в потоках утреннего бриза, и сердце Аррена тоже как бы воспарило ввысь вслед за ними, исполненное счастья, пронзительного, как боль. Все величие жизни и смерти было в этом полете. Красоту этих существ составляла невероятная сила и необузданная дикость в сочетании с благодатью разума. Ибо то были мыслящие твари, обладающие речью и древнейшей на земле мудростью. Рисунок их полета свидетельствовал о согласованности действий и неукротимой воле.
Аррен молчал и думал: «Теперь мне все равно, что бы ни случилось потом, ведь я видел драконов, кружащих в порывах утреннего ветра!»
Порой четкий рисунок полета сбивался, круги как бы распадались, и тогда то один, то другой дракон извергал длинную струю пламени, которая, извиваясь, повисала в воздухе, на какое-то мгновение повторяя изгибы и яркий блеск стройного, изогнутого дугой драконьего тела. Заметив это, волшебник сказал:
— Они разгневаны. И танцем на ветру выражают свой гнев. — Потом прибавил: — Ну вот, теперь мы в самом осином гнезде.
И был прав, потому что драконы, заметив маленький парус «Зоркой», начали один за другим выпадать из вихревого кружения, потом вытянулись вереницей и полетели прямо к лодке, взмахивая гигантскими крыльями.
Волшебник посмотрел на Аррена, который не выпускал руля из рук, потому что волнение было довольно сильным. Юноша правил ровно и спокойно, хотя глаз не сводил с огромных, гремящих в воздухе крыльев. Удовлетворенный, Ястреб отвернулся и, встав у мачты, велел волшебному ветру улечься. Потом поднял свой посох и громко заговорил на Языке Созидания.
При звуке его голоса одни из драконов вдруг на полной скорости остановились и как бы зависли в воздухе, другие — развернулись и помчались обратно к островам. Когти оставшихся драконов, похожие на мечи, были грозно выставлены, однако нападать они как будто бы не собирались. Один из них, спустившись совсем низко, медленно двинулся над самой водой к лодке; два взмаха крыльев, и он повис прямо над ними. Покрытое чешуей брюхо его почти касалось верхушки мачты. Аррен видел морщинистую, не защищенную чешуей кожу под мышками — подмышки, а также глаза дракона считаются самыми уязвимыми его местами, если не считать тех случаев, когда копье противника обладает особой силой, полученной благодаря могучему заклятью. Юноша едва не задохнулся от дыма, который клубами вырывался из длинной зубастой пасти, и чудовищного, нестерпимого запаха падали, какой обычно сопровождает стервятников. Вонь была такой сильной, что Аррена стошнило.
Дракон, закрывая небо, проплыл над ними и снова вернулся, летя так же низко, только на этот раз Аррен почувствовал еще и страшный жар, исходивший из его пасти вместе с клубами дыма. Потом юноша ясно услышал голос Ястреба, который что-то говорил драконам громко и гневно. Дракон снова проплыл в воздухе над лодкой, и вдруг все вместе огромные ящеры полетели назад, на острова, испуская клубы дыма и языки пламени — словно недогоревшие еще угли вспыхнули, раздуваемые порывами ветра.
Аррен перевел дыхание и вытер со лба обильный холодный пот. Посмотрев на своего спутника, он заметил, что волосы Ястреба совсем побелели, так сильно опалило их огненное дыхание дракона. И плотное полотнище паруса с одной стороны стало темно-коричневым, почти превратившись в трут.
— Э, да у тебя голова, похоже, пеплом посыпана, парень?
— Как и у тебя, господин мой.
Ястреб изумленно провел рукой по волосам.
— А ведь и правда!.. Ну это уже наглость! Однако ссориться с ними я не стану: мне кажется, они утратили разум или просто страшно растеряны. Они так и не заговорили со мной. Никогда не встречал я дракона, который не поговорил бы, прежде чем нанести удар — хотя бы только для того, чтобы помучить свою жертву… Теперь мы должны плыть только вперед. Не смотри им в глаза, Аррен. Отворачивайся, если придется столкнуться с ними лицом к лицу. Пока что ветер у нас попутный, он дует точно с юга, а силы мои нам, возможно, еще потребуются для других целей. Так что держи лодку по ветру.
«Зоркая» легко поплыла вперед, и вскоре слева от нее показались берега какого-то далекого острова; справа проплыли те два острова-близнеца, что они видели раньше. Острова эти оказались скорее нагромождением невысоких, но мощных утесов, которые сверху донизу были испещрены белым драконьим пометом и черными пятнами мхов, что бесстрашно росли на отвесных склонах.
Драконы кружили очень высоко в небе, словно стервятники, высматривающие добычу. Ни один больше не спускался к лодке. Порой они что-то кричали, будто разговаривая друг с другом пронзительными хриплыми голосами, но если это и были какие-то слова, то Аррен их различить не мог.
Лодка обогнула небольшой мыс, и юноша увидел на берегу то, что сначала принял за старую разрушенную крепость. Но это тоже оказался дракон. Одно черное крыло его было неловко подвернуто и придавлено тушей, а второе широко распласталось по песчаному берегу до самой воды, так что набегающие волны слегка шевелили его, и крыло, покачиваясь на них, как бы в насмешку совершало слабые взмахи. Длинное змеевидное тело во всю длину вытянулось на камнях. Одна передняя лапа отсутствовала, а бронированная чешуя вместе с плотью была сорвана с костей, и наружу торчали гигантские ребра. Брюхо было распорото сверху донизу, и песок кругом весь пропитался черной ядовитой драконьей кровью. И все же чудовищное создание было еще живо. В драконах столь велика сила жизни, что лишь равная ей сила волшебства способна уничтожить ее достаточно быстро. Золотисто-зеленые глаза ящера были открыты, и когда лодка проплывала мимо, узкая огромная голова его чуть шевельнулась и пар, смешанный с кровью, с шипением вырвался из его ноздрей.
Полоска берега между умирающим драконом и кромкой воды была вся ископана, разворочена лапами и тяжелыми телами его сородичей, а внутренности его были втоптаны в песок.
Ни юноша, ни волшебник не промолвили ни слова, пока этот остров не остался далеко позади. Лодка продолжала свой бег по бурным неспокойным проливам меж островами Драконьи Бега, где полно было рифов и отмелей, держа курс к северному концу этой двойной цепи островов. Немало времени прошло, когда Ястреб наконец промолвил:
— Страшное зрелище. — Голос его звучал холодно и казался бесцветным.
— А разве они… пожирают своих сородичей?
— Нет. Не чаще, чем люди. Они словно от чего-то обезумели. У них отняли речь! Те, кому речь была дана раньше, чем кому-либо иному на земле, подлинные дети Сегоя, теперь отброшены в немой ужас существования диких тварей! Ах, Калессин! Где носят тебя твои крылья? Неужели ты дожил до того, чтобы увидеть позор своего племени?
Голос его гремел железом, как молот по наковальне; он неотрывно смотрел в небо, словно что-то искал там. Но драконы остались позади, низко кружа над тем залитым черной кровью берегом и окровавленными скалами; а над головой у путешественников было только голубое небо да полуденное солнце.
В те времена никто, кроме Верховного Мага, не бывал на этих островах и даже не видел их издали. Более двадцати лет назад проплыл он вдоль двойной гряды их с востока на запад и обратно. Для моряка это был и драгоценный опыт, и тяжкое испытание, ибо проливы меж островами Драконьи Бега представляли собой настоящий голубой лабиринт, полный зеленоватых отмелей. Сейчас с помощью твердой руки и нужного слова волшебник с Арреном с величайшей осторожностью пробирались среди разбросанных повсюду скал и рифов. Некоторые из них были почти совсем скрыты плещущимися волнами или едва заметны; покрытые анемонами, морскими уточками и ребристым морским папоротником, скалы эти напоминали водяных чудовищ, спрятавшихся в раковину или извивающихся в воде. Утесы возвышались над морем, как крепостные стены с островерхими башенками, отгораживая острова от набегающих волн; «стены» эти были украшены резными фигурами фантастических животных: отчетливо выделялись спины чудовищных кабанов и головы гигантских змей — все, однако, какое-то деформированное, искаженное, словно и в этих скалах жизнь наполовину утратила разум. Волны бились о них со звуком, напоминающим тяжкое дыхание, и блестящая корка морской соли от многочисленных брызг ярко сверкала на солнце. Одна из скал, если смотреть на нее с юга, явственно напоминала согнутые, немного сутулые плечи и благородную голову мужчины, как бы остановившегося в глубоком раздумье над морем; однако миновав этот утес и глядя на него с севера, уже весьма трудно было предположить, что он только что походил на человека: теперь это была самая обыкновенная скала. Зато внутри ее открылась пещера, где бурно вздымались и опадали волны с приглушенным ропотом и звонкими шлепками; в этих звуках будто слышалось вполне определенное, состоящее из нескольких слогов знакомое слово. Они проплыли чуть дальше, и гулкое эхо ослабело, зато само слово стало слышаться более отчетливо, так что Аррен даже спросил:
— Там, в пещере, слышится чей-то голос?
— Голос моря.
— Но оно произносит какое-то слово!
Ястреб прислушался, потом взглянул на Аррена, потом снова посмотрел в сторону пещеры.
— Что именно ты услышал?
— Оно говорило:
Ахм.
— В Истинной Речи это слово означает «начало» или «давным-давно». Но мне сейчас слышится скорее
Охб, что значит «конец»… Эй, посмотри-ка вперед, что это там? — неожиданно оборвал свои пояснения Ястреб. И в тот же миг Аррен закричал предупреждающе:
— Отмель!
И хотя «Зоркая» пробиралась среди бесконечных опасных мест осторожно, как кошка, оба они настолько оказались заняты, управляя своим судном, что вскоре и пещера, и загадочное слово, звучавшее в громоподобных вздохах моря, остались далеко позади.
Наконец в проливе стало глубже, они вышли на простор из фантасмагорического нагромождения скал. Прямо по курсу возвышался, подобно гигантской сторожевой башне, остров. Утесы вокруг него были черны и казались слепленными из многочисленных цилиндров или столбов, подогнанных плотно, как мозаика; все цилиндры были правильной геометрической формы, с ровными краями и ровными поверхностями. Эта невообразимая черная стена поднималась над морем почти до небес.
— Замок Калессина, — пояснил волшебник. — Так называли его драконы, когда я много лет тому назад встречался с ними на этих островах.
— Кто такой Калессин?
— Старейший…
— Он построил этот замок?
— Не знаю. Не знаю, было ли это кем-то построено… Не знаю даже, сколько Калессину лет. Я говорю «ему», но не уверен, что это самец… По сравнению с Калессином Орм Эмбар — годовалый младенец. А ты да я — просто весенние мошки. — Он пристально оглядывал черные, поражающие воображение стены, и Аррен тоже с тревогой поднял голову, думая о том, что будет, если с такой высоты, из-за этой вот черной кромки внезапно упадет им на голову огромный дракон и настигнет их прежде собственной тени. Однако дракона не было. Они медленно проплыли по замершей воде в тени черных скал, так ничего и не услышав. Разве что волны шептались и шлепали по уходящим в глубину базальтовым колоннам Замка Калессина. Здесь было очень глубоко; прибрежные рифы кончились. Аррен правил лодкой, а Ястреб стоял на носу, внимательно осматривая утесы и ясное небо впереди.
Наконец лодка вышла из густой тени, отбрасываемой Замком Калессина, на солнечный полуденный простор моря. Они проплыли вдоль всей цепи островов под названием Драконьи Бега. Волшебник вскинул голову так, словно наконец увидел то, что искал: через бескрайнее залитое светом пространство небес мчался к ним на своих золотых крыльях дракон Орм Эмбар.
Аррен услышал, как Ястреб крикнул:
Аро Калессин? — и догадался, что это значит, только не понял, что ответил волшебнику дракон. Аррен, как всегда, чувствовал, что почти понимает Истинную Речь, вот-вот поймет, словно когда-то знал все эти слова, но потом забыл. Не так, как бывает с совсем неизвестным тебе языком. Когда волшебник произносил слова Истинной Речи, голос его звучал гораздо звонче и отчетливей, чем когда он говорил на ардическом, и каждое отдельное слово было как бы окружено тишиной — подобно тому, как долго звучит отдельный, даже совсем слабый удар большого колокола. Зато голос дракона был скорее похож на гонг: звучный и одновременно какой-то пронзительный. Или на чуть шипящий звон цимбал.
Аррен смотрел, как его товарищ, стоя в неглубокой лодчонке, разговаривает с повисшим над ними чудовищем, которое закрывало половину неба. И счастливая гордость наполняла сердце юноши: сейчас он видел, как мал человек, как он хрупок и как ужасен в своем могуществе. Ибо дракон легко мог бы отсечь волшебнику голову одним ударом своей когтистой лапы; мог бы сокрушить и потопить лодку, как упавший сверху камень топит лист дерева на поверхности воды, уходя вместе с ним на дно. Однако величина не имела значения: Ястреб был настолько же опасен, как и дракон Орм Эмбар, и дракон это понимал.
Волшебник повернулся к Аррену.
— Лебаннен, — позвал он, и юноша встал и пошел к нему, хотя не имел ни малейшего желания не только делать эти три-четыре шага, но и вообще шевелиться. Слишком близко были чудовищные узкие челюсти длиной почти в три человеческих роста, а продолговатые, со щелевидным зрачком желто-зеленые внимательные глаза горели прямо над его головой.
Ястреб ничего больше ему не сказал, только слегка обнял за плечи одной рукой и снова коротко обратился к дракону.
— Лебаннен, — прогудел страшный голос, лишенный какого бы то ни было чувства. —
Агни Лебаннен!
Юноша поднял голову, и волшебник тут же сжал его плечо, напоминая, чтобы он не смотрел в желто-зеленые кошачьи глаза.
Аррен не знал слов Истинной Речи, но и молчать не стал:
— Я приветствую тебя, Орм Эмбар, Величайший из Драконов, — сказал он отчетливо и громко, как подобает одному принцу приветствовать другого.
И тут наступила полная тишина. Сердце Аррена забилось сильно и тяжко. Но Ястреб, стоя с ним рядом, почему-то улыбался.
Потом дракон снова заговорил, а Ястреб что-то ему отвечал; разговор этот показался Аррену невыносимо длинным. Наконец их беседа закончилась, причем совершенно внезапно. Дракон только раз взмахнул крыльями, при этом чуть не перевернув лодку, и тут же исчез из виду. Аррен, взглянув на солнце, понял, что времени на самом деле прошло совсем немного. Однако он удивленно отметил, что лицо волшебника стало пепельным от покрывавшей его бледности, а глаза возбужденно сверкают. Обернувшись к Аррену, он устало плюхнулся там же, где стоял.
— Молодец, парень, — сказал он хрипло. — Нелегкое это дело — беседовать с драконами.
Аррен приготовил поесть, потому что, как оказалось, не ели они целый день. До конца трапезы волшебник не произнес ни слова. К тому времени солнце уже начало сползать к горизонту, хотя в этих северных широтах да еще в середине лета ночь обычно наступает поздно и медленно.
— Ну что ж, — заговорил наконец Ястреб, — дракон Орм Эмбар сказал мне достаточно много. С его точки зрения, разумеется. Так, он сказал, что тот, кого мы ищем, находится на Селидоре, хотя в то же время его вроде бы там и нет. Драконам очень трудно выражать свои мысли просто и ясно. У них не бывает простых мыслей. И даже если кто-то из них говорит человеку чистую правду — что, впрочем, случается редко, — то все равно он не уверен в том, какой эта правда представляется данному человеку. А потому я спросил его: «Он находится на Селидоре так же, как твой отец, Орм?» Ибо, как ты знаешь, и Орм, и Эррет-Акбе погибли на Селидоре в поединке друг с другом. И он ответил: «Да и нет. Ты найдешь его на Селидоре, но он не на Селидоре…» — Волшебник помолчал, задумчиво собирая и отправляя в рот хлебные крошки. — Возможно, он имел в виду вот что: хоть в настоящее время этого человека и нет на Селидоре, все же я должен плыть туда, чтобы до него добраться. Возможно, это и так… Я спросил его затем, что случилось с другими драконами. Он ответил, что тот человек бывал среди них, совершенно их не боялся — ибо даже убитый, он всегда восстает из мертвых во плоти и крови, — поэтому драконы теперь боятся его, считая, что он создан неживой природой. И страх их дает ему власть над ними. Это он отнял у них речь, оставив им лишь их дикое естество. Так что теперь они пожирают друг друга или убивают сами себя, бросаясь в море, — самая ненавистная и лютая смерть для огнедышащего змея, порожденного ветром и огнем. Тогда я спросил: «Где же правитель драконов Калессин?» — и все, что он пожелал мне ответить, — это: «На западе», что, по всей видимости, означало следующее: Калессин улетел на далекие острова, которые, по словам драконов, лежат в тех морях, куда не заплывал еще ни один корабль. Впрочем, это могло значить и нечто совсем иное. Так что я перестал задавать вопросы, и тогда он задал свой. Он сказал: «Возвращаясь на север, я пролетал над островами Картуэлл и Торингейт. Там я видел, как местные жители приносили в жертву младенца: его убили на жертвенном камне. А на острове Ингат жители одного из селений до смерти забили камнями своего колдуна. Как ты думаешь, Гед, они теперь съедят этого младенца? А может быть, тот колдун вернется из царства мертвых и станет бросать камни в своих соотечественников?» Я подумал было, что он надо мной смеется, и хотел уже гневно ему ответить, но нет, он не смеялся. Он сказал: «Вещи утратили свой смысл. В мире образовалась брешь, сквозь нее в пустоту уходит море. Уходит и свет. Мы скоро останемся в мертвой пустыне. Там Истинная Речь не прозвучит больше; там больше не будет смерти». Так что в конце концов я понял, что именно он хотел мне сказать.
Аррен этого как раз не понял и, кроме того, был мучительно взволнован. Потому что Ястреб, пересказывая ему беседу с драконом, назвал свое подлинное имя; сомнений в этом не было. Аррену стало страшно: он вспомнил ту измученную женщину с острова Лорбанери, что выкрикивала: «Мое имя Акарен!» Если силы волшебства и музыки, если даже речь и доверие друг к другу слабеют, если безумие страха надвигается на людей столь неотвратимо, что они, как и драконы, начинают убивать друг друга, если все это действительно так, то смог ли его господин уберечься? Так ли он силен, чтобы противостоять этому злу?
Сильным он никогда не выглядел; особенно сейчас, когда сидел, скрючившись, над жалким ужином, состоявшим из хлеба и вяленой рыбы. Он сильно поседел за последнее время, к тому же голова его была покрыта пеплом после встречи с драконом. У него были слабые руки и усталое лицо. И все же дракон боялся его.
— Что-то гложет твою душу, сынок?
С этим человеком Аррен мог говорить только честно.
— Господин мой, ты назвал свое подлинное имя…
— Ах да. Я и забыл, что не назвал его тебе раньше. Тебе понадобится мое подлинное имя там, куда мы должны идти. — Продолжая что-то жевать, он спокойно посмотрел на Аррена. — Ты что ж, решил, что и я из ума выжил? И теперь буду бормотать собственное имя вслух, как полоумные старики, утратившие и разум, и стыд? Пока еще рановато, парень, а?
— Да, конечно, — сказал Аррен, настолько смущенный, что больше ничего выговорить не смог. Он вдруг почувствовал себя страшно усталым: слишком долгим был день и слишком много вокруг было драконов. И путь впереди был темен.
— Аррен, — сказал волшебник, — нет, Лебаннен! Там, куда мы плывем, скрыться некуда и нечего скрывать. Там все зовутся своими подлинными именами.
— Мертвым не больно, — мрачно сказал Аррен.
— Но ведь не только там, не только в царстве смерти люди называют друг друга лишь подлинными именами. Так поступают, скажем, те, кто наиболее уязвим, кого больнее всех можно ударить; те, кто отдал свою любовь безвозвратно; у них друг для друга существуют только истинные имена. Те, у кого верные сердца; те, кто дает другим жизнь… Э, да ты совсем с ног валишься, парень. Ложись-ка спать. Делать теперь нечего, только всю ночь держать прежний курс. И к утру мы увидим последний остров Земноморья.
В голосе его звучала невыразимая нежность, и Аррен, свернувшись калачиком на носу лодки, тут же начал проваливаться в сон. Он еще слышал, как волшебник тихонько, почти шепотом запел что-то на Языке Созидания, и вдруг начал понимать слова Истинной Речи, вспоминать их значение, но, прежде чем успел как следует во всем разобраться, крепко уснул.
В полном молчании волшебник убрал оставшуюся после ужина еду, осмотрел снасти, разложил все в лодке по своим местам, а затем, взяв в руки гайдроп, поднял парус и надул его волшебным ветром. Неутомимая «Зоркая» стрелой понеслась по волнам морским к северу.
Гед, сидя на корме, смотрел на своего юного спутника. На лице Аррена играл золотисто-красный отблеск заката; сильно отросшие волосы юноши спутал ветер. Куда делся тот нежный и легкомысленный юный принц, что сидел на краю волшебного фонтана в Большом Доме всего несколько месяцев назад? У спящего молодого человека лицо было более худым и четко очерченным, да и сам он выглядел значительно сильнее. Впрочем, от этого Аррен не стал менее красив.
— Я так и не смог найти никого, кто пошел бы моим путем, — вслух сказал Верховный Маг Гед то ли спящему юноше, то ли просто ветру морскому. — Никого, кроме тебя. А ты должен идти своим путем — не моим. И все же твое славное воцарение отчасти станет и мне наградой. Ибо я первым распознал тебя. Первым! За это впоследствии меня станут прославлять куда больше, чем за все мои магические деяния… Если это «впоследствии» наступит. Ибо сперва мы вдвоем с тобой должны найти точку равновесия Вселенной, самый центр мирозданья. И если в пропасть упаду я, то упадешь и ты, и все остальные люди… Но не навсегда, нет! Тьма никогда не длится вечно. Даже там, в царстве тьмы, есть звезды… Ах, как мне хотелось бы увидеть твое коронование в Хавноре! Увидеть, как играет луч солнца на мече Эррет-Акбе и на том Кольце, что мы привезли для тебя из темных Гробниц Атуана — Тенар и я, до того еще, как ты появился на свет!
Тут он засмеялся и, повернувшись лицом к северу, сказал:
— Значит, козлопас посадит-таки на законный трон наследника Морреда! Неужели я никогда не привыкну?..
Текли мгновения. Гед сидел в прежней позе и держал в руке гайдроп, глядя, как надутый ветром парус багровеет в последних лучах тонущего в море солнца. Потом снова тихонько проговорил:
— Нет, больше я не вернусь ни в Хавнор, ни на Рок. Пора кончать эти игры в могущество. Пора бросить старые игрушки и идти дальше. Пора возвращаться домой. Я хотел бы увидеть Тенар. И Огиона. И успеть наговориться с ним всласть, пока он жив. И пожить в его домике на утесе Ре Альби. Я мечтаю вновь подняться на вершину горы Гонт, войти в ее осенние леса, когда листья сияют многоцветьем. Нет иного царства, что было бы равно царству лесов. Пора мне отправляться туда. В молчании. В одиночестве. И там, может быть, я смогу наконец постигнуть то, что так и не сумел постигнуть ценой своих подвигов и могущества, чему так и не сумел за всю свою жизнь научиться.
Теперь весь запад пылал яростным великолепием красных тонов, так что даже море казалось алым, а парус над лодкой — багровым, как кровь. Потом потихоньку спустилась ночь. И всю эту ночь юноша крепко спал, а его старший друг бодрствовал, внимательно вглядываясь во тьму впереди. Звезд на небе не было.
Глава 11
Селидор
Проснувшись утром, Аррен увидел вдали прямо по курсу на фоне синего западного неба затянутые дымкой низкие берега Селидора. В Бериле, в княжеском дворце, были старинные карты, сделанные еще во времена Великих Королей, когда путешественники и торговцы заплывали с Внутренних Островов очень далеко и Пределы были исследованы куда лучше, чем сегодня. Огромная карта Севера и Запада Земноморья была выложена мозаикой на двух стенах тронного зала, и точно над самим троном был остров Энлад, выполненный в золотых и серых тонах; Аррен совершенно отчетливо помнил эту карту, потому что мальчишкой тысячи раз рассматривал ее. К северу от Энлада находился остров Осскил, а к западу — Эбосскил, к югу же от этих островов были Симел и Пальн. Дальше Внутренние Острова кончались и начиналось море, выложенное бледной голубовато-зеленой мозаикой; в море то там, то тут встречались маленькие дельфины и киты. Затем, наконец, почти в углу, там, где северная стена встречалась с западной, был остров Нарведен, а за ним еще три островка поменьше. Затем снова голубое море, море без конца и края, и только у самого края западной стены — и края карты — вновь появлялись острова и среди них Селидор. А за Селидором — больше ничего.
Аррен легко и живо мог представить себе его округлые очертания, большой залив почти посредине береговой линии, нешироким входом своим обращенный к востоку. До этого залива нужно было еще порядочно проплыть вдоль берега на север, так что направлялись они сейчас к узкой бухте на самой южной оконечности острова. Здесь, еще до того, как солнце успело выбраться из затянувшей горизонт утренней дымки, они высадились на берег.
Так закончилось их стремительное плавание от далеких Путей Балатрана до самого западного из островов Земноморья. Покой земной тверди с непривычки показался им странным — слишком долго пробыли они в море.
Гед взобрался на невысокую дюну, поросшую по гребню травой; гребень ее нависал над крутым склоном подобно карнизу, скрепленный цепкими корнями. Оттуда Гед внимательно осмотрел западную и северную часть моря. Аррен немного задержался в лодке, во-первых, чтобы обуть башмаки, которые не надевал уже много-много дней, и, во-вторых, чтобы вынуть из рундука свой меч. На этот раз он надел перевязь, даже не задумываясь. Потом он тоже взобрался на дюну и встал рядом с Гедом, оглядывая окрестности.
Дюны уходили довольно далеко от берега, невысокие, покрытые травой — по крайней мере шагов на тысячу; за ними виднелись лагуны, густо заросшие тростником и камышом, а дальше — низкие желто-коричневые холмы, совершенно пустынные, уходящие за горизонт. Прекрасным и безлюдным был остров Селидор. Нигде не было на нем ни следа, ни жилья человека. Нигде не было ни единого животного, а в заросших тростником озерах не гнездились ни чайки, ни дикие гуси, ни какие-либо другие птицы.
Они спустились по внутреннему склону дюны, и эта песчаная стена как бы отсекла их от шума прибоя и воя ветра; вокруг стало совсем тихо.
Между этой дюной и следующей было ровное пространство, усыпанное чистым песком: тихое убежище, над которым вставало теплое утреннее солнце, освещая западный склон дюны.
— Лебаннен, — сказал волшебник, ибо теперь звал Аррена только его истинным именем, — вчера ночью я спать не мог, а теперь мне непременно нужно поспать. Останься со мной, постереги.
Гед улегся на солнышке, потому что в тени было еще холодно, прикрыл рукой глаза, вздохнул и заснул. Аррен сел на землю с ним рядом. Ему ничего не было видно, кроме белых склонов дюны, травы на ее вершине, качающейся на фоне все еще затянутого легкой дымкой голубого неба, да еще желтого Солнца. Вокруг стояла тишина, лишь едва слышно шептал прибой, да порой ветер ворошил песчинки, и они ссып
ались вниз по склону со слабым шорохом.
И тут Аррен заметил в небе существо, которое вполне могло бы показаться очень
высоко летящим орлом. Только это был не орел. Дракон сделал над ними круг, завис в воздухе, а потом с грохотом и пронзительным свистом ринулся вниз, сложив золотистые крылья. Он приземлился на вершину дюны, вцепившись в нее когтистыми лапами. Против солнца огромная голова его казалась черной; по ней пробегали свирепые огненные сполохи.
Дракон спустился чуть ниже по склону дюны и заговорил.
— Агни Лебаннен, — сказал он.
Стоя между ним и Гедом с обнаженным мечом в руках, Аррен ответил:
— Орм Эмбар.
Меч больше не казался ему тяжелым. Гладкая, чуть потертая рукоять была очень удобной и прекрасно подходила к руке. Клинок легко, как бы по собственной воле вынулся из ножен. Древняя сила, заключенная в мече, стала теперь союзницей Аррена, ибо он понял, как использовать это оружие во благо. Это был
его меч.
Дракон снова заговорил, но Аррен понять его не смог. Он оглянулся на своего спящего товарища, которого не разбудил ни страшный грохот, ни возня дракона на дюне, и ответил:
— Хозяин мой устал. Он теперь спит.
Услышав это, Орм Эмбар сполз еще ниже и свернулся кольцом у подножия дюны. На земле он казался очень тяжелым, громоздким, вовсе не таким гибким и свободным, как в воздухе, но была какая-то дьявольская красота и даже изящество в том, как неторопливо умащивал он свои огромные когтистые лапы и извив колючего рогатого хвоста. Устроившись, он вытянул передние лапы перед собой, поднял огромную голову и замер: именно такими изображали драконов на шлемах воинов. Аррен все время ощущал на себе взгляд его желтых глаз — страшные глаза эти были совсем близко, прямо у него над головой — и слабый запах гари, что неотступно висел в воздухе. Падалью от этого дракона не пахло вовсе; его запах, сухой запах горячего металла, хорошо сочетался с более слабыми запахами моря, водорослей и просоленного песка; это был чистый, дикий, естественный запах.
Солнце, поднявшись выше, осветило бока Орм Эмбара, и дракон весь засверкал, словно был сделан из полированной стали и золота.
А Гед по-прежнему спал, обращая на дракона не больше внимания, чем спящий крестьянин на своего гончего пса.
Так прошел час; и вдруг Аррен, вздрогнув, обнаружил, что волшебник сидит рядом с ним, и, видно, довольно давно.
— Ты что ж, настолько привык к драконам, что засыпаешь прямо между их лапами? — спросил Гед, рассмеялся и сам зевнул. Потом, поднявшись на ноги, заговорил с драконом.
Прежде чем ответить, Орм Эмбар тоже зевнул — возможно, потому что и сам задремал, а возможно, из тщеславия, чтобы произвести должное впечатление. Впечатление, надо сказать, было сильным; вряд ли кому-то из людей доводилось видеть подобную картину: ряды бело-желтых зубов, длинных и острых как мечи, страшный раздвоенный язык и дымящаяся пропасть глотки.
Орм Эмбар что-то сказал, и Гед уже хотел ему ответить, как вдруг оба они обернулись и посмотрели на Аррена. Они услышали отчетливый в тишине, негромкий шелест стали вынимаемого из ножен меча. Аррен с мечом наготове неотрывно смотрел куда-то на вершину дюны.
Там стоял ярко освещенный солнцем человек, и ветер слабо шелестел в складках его одежды. Человек стоял неподвижно, словно резное изваяние, только чуть шевелилась кромка его легкого плаща да откинутый на спину капюшон. Длинные черные волосы его ниспадали на плечи густыми спутанными локонами; это был широкоплечий, высокий, сильный и довольно красивый человек. Его глаза, казалось, глядят из-под капюшона куда-то вдаль, мимо них, в море. Человек улыбнулся.
— Орм Эмбар мне известен, — сказал он. — И ты тоже, хоть ты и постарел с тех пор, как мы с тобой виделись, Ястребок. Я слышал, ты теперь Верховный Маг? Да, ты стал великим волшебником, хоть и постарел. А это твой юный слуга? Ученик Школы, конечно, один из тех, что учатся волшебству на Острове Мудрых. Что же делаете здесь вы оба, столь далеко от Рока, от его неуязвимых стен, так хорошо защищающих Мастеров от любого зла?
— Кто-то нарушил стены, что поважнее стен Школы, — сказал Гед, плотно сжимая обеими руками посох и глядя вверх, на незнакомца. — Но разве ты не сойдешь к нам во плоти, чтобы мы смогли должным образом поприветствовать того, кого так долго искали?
— Во плоти? — сказал человек и снова улыбнулся. — Разве вульгарная плоть, человечье тело, пушечное мясо что-нибудь значит при встрече двух магов? Нет, пусть лучше встретятся наши души, Верховный Маг.
— Вот это, по-моему, вряд ли возможно… Парень, убери-ка свой меч и не волнуйся: это всего лишь его посланник, призрак, но не настоящий человек. С тем же успехом можно рубить мечом воздух… В Хавноре, когда твои волосы уже были седы, тебя прозвали Коб-паук. Но это всего лишь прозвище. Как же нам называть тебя, когда мы наконец встретимся по-настоящему?
— Вы будете называть меня своим Господином, — сказал высокий человек с вершины дюны.
— О да, а еще как?
— Королем и Великим Мастером.
И тут Орм Эмбар издал страшное шипение; его огромные глаза опасно сверкнули; однако он лишь отвернулся от высокого человека, и лапы его тяжело погрузились в песок под осевшим телом, словно дракон не мог сдвинуться с места.
— А куда мы должны прийти, чтобы свидеться с тобой, и когда?
— В мое царство и тогда, когда это будет удобно мне.
— Прекрасно, — сказал Гед и, подняв свой посох, слегка повел им в сторону высокого человека, и тот исчез, словно пламя свечи, погашенное порывом ветра.
Аррен смотрел во все глаза. Дракон мощным рывком вдруг приподнялся на всех своих четырех кривых лапах; чешуя его позванивала, а сморщенные в гневе губы обнажили ряды страшных зубов. Но тут волшебник снова опустил свой посох и оперся о него.
— Это всего лишь его посланник. Так сказать, своеобразный способ представиться. Бесплотный призрак собственного хозяина. Он способен говорить и слышать, но силы в нем нет, разве что наши собственные страхи могут сообщить ему какую-то силу. Он даже и внешне-то не слишком похож на своего хозяина. Но может стать похожим, если тот сам захочет этого. Так что мы пока не видели, каков теперь его настоящий облик.
— Как ты думаешь, а сам он близко?
— Такие посланники не могут пересекать водные пространства. Так что он на Селидоре. Но Селидор — огромный остров: гораздо больше, чем Рок или Гонт, и почти такой же, как Энлад. Мы можем еще очень долго искать его.
И тут заговорил дракон. Гед выслушал его и повернулся к Аррену.
— Вот что говорит истинный Хозяин Селидора: «Я вернулся сюда, на родной остров, и не покину его. Я найду Разрушителя, отведу к нему вас, и вместе мы сможем уничтожить его». А ведь я говорил тебе, Аррен, что если дракон начинает охоту, то непременно настигает свою жертву.
И Гед преклонил колено пред огромным драконом, подобно тому, как вассал преклоняет колено пред своим королем, и произнес слова благодарности на Языке Созидания. Дыхание дракона, стоявшего слишком близко, жарко опаляло его склоненную голову.
Потом Орм Эмбар снова втащил свое чешуйчатое тело на вершину дюны, взмахнул крыльями и улетел.
Гед отряхнул с одежды песок и сказал Аррену:
— Теперь ты видел меня коленопреклоненным. Возможно, до конца ты успеешь еще раз увидеть это.
Аррен не спросил, что именно волшебник имеет в виду: за время их длительного знакомства он успел усвоить, что в каждом туманном слове Геда таится истина. Но на этот раз слова эти показались ему дурным пророчеством.
Они еще раз сходили к берегу и убедились, что лодка лежит достаточно далеко от полосы прилива и не досягаема даже для штормовых валов. Из лодки они прихватили с собой теплые плащи на случай ночевки под открытым небом и всю оставшуюся еду. Гед на мгновение задержался возле своей «Зоркой», что столько лет носила его по далеким неведомым морям, ласково погладил ее, но никакого заклятия не наложил; он вообще не произнес ни слова. Потом вместе с Арреном они двинулись через дюны к возвышающимся на севере холмам.
Они шли весь день, а вечером остановились на ночлег у ручья, струившегося между двумя полузадушенными тростником, заболоченными озерами. Несмотря на середину лета, с запада из бесконечных просторов Открытого Моря дул холодный пронзительный ветер. Небо было затянуто туманной дымкой, и ни единой звезды не зажглось над холмами, которые не видывали ни теплого огня домашнего очага, ни света в окне человеческого жилища.
Среди ночи Аррен проснулся. Их крошечный костерок погас, однако взошедшая на западе луна заливала землю жемчужно-серым призрачным светом. В долине у ручья и на склонах холмов вокруг собралось великое множество людей; они стояли неподвижно, молча, и все как один глядели на них с Гедом. Но ни разу лунный свет не блеснул в чьих-либо очах.
Аррен не осмелился заговорить с ними, лишь коснулся рукой плеча Геда. Волшебник вздрогнул и тут же сел.
— В чем дело? — спросил он.
Потом проследил за взглядом Аррена и увидел молчащих людей.
Все они были в темных одеждах, одинаковых у мужчин и женщин. Их лица в неясном свете были едва различимы, но Аррену показалось, что среди тех, кто стоял к ним ближе, он узнал нескольких человек, хоть и не мог назвать их имен.
Гед встал; плащ упал с его плеч на землю. Лицо, волосы и рубашка его слабо светились, словно лунное серебро изливалось на него одного. В широком жесте он протянул руки к стоящим вокруг людям и громко сказал:
— О вы, кто уже
отжил свое! Ступайте с миром и будьте свободными! Отныне я разрываю те связи, что не дают вам уйти.
Анвасса мане харв пеннодатхе!
Еще несколько мгновений молчаливая толпа стояла не двигаясь. Потом люди медленно повернулись, побрели куда-то в серую мглу и растворились в ней.
Гед сел. Глубоко вздохнул. Потом посмотрел на Аррена и положил руку ему на плечо. Рука была теплой и твердой.
— Их не стоит бояться, Лебаннен, — мягко сказал он, хотя в голосе его слышалась едва заметная насмешка. — Это всего лишь мертвые.
Аррен кивнул, хотя зубы у него стучали и озноб пробирал до костей.
— Как же… — начал он, но губы не слушались.
Гед понял его вопрос.
— Это он вызвал их из царства мертвых. Это и есть та вечная жизнь, которую он всем обещает. Вернуться в Темное царство они могут лишь по его приказанию. И вызванные им оттуда, обречены бродить по холмам живого мира, но даже стебелек травы не согнется под их ногами.
— Тогда… тогда он, наверно, тоже мертвый?
Гед покачал головой и нахмурился.
— Мертвые не способны вызывать души мертвых в мир живых. Нет, он обладает силой и могуществом живого человека и даже больше… Но если кто-то из них и хотел последовать его примеру, то все они были им обмануты. Он бережет свое могущество для себя одного. Воображает себя Королем Мертвых; и не только мертвых… Но подданные его — лишь тени.
— Не знаю, почему я боюсь их, — со стыдом признался Аррен.
— Ты боишься их потому, что боишься смерти. И это вполне естественно: смерть ужасна и ее д
олжно бояться, — сказал волшебник. Потом подложил в костер еще дров, подул на угольки, подернутые пеплом, и яркие огоньки побежали по хворосту. Аррен с благодарностью смотрел на этот живой свет. — Жизнь ведь тоже страшная штука, сынок, — сказал Гед, — ее тоже д
олжно бояться — и восхвалять.
Оба уселись у костра, плотно закутавшись в плащи.
Некоторое время стояла тишина. Потом Гед вдруг заговорил странно мрачным тоном:
— Я не знаю, Лебаннен, как долго еще он будет дразнить нас своими посланниками и призраками на этом острове. Но ты знаешь, куда он непременно отправится в конце концов.
— В Темную Страну?
— О да. К ним.
— Теперь я их видел. Я пойду с тобой туда.
— Что движет тобой? Вера в меня? Ты можешь верить моей любви, но не верь моей силе. Ибо, по-моему, я наконец встретил равного себе.
— Я пойду с тобой.
— Но если он победит меня, если я израсходую до конца свою силу и жизнь, то не смогу отвести тебя назад; а один ты вернуться не сможешь.
— Я вернусь с тобой.
На это Гед сказал лишь:
— Мальчик, ты становишься мужчиной у самых ворот смерти. — И потом тихо-тихо прибавил еще какое-то слово или имя, которым дракон Орм Эмбар дважды назвал Аррена. — Агни… Агни Лебаннен.
Больше они ни о чем не говорили и вскоре снова уснули, устроившись поближе к маленькому, быстро догорающему костерку.
На следующее утро Аррен и Гед двинулись дальше, на северо-запад; так решил Аррен, потому что Гед сказал ему:
— Выбирай, куда нам теперь идти, парень; мне все равно.
Они не спешили, ибо конкретной цели не видели и ждали хоть какого-нибудь знака от дракона. Шли специально по вершинам невысоких дюн вблизи от берега, чтобы их легче было заметить с воздуха. Дюны поросли травой, сухой, короткой, которая колыхалась и шуршала на ветру. Справа от них ввысь уходили золотистые склоны холмов, а слева были соленые болота и западный берег моря. Однажды они видели летящих лебедей — далеко на юге. Но больше ни одного живого существа за весь тот день они не увидели. Какая-то странная усталость, ожидание чего-то ужасного не отпускали Аррена. И вместе с тем в нем росли нетерпение и глухой гнев. После длительного молчания он заговорил первым:
— Эта земля так же мертва, как в царстве мертвых.
— Не смей так говорить! — резко оборвал его волшебник и прибавил шагу. Потом изменившимся голосом пояснил: — Посмотри на эту землю; внимательно посмотри вокруг. Ведь все это — твое царство, царство жизни. Это — твое бессмертие. Посмотри на эти холмы: они ведь тоже смертны, не вечны. Склоны их покрыты живой травой, в ручьях звенит живая вода… Во всей Вселенной, во множестве миров и невероятной бездне времен нет и не было других, точно таких же ручьев, чьи холодные струи исходят из земных глубин, оттуда, где никто не видит их истоков. А потом родники, сливаясь в ручьи и реки, бегут под солнцем и под звездным ночным небом к морю. Глубоки источники бытия, глубже, чем жизнь, глубже, чем смерть…
Гед остановился, и в глазах его, когда он смотрел на Аррена и на залитые солнцем холмы, была лишь великая, невыразимая словами, всепоглощающая любовь. И Аррен понял это. А поняв, впервые увидел и самого волшебника как бы целиком, таким, какой он есть.
— Я не могу лучше объяснить все это, — сказал Гед с несчастным видом.
Но Аррен подумал о том первом своем часе на острове Рок, когда во дворике у фонтана он увидел этого человека стоящим на коленях перед играющей струей воды; и радость, чистая, как та вдруг вспомнившаяся струя, забурлила в нем. Он посмотрел на своего друга и сказал:
— Я уже отдал свою любовь тому, что достойно любви. Разве это не мое царство, разве не в нем заключена вечная весна?
— О да, сынок, — сказал Гед с болью и нежностью.
И они двинулись дальше в молчании. Однако теперь Аррен видел мир как бы глазами своего друга, видел его живое очарование, что вдруг открылось ему в этой пустынной стране и, словно благодаря волшебству, превзошло все остальные, виденные до сих пор красоты, — очарование каждой исхлестанной ветром травинки, каждой тени, каждого камня. Так человек в последний раз смотрит на нежно любимые места, отправляясь в путешествие, из которого нет возврата. Он видит все вокруг как бы целиком, одновременно, и все кажется ему таким настоящим, таким дорогим и родным, каким никогда не казалось раньше, каким он больше никогда его не увидит.
К вечеру сильный ветер отогнал плотную гряду облаков, закрывавшую западный край неба, и закат яростно горел над морем, разливая по волнам пурпур и багрянец, пока солнце в очередной раз не нырнуло в далекие воды на горизонте. Собирая топливо для костра, Аррен вдруг увидел на берегу ручья, где они расположились на ночлег, залитого пурпурным сиянием человека, стоявшего не более чем в пяти шагах, но видимого неясно. Лицо незнакомца было каким-то странным, однако Аррен узнал его: это был красильщик Попли с острова Лорбанери, который давно умер.
За Попли стояли другие люди. У всех были печальные лица; глаза их внимательно смотрели на Аррена. Они, казалось, даже что-то говорили, но Аррен не мог расслышать слов — только невнятный шепот или шелест, тут же уносимый порывами западного ветра. Потом некоторые из людей стали медленно приближаться к нему.
Аррен распрямился и смотрел то на этих людей, то на Попли; потом повернулся к ним спиной, постоял немного и подобрал с земли еще одну валежину, хотя руки у него тряслись. Он положил валежину в общую кучу и подобрал еще одну и еще. Потом выпрямился и оглянулся. У ручья никого не было; на холмах догорал красный отблеск заката. Юноша вернулся к Геду и бросил на землю возле костра целую охапку топлива, однако ничего не сказал о своей встрече.
Всю ночь в туманной мгле острова Селидор, где никогда не жили люди, он просыпался и слышал вокруг шепот мертвых. Тогда усилием воли он заставил себя не слушать. И вскоре снова уснул.
Оба, и он и Гед, проснулись поздно, когда солнце уже на целую ширину ладони поднялось над вершинами холмов и, вырвавшись из объятий утреннего тумана, ярко освещало эту холодную землю. Пока они поглощали свой жалкий завтрак, прилетел Орм Эмбар и стал кружить над ними в воздухе. Из пасти дракона вырывалось пламя, а из красных ноздрей — искры и дым; в клубах огня и дыма зубы его сверкали, словно бритвы из слоновой кости. Однако дракон ничего не говорил, хотя Гед и окликнул его, назвав по имени:
— Ты нашел его, Орм Эмбар?
В ответ дракон резко повернул голову и немыслимым образом изогнулся, как бы отталкиваясь от ветра своими когтистыми страшными лапами. Потом вдруг быстро развернулся и устремился на запад, все время оглядываясь на них с Гедом.
Гед крепко сжал свой посох и гневно ударил им о землю.
— Он больше не может говорить! — воскликнул он. — Он — и не может говорить!!! У него отняли эту способность, отняли Речь, и теперь он все равно что обыкновенная гадюка или безъязыкий червяк, и мудрость его лишилась языка. Однако он еще может вести нас! И мы последуем за ним.
Подхватив свои легкие заплечные мешки, они быстро пошли через холмы на запад, туда, куда улетел Орм Эмбар.
Они шли не менее двух часов одинаково ровным, быстрым шагом. Теперь море окружало их с обеих сторон: они спускались вниз по длинной пологой каменистой гряде меж сухих тростников и продуваемых всеми ветрами прогалин по берегам ручьев к изогнувшемуся широкой дугой песчаному берегу цвета слоновой кости. Это был самый северный мыс Селидора, конец последнего острова Земноморья, конец земли.
Орм Эмбар стоял на светлом песке, выгнув спину дугой и опустив голову, словно разъяренный кот; дыхание его было прерывистым, изо рта вырывались языки пламени. В некотором отдалении, между ним и полосой несильного прибоя, виднелось нечто вроде хижины или шалаша, построенного из чего-то белого, похожего на очень старый, обесцвеченный плавн
ик. Вот только плавника на этом берегу быть не могло: дальше не было островов, только Открытое Море. Когда они подошли ближе, Аррен увидел, что ветхие стены хижины сделаны из огромных костей; сначала он подумал, что это кости кита, и только потом, заметив треугольные, острые как нож выступы вдоль хребта, понял, что это кости дракона.
Они наконец достигли цели. Солнечные блики играли на волнах, просвечивавших сквозь щели жилища из костей. Дверь заменял кусок гигантской бедренной кости. Над дверью был укреплен человеческий череп, уставившийся пустыми глазницами на холмы Селидора.
Они застыли как вкопанные, глядя на этот череп, и тут дверь под ним отворилась и вышел человек в старинных доспехах из позолоченной бронзы. Доспехи были во многих местах пробиты то ли кинжалом, то ли боевым топором. В руках он держал сломанный меч: осталась только рукоять и гарда, сам же клинок отсутствовал. Лицо человека казалось суровым: черные дуги бровей, тонкий красивый нос, темные глаза, живые и печальные. Его тело было буквально покрыто ранами — руки, горло, бок; кровь больше не шла, но любая из этих ран казалась смертельной. Человек стоял прямо и неподвижно, глядя на них.
Гед сделал шаг к нему. Они были как-то странно похожи — вот так, лицом к лицу.
— Ты — Эррет-Акбе, — сказал Гед.
Человек, продолжая пристально смотреть на него, один раз молча кивнул.
— Даже тебя, даже тебя вынуждает он исполнять свои приказания! — В голосе Геда слышалась ярость. — О, господин мой, самый лучший, самый храбрый из людей, покойся же во славе своей — в царстве смерти! — И широким жестом подняв обе руки, Гед разом опустил их, повторив те же слова, которые произносил ночью перед толпой мертвецов. После магического жеста в воздухе на мгновение остался широкий светящийся след. Когда этот след исчез, исчез и израненный человек в латах; лишь солнце ярко освещало песок там, где он только что стоял.
Гед ударил посохом по хижине из костей дракона, и та тоже исчезла. Теперь на песке не осталось ничего — только одно гигантское ребро еще торчало вверх.
Волшебник обернулся к дракону:
— Это здесь, Орм Эмбар? Это то самое место?
Из приоткрытой пасти донеслось мощное прерывистое шипение.
— Значит, это здесь. На последнем берегу нашей земли! Что ж, хорошо. — И, держа свой черный тисовый посох в левой руке, Гед широким жестом развел руки, готовясь произнести заклятье, и заговорил на Языке Созидания. Аррен тоже понял наконец слова Истинной Речи: все, кто слышит Великое Заклятие, должны его понимать, ибо оно имеет власть надо всем. — Теперь я заклинаю тебя, враг мой! Явись и предстань передо мной во плоти. Я связываю тебя тем словом, что не будет произнесено до конца времен. Явись!
Однако вместо имени заклинаемого Гед сказал лишь:
враг мой. Наступила такая тишина, что не слышалось даже плеска волн. Аррену на какой-то миг показалось, что солнце скрылось в загадочной дымке, хотя оно по-прежнему стояло в ясном небе прямо у него над головой. Непонятная дымка сгустилась, и тьма окутала песчаный берег, видимый теперь словно сквозь закопченное стекло; прямо перед Гедом тьма была совершенно непроницаемой. Во всяком случае, Аррен не мог рассмотреть в ней никакой ясно очерченной фигуры — так, черная пустота, бесформенность.
И вдруг из этого сгустка тьмы возник человек. Тот самый, которого они видели на вершине дюны, — высокий, темноволосый, длиннорукий и стройный. Теперь в руках он держал нечто вроде хлыста или стального узкого и длинного лезвия, по всей длине которого были вырезаны старинные руны. Словно готовясь к атаке, он направил свое оружие в сторону Геда. Но что-то странное было в его взгляде: похоже, что глаза его, будто ослепленные солнцем, не способны были видеть как следует.
— Я прихожу, — проговорил он, — только по собственному желанию и тогда, когда захочу. Ты не можешь вызвать меня своим заклятьем, Верховный Маг, я не мертвая тень. Я живой человек. И один лишь я по-настоящему жив! Ты вот считаешь себя тоже живым, но ведь ты умираешь, медленно, постепенно. Знаешь, что держу я в руках? Посох Серого Мага; того, что заставил навсегда умолкнуть Негерера; того, кто считался лучшим мастером искусства, которым овладел и я. Впрочем, теперь я и сам Мастер не хуже. И мне надоели бесконечные игры с тобой. — С этими словами он неожиданно резко выбросил вперед руку со стальным стержнем и дотронулся им до Геда, который стоял так, словно утратил способность двигаться и говорить. Аррен всю свою волю сосредоточил на том, чтобы сделать хоть шаг, однако не смог даже пошевелиться, даже коснуться рукояти меча, и голос тоже застрял у него в глотке.
Но тут над Гедом и Арреном, прямо над их головами, взметнул свое огромное тело разъяренный дракон и одним конвульсивным рывком, всей своей тяжестью обрушился на противника, так что колдовское стальное лезвие полностью погрузилось в его покрытую чешуей грудь; но и черноволосый человек был смят чудовищным весом дракона, сокрушен и сожжен его дыханием.
С трудом приподнявшись над песчаным берегом, изогнув спину дугой и хлопая крыльями, Орм Эмбар выдохнул или, скорее, вытошнил сгусток жуткого пламени и закричал. Потом попытался взлететь, но не смог. Холодная, отравленная злым колдовством сталь попала ему прямо в сердце. Дракон забился в судорогах, и кровь, черная ядовитая драконья кровь, дымясь, хлынула у него из пасти; пламя замерло в ноздрях, и они стали похожи на подернутые пеплом угольные ямы. Огромная голова его бессильно склонилась на песок.
Так умер Орм Эмбар. Умер на том же берегу, что и его предок Орм; умер на его могиле, на зарытых в песок костях великого дракона.
Там, где Орм Эмбар, обрушившись на своего врага, пытался вбить его в землю, лежало теперь нечто безобразное и скрюченное, похожее на тело огромного паука, запутавшегося и засохшего в собственной паутине. Существо это было сожжено огненным дыханием дракона и изломано его когтистыми лапами. Но все же — и Аррен заметил это — существо двигалось и уже немножко отползло подальше от поверженного дракона.
Существо подняло голову и повернулось к ним с Гедом лицом. Ничего от былой привлекательности не осталось в этом лице — тлен, старость, пережившая самое себя. Рот провалился. Глазницы были пусты. Наконец Гед и Аррен увидели подлинный лик своего врага.
Существо отвернулось и распростерло обожженные почерневшие руки. Висевшая вокруг темная дымка как бы собралась и втянулась в круг, образованный его руками, и вновь возникла та бесформенная тьма, что вспухала тогда перед Гедом, закрывая свет солнца. Теперь тьма изогнулась, образовав нечто вроде арки ворот, очертания которых были весьма расплывчаты, и за этими воротами не было ни светлого песка, ни океана: только длинный темный склон неведомой горы, уходящий куда-то вниз.
По этому склону и устремилось на четвереньках изуродованное драконом существо и, едва оказавшись во тьме, сразу набралось сил, встало на ноги, начало двигаться быстрее и скрылось из виду.
— Пошли, Лебаннен, — сказал Гед и положил правую руку на плечо юноши. Вместе двинулись они вперед, в глубь пустынной Страны Мертвых.
Глава 12
В мертвой пустыне
Тисовый посох в руке волшебника светился серебряным светом в мрачных сумерках, окутывавших ведущий во тьму склон горы. Потом Аррен, приглядевшись, заметил еще какое-то слабое свечение: огоньки пробегали по лезвию обнаженного меча, который он крепко сжимал в руке. Еще там, на берегу острова Селидор, когда дракон ценой своей жизни разрушил страшное Связующее Заклятье, Аррен первым делом вытащил меч из ножен. И здесь, где и сам юноша казался всего лишь тенью, но все же тенью
живой, он нес с собой
живую тень своего старинного меча.
Больше нигде не было ни огонька, ни просвета. Их окружали как бы поздние сумерки пасмурного ноябрьского вечера — мрачная, холодная, непрозрачная серая мгла, в которой предметы хоть и были в целом различимы, но недостаточно ясно и только вблизи. Аррен узнал это место: пустынные скалы из его прежних, лишенных надежды на спасение снов; но ему казалось, что теперь он зашел куда дальше, невероятно далеко, значительно дальше, чем когда-либо в своих снах. Он почти ничего не мог как следует разглядеть вокруг, но было ясно, что они с Гедом стоят на склоне горы, а перед ними невысокая каменная стена.
Правая рука Геда по-прежнему лежала на плече Аррена. Он первым шагнул вперед, и юноша последовал за ним; вместе они перебрались через стену из камней.
Бесконечный склон расстилался перед ними, уходя куда-то вниз, во тьму.
Но над головой, где, как Аррену казалось раньше, должны были быть тяжелые серые тучи, небо было абсолютно черным и на нем светились звезды. Он внимательно посмотрел на них, и сердце у него в груди болезненно сжалось, пронзенное смертным холодом и ужасом. Это были совсем не те звезды, какие он привык видеть на небе. Они неподвижно застыли и даже не мигали. Это были те самые звезды, что никогда не зажигаются и никогда не исчезают с небес. Никогда не скрывают их облака; никогда ни один восход солнца не затмевает их свет. Неподвижные, крошечные, неустанно светят они над мертвой пустыней.
Гед начал свой спуск по обратной стороне Горы Мирозданья, и шаг за шагом Аррен спускался с ним вместе. В глубине души он чувствовал страх, но сердце его все же было полно решимости и воля его была крепка, а потому страх этот не мог одолеть его. Юноша почти не замечал, как порой сжимается сердце — будто в нем беспокойно ворочается и тихонько воет маленький зверек, запертый и посаженный на цепь.
Казалось, что спуск их продолжается уже очень долго, но на самом деле, может быть, и нет: время было неощутимо в этой стране — там не дули ветры, не двигались в небе звезды, не всходило солнце. Вскоре они пришли в один из городов царства мертвых, и Аррен увидел дома, в окнах которых никогда не зажигали свет. В открытых дверях некоторых домов стояли со спокойными лицами и пустыми руками души мертвых людей.
Рыночные площади были пусты. Здесь никто ничего не продавал и не покупал, никто не торговался и не тратил деньги. Ничем здесь не пользовались, ничего не создавали. Гед и Аррен в одиночестве прошли по узким улочкам, хотя несколько раз впереди мелькала знакомая фигура и тут же скрывалась за поворотом, едва различимая в густых сумерках. Увидев ее в первый раз, Аррен бросился было вперед с поднятым мечом, указывая им на нее, но Гед только покачал головой и спокойно продолжал свой путь. Аррен только тогда разглядел, что это фигура женщины, и движется эта женщина медленно, а вовсе не бежит от них.
Все те, кого они видели — а видели они немногих, ибо при всем великом множестве умерших страна их поистине бескрайня, — стояли неподвижно или двигались очень медленно, без какой-либо цели. Ни на ком не было заметно ни ран, в отличие от призрака Эррет-Акбе, вызванного злой волей в солнечный мир к месту своей гибели, ни следов какой-либо болезни. Их тела казались здоровыми и крепкими. Они были избавлены от страданий, избавлены от боли и — от жизни. И они отнюдь не выглядели страшными, отвратительными мертвецами, как того раньше боялся Аррен. Спокойны были их лица; они освободились от гнева и желаний, и в затененных их глазах не светилась надежда.
И тогда на смену страху безграничная жалость родилась в душе Аррена; если в основе этой жалости и лежал страх, то это был страх не за самого себя, но за всех смертных. Ибо увидел он мать и дитя, умерших одновременно; они оказались в Темной Стране вместе, но дитя не резвилось и не кричало, а мать не прижимала малыша к себе и даже не смотрела в его сторону. А те, что умерли из-за любви друг к другу, здесь, встречаясь на улице, проходили мимо, даже не повернув головы.
Неподвижно застыл гончарный круг, молчал ткацкий станок, холодна была печь хлебопека. Здесь никто никогда не пел.
Темные улицы среди темных домов вели их все дальше и дальше. Единственным живым звуком здесь был шорох их шагов. Становилось все холоднее. Сначала Аррен как-то не заметил этого холода, но постепенно тот проник, кажется, в саму его душу, которая здесь стала как бы одновременно и его плотью. Юноша страшно устал. Они, должно быть, зашли уже очень далеко. Зачем идти дальше? — думал он, понемногу замедляя шаг.
Вдруг Гед резко остановился, заглядывая в лицо какому-то человеку, что стоял на перекрестке. Человек был худ, высок, и лицо его показалось Аррену знакомым, только он не мог вспомнить, где его видел. Гед заговорил с ним. И впервые живой голос нарушил эту тишину с тех пор, как они перешагнули через каменную стену.
— О Торион, друг мой, как же ты-то здесь оказался?
И Гед протянул руки к Мастеру Заклинателю из Школы Волшебников, что на острове Рок.
Торион не ответил даже жестом. Он стоял неподвижно, и неподвижным было его лицо. Но серебристый свет посоха Геда глубоко проник в его затененные глаза и не то зажег в них слабенький ответный огонек, не то просто отразился в темных зрачках. Гед сам взял Ториона за безжизненную руку и снова спросил:
— Что ты делаешь здесь, Торион? Это царство еще не властно над тобой. Ступай назад!
— Я последовал за бессмертным. И потерял путь. Не смог вернуться назад. — Голос Заклинателя звучал тихо и ровно, как у человека, который говорит во сне.
— Вверх: по направлению к стене, — сказал Гед, указывая туда, откуда они с Арреном только что пришли, вдоль длинной темной улицы. При этих словах лицо Ториона дрогнуло, словно в нем пробудилась слабая надежда — словно болезненный укол шпаги вошел в его плоть.
— Я не могу отыскать пути назад, — сказал он. — О, господин мой, я не могу его отыскать.
— Возможно, все-таки найдешь, — ответил Гед и крепко обнял его. Потом пошел дальше, а Торион остался стоять неподвижно на перекрестке.
Они шли и шли. Аррену уже стало казаться, что в этом темном безвременье сумерек нет таких естественных понятий, как «позади» или «впереди», как нет ни востока, ни запада, как нет цели у их пути. Существует ли выход отсюда? Он стал думать о том, как они тогда спускались по склону горы, все вниз и вниз, вне зависимости от того, куда сворачивали; и все улицы в темном мертвом городе тоже вели вниз. Так что для того, чтобы теперь вернуться к каменной стене, пришлось бы все время подниматься вверх, и тогда на вершине холма они непременно ее обнаружат. Но они так и не повернули назад. Бок о бок уходили они все дальше и дальше. Следовал ли он послушно за Гедом? Или, может быть, сам вел его?
Они вышли из города. Страна, населенная множеством мертвецов, выглядела пустой. Ни деревца, ни колючего кустарника, ни травинки не было на каменистой земле под неподвижными звездами.
Здесь не было горизонта, ибо глаз не способен видеть так далеко во мраке; но впереди маленькие неподвижные звезды как бы скрывались за чем-то огромным, обладавшим извилистым неровным краем, подобно горной гряде. Когда они подошли ближе, горы стали видны более отчетливо: высокие вершины, которых никогда не касались ни ветер, ни дождь. На вершинах этих не лежали снега, способные блестеть в свете звезд. Вершины были совершенно черны. При виде их отчаяние одиночества вдруг охватило Аррена. Он отвернулся. Он их узнал. Вспомнил, и теперь они притягивали его взор. Каждый раз, как он смотрел на эти вершины, тяжкий хлад сковывал его сердце, убивая в душе упрямство и мужество. Но он продолжал идти — по-прежнему все вниз и вниз, ибо земля как бы сама несла их, уходила из-под ног. Спуск стал круче. Наконец Аррен не выдержал.
— Господин мой, что это за… — и он указал на горы; договорить он не смог: горло совсем пересохло.
— Они стоят на самой границе мира света, — ответил Гед, — как и та каменная стена. У них нет имени; к ним подходят слова «боль», «горе», «страдание». Это Горы Горя. Через них ведет путь, запретный для мертвых. Это недолгий путь, но он исполнен горечи.
— Я хочу пить, — с трудом выговорил Аррен. И товарищ его ответил:
— Здесь пьют пыль.
И они пошли дальше.
Аррену стало казаться, что Гед идет уже не столь быстро и как-то порой не совсем уверенно. Зато сам он больше не испытывал сомнений, хотя усталость все накапливалась в его душе и теле. Они должны идти вниз, они должны идти дальше. И они шли дальше.
Порой им встречались другие мертвые города, где темные островерхие крыши домов вырисовывались на фоне звездного неба. Звезды по-прежнему не двигались. После городов вновь начиналась пустынная земля, где не росло ни былинки. Едва они успевали выйти за пределы города, как он проваливался во тьму, и уже ничего нельзя было разглядеть ни позади, ни впереди, кроме гор, которые все приближались, стеной вырастая перед путниками. Справа бесконечный склон вел вниз, как и раньше. Сколько времени тому назад начался их спуск по нему после того, как они перебрались через каменную стену?
— Что находится в той стороне? — прошептал Аррен. Его пугал звук собственного голоса.
— Не знаю. Это, возможно, путь, не имеющий конца, — покачал головой волшебник.
В том направлении, куда они шли, склон, похоже, становился все более пологим. Земля отвратительно скрипела под ногами, словно они шли по осколкам окаменевшей лавы. Но они по-прежнему шли только вперед, и теперь уже Аррен не думал ни о возвращении, ни о том, каким путем они могли бы вернуться. Не думал он и о том, чтобы остановиться и отдохнуть, хотя страшно устал. Один раз он попытался чуточку развеять тупую тьму, ослабить усталость и таившийся в душе ужас воспоминаниями о доме; но не смог вспомнить даже лица матери, не смог вспомнить, как выглядит солнечный зайчик. Ничего иного не оставалось, как идти вперед. И он шел вперед.
Он почувствовал, что поверхность под ногами стала почти ровной. Рядом с ним остановился Гед, как бы погруженный в сомнения. Тогда Аррен тоже остановился. Спуск прекратился: это был конец, дальше пути не было, как не было и необходимости продолжать идти.
Они находились в долине у самого подножия Гор Горя. Под ногами скрипели осколки камней, над головой нависали скалы с грубой шершавой поверхностью, похожей на шлак. Видно, когда-то, давным-давно по этой узкой горловине бежала живая река, а может быть, то была река огненной лавы, что изливалась некогда из остывшего теперь жерла вулкана — одной из тех черных безжалостных вершин, что вздымались над ними.
Аррен не двигался, не шевелился, и Гед тоже стоял рядом с ним совершенно неподвижно. Они были похожи сейчас на утративших цель существования мертвецов, которые даже не пытались что-либо разглядеть вокруг и тупо молчали. Аррен подумал с невнятным страхом: «Все-таки мы слишком далеко зашли». Хотя и это теперь не имело особого значения.
Как бы вторя его мыслям, Гед сказал вслух:
— Мы зашли слишком далеко, чтобы повернуть назад. — Голос его звучал тихо, однако величественная мрачная пустота вокруг не могла полностью заглушить его, и этого живого звука оказалось достаточно, чтобы Аррен приободрился. Разве не для того они пришли сюда, чтобы встретить врага, которого искали?
Чей-то голос проговорил из темноты:
— Вы зашли слишком далеко.
Аррен громко ответил:
— Только слишком далеко и есть для нас достаточно далеко.
— Вы добрались до Сухой Реки, — сказал голос, — и теперь не сможете вернуться назад, к каменной стене. Не сможете вернуться к жизни.
— Назад — нет, — сказал волшебник куда-то во тьму.
Аррен едва различал его, хотя они почти касались друг друга: гора, в густой тени которой они стояли, закрывала по крайней мере половину звездного неба, и казалось, что по руслу Сухой Реки течет сама Тьма.
— Но мы найдем другой путь в мир света. Твой, — твердо закончил свою мысль Гед.
Ответа не последовало.
— Здесь мы встречаемся как равные. Если ты слеп, Коб-паук, то и мы пока еще только во тьме.
Ответа не последовало.
— Мы ничем не можем повредить тебе здесь; мы даже убить тебя не можем. Чего же тебе бояться?
— Я не боюсь ничего, — раздался голос во тьме. Затем медленно, слегка светясь волшебным светом, похожим на тот, что зажигался порой на конце посоха Геда, из тьмы появился человек; он стоял чуть выше Геда и Аррена, на самом берегу Сухой Реки, среди огромных, неясной формы валунов. Он был такой же высокий, широкоплечий и длиннорукий, как и тот, кто являлся им на вершине поросшей травой дюны и на песчаном берегу острова Селидор, только старше; длинные волосы его над высоким лбом были седыми и всклокоченными. Такой предстала пред ними его душа в царстве смерти; он не был сожжен огненным дыханием дракона и не был им искалечен, но и настоящим человеком он все-таки не был: глазницы его были пусты.
— Я не боюсь ничего, — повторил он. — Да и чего может бояться мертвый? — Он засмеялся, и смех этот прозвучал так неестественно и жутко здесь, в узкой каменистой долине, стесненной горами, что Аррен на мгновение почувствовал удушье. Однако только крепче сжал рукоять меча и стал слушать.
— Я не знаю, чего может бояться мертвый, — ответил ему Гед. — Полагаю, что не смерти. И все-таки, кажется, ты ее боишься. Потому что нашел лазейку, через которую можешь удрать от нее.
— Нашел. Я живу! Тело мое живет!
— Ну оно-то живет не слишком хорошо, — сухо откликнулся волшебник. — С помощью иллюзии можно скрыть возраст; но Орм Эмбар не слишком бережно обошелся с твоей драгоценной плотью.
— Ничего, это можно поправить. Мне известны секреты искусного врачевания и вечной молодости, а это не просто иллюзии. За кого ты меня принимаешь? Только потому, что сам стал Верховным Магом, ты считаешь меня простым деревенским колдуном? Меня, единственного среди магов, кто нашел Путь Бессмертия, до сих пор никем больше не найденный!
— Возможно, мы его и не искали, — сказал Гед.
— Вы искали его. Все вы. Ты искал его и не мог найти, а потому выдумал всякие заумные слова по поводу «принятия неизбежного», «сохранения равновесия» и «восстановления миропорядка», при котором жизнь якобы уравновешивает смерть. Но это всего лишь слова — ложь, прикрывающая твою позорную неудачу, твой страх перед смертью! Разве откажется человек жить вечно, если получит такую возможность? А я это могу! Я бессмертен. Я совершил то, чего вы совершить не смогли, а потому теперь я ваш хозяин — и ты это понимаешь. Хочешь узнать, как я этого добился, Верховный Маг?
— Хочу.
Коб подошел чуть ближе. Аррен заметил, что, хотя у него и нет глаз, движения его не похожи на движения слепого; он, видимо, абсолютно точно представлял себе, где стоят Гед и Аррен, и остерегался их, хотя в сторону Аррена головы ни разу не повернул. Должно быть, он пользовался каким-то особым колдовским зрением, каким обладали, например, его посланники, способные видеть и слышать; во всяком случае, он прекрасно ориентировался, хотя настоящим зрением не обладал.
— Я жил на Пальне, — начал он, обращаясь к Геду, — после того, как ты, гордец, счел, что, унизив меня, заставил молчать. О да, ты действительно дал мне урок, но совсем не тот, на какой рассчитывал! Я тогда сказал себе: теперь я видел смерть, и я ее не хочу. Пусть вся эта глупая природа идет своим глупым путем, но я, человек, лучшее, что есть в природе, и я выше ее. Я этим путем не пойду и себе не изменю! И таким образом, окончательно решившись, я снова принялся штудировать труды мудрецов Пальна, но находил в книгах только поверхностные намеки да разрозненные сообщения о том, что мне требовалось. Так что я, по сути дела, расплел весь пальнский фольклор по ниточке и заново сплел, создав наконец заклятие. О, это было величайшее из заклятий, когда-либо существовавших на свете! Величайшее и последнее!
— Произнося это заклятие, ты и умер.
— Да! Я умер. У меня тогда хватило мужества умереть и найти то, что вы, трусы, никогда так
найти и не смогли: путь из Страны Мертвых в мир живых. Я открыл ту дверь, что была крепко заперта с начала времен. И теперь я свободно прихожу в Темную Страну и свободно возвращаюсь в мир света. Я, единственный из людей, когда-либо существовавших на земле, стал Властелином Двух Миров. И найденная мной дверь открывается не только отсюда; она открывается там, в душах живых людей, в самых потаенных уголках бытия, в таких глубинах, где все мы равны перед Великой Тьмой. Люди понимают это и приходят ко мне. И души мертвых — все до одной! — обязаны являться на мой зов, ибо я ничуть не утратил волшебной силы живого мага: если я прикажу, они все начинают карабкаться через каменную стену — все, души великих правителей, и магов, и гордых женщин!.. Из смерти — в жизнь; и обратно, из жизни — в смерть. По моей команде. Все обязаны подчиняться мне, живые и мертвые, мне, который умер, но остался жив!
— Где же они встречаются с тобой, Коб? Где они могут найти тебя?
— Меж двух миров.
— Но ведь это не жизнь и не смерть. Что такое жизнь, Коб?
— Власть.
— А что такое любовь?
— Власть, — вновь тяжко уронил слепой, чуть пожав плечами.
— Что такое свет?
— Тьма!
— Как твое имя?
— У меня его нет.
— Все в этой стране называются своими подлинными именами.
— Тогда назови свое!
— Мое имя Гед. А твое?
Слепой поколебался и сказал:
— Коб. Паук.
— Это только твои прозвища, а где же твое имя? Твое подлинное имя? Сама твоя суть? И в чем истина, в которую ты веришь? Не осталась ли она в Пальне, когда ты умер? Ты слишком многое забыл, Властелин Двух Миров. Ты позабыл, что такое свет, любовь, подлинное имя.
— Зато теперь я знаю твое имя, а стало быть, обладаю над тобой властью, Верховный Маг Гед! Вернее, который был Верховным Магом — пока был жив!
— Имя мое тебе не поможет, — спокойно промолвил Гед. — И нет у тебя никакой власти надо мной. Я живой человек; тело мое лежит на берегу Селидора под солнцем, на живой земле, которая по-прежнему вращается вокруг своей оси. И только когда умрет это тело, я окажусь здесь: но то будет уже одно лишь имя мое, всего лишь тень настоящего Геда. Разве ты этого не знаешь? Неужели ты никогда не понимал этого? Ты, который вызвал из царства мертвых столько душ; который заклятьем своим принудил явиться на землю тех, кто ушел от нас навсегда; который вызвал на свет даже душу повелителя моего Эррет-Акбе, мудрейшего из людей? Разве не понял ты, что он, даже он — теперь всего лишь тень, бесплотное имя? Его смерть не умалила Жизни. Как не умалила она и славу его имени, и значение его великих деяний. Сейчас он там —
там, не здесь! Здесь нет ничего, только пыль да тени. А там он стал землей и солнечным светом, листьями деревьев и полетом орла. Он жив. И все, кто умирает, тоже живут; они возрождаются, и нет у жизни конца и никогда не будет! Все человеческие жизни продолжаются вечно, кроме твоей. Ибо ты не желаешь собственной смерти. Ты утратил смерть, чтобы спасти себя, но ты утратил и жизнь. О да, ты спас себя! Свое бессмертное «я»! Но что оно такое? Кто такой ты сам?
— Я — это я. Моя плоть никогда не подвергнется тлению, никогда не умрет…
— Живая плоть ощущает боль, Коб; живое тело стареет и умирает. Смерть — вот та цена, которую мы платим за жизнь свою. И за Жизнь вообще.
— Я никому ни за что не плачу! Я могу умереть и в тот же миг ожить снова! Меня нельзя убить, я бессмертен, я единственный сохраняю свое «я», свою сущность вечно!
— Тогда кто же ты?
— Единственный бессмертный человек в мире. Я — бессмертный.
— Назови свое имя.
— Я — Великий Король.
— Назови мое имя. Я сказал его тебе не более минуты назад. Назови мое имя!
— Ты ненастоящий. У тебя никакого имени нет. Существую один лишь я.
— Да, ты существуешь — без имени, без плоти. Не можешь видеть свет дня; не можешь видеть тьму. Ты предал нашу зеленую землю, и ясное солнце, и звезды, чтобы спасти себя, свое «я». Ты даром отдал все и получил ничто. Так что теперь ты стремишься затянуть в свои сети весь мир, всю ту жизнь и тот свет, которые ты навсегда утратил; ты хочешь заполнить это ничто — свою собственную пустоту. Но ничто заполнить нельзя, Коб. Все песни земли и все звезды небес не заполнят твоей пустоты.
Голос Геда звенел металлом в холодном узком ущелье среди нависших гор, и слепой в ужасе отшатнулся. Он поднял голову, и слабый свет звезд упал на его искаженное лицо. Казалось, он плакал; но слез не было, ведь не было и глаз. Он то открывал, то закрывал рот — темный провал на лице, — но слов не было, лишь слабое мычание и стон. Наконец с трудом он выговорил одно лишь слово своими искривившимися губами: «Жизнь».
— Я бы дал тебе жизнь, Коб, если б мог. Но я не могу. Ты мертв. Но я могу дать тебе смерть.
— Нет! — громко вскрикнул слепой и повторил: — Нет, нет! — Рыдания сотрясли его, но щеки остались так же сухи, как каменистое русло реки, по которой текла одна лишь ночная тьма. — Ты не можешь. Никто никогда не сможет освободить меня. Я отворил дверь между мирами и не могу закрыть ее. Никто не сможет ее закрыть. Она никогда больше не будет закрыта. И она тянет меня к себе, тянет… Я должен снова и снова возвращаться к ней. Я должен проходить в нее и снова возвращаться сюда — в пыль, холод, тишину. Она высасывает мои силы. Я не могу ни уйти от нее, ни закрыть ее. И она всосет в себя весь свет мира. Все реки станут такими, как эта Сухая Река. И нет такой силы, что могла бы закрыть ту дверь, которую отворил я!
Очень странно звучала эта смесь отчаяния и собственной вины, ужаса и тщеславия. Гед сказал лишь:
— Где она, эта дверь?
— Вон там. Недалеко. Ты можешь туда пойти. Но сделать ничего не сможешь. Не сможешь закрыть ее. Если даже все свои силы ты истратишь только на это, их все равно не хватит. Ни у кого никогда не хватит на это сил.
— Возможно, — ответил Гед. — Но хоть ты и предпочитаешь попусту предаваться отчаянию, запомни: мы пока до этого не дошли и будем действовать. Веди нас туда.
Слепой вскинул голову; на лице его отчетливо боролись страх и ненависть. Ненависть победила.
— Не поведу, — сказал он.
И тут вперед вышел Аррен и сказал:
— Поведешь.
Слепой словно окаменел. Леденящая тишина и тьма царства мертвых плотно обступала их; слова словно повисали в ней.
— Кто ты такой?
— Мое имя Лебаннен.
— Разве ты, называющий себя Великим Королем, не знаешь, кто это такой? — спросил насмешливо Гед.
И снова Коб застыл как изваяние. Потом сказал, чуть задыхаясь:
— Но он умер… И вы мертвы. Вы не можете вернуться назад. Отсюда нет выхода. Вы попали в ловушку! — Легкое свечение, которое он испускал раньше, постепенно меркло; потом он поспешно отступил назад, и тьма тут же поглотила его.
— Дай мне свет, о господин мой! — вскричал Аррен, и Гед, высоко над головой воздев свой посох, позволил яркому белому свету вспороть эту древнюю слепящую тьму, полную теней. Среди скал, спотыкаясь, спешил прочь высокий слепой человек, он падал, полз на четвереньках и вновь поднимался; не видя ничего, он тем не менее уверенно убегал от них вдоль русла Сухой Реки. Аррен с мечом в руках бросился за ним; следом поспешил Гед.
Вскоре Гед довольно сильно отстал, и свет его посоха уже не так хорошо освещал Аррену путь, к тому же мешали бесконечные валуны; однако Аррен хорошо слышал шаги Коба впереди и шел по его следу как гончая. Постепенно он стал нагонять врага, особенно когда путь стал круче. Теперь они карабкались вверх по узкой горловине бывшей реки, задохнувшейся от камней. Они поднимались к истокам Сухой Реки, русло которой напоминало здесь рану, прорубленную в каменистой породе. Камни с грохотом скатывались из-под ног, руки то и дело соскальзывали, так что приходилось почти ползти на четвереньках. Аррен, почувствовав, что русло реки снова сужается, в последнем решительном броске нагнал Коба и, схватив его за руку, заставил остановиться. Здесь было что-то вроде пустого каменного бассейна в три-четыре шага шириной, который, если когда-то здесь бежала вода, мог, вполне возможно, быть озерцом. Выше громоздились валуны и неподвижные скалы. И в этом каменном хаосе виднелась черная дыра: исток Сухой Реки.
Коб не пытался вырваться. Он стоял вполне спокойно, даже когда Гед, нагнав их, осветил его безглазое лицо. И это лицо теперь повернулось к Аррену.
— Вот это место, — выговорил Коб, и некое подобие улыбки исказило его губы. — То самое, что вы ищете. Видишь? Войдя туда, ты сможешь возродиться снова. Тебе нужно только последовать за мной, и ты будешь жить вечно. Мы будем королями оба.
Аррен смотрел на сухую темную пасть — исток Сухой Реки, пыльный зев страшной горы, то самое место, где эта мертвая душа, зарываясь в землю, во тьму, вновь рождалась на свет мертвой. Чудовищным показалось это ему, и он сказал хрипло, борясь с удушающей дурнотой:
— Пусть эта дыра закроется!
— Она непременно закроется! — откликнулся Гед. Подошел и встал с ним рядом. Свет, исходящий от его рук и лица, потоками хлынул на землю, словно звезда упала в эту бесконечную ночь. Прямо перед ним был сухой источник — страшный, широко разверстый зев. Там не было видно ничего, кроме пустоты, и невозможно было определить, насколько велика его глубина. Там не было ничего, что мог бы выхватить из темноты свет, что мог бы увидеть человеческий глаз. Это была черная бездна, сама пустота, где не было ничего — ни света, ни тьмы, ни жизни, ни смерти. Это был путь в ничто.
Гед, вскинув в торжественном магическом жесте руки, заговорил словами Истинной Речи.
Аррен по-прежнему держал Коба за руку; слепой своей свободной рукой оперся о камень. Оба застыли в неподвижности, очарованные силой Великого Заклятия.
Все мастерство, обретенное за долгую жизнь, всю силу своей неистовой души вкладывал Гед в это Заклятие, пытаясь закрыть брешь в ткани мирозданья. И, повинуясь голосу его и жестам, скалы мучительно содрогнулись и начали сдвигаться, пытаясь вновь стать единым целым. Это почти произошло, когда исходивший от Геда свет начал вдруг меркнуть, умирать, затухать на лице его и руках, и даже посох почти перестал светиться: осталось лишь слабое мерцание волшебного огонька на самом его конце. При свете этого огонька Аррен увидел, что края страшной пасти почти сомкнулись.
Слепой руками ощутил движение камней и скал, почувствовал, что края двери смыкаются, и понял, что искусство его и сила сдают свои позиции, что он уже почти побежден… И громко вскрикнув: «Нет!» — он вырвался из рук Аррена, рванулся вперед и сжал Геда в слепых своих могучих объятьях. Повалив его на землю, Коб стиснул пальцы у него на горле.
Аррен взмахнул мечом Серриадха и сильным точным ударом отсек покрытую всклокоченными седыми волосами голову Коба.
Как живая душа обладает весом своего тела в мире мертвых, так и тень меча Серриадха обладала остротой своего клинка. Огромная рана открылась на шее врага: меч рассек ему шейные позвонки. Хлынула черная кровь, и слабый свет, исходивший от меча, поблескивал на ее маслянистой поверхности.
Но разве можно убить мертвого? Коб давно уже, долгие годы был мертв. И рана сомкнулась, как чудовищная пасть, проглотив исходивший из нее поток крови. Слепец встал. Он показался Аррену вдруг очень высоким; он шарил вокруг своими длинными руками в поисках юноши, и лицо его подергивалось от злобы и ненависти: он как будто только сейчас понял, кто его настоящий враг и соперник.
И так страшно было видеть его живым после нанесенной ему смертельной раны — видеть эту неспособность умереть, которая оказалась ужаснее любой агонии, — что ярость, смешанная с отвращением, вскипела в Аррене, и, в неукротимом гневе вскинув меч, он снова ударил им в полную силу, нанеся врагу еще одну чудовищную рану. Коб упал с расколотым черепом, с залитым кровью лицом, но Аррен продолжал наносить удар за ударом, чтобы смертельная рана не успела закрыться, чтобы наконец добить противника до конца…
Гед, с трудом встав на колени, произнес где-то у него за спиной одно лишь слово.
При звуке голоса Геда Аррен застыл, словно чья-то рука перехватила в воздухе его руку с воздетым мечом. Слепой, который уже начал было снова подниматься на ноги, тоже застыл в абсолютной неподвижности. Гед выпрямился во весь рост; его слегка шатало, но он собрался с силами, повернулся лицом к черной дыре и ясным твердым голосом сказал:
— Да восстановится твоя целостность!
И посохом своим начертал светящимися линиями на каменных воротах в иной мир руну Агнен — Великую Руну Конца, что закрывает все пути. Эту руну изображают и на крышке гроба. И каменный бездонный зев среди скал сомкнулся. Дверь была заперта.
Мертвая пустыня содрогнулась у них под ногами, и по неизменно безоблачному небу прокатился долгий раскат грома, замерший вдали.
— Тем Словом, что не будет произнесено до конца времен, вызвал я твою душу. И тем Словом, что произнесено было в миг Созидания, я освобождаю тебя. Иди и будь свободным! — И, склонившись над слепым, что скрючился, стоя на коленях, Гед шепнул что-то ему в ухо, скрытое седыми спутанными волосами.
Коб встал. Медленно огляделся зрячими теперь глазами. Посмотрел на Аррена, потом — на Геда. Он не сказал ни слова — только посмотрел на них своими темными глазами. В лице его больше не было ни гнева, ни ненависти, ни печали. Медленно повернулся он и пошел куда-то вниз, вдоль русла Сухой Реки, а вскоре совсем исчез из виду.
Огонек на конце тисового посоха Геда погас, погасло и лицо волшебника. Он стоял совершенно неподвижно в полной темноте. Когда Аррен подошел к нему, он ухватился за плечо юноши, чтобы удержаться на ногах. На какой-то миг сухое рыдание сотрясло его тело.
— Дело сделано, — сказал он. — И все позади.
— Дело сделано, дорогой мой господин. Мы должны идти.
— О да. Мы должны идти домой.
Гед казался то ли страшно растерянным, то ли совершенно обессилевшим. Он послушно двинулся следом за Арреном обратно, вдоль русла Сухой Реки, с трудом переставляя ноги и все время спотыкаясь о камни и валуны. Аррен не отходил от него ни на шаг. Когда берега реки стали более пологими, а земля — более ровной, Аррен свернул было на тот путь, по которому они пришли сюда. Путь этот по бесконечно длинному склону горы уходил куда-то вверх, во тьму. Аррен посмотрел туда и отвернулся.
Гед не сказал ни слова. Едва они остановились, он бессильно рухнул на первый же крупный камень и, измученный до предела, свесил голову на грудь.
Аррен понимал, что тот путь, по которому они пришли, для них закрыт. Они могли теперь идти только вперед. И пройти весь путь до конца. Иногда и «слишком далеко» на самом деле не так уж далеко, думал он. Он посмотрел вверх, на черные пики гор, холодные и молчаливые под вечно недвижимыми звездами, и снова тот же насмешливый голос в его душе — голос его собственной воли — безжалостно спросил: «Неужели остановишься на полпути, Лебаннен?»
Он подошел к Геду и очень нежно окликнул его:
— Мы должны идти дальше, господин мой.
Гед не ответил, однако поднялся на ноги.
— Я думаю, нам надо идти через горы.
— Веди ты, парень, — проговорил Гед хриплым шепотом. — Помоги-ка мне.
Обнявшись, они двинулись в путь — вверх по горному склону, покрытому пеплом и застывшей лавой, — поднимаясь все выше и выше в горы. Аррен помогал старшему другу как мог. В пропастях и ущельях царила непроницаемая тьма, так что юноше порой приходилось на ощупь определять путь, чтобы не свалиться в бездну. Все время поддерживать Геда было трудновато; они оба без конца спотыкались. Но скоро стало еще труднее: склоны вздымались все круче, и приходилось карабкаться на четвереньках, а шершавые камни обжигали ладони, словно раскаленное железо. Однако сами камни были холодными, и чем выше они поднимались, тем вокруг становилось холоднее. Но каждое прикосновение к самой земле превращалось в пытку. Земля жгла, как пылающие угли: внутри этих гор бушевало пламя. Но воздух оставался ледяным, а тьма вокруг ничуть не рассеивалась. В мертвой тишине ни разу не вздохнул ветерок. Только слышался хруст острых обломков под ногами. Черные крутые выступы и мрачные провалы внезапно возникали совсем рядом и тут же снова исчезали во тьме. Где-то внизу, далеко позади, осталось царство мертвых. Впереди, в вышине, чернели закрывавшие звездное небо вершины гор. И ничто на их мертвых склонах не шевелилось, не двигалось, лишь ползли по ним вверх две смертных души.
Гед начал особенно часто спотыкаться, ноги у него подкашивались. Он задыхался и, без конца ушибая руки о камни, стонал от боли. Слышать эти жалобные стоны Аррену было невыносимо тяжело. Он пытался как-то поддерживать Геда, оберегать его, но путь слишком часто оказывался для двоих узок или Аррену приходилось идти первым, чтобы нащупать дорогу. И, наконец, на крутом обрыве, который, казалось, уходил прямо к звездам, волшебник поскользнулся, упал ничком и больше не поднялся.
— Господин мой, — позвал его Аррен, опускаясь на колени. Потом выговорил его настоящее имя: — Гед!
Но тот не пошевелился и не ответил.
Аррен поднял его на руки и понес, с трудом поднимаясь на крутизну. Потом подъем вдруг кончился и они оказались на довольно ровной площадке в несколько шагов шириной. Здесь Аррен положил Геда на землю и сам рухнул рядом, страдая от невероятной усталости и острой, как боль, безнадежности. Это была самая верхняя точка между двумя черными вершинами; это к ней он стремился, начав страшный подъем. Здесь был конец пути: ровная площадка обрывалась в вечность, во тьму. А в черном океане неба по-прежнему недвижимо висели маленькие звезды.
Однако стойкость и терпение порой оказываются сильнее безнадежности. Аррен все-таки пополз вперед, осторожно, как собака. Он заглянул за край темного обрыва и внизу, совсем недалеко, увидел вдруг песчаный берег цвета слоновой кости, белые барашки янтарных волн на закате, а за морем — солнце в золотистой вечерней дымке.
Аррен повернулся лицом к Темной Стране и пошел назад. Он очень бережно и нежно поднял Геда и из последних сил понес его вперед; он шел, пока силы его не иссякли совсем. И тут все разом кончилось, все исчезло: жажда, боль, тьма, свет солнца и шум морского прибоя.
Глава 13
Камень с Гор Горя
Когда Аррен очнулся, серый туман окутывал море, дюны и холмы острова Селидор. Волны мурлыкали что-то, набегая на берег; из тумана доносился приглушенный грохот невысокого прибоя и снова сменялся нежным мурлыканьем. Был час прилива, и полоса сухого песка на берегу была сейчас значительно уже, чем когда они были здесь впервые. Волны в последнем усилии дотягивались пенными языками до откинутой в сторону руки Геда, лежавшего ничком на песке. Одежда и волосы волшебника были мокры, а свою одежду Аррен ощущал как ледяную корку, присохшую к телу. Видно, морю все-таки хоть раз, да удалось обрушиться на них со всей силой. От мертвого тела Коба не было и следа. Возможно, волны уже утащили его в море. Зато у себя за спиной Аррен увидел возвышающееся, подобно разрушенной башне, огромное и наполовину скрытое туманом серое чешуйчатое тело дракона. То был мертвый Орм Эмбар.
Аррен встал, дрожа от пронизывающих сырости и холода; он едва держался на ногах — очень замерз, все тело затекло и от слабости страшно кружилась голова. Видимо, он слишком долго лежал без движения и теперь пошатывался как пьяный. Но, едва руки и ноги стали более послушными, он первым делом подошел к Геду и постарался оттащить его как можно дальше от воды. К сожалению, это было все, что Аррен мог для него сделать. Гед показался ему очень холодным и очень тяжелым. С превеликим трудом Аррен перетащил его через ту границу, что отделяет смерть от жизни, но, вполне возможно, напрасно. Он приложил ухо к груди Геда, но все никак не мог унять собственную дрожь и стук зубов, чтобы как следует послушать, бьется ли у волшебника сердце. Потом снова встал и попытался немного походить, чтобы согреться или хоть ноги размять; потом, весь дрожа и шаркая ногами, как глубокий старик, принялся разыскивать их вещевые мешки. Они бросили их тогда у небольшого горного ручейка, сбегавшего на берег. Это случилось в тот день, когда они увидели хижину, построенную из костей дракона: давным-давно. Больше всего Аррена интересовал именно тот ручей, потому что он уже не мог думать ни о чем, кроме воды, свежей холодной воды.
Он вышел к ручью скорее, чем рассчитывал, в том месте, где он разливался на несколько рукавов, похожих на лабиринт или на серебристое деревце со множеством веток. Аррен упал на колени и стал пить, опустив лицо в воду, опустив в воду и руки, жадно насыщаясь водой, впитывая ее всей своей исстрадавшейся от жажды душой.
Наконец он сел, и тут на другой стороне ручья увидел нечто невероятно огромное: то был дракон.
Его голова цвета железной окалины, красновато-ржавая вокруг ноздрей, глазниц и вдоль челюстей, висела в тумане прямо перед Арреном, почти над самой его головой. Когти ушли глубоко в мягкий влажный песок у ручья, перепончатые крылья, сложенные за спиной, были немного похожи на паруса в тумане, но остальное немыслимо длинное тело терялось в туманной мгле.
Дракон не шевелился. Он просидел, нахохлившись, согнувшись, здесь, у ручья, может быть, много часов, а может быть, и лет или веков. Он был словно выплавлен из металла, а по форме напоминал скалу — однако его глаза, те самые, в которые Аррен смотреть не осмеливался, немного похожие на разноцветные пятна нефти на воде или на желтый дым за оконным стеклом, эти непрозрачные глубокие желтые глаза внимательно следили за Арреном.
Он все равно ничего не смог бы сделать, а потому встал на ноги. Если дракону будет угодно убить его, он его убьет; а если нет, то Аррен все же попытается помочь Геду — если тому еще можно как-то помочь. И юноша двинулся вдоль по берегу ручья, разыскивая свои пожитки.
Дракон так ничего и не сделал. Он, не шевелясь, сидел в той же скрюченной позе и наблюдал. Аррен нашел мешки и наполнил обе кожаные фляги водой из ручья, а потом пошел обратно по песку к Геду. Едва он сделал несколько шагов, дракон тут же исчез за плотной завесой тумана.
Аррен напоил Геда, но поднять его не смог. Волшебник лежал недвижимый и холодный; голова его тяжело давила на подложенную под нее руку Аррена. Темнокожее лицо посерело, нос и скулы заострились, старые шрамы резко выступили на щеке. Даже тело его казалось очень худым, каким-то обугленным, как бы наполовину высохшим.
Аррен сидел на мокром песке, положив голову друга к себе на колени. Туман образовывал вокруг них некое замкнутое пространство с мягкими стенами, чуть более светлое над головой. Где-то рядом, в тумане, лежал мертвый дракон Орм Эмбар, а у ручья поджидал их живой дракон. И еще где-то на противоположном конце острова Селидор ждала их лодка по имени «Зоркая» — пустая и одинокая. А дальше на востоке было море. И там, за морем, в нескольких днях пути — ближайшие острова Западного Предела — но это если повезет; а оттуда недели две пути до Внутреннего Моря. Очень, очень далеко. «Далеко, как до Селидора» — так говаривали у них на Энладе. Старинные легенды, которые рассказывали детям, и всякие сказки всегда начинались одинаково: «Давным-давно, неведомо в каком году и так далеко, как отсюда до Селидора, жил-был один принц…»
Он сам был тем принцем. Только в старинных легендах было начало его истории, а теперь, похоже, наступил конец.
Аррен вовсе не отчаивался. Он, хотя и очень устал и горько оплакивал своего друга, не испытывал все же ни малейших сожалений. Вот только не осталось ничего такого, что он мог бы в этих обстоятельствах сделать. Все уже было сделано.
Когда силы вернулись к нему, он решил, что стоит, наверно, попробовать поймать рыбу в приливной волне с помощью имевшейся в мешке лесы, ибо, утолив жажду, он почувствовал страшные муки голода. Но сухари он хотел сохранить, потому что размоченным в воде сухарем можно было попытаться покормить Геда.
Пожалуй, ничего больше он сделать и не мог. А дальше решил не заглядывать. Туман по-прежнему окружал их со всех сторон.
Аррен пошарил в карманах в поисках чего-нибудь полезного, и в кармане жилета обнаружил что-то тяжелое и острое. Он очень удивился, вытащив на свет небольшой камень, черный, пористый, но довольно тяжелый. Он уже хотел отшвырнуть его, но, ощупав острые края рукой, узнал в нем осколок валуна с тех черных гор — Гор Горя. Видно, камень завалился ему в карман, когда они карабкались на кручу или когда он полз к краю пропасти с Гедом. Аррен подержал камень на ладони — вечный, неизменный камень из страны горя. Потом сжал пальцы и спрятал его в кулаке. И тут же улыбнулся — мрачной и одновременно радостной улыбкой: он был совсем один, и никто не сказал ему ни слова похвалы, и он был затерян на самом краю света, но он совершил настоящую победу впервые в своей жизни — и понимал это.
Туман поредел и чуть приподнялся. Вдали за проплывавшими клочьями тумана и облаками он видел на волнах Открытого Моря солнечные блики. Дюны и холмы Селидора то появлялись, то снова пропадали, почти бесцветные и как бы увеличенные благодаря туманному покрывалу. Солнечные лучи играли на чешуе мертвого Орм Эмбара, величественного даже в своей смерти.
Черно-стальной дракон на той стороне ручья так и сидел, нахохлившись и неподвижно.
После полудня солнце вырвалось наконец из тумана и поплыло по небу, ясное и теплое; постепенно оно растопило последние клочки серой дымки над островом. Аррен, сбросив мокрую одежду, разложил ее на просушку, а сам бродил нагишом, оставив при себе только меч. Он высушил на солнце и одежду Геда; но хоть мощный поток целительного тепла и солнечного света изливался прямо на распростертое тело волшебника, он по-прежнему не приходил в себя и оставался недвижим.
Сначала Аррен услышал скрежет — словно железо терлось о железо, потом — будто свистящий шепот скрестившихся клинков. Стальной темно-серый дракон приподнялся на своих кривоватых лапах и двинулся вперед, через ручей; легкий шипящий звук исходил от его длинного, волочащегося по песку чешуйчатого тела. Аррен видел морщинистую кожу у него под мышками и стальную чешую на боках. Чешуя во многих местах была продырявлена, как доспехи у Эррет-Акбе. Видел юноша и зубы дракона, желтые и стесанные. Во всем — в его уверенной торжественной поступи, в глубочайшем и пугающем спокойствии — Аррен видел признаки старости: это было очень древнее существо, прожившее невероятно, немыслимо долго. Когда дракон остановился в нескольких шагах от Аррена и от лежащего на песке Геда, юноша встал между ним и своим господином и другом и спросил на ардическом языке Архипелага, поскольку не знал Истинной Речи:
— Ты Калессин?
Дракон ничего не ответил, но что-то похожее на улыбку промелькнуло в его глазах. Затем, опустив громадную голову и вытянув шею, он посмотрел вниз, на Геда, и позвал его по имени.
Голос его поистине был огромен и притом нежен; вокруг разлился запах кузницы.
И снова дракон позвал волшебника, и еще раз; и на третий раз Гед открыл глаза. Он попытался было сесть, но не смог. Тогда Аррен опустился возле него на колени, поддерживая за плечи, и Гед наконец заговорил:
—
Калессин, — сказал он, —
сенваниссаи 'н ар Рок!
Слова эти отняли у него остаток сил, и в изнеможении он склонил голову Аррену на плечо, закрыв глаза.
Дракон не ответил. Он снова сгорбился, как раньше, и не шевелился. Снова все окутывал туман, закрывая клонившееся к западу солнце.
Аррен оделся и закутал Геда в плащ. Снова начинался прилив; далеко отошедшее за день море снова приближалось, и Аррен подумал, что пора оттащить Геда еще дальше, на сухой песок. Силы постепенно возвращались к нему.
Но, когда он уже наклонился, чтобы взять Геда на руки, дракон вытянул свою огромную когтистую лапу и почти коснулся юноши. Лапа была украшена четырьмя когтями, а сзади торчало подобие шпоры, как у петуха, только когти и шпоры эти были из стали и длиной с лезвие косы.
—
Собриост, — сказал дракон: будто зимний ветер просвистел в замерзших тростниках.
— Оставь жизнь моему господину. Он спас нас всех и ради этого отдал свои силы, а может быть, и жизнь. Не убивай его!
Так говорил дракону Аррен — говорил яростно и повелительно. Он был слишком потрясен и напуган, буквально переполнен страхом, и страх начинал ему надоедать, он больше не желал бояться кого бы то ни было. Он был зол на дракона, такого сильного, такого чудовищно большого и несправедливо могущественного. Аррен уже видел смерть; он попробовал ее на вкус, и никакая угроза больше не имела над ним силы.
Старый дракон Калессин искоса посмотрел на юношу одним своим длинным ужасным и прекрасным золотистым глазом. В глубине этих глаз таились века, сотни веков, а на самом дне глубоко была спрятана память об утре этого мира. И хоть Аррен дракону в глаза не смотрел, но все равно чувствовал, что тот смотрит на него с глубоко спрятанной насмешкой.
—
Арв собриост, — сказал дракон и раздул свои ржаво-красные ноздри так, что в ямах этих стал виден безопасный до времени, усмиренный огонь.
Аррен поддерживал Геда за плечи и вдруг почувствовал, как голова волшебника чуть повернулась и слабый его голос сказал:
— Это значит «залезай сюда».
Какое-то время Аррен не в силах был пошевелиться. Это было уже полное безумие. Но огромная когтистая лапа была подставлена как лестница — перед ними ступня, чуть выше изгиб локтя, потом круглилось плечо и мощные мышцы крыла там, где оно соединялось с лопаткой: четыре ступеньки, настоящая лестница! А там, между крыльями и перед первым огромным стальным рогом на хребте, в углублении шеи было местечко для одного-двух человек, словно специально созданное, чтобы ехать на драконе верхом. Если, конечно, они с Гедом совсем сошли с ума, утратили всякую надежду и безумие овладело ими.
— Залезай! — снова повторил Калессин на Языке Созидания.
И Аррен встал, помог товарищу своему подняться, и Гед, держа голову прямо и опираясь на плечо Аррена, стал взбираться по этим четырем невиданным ступеням. Потом оба уселись на покрытую чешуей шею дракона, прямо в углубление между крыльями — Аррен сзади, чтобы поддерживать Геда, если понадобится. И оба почувствовали вдруг, как в их истерзанные тела проникает тепло, долгожданное тепло, похожее на жар солнца. Тепло исходило от дракона, на котором они собирались ехать верхом; жизнь буквально кипела огнем под его бронированной оболочкой.
Вдруг Аррен заметил, что они забыли тисовый посох волшебника. Посох лежал, полузасыпанный песком, и море тихонько подкрадывалось к нему, словно желая его украсть. Юноша уже собрался было за ним, но Гед остановил его.
— Оставь это. Я израсходовал все свое волшебство у Сухой Реки, Лебаннен. Теперь я больше уже не маг.
Калессин обернулся и искоса глянул на них; в узких глазах его плескался древний смех. Был ли Калессин мужского или женского пола, совершенно неизвестно, а что думал Калессин, узнать невозможно. Медленно поднялись и развернулись огромные крылья. Они были не золотистыми, как у Орм Эмбара, но красными, темно-красными, с чуть ржавым оттенком, подобные цвету крови или алым шелкам Лорбанери. Дракон поднял крылья бережно, стараясь не задеть своих крошечных наездников. Потом осторожно подобрался и прыгнул на своих громадных лапах в воздух, как кошка; крылья захлопали и понесли их над туманом, что своим покрывалом вновь окутывал остров Селидор.
Распластав алые свои крылья на вечернем ветру, Калессин кругами взмыл над Открытым Морем и повернул на восток.
В середине лета жители острова Улли заметили огромного низко летящего дракона; потом его видели на островах Усидеро и над северной частью острова Онтуэго. Хотя в Западном Пределе драконов смертельно боятся, потому что люди здесь знакомы с ними слишком хорошо, но все же после того, как этот дракон спокойно пролетел себе мимо, жители повылезали из своих убежищ, и видевшие великолепный полет сказали:
— Не все, видно, драконы поумирали. Зря мы так считали. А может, и кое-кто из волшебников еще жив. Ну и красиво он летел, этот дракон! Может, это сам Старейший?
Где приземлялся Калессин, не видел никто. Среди дальних островов много таких, что богаты лесами и дикими горами; люди редко бывают в этих местах; здесь даже огромный дракон может приземлиться незамеченным.
Зато на Девяноста Островах среди людей царило настоящее безумие. Мужчины поплыли на веслах к западу, лавируя среди мелких островков с криками: «Прячьтесь! Прячьтесь! Дракон с Пендора нарушил свое слово! Верховный Маг погиб, и дракон летит сюда, чтобы пожрать нас всех!»
Не приземляясь и даже не поглядев вниз, огромный стальной змей пролетел над этими островами, над городками и фермами, не выдохнув ни единой искорки пламени для устрашения столь жалких людишек. Так пролетел он и над Гитом, и над Сердом, потом пересек просторы Внутреннего Моря, и вскоре вдали показался остров Рок.
Никогда на памяти людей — и даже легенды не сохранили памяти об этом — ни один дракон не осмеливался штурмовать как зримые, так и невидимые стены этого острова-крепости. Но дракон Калессин, не колеблясь, тяжело полетел на своих могучих крыльях прямо над западным берегом Рока, над его деревьями и полями к зеленому волшебному Холму, что возвышается над городом Твил, и здесь наконец мягко опустился на землю. Еще раз взмахнул своими красными крыльями и сложил их за спиной, а потом привычно сгорбился, нахохлился и застыл.
Из Большого Дома к нему бегом устремились ученики Школы. Ничто на свете не могло бы сейчас остановить их. Но при всей силе и молодости бежали они куда медленнее своих Учителей и явились на Холм вторыми: там был уже и Мастер Путеводитель, вышедший ради такого случая из своей Рощи, светлые волосы его ярко блестели на солнце; был там и Мастер Метаморфоз, который всего две ночи назад вернулся на Рок в обличье морской скопы — с подбитым крылом и совершенно измученный. Метаморфоз слишком долго оставался во власти собственного заклятья и не сразу обрел свою настоящую форму; лишь в Имманентной Роще в ту ночь, когда Великое Равновесие было восстановлено Гедом и нарушенное вновь стало целым, Метаморфоз снова стал человеком. Мастер Заклинатель, тощий и хрупкий, всего лишь день назад вставший с постели, тоже успел прийти раньше своих учеников, а за его спиной стоял Мастер Привратник. И все остальные Мастера тоже были там.
Они все смотрели, как слезают со спины дракона «наездники» и один помогает другому. Они видели, как люди эти оглядываются вокруг с выражением странного мрачного удовлетворения и изумления. Дракон, сгорбившись и застыв как каменное изваяние, ожидал, пока «наездники» сползут с его спины и встанут рядом. Калессин чуть повернул голову, когда Верховный Маг заговорил с ним, и коротко ответил ему. Те, кто наблюдал эту сцену, заметили, как дракон, будто исподтишка, глянул на Верховного Мага своим желтым холодным глазом, отчего-то полным смеха. Те, кто понимал Истинную Речь, слышали, как Калессин сказал:
— Я принес молодого Короля в его королевство, а старого человека — домой.
— Мне нужно немножко дальше, Калессин, — сказал ему Гед. — Я еще не добрался туда, куда стремлюсь всей душой. — И он окинул взглядом крыши и башни Большого Дома, залитые солнцем, и легкая, едва заметная улыбка тронула его губы. Потом он обернулся к Аррену, что стоял с ним рядом, высокий и стройный, в поношенной одежде, еще не слишком уверенно держась на ногах от усталости после всего, что с ним произошло. В присутствии всех Гед опустился перед юношей на оба колена и преклонил пред ним свою седую голову.
Потом поднялся, поцеловал своего юного друга и сказал:
— Когда взойдешь на трон в Хавноре, господин мой и дорогой друг, правь долго и справедливо.
Верховный Маг еще раз посмотрел на всех Мастеров и молодых волшебников, на юных учеников и простых жителей города, собравшихся на склонах и у подножия Холма Рок. Лицо его было спокойно, а в глазах плясал огонек улыбки, подобной той, что таилась в очах дракона Калессина. Потом, сразу отвернувшись ото всех, Гед снова взобрался по ноге дракона и по его плечу, усевшись на прежнее место. Алые крылья раскрылись с барабанным стуком, и Калессин, Старейший, как бы прыгнул в воздух. Пламя вырвалось из его пасти, дым, грохот и мгновенный вихрь, вызванный взмахами могучих крыльев, пронеслись над Холмом. Дракон совершил над Роком один лишь круг и полетел прочь, на северо-восток, в ту часть Земноморья, где возвышается над морем одинокий остров-гора под названием Гонт.
Мастер Привратник сказал, улыбаясь:
— Он покончил с делами. И теперь идет домой.
И все смотрели вслед летящему между ясным небом и синим морем дракону, пока тот не скрылся из виду.
В «Подвиге Геда» говорится, что бывший Верховный Маг Земноморья посетил церемонию коронования Короля Всех Островов, состоявшуюся в Башне Меча на острове Хавнор, что лежит в самом сердце Земноморья. Там говорится также, что, когда церемония была завершена и начался веселый праздник, Гед покинул своих друзей и один тихо спустился по улицам в порт. Там на воде покачивалась его верная лодка, старая, исхлестанная всеми штормами, испытанная временем; парус ее не был поднят, и в лодке никого не было, но Гед окликнул ее по имени: «Зоркая», и без помощи ветра, паруса или весел лодка двинулась с места, выплыла из гавани и взяла курс на запад, среди мелких островков. Так на запад плыла и плыла «Зоркая», и с тех пор ничего больше не было известно о волшебнике по имени Гед.
Однако на острове Гонт рассказывают эту историю иначе. Молодой король Лебаннен якобы сам приплывал на Гонт в поисках Геда, надеясь пригласить его на свою коронацию. Однако король не нашел волшебника ни в порту, ни в Ре Альби. Никто не мог сказать, где он; все знали только, что Гед, как всегда, ушел далеко в леса. Говорят, он часто уходил туда и не возвращался порой долгие месяцы, и никому не было известно, по каким путям бродит он в своем уединении. Кое-кто, правда, предложил его поискать, однако король запретил им это, говоря: «Он правит куда большим королевством, чем я». И с этими словами он покинул Гонт и вернулся в Хавнор, где и был коронован.

ТЕХАНУ
(роман)

Гед завершил своё путешествие в те места, где нет места живущим, и смог вернуться назад. Постаревший и обессиленный приходит он к Тенар, женщине которую он когда-то вытащил из мрачных подземелий Атуана.
Глава 1
Злодеяние
После того как Флинт из Срединной Долины умер, вдова его осталась жить на Дубовой Ферме совсем одна: их сын стал моряком, а дочь вышла замуж за купца из Вальмута. По слухам, вдова Флинта была у себя на родине весьма знатной особой, да оно и верно: Маг Огион, бывая в их краях, всегда останавливался на Дубовой Ферме. Впрочем, что касается Огиона, то он мог с тем же успехом остановиться и в любом, самом бедном доме.
Имя у нее было нездешнее, но Флинт звал ее Гоха — так на острове Гонт зовут белого паучка, замечательного ткача. Прозвище это очень ей подходило, потому что она была невысокая, белокожая и отлично умела прясть козью и овечью шерсть. И вот теперь Гоха стала вдовой Флинта — хозяйкой большого стада овец и достаточно просторных пастбищ, а еще — четырех возделанных полей, грушевого сада, двух небольших домов, где жили арендаторы, старинной каменной усадьбы, укрывшейся в тени старых дубов, и фамильного кладбища, где покоился теперь и Флинт, ставший землей в земле.
— Всю жизнь рядом со мной чьи-то могилы, — сказала она как-то своей дочери Эппл по прозвищу Яблочко.
— Мама, ну перебирайся к нам в город! — упрашивала ее дочка, но вдова почему-то не решалась покинуть уединенную свою ферму.
— Может быть, позже, когда у вас будут детки и тебе понадобится моя помощь, — сказала она, с удовольствием глядя на свою сероглазую дочку. — Но не сейчас. Сейчас я тебе не нужна. И потом, мне здесь нравится.
Отослав Яблочко к молодому мужу, вдова вошла в дом, закрыла дверь и остановилась посреди кухни, где пол был выложен из плитняка. Сгущались сумерки, но она все не зажигала огня, думая о том, как эту лампу зажигал ее муж: ловкие руки, легкая искра, сосредоточенное темнокожее лицо, освещенное вспыхнувшим огоньком… Дом был погружен в молчание. «Я ведь с детства привыкла жить в тихом доме, одна, — подумала она. — Ну и теперь проживу». И зажгла лампу.
Однажды, в самом начале жаркого лета, где-то после обеда ко вдове неожиданно заявилась Ларк, ее старинная подруга. Она жила в деревне и теперь чуть ли не бегом спешила к Дубовой Ферме по пыльной дороге.
— Гоха, — задыхаясь, сказала она вдове, занятой прополкой бобов, — ох, Гоха, случилось нечто ужасное! Ужасное! Может, сходишь со мной в деревню, а?
— Конечно, схожу, — сказала вдова. — Но что такого ужасного там могло случиться?
Ларк наконец перевела дыхание. Она была простой тучной деревенской женщиной лет сорока, и детское прозвище — Жаворонок — совсем ей не подходило. Впрочем, когда-то она была стройной и легкой и очень хорошенькой. Именно Жаворонок стала подругой юной Гохе, плюнув на мнение односельчан, которые вовсю сплетничали по поводу белокожей уроженки Каргада, которую Флинт привел в свой дом; с тех пор они и остались лучшими подругами.
— Ребенка чуть не до смерти сожгли, — выговорила наконец Ларк.
— Господи, да чьего же?
— Да этих бродяг.
Гоха быстренько заперла дверь, и они бросились в деревню. На ходу Ларк рассказывала, все время задыхаясь и обильно потея. Крошечные семена могучих трав, что росли на обочине дороги, липли к ее щекам и ко лбу, и она нетерпеливо смахивала их, но не умолкала.
— Они весь этот месяц прожили в палатке — в лугах у реки. Мужчина-то все за медника себя выдавал, да только вор он, а не медник, ну и женщина эта — при нем. А второй мужчина, помоложе, тоже с ними вместе по здешним деревням слонялся. И непохоже, чтобы кто из них работал. Воровали понемножку да попрошайничали, а женщина эта телом своим торговала. Гонцы из нижних деревень приносили ей кой-что из еды, чтобы с ней позабавиться. Знаешь небось, как это нынче делается! Да и кругом все не так — на дорогах бандиты, дома тоже грабят… На твоем месте я бы покрепче двери запирала. Ну так вот, значит, приходит тот парень, что помоложе, в деревню и говорит: «Ребенок у нас заболел». Я-то не слишком и разглядела, что у них там еще и
ребенок есть — словно хорек какой-то, мигом спрятался, я и рассмотреть толком не успела. Прямо зверек лесной. А парень мне: «Она обожглась, когда костер разжигала». И не успела я взять что нужно, как он наутек пустился. Да и исчез. А уж на лугу-то я и увидела, что и парочки той след простыл, только костер все еще дымится… И прямо в костре… на земле… — Утратив дар речи, Ларк некоторое время шла молча. Смотрела она прямо перед собой — на Гоху и не взглянула. — Они ее даже одеялом не прикрыли, — выговорила она наконец и прибавила шагу. — Прямо в горячий костер девочку толкнули! — Ларк судорожно сглотнула и принялась яростно смахивать прилипшие к потному лицу семена трав. — Можно, конечно, подумать, что она сама туда упала, да только если б так, то уж выскочить-то постаралась бы, это уж точно. Нет, они, видно, избили ее чуть не до смерти да и решили следы замести… — Ларк снова умолкла и решительно зашагала дальше. — Может, это и не он, — снова заговорила она. — Может, он-то как раз ее и вытащил. Ведь в конце концов именно он за помощью пришел… Это, верно, сам отец. Не знаю. Да и какая разница? Кто их там разберет? Кому какое дело до этой малышки? И почему все мы делаем то, что делаем?
Гоха тихонько спросила:
— А жить она будет?
— Может быть, — ответила Ларк. — Очень даже может быть. — И через некоторое время, когда они уже шли по деревенской улице, прибавила: — Не знаю, но мне почему-то непременно нужно было пойти за тобой… Там ведь сейчас Айви… да и девочке ничем, наверно, не поможешь уже.
— Я могла бы сходить в Вальмут, за Буком.
— Так тут и он ничего поделать не сможет. Это не… этому нельзя помочь! Я ее укрыла потеплее. Айви целебный отвар сварила и сонный заговор сказала. Она сейчас дома у меня. Ей лет, может, шесть или семь, да только весит она не больше двухлетней. Она так ни разу и не пришла в себя по-настоящему. И как-то так странно задыхается… Я знаю, что и ты ничего сделать не сможешь. Но мне очень хотелось, чтобы ты пришла.
— А я рада, что ты меня позвала, — откликнулась Гоха. Но, прежде чем переступить порог дома Ларк, на минутку закрыла глаза и затаила дыхание: ей было очень страшно.
Детей давно уже отослали на улицу, и в доме царила тишина. Девочка без сознания лежала на постели Ларк. Местная ведьма Айви по прозвищу Плющ смазала менее страшные ожоги мазью из волшебных орехов и иных целебных плодов и растений, но даже не прикоснулась ни к правой щеке девочки, ни к ее правой руке: здесь обуглившаяся плоть была сожжена до кости. Над кроватью Айви начертала руну Пирр — вот и все, что было в ее силах.
— Можешь ты что-нибудь с ней сделать? — шепотом спросила Ларк.
Гоха, застыв и стиснув руки, смотрела на обожженного ребенка. Потом покачала головой.
— Ты ведь училась людей лечить, там, в Ре Альби? — В голосе Ларк слышались боль и стыд, а еще — гнев: вся ее душа, казалось, молила облегчить страдания невинного ребенка.
— Даже Огион не смог бы вылечить такое, — промолвила вдова.
Ларк, закусив губу, отвернулась и заплакала. Гоха обняла ее, поглаживая по седеющей голове. Так они и стояли, обнявшись, поддерживая друг друга.
Из кухни пришла ведьма Айви, нахмурившись при виде Гохи. Хотя вдова никогда не пользовалась ни заклятиями, ни иным волшебством, ходили слухи, что сразу после прибытия на Гонт она поселилась в Ре Альби и стала ученицей Мага Огиона; а еще говорили, что она хорошо знакома с самим Верховным Магом Земноморья, что родом с острова Гонт, а значит, наверняка обладает каким-то нездешним и непростым колдовским могуществом. Сгорая от ревности, ведьма подошла к кровати и занялась девочкой, потом смешала на плоской тарелке какие-то порошки, поднесла смесь к огню, и комната наполнилась вонючим дымом, ведьма же стала шептать исцеляющие заклятия, вновь и вновь повторяя их. Дым вызвал у девочки удушливый кашель; она приподнялась в постели, хватая ртом воздух и вся дрожа. Потом стала делать какие-то короткие странные вдохи, будто захлебывалась. Ее уцелевший глаз смотрел, казалось, прямо на Гоху.
Гоха шагнула к девочке и сжала ее левую ручонку в своих руках. Потом проговорила по-каргадски:
— Я служила им, но я их покинула. И я не отдам им тебя.
Девочка смотрела на нее, а может, и просто в никуда, пытаясь вздохнуть, потом еще раз и еще — вздохнула и задышала…
Глава 2
Путь, ведущий к Гнезду Ястреба
Прошло более года. Стояли жаркие солнечные дни — недавно был праздник Долгого Танца. По северной дороге в Срединную Долину пришел сверху, с гор, человек, который разыскивал вдову Гоху. Жители деревни вывели его на нужную тропу, и он объявился на Дубовой Ферме к вечеру того же дня. У него были словно ножом вырезанные черты лица, быстрые цепкие глаза. Он глянул на Гоху, на овец в загоне у нее за спиной и сказал:
— Отличный молодняк. Великий Маг из Ре Альби шлет тебе привет.
— Так ты от него? — удивилась Гоха. Огион, когда она бывала ему нужна, пользовался иными посыльными, куда лучше и быстрее: в таких случаях она слышала либо клекот орла из поднебесья, либо голос самого Огиона, который, тихонько назвав ее Подлинное Имя, спрашивал:
Придешь?
Человек кивнул и пояснил:
— Он болен. А ты не собираешься случайно продавать приплод этого года?
— Может, и продам. Поговори с пастухом. Он там, в загоне. А может, хочешь сперва поужинать? И, если хочешь, прямо здесь и ночуй, только я уж задерживаться не стану: сразу пойду.
— Прямо сегодня?
На этот раз в ее взгляде благодушного любопытства не было и в помине — только насмешка.
— Ну а чего же мне ждать? — удивилась она. Что-то сказала старому пастуху по прозвищу Чистый Ручей и решительно двинулась к дому, построенному на склоне холма, среди дубов. Мужчина пошел за ней следом.
В кухне с полом из плитняка девочка, на которую он только раз взглянул и сразу же отвернулся, подала ему молоко, хлеб, сыр и зеленый лук, а потом вышла, не сказав ни единого слова. Потом она появилась снова вместе с Гохой; обе уже собрались в дорогу, за плечами — легкие кожаные мешки. Посыльный вызвался проводить их немного, и вдова заперла дверь дома. Все трое они вышли на дорогу; у посыльного были еще свои, весьма важные дела — покупка племенных баранов для Лорда Ре Альби, а весточку от Огиона он передал просто так, по пути, оказав старому Магу добрую услугу. Женщина и девочка с ужасным обгоревшим лицом попрощались с ним там, где дорога сворачивала к деревне, и двинулись туда, откуда он сам только что пришел: в горы, к северу и потом — снова вниз, к западным предгорьям.
Они шли по неширокой тропе, пока долгие летние сумерки не начали густеть. На ночлег расположились в лощине у ручья, быстрого и бесшумного, в воде которого отражалось бледное вечернее небо, просвечивавшее сквозь ветви низко склонившихся ив. В самой гуще зарослей Гоха приготовила им постель из сухой травы и ивовых листьев; было очень похоже на логово зайца. Она закутала девочку в одеяло и уложила спать.
— Ну вот, — сказала она, — теперь ты у нас кокон. А утром превратишься в бабочку и снова вылетишь на простор.
Она не стала разводить костер, а просто легла рядом с девочкой, глядя на звезды и слушая то, о чем тихонько рассказывал ручей, пока не заснула.
Их разбудил предрассветный холод; женщина разожгла небольшой костерок и вскипятила в котелке воды, чтобы сварить овсяную кашу для девочки и для себя. Маленькая, изувеченная огнем «бабочка» дрожа выбралась из своего кокона, и Гоха быстренько остудила горячий котелок в покрытой росой траве, чтобы девочка могла взять его в руки и есть прямо оттуда. На востоке небо уже посветлело; когда они вышли в путь, из-за высокого темного плеча горы виднелась полоса разгорающейся зари.
Они шли весь день, но очень медленно: девочка легко уставала. Душа женщины рвалась вперед, но она сдерживала себя. Долго нести девочку на руках у нее не хватало сил, поэтому, чтобы повеселить малышку и отвлечь ее от тягот пути, она рассказывала разные истории.
— Мы идем проведать одного человека, очень старого, его зовут Огион, — рассказывала она девочке, пока они плелись по узкой тропинке, подобно шраму перерезавшей поросший густым лесом склон горы. — Он настоящий мудрец и великий волшебник. Ты знаешь, что такое «волшебник», Терру?
Если у девочки когда-либо и было другое имя, она его не помнила или просто не желала сказать. Так что Гоха звала ее Терру.
Девочка покачала головой.
— Что ж, я ведь в общем-то тоже не знаю, — сказала женщина. — Зато я знаю, что волшебники умеют делать. Когда я была совсем молодой — постарше тебя, но все-таки очень юной, — Огион стал мне приемным отцом, так же как я тебе — приемной матерью. Он заботился обо мне и пытался учить меня всяким нужным вещам. Он тогда оставался со мной даже осенью, хотя осенью всегда предпочитал бродить по лесам в полном одиночестве. Он любил путешествовать в этих местах, где мы с тобой сейчас идем, и забирался порой очень далеко в лес, в самые глухие уголки. И везде ко всему присматривался, все и всех слушал. Он всегда всех слушал очень внимательно, потому его и прозвали Молчаливым. Но со мной он часто разговаривал. Рассказывал мне всякие истории. Не только о великих подвигах древних, которые всем известны, — истории о Героях и Королях и о том, что произошло невесть когда и где, — но и такие, которые знал лишь он один. — Гоха немного помолчала. — А теперь я расскажу одну из них тебе.
Все волшебники очень хорошо умеют превращаться во что-нибудь, изменяя свое обличье. Это волшебство так и называется — Превращение. Обычный колдун тоже может стать на кого-то похожим, даже на зверя какого-нибудь — во всяком случае, некоторое время и не разберешь, кто же это перед тобой на самом деле, как если бы человек вдруг надел маску. Но настоящие волшебники и маги способны на большее. Они умеют не только маски надевать, но и по-настоящему превращаться в иное существо. Например, если волшебнику нужно переплыть море, а лодки у него нет, то он может обернуться чайкой и легко пересечь морской простор. Но ему следует быть очень осторожным. Пока он остается в обличье птицы, то и думает только о том, что важно птицам, забывая то, о чем должны думать люди. Так, может он лететь и лететь, оставаясь чайкой, и никогда больше не стать человеком. Говорят, что когда-то один великий волшебник, который очень любил превращаться в медведя, делал это слишком часто, так что в конце концов насовсем в него превратился и убил своего маленького сынишку; тогда люди были вынуждены начать на него загонную охоту и убить. Только Огион часто над этим подшучивал. Однажды, когда в его кладовую забрались мыши и перепортили ему весь сыр, он поймал одну мышку с помощью маленького заклятия, взял ее вот так, посмотрел ей в глаза и сказал: «Я же предупреждал тебя: не притворяйся мышью!» И знаешь, даже я почти поверила, что это он всерьез…
Ну хорошо, начнем. История эта немного связана с Великими Превращениями, но Огион считал, что все в ней значительно сложнее: там говорится о том, как можно одновременно быть как бы двумя разными существами и обладать двумя разными душами при одном лишь обличье. А еще он считал, что на такое не способен ни один волшебник. Однако с человеком, обладавшим этой способностью, он встретился в маленькой деревушке на северо-западном побережье Гонта; местечко это называется Кимей. Там жила тогда одна женщина, старая рыбачка, никакая не ведьма и совсем ничему не обученная; зато она слагала прекрасные песни. Благодаря песням Огион и узнал о ней. Он в тот раз бродил, как водится, без всякой особой цели вдоль северо-западного побережья и услыхал чье-то пение — так поют, занимаясь, например, починкой сети или шпаклюя лодку. Вот что пели эти люди:
На самом далеком западе,
Там, где кончаются земли,
Народ мой танцует, танцует,
Подхваченный ветром иным…
Огион хорошо расслышал и мелодию, и слова, вот только никогда раньше не знал их, а потому спросил, откуда взялась эта песня. Ему отвечали все разное, и наконец кто-то сказал: «А, так ведь это песня той Женщины из Кимея…» Так что Огион отправился прямо в Кимей, небольшой портовый городок на самом берегу моря, где живут в основном рыбаки; там жила тогда и та женщина. Огион отыскал ее дом и постучал в дверь своим волшебным посохом. Какая-то старуха открыла дверь и вышла на порог.
Теперь ты уже знаешь, Терру, — помнишь, мы говорили с тобой об этом? — что у детей должны быть разные детские имена и прозвища, как и у каждого человека есть ненастоящее имя или тоже какое-нибудь прозвище. Разные люди могут называть тебя по-разному. Для меня вот ты — Терру, но это каргадское слово, и, может быть, когда ты подрастешь, у тебя будет другое прозвище, ардическое, которым тебя будут называть все вокруг. Но в любом случае, когда ты станешь взрослой, то, если все пойдет как надо, непременно обретешь свое Подлинное Имя. Его дает человек, обладающий магической силой, — настоящий волшебник или Маг, ибо в знании Истинных Имен и заключено их могущество. Истинного, Подлинного Имени своего ты, возможно, никогда никому другому не скажешь, потому что в нем заключена будет сама твоя душа, твоя суть, вся твоя сила; ведь для кого-то другого знание чужого имени может оказаться тяжким бременем, серьезной опасностью, и подвергать человека и себя такому риску можно, только полностью ему доверяя и сознавая необходимость назвать ему свое Имя. Однако Великий Маг, которому ведомы все имена, может узнать твое имя, даже если ты ему его и не скажешь.
Итак, я остановилась на том, что Огион — а он настоящий Великий Маг — встретился на пороге маленького домишка со старой женщиной. И тут он вдруг, отступив немного назад, высоко поднял свой дубовый посох и левую руку, словно желая защитить себя от всепожирающего огня, и, глубоко потрясенный, в страхе очень громко произнес Подлинное Имя старой женщины:
— Дракон!
И сразу, как он сам рассказывал, женщина исчезла, зато в дыму и великолепии пламени, блестя золотистой чешуей и длинными когтями, перед ним явился дракон, глядевший на него своими огромными глазами. Говорят, что ни в коем случае нельзя смотреть дракону прямо в глаза…
Потом видение исчезло, и вместо дракона он увидел перед собой женщину, стоявшую на пороге ветхого домишка, — немного сутулую высокую старую рыбачку с крупными натруженными руками. Она смотрела на него, он на нее. И вдруг она сказала:
— Входи же, Лорд Огион.
Ну он и вошел. Она угостила его ухой, они пообедали вместе, а потом стали беседовать у камина. Он думал, что старуха непременно владеет искусством Великих Превращений, однако, видишь ли, никак не мог понять, то ли это женщина, умеющая превращаться в дракона, то ли дракон, который может превращаться в женщину. Так что в конце концов он спросил ее: «Ты женщина или дракон?», и она на этот вопрос не ответила, только сказала:
— Я спою тебе одну старую песнь…
В башмак Терру попал камешек. Они остановились, вытряхнули его, а потом, очень медленно, пошли дальше, потому что дорога круто ползла вверх, зажатая темными каменными стенами, с которых свешивались ветви густых кустов; в кустах и нагретой траве пели цикады.
— Ну так вот, послушай же историю, которую поведала та женщина Огиону.
Когда в самом начале времен Сегой поднял острова Земноморья из глубин морских, то драконы первыми рождены были землей и ветром, что дул над островами. Так говорится в песни о Создании. А в песни той женщины говорилось еще и о том, что тогда дракон и человек были едины, принадлежали к одному народу, одной расе и пользовались одним языком — Истинной Речью.
И были они прекрасны и сильны, мудры и свободны.
Но с течением времени все меняется. Вот и в племени драконов-людей некоторые все больше стремились к полету под небесами и дикой вольности и все меньше времени уделяли Созиданию и Познанию, все меньше времени проводили в домах и городах. Им хотелось лишь лететь и лететь на просторе, охотиться, поедать добычу, не ведая ни забот, ни излишней премудрости, оставаясь вольными и дикими, стремясь к одной лишь свободе.
Другая часть этого племени, наоборот, все реже поднималась в поднебесье, но занята была сбором сокровищ, укреплением своего благополучия, созиданием и накоплением знаний. Они строили дома, замки и крепости, где хранили накопленные сокровища, чтобы потом передать все это своим потомкам, и стремились всемерно увеличить свое наследство. Постепенно они стали побаиваться диких своих собратьев, которые способны были внезапно прилететь и — часто просто по небрежности или в пылу яростной схватки — уничтожить, сжечь все созданное ими с таким трудом и столь дорогое их сердцу.
Дикие же драконы не ведали страха. Они так ничему и не научились, а потому не умели спастись, когда те, что уже не летали, ловили их в ловушки, словно обычных диких зверей, и убивали. Но тогда другие дикие драконы прилетали и мстили, сжигая прекрасные здания, все уничтожая и круша на своем пути… В этих схватках в первую очередь гибли наиболее сильные и бесстрашные.
Боязливые же стремились избегать подобных сражений, прятались, а если прятаться было негде, то спасались бегством. Они пользовались обретенным мастерством и умением и строили корабли, на которых уплывали все дальше и дальше к востоку, все дальше и дальше от западных островов, где огромные крылатые их собратья вели нескончаемую войну друг с другом среди разрушенных дворцов и замков.
И вот единое ранее племя драконов-людей разделилось на два — одно из них, племя драконов, становилось все малочисленнее, и его представители все больше дичали, мучимые собственной бесконечной, бессмысленной алчностью и злобой, на дальних островах Западного Предела; племя людей, напротив, все более умножалось и процветало в своих богатых городах и селениях; люди жили уже на всех Внутренних Островах Земноморья, заселяя также восточные и южные. Но среди них сохранились еще и такие, кто сберег древнюю мудрость племени драконов — Великий Язык Созидания. Именно они потом стали волшебниками.
Но еще, говорилось в той песни, есть среди людей и такие, кто понимает, что когда-то был драконом. Как и среди драконов некоторые помнят о своем родстве с людьми. И понимающие это говорят, что в те времена, когда единое племя разделилось надвое, некоторые его представители, по-прежнему остававшиеся полудраконами и полулюдьми, улетели, но не на восток, а на запад, и летели все дальше и дальше над просторами Открытого моря, пока не достигли обратной стороны нашего мира. И там пребывают они в ладу и покое — огромные крылатые существа, дикие и мудрые одновременно, обладая человеческим умом и сердцем дракона. Вот потому-то и были в той песни слова:
На самом далеком западе,
Там, где кончаются земли,
Народ мой танцует, танцует,
Подхваченный ветром иным…
Такова прекрасная песнь, которую спела Огиону та старая рыбачка из Кимея.
Выслушав ее, Огион сказал: «Едва увидев тебя, понял я твою подлинную сущность. Та женщина, которую я вижу сейчас, не более чем обличье, платье, которое на ней надето».
Но она лишь покачала головой, засмеялась и проговорила: «Ах, если бы это было так просто!»
Спустя какое-то время Огион вернулся в Ре Альби. А потом, когда он рассказывал эту историю мне, сказал вдруг вот что: «С того дня у меня из головы не выходит: бывал ли когда-нибудь человек или дракон так далеко на западе, как о том говорится в ее песни, и кто мы такие, в чем заключается наша сущность и наша целостность?..»
Ты не проголодалась, Терру? Вот здесь как раз очень хорошее местечко. Давай-ка посидим там, над обрывом. Оттуда мы, наверное, сможем увидеть и Порт Гонт, что расположен у самой подошвы горы. Это очень большой город, больше даже, чем Вальмут. Вот дойдем до поворота и немножко отдохнем.
Дорога, которая, петляя, шла вверх, на самом верхнем своем витке действительно открывала прекрасный вид на дальние склоны горы, покрытые лесом, и каменистые пастбища, спускавшиеся почти до самой кромки залива; отсюда были видны различные суда на темной воде, издали похожие на светлые легкие древесные стружки или на темных водяных жуков. Вдали, прямо над дорогой и склоном горы, высился обрывистый утес, где и находилось селение Ре Альби, что значит Гнездо Ястреба.
Терру ни разу не пожаловалась, но, когда, немного отдохнув, Гоха спросила: «Ну как, пойдем дальше?», девочка, пристроившаяся на краешке скалы, как бы между синью небесной и синью морской, отрицательно покачала головой. Солнце грело горячо, и они проделали слишком долгий путь с тех пор, как завтракали в лощине у ручья.
Гоха вытащила фляжку с водой, и они вдоволь напились, а потом она дала девочке мешочек с изюмом и орехами.
— Отсюда уже видно то место, куда мы с тобой идем, — сказала она, — и мне бы очень хотелось добраться туда до темноты. Здоровье Огиона сильно тревожит меня. Тебе, конечно, будет трудновато, но быстро мы не пойдем. Зато уже сегодня будем ночевать в тепле, уюте и безопасности. Привяжи-ка этот мешочек к поясу. Изюм прибавит твоим ножкам сил. Хочешь, я сделаю тебе посох — как у волшебников, — чтобы легче было идти?
Терру кивнула, не переставая жевать. Гоха вытащила нож и срезала толстую ветку орешника для девочки, потом, заметив чуть выше по дороге рухнувшую ольху, отломила одну из ее веток, очистила ее от мелких веточек и сучков и сделала себе крепкий и легкий посох.
Они снова двинулись в путь, и девочка держалась вполне бодро — видимо, изюм помог ей. Гоха запела, чтобы веселей было шагать; она пела любовные песни, пастушьи песенки и старинные баллады, которые выучила в Срединной Долине; но вдруг, резко оборвав мелодию, умолкла и остановилась, сделав предостерегающий жест.
Впрочем, четверо мужчин на дороге уже успели ее заметить, так что прятаться не имело смысла. Следовало либо идти дальше, либо свернуть на боковую тропу.
— Это просто странники, — шепнула она Терру, покрепче сжала свой ольховый посох и пошла вперед.
То, что говорила Ларк насчет засилья всяких бандитов и воров, было не просто пустой жалобой, свойственной каждому старшему поколению: дескать, все-то теперь не так, как надо, и мир проваливается в тартарары. За последние годы мирная и спокойная жизнь в городах и деревнях Гонта действительно претерпела серьезные изменения. Молодые люди вели себя среди собственных сородичей как чужие, злоупотребляли гостеприимством, воровали, продавали краденое. Нищенство пышным цветом расцвело там, где прежде попрошайничали очень редко, а если милостыня приходилась нищему не по вкусу, он еще и пускал в ход угрозы.
Женщины опасались передвигаться по дорогам в одиночку, хотя и очень страдали от этого. Зато некоторые девушки, наоборот, убегали из дома и присоединялись к бандам воров и браконьеров. И весьма часто уже через несколько месяцев возвращались — мрачные, покрытые синяками и ссадинами и к тому же беременные. А среди деревенских колдунов и ведьм ходили слухи, что колдовству их стало чего-то не хватать: заклятия, что раньше исцеляли всегда, больше не помогали; необычайно трудно стало отыскать потерянный предмет, и порой отыскивалась совсем не та вещь, хотя все слова заклинания были произнесены правильно; любовные зелья вместо страстной любви вызывали кровожадную ревность. Но что хуже всего, те люди, которые и понятия не имели об искусстве магии, о его законах и способах применения, а также об опасности нарушения этих законов, стали называть себя могущественными волшебниками и обещали немыслимое богатство и даже бессмертие своим сторонникам.
Айви, ведьма из той деревни, где жила Гоха, весьма мрачно и непонятно говорила что-то о разрушении магических сил. То же самое говорил и Бук, колдун из Вальмута. Это был замкнутый, скромный человек, который специально пришел тогда, чтобы помочь Айви, старавшейся по мере сил облегчить страдания страшно изуродованной огнем Терру. И вот что он сказал Гохе:
— Мне кажется, что раз такое происходит в нашем мире, то наступает конец света, конец времен. Сколько уж столетий прошло с тех пор, как в Хавноре на престоле был настоящий король? Так оно продолжаться не может. Мы либо снова станем единым государством, либо просто погибнем все, когда острова пойдут войной друг на друга, сосед ополчится на соседа, отец — на сына… — Бук как-то застенчиво поднял на нее глаза, которые, однако, смотрели твердо и ясно. — Кольцо Эррет-Акбе возвращено в королевскую башню, — продолжал он. — Я знаю, кто его туда привез… То был знак… да, конечно, то был знак наступления новых времен! Но мы не вняли поданному знаку. Короля у нас по-прежнему нет. И мы по-прежнему разъединены. Мы должны найти сердце Земноморья, обрести должную силу. Может быть, наконец свое слово скажет наш Верховный Маг. — И колдун прибавил доверительно: — Он ведь и сам с Гонта.
Однако Верховный Маг так ничего и не предпринял, как не появился и законный претендент на королевский престол. А жизнь меж тем становилась все хуже и страшнее.
И теперь со страхом и сдерживаемым гневом смотрела мрачная Гоха на четверых мужчин на дороге. Они стояли по двое с каждой стороны, так что им с девочкой неизбежно пришлось бы пройти меж ними.
Гоха спокойно продолжала свой путь, хотя Терру буквально наступала ей на пятки, прижавшись сзади к ее юбке и совсем низко опустив голову. И все-таки за руку ее девочка не взяла.
Один из встречных, парень с широкой грудью и жесткими черными вислыми усами, заговорил было, чуть ухмыляясь:
— Эй, вы…
Однако Гоха тут же прервала его яростно и громко:
— Прочь с дороги! — И подняла свой ольховый посох так, словно он был волшебный. — У меня дело к Огиону!
И гордо прошла мимо растерявшихся мужчин, за ней трусцой поспешала Терру. Мужчины, видимо, приняв ее гнев за колдовство, так и застыли. Возможно, впрочем, на них просто подействовало само имя Огиона. А может быть, какие-то волшебные чары все-таки были в ней самой или девочке? Во всяком случае, когда обе скрылись из виду, один из мужчин сказал:
— Нет, вы видели? — И сплюнул, а потом особым жестом отогнал скверну.
— Настоящая ведьма со своим ведьминским отродьем! — потрясенно сказал второй. — Пусть себе идут своей дорогой!
Третий, человек в кожаной шапке и короткой кожаной куртке, даже немного задержался, молча глядя им вслед. На лице его были написаны ужас и отвращение, но все же он хотел было уже последовать за женщиной и девочкой, когда тот, с длинными черными усами, окликнул его:
— Идем, что ли, Ловкач! — И человек в кожаной куртке и шапке пошел следом за приятелями.
За поворотом, когда мужчины скрылись из виду, Гоха подхватила Терру на руки и бросилась бежать; она бежала до тех пор, пока не была вынуждена остановиться и усадить девочку прямо на землю, долго-долго хватая ртом воздух. Терру никаких вопросов не задавала, все понимала без слов. Едва Гоха отдышалась и смогла идти дальше, Терру, ни секунды не медля, двинулась за ней, не отставая ни на шаг и все время держа ее за руку.
— Ты вся красная, — сказала она. — Как огонь.
Она редко что-нибудь говорила, да и слова произносила невнятно, хриплым голосом, но Гоха хорошо ее понимала.
— Я очень злая, — проговорила Гоха с каким-то странным смешком. — А когда я злюсь, то становлюсь красной. Такой же краснокожей, как варвары с Западных островов… Посмотри-ка, вон там впереди селение — это, должно быть, Дубовые Ручьи и есть. Ничего другого на этой дороге быть не может. Там мы с тобой немного передохнем. Может быть, удастся даже раздобыть молока. А потом постараемся — это, конечно, от тебя зависит — добраться до Гнезда Ястреба; мы могли бы там оказаться еще до наступления темноты.
Девочка молча кивнула, достала из своего мешочка немножко изюма и орехов и съела. Потом они пошли дальше.
Солнце давно уже село, когда они наконец миновали деревню и побрели к уединенному жилищу Огиона на самой вершине Большого Утеса. В небесах, над мощным валом облаков, над высоко вздымающимися волнами морскими, засверкали первые звезды. Вечерний бриз гнул к земле короткую траву. Где-то за невысоким домиком заблеяла на выгоне коза. Единственное окно светилось тусклым желтоватым светом.
Гоха прислонила оба их посоха к дверному косяку, взяла Терру за руку и один раз постучала.
Ответа не последовало.
Она резко распахнула дверь и вошла. Огонь в очаге давно погас, угли подернулись сизым пеплом, но крошечный масляный светильник на столе отбрасывал слабое пятнышко света, а с тюфяка, лежавшего на полу в дальнем углу комнаты, послышался голос Огиона:
— Входи, Тенар.
Глава 3
Огион
Она уложила девочку спать в алькове у западной стены. Разожгла огонь в очаге. Потом подошла и уселась прямо на пол возле Огиона.
— И никто за тобой даже не ухаживает!
— Я их всех отослал прочь, — прошептал он.
Его темнокожее, с резкими чертами лицо было таким же, как и всегда, только волосы поредели и стали совсем белыми, а неяркий свет не вызывал ответного блеска в его глазах.
— Ты ведь так и умереть мог в одиночестве, — сердито сказала Тенар.
— Умереть мне поможешь ты, ладно? — попросил старик.
— Подожди еще немножко, пожалуйста, — сказала она и, наклонившись, прижалась лбом к его ладони.
— Хорошо. Не сегодня, — согласился он. — Завтра.
И один лишь раз нежно коснулся ее волос — только на это у него сил и хватило.
Она снова выпрямилась. Огонь в очаге разгорелся. Пламя пляшущими языками освещало стены и низкий потолок домика, разгоняя мрак и заставляя темные тени прятаться по углам единственной комнаты.
— Если бы только Гед объявился… — прошептал Огион.
— А ты послал ему весточку?
— Он пропал, — сказал старик. — Пропал. Словно облако густого тумана накрыло землю. И он ушел прямо в этот туман — к западу. И унес с собой ветку ясеня. Исчез в темноте облака. Пропал, пропал мой ястреб…
— Нет, нет, нет, — шептала она. — Он вернется!
Они долго молчали. Тепло от очага начинало окутывать обоих сонной пеленой, и Огион немного успокоился, то задремывал, то снова просыпался, так что Тенар смогла наконец немного передохнуть после целого дня пути. Она растерла ноющие ступни и плечи. Часть пути, особенно когда дорога в последний раз круто пошла вверх, ей пришлось нести Терру на руках, потому что девочка стала задыхаться — она совсем выбилась из сил, пытаясь поспеть за Тенар.
Потом она встала, согрела воды и тщательно смыла с себя дорожную пыль. Потом согрела молока и съела с ним кусок черствого хлеба, найденного у Огиона в кладовой. Потом снова подошла к старику и уселась рядом. Пока он спал, она сидела, задумчиво разглядывая при свете очага его лицо и тени на стенах.
И думала она о том, что когда-то давным-давно одна девушка часто сидела точно так же ночью в лишенном окон доме, в далекой-далекой стране. С раннего детства девушка эта считала себя «Поглощенной». Единственной жрицей и служанкой Темных Сил Земли. А потом, и это тоже было давно, жила-была на свете женщина, и она тоже любила посидеть в мирной тиши деревенского дома и подумать, пока спят муж и дети, пока можно просто побыть часок наедине с самой собой… И когда эта женщина овдовела, с ней в том доме стала жить одна страшно изуродованная огнем девочка, ее воспитанница. Теперь же вдова эта сидела возле постели умирающего старика и очень ждала одного мужчину, надеясь, что он вернется. Как ждут все женщины в мире; как ждет любая из них. В полном соответствии со своей женской долей. Но волшебник Огион призвал ее к себе не тем именем, которое носила жрица Темных Сил, и не тем, которое носила жена, а потом и вдова фермера Флинта. Иным именем называл ее Огион, как и Гед когда-то — во тьме Гробниц Атуана; как и ее мать — страшно давно, очень далеко отсюда, — давшая ей это имя и помнившаяся ей лишь теплым прикосновением и золотистым, словно львиная шкура, светом огня в очаге…
— Я — Тенар, — прошептала она. Огонь, вспыхнув, обвил сухую сосновую ветку ярким желтым своим языком.
Огион вдруг начал задыхаться. Она старалась ему помочь, поддерживая за плечи. Потом он немного успокоился и снова уснул; задремала и Тенар, сквозь сон чувствуя, слушая странное, будто осязаемое молчание Огиона, прерываемое порой какими-то загадочными словами. Уже глубокой ночью он вдруг воскликнул, словно встретившись на дороге с хорошим другом: «Так, значит, и ты здесь! А его ты видел?» Еще как-то раз он начал говорить чистым детским голоском, когда Тенар встала, чтобы подбросить дров в очаг, и говорил с кем-то из давнего своего прошлого: «Я пробовал помочь ей, да крыша обвалилась и всех накрыла. Землетрясение же!» Тенар слушала. Она тоже когда-то видела землетрясение. «Я так хотел помочь!» — сказал старик голосом мальчика, и в голосе этом слышались страдание и боль. Потом Огион снова начал задыхаться.
С первыми проблесками зари Тенар проснулась от звуков, которые сперва приняла за удары волн о берег. Но то хлопали крыльями птицы — множество птиц, чудовищная стая, пролетавшая прямо над домом. Казалось, поднялась буря, даже свет в окнах померк из-за непрерывного мелькания черных теней. Стая в полном молчании совершила над домом круг и унеслась прочь. Тенар так и не поняла, что это были за птицы.
Домик Огиона, как бы сторонясь людей, примостился к северу от селения Ре Альби. Утром из Ре Альби пришла девушка-пастушка, чтобы подоить коз Огиона, с ней — какая-то женщина и еще люди; все спрашивали, не нужна ли их помощь. Тетушка Мох, деревенская ведьма, ощупав ольховый посох Тенар и ореховую палочку, служившую посохом Терру, сунула было нос в дом, однако войти не осмелилась, тем более что Огион прорычал, не вставая:
— Отошли их всех прочь! Пусть уходят! Все!
Он выглядел так, словно сил у него значительно прибавилось. Когда проснулась маленькая Терру, он немного поговорил с ней — в точности так, как когда-то с Тенар: чуть суховато, но очень добрым и тихим голосом. Потом девочка убежала играть на солнышке, и Огион сказал Тенар:
— Что означает то имя, которым ты ее называешь?
Он хорошо понимал Истинную Речь, но никогда не знал ни слова по-каргадски.
— «Терру» значит «горящий, пылающий», — ответила она.
— Так-так, — промолвил Огион, и глаза его заблестели. Потом он нахмурился, словно пытаясь найти нужные слова. — Этой девочке… — начал он и умолк. — Эту девочку… будут бояться.
— Ее и так уже боятся, — горько сказала Тенар.
Великий Маг покачал головой.
— Ты научи ее, Тенар, — прошептал он. — Научи ее всему!.. Нет, не на Роке. Боятся… Ах, зачем я отпустил тебя? Почему ты тогда ушла? Чтобы привести сюда ее? Слишком поздно…
— Лежи, лежи спокойно, — нежно уговаривала его Тенар, потому что Огион все пытался сказать что-то еще, найти какие-то важные слова, ему не хватало воздуха, он снова начал задыхаться. В конце концов, тряхнув головой, он выговорил с трудом:
— Научи ее! — и умолк надолго.
Есть он отказывался и только понемножку пил воду. Где-то около полудня заснул, а проснувшись — ближе к вечеру, — сказал:
— Пора, дочка, — и сел.
Тенар, улыбаясь, взяла его за руку.
— Помоги-ка мне встать, — сказал ей Огион.
— Нет-нет, что ты!
— Да, — сказал он. — На волю. Я не могу умереть взаперти.
— Куда же ты хочешь пойти?
— Все равно. Но лучше бы на лесную тропу, — сказал он. — К тому буку, что растет на холме, над лугом.
Увидев, что у Огиона хватило сил самостоятельно встать и он полон решимости непременно выйти из дома, Тенар бросилась ему помогать. Вместе они добрались до двери, и он, обернувшись на пороге, окинул прощальным взором свое жилище. В темном углу справа от двери стоял, чуть-чуть светясь, его высокий посох. Тенар потянулась было за ним, но Огион только покачал толовой.
— Нет, — сказал он, — не нужно. — И осмотрелся, словно пытаясь что-то вспомнить. — Пошли.
Когда на залитом солнцем крыльце в лицо ему ударил свежий западный ветер, он посмотрел куда-то вдаль и промолвил:
— Хорошо!
— Разреши мне позвать кого-нибудь из деревни, и мы отнесем тебя на носилках, — попросила его Тенар. — Все только и ждут случая, чтобы хоть что-нибудь для тебя сделать.
— Я хочу дойти на собственных ногах, — сказал старик.
Из-за дома выбежала Терру и с серьезным видом смотрела, как медленно, останавливаясь через каждые пять-шесть шагов, чтобы Огион мог отдышаться, идут они через поросший травами луг к лесу, снизу доверху покрывавшему крутые склоны Большого Утеса. Солнце пекло немилосердно, а ветер был почти ледяным. Им понадобилось очень много времени, чтобы пересечь луг. Лицо Огиона стало серым, ноги подгибались, словно трава под ветром, когда они наконец добрались до рослого молодого бука почти на самой опушке, в нескольких шагах от начала тропы, круто поднимающейся в гору. Там старый Маг рухнул на землю между корнями дерева, прислонившись спиной к стволу. Довольно долго он не мог ни говорить, ни двигаться, а сердце его билось такими отчаянными неровными толчками, что казалось — грудная клетка вот-вот разорвется. Наконец он успокаивающе кивнул Тенар и шепнул:
— Все в порядке.
Терру все время шла за ними следом на некотором расстоянии. Тенар подошла к девочке, обняла ее и что-то сказала. Потом вернулась к Огиону.
— Она сейчас принесет одеяло, — сказала она.
— Мне не холодно.
— Зато мне холодно, — чуть улыбнувшись, возразила Тенар.
Терру, нагруженная одеялом из козьей шерсти, вернулась очень быстро. Она что-то шепнула Тенар и снова убежала.
— Вереск позволила ей подоить козу. Заодно и присмотрит за девочкой, — сказала Тенар Огиону. — Так что я могу остаться здесь, с тобой.
— Вечные заботы и никогда ничего для себя, — сказал он хриплым свистящим шепотом: больше голоса у него не осталось.
— Да, почему-то всегда не меньше двух дел сразу, — согласилась она. — Но сейчас-то я здесь.
Он кивнул.
Довольно долго Огион молчал — просто сидел, опершись спиной о могучий ствол дерева и закрыв глаза. Глядя на его лицо, Тенар видела, как оно гаснет — так же медленно, как небо на закате.
Потом он открыл глаза, всматриваясь в видневшееся сквозь густые ветви небо. Казалось, он наблюдает, как там, в дальних далях, залитых золотистым светом, свершается нечто великое. Один раз он даже прошептал, неуверенно, словно сомневаясь:
— Дракон?..
Солнце село, улегся ветер. Огион перевел свой взгляд на Тенар.
— Кончено! — прошептал он возбужденно. — Теперь все переменилось!.. Все переменилось, Тенар! Ты жди… Жди здесь, потому что… — Тело Огиона сотрясла сильная дрожь, он, задыхаясь, затрепетал, словно ветка дерева на сильном ветру. Веки его то приподнимались, то опускались, взгляд был устремлен куда-то вдаль, поверх головы Тенар. Он накрыл ее руку своей рукой; она склонилась к нему, и он назвал ей свое Подлинное Имя, чтобы после смерти остаться в памяти людей в истинном обличье.
Потом Огион сжал руку Тенар и, плотно зажмурив глаза, снова начал мучительную схватку со смертью, пытаясь вдохнуть хотя бы глоток воздуха, пока не затих совсем. И тогда распростертый на земле Огион стал похож на один из корней могучего бука. На небе загорались первые звезды, и свет их падал сквозь листву и ветви деревьев.
Тенар сидела рядом с умершим в сгущающихся сумерках, в наступившей потом темноте… Вдруг на лугу огненной мухой мелькнул свет фонаря. Она укрыла теплым шерстяным одеялом и себя, и покойного, но рука ее, что крепко сжимала его руку, совершенно окоченела, как если бы она держала в ней ледышку. Она еще раз коснулась лбом ладони Огиона и с трудом встала. Голова у нее кружилась, тело не слушалось и казалось чужим. Тенар пошла навстречу тому, кто шел сюда по лугу сквозь ночь.
И до рассвета соседи Огиона сидели с ним рядом, и он никого не отослал прочь.
Дворец властелина Ре Альби возвышался на голой скале прямо над Большим Утесом. Рано утром, задолго до того, как солнце добралось до западного склона горы Гонт, волшебник, что служил у Лорда, спустился по дороге, ведущей из поместья через деревню к дому Огиона. Вскоре явился и еще один волшебник, преодолевший трудный крутой подъем от Порта Гонт до Ре Альби, да еще в темноте. То ли они получили известие о скорой кончине Огиона, то ли узнали о смерти Великого Мага благодаря собственной волшебной силе — неизвестно.
В Ре Альби не было своего волшебника или колдуна — рядом жил сам Огион, да еще кое-какую помощь людям оказывала местная ведьма, тетушка Мох; она могла отыскать потерянную вещь, вылечить от хвори, вправить кости — ради таких мелочей никто не стал бы беспокоить старого Мага. Тетушка Мох обладала весьма суровым нравом, никогда не была замужем и, похоже, никогда не мылась. Ее седые волосы являли собой чудовищное переплетение замысловатых магических узелков, а веки покраснели от бесконечных курений волшебных трав. Это она первой пришла тогда с фонарем через луг, а потом вместе с Тенар и остальными всю ночь просидела у тела покойного Огиона. Во время этого бдения именно она зажгла восковую свечу под стеклянным колпаком и воскурила сладкие масла на глиняном блюде; она произнесла все необходимые в таких случаях слова и вообще сделала все, что нужно было сделать. Перед обмыванием тела она только раз глянула на Тенар, как бы испрашивая разрешения, и сразу же занялась привычным делом. Ведь именно деревенские ведьмы не только обряжают покойников, но часто и хоронят их.
Когда же в лес явился волшебник Лорда Ре Альби, высокий молодой человек с сосновым посохом, украшенным серебряным набалдашником, а потом пришел и второй, из Порта Гонт (это был полный мужчина средних лет с коротким тисовым посохом), тетушка Мох даже не подняла своих налитых кровью глаз, а продолжала кланяться и пришепетывать и снова кланяться, собирая воедино все свои небогатые запасы волшебства.
Когда же наконец она уложила покойного так, как ему должно лежать в могиле — на левом боку, с согнутыми коленями, — то напоследок вложила в его раскрытую левую ладонь крошечный амулет, плотно завернутый в кусок мягкой козьей шкуры и перевязанный крашеной тесемкой. Волшебник из Ре Альби небрежно отшвырнул сверточек концом своего посоха.
— Выкопана ли могила? — спросил волшебник из Порта Гонт.
— Да, — ответил ему волшебник Лорда. — Она вырыта во дворе моего господина, — и он показал в сторону поместья.
— Понятно, — сказал волшебник из Порта Гонт. — Я-то думал, что Великий Маг будет похоронен в центре нашего города, который когда-то спас от землетрясения.
— Мой господин пожелал
сам удостоиться чести похоронить Лорда Огиона, — заявил тот, что из поместья Ре Альби.
— Но тогда получится… — начал было тот, что из Порта Гонт, и умолк, не желая спорить, но не смирившись со столь легковесными доводами. Потом глянул на покойного. — Придется его похоронить безымянным, — проговорил он с сожалением и горечью. — Я шел всю ночь, но все-таки опоздал. Из-за этого невосполнимая наша утрата становится еще горше.
Молодой волшебник промолчал.
— Его Подлинное Имя было Айхал, — сказала Тенар. — И согласно его воле он должен покоиться здесь, где лежит сейчас.
Оба волшебника уставились на нее одновременно. Молодой увидел всего лишь пожилую деревенскую женщину и молча отвернулся. Тот же, что пришел из Порта Гонт, долго не сводил с нее глаз, а потом спросил:
— Кто ты?
— Меня зовут Гоха, я вдова фермера Флинта, — отвечала она. — А уж кто я на самом деле — вам, по-моему, лучше знать. Да и с какой стати мне говорить вам это?
При этих словах волшебник Лорда сподобился удостоить ее взглядом.
— Эй, женщина, попридержи-ка язык! Как ты смеешь говорить так в присутствии двух волшебников! — бросил он.
— Постой, — добродушно попытался утихомирить его тот, что пришел из Порта Гонт. Он по-прежнему внимательно смотрел на Тенар. — Ты ведь была… когда-то его ученицей?
— И другом, — отрезала Тенар. Потом резко отвернулась и замерла: она услышала гнев в собственном голосе, произносящем слово «друг». И стала смотреть на своего старого друга, лежащего на земле, готового уйти в эту землю, навеки утраченного, недвижимого… А эти люди толпились вокруг, живые, полные сил, не испытывающие ни капли дружеского сочувствия — одну лишь зависть да удовлетворение при виде поверженного соперника и злобу.
— Простите, — сказала она. — Слишком долго тянется ночь. Я была с ним рядом, когда он умер.
— Но это не… — начал было молодой волшебник, но тут неожиданно его прервала тетушка Мох, яростно бросившаяся на защиту Тенар:
— Да, была! Была! Никого не было, кроме нее. Он за ней и послал. Молодого Таунсенда, торговца овцами, — чтоб весточку ей передал. И дожидался, все не умирал, пока она не пришла. И это она была с ним все время, и она знает, где он должен быть похоронен. Здесь вот!
— И он, — спросил тот волшебник, что был постарше, — он назвал тебе?..
— Назвал свое Имя. — Тенар посмотрела на них: недоверие написано было на лице старшего, удовлетворение, нескрываемое удовлетворение светилось на лице более молодого. И она не стала скрывать своего презрения. — Я ведь уже один раз произнесла его вслух. Неужели я должна повторять?
К ужасу своему, по выражению их лиц она поняла, что волшебники эти действительно не расслышали Подлинного Имени Огиона: они тогда просто не обратили на нее внимания.
— О! — воскликнула она. — Что за ужасные времена настали: даже такое имя остается неуслышанным и, произнесенное в тишине, звучит не громче упавшего на землю камушка! Разве умение слушать других — не великое мастерство? Что ж, слушайте снова: Имя его было Айхал. И после смерти будет — Айхал. И в песнях, что сложат о нем, он будет Айхалом с острова Гонт. Если в теперешние времена кто-то может еще слагать настоящие песни. Он был очень молчаливым человеком. А теперь умолк совсем. И, может быть, никаких песен больше не будет, одно лишь молчание. Не знаю. Устала я очень. Я потеряла отца и дорогого друга… — Голос ее предательски дрогнул, горло сдавили рыдания. Она отвернулась и хотела уйти. Но тут заметила на тропе, ведущей в лес, тот крошечный узелок, что приготовила для покойного тетушка Мох. Она подняла узелок, опустилась возле Огиона на колени, поцеловала открытую ладонь его левой руки и вложила туда амулет. Потом, не поднимаясь с колен, еще раз взглянула на возвышавшихся над ней двух мужчин. И тихо промолвила:
— Вы позаботитесь о том, чтобы могилу ему вырыли там, где он хотел?
Первым кивнул тот, что был постарше, следом за ним — молодой.
Она встала, отряхнула юбку и пошла прочь, через луг, залитый яркими лучами утреннего солнца.
Глава 4
Калессин
«Жди, — сказал ей Огион, который теперь стал Айхалом, за мгновение до того, как ветер смерти оторвал его от жизни. — Кончено… Теперь все переменилось!.. — так прошептал он и прибавил: — Жди, Тенар…» Но не сказал, чего же она должна ждать. Может, тех перемен, которые он предвидел или ощущал? Но каковы эти перемены? Может быть, он имел в виду собственную смерть? То, что будет, когда окончится его жизнь? Впрочем, он говорил почти радостно, возбужденно. И как бы возложил на нее ответственность за это ожидание.
«Ну что ж, как же иначе? — сказала она себе, подметая пол в его домике. — Разве в моей жизни было еще что-то, кроме ожидания?» — А потом, словно разговаривая с незабвенным Айхалом, спросила вслух:
— Мне ждать здесь, в твоем доме?
«Да», — чуть улыбнувшись, ответил ей Айхал Молчаливый.
Так что Тенар прибрала дом, вычистила очаг, проветрила тюфяки и матрасы. Выбросила всякие завалявшиеся черепки и худую сковородку, однако и с этим старьем обращалась очень бережно. Даже прижалась на минутку щекой к безнадежно треснувшей тарелке, прежде чем вынесла ее на помойку: старая тарелка видела, каким тяжким был прошедший год для старого, больного Мага. Суровый к себе, он жил столь же просто, как самые бедные крестьяне, однако, когда зрение его было ясным, а могущество в расцвете, он никогда бы не позволил себе пользоваться треснувшей тарелкой или дырявой сковородой, не починив их. Ей было больно видеть эти признаки слабости Огиона, и она горько жалела о том, что в трудное время ее не было с ним рядом. «Мне было бы очень приятно заботиться о тебе», — сказала она тому Огиону, каким помнила его, но он не ответил. Он никогда не позволил бы кому-то утруждать себя заботами о нем. Неужели он и ей бы сказал: «У тебя найдутся дела поинтереснее»? Она не знала. А он молчал. Но то, что теперь она живет в его доме, было совершенно правильным, это она прекрасно понимала и была в этом уверена.
Шанди и ее муж Чистый Ручей, что прожили на Дубовой Ферме дольше, чем Тенар, прекрасно могут присмотреть за овцами и за садом; а другие арендаторы, Тифф и Сис, вовремя уберут урожай с поля. Остальное же пусть пока что само о себе заботится. Ее малину оборвут соседские ребятишки. Это жаль: малину Тенар очень любила. Здесь, на Большом Утесе, где всегда дули сильные морские ветры, было слишком холодно для малины. И все-таки на маленьком персиковом деревце, которое посадил Огион в защищенном от ветра уголке, у южной стены дома, зрели восемнадцать персиков. Терру следила за ними, как кошка за мышью, с самого первого дня. И наконец заявила своим хрипловатым тихим голоском:
— Два персика совсем желтые. И с красным бочком.
— Отлично, — сказала Тенар, и они вместе с Терру сорвали два первых созревших плода и съели их прямо под деревом. Сок стекал у них по подбородкам. Они с наслаждением облизали пальцы.
— Можно я ее посажу? — спросила Терру, разглядывая морщинистую твердую поверхность косточки.
— Конечно. Вон хорошее местечко рядом со старым деревом. Только не сажай слишком близко, чтобы второму деревцу тоже хватило места для корней.
Девочка выбрала место, выкопала крошечную могилку, опустила туда косточку и засыпала землей. Тенар наблюдала за ней. За те недолгие дни, что они прожили здесь, Терру очень переменилась. Она по-прежнему отвечала с трудом, не проявляя ни гнева, ни радости, но, с тех пор как они поселились в доме Огиона, ее болезненная настороженность и неподвижность стали незаметно исчезать. Вот только что, например, ей очень захотелось съесть персик. И даже посадить косточку, чтобы персиков в этом мире стало больше. На Дубовой Ферме она не боялась только двоих: Тенар и Жаворонка; но здесь ее Подружкой сразу же стала Вереск, пастушка из Ре Альби, добросердечная простушка огромного роста, басовитая и глуповатая, лет двадцати; Вереск обращалась с девочкой почти так же, как с одной из коз, которых пасла, или скорее как с хромым, беспомощным козленком. Что было в общем-то справедливо. Тетушка Мох тоже явно пришлась ко двору, и Терру было безразлично, какие от старой ведьмы исходили ароматы.
Когда двадцать пять лет назад Тенар впервые попала в Ре Альби, тетушка Мох была еще совсем молодой. Она с ужимками и гримасами кланялась и улыбалась «Белой Даме», ученице и приемной дочери Огиона, но никогда с ней не заговаривала первой и разговор всегда вела подчеркнуто уважительно. Тенар сразу тогда почувствовала, что за фальшивыми уважительными словами спрятаны ревность, неприязнь и недоверие, слишком хорошо знакомые ей по тем временам, когда она была вознесена на пьедестал Единственной, Верховной Жрицы Гробниц теми женщинами, которые считали себя столь же обычными, сколь необычной — ее, пользовавшуюся немыслимыми привилегиями по сравнению с ними. Жрица Гробниц Атуана, приемная дочь Великого Мага, она вечно оказывалась как бы поодаль от остальных, как бы над ними. Это преимущество, разделяя свое могущество с нею, предоставляли ей мужчины. А женщинам оставалось лишь взирать на нее с почтением, с ревностью, а порой с забавным смущением.
Она рассталась с той Тенар, что вечно оказывалась в стороне ото всех, захлопнула дверь в ту свою жизнь; бежала от тех Древних Сил, что обитали в Гробницах Атуана, отвернулась и от того могущества, что было даровано ей Знанием, уроками ее приемного отца и учителя Огиона, и пошла совсем иной дорогой, в иной мир, мир женщин, желая стать одной из них, такой же, как они: женой фермера, крестьянкой, матерью, хозяйкой дома, — и пользоваться лишь теми силами, которые даны женщине от рождения, и ощущать лишь то уважение, с каким относятся к женщине-матери с начала времен.
И там, в Срединной Долине, жена Флинта Гоха была принята в общем-то очень хорошо всеми женщинами; да, конечно, она осталась «иностранкой», она была белокожей да и говорила как-то странно, однако стала отменной хозяйкой, умела отлично прясть, вырастила здоровых и вежливых детей, и ферма ее процветала — во всех отношениях женщина достойная. Мужчины тоже воспринимали ее как жену Флинта, которая делает то, что и положено каждой женщине: постель, готовка, выпечка хлеба, уборка, шитье… Хорошая женщина, одним словом. Им она нравилась. В конце-то концов этому Флинту здорово повезло, говаривали они. Только интересно было бы узнать, кожа-то у нее везде такая белая? И они смотрели на нее жадными глазами, пока молодость ее не прошла. И тогда они просто перестали ее замечать.
А теперь, здесь, в один миг все переменилось, ничего от прежней жизни и в помине не осталось. После совместного ночного бдения у тела покойного Огиона тетушка Мох ясно дала понять, что зачислила Тенар в друзья и станет теперь ее другом, последовательницей, служанкой — кем только не пожелает сделать ее ученица Огиона. Тенар вовсе не была уверена, что ей так уж хочется видеть тетушку Мох среди своих близких друзей — ведьма была слишком непредсказуема, ненадежна, невежественна, обладала замкнутой и в то же время слишком страстной душой, к тому же была чересчур хитра и… грязна. Но зато старуха прекрасно ладила с девочкой. Может быть, именно благодаря ей свершилось и едва заметное пока раскрепощение души Терру. В присутствии тетушки Мох Терру была, как всегда, равнодушна, неразговорчива, послушна — точно кукла, неодушевленный предмет, камень. Но старуха неустанно делала ей разнообразные мелкие подарки — сладости, игрушки и прочие «сокровища», — подкупала ее, задабривала, льстила. «А теперь пойдем-ка с тетушкой Мох, милая моя! И тетушка Мох покажет тебе самую красивую на свете картинку…»
Нос тетушки Мох нависал над беззубым провалившимся ртом; на щеке красовалась бородавка размером с красную фасолину; некогда черные, а теперь с сильной проседью волосы представляли собой чудовищную путаницу из бесконечных волшебных узелков; кроме того, от нее исходил столь могучий, сложный, сшибающий с ног запах, какой исходит разве что от лисьего логова. «Пойдем-ка со мной на прогулку в лесок, милая! — так заманивали детей в сказках все ведьмы. — Я там покажу тебе одну красивенькую вещицу!» А потом, естественно, ведьма засовывала малыша в печь, славно поджаривала его до хрустящей корочки и съедала на ужин или бросала ребенка в колодец, где бедняжка мог сколько угодно карабкаться по стенам и звать на помощь. Или, например, укладывала какую-нибудь девочку спать лет на сто внутри большого камня, пока королевский сын, волшебный Принц, не раскрывал камень одним лишь волшебным словом, а потом он, конечно же, будил спящую в нем девушку поцелуем и убивал злую ведьму…
«Пойдем-ка со мной, милая!» — И тетушка Мох уводила Терру в поля, чтобы показать ей гнездо жаворонка, сплетенное из зеленых былинок, или тащила с собой на болота, собирать белую всесвятку, дикую мяту и голубику. Ей совершенно не нужно было ни совать девочку в огонь, ни превращать ее в чудовище, ни запирать внутри чего-нибудь: все это с Терру уже проделали.
Старая ведьма была очень добра к девочке, но доброта ее была все-таки какой-то льстивой. Вечно она первой заговаривала с Терру, что-то ей предлагала… Тенар не знала, что именно она рассказывает Терру, чему ее учит, и сомневалась, стоит ли позволять старухе морочить ребенку голову.
Слабый, как женские чары, опасный, как женские чары, — это она слышала тысячу раз. И действительно не раз убеждалась, что колдовство таких ведьм, как Айви или тетушка Мох, часто бывало слабым с точки зрения волшебной силы, однако весьма зловредным — намеренно или просто из-за невежества. Деревенские ведьмы, хоть и могли порой знать довольно много заклятий, различных способов ведовства и даже некоторые из Великих Сказаний, никогда не учились Высшему Искусству или хотя бы азам Магии. Волшебство всегда было чисто мужским делом, мужским мастерством; сама магическая наука была создана мужчинами. Никогда не существовало ни единой женщины-мага. И хоть некоторые и называли себя волшебницами или чаровницами, волшебная сила их была стихийной, необузданной, полудикой; то была сила без знаний, без мастерства, а потому — весьма опасная.
Обычно деревенская колдунья, какой была и тетушка Мох, существовала за счет знания нескольких слов Истинной Речи, которые бережно передавались в ее роду из поколения в поколение, словно великие сокровища, или за высокую плату покупались у колдунов. Им хорошо служили и самые простые заклятия, помогающие найти потерянный предмет или починить сломавшуюся вещь, а также огромное количество совершенно бессмысленных, однако весьма загадочных ритуалов. Кроме того, все они благодаря старинным традициям обладали многочисленными навыками: могли принять роды, вправить сустав, вылечить сломанную ногу, прекрасно разбирались в болезнях домашних животных и скота, знали почти все о полезных злаках и диких травах. Колдовство же их было круто замешено на суевериях, к тому же нужно было учитывать, сколь мал или велик у этих женщин тот врожденный дар, что дает возможность лечить, пользоваться заклинаниями, изменять облик людей и предметов. Все это вместе давало как хорошие, так и весьма дурные результаты. Некоторые из ведьм, например, отличались яростным, желчным нравом и всегда готовы были навредить, сами порой не зная, зачем им это. Чаще всего в деревнях они занимались тем, что принимали роды, лечили от разных хворей, готовили любовные зелья и составляли заговоры, помогавшие женщинам родить ребенка и дававшие любовную силу мужчинам. К этому, впрочем, они относились с достаточным бесстыдством. Наиболее же мудрые, даже не обладая Высшим Знанием, употребляли свою врожденную волшебную силу только во имя добра, хотя и не способны были объяснить — а это могут даже младшие из учеников Школы Волшебников, — почему они так поступают, и несли всякую чушь по поводу Равновесия и Великого Пути, чтобы хоть как-то оправдать собственные поступки и устремления. «Да делаю, как сердце велит, — сказала Тенар одна из них, когда та была еще ученицей Огиона и жила у него в доме. — Лорд Огион — Великий Маг. Большая честь для тебя — у него учиться, однако, детка, будь осторожной и осмотрительной, особенно ежели то, чему он учит тебя, окажется тебе не по душе».
Тенар даже тогда догадалась, что мудрая женщина, по всей вероятности, права; но все-таки что-то явно оставалось за пределами ее понимания. Впрочем, она и теперь думала по-прежнему.
Наблюдая за тетушкой Мох и Терру, она сказала себе: вот тетушка Мох как раз и поступает, как сердце велит, хотя, может быть, сердце у нее необузданное, дикое, подозрительное, да и вообще она похожа на хитрую ворону, которая упрямо добивается желанной цели. И еще ей подумалось, что тетушка Мох возится с Терру не из одних лишь добрых побуждений: ее притягивает к девочке то несчастье, что с ней случилось, то насилие, тот страшный костер…
Ничто, однако, ни в словах Терру, ни в ее поведении не свидетельствовало о том, что тетушка Мох чему-то учит ее — разве что отыскивать гнезда жаворонков да собирать чернику; а еще она научила девочку играть в «путанку» одной рукой. Правую руку Терру хищный огонь превратил в некое подобие большого когтя, и с помощью изуродованного большого пальца этой руки можно было лишь ухватить что-то, как крабьей клешней. Но тетушка Мох знала великое множество замечательных способов сплести «путанку». Для некоторых было вполне достаточно четырех пальцев одной руки и большого пальца другой; и каждый раз, переплетая травинку или нитку, можно было сказать какой-нибудь «волшебный» стишок вроде:
Путай, путай, цвет вишневый!
Жги, жги — пойдут дожди,
А ты дракона подожди!
…И тогда непременно получалось сразу четыре треугольника, которые легко, стоило только дернуть за конец, превращались в квадрат… Терру никогда громко не пела, но Тенар слышала, как она себе под нос нашептывает слова этой песенки, сидя в одиночестве на крылечке Огионова дома и трудясь над очередной «путанкой».
А еще Тенар думала о том, что же это за силы такие — куда более могучие, чем жалость, чем простая обязанность помочь беспомощному, — заставили ее так привязаться к этому ребенку? Девочка, конечно, осталась бы в доме Жаворонка, если бы Тенар тогда ее не забрала. Но Тенар забрала ее, даже ни на секунду не задумавшись, почему, собственно, так поступает. Следовала ли она зову своего сердца? Огион тоже ведь ничего не спросил у нее о Терру и все-таки сказал: «Ее будут бояться». А Тенар ему ответила: «Ее уже боятся», и это было действительно так. Может быть, и сама она боялась этой девочки, как боялась жестокости, насилия, пожара? Не этой ли силой — силой страха! — была она привязана к Терру?
— Гоха, — спросила Терру, сидя на корточках под персиковым деревцем и рассматривая то место, где жарким летним днем она посадила персиковую косточку, — а что такое дракон?
— Драконы — это огромные существа, похожие на ящериц, но только длиннее самого большого корабля и выше, чем дом. У них есть крылья, как у птиц. И они выдыхают пламя.
— А сюда они прилетают?
— Нет.
Больше Терру ни о чем спрашивать не стала.
— Это тетушка Мох рассказывала тебе о драконах?
Терру покачала головой:
— Нет, ты.
— Ах вот как! — удивилась Тенар. И, немножко помолчав, прибавила: — Тому персику, что ты посадила, чтобы расти, нужна вода. Обязательно поливай его хотя бы раз в день, пока дожди не начнутся.
Терру вскочила и бегом бросилась за угол дома, к колодцу. Ее прелестные стройные ножки огонь пощадил. Тенар очень любила смотреть, как она ходит или бегает, как ступают ее смуглые, изящные ступни по этой земле. Девочка вскоре вернулась, с трудом волоча за собой тот кувшин, с которым всегда ходил за водой Огион, и устроила вокруг своего саженца небольшой потоп.
— Значит, ты запомнила ту историю, когда люди и драконы считали себя одним народом… Про то, как на островах Земноморья поселились люди, в первую очередь здесь, на востоке… а драконы остались далеко-далеко на западе.
Терру кивнула. Она, казалось, не придала своему вопросу значения, однако, когда Тенар произнесла «далеко-далеко на западе», показав куда-то в морскую даль, Терру вдруг вскинула лицо к высокому ясному небу, кусок которого виднелся между побегами фасоли и углом загона для коз.
На крыше загона показалась коза и повернулась к ним боком, надменно задрав голову. Судя по ее гордому виду, в данный момент она явно считала себя настоящей горной козой.
— Ну конечно, эта Сиппи снова удрала, — сказала Тенар.
— Эй, пошла, пошла! — закричала Терру, подражая деревенской пастушке, которая и сама вскоре появилась из-за угла и стала кричать на упрямую козу, но та не обращала на нее ни малейшего внимания, задумчиво созерцая растущую внизу фасоль.
Тенар предоставила им возможность поиграть в привычную игру под названием «поймай Сиппи» и побрела мимо грядок с фасолью к самому краю Большого Утеса и дальше, дальше над обрывом. Дом Огиона стоял в стороне от деревни, совсем близко от того места, где крутой склон горы переходил с одной стороны в каменистые, поросшие травой террасы, пригодные для выпаса коз, а с другой — стеной нависал над морем. По самой кромке обрыва шла тропа; на ней отчетливо видна была верхняя часть рудной жилы. А примерно в миле от деревни склоны Большого Утеса становились более пологими, превращаясь в некое подобие козырька из красного песчаника, нависавшего над морем, которое уже значительно подмыло его основание.
Здесь, на самом дальнем краю Большого Утеса, не росло ничего, кроме мхов и лишайников, лишь кое-где мелькала голубая ромашка, потрепанная ветром и прибитая к земле, похожая на случайно оброненную пуговицу. Если же встать спиной к морю, а лицом — к северу и востоку, то почти сразу за узкой полоской заболоченной земли круто поднимался к небесам, скрывая горизонт, склон самой огромной горы, покрытый лесом почти до самой вершины. Большой Утес так далеко выступал над водами залива, что с его края можно было разглядеть часть береговой линии и долины Эссари вдали, тонувшие в дымке. А дальше на юг и на запад — только небо да синее море.
Тенар часто ходила к обрыву, когда жила в Ре Альби. Огион любил леса. А она столько времени прожила в пустыне, где на расстоянии многих дней пути не было ни единого деревца, разве что в саду при храмах росли яблони и персики; садовые деревья в течение всего долгого лета приходилось поливать вручную. Вокруг же не было ничего влажного, свежего, даже зеленой травы — только округлый холм, пустынная долина да небо над ней. И Тенар очень любила стоять на самом краю утеса, где столько воздуха и простора, где леса не обступают тебя со всех сторон, где над головой нет ничего, кроме бескрайнего неба. Это было замечательно!
Мхи, серые лишайники, приземистые некрупные ромашки тоже очень нравились ей: то были ее друзья. Она уселась на выступе скалы, у самой кромки обрыва, как всегда глядя в морскую даль. Солнце пригревало сильно, но вечный здесь ветер смягчал жар его лучей, осушал разгоряченное лицо и обнаженные руки. Она, запрокинув голову, оперлась руками о землю; солнце, ветер, синь небес целиком заполнили ее душу, она как бы вся была просвечена окружавшим ее простором моря и неба. Неожиданно укол в ладошку левой руки напомнил Тенар о собственной живой плоти, и она, очнувшись, посмотрела на землю. Это оказался крошечный, едва видимый стебель чертополоха, торчавший из трещины в камне; он жадно протягивал свои бесцветные колючки навстречу солнцу, упрямо сопротивлялся порывам ветра и крепко держался корнями за скалу. Тенар долго смотрела на крохотное растение.
Когда же она вновь подняла глаза, то увидела в далекой голубой дымке на горизонте синеватые очертания острова: Оранея, самый восточный из Внутренних Островов.
Она смотрела туда, на это призрачное видение, и о чем-то грезила, пока внимание ее не привлекла какая-то необычная птица, летевшая над морем с запада к острову Гонт. То явно была не чайка, ибо летела она слишком медленно, однако и для пеликана она летела слишком высоко… Может, это дикий гусь? Или альбатрос, редкий гость, великий скиталец Открытого Моря, залетел на эти острова? Она смотрела, как медленно и плавно поднимаются и опускаются широкие крылья — где-то высоко над землей, в чуть дрожащем от жары мареве. Потом вдруг вскочила, отбежала подальше от края обрыва и застыла у скалы без движения; сердце билось так, словно вот-вот выскочит из груди, ей стало трудно дышать, ибо теперь ясно видны стали и изогнутое темно-стальное тело, и могучие перепончатые крылья, полыхающие красным заревом, и выставленные вперед когти, и вырывающиеся из чудовищной пасти клубы дыма.
Дракон летел прямо к Большому Утесу, прямо к тому месту, где стояла она. Тенар видела, как поблескивает ржаво-черная чешуя, как горят продолговатые страшные глаза. Красный язык пламени вырвался из пасти вместе с запахом гари, когда с шипением и ревом дракон развернулся и приземлился на скалистом обрыве над морем.
Когти его с металлическим скрежетом царапнули камни. Украшенный шипами хвост гремел, извиваясь, а крылья, совершенно алые там, где сквозь них просвечивало солнце, бурно хлопали и тоже гремели, пока дракон не успокоился и не сложил их за спиной. Тогда, медленно повернув голову, он посмотрел на женщину, что застыла в опасной близости от его когтей, похожих на лезвия косы. Женщина тоже посмотрела на дракона. От тела чудовища исходил нестерпимый жар.
Тенар давно знала, что нельзя смотреть дракону прямо в глаза, но сейчас ей почему-то все было нипочем. Дракон глянул из-под бронированных щитков, напоминавших черепашьи и прикрывавших широко расставленные по обе стороны плоской морды глаза, прямо на нее, а в глубине его ноздрей бушевало пламя, клубился дым. Однако она тоже не отвернулась, а смело встретила его взгляд своими темными глазами.
Никто не произнес ни слова.
Дракон чуть отвернул голову, видимо, чтобы не сжечь ее, когда раскроет пасть, — а может, ему вдруг стало смешно? — и выдохнул вместе с языком оранжевого пламени нечто вроде громоподобного «Ха!». И, почему-то совсем ссутулившись, проговорил почти нежно, но явно обращаясь не к ней:
—
Абивараибе, Гед.
И тут же его окутали клубы дыма, в котором порой мелькал и тонкий язык пламени. Потом пламя и дым исчезли, дракон опустил голову, и Тенар впервые за все это время заметила, что на спине чудовища сидит человек, примостившись у самой шеи, у самых корней гигантских крыльев, в углублении между двумя похожими на огромные мечи шипами. Шипы эти спускались вдоль хребта дракона до самого кончика хвоста. Руки человека судорожно вцепились в ржаво-черную чешую, а голова была запрокинута и упиралась в основание мощного шипа; человек этот, похоже, спал.
—
Аби эбераибе, Гед, — сказал дракон чуть громче, и Тенар показалось, что он все время улыбается своей длинной пастью, показывая зубы длиной с человеческую руку, желтоватые, с белыми острыми концами.
Человек у него на спине даже не пошевелился.
Дракон снова повернул голову на длинной шее и посмотрел на Тенар.
—
Собриост, — сказал он — словно сталь прошелестела по стали.
Это слово Истинной Речи она знала. Огион называл ей все слова Истинной Речи, которые она хотела узнать. Дракон велел ей подняться наверх? И она вдруг отчетливо увидела ступени, ведущие к нему на спину: когтистая лапа, кривоватый локоть, плечевой сустав, мощное основание крыла — четыре ступени.
Она почему-то тоже выдохнула:
— Ха!
Но то был не смех — она просто пыталась перевести дыхание, исторгнуть то, что комом застряло у нее в горле. Потом на мгновение опустила голову, чтобы преодолеть дурноту — ах, как близко были огромные когти, и длинная безгубая пасть, и желтый продолговатый глаз! — и уверенно поднялась на спину дракона. Коснулась руки сидевшего там человека, но он не пошевелился. Впрочем, мертв он не был, иначе дракон не стал бы разговаривать с ним.
— Ну же! — сказала Тенар, наконец разглядев его лицо и разжав впившиеся в драконову чешую пальцы. — Ну же, Гед! Пойдем!..
Он едва заметно приподнял голову. Открытые глаза его, однако, оставались как бы незрячими. Тенар пришлось обойти его, царапая ноги о горячую чешую дракона, и долго отцеплять пальцы правой руки, которыми он продолжал крепко сжимать шипастый выступ на шее чудовища. Она позволила Геду с той же силой вцепиться в ее собственную руку и благодаря этому сумела протащить его вниз по всем четырем «ступеням».
Он изо всех сил старался держаться за нее, однако силы совсем оставили его, и он мешком рухнул на каменистую землю.
Дракон склонил гигантскую голову и совершенно по-звериному обнюхал тело человека.
Потом встрепенулся, глухо пророкотали приподнявшиеся мощные крылья, и он чуть попятился от Геда к краю утеса. Там, повернув голову на шипастой шее, он снова посмотрел Тенар прямо в глаза и сказал — словно пламя заревело в огромном горне:
—
Тбессе Калессин.
Морской ветер шуршал в его полураскрытых кожистых крыльях.
—
Тбессе Тенар, — звонко ответила ему женщина, хотя голос ее чуть дрожал.
Дракон некоторое время смотрел вдаль, куда-то на запад, за море. Потом вдруг содрогнулся всем своим длинным телом, страшные когти лязгнули по камням, гигантские крылья с шелестом раскрылись, дракон подпрыгнул и будто свалился с утеса, подхваченный ветром. Только длинный хвост еще какое-то время волочился по земле. Несколько раз поднялись и опустились красные крылья, и Калессин сразу оказался очень далеко от острова, направляясь прямо на запад.
Тенар смотрела ему вслед, пока он не стал казаться диким гусем или чайкой. Сразу похолодало. Рядом с драконом ей было жарко, словно все вокруг согрел он пламенем, бушевавшим у него внутри. Тенар поежилась от холода. Потом опустилась на землю возле Геда и в полный голос заплакала, закрыв лицо руками.
— Но что же я могу сделать? — шептала она. — Что же я могу сделать теперь?
Однако плакала она недолго и вскоре вытерла глаза и нос рукавом, обеими руками откинула назад волосы и перевернула лежащего рядом Геда лицом вверх. Теперь он лежал на этих голых скалах так спокойно и естественно, что казалось, улегся там навеки.
Тенар вздохнула. Ничего поделать с этим она не могла, но всегда ведь найдется, что можно сделать еще…
У нее не хватает сил отнести его домой. Нужна помощь. Значит, придется оставить его на какое-то время одного. Ей казалось, что он лежит слишком близко к краю и если попытается встать, то вполне может упасть вниз. Он слишком слаб и вряд ли сможет удержаться на ногах. Как бы ей его передвинуть? Он даже головы не поднял, когда она попыталась с ним заговорить, коснулась его. Тогда Тенар подхватила его под мышки и попробовала оттащить подальше от края. К ее удивлению, он оказался очень легким, несмотря на то, что лежал словно мертвый. Вдохновленная успехом, она оттащила его шагов на семь или восемь от обрыва и уложила не на голые камни, как раньше, а на тонкий слой земли, поросший пучками дикой травы, — это тоже давало ощущение безопасности. Там она его и оставила. Бежать Тенар была не в состоянии: ноги дрожали, дыхание со стоном вырывалось из груди; однако она старалась идти как можно скорее и, приближаясь к дому Огиона, громко звала на ходу тетушку Мох, Терру и пастушку Вереск.
Девочка первой выбежала на зов из-за козьего загона и, как всегда, послушно остановилась, однако навстречу Тенар не бросилась, не выразила ни малейшей радости сама и не искала встречной радости на лице своей приемной матери.
— Терру, сбегай в деревню и попроси кого-нибудь прийти сюда… кого угодно, только посильнее… Там у обрыва раненый человек…
Терру так и застыла. Она никогда еще не ходила в деревню одна. И теперь в душе ее боролись привычное послушание и страх. Заметив это, Тенар спросила:
— А тетушки Мох здесь нет? А Вереск где? Мы бы втроем и сами смогли его отнести. Скорей, скорей, Терру, позови их! — Ей представилось, что если Гед, совершенно беззащитный, еще пробудет там, на краю обрыва, то непременно умрет. А она просто не успеет вернуться. Умрет, упадет или его унесут драконы. С ним-то уж все, что угодно, может случиться. Скорее, скорее туда! Флинт умер в одиночестве. Пастух случайно нашел его у ворот. Огион тоже умер, и она не сумела, не смогла удержать его. Гед тоже вернулся домой умирать, и наступил конец всему, ничего больше у нее не оставалось, нечего ей было делать в этом мире… Но все-таки приходилось действовать. — Скорей, Терру! Приведи же кого-нибудь!
Она сама побрела было, пошатываясь, к деревне, но тут увидела, как старая ведьма спешит к ней через пастбище, опираясь на толстую палку из ствола боярышника.
— Ты звала меня, милая?
Тенар сразу же стало легче на душе. Она обрела способность вновь нормально дышать и думать. Тетушка Мох не стала тратить время на расспросы и, лишь узнав, что какой-то человек ранен и его нужно перенести сюда, прихватила плотную циновку, которую развесила на изгороди Тенар, и поспешила на край обрыва. Вместе с Тенар они уложили Геда на эту циновку и уже тащили домой, хотя и с большим трудом, когда на помощь подоспела Вереск вместе с Терру и козой Сиппи. Девушка была молодой и сильной, и теперь они сумели поднять циновку за четыре угла и быстро перенести Геда в дом.
Тенар и Терру спали вместе — в алькове у западной стены. У противоположной стены была лежанка Огиона, теперь застланная плотной льняной простыней. На нее они и положили раненого. Тенар укрыла его одеялом, пока тетушка Мох суетилась вокруг постели и шептала всякие заклятия, а Вереск и Терру просто стояли и смотрели.
— Ну а теперь дайте ему отдохнуть, — сказала Тенар и выпроводила всех на крыльцо.
— А он кто? — спросила Вереск.
— И что у обрыва делал? — спросила тетушка Мох.
— Ты же его знаешь, тетушка Мох. Когда-то он был учеником Огиона… Айхала.
Ведьма покачала головой.
— То был парень родом из Десяти Ольховин, милая, — сказала она. — Он потом стал Верховным Магом на острове Рок.
Тенар согласно кивнула.
— Нет, милая, это не тот, — сказала старуха. — Он только похож на того. Но это не он. Этот человек никакой не маг. Даже и не колдун.
Вереск с любопытством поглядывала то на Тенар, то на тетушку Мох. Она мало что понимала из людских разговоров, но очень любила слушать, когда люди говорили друг с другом.
— Но я же узнала его, тетушка Мох! Это Ястребок. — Произнесенное ею старое, привычное прозвище Геда вдруг пробудило в ней прежнюю нежность, и она впервые действительно поняла, почувствовала, что это Гед, что все эти долгие годы, с того дня, как тогда, давным-давно, она увидела его, связь между ними оставалась неразрывной. Тогда она увидела свет в глубоком подземелье, звезды в темной ночи и в этом свете — его лицо… — Я знаю его, тетушка Мох. — Она слабо улыбнулась, потом улыбка ее стала шире. — Он первый мужчина, которого я увидела в жизни.
Тетушка Мох что-то забормотала; она явно колебалась. Ей не хотелось перечить «госпоже Гохе», однако слова той казались ведьме совершенно неубедительными.
— Бывают всякие трюки, ловушки, превращения, подмены… — проговорила она. — Ты бы лучше поостереглась, милая. Как он попал-то туда, на самый край обрыва? Вроде бы никто не видел, как он через деревню шел?
— А разве никто… не заметил?..
Они дружно уставились на Тенар. Она попыталась выговорить «того дракона» и не смогла. Губы и язык не слушались, слово «дракон» не выговаривалось. Зато само сложилось другое слово и заставило Тенар выдохнуть:
— …Калессина…
Терру смотрела на нее во все глаза. Казалось, от девочки волнами исходит тепло, жар, словно она горит в лихорадке. Она ничего не сказала вслух, лишь губы ее слегка шевельнулись — она про себя повторила имя дракона, и жар вокруг нее стал еще ощутимее.
— Фокусы, — заявила тетушка Мох. — Сейчас, когда наш старый маг умер, непременно сбегутся всякие трюкачи да шутники.
— Мы вдвоем с Ястребом на маленькой открытой лодке приплыли через море с Атуана на Хавнор, а потом — на Гонт, — сухо сказала Тенар. — Ты же видела его, когда он привез меня сюда, тетушка Мох. Тогда он еще не был Верховным Магом Земноморья, но выглядел точно так же. Разве у кого-нибудь еще есть такие шрамы?
Оскорбленная старуха так и застыла, пытаясь совладать с собой. Потом глянула на Терру.
— Нет, — сказала она. — Но…
— Неужели ты думаешь, что я бы его не узнала?
Тетушка Мох поджала губы, вся напряглась и, опустив глаза, потерла друг о друга большие пальцы рук.
— В этом мире много зла, госпожа, — сказала она. — Есть такие существа, что способны отнять у человека его тело, его обличье… даже его душу…
— Ты думаешь, он оборотень?
Тетушка Мох вздрогнула оттого, что страшное слово было произнесено вслух. И кивнула:
— Ведь и правда говорят, что однажды маг Ястреб явился сюда — это было давным-давно, еще до того, как он привез тебя, — и его преследовало одно из порождений Тьмы. Может быть, та тень по-прежнему ходит за ним по пятам. А может…
— Тот дракон, что принес Ястреба сюда, — сказала Тенар, — называл его Истинным Именем. И мне это имя известно! — В голосе ее зазвенел гнев, вызванный упрямой подозрительностью ведьмы.
Тетушка Мох стояла, не говоря ни слова. И это ее молчание было куда красноречивее любых слов.
— Возможно, тень, что витает над ним, — это тень его смерти. Возможно, он просто умирает сейчас. Не знаю. Если бы Огион…
Вспомнив Огиона, Тенар залилась слезами: Гед опоздал, дракон принес его сюда слишком поздно. Проглотив горький комок в горле, она подошла к камину и стала разжигать огонь с помощью кремня и огнива. Потом протянула Терру пустой чайник, чуть коснувшись при этом губами ее щеки. Чудовищные уродливые шрамы были горячи на ощупь, но жара у девочки не было. Тенар опустилась перед камином на колени. Кто-то в их распрекрасном доме должен все-таки заниматься делами насущными — ведьма ли, вдова, девочка-калека или полубезумная пастушка! И нечего пугать ребенка всякими там слезами! Но тот дракон улетел, и неужели нечего больше ждать, кроме смерти?
Глава 5
Перемены к лучшему
Он лежал как мертвый, однако мертвым не был. Где же бродил он? Сквозь какие испытания прошел? Вечером при свете очага Тенар сняла с него грязную, изношенную, заскорузлую от пота одежду, вымыла его и уложила обнаженным на чистые льняные простыни, укрыв толстым теплым одеялом из козьей шерсти. Он всегда был невысоким и на вид довольно хрупким, хотя и очень стройным, однако всегда как бы источал неиссякающую жизненную силу; теперь же он так исхудал, словно вся его сила ушла, а плоть истрачена без остатка; даже шрамы, бороздившие его левое плечо и левую щеку от виска до подбородка, как бы уменьшились, подернулись патиной времени. И совсем серебряной стала его голова.
«Я безумно устала — устала хоронить, — думала Тенар. — Меня тошнит от похорон, тошнит от горя утрат. Нет уж, его мне хоронить не придется: ведь он явился ко мне верхом на драконе!»
«А когда-то я хотела убить его, — вспомнила она. — Но теперь заставлю жить — если смогу». И она посмотрела на Геда с вызовом, а не с жалостью.
Так кто же из нас кого спас тогда, в Лабиринте, Гед?
Он спал и ничего не слышал, даже не шевельнулся ни разу. Тенар чувствовала чудовищную усталость. Она вымылась остатками теплой воды и забралась в постель рядом со свернувшейся тихим теплым клубочком Терру. Тенар уснула сразу, и сон неожиданно перенес ее в непонятное, открытое всем ветрам пространство, совершенно бескрайнее и окутанное розовато-золотистой дымкой. Она летела. И звала: «Калессин!» И чей-то голос летел ей навстречу в потоках света.
Когда она проснулась, в полях и под застрехой уже вовсю щебетали птицы. Сев в постели, Тенар увидела утренний свет сквозь толстое дешевое стекло в низеньком окошке, выходившем на запад. Что-то таилось в ее душе, крохотное семя, отблеск неведомого, слишком далекого, чтобы можно было понять, что же это такое, но вся душа ее была охвачена совершенно новым чувством. Терру все еще спала. Тенар сидела с ней рядом, глядя в маленькое окошко на облака, просвеченные солнцем, и вспоминая свою дочку по прозвищу Яблочко — какой та была в детстве. Мимолетный образ тут же исчез, едва она попыталась присмотреться повнимательнее — крохотное тельце, пухлые, вздрагивающие от смеха щеки, рассыпающиеся кудряшки… А второй ее ребенок в шутку прозван был Искоркой — искру эту как бы высек Флинт Кремень. Она, мать, не знала его Подлинного Имени. Сын был в детстве настолько слабым и болезненным, насколько была здоровенькой Яблочко. Он родился до срока, совсем крошечным, да еще спустя два месяца чуть не умер от крупа, и первые два года ей все казалось, что она выхаживает едва живого воробышка — когда сегодня не знаешь, будет ли малыш жив завтра. Но ребенок выжил, крохотная искорка не потухла. И, подрастая, мальчик становился все более крепким и жилистым, совершенно неугомонным, даже настырным; проку от него на ферме не было никакого: у него не хватало терпения на животных, на растения, на людей; он и словами-то пользовался исключительно для удовлетворения собственных потребностей, но никогда — ради удовольствия беседы, для объяснения в любви, для обмена знаниями…
Однажды, как обычно скитаясь по лесам, к ним заглянул Огион — Яблочку тогда было тринадцать, а Искорке — одиннадцать. И Огион дал дочери Тенар ее Подлинное Имя, совершив обряд у истоков реки Кахеды. Она была очень красива — полуженщина-полудитя, — когда шла по зеленоватой воде. Огион назвал ее Хейохе. Он тогда прожил на Дубовой Ферме еще день или два и однажды спросил Искорку, не хочет ли тот отправиться в путешествие с ним вместе. Мальчик только головой помотал. «А чем бы ты занялся, будь твоя воля?» — спросил его Огион, и Искорка сказал Великому Магу то, чего до сих пор не решался сказать ни отцу, ни матери: «Ушел бы в море». Так что после того, как колдун по прозвищу Бук дал ему Подлинное Имя — это случилось через три года после разговора с Огионом, — сын Тенар нанялся моряком на торговое судно, ходившее из Вальмута до острова Оранея и северных берегов Хавнора. Время от времени Искорка появлялся на ферме, но не часто и никогда не задерживался надолго, хотя после смерти отца ферма переходила к нему. Белокожий, как Тенар, он вырос высоким, жилистым и узколицым, как Флинт. Он так и не назвал родителям своего Подлинного Имени. Похоже, он никому на свете его не назвал. Тенар не видела сына уже три года. Может быть, он уже узнал о смерти отца, может быть, нет. А может быть, его и
самого уже не было на свете — умер, утонул… Но она считала, что этого не могло случиться. Он просто обязан был пронести ту искру, что зажгла в нем жизнь, через все моря, сквозь любые шторма.
Вот и в ней сейчас словно зажглась какая-то искра, точно все ее существо уверовало в неизбежность перемен, во что-то новое, неведомое. Что же это? Она, пожалуй, и спросить не решилась бы. О таком не спрашивают. Как не спрашивают у человека, каково его Подлинное Имя, есть оно у него или нет.
Тенар встала, оделась. Несмотря на раннее утро, было уже совсем тепло, так что огня она разжигать не стала. Просто выпила кружку молока, сидя на крыльце и глядя, как тень горы Гонт, падавшая на море, втягивается постепенно внутрь острова. Здесь, на продуваемом всеми ветрами скалистом мысу, сейчас царило почти полное безветрие, и слабое дыхание, все-таки ощущавшееся в воздухе, пахло летом, дивными ароматами луговых трав. И что-то еще удивительно благостное разливалось вокруг — что-то непривычное, какая-то радость.
«Все переменилось!» — прошептал старый Огион, умирая, но тоже явно чувствуя радость. И накрыл ее руку своей. Он тогда принес ей в дар бесценную вещь — свое Подлинное Имя, словно отдавая его навсегда.
— Айхал! — прошептала она. Он не ответил, только проблеяли козы в загоне: они ждали, когда Вереск придет их доить. «Бе-е», — сказала одна, а другая более низким, металлическим голосом откликнулась: «Бла-а! Бла-а!» Поверь козе, говаривал Флинт, если хочешь все испортить. Флинт, хотя и сам когда-то был пастухом, коз недолюбливал. А Ястреб в детстве был как раз козопасом — здесь, на Гонте, только с другой стороны горы.
Тенар вошла в дом и обнаружила, что Терру стоит у постели Геда и внимательно смотрит на спящего. Она обняла девочку, и, хотя Терру обычно слегка отстранялась при любом, даже самом ласковом прикосновении или по крайней мере проявляла полное равнодушие, на этот раз она ласку не только приняла с благодарностью, но даже, пожалуй, сама немного прижалась к Тенар.
Гед, обессиленно распростертый на постели, был погружен все в тот же непробудный сон. Четыре страшных шрама-отметины на левой щеке были отчетливо видны.
— Это огнем? — спросила шепотом Терру.
Тенар ответила не сразу. Она и сама толком не знала, что это за шрамы. Когда-то она спрашивала его об этом — давно, в Расписной Комнате Лабиринта, на острове Атуан. «Это, наверно, дракон?» — спросила она тогда насмешливо. А он совершенно серьезно ответил: «Нет, это не дракон. Это отметины одного из Безымянных. Впрочем, имя этой твари я в конце концов узнал…» Вот и все, что ей было известно. Но она понимала, что для Терру значит слово «огонь».
— Да, — сказала она.
Терру продолжала смотреть на Геда. Она так наклонила головку, чтобы единственный ее зрячий глаз смотрел прямо на него, и от этого стала похожа на маленькую нахохлившуюся птичку — воробышка или зяблика.
— Пойдем-ка, птенчик, зяблик ты мой! Ему сейчас особенно нужно крепко спать, а тебе пора съесть персик. Интересно, созрел ли у нас там сегодня хоть один?
Терру тут же помчалась смотреть. Тенар пошла следом.
Поглощая персик, девочка внимательно изучала то место, где вчера посадила персиковую косточку. Она явно была разочарована тем, что там до сих пор ничего не выросло, однако ничего не сказала.
— Полей получше, — посоветовала ей Тенар.
После завтрака явилась тетушка Мох. Она замечательно умела плести корзины из тростника, росшего на болотах близ Большого Утеса, и Тенар как-то попросилась к ней в ученицы. С раннего детства, проведенного на острове Атуан, она любила учиться. А оказавшись на чужом для нее острове Гонт, обнаружила, что люди страшно любят кого-нибудь учить. Она научилась с благодарностью принимать любые знания и уроки, и благодаря этому ей быстро простили, что она чужестранка.
Когда-то свои знания ей передал Огион, потом — Флинт. Для нее естественно было всю жизнь чему-то учиться. И ей казалось, что еще столь многому на свете поучиться стоит, хотя раньше, слушая наставления жриц или будучи ученицей волшебника, она так не думала.
Тростник был замочен загодя, и сегодня с утра они собирались его расщеплять — занятие, требующее известного внимания, однако в общем несложное, так что вполне можно было и думать, и говорить о чем угодно.
— Тетушка, — спросила Тенар, сидя на крыльце перед корытцем с замоченным тростником и кучкой готовой щепы на циновке, — а как ты можешь угадать, волшебник человек или нет?
— То, что скрыто в глубине, ведомо лишь тем, кто глубоко видит, — сказала тетушка Мох прочувствованно и прибавила: — То, что рождено на этот свет, непременно заговорит. — И рассказала Тенар историю о муравье, который подобрал на полу во дворце один крошечный волосок и поспешил отнести его в свой муравейник, а ночью весь подземный муравейник засиял, точно туда упала звезда, ибо волосок тот был с головы Великого Мага Бреста. Но лишь мудрые могли увидеть тот свет в муравейнике. Обычным людям он казался погруженным во тьму.
— Значит, просто нужны знания, просто нужно учиться? — спросила Тенар.
— Может быть, нужно, а может быть, и нет. — Такова была суть весьма туманного ответа ведьмы. — Этот дар бывает порой врожденным, — пояснила она. — Даже если человек о нем и не знает, дар все равно остается при нем. И непременно засияет когда-нибудь, как тот волосок Великого Мага, что попал в муравейник.
— Да, — сказала Тенар, — такое и я видела. — Она аккуратно расщепляла стебли тростника и складывала щепу на циновку. — Тогда как же ты узнаешь, что кто-то вовсе не волшебник?
— Так ведь сразу видно! — воскликнула тетушка Мох. — У такого ничего особенного за душой нет, милая. Нет у него волшебной силы, и все. Вот посмотри. Если у меня есть глаза, так ими я могу увидеть, что и у тебя глаза тоже есть, так ведь? А если ты слепа, так я и это сразу увижу. Или если у тебя, к примеру, только один глаз зрячий, как у нашей малышки, или, скажем, три глаза — это ведь тоже сразу заметно, разве не так? Но если у меня самой ни одного зрячего глаза нет, так я ни за что не узнаю, зрячая ли ты, если ты сама мне об этом не скажешь! Но у меня-то глаза есть! Я знаю, что вижу прекрасно. Третий глаз! — Она коснулась собственного лба и разразилась смехом — громким сухим кудахтаньем, словно торжествующая наседка, которая только что снесла яйцо. Она была довольна, что отыскала нужные слова и сумела выразить именно то, что хотела. По большей части ее невнятная и довольно-таки двусмысленная манера выражать собственные мысли, как Тенар давно уже начала подозревать, была связана именно с неумением управлять словами. Никто никогда не учил ее выражать свои мысли последовательно. Никто никогда не прислушивался к тому, что она говорит. Все ждали от нее, ведьмы, именно этого невнятного,
загадочного, волшебного бормотания. Она как бы не должна была иметь ничего общего с ясными значениями слов.
— Понимаю, — сказала Тенар. — Тогда… но, может быть, ты на этот вопрос и не захочешь отвечать? Скажи, вот если ты смотришь на кого-то этим своим «третьим глазом», то есть видишь его волшебным зрением, сразу ли ты понимаешь, какова его волшебная сила?
— Это скорее от знаний зависит, — сказала тетушка Мох. — Увидеть человека — это все равно что сказать:
Я его увидел. Узнать и увидеть — не одно и то же. Я вот вижу тебя, вижу этот тростник, вижу эту гору. А с людьми знание нужно. Я, например, знаю, что есть в нашей милой малышке и нету в том мужчине… который у тебя в доме лежит. Что есть в тебе и нет в нашей пустоголовой пастушке Хетер. Я знаю… — Но дальше сопоставлять ей оказалось не под силу. Она что-то пробормотала и сплюнула. — Каждая хоть сколько-нибудь стоящая ведьма тут же другую ведьму признает! — выпалила она наконец.
— Значит, вы друг друга легко узнаете?
Тетушка Мох кивнула:
— Да, точно. Так оно и есть. Узнаем.
— И любая волшебница сразу узнает и поймет, что в тебе есть волшебная сила, что ты колдунья?..
Но тут тетушка Мох как-то странно ухмыльнулась — открылась черная пещера беззубого рта в паутине бесчисленных морщин — и посмотрела прямо на Тенар.
— Милая ты моя, ты, верно, хотела сказать «волшебник», а не «волшебница»? Разве можем мы сравниться с мужчинами-волшебниками?
— Но Огион…
— Лорд Огион был добр, — очень серьезно сказала тетушка Мох.
Некоторое время обе молчали, упорно продолжая расщеплять стебли тростника.
— Смотри не поранься, не занози руку, дорогая, — предупредила тетушка Мох.
— Но Огион же учил меня! Как если бы я вовсе не была девушкой. Как если бы я была его настоящей ученицей — как Ястреба. Он учил меня Языку Созидания. Что бы я у него ни спросила, обо всем он рассказывал мне.
— Другого такого человека на свете не было и нет.
— Это же я сама не захотела, чтобы он меня учил дальше. Я сама ушла от него. Зачем мне были бы его книги в деревне? Что хорошего они бы мне дали? Я тогда хотела жить как все, хотела иметь мужа, детей; я хотела прожить
свою собственную жизнь.
Она аккуратно и ловко расщепляла ногтем стебли тростника.
— И все это у меня получилось, — прибавила она.
— Ты бери стебель правой рукой, а щепу откладывай левой, — посоветовала ведьма. — Что ж, дорогая моя госпожа, кто может знать заранее? Кто? Желание иметь своего мужчину не единожды приносило мне ужасные неприятности. А вот желания выйти замуж у меня особого не было. Нет-нет! Все это не для меня!
— Почему же? — спросила Тенар.
Удивленная тетушка Мох ответила просто:
— Как же, да разве мужчина станет жениться на ведьме? — И, как-то странно шевельнув челюстями, словно овца, жующая жвачку, прибавила: — Да и какая ведьма выйдет за обыкновенного мужчину?
Опять обе помолчали.
— А что плохого в обыкновенных мужчинах? — осторожно спросила Тенар.
И тетушка Мох тоже осторожно, почти шепотом, ответила:
— Не знаю, милая. Я об этом частенько думала. Да, частенько. И самое большее, что я могу о них сказать… видишь ли, мужчина заполняет собственную шкуру, словно ядрышко ореха скорлупку. — Она вытянула свои длинные крючковатые влажные пальцы так, словно обхватила ими орех. — И скорлупа эта плотная и твердая; и вся она изнутри заполнена им самим. Вся заполнена великолепной мужской плотью, мужским духом. И больше там не помещается ничего! Только он сам — и больше ничего!
Тенар немного подумала и наконец спросила:
— Ну а если это волшебник?
— Тогда там, внутри скорлупы, одна лишь его волшебная сила, видишь ли. Его могущество — это и есть он сам. Так-то оно с мужчинами. Так что коли уж его волшебная сила уходит, то и сам он исчезает вместе с ней. Только пустая скорлупа остается! — Она как бы расколола орешек и выбросила осколки скорлупы. — И ничего больше.
— Ну а что же ты о женщинах скажешь в таком случае?
— О, милая, женщина — это совсем другой разговор. Кто знает, где начинается и где кончается женщина? Послушай-ка, госпожа, вот у меня, например, есть корни — глубже, чем у этого острова. Глубже моря они и старше самых первых из островов Земноморья. Далеко во тьму уходят они. — Глаза тетушки Мох сверкнули странным огнем меж покрасневших век, а голос вдруг обрел неслыханную мелодичность. — Во тьму! Я появилась на свет раньше, чем луна. Никто, никто не знает, никто не может сказать, что я такое, что такое женщина и в чем ее могущество, и уж тем более — волшебное могущество женщины; женские корни глубже, чем корни деревьев, глубже, чем корни островов; женщина старше, чем наш Создатель Сегой, старше, чем луна в небе. Кто осмелится задавать вопросы Тьме? Кто спросит Тьму, каково ее Подлинное Имя?
Старуха говорила вдохновенно, почти пела, забыв обо всем на свете; но Тенар сидела по-прежнему прямо, упорно и спокойно расщепляя один стебель за другим.
— Я спрошу ее, — сказала она. И расщепила еще один стебель. — Я достаточно долго прожила во тьме.
Время от времени она заглядывала в дом и видела, что Ястреб по-прежнему спит. Вот и сейчас она встала и пошла посмотреть на него. Когда же она снова уселась рядом с тетушкой Мох, то ей совершенно расхотелось продолжать этот разговор, потому что вид у старухи был кислый, даже сердитый, и Тенар сменила тему.
— Сегодня утром, проснувшись, я почувствовала… ну как если бы ветер новый подул. Какую-то перемену. Может быть, просто погода переменилась? А ты ничего такого не почувствовала?
Тетушка Мох не сказала ни да ни нет.
— У нас тут, на Большом Утесе, каких только ветров нет — и добрые, и злые… Одни ненастье приносят, другие ясную погоду, а некоторые приносят тем, кто, конечно, их услышать может, разные вести, да только тот, кто ветры слушать не желает, тот их и услышать не может. Ну а что я о ветрах знаю — старуха, которую и магии-то не учили, которая и книг-то великих не читала? Все мои знания — из земли, из темной земли. Той, что у них под ногами, у этих гордецов. У всех этих заносчивых Лордов и Великих Магов. Разве они станут с высоты своих знаний вниз смотреть? Да и что в конце концов может знать какая-то старая ведьма?
«Она была бы отличным противником, — подумала Тенар, — но дружить с ней трудно».
— Тетушка, — сказала она, снова беря в руки тростник, — я выросла среди женщин. Там, в стране каргов, далеко на востоке, на острове Атуан, меня окружали только женщины. Маленькой девочкой меня взяли из семьи и вырастили в пустыне, чтобы затем сделать Великой Жрицей. Не знаю, как по-настоящему называется та пустыня, мы ее называли просто Священным Местом. И это было единственное место, которое я знала. Храмы охраняли воины, но им было запрещено входить на территорию, ограниченную Стеной. А мы не смели покидать ее. Мы выходили за ее пределы только толпой — сплошь женщины и девочки, сопровождаемые охраной, состоявшей из евнухов, которые держали всех мужчин на недосягаемом для глаза расстоянии.
— Кто это такие — те, кого ты только что назвала?
— Евнухи? — Тенар машинально употребила каргадское слово. — Оскопленные мужчины.
Ведьма уставилась на нее, проговорила: «Тсекб!» — и особым жестом отогнала зло. Потом нервно облизала губы. Она была чрезвычайно озадачена.
— Один из них, — продолжала Тенар, — практически заменил мне мать… Но поверишь ли, тетушка, я ни разу не видела настоящего мужчины, пока не стала совсем взрослой. Одних только девочек и женщин. И все-таки я не понимала как следует, что же женщины собой представляют, именно потому, что женщины были единственными людьми, которых я знала. Это, наверно, как у тех мужчин, что подолгу лишены женского общества, — у моряков, солдат и еще Магов с острова Рок; разве понимают они по-настоящему, что такое мужчины? Как они могут знать это, если даже никогда не говорили с женщиной?
— Они что же, поступают с ними, как с баранами да козлами? — занятая своими мыслями, спросила Мох. — Просто берут ножик и — чик?
Сейчас, вся охваченная ужасом и мрачной жаждой мести, которая сильнее даже гнева, она просто не способна была рассуждать здраво и говорить на какую-либо иную тему, кроме как о евнухах.
Тенар немногое могла ей рассказать. Она поняла, что никогда даже не задумывалась об этом. На Атуане было много евнухов, а один из них, Манан, нежно любил ее, и она его любила; но убила его во имя собственного спасения… А потом она попала на острова Архипелага, где никаких евнухов не было, и совсем позабыла о том, что где-то они еще существуют — они для нее словно навеки канули во тьму вместе с Мананом.
— По-моему, — сказала она, стараясь удовлетворить жадное любопытство тетушки Мох, — они выбирают маленьких мальчиков и… — Она вдруг умолкла. Даже руки перестали двигаться.
— Так было и с Терру, — снова заговорила она после долгого молчания. — Для чего еще нужен ребенок? Какой от малыша прок? Вот им и пользуются. Насилуют, уродуют… Послушай, тетушка Мох. Когда я жила в тех местах, где поклоняются Тьме, там жрицы прямо-таки горели жаждой насилия. А попав сюда, я решила, что вышла из тьмы на свет. Я научилась понимать нормальные значения слов. У меня был муж, я родила от него детей, я, в общем, жила хорошо. И света мне вполне хватало. Но и при свете с нашей Терру… сотворили такое… Там, на лугу, у реки. У той самой реки, где когда-то Огион дал Подлинное Имя моей родной дочери. И солнце светило… А я все пытаюсь понять теперь, где же я могла бы жить, тетушка Мох. Ты меня понимаешь? Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Что ж поделаешь? — вздохнула старуха и, помолчав, прибавила: — Милая ты моя, вокруг столько горя, что его и искать-то не нужно — само придет. — И, заметив, как дрожат руки Тенар, пытающейся вновь приняться за работу, ласково предупредила ее: — Смотри не поранься, милая.
Лишь через сутки Гед пришел в себя. Тетушка Мох отлично умела выхаживать больных, несмотря на все свои причуды и грязноватую внешность. Она даже умудрилась влить раненому в рот несколько ложек мясного бульона.
— Долго голодал, — объявила она, — и прямо-таки высох от жажды. — И, внимательно осмотрев его, прибавила: —
Он слишком далеко зашел, по-моему. После таких путешествий они обычно слабеют, милая, и потом не в состоянии даже пить, хотя вода — это единственное, что им совершенно необходимо. Я знавала одного волшебника, крупного и сильного мужчину, который после этого взял да и умер. В считанные дни тенью стал, знаешь ли.
Но благодаря неустанным и терпеливым заботам тетушки Мох больной все-таки понемногу пил крепкий бульон, сдобренный целебными травами.
— Ну теперь мы посмотрим! — сказала старая ведьма. — Хотя, по-моему, все-таки слишком поздно. Он от нас ускользает. — Она говорила об этом без горечи, пожалуй, даже с облегчением. Этот незнакомый мужчина был ей безразличен; просто еще одна смерть — обычное дело. Возможно, ей удастся похоронить хоть этого Мага. Ей же не позволили похоронить старого Огиона.
Тенар как раз обмывала Геду израненные руки. Он, должно быть, слишком долго ехал на спине Калессина и слишком яростно цеплялся за железную чешую дракона: с ладоней у него была содрана вся кожа, а пальцы покрыты бесчисленными ссадинами и порезами. Даже во сне пальцы его оставались судорожно стиснутыми, словно он боялся разжать их и упасть со спины дракона. Тенар пришлось силой разжать ему руки, осторожно промыть и смазать целебной мазью раны. Однако он почти сразу же закричал и попытался покрепче ухватиться за что-то руками — во что бы то ни стало старался удержаться на Калессине. Потом глаза его вдруг открылись. Она тихонько окликнула его. Он посмотрел на нее и без улыбки сказал:
— Тенар… — всего лишь узнавая ее, но не проявляя никаких чувств. Но то, что он узнал ее, доставило ей несказанную радость — она словно увидела дивный цветок, вдохнула сладостный его аромат: остался все-таки на свете хотя бы один человек, знавший ее Подлинное Имя, и этим человеком был Гед.
Она наклонилась и поцеловала его в щеку.
— Лежи спокойно, — сказала она. — Дай мне закончить.
Он подчинился и, вновь откинувшись на подушку, погрузился в сон, однако теперь уже руки его немного расслабились и пальцы не были так судорожно сжаты.
Позже, уже ночью, засыпая рядом с Терру, она подумала: но ведь я никогда его раньше не целовала. И мысль эта потрясла ее до глубины души. Сначала она даже не поверила себе. Неужели за все эти годы?.. Нет, не в Гробницах — потом, когда они вместе брели через горы… потом на «Зоркой» плыли в Хавнор… И позже, когда он привез ее сюда, на Гонт?..
Нет, Огион ведь тоже никогда не целовал ее, как и она — его. Огион называл ее дочкой, он очень любил ее, но, похоже, старался не прикасаться к ней; да и она, привыкшая к одиночеству, призванная исполнять роль Единственной Жрицы, святой и неприкосновенной, не искала возможности кого-то коснуться или просто не понимала, что ищет ее. Она обычно лишь на минутку прижималась лбом или щекой к руке Огиона или же он сам мог погладить ее по голове — всего лишь разок легко коснуться ее волос.
А Гед никогда даже этого не делал.
«Неужели я никогда не задумывалась об этом?» — изумленно спрашивала она себя, испытывая нечто вроде смутного страха.
Она ничего не понимала. При мысли об этом какой-то ужас, ощущение совершаемого греха охватывали ее душу и медленно отступали, так и не найдя себе объяснения. Ее губы узнали теперь обветренную, суховатую, прохладную кожу его щеки у самого уголка рта, и одно лишь это теперь имело смысл, только это было важно для нее.
Она долго не могла уснуть. Но и во сне чей-то голос все звал ее: «Тенар! Тенар!», а она отвечала странными криками, словно морская птица, что летит над океаном в потоках света, вот только не понимала, чье имя выкрикивает в ответ.
Ястреб разочаровал тетушку Мох: он выжил. Через день-два она совсем сдалась и решила, что он чудом спасся от смерти, а потому упорнее, чем раньше, поила его бульоном из козлятины, разных корешков и целебных трав, бережно поддерживая при этом за плечи, окатывая могучим запахом своего давно не мытого тела, вливая в него жизнь ложку за ложкой и при этом постоянно бормоча что-то. Хотя и сам он узнал ее и называл, как все, тетушкой Мох и ей уже трудно было бы отрицать, что это именно Ястреб, ведьма все-таки была настороже. Не нравился он ей, и точка! «Все в нем не так, как надо», — говорила она. Тенар всегда с большим уважением относилась к необычайной проницательности тетушки Мох, и подобные заявления весьма ее беспокоили, но в собственной душе она не ощущала ни малейших сомнений или подозрений — только радость от одного лишь его присутствия, от того, что он хоть и медленно, но возвращается к жизни.
— Когда он снова станет самим собой, ты увидишь! — говорила Тенар тетушке Мох.
— Самим собой! Как бы не так! — презрительно откликалась та и снова показывала Тенар, как легко ломается в пальцах пустая ореховая скорлупка.
Довольно скоро Гед спросил об Огионе. Тенар ждала этого вопроса с ужасом. Ей уже почти удалось себя убедить, что он вообще этого вопроса не задаст, что он сам узнает об этом, как и все маги, как узнали даже самые обычные волшебники из Порта Гонт и Ре Альби. Однако на четвертое утро, проснувшись, когда Тенар подошла к нему, Гед внимательно посмотрел на нее и сказал:
— Это ведь дом Огиона.
— Да, это дом Айхала, — ответила она, стараясь казаться беззаботной; ей еще было трудно выговаривать вслух Подлинное Имя Великого Мага. Она не знала, известно ли оно Геду. Конечно же, известно. Может быть, от самого Огиона, а может быть, тому и говорить надобности не было.
— Значит, он умер.
— Десять дней назад.
Он снова умолк, глядя прямо перед собой, словно о чем-то размышляя, словно тщательно пытаясь вспомнить, отыскать что-то в своей памяти.
— Когда же я сюда попал? — еле слышно прошептал он, и ей пришлось нагнуться к нему совсем близко, чтобы разобрать, что он говорит.
— Четыре дня прошло.
— В тех горах больше никого не было, — проговорил он с трудом, и по телу его прошла судорога. Он зажмурился, словно от боли, весь напрягся и глубоко вздохнул.
Силы потихоньку возвращались к нему, однако напряжение из глаз не уходило; тяжкие вздохи, мучительно стиснутые руки — к этому Тенар почти привыкла. Силы возвращались к нему — но не душевный покой.
Как-то раз он сидел на пороге дома, греясь в лучах летнего полуденного солнца. Пока что он способен был дойти лишь от постели до крыльца. Сидя там, он любовался разгорающимся днем, и Тенар, половшая сорняки на грядках фасоли за домом, выйдя из-за угла, не смогла оторвать от него глаз. Не только серебряные волосы, но и сама словно пеплом подернутая плоть его, казалось, принадлежат человеку с того света. В глазах Геда не было прежнего огня. И все-таки этот похожий на тень, словно обугленный человек был тем Гедом, чье лицо она впервые увидела в сиянии его собственного волшебного могущества, — у него по-прежнему было сильное волевое лицо с ястребиным носом и тонко очерченным ртом; он по-прежнему был красив. Он был таким, как всегда: красивым и гордым.
Она подошла к нему ближе.
— Солнышко для тебя сейчас важнее всего, — сказала она, и он согласно кивнул, но сидел, по-прежнему обхватив Себя стиснутыми руками, словно замерз, хотя солнце буквально заливало его жаркими лучами.
Он почему-то был настолько молчалив в ее присутствии, что она даже подумала, не в ней ли причина его беспокойства. Может быть, он просто не привык видеть ее здесь и потому чувствует себя не в своей тарелке? В конце концов теперь он стал Верховным Магом Земноморья — она все время об этом забывала. И уже целых двадцать пять лет прошло с тех пор, как они вдвоем брели по горам Атуана, а потом плыли на «Зоркой» через Восточное море.
— А где сейчас «Зоркая»? — спросила она, сама удивившись этому вопросу, и тут же спохватилась: «Ах, какая я дура! Столько лет прошло, он теперь Верховный Маг, зачем ему та лодочка?»
— На Селидоре, — ответил он, и лицо его снова подернулось непроницаемой и необъяснимой пеленой печали.
Давным-давно, неведомо в каком году, и так далеко, как отсюда до Селидора…
— Это самый далекий из островов Земноморья? — зачем-то спросила она.
— Да, самый далекий — на западе, — откликнулся он.
После ужина, когда Терру убежала играть на улицу, они остались сидеть за столом.
— Так, значит, это с Селидора ты прилетел верхом на Калессине?
На этот раз имя дракона выговорилось как бы само собой; оно само заставило ее губы произнести нужные звуки, а в горле она почувствовала слабый привкус гари.
Он коротко, но остро глянул ей прямо в глаза, и только тут она поняла, что чаще всего он избегает смотреть прямо на нее. Он кивнул в ответ и, мучительно стараясь расставить все точки над «i», уточнил:
— С Селидора мы сперва прилетели на Рок. А потом уже на Гонт.
Сколько дней они были в пути? Десять, двадцать? Она понятия не имела. На Хавноре когда-то она видела огромные карты, но никто никогда не учил ее понимать то, что на них изображено и написано.
Так далеко, как отсюда до Селидора… А как измерить скорость полета дракона?
— Гед, — сказала она, называя его Подлинным Именем, ибо сейчас они были одни, — я понимаю, что ты пережил ужасные страдания и опасности. Если не хочешь, не можешь или не имеешь права что-то рассказывать мне… Но если бы я знала хоть что-то! Может быть, тогда от меня тоже было бы больше толку. А мне бы очень хотелось стать тебе полезной. Наверное, с острова Рок за тобой скоро приедут или пошлют за тобой, Верховным Магом, корабль, а может быть — кто его знает! — даже дракона. Если ты снова надолго уедешь, мы так никогда как следует и не поговорим. — Она говорила и нервно ломала пальцы, чувствуя фальшь собственных интонаций и слов. Идиотская шутка насчет посланного за Гедом дракона показалась ей позаимствованной у сварливой крестьянской жены.
Он смотрел в стол — мрачный, усталый, словно крестьянин, весь день проработавший в поле и на закуску получивший дома скандал.
— По-моему, гостей с Рока здесь пока не будет, — напряженно выговорил он, некоторое время молчал и наконец закончил: — Погоди, дай мне время.
Тенар решила, что теперь он никогда уже больше говорить с ней не станет.
— Да, конечно, ты прости меня, — быстро сказала она и уже поднялась, чтобы убрать со стола и вымыть посуду, когда он вдруг тихо и по-прежнему глядя в стол заявил:
— Теперь этим буду заниматься я.
Потом встал, поставил свою тарелку в таз с грязной посудой, помог Тенар убрать со стола. Сам перемыл тарелки, пока Тенар возилась в кладовке. Интересно, думала она, все сравнивая его с Флинтом, Флинт ни разу в жизни тарелки не вымыл. Еще бы, женская работа! Но Гед и Огион жили здесь холостяками, да и везде, где Гед жил подолгу, женщин в доме не было, так что ему доводилось делать и «женскую» работу, и он к этому относился спокойно. Было бы очень жаль, подумала она, если бы вдруг он стал относиться к такой работе иначе, испугался бы, что его достоинство повисло на конце посудного полотенца.
Никто за ним с острова Рок не приехал. В тот раз, когда они впервые заговорили об этом, было просто рановато: ни одно судно — разве что легкокрылая «Зоркая», подгоняемая волшебным ветром, — не смогло бы так быстро дойти до Гонта. Однако день шел за днем, но не было для Геда ни письма, ни гонца. Тенар казалось странным, что Верховного Мага Земноморья столь долго не решаются беспокоить. Он, должно быть, просто запретил посылать за ним корабль; а может быть, скрылся здесь ото всех с помощью своего волшебного мастерства так, чтобы никто не смог догадаться, кто он такой и откуда. Ведь и жители Ре Альби тоже почти не обращали на него внимания.
То, что никто из поместья Лорда Ре Альби так и не явился к домику Огиона, удивляло Тенар куда меньше. Здешние Лорды всегда были с Огионом в довольно прохладных отношениях. Жены здешних правителей, если верить сплетням, всегда отличались склонностью к черной магии. Дочь одного из хозяев Ре Альби, по слухам, вышла замуж за какого-то страшного и могущественного чародея с северных островов, который заживо похоронил ее под каким-то волшебным камнем. Другая женщина из этого рода долго колдовала над своим не рожденным еще ребенком, пытаясь превратить его в могущественного волшебника, и он действительно сразу заговорил, едва успев появиться на свет, однако в теле его как бы не было ни единой косточки. «Словно пустой кожаный бурдюк! — шептала деревенская акушерка. — Словно бурдючок с глазами и человеческим голосом. И грудь не брал, только все лопотал что-то странное, а потом умер…» Что бы там ни было на самом деле, только правители Ре Альби всегда жили замкнуто. Спутница мага Ястреба, приемная дочь Огиона, Белая Дама, что доставила Кольцо Эррет-Акбе в Хавнор, возможно, со временем и удостоилась бы чести попасть в замок Ре Альби, однако такого не случилось. Тенар — к собственному большому удовольствию — предпочла поселиться в крошечном домике, принадлежавшем деревенскому ткачу Фану, жила там совершенно одна и крайне редко, да и то издали, видела людей из господского дома. Сейчас, как сказала бы тетушка Мох, дом этот лишился хозяйки: там жил один только старый Лорд, его внук да еще тот молодой волшебник Аспен, которого специально пригласили в поместье из Школы Волшебников.
После того как Огиона вместе с амулетом тетушки Мох похоронили под буком на лесной тропе, Тенар Аспена не видела ни разу. Она была поражена: неужели он не ведает о том, что Верховный Маг Земноморья живет по соседству? А если он знает об этом, то по какой причине держится в стороне? Да и волшебник из Порта Гонт тоже после похорон Огиона больше ни разу не появился. Даже если он еще не узнал, что Гед здесь, то, конечно же, должен знать, кто такая она, Белая Дама, что носила когда-то Кольцо Эррет-Акбе на своей руке и возвратила целостность Руне Мира… «А как давно это было, старая ты дура! — сердито сказала она себе. — Все пытаешься собственный затылок рассмотреть? Смотри, нос набок не сверни!»
А все-таки именно она назвала им Подлинное Имя Огиона! Это чего-то стоит!
Впрочем, разве станут эти волшебники, мужчины, проявлять к ней какое-то внимание? Они люди могущественные. И общаются только с себе подобными. А у нее-то какое могущество? Да и было ли оно у нее когда-нибудь? Девочкой, жрицей, она служила лишь сосудом, который Великая Тьма наполняла своим могуществом, заставляя ее, Ару, исполнять свои желания, а затем опустошала, оставляя без сил, без чувств, без стремлений… Потом, еще молодой, она училась Великому Знанию у могущественного Мага и сама отказалась от этих знаний, никогда больше о них не вспоминала. Она тогда сделала свой выбор и обрела истинное женское могущество, однако и это прошло: свою роль матери и жены она сыграла, и теперь в ней не осталось никакой силы, способной добиться признания.
Но ведь дракон первым заговорил с ней! «Я Калессин», — сказал он, а она ответила: «А я Тенар».
«Что такое Повелитель Драконов?» — спрашивала она когда-то Геда в Лабиринте, во владениях Тьмы; она все пыталась унизить его, заставить признать ее могущество, а он ответил ей просто и честно (ее всегда обезоруживала эта его манера): «Это тот, с кем драконы станут разговаривать».
Значит, она та, с кем драконы разговаривать станут. Не это ли новое потаенное чувство, словно зернышко света, она ощутила в себе на следующее утро после встречи с Калессином, когда, проснувшись, глядела в маленькое окошко, выходящее на запад?
Через несколько дней после того разговора с Гедом Тенар полола сорняки вдоль дорожки, ведущей в сад и огород, спасая грядки от глушащей все на свете буйной травы. Гед, выйдя из загона для коз, тоже принялся за прополку, двигаясь ей навстречу. Некоторое время он работал споро, потом вдруг сел на землю и мрачно уставился на свои руки.
— Дай им сперва зажить как следует, — мягко сказала Тенар.
Он кивнул.
Высокие побеги фасоли цвели, распространяя сладкий аромат. Гед сидел, сложив худые руки на коленях, и смотрел, как сплетаются цветущие растения с теми, на которых уже висят молодые стручки. Трава была вся просвечена солнцем. Не прерывая работы, Тенар сказала вдруг:
— Перед самой смертью Айхал сказал: «Все переменилось…», и, хотя я по-прежнему горько оплакиваю его, что-то не дает моему горю стать слишком сильным. Словно должно родиться что-то прекрасное, словно что-то прекрасное обрело наконец свободу… И еще, во сне и потом, едва проснувшись, я уже знала: что-то тогда действительно изменилось в мире.
— Да, — сказал он. — С одним злом покончено. А еще… — Он заговорил снова только после длительного молчания. На нее он не смотрел, но впервые голос его звучал так, как помнилось ей — он говорил тихо, спокойно, с легким суховатым гонтским акцентом. — Помнишь, Тенар, как мы впервые приплыли в Хавнор?
«Разве могу я забыть?» — откликнулось ее сердце, но она промолчала, опасаясь, что звуками речи спугнет Геда.
— Мы вошли на «Зоркой» в гавань, причалили, поднялись по ступеням из мрамора… И кругом толпился народ… а ты подняла вверх руку, чтобы все видели Кольцо…
— Да, как подняла, так и забыла опустить: меня ужасно испугали все эти бесчисленные лица, голоса, множество цветов, башен, флагов, сверкание золота и серебра, громкая музыка — а ты был единственным, кого я знала… в целом мире единственным, и это ты вел меня по улицам Хавнора…
— Сквозь толпу королевские слуги провели нас к башне Эррет-Акбе. И вдвоем с тобой мы поднялись по высокой лестнице, помнишь?
Она кивнула. И оперлась ладонями о рыхлую землю, которую полола, ощущая ее зернистую прохладную поверхность.
— Я с трудом открыл тяжелую дверь — она сперва плохо подавалась. И мы вошли. Ты помнишь?
Он спрашивал и спрашивал, словно желая получить подтверждение каждому своему слову: это действительно случилось, я правильно рассказываю?
— Мы вошли в огромный высокий зал, — сказала она. — Он был похож на мой Тронный Храм, где я когда-то была поглощена силами Тьмы. Но только потому, что был очень высоким. И свет туда проникал из-под самой крыши. Солнечные лучи, подобно лезвиям мечей, пересекали пространство…
— А трон? — спросил он.
— Трон? Да, конечно! Весь золотой и алый. Но тоже пустой. Как и тот, в моем Храме на острове Атуан.
— Теперь трон уже не пустует, — сказал он. И посмотрел на нее поверх зеленых стрелок лука. Лицо его оставалось, однако, напряженным, задумчивым, словно, говоря о радостном событии, сам он радости не испытывал: не мог. — Теперь в Хавноре есть настоящий король, — сказал он. — То, что было предсказано, осуществилось. Утраченная Руна стала целой, и мир тоже обрел целостность. Он… — Гед умолк и уставился в землю, стиснув руки, — он вынес меня из царства смерти назад, к жизни. Аррен с Энлада. Лебаннен, которого непременно еще воспоют потомки. Он теперь носит свое Подлинное Имя, Лебаннен, и это он Король Земноморья.
— Так, значит, — спросила она, опускаясь на колени и пытливо заглядывая ему в лицо, — это он принес в наш мир радость — словно люди вышли из тьмы на свет?
Гед не ответил.
«Значит, теперь в Хавноре есть Король», — подумала она и громко сказала:
— Настоящий Король в Хавноре!
Память об этом дивном городе хранилась в ее душе — она словно видела его сейчас: широкие улицы, мраморные башни, черепичные крыши, корабли с белыми парусами в гавани, поразительной красоты тронный зал, где солнечные лучи, падающие из окон, подобны лезвиям мечей; она помнила то ощущение благополучия, достоинства, гармонии и порядка, которое вызывал этот город. И сейчас ей казалось, что из этого светлого центра гармонии и порядка, словно круги по воде, расходятся во все стороны лучи мира.
— Как хорошо, что ты это сделал, друг мой дорогой! — сказала она.
Гед легким нетерпеливым жестом попытался остановить ее и вдруг отвернулся, прикрыв ладонью лицо. Ей невыносимо было видеть его слезы. Она склонилась над грядкой, выдернула один сорняк, второй, а третий оборвался у самого корня. Она рукой разгребла землю, пытаясь извлечь упрямый корень.
— Гоха, — голосок Терру, слабый, словно надтреснутый, донесся от ворот загона, и Тенар оглянулась. Девочка обоими своими глазами — зрячим и слепым — смотрела прямо на нее. Тенар подумала: может быть, я должна сказать ей, что в Хавноре теперь есть настоящий Король? Она выпрямилась и пошла к воротам загона, чтобы Терру зря не утруждала свое сожженное огнем горло. Когда девочка без сознания лежала близ горевших поленьев, то как бы вдохнула огонь. «Голос ее сгорел», — пояснил колдун Бук.
— Я все время смотрела за Сиппи, — прошептала Терру, — но она все равно удрала. И я никак не могу отыскать ее.
Это была, пожалуй, самая длинная фраза, когда-либо произнесенная ею. Девочка вся дрожала — она слишком долго бегала в поисках козы и теперь что было сил сдерживала слезы. «Ну вот, сейчас мы все тут плакать начнем, — подумала Тенар, — нет уж, глупости!»
— Ястреб! — окликнула она волшебника. — У нас тут коза сбежала.
Он сразу же распрямился и быстро подошел к ним.
— А в летнем загоне смотрели? — спросил он, глядя на Терру так, словно не замечал ни ее ужасных шрамов, ни ее самое — девочку, которая ищет сбежавшую козу. Такое ощущение, что на месте Терру он видел эту самую козу. — А в деревенском стаде?
Терру со всех ног бросилась к летнему загону.
— Она что, дочка твоя? — обернулся он к Тенар. До этого он ни разу ни слова не спросил о девочке, и Тенар даже стала думать, что мужчины все-таки очень странные существа.
— Нет, не дочка и не внучка. Она
мое дитя, — сказала она. Зачем же она снова поддразнивает его, подшучивает над ним?
Он быстро отошел в сторону, и Сиппи, коза с бело-коричневой шерстью, ринулась мимо него в ворота; ее по пятам преследовала Терру.
— Стой! — крикнул вдруг Гед и одним прыжком преградил козе путь, направляя ее точнехонько в руки Тенар. Та ухватила Сиппи за пышный воротник из шерсти, и коза сразу замерла как вкопанная, поглядывая одним своим желтым глазом на Тенар, а другим — на грядки с молодым луком.
— А ну пошла! — крикнула Тенар, выпроваживая ее за ворота загона на каменистое пастбище, где вредной козе, собственно, и полагалось находиться.
Гед уселся на землю там, где стоял; он, казалось, запыхался не меньше Терру, во всяком случае, хватал ртом воздух и явно чувствовал себя неважно, однако слез видно не было. Поверь козе, если хочешь все испортить.
— Вереск не должна была оставлять Сиппи на тебя, — сказала Тенар. — За этой дрянью никто углядеть не может. Если Сиппи снова сбежит, ты просто сразу скажи кому-нибудь и не волнуйся. Хорошо?
Терру кивнула. Она смотрела на Геда. Она редко смотрела на людей и еще реже — на мужчин, разве что мельком. А на него она смотрела и смотрела, не отрываясь, наклонив голову, нахохлившись, словно воробышек. Господи, что же это?
Глава 6
Ухудшение
Со дня летнего Солнцеворота прошло уже больше месяца, но вечера еще были долгими, особенно на обращенном к западу Большом Утесе. Однажды Терру вернулась домой очень поздно; они с тетушкой Мох весь день бродили по горам в поисках целебных трав, и девочка настолько устала, что даже есть не могла. Тенар уложила ее в постель и села рядом, напевая песенку. Переутомившись, Терру как-то странно скрючивалась в кровати, словно парализованный зверек, и не мигая смотрела в пространство, пока у нее не начинались галлюцинации или кошмары; она и не спала, и не бодрствовала, но становилась как бы невменяемой. Тенар, правда, обнаружила, что таких приступов можно избежать, если сразу сесть рядом с девочкой, обнять ее и напевать что-нибудь негромко. Когда иссякал запас тех песен, которые Тенар выучила, будучи женой фермера Флинта из Срединной Долины, она принималась за нескончаемые каргадские гимны, оставшиеся в ее памяти со времен Гробниц Атуана, так что Терру засыпала под монотонные жалобные мольбы, обращенные к Безымянным и тому Незанятому Трону, что теперь, после землетрясения, был весь завален пылью и камнями. Она более не ощущала в этих ритуальных песнопениях никакой магической силы, лишь сама мелодия завораживала ее, да еще приятно было петь на родном языке; она, к сожалению, не знала тех песен, какие каргадские матери поют своим детям, какие пела и ей когда-то ее мать.
В конце концов Терру крепко заснула. Тенар осторожно разжала ее стиснутые пальцы, уложила девочку на подушку и еще минутку подождала, пока окончательно не убедилась, что малышка спит. Потом, быстро оглядевшись, с какой-то, пожалуй, виноватой торопливостью и одновременно с торжествующей радостью, словно предвкушая огромное удовольствие, приложила свою узкую светлокожую ладонь к той щеке Терру, что была сожрана огнем и покрыта безобразными шрамами. Уродство сразу исчезало. Плоть как бы вновь становилась невредимой, щека — округлой и мягкой; теперь это было самое обычное лицо милого спокойного ребенка, словно ее прикосновение каждый раз восстанавливало истину.
Неохотно отняла она свою легкую ладонь от щеки девочки, и тут же снова взору ее явилась рана, которая не заживет никогда.
Тенар наклонилась, поцеловала эти страшные рубцы и тихонько вышла из дома.
Солнце садилось в раскинувшуюся на западе жемчужную дымку. Возле дома никого не было. Ястреб, наверное, все еще бродил по лесу. Он давно уже начал один ходить на могилу Огиона, проводя там долгие часы под сенью могучего бука, а еще немного окрепнув, стал бродить по тем заповедным лесным тропам, которые так любил Огион. Он явно был равнодушен к еде, мало того, Тенар приходилось упрашивать его съесть хоть что-нибудь, и он по-прежнему сторонился людей, всему на свете предпочитая одиночество. Терру с радостью пошла бы за Гедом куда угодно; будучи
чрезвычайно молчаливой, она не раздражала его, однако скоро уставала, и Гед отсылал девочку домой, уже в одиночестве забираясь все дальше и дальше, в такие края, о которых Тенар даже не слышала. Он возвращался домой к ночи, сразу ложился спать и зачастую снова исчезал еще до того, как Тенар и Терру успевали проснуться. Так что Тенар обычно оставляла ему на столе хлеб и мясо еще с вечера, чтобы он взял еду с собой.
Вдруг она увидела, как Гед идет к дому через луг по той тропе, которая казалась ужасно длинной, когда она в последний раз вела по ней Огиона. Гед, пересекая полосы закатного света, раздвигая колышущиеся под ветром травы, размеренной походкой приближался к ней, упрямо замкнувшись в своем несчастье, словно в оболочке из камня.
— Ты возле дома будешь? — окликнула она его с порога. — Просто Терру уже спит, а мне хочется немного пройтись.
— Да-да, конечно, иди, — сказал он.
На ходу она горько думала, сколь равнодушны мужчины к тем заботам, что правят жизнью любой женщины: к тому, например, что кто-то непременно должен быть неподалеку, если ребенок спит, что чья-то свобода непременно оборачивается чьей-то несвободой — ведь даже при ходьбе, чтобы сохранить равновесие, приходится опираться на одну ногу, пока второй делаешь шаг вперед… Однако мрачные мысли постепенно развеялись зрелищем гаснущего яркого заката и мягким, но довольно настойчивым ветерком. Теперь она просто шла и ни о чем не думала, пока не вышла на самый край обрыва над морем. Прямо перед нею в прозрачной розовой дымке тонуло солнце.
Тенар опустилась на колени и сперва взглядом, а потом на ощупь отыскала длинную неровную борозду в песчанике, ведущую прямо к краю утеса: след от шипастого хвоста Калессина. Она снова и снова проводила пальцами по его краю и словно плыла в потоках сумеречного света, мечтая о чем-то. Неожиданно губы ее сами произнесли вслух какое-то слово. На этот раз оно не жгло огнем, а медленно, с шипением выползало наружу: «Калес-с-с-с-син…»
Она посмотрела на восток. Склоны горы Гонт, покрытые лесом, были красны от заходящего солнца. Свет понемногу меркнул. Тенар опустила глаза, а когда снова, всего через несколько мгновений, посмотрела на гору, то склоны ее казались уже серыми, неясными, а лесистые участки были совсем черны.
Она дождалась первой звезды, вспыхнувшей над светлой дымкой заката, и медленно пошла домой.
Домой? Разве это ее дом? Почему она до сих пор здесь, в доме Огиона, а не в своем собственном? Почему она ухаживает за Огионовыми козами, за его луковыми грядками, а не за собственным стадом и садом? «Подожди», — сказал он ей тогда, она и ждала; и прилетел дракон; и теперь Гед уже почти здоров… Она свое дело сделала. До сих пор все хозяйство здесь было на ней. Но теперь она больше не нужна. И пора ей уходить отсюда.
Однако она никак не могла решиться оставить Большой Утес, это Гнездо Ястреба, и снова вернуться в долину, где жизнь на ферме куда легче, где нет таких ветров. Стоило ей подумать об этом, как сердце сразу холодело и душу заполнял мрак. А как же тот сон, что видела она здесь, под окном, выходящим на запад? И был ли дракон, прилетевший тогда именно к ней, к Тенар?
Дверь, как всегда, была распахнута настежь. Свежий вечерний воздух свободно вливался в дом. Ястреб сидел, не зажигая огня, на низенькой скамеечке у спящего очага. Это было его излюбленное место. Наверное, подумала Тенар, он и в детстве всегда сидел здесь. И сама она тоже придвигала эту скамеечку поближе к огню в ту зиму, когда жила у Огиона.
Он коротко глянул на нее, однако тут же снова уставился куда-то правее открытой двери, в темный угол. Там стоял тяжелый дубовый посох Огиона с отполированным временем набалдашником. Рядом Терру пристроила свой ореховый посошок и ольховую палку Тенар, сломанные по дороге в Ре Альби.
Тенар вдруг подумала: а где же его собственный посох, подарок Огиона? И почему я не вспомнила о нем до сих пор?
В доме было совсем темно и все-таки душновато. На сердце давила странная тяжесть. Ей так хотелось, чтобы он как-нибудь остался дома и поговорил с ней обо всем, но теперь, когда он сидел в темноте у камина, она не находила нужных слов, как, наверное, и он.
— Я тут подумала, — сказала она наконец, поправляя тарелки на дубовом столе, — и решила: пора мне собираться назад, на ферму.
Он ничего не ответил. Может быть, кивнул, но она не видела — сразу повернулась к нему спиной.
Она вдруг почувствовала страшную усталость, ей хотелось спать; но он все сидел и сидел у камина, а темно было еще недостаточно, и не могла же она раздеваться прямо у него на глазах. Она даже рассердилась. И уже хотела попросить его выйти на минутку, когда он вдруг заговорил, сперва нерешительно покашляв:
— А книги? Книги Огиона? Книга Рун и еще две. Их ты заберешь с собой?
— Я?
— Ты же была его последней ученицей.
Она подошла и тоже присела у очага на трехногую табуретку Огиона.
— Я немного училась руническому письму, но почти все уже позабыла, конечно. Огион учил меня и Языку Созидания, на котором говорят драконы. Кое-какие слова я помню. Но мало. Я не пошла по его стопам, не стала волшебницей. Я просто вышла замуж, ты ведь знаешь. Разве оставил бы Огион свои мудрые Книги какой-то фермерше?
Помолчав, Гед сказал равнодушно:
— Кому же в таком случае он их оставил?
— Тебе, разумеется.
Он не ответил.
— Ты был его настоящим учеником, его гордостью, его другом. Он никогда об этом не говорил, но книги эти, конечно же, оставлены для тебя.
— Что же мне с ними делать?
Она уставилась на него в сгущающихся сумерках. На другом конце комнаты в окошке слабо светилось закатное небо. Горечь, тревога, необъяснимая ярость, звучавшие в голосе Геда, рассердили ее.
— Ты, Верховный Маг, спрашиваешь об этом меня? Зачем тебе делать из меня дуру, Гед?
Он вдруг вскочил. Голос его дрожал, словно натянутая струна.
— Но неужели ты… не видишь… что все кончено… ушло навсегда!
Тенар сидела и напряженно пыталась разглядеть во тьме его лицо.
— У меня нет больше никакой волшебной силы! Я отдал ее… истратил… всю, что была у меня. Чтобы закрыть… Так что… Так что с магией покончено, покончено.
Она попыталась возразить, но не смогла.
— Это как вылить воду из чашки, — сказал он, — выплеснуть ее в песок. На пересохшую землю. Я вынужден был это сделать. Мне нечем теперь напиться. Впрочем, что значит одна-единственная чашка воды в бескрайней пустыне? Разве сама пустыня исчезла?.. Послушай! Так когда-то звал меня некий голос оттуда, из-за стены: иди сюда, слушай, слушай! И я пошел в эту мертвую пустыню — совсем еще молодым. И встретил там Ее, и сам стал Ею, вступил в брак с собственной Смертью. Но это она дала мне жизнь. Воду, животворную воду. Я стал фонтаном живой воды, ручьем, быстрой рекой… Но
там все ручьи пересыхают. И все, что у меня под конец осталось, — это одна-единственная чашка воды, и я непременно должен был вылить ее в песок, на дно пересохшей реки, на скалы, окутанные мглой. И живая вода ушла. И теперь все кончено. Дело сделано.
Она достаточно много знала от Огиона и от самого Геда, чтобы сразу понять, о какой пустынной стране идет речь, и, хотя кому-то его слова могли показаться набором невнятных метафор, загадочными символами, скрывающими суть, ей было ясно, что это-то и есть правда, истина, которую он познал там. Она понимала также, что должна непременно возражать ему, опровергать все, что бы он ни сказал, даже если его слова — непреложная истина.
— Ты просто не успел еще прийти в себя, — сказала Тенар. — Возвращение от смерти к жизни — должно быть, слишком долгое путешествие. И трудное, даже если обратно прилететь на спине дракона. Чтобы вернуться окончательно, нужно время. Время, покой, молчание. Тебе нанесли тяжелую рану. Но ты поправишься.
Он продолжал молча стоять. Она подумала уже, что ей удалось немного его успокоить. Но тут он вдруг спросил:
— Как поправилась эта девочка?
Словно острое лезвие ножа вошло в ее тело, острое настолько, что она даже не успела заметить самого удара.
— Не знаю, — сказал он уже знакомым ей, тихим, каким-то иссушенным голосом, — почему ты взяла ее к себе, понимая, что она неизлечима. Понимая, какова будет ее жизнь, изменить которую уже невозможно. Наверное, та часть жизни, которую мы только что прожили, — тьма, разруха, конец всему — затронула и ее. По-моему, ты взяла девочку по той же причине, что и я сам пошел навстречу своему смертельному врагу, потому что иначе ты поступить не могла. А теперь мы должны как-то жить дальше, вступать в новые времена искалеченными в боях со злом, хотя и одержав над ним победу, — ты со своей опаленной огнем девочкой, а я с опустошенной душой.
На пределе отчаяния чаще всего говорят именно так — ровным спокойным голосом.
Тенар обернулась и посмотрела на волшебный посох Огиона, стоявший в темном углу справа от двери: никакого света от него не исходило. Он казался абсолютно черным. В дверном проеме виднелись две звезды. Одна из них, которой она и раньше часто любовалась по вечерам, светилась белым светом и была видна на небе в летние месяцы. На Атуане ее называли Техану.
Вторая звезда, сиявшая рядом с Техану, была ей неизвестна. Не знала она и того, как называют звезду Техану на Гонте, не знала и ее Истинного Имени — того, которым называют ее драконы. Она знала лишь то название, которое слышала от матери, — Техану. Техану. Тенар, Тенар…
— Гед, — сказала она, по-прежнему глядя в дверной проем, — кто тебя воспитывал в детстве?
Он подошел, встал с ней рядом и тоже стал глядеть в подернутую дымкой морскую даль, на звезды, на темную громаду горы.
— Да никто особенно не воспитывал, — ответил он. — Мать моя умерла, когда я совсем маленьким был. Были еще старшие братья, да только я их совсем не помню. А в общем, присматривали за мной отец мой, кузнец, и тетка, материна сестра. Тетка была у нас в деревне Десять Ольховин ведьмой.
Как тетушка Мох, — сказала Тенар.
— Тетка моя была тогда помоложе. И от рождения имела волшебную силу.
— Как же ее звали?
Он помолчал.
— Не могу вспомнить, — медленно проговорил он.
Потом помолчал еще немного и сказал:
— Она учила меня Истинным Именам сокола, орла, скопы, тетеревятника, перепелятника…
— А как у вас называется вон та звезда? Белая?
— Сердце Лебедя, — сказал он, глядя в небо. — А в Десяти Ольховинах ее называли еще Стрелой.
Однако он так и не назвал Подлинного Имени звезды, как не назвал и тех Имен, которым учила его тетка-ведьма, — Подлинных Имен сокола, ястреба-перепелятника, скопы…
— То, что я говорил… там, у камина… это все неверно, — мягко сказал он. — Мне вообще не следовало ничего говорить. Ты прости меня.
— Если ты вообще ничего говорить не будешь, то мне-то как быть? Останется только уйти отсюда. — Она повернулась к нему. — Почему ты всегда думаешь только о себе? Только о себе! Выйди на минутку, пожалуйста, — совсем рассердилась она. — Я хочу раздеться и лечь.
Растерянный, бормоча какие-то извинения, он вышел на улицу; а она, раздеваясь на ходу, сразу нырнула в постель и спрятала лицо у шелковистого плеча Терру.
Понимая, какова будет ее жизнь…
Ее гнев, ее упрямое отрицание очевидного, ее нежелание согласиться со справедливыми доводами Геда — все это было результатом испытанного ею разочарования. Несмотря на то, что Ларк по крайней мере раз десять предупреждала ее, что ничего уже не поделаешь, даже и Ларк в глубине души все-таки надеялась, что Тенар сумеет вылечить эти страшные ожоги, несмотря на то, что и сама Тенар всегда говорила, что такое даже Огиону не под силу, она все-таки надеялась: Терру сможет вылечить Гед. Просто положит руку на ужасные шрамы, и все тут же пройдет, кожа станет гладкой, в слепом глазу засверкает жизнь, скрюченная, сожженная рука оживет, а искалеченная, поруганная жизнь как бы начнется с самого начала.
Понимая, какова будет ее жизнь…
Отвращение, плевки через левое плечо, ужас, смешанный с любопытством, тошнотворная жалость и откровенные угрозы, ибо, как известно, беда притягивает беду… И никогда — мужской ласки. Никогда ни один мужчина не обнимет ее. Никогда и никто, только одна Тенар. Ах, конечно же, Гед прав, девочке тогда лучше было бы умереть. Им нужно было тогда отпустить ее душу на волю и не совать нос куда не следует — и ей самой, и Ларк, и Айви, старым теткам, чья сентиментальная доброта обернулась жестокостью. Он прав, он всегда прав. Но тогда, значит, те мужчины, что «позабавились» с Терру, и та женщина, что заставляла девочку страдать и в итоге отдала мужчинам для забавы, действовали правильно, когда, избив малышку до полусмерти, бросили ее прямо в костер? Да, видно, зло не совсем еще пожрало их души. Не выдержали, оставили в ребенке искорку жизни. И, конечно же, оказались не правы. И она, Тенар, тоже всегда и во всем была не права. Ребенком ее отдали силам Тьмы: она была ими поглощена, ее заставили служить им. Неужели она рассчитывала, уплыв за моря, выучив чужой язык и став женой и матерью — всего лишь начав жить своей собственной жизнью, — стать кем-то иным? Перестать быть Их служанкой, Их пищей, Их вещью, Их забавой? Сама покалеченная жизнью, она притягивала к себе таких же увечных, они как бы становились частью ее собственного горя, ее собственной беды — плоть от плоти заключенного в ней зла.
У Терру были прелестные, теплые, сладко пахнущие волосы. Она лежала, свернувшись клубочком в объятиях Тенар, и спала. Какое зло может принести эта девочка? Да, ее жизнь погублена и поправить уже ничего нельзя, однако душа ее не сломлена до конца. Терру еще не потеряна для жизни, нет-нет! Прижимая девочку к себе, Тенар лежала неподвижно, надеясь, что ей приснится тот светлый сон — струи прозрачного воздуха, звук имени дракона и той звезды — Сердце Лебедя, Стрела, Техану.
Частым гребнем из толстой проволоки она чесала шерсть у черной козы, вычесывая мягкий подшерсток, — собиралась прясть. Ей хотелось попросить ткача соткать ту замечательную, теплую и мягкую материю, которой издавна славится Гонт. Старую черную козу чесали уже по крайней мере тысячу раз, ей это было приятно, и она с удовольствием подставляла Тенар то один бок, то другой. Серо-черные пучки шерсти образовали уже целое облако, мягкое и грязноватое, которое Тенар в конце концов запихала в плетеную сумку; напоследок она заботливо вытащила из длинных козьих ушей несколько засевших там колючек, ласково шлепнула черную козу по шерстистому боку и отпустила. «Ба-а!» — сказала коза и трусцой побежала прочь. Тенар вышла из загона и, обойдя дом, поднялась на крыльцо, откуда можно было увидеть, играет ли еще на лугу Терру.
Тетушка Мох научила девочку плести корзинки из травы, и, несмотря на то что управляться изуродованной рукой Терру было неловко, она уже начала входить во вкус. Сейчас она сидела посреди луга, положив на колени начатую корзинку, но как бы забыла о ней: наблюдала за Ястребом.
Он стоял довольно далеко от девочки, ближе к краю утеса, к ней спиной и не замечал, что кто-то на него смотрит: сам был поглощен наблюдением за птицей, молодой пустельгой. Пустельга же, в свою очередь, была поглощена охотой. Зависнув над самой травой и хлопая крыльями, она рассчитывала вспугнуть полевую мышь. Наблюдавший за хищницей Гед был напряжен и казался голодным, как и сама птица. Потом он медленно поднял свою правую руку, примерно до уровня плеча и вроде бы что-то сказал, хотя слышно не было: ветер отнес его слова в сторону. Пустельга резко метнулась, пронзительно крикнула и взмыла в небо, а потом скрылась в лесу на склоне горы.
Гед уронил руку да так и застыл, глядя вслед улетевшей птице. Девочка и женщина тоже застыли. И только птица осталась свободной.
«Однажды он явился ко мне в обличье сокола-сапсана, — рассказывал ей как-то зимним днем у камина Огион. В тот день они как раз говорили о Великих заклятиях и о маге Борджере, который стал медведем. — Он примчался с северо-запада и сразу сел ко мне на запястье. Я внес его в дом и посадил вот здесь, у огня. Говорить он не мог. Поскольку я узнал его, то смог и помочь ему сбросить обличье сокола и снова стать человеком. В нем ведь всегда было что-то ястребиное. У них в деревне его с малых лет прозвали Ястребком, потому что стоило ему слово произнести, как соколы и коршуны слетались к нему со всей округи. Кто мы вообще такие? Что значит быть человеком? Задолго до того, как Гед получил свое Подлинное Имя и какие-то магические знания, настоящий ястреб уже сосуществовал в нем с человеком и Великим Магом, больше того — он уже был тем, кем является теперь и кого мы даже назвать не в силах. И с каждым так».
И девушка, глядя в огонь и слушая Огиона, видела того ястреба, того человека, к которому сами подлетают вольные птицы, стоит ему произнести лишь слово, — подлетают, хлопая крыльями, садятся ему на руку, сжимая запястье человека страшными когтями… видела и себя в обличье ястреба, дикой и вольной птицы.
Глава 7
Мыши
Таунсенд, торговец овцами, тот самый, что принес ей тогда весточку от Огиона, однажды в полдень подошел к дому старого Мага.
— Овец продавать будешь? Ведь Лорд Огион умер.
— Возможно, и буду, — спокойно ответила Тенар. Она, кстати сказать, была весьма озабочена тем, как им прожить, если они с девочкой останутся в Ре Альби. Как и все волшебники на Гонте, Огион получал все необходимое для жизни от жителей деревни, которым верой и правдой служил с помощью своего мастерства. Ему достаточно было спросить, и все с благодарностью ему доставлялось, ибо сделка с искусным волшебником всегда выгодна; впрочем, ему и просить-то никогда ничего не приходилось. Он скорее отдавал обратно все, что считал лишним из еды, одежды и всего прочего, что ему дарили или просто оставляли у порога. «Что же мне со всем этим делать?» — частенько удивлялся он, стоя над лукошком, полным глупых пищащих цыплят, или над целой грудой тканей, или над горшками с маринованной свеклой.
Ну а Тенар давно уже покинула свою ферму в Срединной Долине, даже не подумав тогда, сколь долго задержится в доме Огиона. Она не взяла с собой даже денег — пластинки из слоновой кости, оставшиеся в наследство от Флинта. Впрочем, такие деньги в деревне были практически бесполезны: с их помощью в лучшем случае можно было бы купить землю или дом или заключить сделку на партию товара с торговцем из Порта Гонт — из тех, что продают мех пеллави или шелка Лорбанери гонтийским богатым фермерам и мелким князькам. Ферма Флинта вполне могла обеспечить их с Терру всем необходимым — едой и одеждой; однако шесть коз Огиона и его огород — несколько грядок с фасолью и луком — служили скорее для удовольствия, чем для удовлетворения насущных потребностей. До последнего времени она жила благодаря старым запасам в кладовой волшебника, кое-что в память об Огионе ей дарили жители деревни, да тетушка Мох проявляла постоянную заботу и щедрость. Не далее как вчера ведьма, например, заявила: «Милая, а наседка-то моя, та, что с ожерельем вокруг шейки, цыпляток вывела, так я тебе двух-трех принесу, как только окрепнут. Огион-то всегда цыпляток держал, мелюзга бестолковая, так он говорил, да только что за дом без цыпляток?»
У самой тетушки Мох куры свободно ходили по всему дому, спали прямо на кровати и немало способствовали поддержанию той постоянной вони, которой отличалась ее избушка.
— Есть у меня одна годовалая козочка, бело-коричневая такая; отличная молочная коза будет, — сказала Тенар Таунсенду.
— Я вообще-то намеревался, ежели покупать, так всех сразу, — ответил он. — Если ты согласишься, конечно. Их ведь и всего-то штук пять или шесть, верно?
— Шесть. Они сейчас на верхнем пастбище; можешь посмотреть, если хочешь.
— Непременно посмотрю. — Однако даже шага не сделал. Впрочем, Тенар тоже никакой радости по поводу возможной сделки не выразила. — Видела, как в гавань большой корабль входил? — вдруг спросил Таунсенд.
Из дома Огиона можно было видеть только скалы на северо-западном берегу залива и Сторожевые Утесы; зато из самой деревни Ре Альби хорошо была видна и извилистая крутая дорога в порт, и вся гавань с доками и причалами. Наблюдать за происходящим в гавани было основным развлечением деревенских жителей. На просторной скамье за кузней всегда сидело несколько стариков — отсюда гавань была видна лучше всего; зачастую старики эти ни разу в жизни не спускались в сам Порт Гонт, однако наблюдали за причаливающими и отплывающими судами с огромным интересом — словно представление смотрели, пусть довольно странное и давно знакомое, но как бы специально предназначенное для того, чтобы развлечь их.
— Сын кузнеца говорил: из Хавнора корабль-то. Он вчера в порт ходил, насчет слитков рядился. А к ночи вернулся и рассказал, что тот большой корабль приплыл из самой столицы Земноморья, — продолжал между тем Таунсенд.
Он, вполне вероятно, заговорил об этом, только чтобы отвлечь ее от мыслей о том, сколько можно запросить за коз Огиона. Хитроватые глаза его так и бегали — впрочем, может быть, так уж они у него были устроены. Однако столица Земноморья крайне мало торговала с Гонтом, островом бедным и далеким, известным лишь благодаря своим волшебникам, пиратам да козьей шерсти. И что-то еще в словах Таунсенда насчет «большого корабля» встревожило Тенар. Она и сама не знала, что именно.
— Парень тот говорит, будто, по слухам, в Хавноре теперь есть настоящий король, — сказал торговец, искоса на нее взглянув.
— Вот это было бы очень хорошо! — откликнулась она.
Таунсенд согласно кивнул:
— Теперь-то уж каргадские налетчики будут подальше держаться.
Тенар, хоть и была родом с Каргадских островов, охотно покивала.
— Но только в порту кое-кто будет не больно-то доволен. — Таунсенд имел в виду гонтийских пиратов, чьи суда держали в страхе почти все северо-восточные моря, из-за чего в последнее время многие старинные торговые связи Гонта с центральными островами Архипелага оказались либо прерваны, либо сильно ослаблены. От этого не было выгоды никому, кроме самих пиратов, тем не менее в глазах большей части гонтийцев они выглядели настоящими героями. Кроме того, и собственный сын Тенар тоже стал матросом пиратского корабля. Что было, пожалуй, даже безопаснее, чем служба на обычном торговом судне. Ведь недаром говорится, что лучше быть акулой, чем селедкой.
— Ну, недовольные-то всегда найдутся, — ответила Тенар, привычно следуя правилам беседы, однако уже начиная терять терпение, и заявила, вставая: — Ладно, покажу тебе коз. Сам гляди. Не знаю, правда, станем ли мы кого из них продавать. — Она проводила торговца к загону на верхнем пастбище и ушла. Таунсенд был ей неприятен. Не его вина, конечно, что однажды именно он принес ей плохие вести — впрочем, кажется, уже и не однажды. А все-таки глаза у него удивительно противно бегают! Не продаст она ему Огионовых коз! Даже вредную Сиппи не продаст.
Так ни о чем с ней и не договорившись, Таунсенд наконец ушел, и она вдруг ощутила смутную тревогу. Она ведь сказала: «Не знаю, станем ли мы кого из них продавать», что было весьма глупо. Она сказала «мы», а не «я», хотя Таунсенд даже не спрашивал разрешения поговорить с Ястребом, даже не вспомнил о нем, хотя торговец, заключающий сделку с женщиной, прямо-таки обязан обратиться к кому-либо из живущих в доме мужчин, особенно если женщина ему отказывает. Она не знала, как в деревне сейчас относятся к Ястребу, к его внезапным появлениям и исчезновениям. Огион, замкнутый и молчаливый, внушавший им уважение и даже в какой-то степени страх, долгое время был здесь единственным магом. Жители Ре Альби, возможно, даже гордились Ястребом — точнее, его званием Верховного Мага Земноморья. Они знали, что он когда-то недолго прожил здесь, а потом уплыл в чужие края и совершил немало всяких чудес. Например, обманул дракона, будучи волшебником на Девяноста Островах; привез обратно в Хавнор Кольцо Эррет-Акбе и так далее. Однако его самого, человека и волшебника, они не знали, да и он их не знал. Он так ни разу и не сходил в деревню с тех пор, как снова объявился здесь, — его манили леса, дикие горы. Раньше она как-то об этом не задумывалась, однако было совершенно очевидно, что Гед сторонится деревни, как и маленькая Терру.
Должно быть, сплетни о нем ходили. Ре Альби — самая обыкновенная деревня, и люди в ней, конечно, болтают всякое. Однако особенно болтать о волшебниках и магах как-то не принято. Слишком это серьезный предмет, да и кто ведает, каковы жизненные пути могущественных чародеев? У них ведь жизнь совсем иная, чем у простых смертных. «Да пусть его, — однажды услышала Тенар обрывок разговора крестьян из Срединной Долины не то насчет заезжего волшебника, не то насчет заклинателя погоды, не то по поводу действий их собственного колдуна Бука. — Не твое это дело. Вот и оставь его в покое. Они ведь живут по-своему, не так, как мы».
Что же касается того, что она по-прежнему живет здесь и ухаживает за могущественным волшебником, как нянька, то и это для них не являлось предметом обсуждения. «Да пусть ее», — снова сказали бы они. Она и сама-то не слишком часто появлялась в деревне; там по отношению к ней не выказывали ни особого дружелюбия, ни особой неприязни. Когда-то она даже жила в Ре Альби в домике старого ткача Фана; к тому же она считалась приемной дочерью Огиона, который перед смертью послал именно за ней торговца Таунсенда; так что в деревне к ней относились вполне нормально. Но когда она явилась сюда с девчонкой, на которую и смотреть-то было страшно, все сразу перестали появляться рядом с домом Огиона даже днем и даже ненароком. Да и то: разве ж с обычной женщиной такое может случиться? Сперва у одного волшебника учится, потом другого на ноги поднимает… Нет, тут уж точно без колдовства не обошлось! Да она еще и чужестранка к тому же. С другой стороны, Гоха считалась женой богатого фермера из Срединной Долины, хотя теперь-то фермер умер, а она стала вдовой. Да разве ж поймешь их, ведьм этих? Пусть ее живет, лучше таких не трогать…
Она столкнулась с бывшим Верховным Магом Земноморья у садовой ограды и сообщила ему:
— Говорят, в порт прибыл корабль из Хавнора.
Он застыл как вкопанный. Дернулся было, но тут же взял себя в руки и попытался скрыть, что первым его желанием было немедленно убежать, скрыться, спрятаться, зарыться в траву — как мышь от коршуна.
— Гед, — спросила она, — в чем дело? Я ничего не понимаю.
— Я не могу… — проговорил он. — Не могу встречаться с ними.
— С кем?
— С людьми, которых прислал он. Король.
Смуглое лицо его приобрело пепельный оттенок, как в тот день, когда дракон Калессин принес его сюда; он все время затравленно озирался, словно искал убежища.
Его ужас был настолько неподдельным и сам он казался таким беззащитным, что она не могла поступить иначе: нужно было пощадить его.
— Тебе и не нужно с ними встречаться. А если кто-нибудь сюда и заглянет, так я сразу прогоню. Пойдем-ка лучше в дом. У тебя ведь целый день крошки во рту не было.
— Сюда приходил кто-то? — спросил он.
— Это Таунсенд. Все к козам нашим приценивается. Ну уж от него-то я отделалась! Не стой, пойдем скорее!
Он поспешно пошел за ней следом, и она сразу заперла дверь изнутри.
— Не беспокойся, Гед, не могут они тебе ничего плохого сделать.
Он уселся за стол и тупо покачал головой:
— Им это не нужно, нет.
— А им известно, что ты здесь?
— Не знаю.
— Чего ж ты тогда боишься? — Она спрашивала спокойно и твердо, не проявляя ни малейшего нетерпения.
Он закрыл лицо руками, потом, глядя в пол, потер виски и лоб, словно вспоминая о чем-то.
— Я был… — начал он, — я не…
И умолк.
Она сама прекратила этот мучительный разговор:
— Ну ладно, неважно, хорошо, хорошо.
Она не решалась даже прикоснуться к нему, боясь, что испортит все, унизив его своей жалостью. И из-за этого сердилась на него и на всех тех, кто нанес ему такую тяжкую душевную рану.
— Никого не касается, — сердито говорила Тенар, — где ты теперь живешь и как, что ты намерен делать и чего не намерен! Если вздумают совать нос в чужие дела, то очень даже легко с носом и останутся! — Жаворонок частенько так говорила. Тенар внезапно охватило страстное желание увидеть ее, такую простую и благоразумную. — Да и вообще корабль этот, очень даже вероятно, не имеет к тебе никакого отношения. Может, они просто за пиратами охотятся — тут их не счесть. Тоже бы неплохо, коли у короля руки до этого наконец дошли… Слушай, я у Огиона в кладовой две бутылки вина отыскала — интересно, сколько времени он их там прятал? По-моему, нам обоим не повредило бы сейчас выпить по стаканчику. А вот и хлеб с сыром. Девочку-то я уже покормила, они с этой пастушкой, Вереск, пошли лягушек ловить. Так что на ужин, вполне возможно, будут лягушачьи окорочка. А пока что перекуси тем, что есть. И вина выпьем. Интересно, откуда оно, кто его Огиону привез и сколько лет назад?
Тенар, не умолкая, несла типично женскую чушь, не давая Геду времени на ответы, не позволяя ни на секунду задуматься, пока он не взял наконец себя в руки и не начал есть, запивая еду старым, не слишком крепким красным вином.
— Мне, наверное, все-таки лучше уйти отсюда, Тенар, — сказал он. — Мне нужно время, чтобы научиться быть таким, каким я теперь стал.
— Уйти? Но куда?
— Выше, в горы.
— Станешь бродить… как Огион? — Она посмотрела на него и вспомнила, как когда-то шла с ним рядом по дорогам Атуана и насмехалась: «А что, волшебники часто милостыню просят?» И он тогда ответил: «Да, но стараются дать что-нибудь взамен». Помолчав, она осторожно спросила: — А ты не мог бы какое-то время просто погоду заклинать или потерянные вещи отыскивать? — И снова до краев наполнила его стакан вином.
Он только головой покачал в ответ. Выпил вино и молча уставился неведомо куда.
— Нет, — промолвил он. — Ничего из этого я не могу. Ничего.
Она не поверила. Ей хотелось возмущенно крикнуть ему в лицо: «Да как это может быть? Как ты можешь такое говорить? Что ж ты, забыл все, что знал, все, чему выучился у Огиона и на острове Рок, все, что постиг за время своих скитаний? Не мог же ты забыть все те имена, то мастерство, которым владел. Ты столько всего знал! Ты столько мог! Ты был таким сильным!» Однако она сдержала себя и ничего этого не сказала, только прошептала:
— Не понимаю. Как это может быть?..
— Из чашки всего лишь вылили воду, — сказал он, слегка наклоняя стакан с вином, словно намереваясь показать ей, как это делается. Потом, немного помолчав, снова заговорил: — Чего я не понимаю, так это зачем он вынес меня оттуда. Доброта молодых подчас оборачивается жестокостью… Ну вот, теперь я здесь и вынужден с этим мириться — пока не смогу вернуться назад.
Она не очень хорошо понимала, о чем он. Однако отчетливо расслышала в его словах не то обвинение, не то жалобу, и это — в нем! — особенно поразило и рассердило ее. Она сухо сказала:
— Сюда тебя принес Калессин!
При закрытых дверях в домике было почти совсем темно, лишь единственное маленькое, выходящее на запад окошко пропускало немного закатного света. Она не смогла разобрать, что выражало его лицо. Вдруг он поднял свой стакан, чокнулся с ней со странным подобием улыбки на губах и осушил стакан до дна.
— Это прекрасное вино, — сказал он. — Должно быть, Огиону его привез какой-то богатый купец или знаменитый пират. Никогда такого пить не доводилось. Даже в Хавноре. — Он все вертел в руках небольшой стакан, рассматривая его. — Я назовусь как-нибудь иначе и уйду на другую сторону горы, куда-нибудь в Армут, в Восточные Леса, откуда я родом. Там сейчас как раз сенокос начнется. Так что пока работа будет.
Она не знала, что ему ответить. Хрупкий, нездоровый на вид, такую работу он сможет получить только из жалости или, напротив, у человека равнодушного и жестокого; а если и получит, то вряд ли с ней справится.
— Дороги теперь не те, что раньше, — сказала она. — За последние годы столько воров и бандитов развелось! Да и иноземные налетчики, как их Таунсенд называет, попадаются. В общем, ходить в одиночку опасно.
В полутьме она пристально всматривалась в его лицо, пытаясь понять, каково это — никогда в жизни никого не бояться и вдруг научиться страху.
— Огион же ходил… — начал было Гед и осекся: вспомнил, что Огион был Магом.
— В долинах, на юге, — сказала Тенар, — всегда полно работы. Пасти коз, овец, коров. Скот перегоняют на верхние пастбища незадолго до праздника Долгого Танца и пасут там до осенних дождей. В тех местах всегда пастухи нужны. — Она отпила большой глоток из своего стакана и словно снова произнесла имя дракона — так обожгло ей рот вино. — А почему бы тебе не остаться?
— В доме Огиона? Так сюда они в первую очередь заявятся.
— Ну и что? Даже если заявятся? Что им от тебя может быть нужно?
— Чтобы я снова стал тем, кем был раньше.
Ей стало холодно — так безнадежно звучал его голос.
Она молчала, пытаясь вспомнить, каково это — быть всесильной Единственной Жрицей Гробниц Атуана, поглощенной силами Тьмы, а потом вдруг сразу все это потерять; самой отбросить власть и могущество, стать самой собой, стать просто Тенар, просто женщиной, заиметь мужа, детей и снова в один миг все потерять, превратиться в старуху, безмужнюю, бессильную… Но, даже вспомнив все это, она не была уверена, что понимает, насколько ему сейчас стыдно, тяжело, сколь сильна агония его теперешней униженности. Возможно, подобные переживания свойственны только мужчинам. Женщины, в общем-то, привыкли к унижениям.
А может быть, права тетушка Мох? Когда ядрышко ореха съедено, остается лишь пустая скорлупка.
Так я и сама на ведьму стану похожа, подумала Тенар. И чтобы перестать думать об этом и Геда тоже заставить думать о чем-нибудь ином, а еще потому, что вкусное, но все-таки довольно крепкое вино развязало ей язык, она снова заговорила:
— А я знаешь, о чем подумала… вспомнила, как Огион учил меня, а я все не хотела учиться дальше, а потом взяла и ушла, нашла себе подходящего фермера, вышла замуж — так вот, я тогда все время думала, даже в день свадьбы, что Гед, конечно же, очень рассердится, когда услышит об этом! — Она засмеялась.
— Я и рассердился, — сказал он.
Она промолчала.
— Я был разочарован, — пояснил он.
— Рассержен, — сказала она уверенно.
— Рассержен, — согласился он.
И снова наполнил ее стакан до краев.
— Тогда я и сам обладал могуществом и способен был различить его в других, — сказал Гед. — А ты… ты вся светилась там, под землей, в этом ужасном Лабиринте, во тьме кромешной…
— Ну хорошо, тогда скажи: что мне было делать со своим могуществом, со всеми магическими знаниями, которые пытался вбить в мою голову Огион?
— Использовать их.
— Как?
— Как используется Великое Искусство Магии.
— Кем?
— Волшебниками, — ответил он с затаенной болью.
— Магия, значит, и есть всего лишь умение, мастерство магов?
— Что же еще?
— А разве это все?
Он задумался, изредка поглядывая на нее.
— Когда Огион учил меня, — сказала она, — вот здесь, у очага, словам Истинной Речи, я так же легко и твердо выговаривала их, как и он сам. Как если бы я вспомнила язык, который знала с рождения. Зато вся остальная мудрость — старинные руны, великие заклятия и правила — казалась мне мертвой. Все это было мне совершенно чуждо. Я часто думала: все это похоже на то, как если бы меня одели в военные доспехи, дали меч и копье, шлем с перьями и все такое… насколько нелепо я бы во всем этом выглядела, разве не так? Ну зачем мне, например, меч? Что героического я могла бы совершить с его помощью? Я в этих доспехах даже и ходить-то нормально не могла бы — все равно осталась бы женщиной, осталась бы самой собой.
Она отпила немного вина.
— Так что я все эти волшебные доспехи с себя сбросила, — сказала она, — и надела привычную мне одежду.
— А что сказал Огион, когда ты собралась уходить?
— А что он мог сказать?
На его губах появилось подобие улыбки, но он промолчал.
Она утвердительно кивнула. И через некоторое время продолжала более спокойно:
— Я стала его ученицей только потому, что меня привез сюда ты. После тебя он больше учеников не брал и уж никогда не взял бы в ученицы девушку. Это ты упросил его. Зато он меня любил. И уважал. И я его тоже очень любила и уважала. Но он не сумел дать мне то, что мне было необходимо, а я не умела взять у него то, что он должен был мне дать. Он понимал это. Ах, Гед, он ведь совсем иными глазами смотрел на Терру. Он увидел ее всего за день до смерти. Вы с тетушкой Мох говорите, что могущественные волшебники сразу узнают друг друга. Не знаю, что Огион увидел в Терру, но мне он сказал: «Научи ее всему!» А еще он сказал… — Она вдруг умолкла. Гед терпеливо ждал.
— Он сказал: «Ее будут бояться». И повторил: «Научи ее всему! Не на Роке». Не знаю, что он имел в виду. Да и откуда мне знать? Если бы я тогда осталась с ним, то, возможно, и узнала бы, возможно, смогла бы чему-то научить девочку. Я считала, что, когда придет Гед, уж он-то, конечно, будет знать, чему ее учить, что ей необходимо знать, моей искалеченной малышке.
— Я этого не знаю, — проговорил Гед очень тихо. — Я увидел… В этом ребенке я увидел только одно! Ей причинили страшное зло. Зло.
Он залпом допил вино.
— Мне нечего ей дать. — И он умолк.
В дверь слегка постучали. Гед вскочил с уже знакомым Тенар выражением лица: искал, где бы спрятаться.
Она пошла к двери и не успела еще толком отворить ее, как тут же почуяла знакомый запах тетушки Мох.
— Гости в деревне, — выразительно тараща глаза, зашептала старуха. — Похоже, добрые люди. Они, по слухам, с того большого корабля, что приплыл из Хавнора. Говорят, что ищут Верховного Мага.
— Он не хочет никого видеть, — слабым голосом сказала Тенар. Она понятия не имела, что теперь делать.
— Да уж, пожалуй, не хочет, — сказала ведьма. Помолчала немного, словно ждала чего-то, и спросила: — Где ж он сам-то?
— Здесь, — ответил Ястреб, подходя к двери и пошире открывая ее. Тетушка Мох только глянула на него и ничего не сказала. — А они знают, где я? — спросил он.
— Коли и знают, то не от меня, — ответила ведьма.
— Если они заявятся сюда, — сказала Тенар, — ты, в конце концов, всегда можешь отослать их прочь — как Верховный Маг!..
Ни Гед, ни тетушка Мох не обратили на ее слова никакого внимания.
— В мой-то дом они и заглядывать не станут, — сказала ведьма. — Если хочешь, пошли со мной.
Он, не раздумывая, пошел за ведьмой, мельком взглянув на Тенар, но не сказав ей ни слова.
— А мне-то как отвечать им? — спросила она растерянно.
— А никак, милая, — ответила ведьма.
Вереск и Терру вернулись с охоты на болоте с добычей — в веревочной сетке было целых семь крупных лягушек, и Тенар занялась приготовлением лягушачьих окорочков на ужин охотницам. Она уже почти закончила сдирать шкурки, когда снаружи послышались голоса, и, глянув в открытую дверь, она увидела, что на пороге стоят незнакомые мужчины в шляпах, в отделанных золотым шитьем костюмах…
— Госпожа Гоха? — послышался чей-то вежливый вопрос.
— Входите, — пригласила она.
Они вошли. Их было пятеро, но казалось — вдвое больше: в комнатке с низким потолком все они выглядели огромными и высокими. Гости изумленно озирались, и Тенар наконец догадалась, что именно их здесь так поразило.
У кухонного стола стояла женщина с длинным и острым ножом в руках, а перед ней, на разделочной доске, лежали зеленовато-белые лягушачьи лапки и рядом кучка окровавленных останков. В темном углу за дверью прятался ребенок, чудовищно изуродованный, как бы лишенный половины лица и с какой-то клешней вместо руки, похожей на коготь. В алькове под единственным окошком сидела на кровати высокая костистая девица, тупо уставившаяся на вошедших с разинутым ртом. Руки ее были все в грязи и крови, а мокрая юбка явственно пахла болотом. Когда девица заметила, что гости смотрят на нее, то попыталась прикрыть лицо юбкой, совершенно неприлично ее задрав.
Мужчины сразу отвернулись; теперь им оставалось только смотреть на женщину у стола, заваленного дохлыми изрезанными лягушками.
— Госпожа Гоха? — повторил свой вопрос один из них.
— Да, так меня зовут, — сказала она.
— Мы прибыли из Хавнора, нас послал король, — вежливо пояснил тот же человек. Ей плохо было видно его лицо, ибо стоял он в тени и спиной к двери. — Мы ищем нашего Верховного Мага, Ястреба с Гонта. В день осеннего Солнцеворота состоится коронация короля Лебаннена, и он очень хотел бы, чтобы Верховный Маг, его друг и учитель, помог ему подготовиться к этой церемонии и сам короновал бы его, если пожелает.
Гость говорил ровным спокойным голосом, обращаясь к Тенар словно к придворной даме. Одет он был скромно: кожаные штаны, льняная рубашка, запылившаяся за время пути из Порта Гонт, однако из очень тонкого, дорогого полотна и у ворота вышитая золотыми нитками.
— Его здесь нет, — ответила Тенар.
Парочка деревенских мальчишек сунула было носы в раскрытую дверь, тут же исчезла, снова появилась и снова исчезла. Их крики замерли в отдалении.
— А не могли бы вы сказать нам, где он, госпожа Гоха? — вежливо спросил мужчина.
— Не могу.
Она рассматривала их по очереди. Страх, который она испытала вначале и бывший результатом панического ужаса самого Ястреба или скорее просто глупой растерянностью при виде чужеземцев, постепенно уступал место уверенности. Она спокойно стояла у кухонного стола в доме Огиона и теперь прекрасно понимала, почему Огион никогда не боялся высокопоставленных людей.
— Вы, должно быть, устали после долгой дороги, — сказала она. — Не хотите ли присесть? Вино на столе. Сейчас, я только вымою и подам стаканы.
Она сдвинула разделочную доску на самый край, отнесла лягушачьи окорочка в кладовую, смела все отходы в мусорное ведро, чтобы Вереск потом отнесла их свиньям ткача Фана, тщательно вымыла руки до локтей и кухонный нож, потом налила в миску чистой воды и вымыла два стакана, из которых они с Ястребом только что пили. В шкафу был еще один чистый стакан, а на кухне — две глиняные чашки с отбитыми ручками. Все это она поставила на стол и налила гостям вина: оставшегося в бутылке как раз хватило всем. Мужчины переглянулись и садиться не стали. Извинением этому в какой-то степени служило отсутствие нужного количества стульев. Однако правила приличия требовали принять угощение хозяйки дома. Каждый из гостей принял стакан или чашку из ее рук, каждый что-то пробормотал в знак благодарности. Они
дружно выпили в ее честь.
— Вот это да! — вырвалось у одного.
— Андрады. Урожай прошлого года, — сказал другой, вытаращив от изумления глаза.
Третий покачал головой и торжественно определил:
— Точно, Андрады. Но только Год Дракона.
Четвертый молча кивнул, соглашаясь с этим, и с почтением пригубил драгоценный напиток.
Пятый же, тот, что первым заговорил с Тенар, поднял глиняную чашку, поклонился хозяйке дома и промолвил:
— Это большая честь, госпожа, пить настоящее королевское вино.
— Это вино Огиона, — сказала она. — И дом тоже Огиона. Теперь, правда, он стал домом Айхала. Вы знали об этом?
— Знали, госпожа. Король послал нас на Гонт, будучи уверенным, что Верховный Маг непременно придет именно в этот дом; когда же известие о смерти хозяина этого дома достигло островов Рок и Хавнор, уверенность короля еще более укрепилась. После того как Верховный Маг покинул остров Рок верхом на драконе, ни единой весточки не получили от него ни в Школе Волшебников, ни в королевском дворце. А король прямо-таки мечтает узнать — да и все мы тоже, — где же Верховный Маг, здоров ли он. Так его здесь не было, госпожа?
— Не могу сказать, — ответила она, тщетно пытаясь увернуться от прямого ответа; она заметила, что и гости это понимают, встала и обошла стол с другой стороны. — То есть я вам этого не скажу. По-моему, если Верховному Магу захочется повидать вас, он это сделает. Если же ему захочется, напротив, укрыться от всех, вы его никогда не найдете. Вы ведь, разумеется, не станете противиться его воле?
Самый старший и самый высокий из гостей сказал:
— Для нас закон — воля короля.
А тот, что заговорил с нею первым, примирительно пояснил:
— Мы ведь только посланники. А тайные дела короля и Верховного Мага ведомы только им одним. Нам бы лишь передать ему послание короля да ответ получить.
— Я постараюсь позаботиться о том, чтобы он получил послание короля.
— А как быть с ответом? — спросил самый старший.
Она промолчала, а тот, что заговорил с нею первым, сказал:
— Мы еще несколько дней погостим в доме Лорда Ре Альби, который, услышав о прибытии нашего корабля, великодушно пригласил нас к себе.
Она вдруг почувствовала, что вот-вот попадет в ловушку, что петля вот-вот затянется вокруг ее шеи. Хотя и не понимала, откуда это ощущение возникло. Уязвимость и слабость Ястреба и то, что он это сознавал, подействовали, видимо, и на нее. Растерявшись, она решила притвориться деревенской простушкой, кумушкой средних лет — да только разве она притворялась? Ведь так оно и было на самом деле; в данном случае отличить притворство от действительности было бы куда труднее, чем во время волшебных превращений и фокусов.
— Да, это вам больше подходит, господа мои. Вы ведь видите: мы здесь живем очень просто, так и старый маг жил.
— И пьете андрадское вино, — прибавил тот, что определил год изготовления вина, привлекательный мужчина с ясными глазами и победоносной улыбкой. Она, продолжая играть свою роль, снова склонила голову набок, словно не понимая. Но когда они уже один за другим вышли за дверь, поняла, что даже если они пока и не догадались, кем она притворяется и кем является на самом деле, — не догадались, что она та самая Тенар с Кольцом, — то все равно достаточно быстро узнают об этом, а стало быть, и о том, что она близко знает Верховного Мага и может стать проводником к его убежищу.
Когда дверь за ними закрылась, она глубоко вздохнула, переводя дух. Вереск последовала ее примеру и закрыла наконец свой рот, который оставался разинутым все время, пока гости были в доме.
— Я — никогда! — сказала Вереск с глубоким и полным удовлетворением и пошла посмотреть, как там козы.
Из темного уголка за дверью выбралась Терру; она забаррикадировалась там от чужих посохом Огиона, дорожной палкой Тенар и своим собственным маленьким ореховым посошком. В ней вдруг снова появилась какая-то неловкость, опасливость, хотя манеру эту она давно оставила — с тех пор как они стали жить тут; сейчас она даже головы не подняла, а изуродованную половину лица все старалась поплотнее прижать к плечу.
Тенар подошла, опустилась перед девочкой на колени и обхватила ее обеими руками.
— Терру, — сказала она, — не бойся, они не причинят тебе вреда. Они не собираются никому вредить.
Девочка на нее смотреть не желала. Совершенно застыла, и Тенар словно деревянную колоду обнимала.
— Ты только скажи, я ведь могу их больше и в дом не пускать!
Наконец девочка шевельнулась и спросила своим низким сиплым голосом:
— А что они теперь сделают с Ястребом?
— Ничего, — ответила Тенар. — Они не причинят ему зла! Они прибыли… они хотели оказать ему честь.
Но она уже начинала понимать, что такая попытка оказать ему честь могла бы натворить — они ведь не ведали о его утрате, о его тоске, о том, чего он лишился, и в неведении своем заставляли бы его играть роль в том спектакле, к которому он больше не имел никакого отношения.
Когда Тенар отпустила девочку, та подошла к шкафу и достала оттуда Огионову метелку. Затем тщательно вымела пол — особенно там, где стояли эти люди из Хавнора; вымела прочь все их следы, всю пыль с их ног вымела и выбросила за порог!
Наблюдая за ней, Тенар приняла решение.
Она подошла к полке, где стояли три Великие Книги, и, порывшись там, отыскала несколько гусиных перьев и полувысохшие чернила, однако не нашла ни клочка бумаги или пергамента. Она закусила губу: очень не хотелось портить столь священную вещь, как Книга Огиона; нахмурившись, она оторвала тонкую полоску бумаги от последней пустой страницы в Книге Рун. Потом уселась за стол, обмакнула перо и стала писать. Однако с засохшими чернилами, как и со словами, сладить было нелегко. С тех пор как четверть века назад она сидела за этим столом и писала, а Огион, заглядывая ей через плечо, обучал ее ардическим и Старшим Рунам, ей, пожалуй что, и не доводилось больше хоть что-нибудь писать. И все-таки Тенар удалось нацарапать следующее:
Ступай на Дубовую Ферму в Средин. Дол. к Чистому Ручью скажи Гоха послала смотреть за садом и овцами.
Ей понадобилось не меньше времени, чтобы перечесть написанное. Терру, закончив уборку, внимательно наблюдала за ней. Подумав, Тенар прибавила еще два слова: сегодня ночью.
— А где Вереск? — спросила она у девочки, сложив листок пополам и еще раз пополам. — Мне нужно, чтобы она отнесла это в дом тетушки Мох.
Ей очень хотелось пойти самой и повидать Ястреба, но она не осмеливалась: боялась, что ее заметят эти люди, особенно если они следят за ней в надежде, что она приведет их к Геду.
— Я схожу, — прошептала Терру.
Тенар остро глянула на нее:
— Тебе придется пойти одной, Терру. Через всю деревню.
Девочка кивнула.
— Отдай письмо только самому Ястребу!
Девочка снова кивнула.
Тенар засунула записку поглубже в карман ее фартучка, обняла, поцеловала и отпустила. Терру убежала и двигалась не горбясь и не кособочась, а совершенно свободно, словно летела. Летела как птица, как дракон — невинное дитя, — летела совершенно свободная, и Тенар смотрела ей вслед, пока девочка не растворилась в вечерних сумерках за распахнутой настежь дверью.
Глава 8
Коршуны
Вскоре Терру возвратилась и принесла ответ от Геда: он сказал, что сегодня же вечером уйдет.
Тенар удовлетворенно выслушала девочку; ей было приятно, что он согласился с ее планом и решил держаться подальше от королевских гонцов, вызывающих у него такой ужас. Она возилась весь вечер: накормила Терру и Вереск, устроив им настоящее пиршество из жареных лягушачьих окорочков, уложила Терру спать, спела ей на ночь и только тогда села в одиночестве у очага, не зажигая лампы. Сердце ей сжимала тоска. Он ушел. Он больше не был сильным; он растерялся, утратил уверенность в себе; ему нужны были друзья, но она отослала его прочь от тех, кто действительно был и кто хотел бы стать ему другом. Он ушел, а она должна остаться здесь, должна сбить гончих со следа; по крайней мере убедиться в том, остались ли королевские посланники на Гонте или уплыли обратно в Хавнор.
Его панический страх и то, что она сама подпала под воздействие этого страха, теперь казались ей совершенно неразумными; она даже подумала, что достаточно неразумно, даже нелепо, если он на самом деле уйдет. Мог бы пошевелить мозгами и просто спрятаться пока в домике тетушки Мох — уж туда-то король в поисках Верховного Мага заглянет в последнюю очередь. Хорошо бы он пересидел там, пока присланные королем люди не покинут остров. А потом смог бы просто вернуться сюда, в дом Огиона, в свое родное гнездо. И все бы пошло как прежде: она бы заботилась о нем, пока он не восстановит свои силы, а он просто был бы с ней рядом.
Звезды, которые были видны в открытую дверь, вдруг заслонила чья-то тень.
— Ш-ш-ш! Спит! — И вошла тетушка Мох. — Ну что ж, ушел он, — сказала она тоном торжествующего заговорщика. — Пошел по старой лесной дороге. Говорит, так он срежет большой угол и к завтрашнему утру пройдет мимо Дубовых Источников.
— Хорошо, — сказала Тенар.
Ведя себя несколько более вольно, чем обычно, тетушка Мох уселась с ней рядом без приглашения.
— Я дала ему в дорогу каравай хлеба да немного сыра.
— Спасибо тебе, тетушка Мох. Ты очень добра.
— Госпожа Гоха, — голос тетушки Мох в темноте звучал так, словно она произносила свои заклятия, — я все хотела сказать тебе одну вещь, милая, да боялась совать свой нос в такие дела, что мне знать не положено; я-то ведь знаю, что ты жила среди великих людей да и сама была одной из великих, это-то и заставило меня прикусить язык, когда мне всякие мысли в голову приходить стали. А все ж таки есть кое-какие вещи, что мне ведомы, а у тебя и возможности узнать их не было, хоть ты и выучилась руны писать, познала Язык Древних и многое другое здесь и там, в далеких странах.
— Да, это верно, тетушка Мох.
— Ну что ж, вот и хорошо. Помнишь, мы с тобой как-то говорили, как одна ведьма может узнать другую, и о том, как один могущественный волшебник узнает другого, и я еще сказала о нем — о том, кто отсюда ушел теперь, — что теперь он больше никакой не маг, кем бы он ни был раньше, а ты все-таки отрицала это… Помнишь? Но я ведь была тогда права, разве не так?
— Да. Так.
— Ну да. Права я была.
— Он и сам то же самое говорил.
— Ну конечно, говорил. Он-то врать не станет да и выдумывать, что это, дескать, не так, а то не этак, пока совсем не запутаешься, вот что я тебе о нем скажу. К тому же он не из тех, что пробуют ехать в телеге без быка. А и правда, я рада, что он ушел! Так бы оно долго не продержалось — коли уж такое с ним случилось, переменилось все в нем и все такое прочее…
Тенар совершенно ее не понимала; понятным было разве что сравнение с попыткой ехать на незапряженной телеге.
— Я не понимаю, почему он так боится, — сказала она. — Нет, отчасти, конечно, понимаю, но до конца понять не могу, откуда у него этот стыд. Я знаю: он считает, что лучше бы ему было умереть. Но знаю и то — так я понимаю жизнь вообще, — что жизнь заключается в том, чтобы делать свое дело, и делать его как следует. Тогда получишь и удовольствие, и славу, и все остальное. А если ты этого не можешь или если у тебя твое дело отняли, тогда все теряет смысл. Непременно нужно, чтобы что-то было…
Тетушка Мох слушала и кивала, словно Тенар изрекала чрезвычайно мудрые слова, а потом, немного помолчав, сказала:
— Очень неприятно старому человеку чувствовать себя пятнадцатилетним мальчишкой, это уж точно!
У Тенар чуть не вырвалось: «О чем это ты говоришь, тетушка Мох?», но что-то помешало ей. Она поняла вдруг, что все время ждала, когда Гед наконец вернется из своих скитаний по горам и войдет в их дом; что все это время она хотела услышать его голос, что все ее тело не желало мириться с его отсутствием. Она вдруг глянула на ведьму через плечо: та бесформенной черной грудой тряпья примостилась на стульчике Огиона у незажженного очага.
— Ах! — сказала она в ответ тем бесчисленным мыслям, что вдруг сразу пришли ей на ум. —
Так вот почему, вот почему я никогда… — Она надолго умолкла, потом наконец спросила: — А разве они… разве волшебники… это что же, заклятие?
— Конечно, конечно, милая, — сказала тетушка Мох. — Они зачаровывают сами себя. Некоторые называют это
обменом — вроде как брачный договор наоборот, скрепленный клятвами и все такое прочее. Говорят, что благодаря такому
обмену получили свое могущество. Но мне что-то не больно верится: все равно как мне, простой ведьме, рассказывать, что мне Древние Силы помогают… Да и старый Маг — он тоже говорил мне, что ничем таким волшебники не занимаются. Хоть я и знавала кой-кого из ведьм, что и не такое делали, и особого вреда это им не принесло.
— Те, кто воспитали меня, делали это, пообещав вечно оставаться девственницами.
— О, да-да, никаких мужчин, ты мне говорила, да и те, что есть, какие-то
юрнихи. Ужасно!
— Но почему, почему… почему я никогда даже не думала…
Ведьма громко рассмеялась.
— Потому что именно в этом-то и заключено их могущество, милая. Ты не думаешь! Не можешь! И они не могут ничего, кроме как воспользоваться своим заклятием. А как же иначе? Силу-то свою они отдали! Вот и не получается, нет, не получается. Так-то оно, точно! Ты просто ничего не получишь, если не отдашь столько же. В этом-то все и дело. Так что они это понимают, ведьмы, и колдуны, и могущественные волшебники, понимают лучше, чем кто-нибудь другой. И все-таки, знаешь ли, мужчине трудно перестать быть мужчиной, даже если по его зову солнце сходит с небес. Так что они стараются задурить себе головы на этот счет с помощью своих заклятий. И правда, даже в недавние плохие времена, что тянулись так долго, когда все заклятия на свете свою силу утратили, я ни разу не слышала, чтоб какой-нибудь волшебник нарушил заклятие и использовал свое могущество ради собственных плотских радостей. Даже самые никудышные опасаются. Ну конечно, всегда найдутся такие, что к иллюзиям привыкли, да только они ведь сами себя обманывают. А еще всякие жалкие колдунишки, ведьмы и знахари — шушера, в общем, — пытаются иногда особыми заклинаниями пользоваться, чтобы обманом деревенских женщин завлекать, но уж кто-кто, а я-то знаю: такие заклинания недорого стоят. Тут ведь в чем дело? В том, что одна сила не слабее другой и у каждой свои цели. Вот как я это понимаю.
Тенар сидела в глубокой задумчивости.
— Они сами себя от остальных отгораживают, — наконец сказала она.
— Да. Волшебник так и должен поступать.
— Но ты-то этого не делаешь.
— Я? Я всего лишь старая ведьма, милая.
— Старая?
Возникла пауза, потом тетушка Мох в темноте проговорила с едва различимой усмешкой:
— Старая
достаточно, чтобы больше ни о чем не беспокоиться.
— Но ты сказала… Ты ведь не давала обета безбрачия?
— А что это такое, милая?
— Как все волшебники?
— О нет. Нет и нет! Сама никогда красоткой не была, и смотреть-то особенно было не на что, зато на мужчин я смотреть умела так… и знаешь ли, вовсе не колдовством пользовалась, ты ведь, милая, понимаешь, о чем я… нужно только посмотреть на него по-особому, и он тут как тут; рот разинет, как ворона, и через день, два или три — а ко мне точно придет!.. «Мне бы для собаки лекарство, чесотка у нее», «А мне — лекарственный чай для бабушки» — но я-то знала, чего им надо, так что если кто был по нраву, то частенько и получал свое. И только ради любви, ради любви — я ведь не из таких, знаешь ли, хотя, может, некоторые ведьмы этим и занимаются, да только, по-моему, колдовство позорят. За колдовство мне платят, а за удовольствие — любовь дарят, вот что я тебе скажу. Не то чтобы в этой любви одно лишь удовольствие было, правда. Я как-то долго по одному сохла, уж больно хорош собой был, да только сердце холодное, жестокое… Теперь-то он давно уж умер. Отец того Таунсенда, что недавно вернулся в наши края, ну да ты его знаешь. Ах, как я сходила с ума по тому человеку — даже колдовством раз воспользовалась. Уж сколько заклятий на него ни накладывала — все напрасно! Все ни к чему. В свекле крови не сыщешь… Да и сюда, в Ре Альби, я перебралась из-за неприятностей с одним парнем из Порта Гонт. Я тогда еще совсем молодой была. Семья у них богатая, знатная, так что я ни о чем и заикаться не смела. Будто они волшебной силой обладали, а не я! Да и не желали они, чтобы сынок их путался с простой девчонкой, с какой-то замарашкой — они меня так и называли. Они все равно меня со своей дороги убрали бы, это им все одно что кошку убить, так что если б я тогда не убежала сюда, в горы… Но господи, как же я того парня любила! У него были такие сильные гладкие руки и ноги, глаза большие, темные — я все эти годы его перед собой так и вижу…
Они долгое время сидели в темноте молча.
— А когда у тебя появлялся мужчина, тетушка Мох, тебе с колдовством приходилось проститься?
— Ничуточки, — заносчиво ответила ведьма.
— Но ты же сказала, что ничего нельзя получить, сперва не отдав столько же. Значит, это для женщин и для мужчин неодинаково?
— Что неодинаково, милая?
— Не знаю, — сказала Тенар. — Мне кажется, что мы сами же все эти различия создаем, а потом жалуемся. Я не понимаю, почему Высшее Искусство, почему сама волшебная сила не даются равно мужчинам и женщинам? Это понятно только тогда, когда люди по-разному одарены от рождения или по-разному — один хуже, другой лучше — изучали искусство Магии.
— Мужчина больше отдает, милая. Женщина больше принимает в себя.
Тенар молчала, не удовлетворенная таким объяснением.
— Наша, женская сила с виду вроде как слабее, меньше, чем у них, — сказала тетушка Мох. — Зато она куда глубже. Она как бы вся из одних корней. Как старый кустик черники. А сила волшебника похожа на высокую ель, самую высокую в округе, мощную — да только во время бури самые высокие деревья как раз и ломаются. А вот кустик черники сломать не так-то просто. — Она насмешливо закудахтала, довольная таким сравнением. — Ну что ж! Теперь уж он, должно быть, далеко ушел, им его не найти. Вот только люди болтать начнут…
— О чем?
— Ты женщина уважаемая, милая, а репутация уважаемой женщины — это ее благополучие.
— Ее благополучие, — тупо повторила Тенар и, помолчав, сказала еще раз: — Ее благополучие. Ее сокровище. Ее наследство. Ее цена… — И внезапно вскочила, словно не в силах была сидеть спокойно, и потянулась всем телом. — Это как у драконов, которые подыскивают пещеры, строят крепости и хранят там свои сокровища, заботятся о своем наследстве, спят на своем имуществе, сливаясь с ним, превращаясь в него… Все брать и брать, но никогда ничего не отдавать!
— Ты еще узнаешь цену хорошей репутации, — сухо сказала тетушка Мох, — когда утратишь ее. Это, конечно, в жизни не самое главное. Но заполнить такую брешь трудно.
— А ты бы согласилась не быть ведьмой, чтобы стать уважаемой женщиной, тетушка Мох?
— Не знаю, — задумчиво проговорила та. — Не знаю, как бы это у меня получилось. У меня один-единственный талант, наверно, другого нет.
Тенар подошла к ней и взяла ее руки в свои. Удивленная этим порывом, тетушка Мох вскочила и чуть отпрянула от нее, но Тенар притянула ее к себе и поцеловала в щеку.
Старая женщина высвободила одну руку и застенчиво коснулась волос Тенар — лишь краткое ласковое прикосновение, так когда-то гладил ее по голове Огион. Потом ведьма резко отодвинулась и забормотала что-то насчет того, что пора домой, засобиралась, но на пороге все-таки спросила:
— А может, ты хочешь, чтобы я здесь пожила, пока всякие чужеземцы вокруг шныряют?
— Ступай, тетушка Мох, — ласково сказала Тенар, — я к чужеземцам привыкла.
В ту ночь, засыпая, она снова вдруг оказалась в просторных разливах света и ветра, но свет был почему-то затянут дымной пеленой, красен, как от пожара, потом появились оранжевые и янтарные языки пламени, словно горел сам воздух. То ли она была частью этого мира, то ли ветер увлекал ее за собой и она была частью ветра, той его силой, что не знает преград?.. И ни один голос не позвал ее…
Утром она сидела на крылечке, расчесывая волосы. Она была белокожей, но в отличие от большинства каргадцев волосы у нее падали на плечи темной волной. Только теперь в темных волосах ее мелькала порой тонкая серебряная нить. Она вымыла голову той водой, которую приготовила для стирки, решив, что стиркой займется попозже, раз уж Гед ушел и ее репутация уважаемой женщины в полной сохранности. Она сушила волосы на солнце, медленно расчесывая их. Утро было жаркое, ветреное, на волосах ее следом за гребнем вспыхивали искры и с треском сбегали вниз.
Терру подошла и остановилась у нее за спиной, внимательно наблюдая. Тенар обернулась и заметила, насколько девочка напряжена: она почти дрожала.
— В чем дело, птичка моя?
— Из тебя огонь вылетает, — сказала Терру то ли со страхом, то ли с восхищением. — По всему небу разлетается!
— Да это просто от волос моих искры летят, — сказала Тенар, немного смутившись. Терру заулыбалась, и Тенар вдруг вспомнила, что раньше эта девочка не улыбалась никогда. А теперь она обеими руками, здоровой и обожженной, пыталась поймать искры, разлетающиеся от распущенных, развевающихся на ветру волос Тенар, и смеялась:
— Искорки, искорки!
И тут Тенар впервые спросила себя: интересно, каким видит Терру весь этот мир и ее, Тенар? И поняла, что у нее нет ответа на этот вопрос, что невозможно знать, каким видит мир тот, у кого выжгли один глаз. И снова вспомнились ей слова Огиона: «Ее будут бояться», но страха за Терру она почему-то не испытала, наоборот! И продолжала расчесывать волосы, яростно драла их гребнем, чтобы искр было как можно больше, чтобы снова и снова слышать этот тихий, хрипловатый, радостный смех.
Потом она перестирала простыни, полотенца для посуды, свое белье и платье, а также вещички Терру и разложила все на лугу для просушки, убедившись прежде, что козы надежно заперты. Вещи она прижала камнями, потому что дул сильный порывистый ветер и в нем ощущалась какая-то дикая, необузданная сила зрелого лета.
Терру росла. Она по-прежнему казалась слишком маленькой и худенькой для своих лет (ей было где-то около восьми), но за последние месяца два ее ожоги совсем поджили, перестали причинять ей страдания, и она стала значительно больше времени проводить на улице да и есть стала гораздо лучше. Платья, позаимствованные у младшей, пятилетней дочурки Ларк, стали ей малы.
Тенар подумала, что надо бы сходить в деревню, к ткачу Фану, и попросить у него кусок материи из остатков в обмен на пойло для свиней, которое она все время отсылала ему с пастушкой Вереск. Она бы с удовольствием что-нибудь сшила Терру. Да и просто повидать старого Фана ей хотелось. Смерть Огиона и болезнь Геда заставляли ее сторониться деревенских жителей. Оба эти волшебника, как всегда, насильно вытащили ее из того знакомого мира, в котором она прекрасно умела себя вести и который сама избрала для себя, — то вовсе не был мир королей и королев, могущественных волшебных сил и высших искусств, великих путешествий и приключений (обо всем этом Тенар думала, собираясь в деревню и выглядывая в окошко, чтобы видеть Терру), но мир самых обычных людей и самых обычных дел, где люди женились, воспитывали детей, возделывали поля, пасли коз, шили, стирали… Она думала об этом с каким-то мстительным чувством — словно спорила с Гедом, который сейчас, должно быть, прошел уже больше половины пути к Срединной Долине. Она представляла, как он идет по дороге мимо того ручья, где они с Терру ночевали, стройный, седовласый, одинокий и молчаливый путник, у которого в заплечном мешке полбуханки хлеба, испеченного ведьмой, а на сердце — тяжкий груз сознания собственного ничтожества.
«Пора и тебе кое-что понять! — подумала она. — Пора понять, например, что ты вовсе не всему выучился на Роке!» И тут же вспомнила совсем иное — одного из тех мужчин, что тогда поджидали ее с Терру на дороге. Невольно Тенар вскрикнула: «Будь осторожней, Гед!», страшась за него, ведь он и обыкновенной палки с собой не взял. Но вспомнила она не того огромного парня с усами, а другого, более молодого, в кожаной шапке, что так пристально смотрел на Терру.
В деревне она специально направилась сперва к маленькому флигельку рядом с домом Фана: здесь она когда-то жила. И вдруг мимо флигеля — буквально у нее под носом — прошел человек. Это был тот самый парень в кожаной шапке, которого она только что вспоминала! Ее он не заметил, и она смотрела, как он размеренной походкой, не останавливаясь, поднимается по деревенской улице то ли к постоялому двору, то ли к перекрестку горных дорог за деревней.
Не раздумывая, Тенар пошла за ним следом, держась на некотором расстоянии, пока не увидела, как он повернул к поместью Лорда Ре Альби, а не вниз, не в ту сторону, куда ушел Гед.
Немного успокоившись, она пошла в гости к старому Фану.
Будучи почти отшельником, как большинство ткачей, Фан даже в те времена проявил доброту по отношению к каргадской девчонке, впрочем, несколько застенчивую и настороженную. Сколько же людей уже тогда защищали ее достоинство! Теперь, почти ослепнув, Фан завел ученицу, которая и делала большую часть работы. Он был очень рад гостье, восседая, точно на троне, на старинном резном стуле под тем самым веером, от которого и произошло его прозвище Фан-Веер. Веер этот, огромный, искусно разрисованный, подарил деду Фана один пират в благодарность за чрезвычайно быстро сотканную парусину. Веер висел на стене в раскрытом виде. Изящные фигурки мужчин и женщин в пышных одеяниях розового, зеленого, бирюзового цвета, башни и мосты, пестрые знамена Великого Хавнора были Тенар хорошо знакомы. Гости Ре Альби непременно заходили полюбоваться веером старого ткача. Во всем селении согласно общему мнению он был самой замечательной вещью.
Тенар с восхищением смотрела на веер, зная, что это приятно старику, а еще потому, что веер на самом деле был удивительно красив, и тут Фан сказал:
— Тебе ведь не много подобных вещей встречалось во время твоих путешествий, правда?
— Нет, совсем не встречалось. А в Срединной Долине такого и в помине нет, — ответила Тенар.
— А когда ты жила здесь, со мной рядом, разве я никогда не показывал тебе обратную его сторону?
— Нет, — ответила она, и, разумеется, пришлось снять веер со стены; она влезла на табурет и осторожно отцепила его, потому что сам Фан видел очень плохо, а уж забраться на табурет и подавно не мог. Он с беспокойством руководил ею. Спрыгнув на пол, Тенар положила веер ему на колени, и он своим затуманенным взором впился в дивные изображения, то раскрывая веер, то закрывая его, чтобы удостовериться, что все пластинки целы. Наконец Фан сложил веер, перевернул и вручил ей.
— Открывай, но медленно, — сказал он.
Она так и поступила. Дивное зрелище разворачивалось перед ней. Тонкий и бледный рисунок на пожелтевшем шелке — драконы бледно-красного, голубого, зеленого цвета — и все они двигались, собирались в стаи среди облаков и горных вершин, точно так же, как собирались вместе люди, изображенные на оборотной стороне веера.
— Подними его повыше и поднеси к свету, — сказал старый Фан.
И тут она увидела обе стороны одновременно, обе картины, как бы слившиеся воедино благодаря свету, проникавшему сквозь тонкий шелк; горные вершины и облака совпали с башнями столицы, мужчины и женщины стали крылаты, а драконы смотрели с рисунка человеческими глазами.
— Видишь?
— Вижу, — прошептала она.
— Я-то их теперь и разглядеть не могу — сердцем помню. Я мало кому это показывал.
— Просто поразительно, чудесно!
— Я все собирался показать это старому Магу, — проговорил Фан, — да то одно, то другое — вот и не показал.
Тенар еще раз перевернула веер, держа его против света, потом повесила его на прежнее место, и драконы спрятались во тьму, а женщины и мужчины шли себе, как обычно, освещенные солнцем.
Затем Фан повел Тенар на двор показать своих свиней — отличную парочку, успешно толстеющую, чтобы осенью пойти на колбасу. Они немного посетовали на безответственность Вереск, которая приносила ткачу помои для свиней не слишком регулярно. Тенар сказала, что мечтает о небольшом куске ткани — девочке на платье, и Фан с удовольствием вынул для нее из сундука нетронутую штуку тонкого полотна, а молодая женщина, бывшая у него в подмастерьях, похоже, полностью воспринявшая не только уроки его мастерства, но и его необщительность, тем временем продолжала работать, постукивая ткацким станком, совершенно невозмутимая и сосредоточенная.
Направляясь домой, Тенар думала, что и Терру могла бы сидеть за таким вот станком. Работа, конечно, довольно нудная, однообразная, зато всеми уважаемая, а порой ткачество относили даже к благородным искусствам. И люди привыкли к тому, что ткачи — обычно люди застенчивые, часто одинокие, полностью поглощенные своей работой. А то, что они работают в четырех стенах, позволило бы Терру не слишком часто показываться людям на глаза. Но как быть с изуродованной рукой? Сможет ли девочка такой рукой научиться передвигать челнок, натягивать основу? И неужели ей всю свою жизнь придется прятаться?
Но как же быть ей, Тенар? «Зная, какова будет ее жизнь…»
Она попыталась переключить свои мысли на что-нибудь другое. Стала думать, какое платье сошьет Терру. Платьица дочерей Ларк были грубоватыми, примитивными, как сама земля. А можно покрасить половину материи в желтый или красный цвет мареной с болота, а сверху будет нарядный белый передник с пелериной в оборочках… Нет, ну неужели малышке придется вечно прятаться во тьме у станка и никогда не видеть даже красивой юбки с оборкой и кружевами?.. Если кроить достаточно экономно, тогда останется еще и на блузку, и на второй фартучек…
— Терру, — окликнула она, подойдя к дому. Вереск и Терру были в загоне с козами, когда она уходила. Тенар еще раз позвала девочку, желая показать ей материю и рассказать о будущем платье. И тут из-за летнего сарая появилась неуклюжая Вереск, тащившая на веревке Сиппи.
— А Терру где?
— С тобой пошла, — с искренним изумлением ответила Вереск, и Тенар даже оглянулась, словно девочка стояла у нее за спиной, прежде чем поняла, что Вереск понятия не имеет, где Терру, и просто выдает желаемое за действительность.
— Где ты ее оставила?
Вереск и об этом понятия не имела. Она никогда раньше не отпускала от себя Терру, считая, видимо, что девочку нужно все время держать на привязи, точно козу. Впрочем, возможно, это скорее понимала сама Терру и старалась быть на виду у кого-нибудь из старших. Тенар, так и не дождавшись сколько-нибудь вразумительных объяснений от пастушки, подумала немного и принялась искать и звать девочку. Однако тщетно.
Она старалась не думать об обрыве так долго, как только могла. В первый же день она объяснила Терру, чтобы та никогда не ходила одна ни по круто поднимающимся террасам полей, расположенным ниже дома Огиона, ни к обрывистому утесу, ибо единственным зрячим глазом невозможно определить ни реальную глубину, ни реальное расстояние. Тогда девочка ей подчинилась. Она вообще всегда подчинялась. Но дети склонны забывать свои обещания. Впрочем, Терру своих обещаний не забывает. Однако она могла ведь и нечаянно, даже не заметив этого, выйти на край обрыва? Нет, она, конечно же, просто отправилась к тетушке Мох! Вот именно! Она уже ходила одна в деревню вчера вечером и теперь решила повторить свой подвиг. Вот оно в чем дело!
У тетушки Мох Терру не оказалось. Ведьма ее не видела.
— Я отыщу ее, отыщу, милая, — заверила она Тенар; однако, вместо того чтобы пойти вверх по лесной тропе на поиски девочки, как надеялась Тенар, зачем-то начала вязать дурацкие узелки из собственных волос, явно намереваясь произнести заклятие.
Тенар бегом бросилась назад, к дому Огиона, снова и снова зовя девочку. И на этот раз осмелилась посмотреть вниз, на террасы полей, надеясь увидеть там среди валунов маленькую фигурку. Но за бесчисленными ступенями террас увидела одно лишь море, покрытое рябью и потемневшее, и от этого простора у нее даже закружилась голова и подогнулись колени.
Тенар пошла к могиле Огиона и чуть дальше, мимо нее, в лес, зовя Терру. Когда она возвращалась обратно, на лугу резвилась пустельга; именно здесь когда-то за этой птицей наблюдал Гед. Пустельга ринулась вниз и тут же снова взлетела, зажав в когтях какого-то маленького зверька, и понеслась к лесу. Птенцов кормит, подумалось Тенар. В мозгу ее без конца роилось множество самых разнообразных мыслей, множество живых и точных образов. Она прошла мимо выстиранного белья, разложенного на траве; теперь белье высохло, его необходимо до вечера собрать… Необходимо поискать возле дома повсюду, в сарае, в загоне — везде и более тщательно. Это ее вина. Это она виновата, потому что думала, как сделать из Терру ткачиху, как запереть ее в доме, за работой, сделать уважаемой всеми… Хотя Огион сказал тогда: «Научи ее, научи ее всему, Тенар!» Хотя она сама понимала, что неправильное обращение с этой девочкой может иметь необратимые последствия. Хотя знала, что девочка поручена именно ей, но со своей задачей не справилась, не оправдала надежд, не оправдала доверия Терру, потеряла ее, потеряла единственный доставшийся ей великий дар…
Тенар обыскала каждый уголок в доме, обшарила все остальные постройки, снова заглянула в альков и под вторую кровать. Потом остановилась, чтобы выпить воды, ибо рот ее пересох, словно песок в пустыне.
За дверью, как всегда, стояли три деревянных посоха — Огионов и их с Терру. И вот один из них, окутанный тенью, вдруг двинулся и сказал:
— Я здесь.
Девочка совершенно скрючилась в самом темном углу, словно втянувшись внутрь собственного тельца, и казалась сейчас не больше собачонки: голова прижата к плечу, руки и ноги поджаты под горло, единственный зрячий глаз изо всех сил зажмурен.
— Птичка ты моя, воробышек, огонечек мой, что случилось? Что? Что они с тобой сделали?
Тенар прижала к себе застывшее и холодное, словно камешек, маленькое тельце, баюкая девочку.
— Разве можно так пугать меня? Разве можно так от меня прятаться? Ох, как я на тебя сердита!
Она плакала, и слезы ее капали на лицо ребенку.
— Ах, Терру, Терру! Никогда больше так не делай!
Скрюченные, застывшие руки и ноги девочки вздрогнули и понемногу расслабились. Терру шевельнулась и вдруг судорожно прильнула к Тенар, спрятав лицо в ямку между ее грудью и плечом, прижимаясь к ней все крепче, с каким-то отчаянием. Она не плакала. Она никогда не плакала; возможно, все ее слезы были выжжены тем смертоносным костром. Но она исторгла какой-то протяжный стон, а может быть, рыдание.
Тенар обнимала ее и укачивала, укачивала. Очень, очень медленно отчаянные объятия девочки чуть ослабели. Головка сонно улеглась Тенар на грудь.
— Скажи-ка мне… — прошептала женщина, и девочка сразу ответила своим слабым, хриплым шепотом:
— Он приходил сюда.
Сперва Тенар подумала о Геде, но тут же под воздействием пережитого страха догадалась, кто был этот «он» для ее девочки! Она сухо усмехнулась про себя и, добиваясь четкого ответа, снова спросила Терру:
— Кто это «он»?
Ответа не последовало; Тенар почувствовала, как девочку стала бить с трудом сдерживаемая дрожь.
— Тот самый? — тихо спросила Тенар. — Тот, в кожаной шапке?
Терру коротко кивнула.
— Тот, кого мы видели тогда на дороге?
Девочка промолчала.
— Там было четверо мужчин — я на них еще рассердилась, помнишь? Это один из них?
И тут ей пришло в голову, что Терру тогда шла потупясь, пряча сожженную щеку, как всегда в присутствии чужих.
— Ты знаешь его, Терру?
— Да.
— С тех пор как… как вы жили в палатке у реки?
Терру снова коротко кивнула.
Тенар еще крепче прижала девочку к себе.
— Так это он приходил сюда… — проговорила она, и весь ужас, который она носила в себе, сразу превратился в гнев, в ярость, сжигавшую ей нутро, сидевшую в ней словно раскаленный прут. Тенар как-то странно усмехнулась — «Ха!» — и почему-то сразу вспомнила Калессина, то, как дракон смеялся.
Но ей, человеку, женщине, оказалось вовсе не легко удержать этот огонь в себе. Да и ребенка необходимо было успокоить.
— А он тебя видел?
— Я спряталась.
Тенар быстро заговорила, поглаживая Терру по голове:
— Он никогда больше к тебе не притронется, Терру. Ты пойми меня и поверь: он больше никогда не коснется тебя. Он больше никогда тебя не увидит — во всяком случае, пока я с тобой. Ты же понимаешь это, моя дорогая, моя драгоценная, моя красавица! Ты не должна его бояться. Да и отчего тебе его бояться? Он-то хочет как раз, чтобы ты его боялась. В твоем страхе он черпает силы. А мы заставим его поголодать! Пусть голодает, пусть гложет сам себя! Пусть задохнется, кусая собственные кости… Ах, не слушай ты меня, я ужасно сердита, я чудовищно зла!.. Я очень красная? Такая же, как женщины с Гонта? Как тот дракон? Красная? — Она пыталась шутить, и Терру, подняв к ней свое изуродованное робкое личико, заглянула ей в глаза и сказала:
— Да, красная. Ты — красный дракон.
Мысль о том, что этот человек приходил в их дом, был здесь, ходил вокруг, любуясь содеянным, может быть, даже обдумывая, как довести неоконченное дело до конца, — мысль об этом, скорее даже не мысль, а дурнотное чувство, подобное тошноте, охватывая Тенар, как бы сгорало само собой во вспыхивающем тут же в ее душе гневе.
Они встали, умылись, и Тенар решила, что наиболее явственное и реальное из множества ее теперешних чувств — голод.
— У меня совершеннейшая пустота в животе, — сказала она Терру и приготовила им роскошную трапезу: сыр, хлеб, холодные бобы, приправленные маслом и специями, ломтики лука и твердой копченой колбасы. Терру ела с отменным аппетитом, а Тенар — с еще большим.
Когда они съели все до последней крошки, Тенар сказала:
— А теперь, Терру, запомни: я никогда больше тебя одну не оставлю, и ты тоже не оставляй меня. Хорошо? А сейчас мы вместе с тобой сходим к тетушке Мох. Она там сотворила заклятие, чтобы отыскать тебя, так что пусть больше не беспокоится на этот счет.
Терру так и замерла. Она только раз взглянула на открытую настежь дверь и сразу отшатнулась.
— А еще нам с тобой нужно принести высохшее белье. Захватим его на обратном пути. А когда вернемся, я покажу тебе материю, которую добыла сегодня. Платье буду шить. Новое платье для тебя. Красное.
Девочка словно не слышала.
— Если мы будем прятаться, Терру, это ему только на руку. Но мы прятаться не станем, будем сильными сами. Так что ему не понравится. А ну-ка пошли!
Преодоление порога потребовало от Терру неимоверных усилий. Она отворачивалась, прятала лицо, дрожала, потом вдруг пошла, нерешительно, спотыкаясь, и казалось невыносимо жестоким заставлять ее перешагивать этот порог, чуть ли не силой тащить ее из дома, но Тенар не знала жалости.
— Пойдем же! — настойчиво повторила она, и девочка пошла с ней.
Держась за руки, они прошли через поля к домику тетушки Мох. Один или два раза Терру даже заставила себя поднять глаза от земли.
Тетушка Мох вовсе не удивилась, увидев их, однако выглядела она грустной и усталой. Она велела Терру сбегать в дом и полюбоваться юными цыплятами, которых только что вывела ее несушка с ожерельем на шейке, а потом выбрать и для себя парочку; Терру точно ветром сдуло.
— Она все время была в доме, — сказала Тенар. — Пряталась.
— Ну что ж, хорошо, что она умеет прятаться, — сказала ведьма.
— Почему? — резко спросила Тенар. Ей не хотелось сейчас скрывать свое настроение и быть покладистой.
— Да… всякие тут ходят… — сказала ведьма, однако совсем не важничая, а скорее с неохотой.
— Негодяи всякие тут ходят! — заявила Тенар, и тетушка Мох, глянув на нее, даже немножко отодвинулась.
— Ну-ну, успокойся, — сказала она. — Успокойся, милая. Ты вся прямо-таки огнем горишь, вокруг головы свет сияет. Я сотворила заклятие, чтобы отыскать девочку, однако оно не подействовало. Почему-то все шло не так, как хотела я, и я так и не поняла, кончилось ли действие этого заклятия. Что-то я растерялась совсем. Я видела Великих. Искала нашу девочку, а видела Великих, что парили над вершинами гор, среди облаков. А теперь и ты на них похожа, и волосы твои будто пламенем охвачены. Что случилось, что не так?
— Да есть тут один, в кожаной шапке, — сказала Тенар. — Такой молодой… Ну хватит так на меня смотреть! У него, кажется, куртка на плече разорвана. Ты его случайно тут не видела?
Тетушка Мох кивнула:
— Его в усадьбе на сенокос наняли.
— Я же рассказывала тебе, что она… — Тенар глянула в сторону дома, — что она была тогда с женщиной и двумя мужчинами. Он — один из тех двоих.
— Ты хочешь сказать, один из тех, что…
— Да.
Старуха застыла, словно деревянная статуя.
— Не знаю, — проговорила она наконец. — Мне казалось, что я знаю достаточно. Но это не так. А что… Что будет… А он что же… захочет прийти и повидать ее?
— Если он ее отец, то, возможно, просто потребует вернуть ее.
— Потребует вернуть?
— Она же
его собственность.
Тенар говорила довольно спокойно. И при этом смотрела на вершину горы Гонт.
— Но я думаю, что отец все-таки не он. Я думаю, тот, другой. Тот, что пришел тогда в деревню и сказал моей подруге, что девочка «поранилась».
Тетушка Мох еще не совсем пришла в себя, она по-прежнему была во власти собственных чар и видений, ее испугала и ярость Тенар, и то, что неизбежное зло где-то рядом. Старуха в отчаянии потрясла головой.
— Я не знаю, — повторила она. — Хотя считала, что знаю достаточно. Как же он может вернуться сюда?
— Чтобы совсем уничтожить ее, — сказала Тенар. — Уничтожить, поглотить, пожрать. Я больше ее одну не оставлю! Вот только завтра, с самого утра, я, возможно, попрошу тебя, тетушка Мох, посторожить ее. С часок примерно. Сделаешь это для меня? А я пока схожу в усадьбу Лорда.
— Конечно, милая. Конечно. Я могу наложить укрывающее от чужих глаз заклятие, если хочешь… Однако… Они-то ведь сейчас как раз там, те посланцы короля из Хавнора…
— Ну так что ж, пусть и они посмотрят, какова здесь жизнь у простых людей, — сказала Тенар так, что тетушка Мох снова отшатнулась от нее: ей показалось, что сноп искр разлетелся от Тенар — словно от костра на ветру.
Глава 9
Волшебные слова
Они заготавливали сено на лугу Лорда, вытянувшемся вдоль всего
склона; луг перерезали четкие утренние тени. Косцов было пятеро — три женщины и двое мужчин, один совсем юный, насколько Тенар могла догадаться издали, а второй — седой и сутулый. Она поднялась к ним, ступая меж скошенных валков, и спросила одну из женщин о человеке в кожаной шапке.
— Это тот, что с Вальмута будет, иль нет? — переспросила та. — Ума не приложу, куда он подевался.
К ним подошли остальные. Ни один не знал, куда вдруг исчез человек из Срединной Долины и почему он не косит с ними вместе.
— Такие бездельники нипочем работать не станут, — сказал сутулый. — Неумеха. А ты что ж, госпожа, знаешь его?
— Случайно видела, — ответила Тенар. — Он все что-то возле нашего дома вынюхивал… девочку мою испугал. Я даже не знаю, как его зовут.
— Сам-то он себя Ловкачом называет, — удалось вставить мальчишке. Остальные смотрели на нее молча или старались не смотреть вообще. Они уже начинали догадываться, что она та самая женщина с Каргадских островов, что живет в доме старого Мага. Все они были вассалами Лорда Ре Альби, а потому подозрительно относились к тем, кто живет в деревне, не говоря уж о тех, кто имел дело с Огионом. Они поточили свои косы и пошли от нее прочь, разбрелись по лугу, вновь принявшись за работу. Тенар по краю поля, мимо посаженных там ореховых деревьев, спустилась к дороге.
Там, словно поджидая ее, стоял какой-то человек. Сердце у нее упало. Она поспешила навстречу.
То был Аспен, волшебник из усадьбы. Он стоял в тени придорожного дерева, изящно опершись о свой длинный сосновый посох. Когда Тенар наконец вышла неподалеку от него на дорогу, он сказал:
— Что, работу ищешь?
— Нет.
— Господину моему на поле нужны рабочие руки. Жара вот-вот кончится, так что сено необходимо поскорее убрать.
Для Гохи, вдовы Флинта, слова его звучали вполне нормально, так что Гоха и ответила ему тоже вежливо:
— Но ведь твое искусство, без сомнения, сможет справиться с дождевыми тучами, пока все сено не уберут.
Однако он прекрасно знал, что Тенар — та самая женщина, с которой перед смертью говорил Огион и которой старый Маг назвал свое Истинное Имя; и если учитывать, что он это знал, то слова его звучали в высшей степени оскорбительно и на редкость фальшиво — словно скрытая угроза или предупреждение. Она уже собралась спросить, не знает ли он, где теперь человек по прозвищу Ловкач. Но вместо этого сказала:
— Я просто пришла сообщить вашему управляющему, что человек, которого он нанял на сенокос, беглый вор и даже хуже. Он ведь совсем не такого хотел нанять, правда? Хотя и этот, кажется, уже куда-то исчез?
Она спокойно смотрела на Аспена, не отводя глаз до тех пор, пока он с трудом не проговорил ей в ответ:
— Я ничего не знаю об этих людях.
В ту ночь, когда умер Огион, волшебник этот показался ей высоким, молодым и даже довольно привлекательным в своем сером плаще с украшенным серебряным набалдашником посохом. Но он был совсем не так уж молод и вообще как будто высох, съежился с тех пор. Во взгляде его и голосе теперь отчетливо чувствовалось презрение, и она ответила ему так, как ответила бы Гоха:
— Да я просто так спросила. И прошу прощения. — Ей вовсе не хотелось еще и здесь неприятностей. Она уже повернула назад, когда Аспен вдруг крикнул:
— Погоди!
Она остановилась.
— Вор и даже хуже, ты говоришь, да только клевета недорого стоит, а женский язычок пострашнее иного ворюги будет. Ты ведь сюда нарочно пришла, чтобы среди косцов воду мутить, чтобы порядочных людей оговаривать да ложью опутывать — вот они, драконовы семена, что каждая колдунья сеет. Неужели думала, я не догадаюсь, что ты ведьма? Да я как только увидел это чертово отродье, что вечно к тебе липнет, так сразу и понял, где ты ее взяла и для какой надобности! И правильно сделали, что сжечь ее хотели! Только дело это надо было до конца довести. Ты уже один раз оскорбила меня у тела старого волшебника, но я тогда не стал тебя наказывать — ради покойного и в присутствии остальных. Но теперь ты зашла слишком далеко! Я предупреждаю тебя, женщина! Я не позволю тебе больше ходить по этой земле. Если же ты еще станешь мне перечить или снова осмелишься заговорить со мной, я сделаю так, что тебя вышвырнут из Ре Альби да еще и с собаками погонят. Ты меня поняла?
— Нет, — сказала Тенар. — Я никогда не понимала таких мужчин, как ты.
Она отвернулась и пошла по дороге.
Внезапно ее словно ударили чем-то острым прямо по позвоночнику, так что волосы у нее от боли встали дыбом. Она резко обернулась и увидела, что волшебник вытянул свой посох по направлению к ней, а вокруг конца посоха пляшут темные молнии. Губы Аспена уже приоткрылись для заклятия. И тут она поняла: все это потому, что Гед утратил свое могущество. Я считала дурными всех мужчин, но я ошибалась!.. Вдруг чей-то спокойный голос спросил:
— Ну-ну, что тут у нас происходит?
Двое из столичных гостей спускались на дорогу прямо из вишневого сада, что тянулся вдоль нее. Они смотрели то на Аспена, то на Тенар и явно ничего не понимали, однако держались вежливо, словно сожалея о необходимости помешать волшебнику, сознавая, что не допустят насилия.
— Госпожа Гоха, — изысканно поклонился ей человек в расшитой золотом рубахе.
Другой, с ясными глазами, тоже вежливо поздоровался с ней и улыбнулся.
— Госпожа Гоха, — проговорил он, — это женщина, которая, подобно нашему королю, открыто называет свое имя и, по-моему, ничего на свете не боится. На Гонте она, вероятно, предпочитает, чтобы ее называли простым гонтийским именем? Однако, поскольку нам известны ее великие деяния, я прошу у нее позволения оказать мне честь, ибо именно она носила на руке то Кольцо, которое не надевала больше ни одна женщина со времен прекрасной Эльфарран. — Он самым естественным движением преклонил перед Тенар одно колено, легким быстрым жестом взял ее правую руку и коснулся кисти своим лбом. Потом поднялся и улыбнулся своей добродушной и чуть таинственной улыбкой.
— Ах, — сказала Тенар, польщенная и словно согревшаяся от этих слов, — каких только могущественных сил нет на свете! Благодарю вас.
Волшебник стоял как вкопанный, глядя на нее. Он уже успел сомкнуть губы, готовые произнести злобное заклятие, и опустил свой посох, однако вокруг него и в его глазах все еще вполне отчетливо видна была некая мгла.
Она не знала, было ли ему известно раньше или он только сейчас узнал, что она Тенар, доставившая Кольцо Эррет-Акбе. Это было, впрочем, неважно. Все равно он не мог бы ненавидеть ее сильнее. Ее беда была в том, что она женщина. Ничто не могло быть хуже — в его глазах, разумеется; ничто не могло спасти ее от кары; ни одно наказание для нее не было бы достаточно сильным, ведь он видел, что сотворили с Терру, и вполне одобрил содеянное.
— Господин мой, — сказала она тогда тому, кто был постарше, — даже что-либо чуть меньшее, чем честность и открытость, уже кажется почти бесчестьем нашему королю, от чьего лица говорите вы — и действуете так, как сейчас. Лестно, что король и его посланник оказали мне честь… Однако собственная честь моя связана данным словом, пока мой друг сам не освободит меня. Я… я уверена, господа мои, что со временем он сам пошлет вам весть о себе. Только, молю вас, дайте ему время.
— Разумеется, — откликнулись оба посланника в один голос. — Столько времени, сколько ему будет угодно. А твое доверие, госпожа, возвышает нас более всего прочего.
Она пошла по дороге дальше в Ре Альби, потрясенная случившимся — столь стремительными переменами, неприкрытой ненавистью волшебника, собственной, какой-то сердитой резкостью, собственным ужасом перед лицом неожиданной опасности, его откровенным желанием причинить ей зло и, наконец, внезапным спасением благодаря посланникам короля, явившимся сюда из благословенного рая на белокрылом корабле, из Башни Меча, средоточия правосудия и порядка. Ее сердце было исполнено благодарности. Да, теперь на троне действительно настоящий король, и главное украшение его короны отныне — Руна Мира.
Ей понравилось лицо молодого гостя, умное и доброе; и то, как он преклонил перед ней колена — словно перед королевой; и его улыбка, будто таившая некую тайну. Она оглянулась. Оба посланника шли вместе с волшебником Аспеном по направлению к поместью Лорда Ре Альби. Все трое, похоже, вполне дружески беседовали, словно ничего и не произошло.
Это немного поколебало ее веру в них. Они, разумеется, были настоящими придворными. И не их дело — впутываться в ссоры или открыто осуждать кого-то. А он ведь волшебник, да к тому же волшебник того Лорда, что оказал им гостеприимство. И все-таки, подумала она, не стоило бы им так вот прогуливаться и беспечно беседовать с ним.
Гости из Хавнора еще несколько дней прожили у Лорда Ре Альби, возможно, не теряя надежды, что Верховный Маг передумает и придет к ним; однако сами они его не искали и не приставали к Тенар с вопросами о том, где он может быть. Когда они наконец покинули Гонт, Тенар сказала себе, что должна теперь непременно решить, как же ей быть дальше. Никакой видимой причины долее оставаться в доме Огиона не было, зато покинуть Ре Альби она стремилась по крайней мере по двум весьма серьезным причинам: из-за Аспена и из-за Ловкача. И нисколько не сомневалась, что они не оставят их с Терру в покое.
И все-таки она никак не могла окончательно решиться: ей трудно было даже думать о расставании с Огионом. Она была уверена, что, покинув Ре Альби, потеряет его навсегда, а пока она поддерживает порядок в его доме и пропалывает его грядки с луком, связь между ними, пусть не очень сильная, все-таки остается. И еще она подумала: «Там, в долине, мне никогда уже больше не приснится небо». Здесь, где побывал Калессин, она действительно была Тенар — во всяком случае, так ей казалось. А в Срединной Долине она вновь станет всего лишь Гохой. И она тянула, откладывала уход, говоря себе: «Ну неужели стоит бояться этих негодяев? Неужели я так вот просто возьму и сбегу от них? Ведь им этого и нужно: командовать мною». Она ни на шаг не отпускала от себя Терру. И день шел за днем.
Порой заходила тетушка Мох, чтобы рассказать какую-нибудь историю. Тенар уже спрашивала ее о волшебнике Аспене — разумеется, только лишь намекнув на его угрозы. Она и вообще-то уже стала думать, что Аспен хотел только припугнуть ее. Тетушка Мох обычно избегала говорить о том, что касалось Лорда Ре Альби, однако происходящее в его поместье ее живо интересовало, и она охотно болтала с тамошними своими знакомыми, с той старухой, например, у которой сама училась принимать роды, и с другими, кого считала приличными знахарями. Их-то она и заставляла выкладывать все, что происходило в господском доме. Все они Аспена ненавидели, а потому говорили о нем всегда с большой охотой, однако в их рассказах больше половины было продиктовано злословием и страхом. И все-таки среди любых вымыслов всегда можно обнаружить зерно правды. Тетушка Мох и сама утверждала, что, пока здесь три года назад не появился Аспен, юный Лорд, внук старого, пребывал в добром здравии, хотя и тогда отличался застенчивостью и мрачным нравом. «Вроде как напуганный», — говорила старая ведьма. Потом умерла мать мальчика, и старый Лорд послал на остров Рок за волшебником… «А для чего? — спрашивала тетушка Мох. — Ведь сам Огион жил от поместья в получасе ходьбы. Да и все эти лорды там, в Ре Альби, колдуны и чародеи».
Но тем не менее Аспен прибыл. Он только раз пришел к Огиону, чтобы засвидетельствовать свое почтение, и больше не появлялся. По словам тетушки Мох, он всегда предпочитал оставаться наверху, в поместье. И с тех пор внука старого Лорда стали видеть все реже и реже; поползли слухи, что мальчик теперь день и ночь проводит в постели, «точно младенец больной, и весь будто усох совсем». Зато старый Лорд, которому, по словам тетушки Мох, было «по крайней мере лет сто или около того», просто процветал и «был полон жизненных соков». Один из слуг — ибо прислуживать в поместье нанимали только мужчин — рассказывал своей приятельнице, дружившей и с тетушкой Мох, что старый Лорд нанял волшебника Аспена для того, чтобы самому жить вечно, и что волшебник этот делает, как ему велено, а потому вроде бы как скармливает старику жизненные силы внука. И мужчина тот ничего дурного в этом не находил, говоря: «А кому ж не хочется вечно-то жить?»
— Так, — сказала возмущенная Тенар, в очередной раз выслушав тетушку Мох, — гнусная история! А разве об этом в деревне ничего не говорят?
Тетушка Мох пожала плечами. Словно, как всегда, хотела сказать: «Пусть их». Деяния власть имущих не подлежали обсуждению среди бесправных. А кроме того, мешала какая-то неясная, слепая верность Ре Альби: старик ведь всегда был их господином, и никого не касалось, чем он там занимается… Тетушка Мох, видимо, разделяла эту точку зрения. «Рискованно это, — говорила она, — ошибиться легко». Но ни разу не назвала происходящее в поместье отвратительным.
Никаких следов мужчины по имени Ловкач Тенар так и не обнаружила. Страстно желая убедиться в том, что он покинул Большой Утес, Тенар расспросила о нем своих немногочисленных приятелей из деревни, однако отвечали ей весьма неохотно и как-то двусмысленно. Им не было дела до ее тревог. «Пусть ее…» Один лишь старый Фан обращался с ней по-дружески. Однако, возможно, лишь потому, что своими почти слепыми глазами не мог как следует рассмотреть Терру.
Она теперь всегда брала девочку с собой, отправляясь в деревню или куда бы то ни было из дому.
Терру нисколько не тяготила эта нерасторжимая связь. Напротив, она жалась к Тенар, как и большинство маленьких детей к матерям, помогала ей по хозяйству, играла рядом. Основным ее развлечением стало плетение бесконечных путанок и игра с двумя костяными фигурками, которые Тенар нашла в маленькой соломенной сумке, лежавшей на полке в уголке. Одна из фигурок напоминала не то собаку, не то овцу, а вторая — определенно человека, но не поймешь, женщину или мужчину. Тенар не усматривала в этих безделушках ничего таинственного или опасного, да и тетушка Мох тоже сказала: «Это просто игрушки». Терру же фигурки казались по-настоящему волшебными. Она порой часами играла с ними, выдумывая всякие истории и не произнося вслух ни слова. Иногда она строила для человечка и его зверька дома — пирамидки из камешков, хижины из глины и соломы. Фигурки всегда были у нее под рукой, в кармане. Потихоньку Терру училась прясть, но не могла пока держать шерсть в своей изуродованной огнем руке, а другой одновременно крутить веретено. С самого первого дня они с Тенар регулярно вычесывали Огионовых коз, и теперь набралось уже порядочно шелковистой шерсти, которую надо было спрясть.
«Но мне же нужно учить ее по-настоящему! — огорчалась Тенар. — «Научи ее всему», — сказал Огион. А я ее чему учу? Готовить и прясть? — И сама же себе возражала, но уже как бы голосом Гохи: — А разве умение прясть не настоящее мастерство, всем нужное и всеми уважаемое? Разве мудрость заключена только в словах?»
И все-таки вопрос этот очень ее беспокоил, и однажды днем, когда Терру выбирала из козьей шерсти всякий мусор, сидя рядом с Тенар в тени персикового дерева, она сказала:
— Терру, может быть, тебе уже пора начать учить Истинные Имена вещей? Есть такой язык, на котором все вещи называются своими Настоящими Именами, а поступок и слово воспринимаются как единое целое. Слова этой речи произнес впервые Сегой, когда поднимал острова Земноморья из глубин морских. На этом языке говорят драконы.
Девочка слушала молча.
Тенар отложила чесальные гребни и подобрала с земли камешек.
— На этом языке, — сказала она, — камешек называется
ток.
Терру смотрела внимательно; потом повторила
ток, но совершенно беззвучно, одними губами, изуродованными ожогом справа.
Камешек как ни в чем не бывало лежал на ладони Тенар — самый обыкновенный камешек.
Обе они молчали.
— Рановато еще, — сказала Тенар. — Не этому должна я тебя учить сейчас. — Она бросила камешек на землю и снова взялась за свои гребни; к этому времени Терру приготовила уже целую гору серой, словно туча, шерсти. — Может быть, когда ты пройдешь обряд имяположения и обретешь Подлинное Имя? — снова заговорила Тенар. — Может быть, тогда будет можно? Но не сейчас. А знаешь что? Давай-ка займемся разными древними историями, пора тебе их послушать. Я могу много рассказать тебе о жизни Архипелага и Каргадских островов. Раньше я рассказывала только то, что сама узнала когда-то от Айхала Молчаливого, а теперь хочу, чтобы ты послушала одну историю, которую моя подруга Ларк рассказывала нашим с ней детям. Это история об Андауре и Аваде.
Так давно, как вечность, и так далеко отсюда, как Селидор, жил да был дровосек по имени Андаур, который часто в одиночку уходил далеко в горы. Однажды, забравшись глубоко в лес, он срубил там огромный дуб. И, падая, дуб крикнул Андауру человеческим голосом…
Обе они весьма приятно провели тот день.
Однако ночью, лежа рядом со спящей девочкой, Тенар уснуть не могла. Беспокойство мучило ее, одна глупая мысль сменяла другую — и все какие-то мелочи: заперла ли она калитку загона, отчего болит рука — от бесконечного чесанья шерсти или это артрит начинается, и так далее и тому подобное. Потом вдруг ей стало совсем не по себе: ей показалось, что рядом с домом кто-то ходит. Что же это я до сих пор собаку не завела, подумала она. Глупо жить без собаки, когда в доме только женщина да ребенок! В такое время непременно следует завести собаку! Но ведь это же дом Огиона: ни один злоумышленник сюда никогда не проникнет. Да ведь Огион-то умер, умер и похоронен под корнями дерева на опушке леса. И никто ей на помощь не придет — Ястреб далеко, беглец. Он теперь уже и не Ястреб, так — тень Ястреба, никчемный, пустой, мертвый человек, которого силой заставляют жить. А у меня волшебной силы нет, тут от меня проку никакого. Я говорю слово Созидания, и оно у меня еще во рту умирает, теряет смысл. Камешек. А я — женщина, старая, слабая, глупая… Все, что я делаю, я делаю неправильно. Все, к чему я прикасаюсь, превращается в прах, в тени, в камень. Я создание тьмы, я переполнена тьмой. И очистить меня может только огонь. Только огонь может меня поглотить, поглотить полностью, как…
Она села и вскрикнула по-каргадски: «Да отвратится твое заклятие, да оборотится оно против тебя самого!» — и, выпростав из-под одеяла правую руку, указала ею куда-то вниз и прямо — на закрытую дверь. Потом осторожно выскользнула из кровати, подошла к двери, распахнула ее рывком и громко сказала прямо в пасмурную ночь:
— Ты пришел слишком поздно, Аспен! Я давно уже поглощена. Иди и очисти свой собственный дом от скверны!
Ответа не последовало, и вообще не слышно было ни звука, только в воздухе висел слабый, кисловатый, неприятный запах — чего-то горелого, то ли подожженного платья, то ли волос.
Она захлопнула дверь и подперла ее посохом Огиона, а потом проверила, спит ли по-прежнему Терру. Сама же она в ту ночь так и не уснула.
Утром они с Терру пошли в деревню, чтобы узнать у старого Фана, не нужна ли ему только что спряденная ими шерсть. Это был подходящий повод, чтобы уйти подальше от дома и некоторое время побыть среди людей. Старик сказал, что с радостью возьмет их пряжу, и они еще некоторое время поговорили с ним, сидя под огромным разрисованным веером, а хмурая помощница Фана все это время безостановочно стучала и клацала ткацким станком. Когда Тенар и Терру выходили на улицу, Тенар успела заметить, как кто-то спрятался за угол того домика, где она раньше жила. То ли оводы, то ли пчелы начали вдруг жалить Тенар в шею и в голову, а с небес вдруг полил грозовой дождь, хотя на небе не было ни облачка — да не просто дождик, камни посыпались! Она видела, как они отскакивают от земли. Терру остановилась, потрясенная и ошеломленная, озираясь вокруг. Из-за домика выбежали двое мальчишек, и непонятно было, то ли они хотели спрятаться, то ли, наоборот, выставляли себя напоказ, вопя и смеясь.
— Пойдем, — спокойно сказала Тенар, и они пошли к дому Огиона.
Тенар трясло, и озноб еще усилился по дороге. Она старалась скрыть это от Терру, которая казалась очень встревоженной, но не испуганной, хотя явно не понимала, что же произошло.
Едва они вошли в дом, как Тенар поняла, что здесь кто-то побывал, пока они ходили в деревню. Пахло горелым мясом и жженым волосом. Покрывало на их кровати было все скомкано.
Еще только решая, как быть дальше, она поняла, что на ней лежит заклятие. Теперь зло поджидало ее дома. Она никак не могла унять дрожь, в голове все путалось, мысли стали неповоротливыми, медлительными, она ни на что не могла решиться. Она и думать-то толком не могла. Тогда она произнесла одно лишь слово, Истинное Имя камешка, и вот сегодня в лицо ей полетели камни — в ее лицо, в лицо зла, в лицо ужаса… Она тогда осмелилась заговорить… А теперь она не могла говорить совсем…
Она подумала по-каргадски:
Я не могу думать на ардическом языке. Я не должна этого делать.
По-каргадски думать она могла. Хотя и не быстро, а так, словно сперва должна была просить девушку Ару, которой была когда-то давно, чтобы та вышла из тьмы и подумала за нее. Чтобы помогла ей, Тенар, как помогла вчера ночью, отвратив заклятие колдуна и оборотив его зло против него самого. Ара не знала многого из того, что знали Тенар и Гоха, однако проклинать она умела; и жить во тьме — тоже; и еще — умела молчать.
Молчать Тенар было особенно тяжело. Ей хотелось выплакаться. Ей хотелось поговорить с кем-нибудь — пойти к тетушке Мох и рассказать той, что произошло, почему она должна уходить отсюда, да, наконец, просто чтобы попрощаться. Она попыталась сказать пастушке Вереск: «Козы теперь твои», и ей даже удалось произнести это на ардическом, так что Вереск вроде бы должна была понять, однако она не поняла. Она уставилась на Тенар, засмеялась и ответила: «Ой, так ведь это же козы Лорда Огиона!»
Тенар тщетно попыталась пояснить свою мысль, но тут смертельная слабость охватила ее, и она услышала, как выкрикивает пронзительным голосом: тупица, полудурок, скотина, глупая баба!
Вереск уставилась на нее и перестала смеяться. Тенар прикрыла рот ладошкой, взяла ее за руку и повела смотреть, как зреют сыры в молочной; она стала поочередно показывать то на них, то на Вереск, пока та не кивнула слабо и снова не засмеялась — уже от радости.
Тенар кивком подозвала Терру, а сама пошла в дом, где отвратительный запах был сильнее, и Терру уже начала от него кашлять.
Тенар выбросила на улицу их дорожные сумки и башмаки. Потом в свою суму уложила сменное платье, два стареньких платьица Терру и наполовину сшитое новое ее платье, а также смену белья и остаток материи; положила еще веретена, немного еды и глиняную фляжку с водой на дорогу. В сумку Терру были уложены лучшие ее корзиночки из травы, костяной человечек и костяной зверек, несколько ярких перышек, маленькая плетеная циновочка-головоломка, которую подарила Терру тетушка Мох, и мешочек с орехами и изюмом.
Тенар хотелось сказать: «Пойди и полей персиковое деревце», но она не осмеливалась, а просто вывела девочку на улицу и показала, что нужно сделать. Терру старательно полила крохотный росток.
Они подмели и все прибрали в доме, работая быстро, в полном молчании.
Тенар поставила кувшин обратно на полку и увидела на другом ее конце три Великие Книги, принадлежавшие Огиону.
Ара тоже увидела их, но для нее они ничего не значили — какие-то большие кожаные коробки, полные бумаги.
Но Тенар уставилась на них, прикусив костяшку пальца, напряженная, пытаясь решить, что же ей делать и как донести такую тяжесть. Она не могла одна справиться с этим, но была
должна. Книгам было не место в доме, утратившем свою священную неприкосновенность, куда теперь проникла ненависть. Они принадлежали Огиону. Геду. Ей. То было Знание.
Научи ее всему! Она вытащила всю шерсть и готовую пряжу из мешка, который собиралась прихватить с собой, и положила Книги туда; потом стянула мешок кожаным ремешком, закрепив петлю так, чтобы удобно было тащить мешок по земле. И наконец сказала:
— Теперь мы должны уходить, Терру.
Она сказала это по-каргадски, но ведь и имя девочки тоже было каргадским; этим словом карги обозначают пламя, горение; и девочка последовала за Тенар, не задавая никаких вопросов, с дорожной сумой за плечами, куда было сложено все ее небогатое имущество.
Они взяли в руки свои дорожные посохи — ореховую ветку и ветку ольхи. Посох Огиона они оставили за дверью, в темном углу, а дверь в дом широко распахнули, предоставив гулять там морскому ветру.
Каким-то звериным чутьем Тенар чувствовала, что нужно держаться подальше от полей и от верхней дороги, по которой они пришли сюда. Они срезали путь, спустившись по крутым ступеням уходящих вниз пастбищ. Потом, крепко держась за руки, вышли на проезжую дорогу, что, петляя, вела в Порт Гонт. Тенар понимала, что, если им сейчас встретится Аспен, она пропала; а еще она подумала, что волшебник, возможно, поджидает ее на дороге. Хотя, может быть, и не на этой.
Примерно через полчаса ходьбы она вновь обрела способность нормально рассуждать. Во-первых, до нее дошло, что дорогу она выбрала правильно: слова ардического языка постепенно возвращались к ней, а потом — и слова Истинной Речи, так что она даже остановилась на минутку, подобрала с земли камешек и подержала его в руке, повторяя про себя:
ток. Потом опустила камешек в карман. Посмотрела в небесную высь, на быстро летящие тучи, один раз прошептала:
Калессин, и душа ее тут же очистилась, мысли стали ясными и такими же прозрачными, как воздух вокруг.
Они миновали длинную вырубку, по краям затененную высокими травами и выступами скал; здесь Тенар чувствовала себя несколько неуверенно. Когда они добрались до поворота дороги, перед ними внизу открылся простор темно-голубого залива. Между Сторожевыми Утесами в гавань Гонта как раз входил красивый корабль с поднятыми парусами. В прошлый раз именно такой корабль испугал и встревожил Тенар, однако теперь она страха не ощутила. Ей, напротив, даже захотелось побежать по дороге навстречу этому кораблю.
Но побежать она не могла: Терру была уже на пределе. Она ходила теперь гораздо быстрее, чем два месяца назад, да и спускаться вниз было, конечно, значительно легче, чем ползти по крутой дороге в Ре Альби. Но корабль как бы сам устремился им навстречу. В его парусах был, видно, волшебный ветер; словно низко летящий лебедь, пересек он залив и причалил в порту прежде, чем Тенар и Терру преодолели половину длинного своего пути.
Все города, большие и маленькие, всегда казались Тенар немного странными. Она никогда раньше не жила в городах. Когда-то она недолго гостила, правда, в самом большом городе Земноморья, Хавноре, а потом вместе с Гедом приплыла в Порт Гонт, но улиц его почти не видела: они тогда сразу пошли по дороге вверх к Большому Утесу. Единственным городом, который она хоть как-то знала, был Вальмут; там жила ее дочь. Вальмут был сонным, залитым солнцем морским городком, раскинувшимся на берегу уютной бухточки, и в его порту даже прибытие корабля с Андрадских островов казалось значительным событием; основной темой для разговоров здесь служила вяленая рыба.
Они с девочкой спустились по улице Порта Гонт, когда солнце над западным краем моря стояло еще достаточно высоко. Терру за все это время ни разу не пожаловалась, хотя была на ногах уже больше восьми часов; она, конечно же, сильно устала, но измученной не выглядела. Тенар тоже очень устала, к тому же она совсем не спала прошлой ночью, да и беспокойство буквально снедало ее. А Книги Огиона оказались весьма тяжкой ношей. Где-то на середине пути она переложила их в заплечный мешок, а еду и одежду — в тот мешок из-под шерстяной пряжи, который несла в руке; так оказалось значительно удобнее, но все равно очень тяжело. Теперь они еле брели вдоль окраины к городским воротам, где дорога, проходя между двумя каменными изваяниями драконов, превращалась в городскую улицу. У ворот на них уставился стражник. Терру тут же опустила голову, прижав изуродованную огнем щеку к плечу, а сожженную скрюченную ручонку спрятала под фартук.
— Вы к кому идете, госпожа? — спросил стражник, всматриваясь в девочку.
Тенар не знала, что сказать. Она не знала, что у городских ворот всегда стоит стража. Ей нечем было заплатить ни подорожную пошлину, ни за постой в харчевне. Она в этом городе не знала ни души — кроме разве что того волшебника, что приходил хоронить Огиона. Как же его звали? Нет, она и этого не помнила. И стояла у ворот, открыв рот, словно придурковатая Вереск.
— Ладно, проходите уж, — раздраженно бросил стражник и отвернулся.
Ей хотелось спросить, как попасть на южную дорогу, что идет вдоль побережья через холмы в Вальмут. Но она не решилась снова привлекать к себе внимание стражника, чтобы тот не прогнал ее, как обычную бродяжку, ведьму или кого-то еще, кому он вместе с каменными драконами обязан был преградить путь в этот город. Они быстро прошли мимо драконов и устремились дальше — Терру даже немножко приподняла голову, чтобы на ходу взглянуть на великолепные резные изваяния, и поплелась следом за Тенар, спотыкаясь о каждый камень, все больше и больше удивляясь, смущаясь и постепенно сникая. Тенар казалось, что в этом огромном городе можно найти все, что угодно, все на свете. Высокие каменные дома, различные повозки, ломовые телеги, тележки, рогатый скот, ослики, рынки, магазины, толпы людей, люди, люди, люди — чем дальше они шли, тем больше им встречалось людей. Терру жалась к руке Тенар, льнула к ней, пряча лицо под свисавшими волосами. Тенар и сама старалась держаться поближе к Терру. Она понимала, что здесь им не место, так что они сразу пошли на юг, рассчитывая двигаться до наступления темноты — а теперь темнело рано — и потом заночевать где-нибудь в лесу. Тенар высмотрела какую-то толстуху в немыслимо пышном белом фартуке, закрывавшую ставни своего магазинчика, и решила спросить у нее, как выйти из города на южную дорогу. Суровое красное лицо женщины казалось довольно располагающим, однако, пока Тенар набиралась храбрости, Терру вдруг буквально впилась ногтями в ее руку и попыталась спрятаться у нее за спиной. Подняв глаза, Тенар увидела, что по улице прямо к ним идет тот самый человек в кожаной шапке. Он тоже сразу увидел ее. И остановился.
Тенар покрепче ухватила Терру за руку и поволокла, потащила ее за собой.
— Скорей! — велела она и решительно двинулась прямо на того человека. Миновав его, она еще быстрее устремилась вниз, навстречу сиянию заката и темнеющей воде, навстречу причалам и сходням, видневшимся в конце круто спускавшейся улицы. Терру бежала следом, задыхаясь так, как задыхалась тогда, когда ее, обожженную, вытащили из костра.
Высокие мачты толпились на фоне красно-желтого закатного неба. Тот прекрасный корабль со свернутыми парусами стоял у каменного причала, скрытый гребной галерой.
Тенар оглянулась. Мужчина в кожаной шапке шел за ними, он был совсем близко. Он не спешил.
Она выбежала на причал, но через несколько шагов Терру споткнулась и не смогла идти дальше: у нее не хватало дыхания. Тенар подхватила малышку на руки, и та прильнула к ней, спрятав лицо у нее на плече. Но с такой ношей и сама Тенар едва переставляла ноги. Они у нее дрожали и подгибались. Шаг, другой, третий — и Тенар подошла к узким деревянным сходням, которые были перекинуты с корабля на причал. Она положила руку на перила.
Какой-то моряк, простой жилистый парень, глянул на нее с палубы.
— В чем дело, госпожа? — спросил он.
— Это… это корабль из Хавнора?
— Из столицы, да, точно.
— Пустите меня на борт!
— Ну я-то этого разрешить не могу… — сказал парень, ухмыляясь, однако ободряюще подмигнул ей и стал смотреть на человека в кожаной шапке, остановившегося рядом с Тенар.
— Да не беги ты от меня! — сказал ей Ловкач. — Я ведь тебе зла не причиню. Никому я вредить не собираюсь. Ты же ничего не понимаешь. Я ведь и тогда пришел за помощью для нее, разве не так? Мне по-настоящему жалко было, что оно так вышло. Я вам помочь хочу… — Он протянул руку, словно его неудержимо тянуло к Терру, хотелось коснуться девочки. А Тенар не могла даже пошевелиться. Она ведь обещала Терру, что этот человек больше никогда не дотронется до нее! И беспомощно смотрела, как его пальцы скользнули по вздрогнувшей обнаженной ручке ребенка.
— Эй, чего тебе от нее надо? — послышался другой голос. На месте того жилистого парня появился другой, совсем молодой, Тенар даже подумала сперва, что это ее сын. Ловкач поспешил ответить:
— Так она… ребенка моего унесла. Племянницу. Девчонка-то моя. А она ее, понимаешь, околдовала да и убежала с ней…
Тенар по-прежнему не могла вымолвить ни слова. Все слова покинули ее, их словно у нее отобрали. Тот молодой моряк не был ее сыном. У него было тонкое и суровое лицо, ясные глаза. Глядя на него, она нашла наконец слова:
— Позвольте мне подняться на борт, пожалуйста!
Молодой человек протянул Тенар руку. Она ухватилась за нее и, пошатываясь, прошла по сходням на палубу корабля.
— А ты подожди там, — сказал юноша Ловкачу и снова обернулся к Тенар: — Пойдемте со мной, госпожа.
Но ноги уже не держали ее. Грудой тряпья Тенар рухнула на палубу столичного корабля, уронив свой тяжелый мешок, но крепко прижимая к себе девочку.
— Не позволяйте ему забирать ее, ах, господин мой, умоляю, только не отдавайте ему ее снова, нет, нет, нет!..
Глава 10
Дельфин
Она ни за что не соглашалась отпустить девочку от себя. Все они на корабле были мужчинами! Лишь очень не скоро она обрела способность воспринимать то, что они говорят, что происходит вокруг. Когда она поняла, кто такой тот молодой человек, которого она сперва приняла за своего сына, то ей показалось, что она все время знала это, только не имела возможности подумать как следует. Она была не в состоянии ни о чем подумать как следует.
Юноша вернулся с причала на палубу корабля и теперь разговаривал у сходней с седовласым моряком — похоже, шкипером. Потом он через плечо посмотрел на Тенар, которая съежилась между перилами и рубкой, крепко прижимая к себе Терру. Чрезмерная усталость, тяжкие испытания этого дня одержали верх над всеми страхами: Терру глубоко спала. Тенар подложила девочке под голову ее маленький мешок и укрыла своим плащом. Потом медленно распрямила ноги и встала; молодой человек тут же бросился к ней. Она поправила юбки и пригладила откинутые на спину волосы.
— Я Тенар с Атуана, — сказала она. Он не шелохнулся. Она прибавила: — Мне кажется, ты наш король.
Он был очень молод. Моложе ее сына Искорки. Ему вряд ли исполнилось двадцать. Но что-то такое в его облике давало понять: он вовсе не так уж молод; а глаза смотрели так, словно видели все, даже адский огонь.
— Имя мое Лебаннен с Энлада, госпожа, — сказал он и уже собирался поклониться или даже преклонить перед ней колена, но она поймала его за руку, так что теперь они стояли лицом к лицу.
— Ты не должен этого делать предо мной, — сказала она, — как и я перед тобой!
Он удивленно рассмеялся и задержал ее руки в своих, с откровенным любопытством ее рассматривая.
— Откуда ты знаешь, что я искал тебя? Ты, значит, шла ко мне, когда тот человек…
— Нет-нет. Я убегала… от него… от… от бандитов… я пыталась попасть домой, вот и все.
— На Атуан?
— Ах нет! На свою ферму. В Срединную Долину. Это здесь, на Гонте. — Она тоже засмеялась сквозь слезы. Слезы безудержно лились у нее из глаз, сейчас их можно было наконец выплакать. Она выпустила руки короля, чтобы утереть свои слезы.
— Где это, Срединная Долина? — спросил он.
— На юго-востоке острова, за холмами. Там есть еще город Вальмут.
— Мы тебя туда отвезем, — сказал он, радуясь тому, что может ей это предложить и чем-то помочь.
Она улыбнулась и кивнула.
Король обернулся к шкиперу:
— Стакан вина, немного еды, отдых, а еще постель помягче для девочки.
Шкипер внимательно слушал, отдавая соответствующие приказания. Жилистый матрос, которого она помнила, казалось бы, с незапамятных времен, вышел вперед, собираясь взять Терру на руки, но Тенар преградила ему путь. Она никому не могла позволить коснуться девочки.
— Я сама понесу ее, — сказала она звенящим, как натянутая струна, голосом.
— Там трап, госпожа. Давайте лучше я, — предложил матрос, и она поняла, что он добрый человек, но все-таки не могла позволить ему коснуться Терру.
— Можно мне? — спросил молодой король и, взглянув на Тенар, опустился на колени, взял спящую девочку на руки, понес к люку и стал очень осторожно спускаться по трапу. Тенар шла следом.
Он положил Терру на койку в тесной каюте. Неуклюжий, ласковый. Заботливо подоткнул плащ. Все это Тенар ему позволила.
На корме, в большой каюте с широким окном, обращенным в сторону окутанного сумерками залива, король попросил Тенар присесть за дубовый стол. Сам взял из рук юнги поднос, сам налил красного вина в тяжелые хрустальные кубки, сам предложил ей фрукты и печенье.
Она пригубила вино.
— Очень хорошее вино, правда, не Года Дракона, — сказала она.
Он ошарашенно посмотрел на нее, растерявшись, как мальчишка.
— Это вино с Энлада, не с Андрадских островов, — кротко пояснил он.
— Отличное вино, — заверила она его, отпив еще глоток. Потом взяла печенье. Печенье было сухое, рассыпчатое, очень сдобное и не слишком сладкое. Зато зеленый и янтарно-желтый виноград казался почти приторным и чуточку терпким. Живой вкус еды и вина был для нее точно швартовы для корабля: он вновь привязывал ее к этому миру, к ее собственному разуму. — Я была очень напугана, — сказала она, как бы оправдываясь. — Теперь, наверное, скоро оправлюсь. Вчера… нет, сегодня, сегодня утром… случилось… на меня было наложено заклятие… — Оказалось непереносимо трудно, почти невозможно произнести это слово. Тенар стала заикаться. — П-п-проклятие… я была п-п-проклята… у меня отняли речь и разум. И тогда мы сбежали, но попали прямо в руки тому человеку, который… — Она в отчаянии подняла глаза на молодого короля, который внимательно слушал ее. Его мрачный спокойный взгляд помог ей выговорить то, что выговорить было необходимо. — Он был одним из тех, что изувечили девочку. Он и ее родители. Они изнасиловали ее, избили до полусмерти и сунули в костер; такое тоже порой случается, господин мой. Такое порой случается даже с детьми. И этот человек продолжает преследовать девочку, пытается во что бы то ни стало до нее добраться. И…
Она заставила себя передохнуть, отпила немного вина, стараясь неторопливо насладиться его вкусом и ароматом.
— И это от него я бежала к тебе. В рай. — Она огляделась, осмотрела низкие резные балки под потолком, полированный стол, серебряный поднос, тонкое спокойное молодое лицо короля. У него были темные и мягкие волосы, чистая кожа, цвета красновато-золотистой бронзы; одет он был хорошо и просто, никакой цепи или кольца, ни единого символа королевской власти. Но по его виду сразу можно было сказать, что это король.
— Мне очень жаль, что я его отпустил, — сказал Лебаннен. — Но его еще вполне можно найти. А кто проклял тебя?
— Один волшебник. — Ей не хотелось называть его имя. Не хотелось вспоминать все это. А хотелось, чтобы все поскорее осталось далеко-далеко позади. Никакой мести, никакой погони. Пусть разбираются со своей ненавистью сами, пусть остаются там, позади, пусть забудутся.
Лебаннен не настаивал, однако спросил:
— А будешь ли ты в безопасности на своей ферме?
— Надеюсь. Если бы я тогда не так устала, не растерялась бы так… если б голова у меня работала как следует — а то ведь я даже думать не могла, — я бы и Ловкача не испугалась. Да и что бы он, собственно, мог мне сделать? Когда кругом полно народу — на улицах и везде? Мне не следовало убегать от него. Но тогда я чувствовала только ЕЕ СТРАХ, и ничего больше. Она еще так мала! Пока что она умеет только бояться его. Ей нужно еще научиться его не бояться. Я должна научить ее этому… — Она размышляла вслух. Думала она по-каргадски. Неужели она и говорила по-каргадски? Он вполне может подумать, что она сошла с ума, старая, безумная, что-то бормочущая старуха. Она остро глянула на него. Его темные глаза смотрели не на нее, а на язычок пламени за стеклом лампы, что висела низко над столом. Маленькое, спокойное, чистое пламя. Его лицо было слишком печальным для столь юного существа.
— Ты приплыл сюда, чтобы найти его, — сказала она. — Верховного Мага. Ястреба.
— Геда, — поправил он, глядя на нее с едва заметной улыбкой. — Ты, и он, и я — все мы зовемся Подлинными Именами.
— Ты и я — да. Но он — только с тобой и со мной.
Король кивнул.
— Он сейчас в опасности. Ему грозят всякие завистливые люди… злоумышленники… а у него сейчас нет… нет никакой защиты. Ты об этом знаешь?
Она не могла заставить себя выражаться яснее. Лебаннен сказал:
— Он говорил мне, что его могущество, его волшебная сила исчерпаны во время того подвига, что спас и меня, и всех нас. Но в это так трудно поверить! Мне не хотелось верить ему.
— Мне тоже. Но это так и есть. И поэтому он… — Снова Тенар колебалась. — Он хочет побыть один, пока раны его не зарубцуются, — осторожно договорила она.
— Он и я, мы вместе были в темной стране, в иссушенной пустыне, — сказал Лебаннен. — Вместе мы умирали. Вместе прошли через те горы. Сюда можно вернуться, если пройти через те горы. Там есть еще один путь. И он это знал. Но имя тех гор — Горе. Камни… Острые камни тех гор наносят такие глубокие порезы — очень долго не заживает…
Он посмотрел на свои руки. Она вспомнила руки Геда, израненные и обожженные, судорожно стиснутые, все в запекшейся крови. Он все старался зажать свои раны…
Ее собственная рука сжала в кармане тот камешек — то самое Слово, что она подобрала на крутой горной дороге.
— Почему он прячется от меня? — вскричал юноша в тоске. И тихо прибавил: — Я так хотел, так надеялся увидеть его. Но если он сам того не желает, то, разумеется, и говорить не о чем. — В этих словах она услышала ту же холодноватую вежливость, то же достоинство, что и в речах посланцев Хавнора; она высоко ценила подобную воспитанность; она хорошо знала, чего это стоит. Но юноша был дорог ей именно потому, что у него вырвались эти слова тоски.
— Он, конечно же, придет к тебе. Только дай ему время. Он получил такой тяжкий удар — у него отнято все… все… Но когда он говорил о тебе, когда произносил твое имя — ах, в такие минуты я снова видела Геда таким, каким он был когда-то!.. каким он будет
снова… Гордым!
— Гордым? — повторил Лебаннен удивленно.
— Да. Конечно, гордым. Кому и гордиться, как не ему?
— Я всегда считал его… он был так бесконечно терпелив… — Лебаннен помолчал и засмеялся собственным противоречивым словам.
— Ну а теперь терпения-то ему как раз и не хватает, — сказала Тенар, — и он беспредельно жесток по отношению к себе. Мы ничего не можем для него сейчас сделать, разве что не мешать ему следовать тем путем, который он сам для себя избрал — «чтобы на другом конце привязи обнаружить себя самого». Так здесь говорят, на Гонте… — И вдруг сама она почувствовала, будто ходит вокруг колышка на привязи, и такая предельная усталость навалилась на нее, что показалась ей болезнью. — По-моему, мне пора отдохнуть, — сказала она.
Он тут же поднялся.
— Госпожа Тенар, ты сказала, что бежала от одного врага и встретила другого; зато я явился сюда в поисках одного друга, а нашел двоих!
Она улыбнулась его сметливости и доброте. Что за чудесный мальчик, подумала она.
Корабль, казалось, весь находился в движении: слышались стон и скрежет корабельной обшивки, грохот бегущих ног над головой, стук разматываемой парусины, крики матросов. Терру разбудить было нелегко, и, проснувшись, она ничего не могла понять; возможно, у нее даже был жар, хотя она всегда была такой горячей, что Тенар даже не пыталась определять, не больна ли девочка. Терзаясь угрызениями совести из-за того, что заставила малышку прошагать больше восьми часов да еще пережить весь тот ужас вчерашнего дня, Тенар попыталась развеселить ее, рассказывая, что они плывут на корабле и эта маленькая комнатка, где они спали, принадлежит самому королю, а корабль везет их домой, на ферму, и тетушка Ларк ждет их там, а может быть, ждет и Ястреб. Но ничто не интересовало Терру. Она оставалась совершенно равнодушной, вялой, все время молчала.
На ее маленькой худенькой ручке Тенар заметила красные следы четырех пальцев — словно клеймо, словно ее коснулись раскаленные наручники. Но ведь Ловкач даже не сжимал ей руку, он только чуть дотронулся до нее? Она, Тенар, когда-то сама пообещала ей, что этот человек никогда больше ее не коснется. И обещания не сдержала. Ничего ее слово не стоит! Да и какое слово может справиться с тупой мощью насилия?
Она наклонилась и поцеловала отметины на ручонке Терру.
— Жаль, что я не успела дошить твое красное платьице, — сказала она. — Королю, наверно, очень приятно было бы увидеть тебя в нем. Хотя, по-моему, на кораблях люди не носят нарядное платье, даже короли.
Терру села на койке, низко склонив голову и ничего не отвечая. Тенар расчесала ее волосы. Они наконец-то стали расти как следует; густые, шелковистые пряди темной волной закрывали обожженную щеку и руку.
— Хочешь есть, птенчик? Ты ведь вчера даже и не поужинала. Может быть, король даст нам позавтракать? Вчера вечером он угощал меня печеньем и виноградом.
Ответа не последовало.
Когда Тенар сказала, что им пора выйти из каюты, девочка подчинилась. Наверху, на палубе, она стояла, прижав голову к плечу. Она не смотрела ни вверх, на белоснежные паруса, наполненные сильным утренним ветром, ни на искрящуюся воду, ни на гору Гонт, вздымавшуюся у них за спиной к самым небесам, ни на великолепие лесов. Она не подняла глаз и тогда, когда с ней заговорил Лебаннен.
— Терру, — ласково сказала Тенар, опускаясь возле нее на колени, — когда с тобой говорит король, следует отвечать.
Девочка молчала.
На лице Лебаннена, не сводившего с Терру глаз, ничего прочесть было нельзя. Возможно, то была просто маска воспитанного человека, скрывающего свое отвращение и потрясение. Однако его темные глаза были спокойны. Он легонько коснулся детской ручонки и сказал:
— Тебе, должно быть, очень странно было проснуться посреди моря?
Она согласилась поесть и съела немножко фруктов. Когда Тенар спросила, не хочет ли она вернуться в каюту, девочка кивнула. Тенар неохотно оставила ее там, забившуюся в угол, и вернулась на палубу.
Корабль проплывал между Сторожевыми Утесами, до самого неба вздымавшимися каменными стенами, которые, казалось, вот-вот коснутся парусов. Лучники в маленьких крепостях, прилепившихся, словно гнезда стрижей, высоко на утесах, смотрели вниз, на палубу корабля, и матросы радостно вопили: «Дорогу королю!», а в ответ доносилось — куда громче крика ласточек и стрижей в небесах: «Да здравствует наш король!»
Лебаннен стоял на носу судна со шкипером и каким-то пожилым, аккуратно одетым в серый плащ мага, узкоглазым человеком с острова Рок. Гед тоже надел такой красивый серый плащ, когда они с ним привезли Кольцо Эррет-Акбе в Башню Меча; а старый его плащ, весь в пятнах, грязный и изношенный, служил ему некогда единственным одеялом — там, в Гробницах Атуана и в пустынных горах, когда они вместе шли к побережью. Тенар думала об этом, глядя, как у бортов корабля разлетаются хлопья пены и высокие утесы пропадают вдали за кормой.
Когда корабль миновал последние рифы и начал сворачивать к востоку, к Тенар подошли трое. Лебаннен, один из них, сказал:
— Госпожа моя, это Мастер Ветродуй с острова Рок.
Великий Маг поклонился, с восхищением глядя на нее живыми острыми глазами, в которых светилось и любопытство. Это такой человек, решила она, которому нравится знать, куда дует ветер.
— Ну, значит, теперь мне уже не нужно мечтать, чтобы хорошая погода продержалась еще немного: я просто на это рассчитываю, — сказала она Ветродую.
— В такой день, как сегодня, я всего лишь обычный пассажир, — ответил ей Маг. — Кроме того, с таким капитаном за рулем, как Мастер Серратен, не требуется никакой заклинатель погоды.
Все мы очень вежливы, думала она, все мы — дамы и господа, изысканно кланяемся и говорим друг другу комплименты. Она быстро глянула на молодого короля. Тот смотрел на нее улыбаясь, по-прежнему сдержанный.
Она чувствовала себя примерно так же, как когда-то девочкой в Хавноре: маленькая варварка, неловкая среди всеобщей изысканной обходительности. Однако теперь уже былого священного трепета перед этим блеском Тенар не испытывала; лишь удивлялась тому, как эти мужчины подчинили свою жизнь какому-то вечному танцу масок и как легко и просто любая женщина может научиться исполнять этот танец.
Ей сказали, что понадобится один только сегодняшний день, чтобы доплыть до Вальмута при таком свежем ветре и ясной погоде. Уже после обеда они причалят в тамошней гавани.
Все еще чувствуя сильную усталость после пережитых вчера волнений, Тенар рада была присесть на «ложе», которое уже знакомый ей матрос соорудил для нее из соломенного тюфяка и куска парусины; она смотрела на бегущие волны, на чаек, на меняющиеся очертания горы Гонт, синей и сонной в полуденном свете, на крутые обрывистые берега. Потом привела наверх и Терру, чтобы та побыла на солнышке; девочка пристроилась с ней рядом, то глядя по сторонам, то снова погружаясь в дремоту.
Какой-то матрос, очень темнокожий, беззубый, босой, с подошвами ног, твердыми, как подковы, и чудовищно искривленными, изуродованными пальцами, подошел к ним и положил что-то на тюфяк возле Терру.
— Для малышки, — хрипло сказал он и тут же снова отошел, однако потом все посматривал украдкой, занимаясь своим делом, в сторону девочки, чтобы убедиться, что ей понравился его подарок. Терру не пожелала даже коснуться маленького свертка. Развернуть его пришлось Тенар. Это было прелестное изображение дельфина, изящная вырезанная из кости статуэтка длиной не больше пальца.
— Он может жить вместе с другими твоими костяными фигурками, — посоветовала Тенар.
При этих словах Терру будто ожила, достала свою плетенную из травы сумочку и положила дельфина туда. Но пойти поблагодарить скромного дарителя пришлось тоже Тенар. Терру не желала ни смотреть на него, ни говорить с ним. Через некоторое время она снова попросилась в каюту, и Тенар оставила ее там играть с костяным человечком, зверьком и дельфином — веселой компанией.
Ах, до чего же легко, с яростью думала она, до чего легко этому Ловкачу было отнять у ее девочки солнечный свет, и этот корабль, и юного короля, и само ее детство; и как же трудно вернуть все это ей обратно! Целый год я старалась вернуть ей эту радость, а он лишь чуть прикоснулся к ней и снова все у нее отнял. Зачем? Неужели в этом предмет его гордости, его могущества? Неужели сила его оборачивается пустотой?
Она подошла к королю и Магу Ветродую, стоявшим у перил. Солнце уже сильно клонилось к западу, и корабль плыл по великолепию волн, сверкающих дивными красками. Тенар почему-то вспомнила вдруг тот свой сон, когда летала вместе с драконами в небесах.
— Госпожа Тенар, — сказал король, — я не оставлю никакого письма для нашего общего друга. Мне кажется, что этим я обременил бы тебя и посягнул бы на его свободу. Я не хочу делать ни того, ни другого. В этом месяце состоится моя коронация. Если бы это он держал корону над моей головой, правление мое началось бы так, как того желает моя душа. Но будет так или нет — а именно он возвел меня на трон. Именно он сделал меня королем. Я этого никогда не забуду.
— Знаю, что не забудешь, — ласково сказала она. Этот мальчик был так напряжен, так серьезен, словно закован в броню дворцового этикета, и тем не менее очень уязвим из-за своей честности, из-за чистоты своих побуждений. Она принимала его всем сердцем. Он думает, что познал Великое Горе, но он познает его снова и снова, и всю свою жизнь будет познавать его, и ничего из этого горького опыта никогда не забудет.
А потому и не станет в отличие от Ловкача искать простых путей.
— Я охотно передам твое послание, — сказала она. — Мне это вовсе не трудно. А вот захочет ли он выслушать — это уж от него зависит.
Мастер Ветродуй усмехнулся.
— Так всегда было, — сказал он. — Всегда все зависело только от него самого.
— Ты давно знаешь его?
— Дольше, чем ты, госпожа моя. Я его когда-то учил, — сказал Маг. — Тому, чему мог… Он ведь явился в Школу на остров Рок, как ты знаешь, совсем мальчишкой и принес письмо от Огиона, в котором сообщалось, что в этом пастушке заключена великая сила. Но в первый же раз, когда я отправился с ним на лодке, чтобы научить его разговаривать с ветрами, он, знаешь ли, поднял водяной смерч. И тогда я понял, что всех нас ждет: мальчик либо утонет еще до того, как ему исполнится шестнадцать, либо станет Верховным Магом еще до того, как ему стукнет сорок… А может, мне просто кажется теперь, что тогда я так думал…
— Он по-прежнему Верховный Маг Земноморья? — спросила Тенар. Вопрос казался абсолютно бестактным, а ответное молчание напугало ее еще больше: значит, это не просто бестактность с ее стороны.
Наконец Ветродуй пояснил:
— В настоящее время на острове Рок нет Верховного Мага. — Голос его звучал чрезвычайно настороженно, и слова он выговаривал очень четко.
Она не осмелилась спросить, что он имел в виду.
— Я полагаю, — сказал король, — что Восстановивший Руну Мира может быть членом любого совета в Земноморье; а ты, господин мой, разве так не думаешь?
Последовала еще одна пауза — и после очевидной борьбы с собой Маг выговорил:
— Разумеется.
Лебаннен немного подождал, но больше Ветродуй не прибавил ни слова.
Молодой король окинул взором сияющие закатным светом воды и заговорил напевно, словно рассказывая сказку:
— Когда мы с ним прилетели с самого дальнего запада на спине дракона… — Он помолчал, и имя дракона прозвучало в душе Тенар словно удар колокола:
Калессин. — Дракон оставил меня на острове Рок, а его унес прочь. И тогда Привратник Школы сказал: «Он покончил с делами. Он идет домой!» А еще раньше, на берегу Селидора, Гед бросил свой посох, сказав мне, чтобы я о посохе не беспокоился, ибо сам он больше уже никакой не маг. Ну и потом Мастера острова Рок собрались на совет, чтобы выбрать нового Верховного Мага.
На этот совет они пригласили и меня, дабы я как будущий король смог приобщиться к их премудрости. А еще, наверное, я вошел в их число, потому что необходимо было занять пустующее место: место Ториона, Мастера Заклинателя, чье искусство обернулось против него же по умыслу тех злых сил, которые господин мой Ястреб в конце концов уничтожил. Когда мы были там, в пустынной стране, что простирается между каменной стеной и Горами Горя, я видел Мастера Ториона. Мой господин окликнул его и рассказал ему, как можно вернуться назад, к жизни. Но, по-моему, Торион не пошел по указанному пути. И к жизни не вернулся.
Сильные тонкие пальцы Лебаннена изо всех сил сжали поручни. Он по-прежнему не отрывал глаз от сияющего моря. Через некоторое время он снова заговорил.
— Итак, я дополнил число «девять», необходимое для того, чтобы выбрать нового Верховного Мага. Великие Маги с острова Рок — люди очень мудрые, — сказал он, посмотрев на Тенар. — Они не только прекрасно осведомлены в своих науках и искусствах, но и обладают богатым жизненным опытом. Все они очень разные, но используют свои различия, как я это понял гораздо раньше, лишь для того, чтобы общее решение было более весомым, многогранным. Однако на этот раз…
— Дело в том, — вмешался Мастер Ветродуй, заметив, что Лебаннену, видимо, не хочется критиковать Великих Мастеров, — что на этот раз у нас были одни разногласия и никакого решения мы вынести не могли. Мы никак не могли прийти к согласию. Может быть, из-за того, что Верховный Маг по-настоящему не был мертв — он был жив, видишь ли, но уже не был Магом… и тем не менее, по всей видимости, оставался Повелителем Драконов… Да и Мастер Метаморфоз еще не совсем оправился от собственных чар, чуть его не погубивших. Метаморфоз все еще надеялся, что Заклинатель сможет побороть смерть и вернуться из ее Царства, и умолял нас подождать… А Мастер Путеводитель и вообще не желал ничего говорить. Он ведь карг, госпожа моя, как и ты; ты это знала? Он прибыл к нам с Карего-Ат. — Проницательные глаза Мастера Ветродуя наблюдали за Тенар: в какую сторону подует ветер на этот раз? — По всем этим причинам в нашей Девятке многого не хватало и все у нас не ладилось. Когда Привратник спросил, какие имена мы могли бы назвать, не было названо ни одного имени. Каждый посматривал на соседа…
— Я смотрел в землю, — вставил Лебаннен.
— И в конце концов все мы воззрились на того, кому ведомо самое большое количество имен: на Мастера Ономатета. А он, в свою очередь, не сводил глаз с Мастера Путеводителя, который так и не сказал ни слова и сидел среди своих волшебных деревьев как пень. Ты же знаешь, наверное, что подобные встречи происходят всегда в Имманентной Роще, среди деревьев-великанов, чьи корни глубже, чем корни островов Земноморья. Был уже поздний вечер. Порой в Роще мелькают огоньки, но тогда все окутывала тьма и небо казалось черным, беззвездным. Вдруг Путеводитель встал и заговорил — но на своем родном языке, а не на ардическом и не на Языке Созидания. Мало кто из нас владел языком каргов, и мы были в полной растерянности. Но Ономатет все разъяснил нам. Мастер Путеводитель, оказывается, сказал: это
одна женщина с Гонта.
Ветродуй умолк. На Тенар он больше не смотрел. Помолчав, она спросила:
— И больше ни слова?
— Больше ни слова. Когда мы попросили его уточнить, он только удивленно смотрел на нас, но ответить ничего не мог: полностью был во власти видения — понимаешь, он прекрасно представлял себе форму предмета и путь к нему, но почти ничего из этого не мог выразить словами, конкретными понятиями. И то, что ему удалось произнести, Он понимал не лучше остальных. Вот и все, чего мы тогда добились.
Мастера с острова Рок все были прирожденными учителями, а Мастер Ветродуй к тому же был очень хорошим учителем и ничего не мог с собой поделать: он и сейчас старался рассказывать Тенар обо всем предельно понятно и просто. Возможно, чересчур просто. Он умолк, осторожно глянул на нее и отвернулся.
— Итак, теперь тебе ясно, госпожа моя, — снова заговорил он, — что нам непременно нужно было побывать на Гонте. Но кого нам следовало искать здесь? «Одна женщина» — не слишком точное указание для начала поисков. Видимо, предназначение этой женщины — повести нас за собой, каким-то образом указать нам путь к нашему Верховному Магу. И сразу, как ты и сама уже догадалась, госпожа моя, речь зашла о тебе — ибо о какой еще подобной женщине с острова Гонт могли мы когда-либо слышать? Остров этот невелик, зато твоя слава велика. И тогда один из Мастеров сказал: «Она отведет нас к Огиону». Но все мы знали: Огион давным-давно отказался быть Верховным Магом Земноморья и тем более теперь, когда он стар и болен, этого предложения ни за что не примет. И, по-моему, как раз в тот вечер Огион собирался покинуть наш мир. Сразу возникло другое предположение: «Она отведет нас к Ястребу!» И тут мы совсем запутались…
— Да, совсем, — подтвердил Лебаннен. — К тому же вдруг в Имманентной Роще пошел самый настоящий дождь! — Он улыбнулся. — Я уж думал, что больше никогда не услышу стука дождевых капель по листьям, и так обрадовался!..
— Девять человек промокли до нитки, — сказал Мастер Ветродуй, — но один из них при этом был счастлив.
Тенар засмеялась. Она ничего не могла с собой поделать: этот старый Маг ей нравился. Если он и держался с ней настороженно, так ведь и она тоже была настороже, хотя в присутствии Лебаннена, казалось, можно было говорить только откровенно.
— Ваша «одна женщина с Гонта», уж во всяком случае, не я, потому что к Ястребу я вас не поведу.
— Таково было и мое мнение, — совершенно искренне воскликнул Ветродуй. — Это не могла быть ты, госпожа моя, иначе Путеводитель непременно произнес бы твое Подлинное Имя. Ведь таких, кто открыто зовется своим Подлинным Именем, очень мало! И все-таки я уполномочен Советом Рока спросить тебя, не знаешь ли ты какой-нибудь другой женщины на этом острове, которая походила бы на ту, кого мы ищем? Может быть, это сестра или мать наделенного волшебной силой человека, а может быть, его наставница — ведь и среди простых ведьм встречаются по-своему очень и очень мудрые. Может быть, Огион знал такую женщину? Говорят, что он знал на этом острове каждого человека, хотя и жил в полном одиночестве да и бродить любил по диким местам. Мне бы так хотелось, чтобы он был сейчас жив! Уж он-то смог бы нам помочь!
Тенар тут же вспомнила ту рыбачку, о которой ей рассказывал Огион. Но женщина та уже была старой много лет назад, а теперь, конечно же, умерла. Хотя драконы, подумала вдруг Тенар, живут очень долго, во всяком случае так всегда считалось.
Она довольно долго молчала, потом сказала лишь:
— Нет, ни одной такой женщины я не знаю.
Она хорошо понимала, что Маг изо всех сил старается быть с ней терпеливым. Мало ли что у нее на уме? Да и неизвестно еще, чего она сама хочет? Он, несомненно, думает именно так. Тенар вдруг удивилась, как это она осмеливается молчать. А ведь это его глухота заставляет ее молчать! И она не может даже объяснить ему, насколько он глух.
— Значит, — медленно проговорила она наконец, — в Земноморье теперь Верховного Мага нет? Зато есть король.
— На которого возложены все наши надежды и упования, — сказал Маг с такой теплотой, что сразу переменился к лучшему. Лебаннен, наблюдавший за ними и прислушивавшийся к их разговору, улыбнулся.
— За последние годы, — неуверенно начала Тенар, — случилось столько всяких несчастий, столько бед. Моя… мою девочку… такое стало происходить слишком часто. И еще я слышала, как могущественные волшебники и чаровницы жаловались, что слабеют их силы, уходит мастерство.
— Это вина того, кого наш Верховный Маг и мой господин победил в Пустынной стране; он носил лишь прозвище — Коб — и вызывал никому доселе не ведомые беды и разрушения. Нам еще много-много лет придется восстанавливать наше искусство, исцелять наших мудрецов, оздоравливать наше волшебство, — решительно произнес Маг.
— А вдруг потребуется куда больше — не просто восстанавливать и лечить? — задумчиво проговорила Тенар. — Хотя лечить, конечно, тоже необходимо… Но мне хотелось бы знать вот что: не может ли… не может ли еще один такой Коб снова обрести могущество, хотя все в мире так переменилось… хотя перемены затронули наш мир сверху донизу? Хотя благодаря этим переменам у нас в Земноморье снова есть настоящий король — и, может быть, именно король нам теперь нужнее, а не Верховный Маг?
Мастер Ветродуй смотрел на нее так, словно вдруг на совершенно безоблачном небосклоне увидел очень далекую грозовую тучу. Он даже поднял было правую руку, как бы намереваясь произнести заклятие, связывающее ветер, потом опустил ее. И улыбнулся.
— Не бойся, госпожа моя, — сказал он. — Остров Рок и Высшее Искусство Магии не погибнут. Наше сокровище охраняется очень хорошо!
— Скажи это Калессину, — буркнула Тенар, не в силах более выносить его непроизвольное пренебрежение. Ну конечно! Он прямо-таки остолбенел, услышав имя старого дракона. Но ее-то он даже и теперь услышать не сумел! Да и где ему суметь — ведь он в последний раз слушал женщину, когда его мать пела ему колыбельную.
— А ведь и правда! — воскликнул Лебаннен. — Калессин же приземлился на острове Рок, который, как известно, совершенно недоступен для драконов, и отнюдь не благодаря каким-то заклятиям моего господина — в нем тогда уже не осталось волшебной силы… и я не думаю, Мастер Ветродуй, что леди Тенар боится за себя.
Маг предпринял отчаянную попытку загладить нанесенное Тенар оскорбление:
— Прости, госпожа моя, что я говорил с тобой как с обычной женщиной.
Тенар едва сдержала смех. Этот смех мог бы потрясти его до глубины души. Она лишь равнодушно сказала:
— В моих опасениях и нет ничего необычного. — Но и это не помогло: он просто не способен был услышать ее. Зато молодой король молчал, чутко прислушиваясь. Юнга с верхушки мачты, явившись из мира спутанных снастей и раскачивающихся парусов, крикнул ясным и звонким голосом: «Город прямо по курсу!», и через минуту те, кто был на палубе, увидели разбросанные на берегу дома, столбы дыма над серо-голубыми сланцевыми крышами, светящиеся закатным светом стекла в окнах, а потом, совсем рядом — пирсы и причалы Вальмута, раскинувшегося у залива с шелковисто-синей водой.
— Причаливать или вы воспользуетесь заклятием, господин мой? — спокойно спросил шкипер, и Мастер Ветродуй ответил:
— Причаливай сам, шкипер. Лень возиться с этой водоплавающей мелочью! — И он показал на несколько дюжин рыбачьих лодок, что почти сплошь покрывали воды залива. Королевский корабль, точно лебедь среди утят, осторожно вошел в гавань под крики приветствий, раздававшиеся с каждой лодки.
Тенар заметила, что у причалов нет ни одного большого морского судна.
— У меня сын — моряк, — сказала она Лебаннену. — Я думала, что его корабль, может, тоже в здешнем порту…
— А как называется его корабль?
— Он был третьим помощником капитана «Чайки Эскила» — но уже больше двух лет назад. Наверно, теперь на другом корабле плавает. Он у нас непоседливый… — Она улыбнулась. — Когда я в первый раз тебя увидела, то решила, что это он. А вы с ним совсем и не похожи, только оба высокие, худые и молодые. Просто я тогда не в себе была, испугалась очень… Ничего особенною, конечно…
Старый Маг давно ушел на капитанский мостик, так что они с Лебанненом остались вдвоем.
— Слишком много страхов, в которых нет ничего особенного, — сказал он.
Это была последняя возможность поговорить с ним наедине, и слова стали срываться у нее с губ поспешно и неуверенно.
— Я хотела сказать… впрочем, это бессмысленно… но разве не может быть так, что на Гонте найдется такая женщина — не знаю, кто она, понятия не имею, но ведь может быть, что и есть такая или еще будет, а они именно ее-то и ищут, она-то им и нужна?.. Разве это невозможно?
Он слушал. Он не был глух. Но нахмурился, насторожился, словно пытаясь понять чужой язык. И сказал едва слышно, будто выдохнул:
— Это возможно.
Какая-то рыбачка на маленьком ялике подгребла к ним: «Откуда вы?», и мальчишка-юнга сверху возвестил, словно петушок с высокой крыши: «Из столицы, от короля!»
— Как называется этот корабль? — спросила Тенар. — Мой сын спросит, на каком корабле я приплыла сюда.
—
Дельфин, — ответил Лебаннен, улыбаясь ей.
«Сын мой, король мой, дорогой мой мальчик, — подумала она. — Как бы мне хотелось всегда быть рядом с тобой!»
— Я должна привести малышку, — сказала она.
— Как ты доберешься домой?
— Пешком. Отсюда всего несколько часов ходьбы, это чуть выше, в горах. — Она указала ему за город, туда, где широко раскинулась между двумя отрогами горы Гонт залитая солнцем Срединная Долина. — Моя деревня на самом берегу реки, а ферма — в четверти часа ходьбы от нее. Это один из самых чудесных уголков твоего королевства.
— Но будешь ли ты там в безопасности?
— О да! Сегодня я переночую у дочери в Вальмуте. А в нашей деревне на любого можно положиться. Одна я не останусь.
На мгновение глаза их встретились, но ни один не произнес того имени, о котором подумал.
— Они снова приплывут сюда с острова Рок? — спросила она. — Станут искать «одну женщину с Гонта»… или его самого?
— Его искать не станут. Это я им делать запрещу, даже если они и вознамерятся, — сказал Лебаннен, не сознавая, сколь многое сказал ей этим. — Ну а нового Верховного Мага или ту женщину из видений Мастера Путеводителя они, конечно, будут искать и, может быть, еще не раз явятся сюда. А может, и прямо к тебе.
— Рада буду приветствовать их на Дубовой Ферме, — сказала она. — Хотя и не так рада, как если бы туда приехал ты сам.
— Я приеду, как только смогу, — сказал он, чуть посуровев, и задумчиво прибавил: — И
если смогу.
Глава 11
Дома
Чуть ли не все жители Вальмута собрались на пристани, чтобы посмотреть на корабль из Хавнора, услышав, что сюда прибыл сам молодой король, о котором успели уже сложить новые песни. В Вальмуте новых песен пока не знали, зато помнили старые, и Релли под аккомпанемент своей арфы спел отрывок из «Подвига Морреда» для юного короля Земноморья, который, как известно, был потомком Морреда. Появившийся на палубе король оказался таким молодым, высоким и красивым, каким и должен быть настоящий правитель Земноморья; рядом с ним стояли старый Маг с острова Рок, какая-то женщина и маленькая девочка — обе в старых плащах и похожие на нищенок. Однако король обращался с ними так, как если бы то были королева и принцесса. Может, они ими и были, кто знает?
— Может, это мать его? — сказала молоденькая Шинни, пытаясь разглядеть короля получше, но ей мешали головы мужчин, толпившихся впереди. И тут ее подруга Эппл по прозвищу Яблочко сжала ей руку и тихонько вскрикнула — точнее, прошептала:
— Ой… это же мама!
— Чья мама? — спросила Шинни, и Эппл ответила:
— Моя. А это Терру. — Но проталкиваться вперед сквозь толпу не стала, даже когда с корабля на берег сошел офицер и пригласил старого Релли на судно, чтобы тот сыграл для короля. Яблочко ждала вместе со всеми. Она видела, как король принял нотаблей Вальмута, слышала, как Релли пел для него. Потом король стал прощаться со своими гостьями: корабль уже снова готовился к отплытию, чтобы еще до наступления ночи взять курс на остров Хавнор. Наконец по сходням на пристань сошли Терру и Тенар. Король торжественно обнял их на прощание, касаясь щекой щеки, а чтобы обнять Терру, опустился на колени. «Ах!» — воскликнула толпа у причала. Солнце садилось в золотистой дымке, на поверхности залива пролегла широкая золотая дорога. В руках у Тенар был тяжелый мешок и сумка; Терру, как всегда, шла опустив голову, и лицо ее было скрыто волосами. Сходни убрали, матросы засуетились, офицеры громко раздавали приказания, и вот корабль «Дельфин» поплыл прочь от острова Гонт. Тогда Яблочко протолкалась наконец сквозь толпу.
— Здравствуй, мама, — сказала она, и Тенар откликнулась:
— Здравствуй, дочка.
Они поцеловались, и Яблочко, подхватив Терру на руки, воскликнула:
— Ну и выросла ты! В два раза больше стала! Ну пошли, пошли к нам.
В тот вечер Яблочко почему-то немножко стеснялась собственной матери, даже в своем уютном доме, будучи женой молодого вальмутского купца. Она несколько раз задумчиво, даже испуганно поднимала на Тенар глаза и снова их опускала.
— Мне вообще-то всегда это было как-то безразлично, ты же знаешь, ма, — сказала Яблочко, появляясь в дверях спальни, — и эта Руна Мира… и твое торжественное прибытие в Хавнор с Кольцом… Для меня это все равно что какая-нибудь старинная песня… про то, что случилось тысячу лет назад! Но это ведь действительно была ты? Правда?
— Это была одна девушка с острова Атуан, — сказала Тенар. — И это случилось тысячу лет назад. А вот я сейчас, по-моему, вполне способна тысячу лет проспать.
— Ну тогда скорее ложись. — Яблочко взяла лампу и собралась уходить. — А еще с королем целовалась! — сказала она насмешливо.
— Ступай, ступай себе, — устало откликнулась Тенар.
Яблочко с мужем упросили Тенар погостить у них пару дней, но вскоре она так решительно засобиралась на ферму, что Яблочко решила проводить их с Терру домой, и они втроем отправились в путь по берегу тихой серебристой реки Кахеды. Лето клонилось к осени. Солнышко еще пригревало вовсю, но ветер был уже прохладный. Листва на деревьях казалась пыльной и потрепанной; поля были уже убраны или готовы к уборке.
Яблочко без умолку говорила о том, как сильно выросла и окрепла Терру, как уверенно она ходит теперь.
— Видела бы ты ее в Ре Альби, — сказала Тенар, — до того, как… — и умолкла, решив не тревожить дочь.
— А что случилось? — все-таки встревожилась Яблочко и так настойчиво принялась выяснять это, что Тенар сдалась и тихо ответила:
— Один из
тех.
Терру бежала впереди, длинноногая, в ставшем коротким платьишке, и все высматривала чернику на опушке леса.
— Ее отец? — спросила Яблочко; ее тошнило при одной только мысли об этом.
— Ларк говорила, что вроде бы прозвище ее отца Треска. А этот помоложе. Тот самый, что приходил тогда и сказал Ларк, что случилось с девочкой. Его зовут Ловкач. Он… все слонялся вокруг да около, а потом — вот уж не повезло! — мы прямо на него налетели в Порту Гонт. А молодой король его прогнал. И вот нас привезли сюда, а он там остался, так что все в порядке.
— Вот Терру, должно быть, напугалась! — сказала Яблочко, мрачнея.
Тенар кивнула.
— А зачем вы пошли в порт?
— А, так получилось. Этот тип, Ловкач, работал на одного… волшебника в поместье у Лорда, и волшебнику этому я чем-то не понравилась… — Она все пыталась хотя бы прозвище этому волшебнику придумать — и не могла, ничего не могла; в голову ей лезло одно лишь слово:
туабо. Каргадское слово, обозначающее какое-то дерево, она даже не могла вспомнить какое…
— Ну и что?
— Ну и то! В итоге пришлось мне поскорее отправляться домой.
— За что ж этот волшебник так невзлюбил тебя?
— В основном за то, что я женщина.
— Да ну! — возмутилась Яблочко. — Ах он, старая сырная корка!
— Да он молодой совсем.
— Тем хуже! Ну что ж, по крайней мере у нас здесь никто родителей девочки не видел — если их так называть можно. А вот если они все-таки по-прежнему слоняются неподалеку, тогда очень плохо, что ты на ферме одна будешь.
Вообще-то очень приятно, когда твоя собственная дочь обращается с тобой по-матерински; сразу хочется начать капризничать. А потому Тенар нетерпеливо сказала:
— Со мной все будет в полном порядке!
— Могла бы уж по крайней мере собаку завести!
— Я уже думала об этом. У кого-нибудь в деревне, наверное, найдется щенок. Мы спросим у Жаворонка, когда мимо проходить будем.
— Не щенок тебе нужен, мама. Собака. Настоящая.
— Но хотя бы молодая? Чтобы Терру могла с ней играть! — умоляюще сказала Тенар.
— Ну да, милый такой теленочек, который будет со всеми, а заодно и с бандитами, лизаться! — съязвила Яблочко, шагая рядом с матерью — хорошенькая, здоровая, сероглазая.
Они пришли в деревню где-то около полудня. Ларк обрушила на Тенар и Терру настоящий ураган поцелуев, объятий, разнообразных вопросов и лакомств. Тихий муж ее только поздоровался приветливо. Однако соседи заглядывали один за другим. Тенар наконец почувствовала, что счастлива, что вернулась домой.
Жаворонок и двое ее младших ребятишек — их у нее было семеро, — мальчик и девочка, проводили прибывших до самой Дубовой Фермы. Дети, конечно же, знали Терру, поскольку именно в их дом она попала сперва, знали и ее повадки, хотя за два месяца порядком отвыкли от нее и сперва немного стеснялись. С ними и даже с Ларк Терру казалась замкнутой, пассивной — такой, как в давние дурные времена.
— Девочка просто вымоталась за долгую дорогу — и вообще… Ничего, она скоро придет в себя и прекрасно будет играть с ребятами, — говорила Тенар Жаворонку, но Яблочко не дала ей так просто обойти эту тему.
— Один из тех негодяев объявился! Запугивал и ее, и маму, — сказала Яблочко. И потихоньку-помаленьку дочь и подруга вытянули из Тенар всю ту историю целиком — пока открывали холодный, запущенный, пыльный дом, приводили его в порядок, проветривали постели, склоняли головы над грядками с луком, заросшими сорняками, разжигали огонь, ставили сковородку, чтобы разогреть еду, и готовили огромную кастрюлю супа на вечер. Правда, рассказывала Тенар в час по чайной ложке и, похоже, так и не смогла рассказать, что же все-таки сделал с нею волшебник. Это было какое-то проклятие, неопределенно сказала она, а еще, может быть, именно он послал Ловкача за ней следом. Зато когда она начала рассказывать про короля, слова у нее изо рта так и посыпались!
— И там был он — король! Тонкий и прекрасный, словно лезвие меча… И Ловкач этот весь съежился и прямо-таки пополз от него прочь… А я-то сперва решила, что это мой Искорка! Правда! Нет, правда, мне показалось — похож… Наверно, я была не в себе…
— Ну ладно, — сказала Яблочко. — Насчет Искорки все как раз нормально; а вот моя подружка Шинни приняла тебя за мать короля! Уж больно здорово было смотреть, как ты плывешь на королевском корабле! А знаешь, тетя Ларк, она ведь его поцеловала! Поцеловала короля! Просто так взяла и поцеловала! Я уж думала, что потом она и старого Мага поцелует. Но она почему-то не стала.
— Да уж конечно нет, что за выдумки! Какой еще маг? — спросила Ларк, ныряя под стол. — Где у тебя ларь с мукой, Гоха?
— Ты на него руками опираешься. Был там Маг, настоящий, с острова Рок; явился сюда искать нового Верховного Мага.
— Сюда?
— А почему бы и нет? — возмутилась Яблочко. — Последний небось тоже с Гонта был, разве не так? Но того-то они не больно долго искали. Сразу уплыли назад в Хавнор, едва мама от них отделалась.
— Как ты смеешь так говорить, негодница!
— Он говорил, что Маги ищут какую-то женщину с Гонта, — не обращая на них внимания, сказала Тенар. — Но, кажется, сам старый Маг был не очень-то этому рад.
— Волшебник — и женщину искал? Это что-то новое, — заявила Ларк. — Я уж было подумала, что мука твоя вся жучком заражена, а она еще вполне хорошая, так что я, пожалуй, парочку пресных лепешек испеку, не возражаешь? Где у тебя масло?
— Нужно сперва налить в бутылку из фляги. А фляга в леднике. Ой, Шанди! Неужели это ты! Ну, как дела? Как Чистый Ручей? Продал ягнят?
Когда они все вместе сели ужинать, то за длинным деревенским столом оказалось уже девять человек. Кухню заливал желтый закатный свет; Терру уже начала понемногу снова приподнимать голову и даже несколько раз обратилась за чем-то к детям Ларк. Но страх по-прежнему таился в ее душе, и, по мере того как на улице становилось все темнее, она старалась сесть так, чтобы ее зрячий глаз мог видеть окошко.
Сгустились сумерки; Ларк с детьми отправились домой; Яблочко пела Терру песенку, укладывая ее спать; а Тенар с Шанди мыли посуду. И только сейчас она наконец спросила о Геде. Ей почему-то не хотелось говорить о нем в присутствии Ларк и дочери: потребовалось бы слишком много объяснять. Она вообще «забыла» упомянуть о том, что Гед вместе с ними жил в доме Огиона. Ей совсем не хотелось вновь вспоминать о Ре Альби. Казалось, что при этом она сразу сбивается с мысли.
— Я сюда с месяц назад человека присылала — с работой помочь, как он?
— Ох, я и забыла совсем! — воскликнула Шанди. — Хок его зовут, верно? Такой весь в шрамах — все лицо исполосовано?
— Да, — сказала Тенар. — Хок. В шрамах.
— Ой, ну конечно, а как же! Только он сейчас наверху, у Горячих Источников, — овец Серри пасет, по-моему. Явился он сюда, значит, и говорит, это ты его послала, а туточки у нас для него ну ни крошки работы, знаешь ли. Мы-то со стариком за овцами смотрим, я молочное хозяйство веду; а старые Тифф и Сис помогают мне, коли нужда случится, и уж я думала-думала, а ничего не придумала. Тут старик мой и говорит: «Пойди да спроси у Серри или у его главного пастуха, что овец на берегу Кахеды пасет, не нужен ли им пастух на верхние пастбища». Вот что он посоветовал, а Хок этот так и поступил; взяли его на работу-то, он уже на следующее утро овец на верхние пастбища погнал. «Пойди да у Серри спроси» — так старик мой посоветовал, так Хок этот и поступил, и точно, вышло у него. Ну а теперь-то он вернется только к осени, не раньше. Там он, на Долгих Просеках, точнехонько над Лиссу-рекой. Только вот не помню точно: может, они его коз пасти наняли? Хорошо говорил этот парень… Только вот овец или коз — не помню. Небось тебе-то все одно. Конечно, Гоха, тут мы его не оставили, да только и правда ведь — ни капельки работы для него не было, мы сами с Чистым Ручьем управляемся, да еще Тифф и Сис помогают… А парень этот еще сказал, что там, откуда он родом, ему коз пасти приходилось; а родом он с той стороны, из-под Армута, так вроде; да, точно, говорил он, что овец-то ему прежде пасти не доводилось. Так что, наверно, они его коз пасти отправили, на верхние-то пастбища…
— Наверно, — сказала Тенар. Она вполне успокоилась, однако была разочарована. Ей, конечно, очень хотелось узнать, что Гед в безопасности, что у него все в порядке, но еще больше ей хотелось, чтобы он оказался здесь.
Ладно, хватит с тебя и того, что ты уже дома, сказала она себе. Может, оно даже и лучше, что его здесь нет, что никакого волшебства здесь нет, что все ужасы, мечты, надежды навсегда остались в Ре Альби. Все, все это осталось там, а она теперь здесь, и это ее дом, знакомые каменные полы и стены, маленькие застекленные окошки, за которыми темнеют в лунном свете старые дубы, и эти тихие, аккуратно прибранные комнаты… Она довольно долго лежала без сна в ту ночь. Дочь ее спала в соседней комнате — в детской, вместе с Терру, а Тенар — в своей собственной, супружеской постели, но только совсем одна.
Потом она уснула. И когда проснулась, не помнила ни одного из своих снов.
Прошло несколько дней; за это время Тенар вряд ли хоть раз задумалась о проведенном на Большом Утесе лете. Все это случилось далеко-далеко отсюда и очень давно. Несмотря на настойчивые уверения Шанди о том, что ни крошки работы на ферме нет, Тенар обнаружила ее целую пропасть, и все дела нужно было переделать как можно скорее: за лето все хозяйство оказалось запущено, да к тому же пора было убирать урожай, варить сыры и тому подобное. Тенар работала от зари до зари, и, если — совершенно случайно — у нее выдавался свободный часок, она для отдыха либо пряла, либо шила платье для Терру. Красное платьице наконец было почти готово; и белый передничек для парадных случаев, а коричневато-золотистый на каждый день.
— Ну вот, теперь ты у нас красивая! — сказала Тенар, когда Терру впервые надела платье. Она очень гордилась собственным изделием.
Терру тут же отвернулась.
— Ты действительно очень красивая, — настойчиво повторила Тенар. — Послушай-ка меня, Терру. Подойди поближе. Конечно, у тебя есть шрамы, и довольно уродливые — такие же, как то зло, которое тебе причинили. Люди этих шрамов не могут не видеть. Но ведь они видят и тебя целиком, а ты не из одних только шрамов состоишь. Сама ты вовсе не безобразна. И вовсе не зла. Ты — это ты. Ты — Терру, и ты красива. Ты — Терру, которая умеет хорошо работать, красиво двигаться, легко бегать и танцевать. И особенно ты хороша в красном платьице!
Девочка молча слушала; ее нежная, не тронутая огнем щека казалась застывшей и равнодушной. Она посмотрела на руки Тенар и легонько коснулась их своими тоненькими пальчиками.
— Это очень красивое платье, — сказала она своим тихим хрипловатым голосом.
Когда Тенар осталась одна, складывая остатки красной материи, жгучие слезы вдруг навернулись ей на глаза. Она чувствовала себя незаслуженно обиженной. Она правильно поступила, сшив это платье, и она говорила девочке правдивые слова. Но этого было недостаточно. Между ее правильными поступками и настоящей правдой была как бы пустота, пропасть. Любовь, ее любовь к Терру и любовь Терру к ней — вот что создавало тоненький мостик над этой пропастью, тонкий как паутинка, но заполнить эту пустоту не могла даже любовь, эта трещина никогда не могла сомкнуться. Никогда. И девочка понимала это куда лучше, чем Тенар.
Наступило осеннее равноденствие; все еще яркое солнце просвечивало сквозь легкую туманную дымку. Среди дубовой листвы появились первые бронзовые пятна. Когда Тенар в молочном сарае дочиста отмывала ушаты из-под сливок, настежь распахнув окно и дверь, чтобы впустить сладковатого прохладного воздуха, она вспомнила, что сегодня в Хавноре состоится коронация ее молодого короля. Вокруг него будут князья и придворные дамы в своих прекрасных одеждах — голубых, зеленых, алых, — а сам он будет весь в белом, представилось ей. Он поднимется по лестнице на Башню Меча — по той самой лестнице, по которой они с Гедом поднимались тогда, — и на голову его будет возложена корона Морреда. Он обернется, заслышав ликующие звуки труб и горнов, и воссядет на трон своего королевства, что пустовал так много лет; а потом посмотрит вокруг своими темными глазами, которые хорошо понимают, что такое боль, горе и страх. «Правь хорошо, правь долго, — подумала она. — Бедный мальчик мой! Это Геду следовало бы возложить корону на твою голову. Он должен был непременно быть там».
Но Гед пас то ли овец, то ли коз, принадлежавших богатому хозяину, и был сейчас высоко в горах. Стояла ясная, сухая, золотая осень, так что стада пробудут на верхних пастбищах до первого снега.
Как-то раз, оказавшись в деревне, Тенар решила зайти в домик ведьмы Айви, что находился в самом конце Мельничной улицы. Она уже
подружилась с тетушкой Мох в Ре Альби, и теперь ей хотелось познакомиться поближе и с Айви, если, разумеется, удастся преодолеть чудовищную подозрительность деревенской ведьмы. Тенар часто с грустью вспоминала тетушку Мох, хотя теперь рядом и была Ларк; тетушка Мох многому ее научила, и Тенар полюбила старую ведьму, которая давала им с Терру столь необходимые тепло, защиту и еще что-то очень важное. Нужно было найти кого-то, кто заменил бы ей тетушку Мох и здесь. Однако Айви, хоть и была много чище и благонадежнее с виду, чем тетушка Мох, явно не намерена была менять свое отношение к Тенар и воспринимала все ее попытки подружиться с прежней подозрительностью и высокомерным удовлетворением, которое Тенар, впрочем, считала вполне объяснимым. «Ты ступай своим путем, а я пойду своим», — каждым своим жестом, казалось, говорила эта ведьма. И Тенар смиренно продолжала при встречах выказывать Айви несколько преувеличенное уважение. Прежде я вечно держалась с ней слишком заносчиво, думала Тенар, так что за все следует платить. Явно придерживавшаяся того же мнения ведьма принимала эту дань с полной невозмутимостью.
В середине осени в долине появился колдун Бук. Его пригласил один богатый фермер, страдавший подагрой. Как обычно, Бук некоторое время пожил в деревнях Срединной Долины и однажды днем заглянул на Дубовую Ферму проведать Терру и поговорить с Тенар. Он тоже был учеником одного из учеников Огиона и всю жизнь оставался преданным старому Магу. Тенар, к изумлению своему, обнаружила, что ей гораздо легче рассказывать о смерти Огиона, чем о тех людях из Ре Альби, так что она рассказала о последних днях старого Мага все, что могла. Когда она умолкла, он осторожно спросил:
— А наш Верховный Маг — он все-таки появился?
— Да, — коротко ответила Тенар.
Бук был добродушным, чуть полноватым человеком лет сорока, с гладкой кожей и вечными темными кругами под глазами, странно противоречившими сладостному выражению самих глаз. Он только глянул на Тенар и больше вопросов задавать не стал.
— Он пришел уже после того, как Огион умер. И сразу снова ушел, — пояснила она. — Он теперь больше не Верховный Маг. Ты это знал?
Бук кивнул.
— А ты не слышал, выбрали они там нового Верховного Мага?
Колдун отрицательно покачал головой.
— Недавно к нам заходил корабль с Энладских островов, но им ничего об этом не было известно, они говорили только о предстоящей коронации. Прямо-таки лопались от гордости! И похоже, все действительно складывается к лучшему. Если расположение магов чего-то еще стоит, тогда наш молодой король — очень богатый человек… И очень деятельный. Как раз перед тем как я ушел из Вальмута, туда из Порта Гонт был прислан приказ, чтобы старейшины, купцы и мэр города с его советом собрались все вместе и решили, являются ли управляющие округами достойными и надежными людьми, ибо все они теперь находятся у короля на службе и обязаны выполнять его приказания и блюсти его законы. Представляешь, как этому был рад Лорд Гено!
Гено был предводителем всех пиратов с Гонта, и уж в южной-то части острова все чиновники были у него в кармане.
— Но теперь кое-кто решил пойти против Гено, чувствуя поддержку самого короля. По большей части управляющих сменили, назначили пятнадцать новых, вполне достойных людей, которым платить будут из казны мэра. Гено, не дождавшись конца собрания, вихрем вылетел вон, на чем свет стоит кляня короля и обещая жестоко мстить. Новые времена настали! Конечно, не все сразу, но жизнь переменится! Жаль, что Мастер Огион не дожил до этих дней.
— Он дожил, — сказала Тенар. — Перед смертью он улыбнулся и сказал: «Все переменилось…»
Бук выслушал ее со своим обычным сурово-доброжелательным видом и медленно кивнул.
— Все переменилось, — повторил он.
Немного помолчали, потом он сказал:
— Малышка растет очень хорошо!
— Да, неплохо… Хотя иногда мне кажется, что дела могли бы идти и лучше.
— Госпожа Гоха, — сказал колдун, — если бы я, или любой другой колдун, или ведьма, или, осмелюсь предположить, даже волшебник посвящали бы ей все свое время и все свои волшебные силы, чтобы излечить ее от того, что с ней сделали, она и то не могла бы стать здоровее. Может быть, даже не смогла бы поправиться хотя бы настолько, как сейчас. Ты сделала не только
все, что можно было сделать, госпожа моя. Ты сотворила настоящее чудо!
Она была тронута его искренней похвалой, и все-таки ей стало грустно; и она призналась ему, почему грустит.
— Этого мало, — сказала она. — Я не могу до конца исцелить ее. Она… Чем ей суждено быть в жизни? Что из нее получится? — Тенар поправила нить на кружащемся веретене — она пряла шерсть и только что сняла очередной моток. — Я боюсь, — сказала она.
— За нее? — Его вопрос прозвучал как утверждение.
— Боюсь, потому что боится она; боюсь за нее; боюсь того, чего она боится. Боюсь потому…
Но она не могла подыскать нужных слов.
— Если она будет жить в страхе, то станет творить зло, — выговорила она наконец. — Этого-то я и боюсь.
Колдун задумался.
— Я тут подумал, — сказал он наконец, как всегда несколько неуверенно, — что, если у нее есть волшебный дар — а мне кажется, он у нее есть, — ее можно было бы немного поучить магии. А если она станет ведьмой, то ее… внешность не будет так уж бросаться в глаза… возможно… — Он прокашлялся. — Ведь некоторые ведьмы делают очень важную и полезную работу, — закончил он.
Пробуя ровность и прочность только что спряденной нити, Тенар пропустила ее между пальцами.
— Огион сказал мне: «Научи ее всему». А потом прибавил, что учить ее нужно не на острове Рок. Не знаю, что он имел в виду.
Бук, однако, догадался сразу.
— Он хотел сказать, что на Роке учат Высшим Искусствам — это не подходит для девушки. Не говоря уж о том, что с этой малышкой сделали… Но если Огион сказал, что ее нужно учить всему, кроме Высших Знаний, то, похоже, и он считал, что ей подошла бы профессия ведьмы. — Бук подумал и продолжал с куда большим воодушевлением, как бы чувствуя поддержку Огиона, неожиданно оказавшегося его сторонником: — Через год-два, когда она совсем окрепнет и немного подрастет, ты могла бы попробовать поговорить с Айви: пусть та понемногу начнет учить ее, пока девочка не пройдет обряд имяположения.
Тенар почувствовала, что всей душой яростно противится этому предложению. Она промолчала, однако Бук был достаточно чутким.
— Айви, конечно, довольно неприятная особа, — сказал он. — Однако то, что ей ведомо, она применяет честно. Чего нельзя сказать о прочих ведьмах. Слабый, как женские чары, но, как тебе известно, и опасный, как женские чары. Я знавал ведьм, обладавших истинным даром целительниц. Исцелять людей — что может быть лучше для женщины! Это для нее так естественно. Девочку вполне можно к этому приохотить — тем более она сама так сильно пострадала.
Это он по доброте душевной, подумала Тенар, от чистого сердца. Она искренне поблагодарила колдуна, пообещав, что непременно все это тщательно обдумает. И она действительно много думала об этом.
Месяц еще не кончился, а жители Срединной Долины собрались у Круглого Амбара в Содеве, чтобы выбрать своих бейлифов и офицеров и назначить налог на их содержание. Таков был приказ короля, разосланный мэрам городов и старостам деревень, и все охотно подчинились ему, ибо на дорогах развелось столько наглых нищих и воров, что крестьяне и фермеры рады были установить порядок и обрести покой. Однако в последнее время кое-какие отвратительные слухи поползли и о том, что Лорд Гено создал некий Совет Негодяев, куда записывал всех желающих собираться в банды и ломать шеи представителям королевской власти; однако по большей части люди не испугались и, повторяя «Пусть только попробует!», разошлись по домам, уверенные, что теперь-то уж честный человек может наконец спать спокойно и все безобразия, что творились раньше, король непременно устранит. Хотя налоги, конечно, оказались выше всяческих ожиданий, и многие теперь боялись разориться.
Тенар с радостью, хотя и не слишком внимательно, выслушала рассказ Жаворонка об этом собрании. Она очень много работала и с тех пор, как вернулась домой, почти не задумываясь, как-то машинально не позволяла мыслям о Ловкаче и ему подобных тревожить душу и уж тем более управлять жизнью Терру. Она не могла непрерывно держать девочку при себе, тем самым вновь пробуждая в ней старые страхи: вечно помня о том, что с ней случилось, Терру просто не могла бы нормально жить. Ребенок должен расти свободным и знать, что он свободен.
Терру понемногу переставала дичиться, начала ходить по всей ферме, и вокруг, и даже в деревню совсем одна. Тенар ни единым словечком ее не останавливала, даже если приходилось буквально затыкать себе рот. На ферме Терру была, в общем-то, в безопасности, да и в деревне тоже никто не собирался вредить ей — это необходимо было твердо усвоить. Тенар старалась не слишком часто в этом сомневаться. На ферме кроме них жили еще Шанди со своим старым мужем по прозвищу Чистый Ручей, а в дальнем коттедже еще двое стариков — Сис и Тифф; в деревне, совсем близко, — Ларк со своим многочисленным семейством. Стояла прекрасная золотая осень — благодатное время в Срединной Долине. Какое же зло могло грозить невинному ребенку?
Тенар взяла собаку, услышав, что есть именно такая, какая ей требовалась: крупная гонтийская овчарка с умной мордой и длинной кудрявой шерстью.
Порой она вспоминала: «Я же должна учить девочку! Так велел Огион». Но как-то так получалось, что Терру ничему не выучивалась. Ей нравилась только обычная работа на ферме да всякие истории, которые Тенар рассказывала вечерами. Теперь дни стали короче, и они подолгу сидели в кухне у очага после ужина, прежде чем идти спать. Может быть, прав был Бук? И Терру следовало отдать в ученицы какой-нибудь ведьме? Это все-таки лучше, чем отдавать ее в подмастерья к ткачу, как сперва хотела поступить Тенар. Впрочем, не намного лучше. Да и Терру пока что слишком мала и слишком несведуща в жизни даже для своего возраста: ее ведь совсем ничему не учили, пока она не попала на Дубовую Ферму. Она тогда была похожа на дикого зверька, едва понимавшего человеческую речь и совсем незнакомого с человеческими привычками. Она все воспринимала очень быстро и была раза в два послушней и старательней вольнолюбивых и буйных детей Ларк — ее умненьких дочек и ленивых, вечно смеющихся сыновей. Терру умела убрать дом, подать на стол, научилась довольно прилично прясть, немножко готовить и немножко шить; могла присматривать за птицей, кормить коров и прекрасно справлялась с работой в молочной. Настоящая деревенская девчонка — так говорил старый Тифф, немного льстя Терру. Тенар не раз видела, как Тифф тайком делал жест, отгоняющий зло, когда мимо проходила Терру. Как и большинство людей, Тифф верил в то, что написано на роду: богатые и могущественные всегда процветают; те же, кому в жизни не повезло, должны по справедливости нести свой крест.
Так что Терру вряд ли помогло бы даже то, что она стала бы лучшей из лучших деревенских девчонок острова Гонт. Даже благополучная жизнь не уничтожила тех шрамов, что изуродовали ее лицо и душу. Так что Бук тогда принимал во внимание именно это клеймо, надеясь использовать его во благо, если девочка станет ведьмой. А может быть, именно это имел в виду и Огион, говоря, что учить ее нужно не на острове Рок? И еще, когда сказал: «Ее будут бояться»? Неужели же все это так просто?
Однажды, когда «счастливая случайность» вновь свела их на деревенской улице, Тенар сказала Айви:
— Мне хотелось бы задать тебе, госпожа Айви, один вопрос. Он касается твоего ремесла.
Ведьма внимательно и довольно злобно посмотрела на нее:
— Моего ремесла? С чего бы это?
Тенар промолчала, стараясь сохранить спокойствие.
— Ну что ж, пошли, — сказала Айви, пожав плечами, и повела Тенар по Мельничной улице к своему домику.
Это была вовсе не замусоренная развалюха, полная цыплят и кур, как у тетушки Мох; это было настоящее жилище ведьмы. С балок свисали пучки сухих и сушащихся трав, огонь в очаге тлел под золой, и маленький уголек посматривал оттуда красным глазком, как бы подмигивая; толстый черный кот с одним белым усом спал на полке, свернувшись клубком; повсюду стояло множество всяких коробочек, горшочков, кувшинчиков и заткнутых пробками бутылок, источавших самые различные ароматы — зловонные, сладкие или совсем никому не ведомые.
— Чем могу служить, госпожа Гоха? — сухо спросила Айви, когда они вошли в дом.
— Скажи мне, если захочешь, конечно: кажется ли тебе, что моя воспитанница Терру обладает… какой-то… волшебной силой?
— Она? Конечно! — отрезала ведьма.
Столь решительный ответ несколько ошеломил Тенар.
— Ну хорошо, — медленно проговорила она. — Бук, похоже, тоже так думает.
— Слепая летучая мышь в своей пещере и то это заметит! — сказала Айви. — Это все?
— Нет. Мне нужен твой совет. Я уже задала один вопрос, и теперь ты можешь назвать мне цену ответа, который дала мне. Это справедливо?
— Справедливо.
— Тогда мой второй вопрос: как ты думаешь, стоит ли Терру учиться у какой-нибудь ведьмы, когда она подрастет?
Некоторое время Айви молчала, решая, как показалось Тенар, что бы ей запросить за ответ. Но она ничего не запросила, а просто сказала:
— Я ее в ученицы не возьму!
— Почему?
— Я бы побоялась это делать, — честно призналась ведьма, яростно сверкнув глазами.
— Побоялась? Чего же?
— Ее! Кто она?
— Просто ребенок. С которым очень плохо обращались!
— Это еще далеко не все.
Черный гнев охватил Тенар, и она сказала:
— Значит, в ученицы к ведьме годятся только девственницы, так, что ли?
Айви уставилась на нее. Потом промолвила:
— Я вовсе не это имела в виду.
— А что же?
— Я имела в виду только то, что я не знаю, кто она такая. Я имела в виду то, что когда она глядит на меня своим единственным зрячим глазом, то я не знаю, что именно она видит. Я вижу, как вы с ней повсюду ходите вместе, словно она самый обыкновенный ребенок, и думаю: кто же они обе такие? Что же за сила в этой женщине? Она ведь вовсе не так глупа, чтобы хватать огонь голыми руками или крутить веретено с помощью урагана? Говорят, госпожа, ты в юности жила среди Древних Сил Земли и была у этих Сил и королевой, и служанкой. Может быть, поэтому ты и не боишься ее могущества? Что в ней за сила заключена, я не скажу: не знаю. Но могущество ее куда больше того, чему я способна кого-то научить, — больше, чем у Бука, больше, чем у любого другого колдуна или ведьмы, каких я знала в жизни! Я дам тебе совет, госпожа, — просто так, бесплатно. Будь осторожна! Берегись ее — особенно в тот день, когда она откроет в себе эту силу! Вот и все, что я могу сказать тебе.
— Благодарю тебя, госпожа Айви, — вежливо поклонилась ей Тенар и с достоинством Жрицы Гробниц Атуана вышла из теплой комнатки на улицу, где дул резкий, колючий ветер — ветер поздней осени.
Гнев еще не погас в ней. Никто не хочет помочь, думала она. Она понимала, что самой ей эту задачу не решить — но неужели никто так и не захочет помочь? Огион умер, тетушка Мох болтает всякую ерунду и смеется, а Айви предупреждает о грозящей опасности; Бук ясно сказал, что положение очень серьезно, и Гед тоже — а ведь именно Гед и мог бы помочь по-настоящему. Но Гед сбежал. Удрал, словно побитая собака, и даже весточки ни разу не прислал, даже ни разу не вспомнил о ней или о Терру! Только и может теперь думать, что о своем драгоценном позоре. Словно это его дитя, его любимое чадо, которое он холит и лелеет. Это единственное, что его волнует. Он никогда и не думал о ней по-человечески. Что она ему? Его интересует только могущество — ее могущество, его собственное могущество и то, как можно стать еще могущественнее, соединив сломанное Кольцо, восстановив Руну Мира, посадив на трон короля… А теперь, когда волшебная сила его иссякла и осталось лишь его собственное «я» да его собственный позор и пустота, он и вовсе способен думать только о себе — об этом своем позоре.
«Ты несправедлива», — сказала Гоха Тенар.
«Справедливость! — возмутилась Тенар. — А он вел себя справедливо?»
«Да, — сказала Гоха. — Он был справедлив. Или пытался быть».
«Ну что ж, тогда пусть играет в свою справедливость с козами, которых пасет; мне это совершенно не интересно», — сказала Тенар, пробираясь домой под порывами ветра и колючим ледяным дождем.
— Сегодня, верно, снег ночью пойдет, — сказал Тифф, повстречавшись ей на дороге, что вилась в лугах по берегу Кахеды.
— Снег? Так рано? Может, еще нет?
— Во всяком случае, подморозит, это уж точно!
И действительно, стало подмораживать сразу после заката: дождевые лужицы и оросительные канавы покрылись сперва ледяной коркой по краям, а потом превратились в ледяные дорожки; ручьи, сбегавшие в реку, умолкли, скованные ледяным покровом, и даже ветер притих, словно тоже замерз и утратил способность двигаться.
У очага, где пахло куда приятнее, чем у Айви, потому что в нем горели яблоневые дрова, заготовленные еще весной, когда в саду спилили старую яблоню, как всегда, после ужина устроились Тенар и Терру — рассказывать истории и прясть шерсть.
— Расскажи еще раз о кошках-оборотнях, — попросила своим хрипловатым голоском Терру, запуская веретено и ловко свивая нитку из темной шелковистой козьей шерсти.
— Это летняя история.
Терру вопросительно склонила голову набок.
— Зимой рассказывают о великих деяниях, — пояснила Тенар. — Зимой учат Песнь о создании Эа, чтобы исполнять ее вместе со всеми в праздник Долгого Танца. Зимой учат Зимнюю песню и Песнь о подвиге молодого короля, чтобы спеть их в день весеннего солнцеворота, когда солнце поворачивается лицом к северу и приносит с собой весну.
— Я же не могу петь, — прошептала девочка.
Тенар сматывала готовую нить в клубок, ловкие руки ее ритмично двигались.
— Поют не только голосом, — сказала она. — Иногда поет только душа. И даже самый красивый в мире голос ничего спеть не сможет, если душе песни неведомы. — Она отцепила от веретена последний кусок нити. — В тебе есть сила, Терру, а невежественная сила опасна.
— Как в тех, кто учиться не хотел, — сказала Терру. — В диких. — Тенар не поняла, что она хочет этим сказать, и вопросительно на нее взглянула. — В тех, что остались на западе, — пояснила Терру.
— А-а, в драконах… Это ты песнь той женщины из Кимея вспомнила… Да. Совершенно верно. Итак, с чего мы начнем? С того, как наши острова были подняты из глубин морских, или с того, как король Морред отогнал прочь Черные Корабли?
— С островов, — прошептала Терру.
Тенар надеялась, что она предпочтет «Подвиг юного короля», потому что Морред казался ей похожим на Лебаннена. Однако девочка, в общем-то, выбрала правильно.
— Хорошо, — сказала Тенар и посмотрела на полку, где стояли Книги Огиона, словно черпая в них вдохновение; если она что-то и позабыла, то всегда может заглянуть в них; потом она перевела дыхание и начала свой рассказ.
Когда пришло время ложиться спать, Терру уже знала, как Сегой поднял первые острова из глубин Времени. Вместо того чтобы спеть девочке колыбельную, Тенар присела к ней на постель, подоткнула одеяло, и они вместе тихонько повторили слова первой песни Созидания.
Потом Тенар отнесла маленький масляный светильник обратно в кухню, прислушиваясь к полнейшей тишине вокруг. Мороз сковал мир, запер все живое вокруг. На небе не было ни единой звезды. Чернота снаружи давила на окошко ее кухни. Холод полз по каменному полу.
Она снова уселась у очага, потому что спать ей еще не хотелось. Ее взволновали возвышенные слова песни, а в душе еще не совсем улеглись гнев и беспокойство, вызванные сегодняшней беседой с Айви. Тенар взяла кочергу и помешала дрова в очаге, чтоб разгорелись получше. Когда она ударила по полену, в дальнем конце дома послышался стук — словно ей откликнулось эхо.
Она выпрямилась и замерла, прислушиваясь.
И снова: то ли тупой удар, то ли толчок в окно молочного сарая.
Все еще держа в руках кочергу, Тенар прошла по темным сеням к двери, что вела в холодную кладовую. За кладовой был молочный сарай. Дом стоял на склоне холма, так что оба эти помещения упирались в холм, словно подвалы, хотя и находились на одном уровне со всеми остальными комнатами дома. В холодной кладовой были только небольшие отверстия для проветривания; зато в молочном сарае — и дверь, и окно, низкое и широкое, точно такое же, как в кухне; оно было сделано в той единственной стене, что выходила наружу. Тенар стояла у двери в кладовую и слушала, как окно сарая пытаются то ли открыть, то ли выдавить; слышала она и шепот: шептались мужчины.
Флинт был хозяин рачительный. Все двери в его доме за исключением одной были с двух сторон снабжены крепкими запорами — широкой полосой толстого железа во всю ширину двери, посаженной в скобы. Все запоры содержались в порядке, всегда были смазаны, хотя в доме никогда не запирали ни одну дверь.
Тенар закрутила болты на запоре той двери, что вела из кладовой в сарай. Засов вошел в гнездо совершенно бесшумно, точно попав в щель на дверном косяке.
И тут она услышала, как отворилась дверь молочного сарая, ведущая на улицу. Один из них все-таки в конце концов решил попробовать войти через дверь, прежде чем выбьют окно, и обнаружил, что дверь не заперта. Она слышала бормотание нежданных гостей. Потом вдруг наступила тишина, достаточно долгая, чтобы услышать, как, молотом отдаваясь в ушах, стучит ее сердце; она даже испугалась, что больше ничего уже расслышать не сможет. От страха у нее подгибались колени, а холод с каменного пола пробирался под юбку, словно чья-то ледяная рука.
— Эта дверь открыта, — прошептал какой-то мужчина совсем рядом с ней, и сердце у нее болезненно сжалось. Она на всякий случай коснулась рукой запора, и оказалось, что в итоге она его не заперла, а отперла! Она стремительно задвинула его, услышав, как заскрипела дверь, ведущая из холодной кладовой в молочный сарай. Ей был хорошо знаком этот скрип верхней петли. Она узнала и голос, но не на слух, а как бы внутренним чутьем. «Это кладовая, — сказал Ловкач, и немного погодя запертая на засов дверь, возле которой она стояла, содрогнулась, а Ловкач сообщил кому-то: — А эта заперта». Дверь снова содрогнулась. Тонкий лучик света, словно лезвие ножа, мелькнул в щели между створкой двери и косяком. Луч коснулся груди Тенар, и она отпрянула так резко, словно в нее вонзился нож.
Дверь снова дрогнула, но не сильно. Она была прочной, тяжелой, да и засов был надежный.
Они что-то злобно бормотали за дверью. Тенар понимала, что теперь они обойдут дом и попытаются войти через парадную дверь. Даже не помня как, она тут же оказалась сама перед этой дверью и поспешно задвинула засов. Может быть, все это просто страшный сон? Ей и раньше снились всякие кошмары — например, как они пытаются войти в дом, как просовывают свои острые ножи между растрескавшимися плитами пола… Двери же… А нет ли в доме еще одной двери, через которую они могут войти? И окна?.. Ставни на окнах спальни… Она вдруг задохнулась: ей показалось, что она не успеет добраться до комнаты Терру, но в мгновение ока оказалась там, закрыла тяжелые деревянные ставни. Петли были тугие, так что ставни захлопнулись со стуком. Теперь они все поняли. И сразу же пошли туда. Они непременно успеют к окну соседней комнаты, ее комнаты, прежде чем она сможет закрыть ставни. Так оно и случилось.
Пытаясь поднять крюк, державший левую ставню, она увидела в темноте за окном их лица, неясные очертания их фигур. Крюк заржавел. Она никак не могла вышибить его. Чья-то рука коснулась стекла и плотно прижалась к нему, став совсем белой.
— Там она.
— Эй, впусти нас. Мы тебя не тронем.
— Нам с тобой поговорить надо.
— Он только девчонку свою повидать хочет.
Она наконец откинула крюк и закрыла ставни. Но если они выбьют стекло, то все равно легко смогут попасть в комнату: ведь ставни скреплены слабо, нужно только ударить посильнее.
— Впусти нас, мы тебя не обидим, — снова сказал один из них.
Она слышала их шаги по промерзлой земле, шорох опавших листьев у них под ногами. Проснулась ли Терру? Грохот закрываемых ставней вполне мог ее разбудить, но она не шелохнулась. Тенар стояла в дверном проеме между своей комнатой и комнатой Терру. Было темно, как в колодце, и очень тихо. Она боялась коснуться девочки, чтобы не разбудить ее. Она должна оставаться здесь, рядом с ней. Она должна сражаться. У нее ведь в руках была кочерга… интересно, где она ее оставила? Она положила ее на пол, когда закрывала ставни, и теперь не могла найти. Она шарила в непроницаемой темноте по полу, и ей казалось, что в комнате больше нет стен.
Парадная дверь затряслась, задрожала.
Надо непременно найти кочергу; она останется здесь, она будет с ними сражаться.
— Сюда! — позвал вдруг один из них, и Тенар догадалась, что именно он обнаружил: низкое кухонное окно, широкое, без ставней. Залезть в него было проще простого.
Она очень медленно, ощупью пошла к двери. Теперь это была комната Терру, а раньше — комната детей Тенар. Детская. Именно поэтому дверь в ней с внутренней стороны не запиралась. Чтобы дети, заперевшись изнутри, не могли испугаться, если запор вдруг не откроется.
Совсем недалеко, за холмом, за садом, спят Шанди и Чистый Ручей. Если она закричит, то Шанди, возможно, услышит. Если она откроет окошко в спальне и громко позовет на помощь… или если разбудит Терру, они выберутся через окошко в сад и побегут что есть силы… но эти негодяи там, прямо под окном. Ждут.
Больше она вынести это ожидание не могла. Не могла вынести того леденящего душу и тело ужаса, который лишал ее способности двигаться. Тенар в ярости бросилась на кухню — перед глазами плыл красный туман, — схватила длинный острый мясницкий нож, с размаху отперла засов и остановилась на пороге.
— Ну, подходите! — сказала она.
Не успела она это сказать, как послышался какой-то странный вой, чье-то тяжелое дыхание и кто-то из мужчин завопил:
— Эй, смотрите, смотрите! Осторожней!
Потом крикнул второй:
— Сюда! Сюда! Ко мне!
Потом воцарилась тишина.
Свет из распахнутой двери сделал видимыми черные замерзшие лужицы, блестящие черные ветви дубов и серебристые опавшие листья. Взор Тенар прояснился, и она увидела, что по тропе прямо к ней ползет на четвереньках какое-то темное существо или привидение — ползет и то ли стонет, то ли воет. Где-то на границе света и тьмы мелькнула темная фигура, сверкнули серебром длинные лезвия ножей…
— Тенар!
— Стой там, где стоишь! — сурово сказала она, поднимая нож.
— Тенар! Это же я — Хок, Ястреб!
— Стой, где стоишь, — повторила она.
Быстрый и ловкий человек в темном одеянии застыл рядом с тем существом на тропинке, что теперь лежало без движения. Видно было все-таки плоховато, она с трудом различила вроде бы знакомое лицо, вилы с длинными зубьями, воздетые вверх… Словно посох волшебника, подумала вдруг она. И спросила:
— Это ты?
Он уже опустился на колени возле темной фигуры на тропе.
— По-моему, я его убил, — сказал он. И, оглянувшись через плечо, поднялся на ноги. Других бандитов не было ни видно, ни слышно.
— Где они?
— Убежали. Помоги мне, Тенар.
В одной руке она по-прежнему сжимала нож. Другой подхватила под мышку того человека, что лежал на тропе. Гед поддерживал его с другой стороны, и они вместе потащили его по ступенькам крыльца в дом. Положили на каменный пол в кухне. Кровь бежала у него из пробитой груди и живота, словно вода из прохудившегося кувшина. Из-под верхней губы выглядывали оскаленные зубы, глаза закатились под лоб.
— Запри дверь, — сказал Гед, и Тенар заперла дверь.
— Простыни в шкафу, — сказала она, и он вытащил одну и разорвал на бинты, которыми она бесконечно долго обматывала грудь и живот раненого. Три зубца вил из четырех со всего размаху вошли в его плоть, и из трех дыр теперь кровь текла ручьем; бинты промокали все время, пока Тенар бинтовала его, а Гед поддерживал за плечи.
— Что ты здесь делаешь? Ты пришел вместе с ними?
— Да. Но они об этом не знали. Больше ты, пожалуй, уже ничего для него сделать не сможешь, Тенар. — Гед тяжело опустил бесчувственное тело на пол и сам сел рядом, тяжело дыша и вытирая потное лицо тыльной стороной окровавленной ладони. — Мне кажется, я его убил, — повторил он.
— Может быть, и убил. — Тенар смотрела, как на плотной ткани, которой были перебинтованы тощая волосатая грудь незнакомца и его живот, увеличиваясь, расплываются яркие красные пятна. Она встала и вдруг пошатнулась: резко закружилась голова.
— Садись поближе к огню, — сказала она Геду. — Ты, должно быть, смертельно продрог.
Она не понимала, каким образом ей все-таки удалось узнать его в темноте. Наверное, по голосу. Он был одет в неуклюжую уродливую зимнюю куртку из овчины мехом внутрь, какие носят пастухи, и в вязаную пастушью шапку, низко надвинутую на лоб; лицо его избороздили морщины; оно казалось совершенно измученным; волосы отросли и были теперь стального цвета. От Геда пахло древесным дымом, морозом и овцами. Его била такая дрожь, что он не мог этого скрыть.
— Иди поближе к огню, — повторила она. — Подложи-ка побольше дров.
Он повиновался. Тенар налила в чайник воды и повесила его на железную перекладину над самым огнем.
На юбке у нее была кровь, и она стала мокрой тряпкой стирать пятно. Геду она тоже дала мокрую тряпку — вытереть кровь с рук.
— Как это ты пришел с ними вместе, но они об этом не знали?
— Я как раз шел вниз, в долину. По той дороге, что идет мимо Ручьев Кахеды. — Он говорил как-то монотонно, тихим голосом, словно ему не хватало воздуха, а дрожь делала его речь совсем невнятной. — Услышал — кто-то идет сзади, ну и отошел в сторонку, в лес. Разговаривать с ними не хотелось. Не знаю почему. Что-то в них было не то. Я их боялся.
Она нетерпеливо покивала и села напротив, у очага, чуть наклонившись вперед и внимательно слушая; стиснутые руки ее лежали на коленях. Мокрая юбка холодила ноги.
— Когда они проходили мимо, я услышал, как один из них сказал: «Дубовая Ферма». После этого я уже от них не отставал. Один все время говорил… О девочке.
— Что же он говорил?
Гед помолчал. Потом наконец выговорил:
— Что он собирается забрать ее и наказать. А потом вернуться за тобой. Потому что это ты украла ее. И еще он сказал… — Гед снова умолк.
— Что он и меня тоже накажет?
— Они все об этом говорили. Ну…
об этом.
— Тот человек не Ловкач. — Она кивнула в сторону раненого. — Это не…
— Он говорил, что она принадлежит ему. — Гед тоже посмотрел на раненого, потом отвернулся к огню. — Он умирает. Нам нужна помощь.
— Не умрет, — сказала Тенар. — Утром я пошлю за Айви. Остальные-то по-прежнему неподалеку — сколько их там?
— Двое.
— Если он умрет, то пусть умрет; если выживет, пусть живет. Никто из нас наружу не выйдет! — Она вскочила, подавляя новый приступ страха. — Ты внес в дом эти вилы, Гед?
Он показал — четыре длинных зубца светились в углу возле двери.
Тенар снова села у очага, но теперь уже начало трясти ее; ее колотило так, что зуб на зуб не попадал — как раньше его. Гед потянулся над очагом и коснулся ее руки.
— Все теперь в порядке, — сказал он спокойно.
— А что, если они все еще там?
— Они убежали.
— Они могли вернуться.
— Двое против двоих? И к тому же у нас вилы.
От ужаса она совсем перешла на шепот:
— Крюк для подрезки веток и все косы остались в сарае, в углу!..
Он покачал головой:
— Они убежали. Они видели… его… и тебя в дверях.
— Что ты с ним сделал?
— Он бросился на меня. Так что пришлось и мне…
— А раньше, что ты сделал там, на дороге?
— Они замерзли, да еще дождь пошел, вот они и стали все больше говорить о том, как заявятся сюда. Сперва-то один только тот говорил о девочке и о тебе — обо всяких там уроках и наказаниях… — Гед судорожно сглотнул. — Очень пить хочется.
— И мне тоже. Чайник вот-вот вскипит. Рассказывай пока.
Он перевел дыхание и попытался рассказать все как следует:
— Остальные двое не очень-то его слушали. Может, он в сотый раз им это повторял. Все они спешили поскорее добраться до Вальмута. Словно бежали от кого-то. Старались скрыться. Но тут здорово похолодало, а этот тип все продолжал долдонить о Дубовой Ферме, и один из них, в кожаной шапке, сказал: «Что ж, а почему бы нам и не переночевать там? Да заодно…»
— И вдовой попользоваться, да?
Гед закрыл лицо руками. Она молча ждала.
Глядя в огонь, он медленно начал рассказывать дальше:
— Потом я на какое-то время потерял их из виду. Дорога стала в долине ровнее и шире, и я уже не мог идти за ними по пятам, как раньше, в лесу. Пришлось красться через поля, чтобы они меня не заметили. Я здешних мест почти не знаю и боялся сбиться с пути, если срежу путь и отойду далеко от дороги. К тому же начинало темнеть, и я уж решил, что прошел мимо фермы, промахнулся в потемках. Тогда я вернулся к дороге и припустил чуть не бегом. А на самом повороте догнал их. Они видели, как какой-то старик их нагоняет, и решили подождать. Были уверены, что больше в такой час мимо фермы никто не пройдет. Они ждали в сарае, а я — снаружи. Нас друг от друга отделяла только стенка.
— Ты, должно быть, насквозь промерз, — тупо сказала Тенар.
— Да, холодно было. — Он протянул руки к огню, словно воспоминания снова вызвали у него озноб. — Я тем временем отыскал вилы, они были прислонены к наружной стене за дверью. Когда эти типы вышли из сарая, то зашли с задней стороны дома, так что я, наверное, мог бы успеть подойти к парадной двери и предупредить тебя — именно так и нужно было поступить, — но я тогда способен был думать только о том, как бы застать их врасплох… Мне казалось, что это мое единственное преимущество, единственная надежда… Я считал, что дом заперт и им нужно будет ломать двери, чтобы войти. Но тут я услышал, что они проникли внутрь через заднюю дверь. И следом за ними тоже пробрался в молочный сарай. Я едва успел выскочить наружу, когда они выяснили, что дверь в дом заперта изнутри. — Гед как-то странно рассмеялся. — Они прошли в темноте прямо у меня под носом. Я мог бы подставить кому-нибудь ножку… Один с помощью кремня высек искру и поджег немного трута — им нужно было разглядеть запор. Потом они пошли к парадной двери. Я слышал, как ты закрывала ставни, и понял, что ты знаешь об их присутствии. Они все собирались выбить то окно, в котором видели тебя. Потом тот, в кожаной шапке, заметил другое окно… вон то, — Гед кивком показал на широкое кухонное окно, — и сказал: «Дайте-ка мне камень, я его с одного раза высажу»; они уже собирались подсадить его, когда я завопил так, что этот тип свалился на землю, а один из них — вот этот — бросился прямо на меня.
— Ах, ах! — задыхался раненый на полу, словно помогая Геду рассказывать. Гед встал и наклонился над ним.
— Мне кажется, он все-таки умирает.
— Нет, не умирает, — сказала Тенар. Она все еще не могла успокоиться, хотя озноб теперь стал как бы внутренним. Запел чайник. Она быстро заварила чай и обхватила руками толстые бока заварочного чайника. Потом налила две чашки и еще одну, третью, в которую добавила немного холодной воды. — Слишком горячий, — пояснила она Геду. — Ты осторожней пей, а я попробую что-нибудь в него влить. — Она присела на пол возле раненого, приподняла его голову и поднесла ему ко рту прохладный чай, вдвинув краешек чашки между оскаленными зубами. Теплая влага потекла ему в горло; он глотнул. — Он не умрет, — заявила Тенар. — Пол совершенно ледяной. Помоги-ка мне перенести его поближе к огню.
Гед снял было козью шкуру со скамьи, что тянулась вдоль стены до входа в гостиную, но Тенар остановила его.
— Эту не бери, это хорошая шкура. — И она принесла из кладовки старый войлочный плащ, который расстелила на полу. Они уложили на плащ безвольное тело раненого, и в свете очага стало видно, что красные пятна на бинтах пока больше не стали.
Вдруг Тенар вскочила и замерла как вкопанная.
— Терру, — только и вымолвила она.
Гед огляделся, но девочки рядом не было. Тенар бросилась вон из кухни.
В детской, где спала Терру, было абсолютно темно и тихо. Тенар ощупью пробралась к кровати и коснулась теплого плеча девочки, прикрытого одеялом.
— Терру?
Девочка дышала спокойно. Она так и не проснулась. Тенар чувствовала жар, исходивший от маленького тела: девочка словно светилась в холоде детской.
В своей комнате Тенар провела рукой по поверхности сундуков и сразу нащупала холодный металл: то была кочерга, которую она забыла именно здесь, когда закрывала ставни. Она отнесла кочергу обратно на кухню, небрежно перешагнув через тело раненого, повесила ее на крюк у очага и остановилась, глядя в огонь.
— Я же ничего не могла поделать! — проговорила она с отчаянием. — Что, я должна была на улицу выскочить?.. бежать?.. кричать?.. звать на помощь стариков-арендаторов?.. Эти негодяи не должны были добраться до девочки. Ни за что!
— Да, конечно, ты права. Они бы заперлись в доме вместе с Терру, а ты бы осталась снаружи вместе со стариками. А еще они могли бы просто прихватить девочку и сбежать. Ты сделала то, что могла и должна была сделать. Все правильно. Когда ты распахнула дверь и в ярком свете предстала с ножом в руках… да и я ведь был там, так что они смогли наконец разглядеть вилы, а потом этот упал… Вот они и сбежали.
— Такие только и могут, что сбежать, — сказала Тенар. Повернулась и слегка пнула ногу раненого носком своего башмака — словно это был какой-то неживой предмет, вызывающий одновременно любопытство и гадливость, что-то вроде дохлой гадюки. — Это ты все сделал правильно, — прибавила она.
— Не думаю, что он эти вилы заметил. Просто налетел на них. Это было словно… — Гед так и не сказал, на что это было похоже. Только рукой махнул. — Пей чай, — и сам налил себе еще из чайника, который стоял, чтобы не остыть, на горячих кирпичах очага. — Вкусный. Сядь, — ласково и настойчиво сказал он ей, и она подчинилась. — Когда я был мальчишкой, — продолжал он, немножко помолчав, — карги напали на мою деревню и варварски разграбили ее. У них были длинные копья с перьями…
Тенар кивнула.
— Воины Богов-Близнецов, — сказала она.
— Я сотворил… заклятие тумана. Чтобы сбить их с толку. Они все-таки прошли — некоторые из них. Я видел, как один напоролся прямо на вилы. И вилы проткнули его насквозь. Чуть ниже пояса.
— Этому ты попал в ребро, — сказала Тенар.
Он кивнул.
— Это было единственной твоей ошибкой, — сказала она. Зубы у нее стучали. Она отпила горячего чая. — Гед, а что, если они вернутся назад?
— Не вернутся.
— Они могут поджечь дом…
— Этот дом? — Он оглядел каменные стены.
— Сенник…
— Они не вернутся, — упрямо повторил он.
— Нет. Наверное, нет.
Они бережно держали чашки с чаем в ладонях, постепенно согреваясь.
— Девочка все это проспала.
— Ну и молодец.
— Но она увидит его… Здесь… утром…
Они уставились друг на друга.
— Лучше бы я его убил… лучше б он умер! — с яростью сказал Гед. — Я бы оттащил его подальше и закопал…
— Ну так сделай это.
Он только сердито помотал головой.
— Разве это имеет какое-то значение — когда? Почему, ну почему мы не можем этого сделать сейчас? — настаивала Тенар.
— Не знаю.
— Как только станет светло…
— Я увезу его из дома. На тачке, а старик мне поможет.
— Старик и поднять-то ничего не в силах. Я помогу тебе.
— Да ладно, я и сам могу все сделать. Отвезу его в деревню. Там есть какой-нибудь лекарь?
— Ведьма. Айви.
Внезапно Тенар почувствовала чудовищную, беспредельную усталость. Она едва могла держать в руках чашку.
— Там еще есть чай, — сказала она; язык едва ворочался во рту.
Он налил себе снова полную чашку.
Языки пламени плясали у нее перед глазами. Они плыли, взметались ввысь, опадали, снова разгорались, зажатые закопченными камнями, а темное небо постепенно светлело в потоках странного, словно вечернего света, лившегося из воздушных глубин, что за пределами этого мира… Языки пламени — желтые, оранжевые, оранжево-красные, красные… языки пламени, пламенные языки… сами слова она уже выговорить не могла.
— Тенар!
— Мы называем эту звезду Техану, — вдруг сказала она.
— Тенар, дорогая моя, пойдем. Пойдем со мной.
Они больше не сидели у очага. Они были в темной гостиной. В темном коридоре, в лабиринте… Они уже были там когда-то, вели друг друга, шли друг за другом — в темноте, под землей.
— Это верный путь, — сказала она.
Глава 12
Зима
Она просыпалась, не желая проснуться. Слабый сероватый свет просачивался снаружи сквозь щели в ставнях на окне. А почему закрыты ставни? Она поспешно вскочила и прошла через прихожую в кухню. Никто больше не сидел у огня, никто не лежал на полу. Нигде не было ничьих следов — ничего! Кроме чайника и трех чашек на буфете.
Вскоре встало солнце, а за ним — и Терру; они, как обычно, позавтракали вдвоем; убирая со стола, девочка спросила:
— Что случилось?
И приподняла за уголок разорванную простыню, замоченную в тазу. Вода была мутной, красноватой от крови.
— А, это мои женские дела слишком рано начались, — ответила Тенар, удивленная собственной ложью и тем, как легко ее выговорила.
Терру некоторое время стояла неподвижно; ноздри ее раздувались; она была напряжена, словно зверь, почуявший запах. Потом она опустила простыню в воду и вышла на двор — кормить цыплят.
Тенар чувствовала себя нездоровой: все тело ломило. Ей было по-прежнему холодно, так что она старалась не выходить из дому. Она попыталась было и Терру тоже держать при себе, но, когда порывы резкого холодного ветра совсем разогнали утренний туман и солнце засияло вовсю, Терру тут же потребовала, чтобы ее отпустили на улицу.
— Побудь с Шанди в саду, — сказала ей Тенар.
Терру ничего не ответила и выскользнула из дому.
Обожженная щека ее стала совершенно неподвижной из-за поврежденных мышц и грубых поверхностных шрамов, однако шрамы несколько поблекли, да и Тенар давно привыкла не отводить глаз при виде этого уродства, а видеть под страшными шрамами лицо хорошенькой девочки, так что для нее теперь и эта половина лица Терру имела свое определенное выражение. Когда Терру бывала встревожена, ее сожженная щека как бы «закрывалась» — так казалось Тенар;
когда же девочка бывала возбуждена или сгорала от любопытства, то казалось, что даже слепой ее глаз видит, а шрамы на лице краснели и становились горячими на ощупь. Сейчас же, когда Терру выходила из дому, то выглядела и вовсе необычно: лицо ее казалось вовсе не человеческим: оно будто принадлежало какому-то дикому созданию, зверю с грубой и толстой шкурой и единственным зрячим глазом, молчаливому и спасающемуся бегством зверю.
И Тенар прекрасно понимала: раз она сама только что впервые солгала Терру, то и Терру впервые в жизни сейчас ей не подчинится. В первый, но не в последний раз.
Она с усталым вздохом села у огня и некоторое время сидела так, в полном бездействии.
В дверь постучали: Чистый Ручей и Гед — нет, Хок, она должна называть его Хок — стояли на пороге. Старик жаждал высказаться и вид имел в высшей степени важный; Гед, темнокожий и спокойный, казался неуклюжим в своей уродливой пастушьей куртке.
— Входите, — сказала она. — Выпейте чаю. Что-нибудь случилось?
— Мерзавцы пробовали удрать в Вальмут! Да только королевские стражники из Кахеданана тут как тут — словили их, у Черри в сарае! — объявил, размахивая руками, Чистый Ручей.
— Так он жив? — Тенар охватил ужас.
— Тех двоих поймали, — ответил Гед. — Не его.
— Знаешь, тело-то крестьяне нашли на старой бойне, там, на Круглом Холме, — прямо всмятку все. Крестьян не меньше десятка было, так что кто-то за стражниками сбегал, да и пошли все вместе по следу. По всем деревням искали, а нынче утром, только-только рассвет занялся, их и нашли — в сарае у Черри. Они там закоченели совсем.
— Значит, он умер? — ошеломленно спросила Тенар.
Гед только что стряхнул с плеч свою тяжеленную куртку и, сидя на стуле возле двери, снимал кожаные гетры.
— Он-то жив, — Гед говорил совершенно спокойно. — Им Айви занимается. Я отвез его к ней утром на тележке. На дороге было полно людей, хотя еще и не рассвело как следует. Они за теми охотились. Эти негодяи там, в горах, женщину убили.
— Какую женщину? — прошептала Тенар.
Она смотрела Геду прямо в глаза. Он слегка кивнул.
Чистый Ручей намерен был во что бы то ни стало сам рассказать все и заговорил громко, перебивая Геда:
— Я-то с некоторыми тамошними говорил, так они рассказывают, что их четверо было; все слонялись без дела возле Кахеданана, палатки ставили, а женщина та часто в деревню приходила милостыню просить, вся избитая, ссадины да синяки по всему телу. Они ее такую-то специально посылали попрошайничать, мужики эти, чтобы добывала побольше; и она говорила людям, что ежели с пустыми руками вернется, так они ее еще пуще изобьют. Ну так тамошние ей и говорят: чего ж назад-то возвращаться? Но если б она не вернулась, так те бы за ней непременно сами явились — так она сказала. А она завсегда при них была, вместе они бродяжничали. Ну а потом-то они ее, видно, до смерти забили: перестарались. А тело оттащили на старую бойню да там и бросили; там, знаешь, все еще тухлятиной попахивало, так они, верно, думали, что это им следы замести поможет. А сами решили удрать по дороге вниз, сюда, в аккурат прошлой ночью. А ты чего ж на помощь-то не звала, не кричала? Гоха? Хок говорит, что тут они были, возле дома шастали, когда он на них набрел. Я бы точно тебя услыхал, да и Шанди тоже, у нее-то уши поострее моих будут. Ты ей ничего еще не говорила, а?
Тенар покачала головой.
— Ну так я счас ей и расскажу, — заявил старик, обрадованный тем, что первым сообщит Шанди все новости, и заковылял через двор прочь. На полпути он обернулся и крикнул Геду: — Вот уж никогда не думал, что ты так с вилами управляться умеешь! — и, смеясь, хлопнул себя по ляжкам.
Гед наконец стянул с ног тяжелые гетры, стащил грязные сапоги и выставил все это на крыльцо; потом в одних носках подошел к огню. Старые грубые штаны, рубаха из домотканой шерсти — настоящий гонтийский пастух с меднокожим лицом, ястребиным носом и ясными черными глазами.
— Скоро еще люди явятся, — сказал он. — Чтобы рассказать тебе ту историю и расспросить о том, что произошло здесь. Они поймали тех двоих в старом винном погребе, где и вина-то уже никакого нет; теперь человек пятнадцать-двадцать их сторожат, а два-три десятка мальчишек крутятся рядом и подглядывают… — Он зевнул, встряхнулся, а потом, взглянув на Тенар, попросил разрешения присесть у огня.
Она молча указала ему на стул.
— Ты, должно быть, до смерти измотался, — прошептала она.
— Я тут вчера немножко поспал. Просто не мог больше — глаза слипались. — Он снова зевнул. И пытливо посмотрел на нее, стараясь понять, о чем она думает.
— Это была мать Терру, — сказала она шепотом. Говорить громко она по-прежнему не могла.
Гед кивнул. Он сидел, чуть сгорбившись и положив руки на колени — так, бывало, сидел и Флинт, глядя в огонь. Они были очень похожи и все же совсем разные — настолько разные, как зарывшийся в землю камень и парящая в поднебесье птица. У Тенар болело сердце, все кости ломило, а душа пребывала в смятении, мучимая дурными предчувствиями, тоской, не забытым еще страхом.
— Та ведьма раненого приняла, — сказал Гед. — Перевязала. По-моему, ему уже лучше. Она ему все дырки заткнула — паутиной и заклятиями, что кровь останавливают. Говорит, вылечу его специально, чтобы потом этого мерзавца повесили.
— Повесили?
— Теперь уж это дело Королевского Суда. Либо повесят, либо на каторгу сошлют.
Она хмуро покачала головой.
— Ты же не могла просто отпустить его, Тенар, — мягко сказал он, глядя на нее.
— Нет.
— Они непременно должны быть наказаны, — сказал он, по-прежнему не сводя с нее глаз.
— «Наказаны»… Да-да,
это же его слова! Накажем девчонку. Она плохая. Ее нужно наказать. Накажи и меня за то, что я ее взяла. За то, что… — Ей было трудно говорить. — Я не хочу больше никаких наказаний!.. Этого вообще не должно было случиться… Лучше бы ты убил его!
— Я сделал все, что мог, — сказал Гед.
Она долго молчала, потом рассмеялась каким-то дребезжащим смехом:
— Да уж, это точно.
— Подумай, как легко это было бы, — проговорил он, снова уставившись на уголья, — если бы я был волшебником. Я мог бы наложить на них связующее заклятие еще там, на верхней дороге; они бы даже понять ничего не успели. Я мог бы один отвести их всех в Вальмут, словно стадо овец. Или прошлой ночью, здесь, — подумай! Какой отличный фейерверк я мог бы для них устроить! Они бы никогда и не догадались, что же с ними происходит.
— Они и сейчас не догадываются, — сказала Тенар.
Он быстро глянул на нее. В его глазах светился слабый отблеск торжества.
— Нет, — сказал он. — Не догадываются.
— Здорово с вилами управляться умеешь, — прошептала она.
Он зевнул во весь рот.
— Может, ляжешь поспишь? Здесь есть свободная комната — из прихожей вторая дверь. Если только ты не намерен развлекать рассказами целую компанию: сюда, между прочим, идут Ларк и Дейзи, а еще целая куча детей. — Тенар поднялась, заслышав голоса.
— Пожалуй, я действительно лягу спать, — сказал Гед и тихо скользнул прочь.
Ларк с мужем и Дейзи, жена кузнеца, а потом и другие жители деревни целый день шли и шли к ней с рассказами и расспросами. Как ни странно, именно эти бесконечные разговоры и вернули ее к жизни, отвлекли от страшных воспоминаний о прошлой ночи; постепенно ей стало легче говорить об этом: теперь она чувствовала, что все это случилось уже давно, а не происходит с ней непрерывно и никогда не оставит ее душу в покое.
Именно этому должна научиться и Терру, подумала она, но только не за одну ночь: за целую жизнь.
Когда ушли остальные, Тенар сказала Жаворонку:
— Что меня больше всего бесит в самой себе, так это собственная глупость.
— Я же предупреждала: держи двери запертыми.
— Нет… Может быть… Да, наверное, в этом все и дело.
— Конечно.
— Нет, я хотела сказать, что, когда они были здесь… я могла бы выбежать, позвать стариков… может, даже прихватить с собой Терру… Или пойти в сарай и взять эти вилы сама… Или крюк для подрезки веток… В нем все-таки семь локтей длины, а лезвие острое как бритва, он у меня всегда в полном порядке, как у Флинта когда-то… Почему же я ничего этого не сделала? Почему?.. Почему я просто заперлась в доме — ведь в этом не было ни малейшего смысла? Если бы он… если бы Хок тут не оказался… Все, на что я была способна, — это загнать себя и Терру в ловушку. В конце-то я, правда, взяла большой нож, и вышла на крыльцо, и стала на них кричать… Я чуть с ума не сошла тогда. Но нож-то мой их бы, конечно, не отпугнул.
— Не знаю, — сказала Жаворонок. — Не уверена. Конечно, это было безумие, но, может… Не знаю. А что тебе еще оставалось? Только двери запереть. Мы, похоже, всю свою жизнь только и делаем, что двери запираем. Таков уж наш дом.
Вокруг них были каменные стены, напротив — каменный очаг; в окошко кухни ярко светило солнце; это был дом фермера Флинта.
— Та девушка, вернее, та женщина, которую они убили… — сказала Жаворонок, проницательно глянув на Тенар, — это та самая?
Тенар кивнула.
— Кто-то мне сказал, что она была беременна. Месяца четыре-пять.
Обе снова помолчали.
— Попалась в ловушку, — сказала Тенар.
Ларк сидела, откинувшись назад, положив руки поверх своих тяжелых бедер, обтянутых юбкой; спина прямая, миловидное лицо печально.
— Страх, — сказала она. — Чего мы так боимся? Почему позволяем убеждать нас в этом? И чего боятся они сами? — Она подняла с пола чулок, который вязала, повертела его в руках, помолчала и наконец спросила: — Почему они так боятся нас?
Тенар пряла шерсть и ей не ответила.
Вприпрыжку вбежала Терру.
— Вот и девочка наша! — ласково приветствовала ее Ларк. — А ну-ка, подойди, дай я тебя поцелую, золотко ты мое!
Терру бросилась ей на шею.
— Что это за людей поймали в деревне? Кто они? — требовательно спросила она своим хриплым, лишенным выражения голосом, глядя то на Ларк, то на Тенар.
Тенар остановила веретено. И медленно ответила:
— Один из них был Ловкач. Второго звали Баклан. А того, что был ранен, звали Треска. — Она не сводила глаз с лица Терру и видела, как разгорается тот внутренний огонь, как краснеют шрамы. — А женщину, которую убили, по-моему, звали Сенни.
— Сенини, — прошептала девочка.
Тенар кивнула.
— Они ее совсем убили? До смерти?
Тенар снова кивнула.
— Головастик говорит, что они и сюда приходили?
Тенар кивнула еще раз.
Девочка обвела взглядом комнату, но вид у нее при этом был такой, словно она абсолютно ничего не воспринимала и не видела перед собой даже стен.
— Ты их убьешь?
— Они, возможно, будут повешены.
— Умрут?
— Да.
Терру кивнула — как-то полубезразлично. И снова убежала на улицу — играть с детьми Ларк у колодца.
Обе женщины долго молчали. Пряли шерсть и о чем-то думали в тишине у огня. В доме фермера Флинта.
Наконец Жаворонок нарушила молчание:
— А что с тем парнем, с пастухом, что пришел сюда за ними следом? Хок вроде бы его звать?
— Он спит. Там, — сказала Тенар, кивком указав на дальнюю комнату.
— Ага, — сказала Жаворонок и снова умолкла.
Жужжало веретено.
— Я знала его и до вчерашней ночи.
— Там, в Ре Альби, да?
Тенар кивнула. Веретено продолжало жужжать.
— Чтобы одному против троих выйти в темноте, да еще с вилами, — для этого теперь немалое мужество требуется. А он ведь к тому же не молод, верно?
— Нет. Не молод. — Тенар помолчала, потом прибавила: — Он сильно болел, и ему очень нужна была работа. Вот я его и послала сюда, чтобы Чистый Ручей ему на ферме работу подыскал. Но Чистый Ручей считает, что по-прежнему может сам со всем справиться, так что Хока он в горы отослал, на летние пастбища. Он как раз оттуда и возвращался.
— Ну так, я думаю, теперь ты его здесь оставишь?
— Если он захочет, — сказала Тенар.
Потом приходили еще люди, чтобы тоже послушать, что произошло с Гохой, и рассказать, какое участие сами принимали в поимке убийц; они рассматривали вилы с четырьмя длинными зубьями, вспоминали кровавые пятна на бинтах того типа по кличке Треска, а потом все начинали перемалывать сначала. Тенар даже обрадовалась, когда наконец наступил вечер; она позвала Терру домой и заперла все двери.
Она уже подняла было руку, чтобы задвинуть последний засов. И снова опустила ее, заставив себя уйти и оставить эту дверь незапертой.
— А в твоей комнате Ястреб спит, — сообщила ей Терру, возвращаясь в кухню с лукошком яиц, взятым в холодной кладовой.
— Я и забыла предупредить тебя, что он там… Ты уж меня прости.
— Но я же его знаю, — сказала Терру, старательно умываясь. А когда в кухню вошел Гед с припухшими глазами и всклокоченной шевелюрой, девочка подошла прямо к нему и потянулась, чтобы его обнять.
— Здравствуй, Терру, — сказал он ласково, подхватил ее на руки и прижал к себе. Она легонько обняла его за шею и тут же высвободилась.
— Я знаю начало «Создания Эа», — сообщила она ему.
— Ты мне его споешь? — Снова взглядом спросив разрешения у Тенар, он сел на прежнее место у очага.
— Я могу только рассказать.
Он кивнул и приготовился слушать; вид у него при этом был довольно-таки суровый. Девочка продекламировала:
Разрушив — создашь.
То конец ли? Начало?
Одно — из другого…
Кто знает наверно?
Одно лишь мы знаем:
Есть дверь меж мирами,
В нее мы уходим,
Навек расставаясь.
Но есть существа,
Что приходят обратно…
Среди них старейший —
Привратник Сегой…
Голос девочки напоминал шуршание металлической щетки по металлу, или шорох сухих листьев, или шипение горящих дров… Когда она закончила первый стих «…из пены морской поднимается Эа, красою сияя», Гед коротко одобрительно кивнул.
— Хорошо, — сказал он.
— Вчера вечером, — сказала Тенар. — Только вчера вечером она это впервые услышала и выучила. А кажется, будто год назад.
— Я могу еще дальше выучить, — сказала Терру.
— И выучишь, — откликнулся Гед.
— А теперь закончи чистить кабачок, пожалуйста, — велела девочке Тенар, и та послушно принялась за работу.
— А мне что делать? — спросил Гед.
Тенар озадаченно посмотрела на него:
— Нужно принести воды для чайника…
Он кивнул и отправился к колодцу.
Они приготовили ужин, с аппетитом поели и вместе убрали со стола.
— Повтори-ка мне снова «Создание Эа» до того места, до которого помнишь, — попросил Гед девочку, когда они уселись у очага, — и мы с тобой пойдем дальше.
И она тут же выучила второй стих, повторив его один раз вместе с Гедом и еще один раз вместе с Тенар, а потом — самостоятельно.
— А теперь марш в кровать, — сказала Тенар.
— А ты не рассказала Ястребу о короле?
— Лучше ты сама ему расскажи, — сказала Тенар, обрадованная поводом для того, чтобы пока не оставаться с Гедом наедине.
Терру встрепенулась. Лицо ее — обе его половины — горело воодушевлением.
— Тот король приплыл на корабле. У него был меч. А еще он дал мне дельфинчика из кости. И корабль его летел как птица, только я тогда болела, потому что до меня дотронулся Ловкач. А король взял да и тоже дотронулся, и та противная отметина исчезла. — Она показала ему свою нежную тонкую ручонку. Тенар тоже посмотрела. О следах, оставленных пальцами Ловкача, она совсем позабыла. — Когда-нибудь я хотела бы полететь туда, где он живет, — сообщила Ястребу Терру. Он кивнул. — Я непременно полечу! А ты его знаешь?
— Да. Я его знаю. Мы вместе были в одном очень долгом путешествии.
— Где это?
— Там, где солнце не встает и не загораются звезды. И мы вместе вернулись из этой страны.
— А вы с ним летели?
Гед покачал головой.
— Я умею только ходить, — сказал он спокойно.
Девочка задумалась, а потом, словно весьма удовлетворенная собственными мыслями, сказала:
— Спокойной ночи. — И пошла в свою комнату. Тенар хотела было проводить ее и спеть колыбельную, но Терру не захотела. — Я лучше расскажу «Создание» в темноте, — сказала она. —
Оба стиха.
Тенар вернулась на кухню и села напротив Геда.
— Как быстро она меняется! Мне за ней не успеть. Слишком стара, видно, чтобы ребенка воспитывать. А она… Она меня, конечно, слушается, но только потому, что сама так хочет.
— Это единственное оправдание для послушания, — заметил Гед.
— Но если уж ей взбредет в голову меня не послушаться, то с ней не сладить! Есть в ней что-то дикое. Иногда она — моя девочка, моя Терру, иногда же — совсем иное существо, недосягаемое для меня, неведомое. Я спрашивала Айви, не стоит ли отдать Терру ей в ученицы. Это Бук мне посоветовал. Но Айви сразу отказалась. «Почему же нет?» — спросила я. «Я ее боюсь!» — сказала она… Но ведь ты ее не боишься? Как и она тебя. Ты и Лебаннен — единственные мужчины, которым она позволяет себя касаться. Я не смогла помешать этому… этому Ловкачу… не могу об этом говорить! Ох как я устала! Я уже ничего не соображаю…
Гед положил в очаг толстое полено — чтобы горело потихоньку, медленно, и оба они некоторое время молча смотрели, как извиваются и дрожат языки пламени.
— Я бы хотела, чтобы ты остался здесь, Гед, — сказала Тенар. — Если тебе это по душе, конечно.
Он ответил не сразу, и она спросила:
— Может быть, ты собираешься в Хавнор?..
— Нет, нет. Мне некуда идти. Я просто искал работу.
— Ну что ж, здесь работы полно. Старик, правда, так не считает, однако при его артрите он теперь годится разве что за садом присматривать. Мне все время очень нужен был помощник — с тех самых пор, как я вернулась. Я бы могла, разумеется, выругать этого упрямца за то, что он отослал тебя в горы, но это бесполезно. И слушать бы не стал.
— Мне это только на пользу пошло, — сказал Гед. — Больше всего мне нужно было время.
— Ты там овец пас?
— Коз. На самых верхних пастбищах, почти там, где начинаются голые скалы. Мальчишка, которого они наняли раньше, заболел, так что Серри послал меня туда в первый же день. Коз ведь держат наверху до поздней осени, до самых холодов, чтобы подшерсток гуще стал. А последний месяц я там жил практически совсем один. Серри прислал мне эту вот куртку и кое-какие припасы и просил оставаться в горах так долго, как только смогу. Вот я и остался до самых морозов. Там, в горах, замечательно было!
— Одиноко, наверно, — сказала она.
Он кивнул, чуть улыбнувшись.
— Ты всегда был одиноким.
— Да, всегда.
Она промолчала. Он посмотрел на нее.
— Я рад буду работать у тебя на ферме, — сказал он.
— Значит, решено, — сказала она. И чуть погодя прибавила: — Уж по крайней мере хоть зиму-то пробудешь?
В тот вечер подморозило еще сильнее. Мир вокруг совсем затих, слышался лишь шепот огня. Молчание было ощутимым, словно присутствие рядом с ними кого-то третьего. Тенар подняла голову.
— Ну хорошо, Гед, — сказала она и посмотрела прямо на него. — А в чьей постели мне теперь спать? В постели Терру или в твоей?
Он затаил дыхание. Потом тихо сказал:
— В моей. Если захочешь.
— Захочу.
Молчание, казалось, теперь опутало его по рукам и ногам. Было заметно, какие усилия он прилагает, чтобы высвободиться из этих пут.
— Если у тебя хватит терпения… — проговорил он.
— У меня хватило терпения на целых двадцать пять лет, — сказала она. Посмотрела на него внимательно и засмеялась. — Ну же… ну, ну, дорогой мой!.. Лучше поздно, чем никогда! Я, конечно, теперь всего лишь старуха… Ничто не проходит даром, ничто никогда не проходит даром. Ты сам учил меня этому. — Она встала. Поднялся и он. Она протянула ему руки, и он взял их в свои. Потом они обнялись — все теснее и теснее сжимая объятия. И столько в этих объятиях было страсти и нежности, что все вокруг как бы перестало для них существовать: в этом мире были сейчас только они одни. Не имело никакого значения, в какой постели они собираются спать. В ту ночь они легли прямо на каменный пол у очага, и там она открыла Геду ту тайну, которую не смог бы ему открыть даже самый мудрый волшебник.
Один раз он встал, чтобы подбросить дров в огонь, а со скамьи снял ту красивую козью шкуру и постелил им на пол. Тенар ни слова не возразила. Укрылись они ее плащом и его курткой из овчины.
Оба проснулись на рассвете. Слабый серебристый свет окутывал полуоблетевшие ветви дубов за окном. Тенар потянулась всем телом и почувствовала живое тепло лежащего рядом с ней человека. Потом прошептала:
— Он тоже лежал здесь. Тот тип по прозвищу Треска. На этом самом месте, на полу…
Гед что-то слабо негодующе промычал в ответ.
— Вот теперь ты настоящий мужчина, — сказала Тенар. — Сперва вилами превратил в решето бандита, потом с женщиной ночь провел… По-моему, именно в таком порядке обычно и получается.
— Помолчи, — прошептал он, поворачиваясь и кладя голову ей на плечо. — Не надо.
— Буду! Ах, Гед, бедняга! Нет во мне жалости, только справедливость. Меня жалости не учили. Умение любить — вот единственная милость, которая была мне дарована. Ах, Гед, не бойся меня! Ты же был мужчиной, когда я впервые увидела тебя! Не оружие и не женщина делают мужчину мужчиной; и не магия, и не какая-нибудь иная сила — только он сам!
Они лежали в тепле и молчании, исполненном нежности.
— Расскажи мне что-нибудь.
Он в ответ сонно пробормотал что-то невнятное.
— Как тебе удалось расслышать, что они говорят? Треска, Ловкач и тот, третий? Как тебе удалось оказаться именно там и именно в нужный момент?
Гед чуть приподнялся на локте, чтобы видеть ее лицо. Его собственное лицо казалось сейчас таким беззащитным, на нем была написана такая детская радость и такая нежность, что Тенар пришлось подтянуться и коснуться его губ там, куда она впервые его поцеловала несколько месяцев назад, и он, конечно, тут же снова обнял ее, и разговор свой дальше они продолжали уже без слов.
Были кое-какие формальности, которые необходимо было соблюсти. Во-первых, сообщить Чистому Ручью и прочим арендаторам, что она заменила «старого хозяина» новым работником. Это она проделала быстро и решительно. Они ничего не могли с этим поделать, впрочем, им в данном случае ничто и не грозило. Вдова могла владеть собственностью покойного мужа, только если у того не было ни одного наследника мужского пола. Единственным наследником Флинта был его сын, моряк, так что вдова просто как бы вела хозяйство на ферме в его отсутствие. Если бы она умерла, тогда в отсутствие наследника хозяйство вел бы Чистый Ручей; а если бы ее сын так никогда и не востребовал бы своего наследства, ферма отошла бы дальнему родственнику Флинта, жившему в Кахеданане. Так что обе пары, давно арендовавшие эти земли, могли не опасаться быть изгнанными из своих жилищ тем, кого вдова наймет на работу, даже если бы она вышла за этого человека замуж. Однако Тенар опасалась, что старики обвинят ее в недостаточной верности памяти Флинта, которого они, в общем-то, знали куда дольше, чем она. К ее радости, впрочем, они вовсе не возражали против такого решения. Хок завоевал их вечное расположение одним-единственным удачным ударом вилами. Кроме того, с точки зрения их всех, желание Гохи иметь в доме мужчину, который способен ее защитить, было вполне разумным. Если же Гоха допустит его в свою постель — что ж, аппетиты вдовушек давно вошли в пословицу. Да к тому же она ведь нездешняя…
Отношение остальных жителей деревни к случившемуся было примерно таким же. Немного пошептались, посплетничали — вот и все. Оказалось, что быть уважаемой женщиной куда легче, чем полагала тетушка Мох. А может, старые вещи просто всегда меньше ценятся?
Она чувствовала себя настолько замаранной и униженной тем, что они так легко все это приняли, как если бы все было как раз наоборот. Одна лишь Ларк нисколько не угнетала ее — она вообще ни слова не сказала ни в похвалу, ни в осуждение; она видела, что происходит между этими двоими, наблюдала за ними с интересом, с любопытством, с завистью, но, в общем, доброжелательно.
Ибо старинная подруга Тенар видела Хока не сквозь расхожие слова «пастух», «работник», «вдовушкин ухажер». Впрочем, она замечала многое такое, что ее озадачивало. Например, его достоинство и простота были вроде бы самыми обычными, такими же, как у многих, кого Ларк знала, но как бы отличались от них по качеству; в нем всегда чувствовалась некая значимость, некое не сразу заметное глазу величие души и ума. Она как-то сказала Айви:
— Этот человек не всю свою жизнь среди коз провел. Он о мире знает куда больше, чем о крестьянском труде.
— Я бы иначе сказала: он либо колдун, кем-то проклятый, либо волшебник, отчего-то силу свою утративший, — откликнулась ведьма. — Такое случается.
— А-а-а… — только и промолвила Ларк.
Так или иначе, но само звание Верховный Маг было слишком пышным и величественным, оно больше годилось для королевских приемов и дворцов, а не для этого темноглазого седоволосого человека с Дубовой Фермы, так что Ларк оно никогда и в голову не приходило. А если бы пришло, то она уже никогда бы не смогла чувствовать себя с ним так естественно и просто, как теперь. Даже сама мысль о том, что Хок, возможно, когда-то был колдуном, несколько встревожила ее. Слово «колдун» как бы мешало ей воспринимать его таким, какой он есть, пока она снова не увидела его совсем иными глазами. Он в тот момент сидел на одной из старых огромных яблонь, срезая высохшие сучья, и поздоровался с ней оттуда, сверху. До чего же на коршуна похож, подумала она, особенно когда сидит вот так, нахохлившись, на ветке! И она приветливо помахала ему рукой и улыбнулась.
Тенар так и не забыла того вопроса, который задала Геду, когда они лежали на каменном полу у очага, накрывшись курткой из овчины. Она снова задала его несколькими днями позже — время для них теперь пролетало легко и приятно в этом доме с мощными каменными стенами, окруженном зимними снегами.
— Ты так и не объяснил мне, — сказала она, — как же все-таки тебе удалось услышать, о чем они говорили тогда, на верхней дороге.
— По-моему, я рассказывал тебе, что шел по обочине, почти невидимый, когда эти люди нагнали меня.
— Почему по обочине?
— Потому что я был один и знал, что на дороге хозяйничают бандиты.
— Да, конечно… Но, значит, когда они поравнялись с тобой, Треска уже говорил о Терру?
— По-моему, в этот момент он говорил о Дубовой Ферме.
— Возможно. Во всяком случае, звучит очень убедительно.
Понимая, что это не потому, что она не верит ему, он решил подождать, что она скажет еще.
— Такое порой случается — но только с волшебниками, — сказала Тенар.
— И с другими людьми тоже.
— Возможно.
— Дорогая моя, ты ведь не хочешь… убедить меня в том, что силы мои вернулись?
— Нет. Нет, совсем нет. Это было бы просто глупо с моей стороны. Ведь, если бы ты снова стал волшебником, тебя бы здесь уже не было, верно?
Они лежали на широкой кровати с дубовой рамой, тепло укрытые овечьими шкурами и пуховыми одеялами, потому что в этой комнате не было очага, а ночь стояла морозная, да и снег давно уже выпал.
— Я вот что хочу понять: нет ли чего-то еще помимо того, что вы называете волшебной силой, такого, что появляется как бы до нее? Или чего-то большего, чем волшебная сила, которая сама по себе является только частью этого большего? Ну вот, например, Огион говорил, что еще до того, как ты успел чему-то научиться, познал волшебную премудрость, ты
уже был магом. Прирожденным магом, так он говорил. Так что мне всегда казалось, что для того, чтобы обладать волшебной силой, чтобы воспринять ее, нужно иметь в своей душе какое-то особое место. Некую пустоту, которую необходимо заполнить. И чем больше будет в душе этого места, тем больше поместится там волшебной силы. Но если волшебной силы вообще не дать, или если ее отобрать, или если самому ее отдать, то место-то для нее в душе все равно останется?
— Только пустота, — сказал Гед.
— «Пустота» — это всего лишь слово, одно из тех, которыми можно назвать это незаполненное место в душе. Может быть, и не самое правильное слово.
— Способность? — полувопросительно произнес он и покачал головой. — Предрасположенность?..
— Мне кажется, что ты оказался там, на верхней дороге, именно в том месте и именно в тот час, благодаря этому качеству — благодаря тому, что с тобой такое может произойти. Ты не сам заставляешь события свершаться. Ты их не вызываешь. И тот случай тоже не был связан с твоей «волшебной силой». Это просто с тобой
случилось. Из-за твоей способности… из-за этой «пустоты» в твоей душе.
Помолчав немного, он сказал:
— Все, что ты говоришь, очень похоже на то, чему меня в юности учили на острове Рок: настоящая Магия призывает делать только совершенно необходимое. Но этот закон имеет свое продолжение: не делать что-то самому, а быть вынужденным что-то сделать…
— Не думаю, что это так уж верно. Больше похоже на объяснение причин великих деяний. Разве ты не пришел и не спас мне жизнь? Разве не проткнул этого мерзавца вилами? Вот это и было «действием», настоящим, таким, которое ты должен был совершить…
Гед снова задумался и наконец спросил:
— Этой премудрости тебя учили, когда ты была жрицей Гробниц?
— Нет, — она потянулась, глядя в темноту, — Ару учили: для того чтобы быть могущественной, нужно приносить жертвы. Себя и других людей. Сделка такая: отдай — и получишь. И не могу сказать, что это так уж неверно. Но душе моей тесно в этих рамках — око за око, зуб за зуб, смерть за жизнь… Есть некая свобода за пределами этого порядка. За пределами неизбежной расплаты, неизбежного возмездия, неизбежного искупления — за пределами всех сделок и всякого равновесия сил — там, за пределами всего этого существует свобода…
—
Есть дверь меж мирами, — сказал он тихонько.
В ту ночь Тенар снился сон. Ей снилось, что она видит эту дверь меж мирами из «Создания Эа». Она была похожа на небольшое окошко из толстого пузырчатого мутного стекла, прорубленное низко в западной стене какого-то старого дома, стоящего над морем. Окно было крепко заперто и закрыто прочными ставнями. Тенар хотела открыть его, но существовало какое-то слово, какой-то ключ, что-то в этом роде, что она позабыла — слово ли, ключ ли или чье-то имя, — и никак она не могла открыть окошко. Она искала и искала этот потерянный, забытый ключ в комнатах с каменными стенами, и комнат становилось все меньше, и стены все сдвигались, и со всех сторон наступала темнота… и тут она почувствовала, что Гед обнимает ее, пытаясь разбудить и успокоить, и все приговаривает:
— Все в порядке, родная моя, успокойся, все будет в порядке!
— Я не могу стать свободной! — заплакала она, прижимаясь к нему.
Он успокаивал ее, гладил по голове; потом они снова улеглись, прижавшись друг к другу, и он прошептал:
— Посмотри.
Светила полная луна. Ее сияние, отражаясь от только что выпавшего снега, наполняло комнату холодным белым светом, потому что, несмотря на мороз, закрывать ставни Тенар не хотелось. Светился весь воздух вокруг. Изголовье кровати было в тени, но казалось, что потолок над их головами — всего лишь тонкая прозрачная вуаль, за которой открываются бесконечные серебристые спокойные глубины света.
В ту зиму на Гонте выпали глубокие снега, да и сама зима была долгой. Урожай был очень хорош. Для людей и животных еды хватало, а дел особых зимой не было, разве что готовить еду да сохранять тепло в доме.
Терру выучила «Создание Эа» до конца, а после нее — «Зимнюю Песнь» и «Подвиг юного короля». Она умела сделать аппетитно румяной корочку пирога, умела отлично прясть, знала даже, как изготовить мыло. Она знала название и применение каждой травинки, что появлялась из-под снега, и выучила много еще всего о травах и народной мудрости и о том, что Гед хранил в своей памяти с тех пор, как сам учился у Огиона и в Школе Волшебников. Но он так и не снял с полки Книгу Рун, как и ни одну другую книгу Огиона, и не научил девочку ни единому слову из Речи Созидания.
Они с Тенар часто говорили об этом. Она рассказала ему, как однажды пыталась научить Терру одному-единственному слову — «ток», — а потом вдруг бросила это занятие: что-то смущало, даже пугало ее, хотя она и не понимала, что именно.
— Я тогда решила, что, может быть, это потому, что сама я никогда по-настоящему не пользовалась Истинной Речью и никогда не занималась Магией. И, наверно, девочке лучше учиться Языку Созидания у настоящего волшебника, который им пользуется постоянно.
— Такого волшебника не существует.
— А уж волшебницы и подавно.
— Я хотел сказать, что только драконы пользуются Истинной Речью как своей родной.
— А они учат этот язык?
Застигнутый этим вопросом врасплох, он ответил не сразу, по всей очевидности припоминая все то, что ему когда-либо довелось узнать о драконах.
— Не знаю, — сказал он наконец. — Да и что мы, в сущности, знаем о них? Испытывают ли они желание передавать знания — как это делаем мы — от матери к ребенку, от старшего к младшему? Или они, подобно животным, чему-то учатся в процессе жизни, но большую часть знают от рождения? Нам ведь неведомо даже это. Но на мой взгляд, сам дракон и речь его суть едины. Одно существо.
— И они не говорят ни на одном другом языке?
Он кивнул.
— Они ничему не учатся, — сказал он. — Они просто существуют.
В кухню вбежала Терру. Одной из ее обязанностей было постоянно пополнять короб со щепой для растопки, и она как раз была занята этим, одетая в теплую куртку из овчины, перешитую Тенар, и такую же шапку. Девочка рысцой бегала туда-сюда — из дровяного сарая в кухню и обратно. Вытряхнув очередную порцию щепок в короб, стоявший у камина в углу, она снова убегала.
— Что это она такое поет? — спросил Гед.
— Терру? Поет?
— Да, когда остается одна.
— Но она никогда не поет! Она не может петь.
— Поет по-своему. «На самом далеком западе…»
— А! — воскликнула Тенар. — Это та старая история! Неужели Огион никогда не рассказывал тебе о Женщине из Кимея?
— Нет, — сказал Гед, — расскажи мне, пожалуйста.
И Тенар рассказала ему под жужжание веретена — отличный аккомпанемент для длинного рассказа. А под конец она прибавила:
— Когда Мастер Ветродуй рассказал мне, почему он приехал искать «одну женщину с Гонта», я сразу подумала о ней, об этой Женщине из Кимея. Но она теперь, уж конечно, умерла. Да и разве может какая-то рыбачка — пусть она даже раньше и была драконом — стать Верховным Магом Земноморья?
— Ну, Путеводитель ведь не сказал, что некая женщина с острова Гонт непременно должна стать Верховным Магом, — возразил Гед. Он старательно штопал свои чудовищно изношенные штаны, сидя возле окна и пытаясь поймать остаток света уходящего серого дня. Прошло уже с полмесяца после Солнцеворота, но все еще было очень холодно.
— Но что же он в таком случае имел в виду?
— «Одну женщину с Гонта». Так и ты мне сказала.
— Но они же спрашивали: кто должен стать следующим Верховным Магом?
— И не получили ответа на этот вопрос.
—
Бесконечны споры магов между собой, — сухо и разочарованно проговорила Тенар.
Гед перекусил нитку и аккуратно смотал оставшийся конец.
— На Роке меня немного учили играть словами, — согласился он. — Но это вовсе не словесная головоломка, так мне кажется, Тенар. «Одна женщина с Гонта» не может стать Верховным Магом. Ни одна женщина на свете не может им стать. Она разрушит само это понятие, став им. Маги острова Рок — всегда только мужчины; их волшебство — это волшебство мужчин; их знания — это знания мужчин. То, что они мужчины, как и то, что они волшебники, имеет одно основание: власть и могущество принадлежат мужчинам. Если бы у женщин была власть, то кем бы должны были считаться мужчины, как не женщинами, которые не способны вынашивать детей? И кем бы считались женщины, как не мужчинами, которые могут родить ребенка?
— Ха! — выдохнула Тенар и быстро, не без лукавства спросила: — А разве в мире никогда не было королев? Разве великие королевы не были просто женщинами, наделенными властью?
— Королева — это всего лишь женщина-король, — отрезал Гед.
Тенар презрительно фыркнула.
— Я хотел сказать, что королевскую власть ей дали мужчины. Они дали ей возможность воспользоваться их властью. Но ей самой эта власть не принадлежит, разве не так? Так. И вовсе не потому она облечена властью, что является женщиной, но вопреки этому.
Она кивнула. Она сидела очень прямо, отодвинувшись от своего веретена.
— В чем же тогда могущество женщины? — спросила она.
— Не думаю, чтобы мы это понимали.
— Когда же в таком случае женщина обретает могущество, будучи всего лишь женщиной? Родив детей, я полагаю? На какое-то время…
— В своем доме — быть может.
Она оглядела кухню.
— Но все двери закрыты, — сказала она, — все двери заперты.
— Потому что вам, женщинам, цены нет.
— О да! Мы поистине драгоценны. До тех пор, пока бессильны… Я помню, когда я впервые поняла это! Коссил запугала меня — меня, Единственную Жрицу Гробниц! И я поняла, что совершенно беспомощна. У меня были почести; но власть была у нее — она получила ее от Короля-Бога, от мужчины. Ах, как это злило меня! И пугало… Мы с Жаворонком как-то раз говорили об этом. Она сказала: «Почему все-таки мужчины так боятся женщин?»
— Если сила твоя покоится только на слабости другого, ты живешь в постоянном страхе, — промолвил Гед.
— Да, но женщины, похоже, страшатся собственной силы, боятся самих себя.
— А разве их когда-нибудь учат в себя верить? — спросил Гед, и тут как раз снова вошла занятая своими делами Терру. Гед и Тенар посмотрели друг на друга.
— Нет, — сказала Тенар. — Верить в себя нас вовсе не учат. — Она смотрела, как девочка вытряхивает щепки в короб. — Если власть — это вера в себя, — продолжала она, — то мне это слово нравится. Если же нет — то все эти бесконечные ступени… король, повелитель, маг, хозяин… Все это кажется мне таким ненужным. Настоящая власть, настоящая свобода должна была бы покоиться на вере и доверии, а не на силе и насилии.
— На вере, подобной вере детей в своих родителей, — сказал Гед.
Оба помолчали.
— При существующем порядке вещей, — сказал он, — даже вера портит человека. Мужчины на острове Рок верят и доверяют друг другу. Их власть чиста, ничто не пятнает ее чистоты, и чистоту этой власти они принимают за мудрость. Они и представить себе не могут, что это неверно.
Тенар вскинула на него глаза. Гед никогда прежде не говорил так о Мастерах острова Рок — совершенно свободно, совершенно независимо.
— Может быть, нужно, чтобы там появились женщины — просто чтобы эти мудрецы знали, что и они могут ошибаться, — сказала она, и он рассмеялся.
Тенар снова запустила веретено.
— Я по-прежнему не понимаю, почему, если могут существовать женщины-короли, то не могут существовать женщины-маги?
Терру внимательно слушала.
— Горячий снег, сухая вода! — Это была гонтийская поговорка. — Королям власть дается другими людьми. Сила же мага принадлежит только ему — она в нем самом и дается от рождения.
— И она остается чисто мужской силой — это потому, что никто из нас даже не знает, что представляет собой сила женская. Ну хорошо. Понимаю. Но в таком случае почему же они никак не могут подыскать нового Верховного Мага — мужчину?
Гед изучал обветшавший, облохматившийся шов на своих штанах.
— Что ж, — сказал он, — если тогда Путеводитель и не ответил на их вопрос, то он по крайней мере дал ответ на вопрос, которого они не задавали. Может быть, им нужно лишь задать его.
— Это что же, загадка? — спросила Терру.
— Да, — сказала Тенар. — Но самой загадки мы не знаем. Мы знаем только отгадку. А она такова: «Одна женщина с Гонта».
— Но ведь их так много! — сказала Терру, немного подумав. И, явно довольная собой, отправилась за очередной порцией щепок.
Гед смотрел ей вслед.
— Все переменилось, — сказал он. — Все… Иногда я думаю, Тенар… мне хотелось бы знать: а вдруг правление короля Лебаннена — это только начало? Та дверь меж мирами… А сам он — Привратник у этой двери. Чтобы просто так пройти было нельзя.
— Он кажется таким юным, — нежно сказала Тенар.
— Столь же юным был и Морред, когда встретил Черные Корабли. Столь же юным был и я сам, когда… — Он умолк, глядя в окошко на серые замерзшие поля, просвечивающие сквозь оголенные ветви деревьев. — Или ты, Тенар, в той темнице… Где кончается юность, где начинается зрелость? Не знаю. Иногда мне кажется, что я прожил тысячу лет, иногда — что жизнь моя не длиннее полета ласточки, увиденной в маленькое окошко. Я уже умирал и снова возродился, и в Пустынной стране, и здесь, под живым солнцем, это происходило не один раз. А песни о Создании учат нас, что все мы лишь вернулись сюда и будем вечно возвращаться к источнику жизни, и источник этот неисчерпаем. И жизнь после смерти… Я думал об этом там, высоко в горах, когда пас коз, и день длился вечно, и все же вечер и утро почему-то мгновенно сменяли друг друга… Я учился козьей мудрости. Так мне думалось. Так о чем же я грущу? Кого из людей оплакиваю? Верховного Мага Геда? Но зачем из-за него пастуху Хоку так горевать и так стыдиться? Да и что я сделал такого, чего мне следовало бы стыдиться?
— Ничего, — сказала Тенар. — Никогда и ничего!
— О да, — сказал Гед. — Все величие человека основано на чувстве стыда, оно как бы выросло из него. Вот потому-то пастух Хок оплакивал Верховного Мага Геда. А еще — пас коз, как это мог бы делать любой мальчишка, каким и сам пастух Хок был когда-то…
Тенар немного помолчала, потом улыбнулась и чуть застенчиво сказала:
— Тетушка Мох говорила, что тебе тогда было лет пятнадцать?
— Да, почти. Огион совершил обряд и дал мне имя где-то осенью, а следующим летом я отбыл на Рок… Кто был тот мальчик? Пустота в душе… предрасположенность… свобода — за запертой дверью…
— Кто такая Терру, Гед?
Он не отвечал так долго, что она уж решила, что он и не собирается этого делать, но тут он сказал:
— Она же такая… какая свобода ей еще требуется?
— Значит, наша свобода — в нас самих?
— Думаю, что так.
— Ты, обладая своим могуществом, казался настолько свободным, насколько это вообще возможно. Но какой ценой? Что делало тебя свободным? А я… Меня сделали, вылепили, словно из глины, своей волей те женщины, что служили Древним Силам или мужчинам, которые владели всем — храмами, дорогами, площадями — не знаю уж теперь,
чем еще. Потом я стала свободной — с тобой — и была какое-то время свободной с тобой и с Огионом. Но то была не моя свобода. То была свобода выбора; и я сделала выбор. Я сама вылепила из себя нечто пригодное для нужд фермы и ее хозяина и наших детей. Я превратилась в глиняный сосуд. Его форму я знаю. Но не знаю состава той глины. Жизнь била во мне ключом, это был танец жизни. Я танцевала разные танцы. Но не знаю, кто же танцор.
— А она, — проговорил Гед после долгого молчания, — если она когда-нибудь начнет свой танец…
— Ее станут бояться, — прошептала Тенар. Тут снова вошла Терру, так что разговор переключился на квашню с тестом, что подходило у печки. Разговор их лился мирно и тихо, переходя от одной темы к другой и снова возвращаясь к прежней, словно по кругу, так промелькнула незаметно половина короткого дня; они часто затевали такие разговоры, прядя, сшивая свои жизни воедино, скрепляя их словами, годами и поступками и теми мыслями, которые были у каждого из них в отдельности. Потом снова умолкали, работали, думали и мечтали, и молчаливая девочка была с ними вместе.
Так прошла зима, начался сезон скота, и какое-то время от работы было не продохнуть, тем более что дни становились все длиннее и светлее. Потом с южных солнечных островов прилетели первые ласточки — из Южного Предела, оттуда, где звезда Гобардон светит в созвездии Конца; но все ласточки говорили друг с другом только о том, что жизнь начинается снова.
Глава 13
Мастер
С возвращением весны между островами, подобно ласточкам, начали порхать парусные суда. В деревнях судачили, перемывая слухи из Вальмута о том, что король объявил охоту на морских бандитов, на пиратов-грабителей, лишал богатства вожаков, оставляя буквально нищими, конфискуя их суда и состояния. Сам Лорд Гено выслал три своих лучших, самых быстрых корабля под командованием старого морского волка, колдуна Талли, которого боялись все торговые суда от Солеа до Андрадских островов; пиратские корабли намеревались изгнать королевский флот из Оранеи и уничтожить его. Но в гавань Вальмута вскоре вошел тем не менее именно королевский корабль, и на борту его находился морской волк Талли, закованный в цепи. Корабль привез приказ: срочно доставить Лорда Гено в Порт Гонт и там подвергнуть его допросу по поводу бесконечных пиратских налетов и убийств. Гено забаррикадировался в своем каменном доме на холме, что неподалеку от Вальмута, однако забыл развести в камине огонь, поскольку стояли теплые весенние деньки, так что пятеро или шестеро молодых королевских воинов влезли в дом через каминную трубу и захватили Гено, а потом в окружении целого отряда стражников провели его по улицам Вальмута, прежде чем отправить в Порт Гонт, где он должен был предстать перед судом.
Услышав об этом, Гед сказал с любовью и гордостью:
— Все, что подвластно королю, он делает хорошо.
Ловкач и Баклан тоже вскоре отправились под конвоем по северной дороге в Порт Гонт, а вскоре и Треска, когда поджили его раны, последовал за ними. Их должны были судить королевским судом за убийство. Новость о том, что негодяев сослали на галеры, была встречена с огромным удовлетворением, и жители Срединной Долины поздравляли друг друга с таким поворотом событий, хотя Тенар и Терру, жавшаяся к ней, слушали все это молча.
Приплывали и разные другие корабли, привозившие различных королевских чиновников и офицеров; эти не так хорошо и без особой радости принимались горожанами и крестьянами — грубоватыми гонтийцами: королевские шерифы, являвшиеся с ревизией деятельности бейлифов и офицеров, призванных охранять покой и порядок, слышали немало жалоб и нареканий от простых людей; то и дело заявлялись сборщики податей; бывали и благородные гости, которых интересовала верность вассалов — мелких князьков с острова Гонт — им самим и его величеству королю Земноморья. Заезжали и различные волшебники всех мастей; их встречали повсюду, но, похоже, проку от них было мало, да и поговорить с ними как следует не удавалось.
— Мне кажется, что в конце концов они решили учинить настоящую охоту на нового Верховного Мага, — сказала Тенар.
— Или ищут вредных колдунов, — предположил Гед, — ведь колдовство теперь как бы сбилось с пути.
Тенар хотела было сказать: «Ну, тогда они непременно должны были бы заглянуть в поместье Лорда Ре Альби!», но язык ее словно прилип к гортани. «Что же это такое я сказать собиралась? — пыталась вспомнить она. — Неужели я никогда не рассказывала Геду… ах, я становлюсь забывчивой! Что же это такое я хотела ему сказать? Ах вот что: нам бы надо починить ворота на нижнем пастбище, пока коров на поскотину не выпустили».
Всегда находилась масса неотложных дел по хозяйству, которые заслоняли собой все остальное. «Одного дела тебе всегда мало», — говаривал когда-то Огион. Даже теперь, когда ей помогал Гед, все ее мысли и время были посвящены ферме. Он делил с ней и хлопоты по дому, чего Флинт не делал никогда; но Флинт был фермером, а Гед — волшебником. Он быстро учился всему, но учиться нужно было еще многому. Они все время работали. На беседы же времени почти не оставалось. Вечером они вместе ужинали, потом вместе ложились спать и вместе просыпались на рассвете, снова принимаясь за работу, и так по кругу, по кругу — словно круги на воде, словно водяная мельница, что без конца поднимает полные ведра и опускает пустые, и дни изливались на землю, точно полные ведра прозрачной колодезной воды.
— Здравствуй, мать, — окликнул ее как-то тощий парень у ворот. Ей показалось, что это старший сын Ларк, и она приветливо спросила:
— Тебе чего, милый? — Она была занята: кормила кудахчущих кур и важных гусей. Потом вгляделась в него снова и крикнула: — Искорка! — и бросилась к нему, распугав птицу.
— Ну ладно, ладно, — сказал он. — Хватит тебе.
Он позволил ей поцеловать себя и даже погладить по щеке. Потом вошел в дом и сел в кухне за стол.
— Может, поешь? А Яблочко ты не видел?
— Поесть можно.
Она опрометью бросилась в битком набитую кладовую.
— Ты на каком корабле служишь? Все еще на «Чайке»?
— Нет. — Он помолчал. — С моим кораблем покончено.
Она в ужасе обернулась:
— Потонул?
— Нет. — Он невесело усмехнулся. — Команда разбежалась. А часть королевские офицеры арестовали.
— Но… это ведь был не пиратский корабль…
— Нет, не пиратский.
— Тогда почему же?..
— Сказали, что у капитана нашего как раз такие товары, какие им нужны, — неохотно отвечал Искорка. Он был такой же худой, как прежде, но повзрослел, загорел до черноты и стал очень похож на Флинта — прямоволосый, с длинным узким лицом. Только черты лица более жесткие. — А где отец? — спросил он.
Тенар окаменела.
— Ты у сестры так и не побывал?
— Нет, — равнодушно откликнулся он.
— Флинт умер три года назад, — сказала Тенар. — От удара. Прямо в поле — вернее, на тропинке, что ведет от загона с ягнятами. Его Чистый Ручей нашел. Три года уже прошло…
Повисло молчание. Он или не знал, что нужно говорить в таких случаях, или ему просто нечего было сказать.
Она наставила перед ним мисок и тарелок с едой. Он начал есть так жадно, что она тут же принесла еще.
— Ты когда ел-то в последний раз?
Он пожал плечами, продолжая жевать.
Тенар присела напротив него за стол. Была поздняя весна. Лучи солнца проникали в низенькое окошко и ложились полосами на стол, сверкали на бронзовой каминной решетке.
Наконец он оттолкнул от себя тарелку.
— Так кто ж фермой-то до сих пор занимался? — спросил он.
— А тебе-то что до этого, сынок? — спросила она его мягко, но довольно сухо.
— Ферма моя, — ответил он тоже довольно сухо.
Помолчав, Тенар встала и принялась убирать со стола.
— Да, это верно.
— Ты, конечно, можешь тоже тут оставаться сколько угодно, — сказал он как-то неловко; может быть, хотел пошутить? Нет, шутником он никогда не был. — А Чистый Ручей все еще здесь?
— Да, все они здесь. И еще один человек живет со мной. По имени Хок. И маленькая девочка, которую я воспитываю. Здесь. В этом доме. Тебе придется пока спать на чердаке. Я лестницу принесу. — Она снова посмотрела ему в лицо. — Так ты, значит, сюда надолго?
— Возможно.
Вот так и Флинт отвечал всегда на ее вопросы — в течение двадцати лет, как бы отрицая ее право их задавать и никогда не говоря ни «да», ни «нет», сохраняя при этом собственную свободу, основанную на ее неведении. Довольно-таки убогая, маленькая, совсем крошечная свобода, подумала Тенар.
— Бедный ты мой, — сказала она сыну, — команду твою разогнали, отец твой мертв, в доме твоем чужой — и все в один день на тебя свалилось. Тебе понадобится время, чтобы к этому привыкнуть. Прости меня, сынок. Но я рада, что ты пришел. Я о тебе часто думала: как ты там, в море, особенно во время штормов, зимой.
Он ничего не ответил. Ему нечего было предложить ей, а принять хоть что-то в дар он был не в состоянии. Он оттолкнул свой стул и уже собирался встать из-за стола, когда вдруг появилась Терру. Полупривстав, он не мигая уставился на нее.
— Что это с ней случилось? — спросил он.
— Обожглась. Это вот мой сын, Терру, о котором я тебе столько рассказывала. Моряк. Его зовут Искорка. А это Терру, твоя младшая сестренка.
— Сестренка?
— Приемная.
— Сестренка! — снова повторил он и посмотрел по сторонам, словно призывал кого-то в свидетели; потом уставился на мать.
Она тоже смотрела на него, не отводя глаз.
Он встал, старательно обошел застывшую на месте Терру и громко хлопнул дверью на прощание.
Тенар начала было что-то объяснять девочке, но не выдержала.
— Не плачь, — сказала та. Сама она не плакала и, подойдя к Тенар, погладила ее по руке. — Он тебе сделал больно?
— Ах, Терру! Дай-ка я тебя обниму! — Тенар села у стола, взяла Терру на колени и крепко прижала к себе, хотя девочка была уже слишком большой, чтобы ее баюкали, как младенца, да и всегда в таких случаях старалась отстраниться. Но Тенар все обнимала ее и плакала, и Терру наконец склонила свое изуродованное лицо к ее плечу, прижалась щекой, и вскоре та и другая промокли от слез.
Гед и Искорка вернулись домой одновременно, но с противоположных концов фермы. Искорка, по всей очевидности, успел побеседовать с Чистым Ручьем и обдумать ситуацию, а Гед, что тоже было очевидно, только теперь пытался ее оценить. За ужином разговаривали крайне мало и настороженно. Искорка не возразил против того, что его лишили собственной комнаты, но сразу после ужина взлетел по лестнице на чердак — сразу видно, моряк бывалый — и явно был доволен роскошной постелью, которую приготовила ему мать, потому что спустился к завтраку на следующий день лишь ближе к полудню.
Он сразу сел за стол, рассчитывая, что ему все будет подано. Его отцу всегда подавали еду мать, жена, дочь. Неужели он хуже? А может, мать хочет ему это доказать таким способом? Но она подала ему завтрак, потом убрала после него со стола и только тогда снова вернулась в сад, где они вместе с Терру и Шанди жгли пораженные гусеницами старые ветки, а то можно было погубить все молодые деревца.
Искорка прошел мимо них и присоединился к Чистому Ручью и Тиффу. И все последующие дни провел в основном в их компании. Всю тяжелую работу на ферме — уход за полевыми культурами и за овцами — делали Гед, Шанди и Тенар, а двое стариков, всю свою жизнь прожившие на этой ферме, приятели отца Искорки, повсюду водили парня с собой и рассказывали, как они одни справлялись со всей этой работой, и действительно начинали верить в это; и он тоже разделял с ними их ложную уверенность.
Тенар стала чувствовать себя в родном доме отвратительно. Только вне его стен, занимаясь привычной тяжелой работой, она испытывала некоторое облегчение; ее душили гнев и стыд из-за того, как вел себя Искорка, — из-за присутствия в доме собственного сына!
— Теперь мой черед! — горько сказала она Геду в их залитой лунным светом спальне. — Мой черед терять то, чем я больше всего гордилась.
— Что же ты потеряла?
— Своего сына. Которого не сумела воспитать настоящим мужчиной. Ничего у меня с ним не получилось. — Она прикусила губу, глядя во тьму сухими глазами.
Гед не стал спорить с ней или уговаривать не печалиться. Он только спросил:
— Как ты думаешь, он здесь останется?
— Да. Он боится снова идти в море. Он ведь так и не сказал мне правды, точнее, сказал правду о том, что сталось с его кораблем. Он был помощником капитана и, как мне кажется, занимался перевозкой краденого. И перепродажей. Не в этом, в общем-то, дело. Все гонтийские моряки — наполовину пираты и воры. Но он соврал мне. И продолжает врать. И ревнует к тебе, и завидует. Бесчестный, завистливый человек.
— Просто напуганный, по-моему, — сказал Гед. — Но не злой. И не такой уж дурной. И, кроме того, это ведь его ферма.
— Ну так пусть и забирает ее! И пусть она будет столь же щедра к нему, как…
— Нет, родная, — сказал Гед, пытаясь голосом и руками удержать ее гнев, — не говори так… не говори злых слов!
Его порыв был настолько искренним и страстным, что гнев Тенар обернулся вдруг любовью, ибо именно любовь и вызвала эту яростную вспышку гнева.
— Нет, не бойся, я не стану проклинать ни сына, ни ферму его!.. Я об этом даже не думала! Но мне так больно — и так стыдно! Ах как мне жаль, Гед!
— Нет, нет, нет! Милая, мне совершенно безразлично, что этот мальчик думает обо мне. Вот только с тобой он очень груб.
— И с Терру. Он обращается с ней так, будто… Он сказал… сказал мне: «Что это она натворила, что в такую уродину превратилась?» Что она натворила!..
Гед гладил ее по голове — как всегда, легкими, медленными, нежными прикосновениями, которые обычно нагоняли на них обоих сон и любовную негу.
— Я могу снова наняться пасти коз, — сказал он наконец. — Тогда тебе тут будет полегче. Разве что с работой…
— Я уж лучше пойду с тобой.
Он продолжал гладить ее по голове и размышлял вслух:
— Наверное, мы смогли бы уйти вместе. Там, наверху, над Лиссу в прошлый сезон было две семьи. Обе пары овец пасли. Но ведь после лета приходит зима…
— Может быть, наймемся к кому-нибудь. Я работать умею… и с овцами обращаться… а ты с козами… да и вообще ты во всякой работе ловкий…
— Хорошо с вилами управляюсь, — прошептал он, и она тихонько то ли засмеялась, то ли всхлипнула.
На следующее утро Искорка встал рано и завтракал со всеми вместе: он собрался на рыбалку со старым Тиффом. Поев, он поблагодарил мать куда теплее, чем обычно, и пообещал:
— К ужину рыбы принесу.
Тенар к утру уже приняла решение и откликнулась:
— Погоди-ка, сынок. Сперва убери, пожалуйста, со стола. Грязную посуду поставь в таз и залей водой. А вечером я все вместе вымою.
Некоторое время он изумленно смотрел на нее, потом сказал:
— Это женская работа, — и надел свою шапку.
— Эту работу может делать любой человек, если он ест здесь.
— Но только не я, — равнодушно ответил сын и вышел на улицу.
Тенар пошла за ним следом. И остановилась на пороге.
— Значит, Хок может, а ты нет? — спросила она.
Он молча кивнул и пошел прочь через двор.
— Слишком поздно, — сказала она, возвращаясь в кухню. — Ничего у меня не получится. Я потерпела неудачу. — Она чувствовала, как лицо ее вдруг покрылось морщинами — вокруг рта, вокруг глаз — и застыло. — Можно сколько угодно поливать камень, — сказала она, — да только расти он не будет.
— Начинать нужно, непременно когда они молоды и нежны душой, — сказал Гед. — Как я, например.
Но на этот раз она его шутке даже не улыбнулась.
Вернувшись домой после целого дня работы, они увидели у ворот какого-то мужчину; он разговаривал с Искоркой.
— Это тот парень из Ре Альби, верно? — спросил Гед, который по-прежнему прекрасно видел.
— Пойдем, пойдем, Терру, — сказала Тенар, потому что девочка сразу же остановилась как вкопанная. — Какой еще парень? — Она была довольно близорука и щурилась, тщетно пытаясь разглядеть человека у ворот. — А, так ведь это, как его там, торговец овцами. Таунсенд! Чего это он сюда снова явился, стервятник паршивый?
Она весь день была чрезвычайно сердитой, так что Гед и Терру благоразумно промолчали.
Тенар первой обратилась к торговцу:
— Ты что, насчет ягнят выясняешь, Таунсенд? Так ты на целый год опоздал; но у нас есть еще этого года, в овчарне.
— Так мне и хозяин сказал, — ответил Таунсенд.
— Да неужели? — удивилась Тенар.
Тон у нее был такой, что у Искорки потемнело лицо.
— Ну, в таком случае не стану вам с хозяином мешать, — сказала она и уже повернулась к ним спиной, когда Таунсенд окликнул ее:
— Я ведь к тебе снова с поручением, Гоха.
— Третий раз волшебный.
— Та старая ведьма, ну, ты знаешь, тетушка Мох очень больна. Она велела, раз уж я все равно иду в Срединную Долину, зайти к тебе и сказать, что она совсем плоха. «Скажи, — говорит, — госпоже Гохе, что я хотела бы повидать ее, прежде чем умру, если у нее такая возможность будет».
Стервятник, паршивый стервятник, думала Тенар, с ненавистью глядя на Таунсенда, который снова принес ей дурные вести.
— Она так сильно больна?
— Должно, помрет скоро. — И Таунсенд как-то странно подмигнул, что, вероятно, должно было означать сожаление. — Очень сильно всю зиму проболела, и все хуже ей, все хуже, вот она и велела передать тебе, что уж больно тебя видеть хочет, пока не померла.
— Спасибо, что весточку передал, — мрачно поблагодарила его Тенар, отвернулась и пошла к дому. А Таунсенд отправился с Искоркой к овчарням.
Пока готовили обед, Тенар сказала Геду и Терру:
— Я должна пойти.
— Конечно, — согласился Гед. — Пойдем все вместе, если хочешь.
— Правда? — Впервые за весь день лицо ее прояснилось, грозовые тучи, скрывавшие чело, чуть приподнялись. — Ах! — вырвалось у нее. — Как это… было бы хорошо!.. Я не решалась спрашивать, боялась, что может быть… Терру, а тебе не хочется вернуться назад, в тот маленький домик, где жил Огион? И, может быть, остаться там навсегда?
Терру застыла.
— Я тогда могла бы повидать свое персиковое деревце… — задумчиво произнесла она. — И еще там Вереск… и Сиппи… и тетушка Мох… Бедная тетушка Мох! Ох, мне все время хотелось, так хотелось туда вернуться! Но почему-то казалось, что это неправильно. Здесь ведь ферма, она ухода требует… и вообще…
Тенар казалось, что есть и какая-то иная причина, по которой они не могли вернуться в домик Огиона, из-за чего она даже думать себе не позволяла об этом, даже сумела почти забыть, как сильно ей хочется туда вернуться; но, в чем бы ни заключалась эта причина, вспомнить она не могла, и повод для беспокойства исчез, ускользнул, словно тень, словно забытое слово.
— Интересно, ухаживает ли кто-нибудь из деревенских за тетушкой Мох? И послали ли они за лекарем? Она ведь единственная ведьма на Большом Утесе, но ведь в Порте Гонт и другие есть; они наверняка могли бы как-то помочь ей. Ах, бедняжка! Надо поскорее пойти туда… Сейчас, конечно, слишком поздно, но завтра прямо с утра, пораньше!.. А хозяин фермы пусть готовит себе завтрак сам!
— Он научится, — сказал Гед.
— Нет, и учиться не станет. Просто найдет себе какую-нибудь дуру, которая будет делать все для него. Ах! — Она оглядела знакомую кухню; лицо ее было светлым и одновременно каким-то свирепым. — Мне противно даже думать о том, что я оставлю ей этот стол, который скребла целых двадцать лет! Надеюсь, она это оценит!
Искорка пригласил Таунсенда к ужину, но ночевать торговец овцами отказался, хотя ему из вежливости это предложили. Его пришлось бы тогда укладывать на одну из их собственных постелей, а Тенар даже мысль об этом была неприятна. Она обрадовалась, когда он вышел за дверь, в синие весенние сумерки, и отправился ночевать к тем хозяевам, у которых обычно останавливался в деревне.
— Завтра утром мы уходим в Ре Альби, сын, — сообщила Тенар. — Хок, Терру и я.
Он взглянул на нее несколько испуганно.
— Просто так возьмете и уйдете?
— Да. Точно так же, как и ты — ушел и пришел, — ответила ему мать. — Теперь смотри, Искорка: вот шкатулка твоего отца. Там семь костяных пластинок и долговые расписки от старого Бриджмена, только он никогда не заплатит, ему и платить-то нечем. Вот эти четыре андрадские пластинки Флинт получил, когда продал овечьи шкуры торговцу из Вальмута четыре года назад — ты тогда еще совсем мальчишкой был. Эти три — с Хавнора: нам ими заплатил Толли за участок земли у Верхнего Источника. Я уговорила твоего отца купить тот участок и помогала ему расчистить его и продать. Так что эти три пластинки я возьму себе — я их заработала. Остальное, как и сама ферма, принадлежит тебе. Ты здесь хозяин.
Высокий, худой, сын стоял перед ней и не сводил глаз со шкатулки.
— Возьми все. Мне это не нужно, — сказал он тихо.
— Мне тоже. Но все равно спасибо, сынок. Оставь себе эти четыре пластинки. Когда женишься, скажи своей жене, что это мой ей подарок.
Тенар поставила шкатулку на прежнее место — за большим блюдом на верхней полке буфета, где ее всегда хранил Флинт.
— Терру, ты соберись с вечера, потому что выйдем мы очень рано.
— Когда ты намереваешься вернуться? — спросил Искорка, и тон, каким он это спросил, вдруг напомнил Тенар того беспокойного хрупкого ребенка, каким ее сын был когда-то. Но ответила она так:
— Не знаю, милый. Если буду нужна тебе, то приду.
Она занялась сборами, вытащила дорожную обувь, потом спросила:
— Искорка, ты не мог бы кое-что для меня сделать?
Он угрюмо сидел у камина и неуверенно посмотрел на мать.
— Что?
— Сходи, не откладывая, в Вальмут и повидайся с сестрой. Скажи ей, что я вернулась на Большой Утес. И еще — если я буду ей нужна, пусть пошлет весточку.
Искорка кивнул. Он смотрел на Геда, который уже сложил свой небогатый скарб с той аккуратностью и ловкостью, какая присуща бывалым путешественникам; теперь же Гед расставлял на полках вымытые тарелки, чтобы оставить кухню в полном порядке. Потом сел напротив Искорки у очага и стал вдевать в специальные отверстия своего заплечного мешка еще одну веревку, стараясь затянуть его потуже.
— Для этого специальный узел есть, — сказал вдруг Искорка. — Морской.
Гед молча передал ему свой мешок, и Искорка, тоже молча, продемонстрировал, как завязывается этот узел.
— Вот, сам соскальзывает, видишь? — спросил он, и Гед кивнул.
Они вышли в путь, когда было еще совсем темно и холодно. Солнце поздно появляется на западной стороне горы Гонт, и лишь ходьба согревала их, пока солнце во всем своем великолепии не поднялось над громадой южных отрогов.
Терру шла в два раза быстрее, чем прошлым летом, но все равно им предстояло по крайней мере два дня пути. Ближе к полудню Тенар спросила:
— Ну что, попытаемся сегодня добраться до Дубовых Ручьев? Там есть что-то вроде постоялого двора. Мы там еще молоко пили, помнишь, Терру?
Гед смотрел вдаль с каким-то отсутствующим выражением лица.
— Я знаю одно хорошее местечко…
— Прекрасно, — сказала Тенар.
Незадолго до привала на ночь они вышли на тот верхний поворот дороги, с которого был виден Порт Гонт. Здесь Гед свернул с дороги прямо в лес. Закатное солнце посылало свои красно-золотые лучи, пронизывая сумрак, густеющий, между деревьями и под густыми ветвями. Они примерно с полчаса карабкались вверх без какой бы то ни было тропинки, заметной глазу, и наконец вышли на небольшой выступ или на вершину скалы, поросшую травой и укрытую от ветра деревьями и громоздящимися вокруг утесами. Отсюда хорошо видны были северные отроги, а между вершинами гигантских елей ясно просвечивало море. Стояла полная тишина, только порой в елях вздыхал ветер да горный жаворонок пел свою нескончаемую нежную песнь где-то в пронизанной вечерним солнцем вышине, чтобы с наступлением сумерек спуститься в свое гнездо, устроенное в никем не измятой траве.
Они поели хлеба с сыром и, отдыхая, смотрели, как из моря медленно поднимается мгла, окутывая склоны гор. Потом расстелили свои плащи и улеглись спать. Глубокой ночью Тенар проснулась. Тенар — между Терру и Гедом. Где-то рядом ухала сова, мелодичное уханье напоминало удары колокола. А где-то вдали, в горах, ей вторила другая сова — словно эхо колокольного звона. Тенар решила: «Полюбуюсь, как звезды опускаются в море», однако почти мгновенно снова уснула, словно младенец.
Открыв глаза уже серым утром, она увидела, что Гед сидит с ней рядом, накинув на плечи плащ, и смотрит в просвет между деревьями куда-то на запад. Его темнокожее лицо казалось застывшим, исполненным глубокого молчания — таким она уже видела его когда-то давно, на берегу Атуана. Только сейчас глаза его смотрели в бесконечную даль, на запад так, словно видели что-то чудесное. Она посмотрела туда же и тоже увидела: наступал новый день, великолепие розовых и золотых тонов зари дивным образом отражалось в водах моря.
Гед повернулся к ней, и она сказала:
— Я любила тебя всю жизнь, с тех пор как впервые увидела.
— О ты, жизнь дающая, — едва слышно промолвил он, наклонился и поцеловал ее в губы и в грудь. Она на мгновение прижала его голову к себе. Потом оба встали, разбудили Терру, позавтракали и продолжили свой путь; однако, уже войдя в лес, Тенар один раз все-таки оглянулась на маленький приютивший их лужок, словно заклиная его хранить то счастье, которое она там испытала.
В первый день их основной целью было пройти как можно больше. Сегодня же они должны были добраться до Ре Альби. Так что Тенар думала в основном о тетушке Мох, прикидывая, что же такое могло приключиться со старухой и действительно ли она при смерти. Но день близился к концу, а путь уже был пройден немалый, и она перестала думать о тетушке Мох да и вообще о чем бы то ни было серьезном. Она очень устала, и ей очень не хотелось снова идти этой дорогой навстречу чьей-то смерти. Они миновали Дубовые Ручьи, вошли в узкую горловину ущелья и снова начали подниматься. На последнем прямом отрезке пути Тенар уже с трудом волочила ноги, а мысли в голове были одна глупее другой и все время путались, цепляясь то за какое-нибудь слово, то за какой-нибудь образ. То ей виделась полка с посудой в доме Огиона, то почему-то привязывались слова «костяной дельфин» (это из-за того, что она заметила травяную сумочку Терру с ее игрушками). Слова эти она повторяла про себя без конца, пока они почти не утратили всякий смысл.
Гед легко шагал по дороге походкой бывалого путника, и Терру не отставала от него — та самая Терру, которая еще в прошлом году вымоталась здесь до того, что ее пришлось нести на руках! Но тогда они тащились гораздо медленнее. И девочка еще только поправлялась после страшной своей болезни.
А она, Тенар, видно, стала слишком стара для столь долгих переходов. До чего же тяжело было подниматься вверх! Старухам следует сидеть дома, у очага. Костяной дельфин, костяной дельфин. Костяной, окостеневший, связанный, связующее заклятие… Костяной человечек и костяной зверек. Вон там они — ушли вперед и ждут ее. Она идет так медленно. Она смертельно устала. Тенар с огромным трудом преодолела последний участок пути и наконец догнала их там, где дорога шла по самому краю Большого Утеса. Над морем. Слева виднелись горбатые крыши Ре Альби, справа дорога поворачивала в господскую усадьбу…
— Сюда, — сказала Тенар.
— Нет, — возразила девочка, показывая налево, в сторону деревни.
— Нет, сюда, — повторила Тенар и двинулась направо. Гед последовал за ней.
Они шли меж садами, обрамленными ореховыми деревьями, и заросшими травой лугами. Был теплый, почти летний день. Птицы вовсю распевали среди ветвей. Он вышел на дорогу из Большого Дома и двинулся им навстречу — тот, чье имя она так и не могла вспомнить.
— Добро пожаловать! — сказал он и остановился, улыбаясь.
Они тоже остановились.
— Что за великие люди оказали своим приходом честь дому Лорда Ре Альби, — сказал он. Туахо — нет, это было не его имя. Костяной дельфин, костяной зверек, костяное дитя…
— Господин мой. Верховный Маг Земноморья! — Он низко поклонился, и Гед тоже поклонился ему в ответ.
— Госпожа моя. Леди Тенар с Атуана! — Ей он поклонился еще ниже, и она вдруг опустилась на колени, прямо на дорогу, еще влажную от росы. Голова ее безвольно поникла, руки оперлись о землю, вся она скрючилась и даже лицом, даже губами коснулась той грязи, что была у него под ногами.
— Ну а теперь ползи, — сказал он, и она поползла к нему.
— Стой, — сказал он, и она остановилась.
— Говорить можешь? — спросил он.
Она ничего не сказала, у нее больше не было слов, что могли бы сорваться с губ, но тут Гед ответил своим обычным спокойным голосом: — Да.
— Где чудовище?
— Не знаю.
— А я думал, что эта ведьма и своего выкормыша с собой притащит. Но вместо той твари притащила тебя, господин Верховный Маг по прозвищу Ястреб. Замечательная замена! Все, что я могу сделать для этой ведьмы и ее чудовища, — это очистить от них мир. Но с тобой, кто все-таки был нормальным человеком, я могу и поговорить, в конце концов, ты способен вполне разумно отвечать. И понять способен, за что тебя наказывают. Ты ведь считал, что находишься в безопасности, — разве не так? — когда твой король оказался на троне, а мой повелитель — наш повелитель! — был уничтожен? Ты считал, что твоя воля одержала победу, что ты уничтожил надежду на вечную жизнь, так ведь?
— Нет, — сказал Гед.
Она не могла его видеть.
Она могла видеть лишь грязь на дороге и чувствовать во рту ее вкус. Но услышала, как Гед говорит. Он сказал:
—
Жизнь после смерти…
— Болтай себе, болтай, старые песни ты знаешь хорошо. Мастер с острова Рок — школьный учителишка! Что за дивное зрелище: Верховный Маг Земноморья, а с виду — вылитый козопас, в котором ни грана волшебного могущества… И этот «маг» ни единого волшебного словечка не помнит!.. Может быть, заклятие произнесешь, а, Верховный Маг? Хоть малюсенькое? Самое крохотное заклятие, самую простенькую иллюзию создашь? Нет? Ни единого словечка? Мой повелитель все-таки одержал над тобой победу! Теперь-то ты это понимаешь? Ты не смог его победить. Его сила жива! Я могу на некоторое время оставить тебя в живых, чтобы ты видел, какова эта сила — моя сила! Чтобы ты видел, как я не даю смерти взять старика — и для этого могу и твою жизнь использовать, если понадобится; чтобы ты увидел, как твой настырный король сядет в лужу вместе со всеми своими лордами-приспешниками и глупцами с Рока, которые ищут какую-то женщину! Какая-то женщина! Чтобы женщина правила нами! Только править этим миром будут отсюда, хозяин Земноморья здесь, здесь, в этом доме. Весь год я собирал здесь оставшихся, тех, кто понимает, что такое настоящая сила и власть. Некоторых из них я вытащил с острова Рок, прямо из-под носа у собственных учителей. Некоторых — с Хавнора, из-под носа этого так называемого Сына Морреда, который жаждет правления женщины в Земноморье. Я увел их у твоего короля, который считает, что вокруг стало так безопасно, что он повсюду может называться своим Истинным Именем. Знаешь ли ты мое имя, о Верховный Маг? Помнишь ли ты меня, когда четыре года назад ты был величайшим из Великих Магов, величайшим из Мастеров, а я — всего лишь смиренным учеником на острове Рок?
— Ты звался Аспен, — сказал исполненный терпения голос Геда.
— А каково мое Истинное Имя?
— Этого имени я не знаю.
— Как? Ты его не знаешь? Разве ты не можешь вспомнить? Разве Великие Маги знают не все имена?
— Я не маг.
— Ах, скажи-ка еще разок!
— Я не маг.
— Мне нравится, как ты это говоришь. Скажи снова.
— Я не маг.
— Зато я маг!
— Да.
— Скажи это!
— Ты маг.
— Ах! Получилось куда лучше, чем я надеялся! Я готовился поймать угря, а поймал кита! Ну, пошли же, познакомьтесь с моими друзьями. Ты можешь идти. А она — пусть ползет.
И они пошли вверх по дороге к дому Лорда Ре Альби. Тенар ползла на четвереньках, потом взобралась по мраморным ступеням крыльца, потащилась по мраморным полам вестибюля…
Внутри дома было темно. И тьма все плотнее окутывала душу Тенар, ибо она понимала все меньше и меньше из того, что говорилось вокруг. Лишь некоторые слова и отдельные голоса воспринимались ею отчетливо. Она, например, понимала то, что говорил Гед, и, когда он говорил, думала о его имени, всей душой своей цеплялась за это имя. Но Гед говорил что-либо очень редко и только тогда, когда отвечал на вопросы того, чье имя было не Туахо. Тот человек говорил время от времени и с ней, называл ее Сукой.
— Это моя новая собака, — пояснил он остальным мужчинам; некоторые из них все время оставались во тьме, там, где от свечей пролегали тени. — Посмотрите, как она хорошо натаскана. Ну-ка, перевернись! — И она переворачивалась, и мужчины смеялись.
— У нее и щенок есть, — говорил он. — Которого нужно было наказать как следует, а то его бросили, зажарив только наполовину. Но собака моя принесла мне отличную птичку — взамен своего щенка. Ястребка поймала! Завтра мы поучим эту птичку летать.
Другие мужские голоса произносили какие-то слова, но она больше никаких слов не понимала.
Ее шею чем-то перевязали, а потом снова заставили ползти по ступеням бесконечных лестниц и загнали в какое-то помещение, где пахло мочой, гнилым мясом и еще чем-то сладковатым. Голоса что-то бубнили вокруг. Холодная, как камень, рука слегка стукнула ее по голове, и чей-то голос засмеялся: «Хе-хе-хе» — словно скрипнула старая дверь, болтающаяся на ржавых петлях. Потом ее пнули ногой и заставили ползти обратно в вестибюль. Она не могла уже ползти достаточно быстро, так что ее еще раз пнули в грудь и в лицо, попав по губам. Потом перед ней оказалась дверь, потом дверь захлопнулась, и она очутилась в тишине и темноте. И, услышав, как кто-то плачет, решила: это ребенок, ее ребенок. Ей очень хотелось, чтобы ребенок перестал плакать. И наконец все прекратилось.
Глава 14
Техану
Девочка, свернув налево, успела уже немного пройти по дороге, прежде чем оглянулась назад и спряталась за цветущей зеленой изгородью.
Человек по имени Аспен, чье Истинное Имя было Эризен и кого она воспринимала как раздвоенную и корчащуюся темную тень, связал ее мать и отца ремнем, пропущенным сквозь язык Тенар и сквозь сердце Геда, и повел их туда, где прятался сам. Ее тошнило от запаха его логова, но она все-таки немного прошла за ними следом, чтобы посмотреть, что он будет делать дальше. Он впустил Тенар и Геда внутрь и закрыл за ними дверь. Дверь была из камня. Она не могла войти туда.
Ей совершенно необходимо было полететь, но летать она не могла: она не принадлежала к тем, кто обладал крыльями.
Тогда она побежала так быстро, как только могла, — прямо через поля, мимо дома тетушки Мох, мимо дома Огиона, мимо сарая с козами — прямо на тропу, ведущую вдоль края утеса, куда ей запрещено было ходить, потому что она могла видеть только одним глазом. Но она была очень осторожна и этим своим глазом смотрела очень внимательно. Она остановилась на самом краю обрыва. Где-то далеко внизу плескалась вода, а у линии горизонта садилось солнце. Она посмотрела в сторону далекого запада своим единственным зрячим глазом и совсем иным, чем у девочки Терру, голосом призвала Истинным Именем того, чье имя слышала во сне своей матери Тенар.
Она не стала ждать ответа, но просто пошла назад — сперва пройдя мимо дома Огиона, чтобы посмотреть, как выросло ее персиковое деревце. Старое дерево было на прежнем месте, увешанное множеством маленьких зеленых плодов, но нигде не было видно даже следов юного ростка. Его, видно, давно съели козы. Или деревце просто засохло, потому что она его не поливала. Она немного постояла, глядя в землю, на то место, где рос юный персик, глубоко вздохнула и пошла через поля к дому тетушки Мох.
Куры уже усаживались на насест; они заквохтали и зашумели, негодуя по поводу ее вторжения. Маленький домик был, как всегда, погружен в полутьму и насквозь пропитан всякими запахами.
— Тетушка Мох! — окликнула она тем своим голосом, каким пользовалась при этих людях.
— Кто там?
Старуха лежала в постели, спрятавшись под одеялом. Она была ужасно напугана и все пыталась создать вокруг себя волшебную стену, чтобы никто не мог до нее добраться, но стена не получалась: тетушке Мох не хватало сил для такого колдовства.
— Кто там? Кто пришел? Ох, это ты, моя дорогая… милая моя девочка, малышка моя поджаренная, красавица моя!.. А что ты здесь делаешь одна? Где Тенар, где твоя мать? Она тоже здесь? Она вернулась? Не входи, не входи, милая! Я проклята! Он наложил страшное заклятие на старую женщину! Не подходи ко мне близко! Не подходи!
Тетушка Мох плакала. Девочка протянула руку и коснулась ее.
— Ты совсем холодная, — сказала она.
— А ты горишь, как огонь, детка, твоя рука прямо жжется. Ох, не смотри на меня! Он сделал так, что плоть моя гниет, тело мое съеживается, но умереть он мне не дает — говорит, что я сперва должна привести к нему тебя. Я пробовала умереть, несколько раз пробовала, но он держит мою жизнь в своих руках, оставляет меня в живых против моей воли, не позволяет мне умереть! Ах, позвольте мне умереть!
— Ты вовсе не должна умирать, — сказала девочка, нахмурившись.
— Детка, — прошептала старуха, — милая моя… назови ты меня… назови меня моим подлинным Именем.
— Хатха, — сказала девочка.
— Ах! Я знала… Отпусти меня на волю, милая!
— Нужно подождать, — сказала девочка. — Пока они не придут.
Ведьма лежала, немного успокоившись, и дышала уже не так трудно.
— Кто это «они», кто это «они», милая? — прошептала она.
— Мой народ.
Длинные холодные пальцы тетушки Мох лежали, словно связка палочек, в руке девочки. Она крепко сжимала их. Теперь за стенами домика стало так же темно, как и внутри его. Хатха, которую остальные звали «тетушка Мох», уснула; и вскоре девочка, сидевшая на полу возле ее лежанки, и устроившаяся у нее под боком несушка уснули тоже.
Мужчины вошли к ней вместе со светом. ОН сказал:
— А ну-ка, вставай!
Она встала на четвереньки. ОН засмеялся, приговаривая:
— Вставай! Вставай! Ты — сука умная, можешь и на задних лапах ходить, правда? Вот так. Человеком притворяешься? А теперь нам нужно кое-куда пойти. А ну-ка, пошли!
Ошейник с поводком все еще был у нее на шее, и ОН дернул за поводок. Она пошла за ним следом.
— Эй, а ну-ка, веди ее сам! — сказал ОН, и теперь рядом оказался другой, тот, которого она любила, но больше не помнила, как его имя, и он вел ее за поводок.
Все вместе они вышли из темного дома. Камни дверей разверзлись и выпустили их, а потом снова сомкнулись у них за спиной.
ОН все время шел за ней по пятам, как и тот, что вел ее за поводок. Остальные чуть отстали — еще трое или четверо мужчин.
Поля были серыми от росы. Темный силуэт горы вырисовывался на фоне бледного неба. В садах и на зеленых изгородях начинали петь птицы. Все громче и громче.
Они подошли, казалось, к самому краю этого мира и пошли вдоль края, пока не достигли такого места, где земля превратилась в один лишь камень, а краешек, по которому они шли, стал очень узким. На скале была проведена черта, и она посмотрела на эту черту.
— Пусть столкнет ее, — сказал ОН, — а потом и сам пусть летит, если сможет, ястреб этот.
ОН отстегнул поводок.
— Иди и встань на краю, — велел ОН.
Она пошла к той черте. Внизу было море, и больше ничего. Над морем — только небо, только воздух.
— Ну а теперь Ястребок ее подтолкнет, — проговорил ОН. — Но сперва спросим: может, она захочет что-нибудь сказать? У нее ведь так много важных мыслей. У всех женщин их много. Разве вы ничего не хотите нам сказать, леди Тенар?
Говорить она не могла, но указала в небо над морем.
— Подумаешь, альбатрос, — сказал ОН.
Она громко рассмеялась.
И тут в потоках света из небесных врат вылетел огромный дракон — кольца дыма, языки пламени, броня чешуи! Тенар наконец заговорила.
— Калессин! — крикнула она и, схватив Геда за руку, быстро оттолкнула его назад, к скале, за скалу, потому что ревущее пламя пронеслось прямо у них над головой, раздался металлический шелест чешуи, зашипел ветер в распростертых крыльях, чудовищные когти клацнули по камням, словно лезвия кос…
С моря дул ветер. Крохотный пушистый кустик чертополоха, росший в расщелине между камнями возле руки Тенар, все кивал и кивал ей под порывами ветра.
Гед был с ней рядом. Они распластались на камнях, прижавшись друг к другу, за их спинами внизу плескалось море, а перед ними был дракон.
Дракон смотрел на них чуть искоса одним своим длинным желтым глазом.
Гед вдруг заговорил хриплым дрожащим голосом на том языке, на каком говорят все драконы, и Тенар понимала его: «Мы благодарны тебе, о Старейший».
Глядя на Тенар, Калессин заговорил — загудел, словно по огромной металлической тарелке ударили молотом:
—
Аро Техану?
— Девочка моя, — сказала Тенар, — Терру! — и вскочила, чтобы бежать, чтобы искать свою бедную малышку. И увидела, как та спешит по самому краешку обрыва прямо к дракону.
— Не беги, Терру! Осторожней! — крикнула она, но девочка уже увидела ее и, конечно же, бросилась бежать — и угодила в объятия Тенар. Они крепко прижались друг к другу.
Дракон повернул свою немыслимо огромную, словно покрытую темной ржавчиной голову, чтобы видеть их обеих как следует. Ямы его ноздрей, огромные, точно котлы, были полны яркого жаркого пламени; время от времени оттуда вырывались клубы дыма. Жар, исходивший от тела дракона, делал почти неощутимым даже ледяной ветер, дувший с моря.
—
Техану, — сказал дракон.
Девочка повернулась и посмотрела на него.
—
Калессин, — сказала она.
Тогда Гед, до сих пор стоявший пред драконом на коленях, поднялся в полный рост, дрожа и пошатываясь. Чтобы удержаться на ногах, он ухватился за руку Тенар и засмеялся.
— Теперь я знаю, кто позвал тебя, о Старейший! — сказал он.
— Я позвала, — сказала девочка. — Я же не знала, как еще вам помочь, Сегой.
Она не сводила с дракона глаз и говорила на Языке Созидания, легко произнося каждое слово.
— Ты хорошо поступила, дитя мое, — сказал ей дракон. — Я долго искал тебя.
— А сейчас мы полетим туда? — спросила девочка. — Туда, где все остальные? Туда, где дуют другие ветры?
— А тебе хочется все это покинуть?
— Нет, — сказала девочка. — А разве они не могут полететь с нами?
— Нет, не могут. Их жизнь — здесь.
— Я
останусь с ними, — сказала она, чуть вздохнув.
Калессин отвернулся, чтобы выдохнуть из своей чудовищной топки то ли огненный вздох удовлетворения, то ли смех, то ли гнев — «Ха!» Потом, снова посмотрев на девочку, сказал:
— Это хорошо. У тебя здесь много работы.
— Я знаю, — ответила она.
— Я прилечу за тобой, — сказал ей Калессин. — Со временем. — И обернулся к Геду и Тенар: — Я отдаю вам свое дитя, как вы отдадите мне свое.
— Со временем, — сказала Тенар.
Огромная голова Калессина едва заметно склонилась — это он кивнул — и огромная пасть раздвинулась в улыбке, обнажив немыслимые зубы величиной с меч; уголки губ чуть приподнялись.
Гед и Тенар вместе с Терру отошли как можно дальше, пока дракон разворачивался на краю утеса, волоча свои чешуйчатые доспехи по скалам и аккуратно умащивая когтистые лапы; потом он напружинил черные ляжки, словно кошка перед прыжком, и как бы сорвался с обрыва. Перепончатые крылья сверкнули алым в свете юной зари, шипастый хвост со свистом стегнул по камням, дракон взлетел и исчез — словно чайка над морем, словно ласточка в небе, словно мысль.
Там, где он только что был, лежали лишь обгорелые лохмотья, куски кожи, что-то еще…
— Пошли отсюда, — сказал Гед.
Но женщина и девочка все никак не могли оторвать глаз от страшного пятна на камнях.
— Это все каменные люди, — сказала Терру. Отвернулась первая и двинулась прочь. Она шла по узкой тропе впереди мужчины и женщины.
— Это ее родной язык, — сказал Гед. — Язык ее матери.
— Техану, — сказала Тенар. — Ее имя Техану.
— Оно было дано ей великим Ономатетом.
— Она всегда была Техану, с самого начала! Всегда, всегда она была Техану!
— Пошли скорей, — сказала им девочка, оглядываясь. — Тетушка Мох больна.
Они успели вытащить тетушку Мох на воздух, на солнышко, промыть ее болячки и пролежни, сжечь прогнившие простыни, пока Терру бегала за чистыми простынями в дом Огиона. Заодно она привела с собой и пастушку Вереск. С помощью пастушки они удобно устроили старуху в постели, в окружении любимых цыплят и кур; Вереск тут же ушла, пообещав принести им что-нибудь поесть.
— Кому-то нужно сходить вниз, в Порт Гонт, — сказал Гед, — за тамошним волшебником. Чтобы он позаботился о тетушке Мох; ее не так уж трудно исцелить. И еще нужно сходить в поместье Лорда. Теперь старый Лорд умрет. А его внук, напротив, будет жить, и жить нормально. Если в доме хоть немного прибрать… — Он сидел на пороге домика тетушки Мох, прислонившись виском к дверному косяку, и грелся на солнце, закрыв глаза. — Почему, ну почему мы совершаем все наши поступки? — спросил он.
Тенар долго мыла руки, лицо, плечи в тазу с чистой водой, которую только что набрала в колодце. Вымывшись, она огляделась. Совершенно выбившись из сил, Гед так и заснул на крылечке, повернув лицо навстречу солнечным лучам. Она села с ним рядом и положила голову ему на плечо. «Неужели нас помиловали? — подумала она. — Как это так получилось, что нас оставили в живых?»
Она посмотрела вниз: рука Геда, расслабленная и повернутая ладонью вверх, лежала на земляной ступеньке. Она вспомнила о крохотном пушистом кустике чертополоха, что трепетал на ветру, и о когтистой лапе золотисто-красного дракона. Она почти задремала, когда рядом с ней присела девочка.
— Техану, — прошептала Тенар.
— А мое маленькое деревце погибло, — сообщила ей девочка.
Несколько мгновений потребовалось усталому и сонному мозгу Тенар, чтобы осознать, что случилось, и она наконец достаточно проснулась, чтобы спросить девочку:
— А на старом дереве персики есть?
Они разговаривали очень тихо, чтобы не разбудить спящего Геда.
— Только очень маленькие, зеленые.
— Они созреют — после Долгого Танца. Теперь уже скоро.
— Можно нам тогда посадить еще одну косточку?
— Столько, сколько захочешь. А в доме все в порядке?
— Там очень пусто.
— Ну что, останемся тут жить? — Тенар чуть приподнялась и, обняв девочку, прижала ее к себе. — У меня есть деньги, — сказала она. — Хватит, чтобы купить стадо коз и зимнее пастбище у Турби, если он его еще продает. Гед знает, как и где нужно пасти коз в горах летом… Интересно, та шерсть, которую мы тогда собирали, сохранилась? — И она вдруг подумала: «Мы же забыли Книги! Книги Огиона! На каминной полке. Мы оставили их Искорке на Дубовой Ферме — ах, бедный парень, он не сможет в них прочесть ни слова!»
Но это, похоже, не имело теперь такого уж значения. Теперь появились новые вещи, которым, безусловно, нужно еще учиться. А потом она кого-нибудь пошлет за Книгами, если они понадобятся Геду. И за своим веретеном. Или сама сходит туда, в долину — попозже, осенью — и повидается с сыном, зайдет к Жаворонку, немножко поживет у Яблочка. А прямо сейчас им нужно заняться садом и огородом Огиона, если они хотят, чтобы в этом году были свои овощи на зиму. Тенар вспомнила о длинных грядках бобов, о запахе цветущего сада. И еще — о маленьком окошке, выходящем на запад.
— Я думаю, мы сможем здесь жить, — твердо сказала она.

СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ
(сборник)

«Сказания Земноморья» — это сборник историй, относящихся к разным эпохам Земноморья. Повесть «Искатель», занимающая больше трети объема — о том, как была основана школа на Роке. Завершает книгу статья об истории и культуре мира, а оставшиеся четыре рассказа относятся к уже известному нам времени, но все они разные и о разном. «На верхних болотах» — вещь философская, о том, что в жизни ценно, а что — преходяще. Поневоле задумываешься об истинной ценности славы; а ведь в самом деле, что она делает кроме того, что тешит глупое человеческое «я»?
В этом и заключается мудрость Ле Гуин как автора — она не гонится за собственной популярностью и не старается переплюнуть ни чьи-то, ни свои собственные литературные достижения — она просто пишет и пишет хорошо. Новое. Живое…
Предисловие
Завершая роман «Техану», свою четвертую книгу о Земноморье, я почувствовала, что действие ее происходит «здесь и сейчас». И, как это случается и в реальном мире, я совершенно не могла представить себе, что же будет дальше. Я могла догадываться, предполагать, опасаться, надеяться, но я НЕ ЗНАЛА.
Итак, будучи не в состоянии продолжать рассказывать историю жизни Техану (потому что эта жизнь еще не завершилась) и считая — что было довольно глупо с моей стороны, — что любовная история Геда и Тенар достигла того момента, после которого обычно живут «долго и счастливо», я и дала роману «Техану» подзаголовок: «Последнее из сказаний о Земноморье».
О, как я была глупа, как глупы порой бывают писатели! Понятие «здесь и сейчас» ведь очень подвижно. Даже в пределах одной истории, одного сна, одного «когда-то давным-давно». Это понятие никогда не имеет точного значения «тогда-то».
Лет через семь или восемь после выхода в свет «Техану» меня попросили написать еще одну историю о Земноморье. И стоило мне лишь взглянуть на знакомые некогда очертания островов и Пределов, как я поняла, что, пока я о Земноморье совершенно даже и не думала, там постоянно что-то происходило, и теперь самое время вернуться туда и выяснить, что же там творится СЕЙЧАС.
Кроме того, мне захотелось выяснить, как обстояли дела в Земноморье в иные, более давние времена, задолго до рождения Геда и Тенар. Меня давно уже озадачивали многие тамошние проблемы, касавшиеся как всего Земноморья в целом, так и деятельности волшебников с острова Рок. Интересовали меня и некоторые особенности поведения драконов, а также многое другое. И вот, чтобы разобраться в текущих событиях, мне пришлось сперва заняться историей и какое-то время провести в Центральном архиве Архипелага.
Единственный способ, с помощью которого писатель может исследовать историю несуществующего государства, — это попытаться рассказать о некоем конкретном событии и посмотреть, что из этого получится. По-моему, почти тем же способом пользуются и настоящие историки, то есть те, которые занимаются так называемым реальным миром. Даже если мы оказываемся очевидцами того или иного события, то способны ли мы полностью оценить его, осознать его значение? Способны ли хотя бы просто вспомнить его детали — пока не расскажем о нем кому-нибудь? Расскажем свою собственную версию всей этой истории, разумеется… Ну а что касается событий, связанных с такими временами и местами, которые находятся за пределами нашего времени и нашего личного опыта, то тут нам ничего иного и не остается, кроме историй, рассказанных об этих событиях другими людьми. В конце концов, все события прошлого существуют ведь только в чьей-то памяти, а память — это всего лишь разновидность воображения. Событие может быть реальным только ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС; но как только оно переходит в категорию «былого», его реальность или нереальность полностью зависит от нас, рассказчиков; зависит от нашей памяти, нашей энергии и нашей честности. И если мы позволим тому или иному событию выпасть из нашей памяти, то лишь воображение способно оживить хотя бы последний отблеск того, что некогда было реальностью. Если же мы начнем сознательно лгать, представляя прошлое в виде таких картин и историй, какие нам самим больше нравятся, и придавая историческому событию такое значение, какое нас больше устраивает, то это будет самая обыкновенная фальсификация. Тащить прошлое за собой сквозь время в заплечных мешках мифологии и истории — занятие не из легких; но, как утверждает Лао-Цзы, мудрые люди путешествуют налегке, положив свой багаж на повозку и шагая с нею рядом.
Если вы создаете или воссоздаете некий мир, которого никогда не существовало, но который тем не менее имеет свою историю (абсолютно вымышленную, разумеется), то исследование такой истории носит несколько иной характер, хотя основной посыл и технология обработки фактов остаются примерно теми же, что и у историков, занимающихся миром реальным. То есть вы рассматриваете имеющие место факты и явления и пытаетесь понять, почему это так, а не иначе; вы слушаете рассказы аборигенов, наблюдаете за их действиями и очень серьезно думаете обо всем этом, а потом пытаетесь по возможности честно рассказать о том, что видели и слышали, стремясь, чтобы рассказанное вами имело определенный исторический смысл и вес.
Пять историй, собранных в данной книге, так или иначе продолжают исследование (или, если хотите, описание) того мира, который был создан в первых четырех романах о Земноморье. В общем, это истории совершенно самостоятельные, но все равно их лучше читать после того, как вы прочитаете сами романы: будет больше толку.
В «Искателе», например, речь идет о временах весьма далеких; о том, что происходило лет за триста до описанных в романах о Земноморье событий; о так называемых Темных Временах. В этой же истории рассказывается и о происхождении некоторых обычаев и институтов Архипелага и Пределов. «Кости Земли» — это рассказ о тех магах, что были учителями учителей Геда; и основная мысль этой истории: одного, даже самого могущественного, мага недостаточно, чтобы остановить землетрясение. «Темная Роза и Диамант» повествует о том, что могло бы случиться на островах Земноморья в любой момент в течение последних двух-трех веков, ибо это история любви, а любовь, как известно, не знает пределов ни во времени, ни в пространстве. Рассказ «На Верхних Болотах» имеет отношение к тем кратким, но весьма богатым событиями шести годам, в течение которых Гед был Верховным Магом Земноморья. И, наконец, в последней истории, «Стрекоза»,
[2] говорится о том, что происходило через несколько лет после описанных в финале романа «Техану» событий. Это некий мостик между «Техану» и следующим романом «Иной ветер». Этакий «Драконов мост».
Чтобы памяти моей было легче перемещаться вверх и вниз по временной оси, сквозь годы и века, по возможности не нарушая порядка событий и стараясь свести противоречия и всяческие несуразицы к минимуму, я решила, работая над этой книгой, пользоваться (по мере сил, разумеется) более четкой методологией, для чего постараться систематически изложить накопленные мною знания о народах Архипелага и Пределов и их истории в очерке «Описание Земноморья». Функции этого очерка родственны функциям той самой первой большой карты Земноморья, которую я изобразила более тридцати лет назад, начиная работать над «Волшебником…», когда мне просто необходимо было понять, какой остров где находится и как отсюда попасть туда — как во времени, так и в пространстве.
Поскольку подобные вымышленные факты — например, карты воображаемых миров — представляют для некоторых читателей вполне реальный интерес, я включила этот очерк в состав данной книги и поместила его в самом конце. Заново составляя географическую карту Земноморья, я, к своему великому счастью, обнаружила в Архиве Хавнора одну очень старую карту, которую и скопировала.
Тридцать лет минуло с тех пор, как я начала писать о Земноморье, и, разумеется, изменилась и я сама, и те люди, что читают теперь мои книги. Время всегда несет перемены, но наше время отличается особенно сильными и быстрыми моральными и ментальными трансформациями. Архетипы превращаются в безжалостные жернова, самые простые вещи невероятно усложняются, хаос почему-то становится привлекательным и даже считается «элегантным», а общепризнанные истины оказываются плодом вымысла или простой привычки отдельных людей.
Все это тревожно. Ибо, даже испытывая восторг от отсутствия застоя, от непрерывных перемен, от блеска сменяющих друг друга электронных устройств, мы все же всегда стремимся душою к некоему постоянству, к чему-то незыблемому, неизменному. Мы обожаем старинные предания именно благодаря их неизменности. Артур спит вечным сном на острове Авалон. Бильбо может совершать путешествия «туда и обратно», но и «туда» — это всегда в обожаемый знакомый мир: в графство Под Горой или страну За Холмом. Дон Кихот по-прежнему всегда готов сразиться с ветряными мельницами… Так что люди, в сущности, стремятся в царство фантазии именно в поисках стабильности, в поисках неизменных древних истин, ясности и простоты.
И капиталистические предприятия с готовностью их этим обеспечивают. Спрос, как говорится, порождает предложение. Фантазия становится товаром, отраслью промышленности.
Превращенная в товар, фантазия рисковать не желает: она более ничего не изобретает и не импровизирует, но, напротив, старательно имитирует и упрощает. И все чаще старинные сказки и легенды лишаются своей изначальной интеллектуальной и этической ценности и сложности, активные действия героев превращаются, по сути дела, в насилие, сами герои — в тупых марионеток, а изрекаемые ими истины — в сентиментальную пошловатую банальность. Герои размахивают своими мечами, лазерами, волшебными палочками совершенно механически, стремясь лишь добиться цели и получить искомую выгоду — в точности как комбайн в поле, старательно, до последнего колоска, убирающий урожай. В высшей степени странные, если не сказать тревожные, даже аморальные действия почему-то оправдываются, их всячески стараются представить понятными и безопасными. Истории, в которые рассказчики некогда вкладывали всю душу, механически копируются и оснащаются стереозвуком. Народная мудрость низводится до положения детской игрушки, сделанной из яркой пластмассы, широко разрекламированной, проданной, сломанной, починенной… Да и вообще легко заменимой на новую.
И главное, на что рассчитывают подобные упростители фантазии (и нещадно эксплуатируют это) — на мощную, почти немыслимую силу воображения читателя, ребенка или взрослого, способную вдохнуть жизнь даже в мертвые предметы «сказочной индустрии», во всяком случае, в некоторые из них и хотя бы ненадолго.
Воображение, как и все живое на свете, существует только «здесь и сейчас», только благодаря истинным переменам и только за их счет. Подобно нашим поступкам и нашему имуществу, и воображение наше тоже может быть кооптировано, извращено, испорчено, но оно умудряется выжить даже после подобной коммерческой и дидактической обработки. Земля переживет любые империи. Завоеватели способны оставить пустыню там, где были густые леса и зеленые луга, но выпадет дождь, и реки опять потекут к морю, и снова вырастет трава, и потянутся вверх деревья. Нестабильные, недостоверные, переменчивые «тридевятые царства» — это такая же часть человеческой истории и мысли, как различные и вполне реальные государства в наших атласах, хотя политические карты частей света меняются с поистине калейдоскопической быстротой, так что некоторые из «тридевятых царств» куда более долговечны.
Мы давно уже существуем в двух мирах — реальном и воображаемом. Но ни в одном из них мы не чувствуем себя так, как наши родители или тем более наши далекие предки. Способность быть очарованным меняется не только с возрастом, но и в зависимости от эпохи.
Теперь нам уже известно не менее дюжины самых различных Артуров, и все они представляются вполне достоверными. Мир Под Холмом и За Холмом невероятно изменился со времен Бильбо. Дон Кихот направил своего коня в Аргентину и повстречался там с Хорхе Луисом Борхесом. Plus c’est la mame chose, plus a change.
[3]
Вернувшись в Земноморье, я с необыкновенной радостью обнаружила, что оно никуда не делось, что там все мне по-прежнему знакомо, но все же изменилось и продолжает меняться. Оказывается, в некоторых случаях произошло совсем не то, что я думала, да и люди тоже немного не те или не совсем такие, какими, как мне казалось, они должны были бы стать, и, что смешнее всего, я попросту заблудилась среди островов, названия которых вроде бы знала наизусть.
Так что перед вами отчет о моих последних исследованиях и открытиях. Эти истории о Земноморье — для тех, кто когда-то действительно любил или думает, что мог бы полюбить тамошние места; а также для тех, кто готов согласиться со следующими положениями, которые мне удалось вывести:
— все на свете меняется;
— авторам книг и волшебникам не всегда следует доверять;
— никто не может объяснить поступков и мыслей дракона.
Искатель
Глава 1
Темные Времена
Это первая страница «Книги Темного Времени», написанной шестьсот лет назад в Бериле на острове Энлад:
«После гибели Эльфарран и Морреда, когда дивный остров Солеа погрузился в пучину морскую, Земноморьем правил Совет Мудрецов, пока не был коронован и не взошел на трон малолетний Серриадх. Правление Серриадха было ярким, но недолгим. Королей, что поочередно сменили его на троне Энлада, было семь, и королевство в эти годы мирно процветало и расширяло свои границы. А потом на западные острова стали все чаще совершать свои опустошительные налеты драконы, и волшебники не раз бились с ними, тщетно пытаясь противостоять их атакам. Именно тогда король Акамбар перевел королевский двор из Берилы, что на острове Энлад, в порт Хавнор, столицу этого огромного острова. Он собрал там огромный флот и послал его против тех, кто угрожал королевству с восточной стороны — пиратов Каргада. Ему удалось отогнать их далеко на Восток, но карги продолжали свои набеги; их корабли заплывали даже во Внутреннее море. Из четырнадцати королей, сидевших на троне Хавнора, последним был Махарион, который сумел заключить мир как с драконами, так и с каргами, но за это ему пришлось уплатить очень высокую цену. Ну а когда было сломано Кольцо Рун и Эррет-Акбе погиб вместе с Великим Драконом, когда Махарион Храбрый был предан и убит, жителям Архипелага стало казаться, что ничего хорошего от жизни ждать больше не стоит.
Многие стремились тогда занять трон Махариона, да только никто не сумел на нем удержаться, и бесконечные ссоры и споры претендентов разрушили всякие понятия о верности и чести. От былого благополучия и столь успешно развивавшейся торговли не осталось и следа; понятие «справедливость» было забыто; миром стали править богачи, жаждавшие только наживы. Объявить себя лордом, правителем мог любой — и представитель благородного семейства, и купец, и пират, — лишь бы у него были деньги, чтобы нанять воинов и волшебников, готовых ему служить. Такие «правители» без конца предъявляли свои права на острова и города, воевали между собой, а жителей захваченных земель превращали в рабов. По сути дела, их наемники тоже были рабами, жизнь и безопасность которых целиком и полностью зависит от хозяина. Соперничавшие друг с другом правители стремились только к собственному обогащению — захвату земель и уничтожению противника. А жителям островов помимо всего прочего постоянно угрожали морские пираты, которые совершали налеты на все порты Земноморья, а также большие и маленькие отряды сухопутных бандитов, не признающих никаких законов жалких людишек, которых нужда и голод заставили стать на путь грабежа и преступлений».
«Книга Темного Времени» была написана в самом конце того периода, о котором она повествует, и представляет собой компиляцию из весьма противоречивых, а то и прямо противоречащих друг другу источников: различных легенд и преданий, фрагментов жизнеописаний и искаженных сказителями исторических трактатов. Однако это самое лучшее письменное свидетельство того, что пережили обитатели Земноморья в Темные Времена. Жаждавшие славы, а не соблюдения исторической правды в летописях, воинственные «правители» сжигали те книги, в которых бедный и не имеющий ни знатности, ни власти герой оказывался способен обрести реальное могущество только благодаря собственным добродетелям.
Но если в руки таких «правителей» попадали книги из библиотеки какого-нибудь волшебника, мудрые старинные книги, то с такими книгами обращались очень осторожно; обычно их прятали куда-нибудь подальше и запирали на ключ, чтобы не нанести им вреда. А кое-кто из правителей-пиратов просто отдавал старинные книги волшебнику из собственной свиты и предоставлял тому поступать с ними по своему разумению. На полях этих книг, полных заклинаний и списков подлинных имен, а также на последних пустых листах волшебник или его ученик записывали порой сведения о чуме, голоде или налете пиратов или об очередной смене «правителей»; там же они записывали и те заклинания, которые им удалось составить во время подобных событий, а также краткие сообщения о том, насколько эти заклинания оказались успешными. Такие отрывочные записи очень важны, они как бы приоткрывают завесу времени над тем или иным конкретным моментом или событием, даже если все остальное по-прежнему кроется во мгле. Эти заметки похожи на мелькающий где-то далеко в море освещенный корабль, едва видимый в ночи сквозь завесу дождя.
Ну и, конечно, есть еще старинные песни, легенды и баллады; лучше всего они сохранились на небольших островах, а также в тихих и малонаселенных горных районах Хавнора. Из них тоже многое можно узнать об этом мрачном периоде.
Порт Хавнор — это столица не только острова, но и всего Земноморья, самое его сердце. Белые башни этого дивного города высоко вздымаются над водами гавани; и на самой высокой башне укреплен меч Эррет-Акбе, в клинке которого отражаются как первый луч восхода, так и последний луч заката. Великий Порт представляет собой средоточие всей торговой и деловой жизни Архипелага, здесь сходятся все морские пути, здесь также расположены многочисленные центры знаний и умений жителей Земноморья — огромное богатство, добытое отнюдь не на войне и никогда не хранившееся под замком. Здесь находится и королевский трон, на котором наконец-то восседает настоящий король Земноморья, по праву занявший этот трон после воссоединения Кольца Мира и в знак этого воссоединения. И еще в этом городе совсем недавно жители островов разговаривали с драконами, что тоже, безусловно, является знаком перемен.
Хавнором называется также и самый большой остров Земноморья. Это поистине Великий остров; обширны и богаты его земли. Но, надо сказать, что во внутренних селениях страны, далеких от моря и новых веяний, где мирные земледельцы возделывают свои поля на склонах величественной горы Онн, ничто и никогда не меняется слишком быстро. Там бережно хранят любую песню, если она достойна того, чтобы ее петь, так что даже самые старые из этих песен, вполне вероятно, будут спеты еще не раз. Там старики в таверне говорят о Морреде так, словно хорошо знали его в годы своей собственной молодости; и они, похоже, уверены, что и сами тогда были настоящими героями. Там юные девушки по дороге на пастбище рассказывают истории о женщинах с островов, которые называются Руки; эти истории давным-давно забыты повсюду, даже на острове Рок, но здесь, меж тихих, залитых солнцем горных троп, их еще помнят и особенно часто рассказывают на кухне у очага, где, как и повсюду, женщины любят посидеть и поболтать за рукоделием.
Когда в Земноморье еще правили настоящие короли, маги и волшебники часто собирались во дворце Хавнора на Совет, дабы совместно с правителем страны принять то или иное решение, объединив все свои искусства и умения во имя достижения той цели, которую они сочли достойной. Но в Темные Времена волшебники стали торговать своим искусством и продавали свои знания и умения тому, у кого толще кошелек и больше власть, а могущество свое частенько использовали в сражениях друг с другом. Они устраивали настоящие и очень жестокие поединки, которые вели как с помощью оружия, так и с помощью колдовства, совершенно не заботясь о том, какое зло этим приносят всем окружающим. Впрочем, «не заботясь» — это еще мягко сказано. Чума и прочие страшные эпидемии, голодные годы и ушедшие под землю источники воды, страшная засуха, когда за лето не выпадало ни капли дождя, и мучительные холода, когда казалось, что лето вообще никогда не наступит, рождение больных и уродливых детенышей у скота — овец, коров и лошадей — и рождение больных и уродливых детей у жителей островов — вот к чему привела «беззаботность» волшебников, и люди очень часто стали связывать все свои несчастья с деятельностью именно этих людей, обвиняя во всех напастях прежде всего обыкновенных деревенских колдунов и ведьм.
Так что в итоге колдовством стало просто опасно заниматься, особенно если не имеешь могущественного покровителя. Но даже если такой покровитель у волшебника и имелся, во время поединка, столкнувшись с более сильным противником, он мог сильно пострадать, лишиться волшебной силы или просто погибнуть. Собственно, волшебник, утративший бдительность, вполне мог погибнуть и от руки самого обычного человека, ибо простые люди именно ведьм, колдунов и волшебников считали источником тех страшных бед, что выпали на их долю в Темные Времена, порождением зла, да и всю магию без разбора воспринимали как нечто черное, злое.
Особенно туго приходилось, конечно, простым деревенским колдунам и ведьмам. Женщины, занимавшиеся ведовством, повсеместно приобрели самую дурную репутацию, от которой не сумели избавиться и до сих пор. Да уж, ведьмы сторицей заплатили за свои профессиональные знания и умения, которые, кстати, почти всегда использовали на пользу людям! Забота о беременных женщинах и домашних животных, травничество и акушерство, обучение людей, особенно детей, старинным песням и правилам общежития, забота о плодородии почвы, о порядке в поле, в саду и в огороде, основная роль в строительстве домов, забота о семье и хозяйстве, лозоходство и нахождение не только водных источников, но и месторождений различных руд и других полезных ископаемых и их добыча, а также многое другое — все это было в ведении женщин. И за долгие столетия ведуньями была собрана богатейшая сокровищница различных заклинаний и чар, которые должны были обеспечить успех во всех перечисленных выше делах. Знания эти всегда переходили от одной ведьмы к другой и в народе пользовались заслуженным уважением. Впрочем, если что-нибудь бывало «не так» во время, скажем, родов или полевых работ, это всегда ставили в вину ведьмам. А теперь «не так» бывало гораздо чаще, чем «так», поскольку враждующие между собой волшебники использовали яды и проклятия, совершенно не считаясь с другими людьми, желая лишь одержать сиюминутную победу над соперником и совершенно не думая о ее последствиях. Они вызывали засухи, бури и пожары, губительные болезни растений и страшные эпидемии во всем Земноморье, и в итоге во всем этом оказывались виноваты деревенские ведьмы! А иная ведьма и понятия не имела, почему ее замечательное исцеляющее заклятие вдруг превращает обычную рану в страшную гангренозную язву; почему ребенок, которому она так удачно помогла появиться на свет, родился идиотом; почему ее искреннее благословение приводит к тому, что зерно гниет в борозде, а яблоки — на ветке дерева. Но ведь должен же был кто-то нести ответственность за все эти беды? Тем более, чтобы наказать ведьму или колдуна, далеко ходить было не нужно — они жили в той же деревне или в том же городе, а не где-то в замке или крепости жестокого правителя-пирата, защищенном отрядами вооруженных людей и могущественными заклятиями. Колдунов и ведьм топили в отравленных колодцах, сжигали на пустующих и не дающих урожая полях, хоронили заживо, дабы мертвая земля вновь ожила и стала плодородной…
Вот почему редко кто из ведьм или колдунов продолжал заниматься своим ремеслом и уж тем более — передавать свои знания другим. Те, кто так и не отрекся от своей профессии, чаще всего были либо изгоями, либо полусумасшедшими калеками, не имевшими семьи, старыми и одинокими — этим людям уже почти нечего было терять в жизни. По-настоящему мудрые ведьмы и колдуны, которым многие доверяли и к которым все без исключения относились с должным уважением, теперь уступили место услужливым хитрецам, вооруженным не мудростью, а лишь набором расхожих «заклятий» и жалких «фокусов»; отовсюду тут же повыползли всякие старые «знахарки» с их зельями, которые способны были разве что усилить и без того господствующие повсюду жадность, зависть и злобу. А если родители замечали, что их ребенок с детства одарен талантом волшебника, то изо всех сил старались скрыть это, ибо таких талантливых детей боялись особенно сильно, и судьба их могла стать поистине трагической.
Я расскажу вам одну из подобных историй. Частично она взята из «Книги Темных Времен»; кое-что добавлено жителями горных селений, расположенных на склонах горы Онн и в лесах Фалиерна. Если постараться, то и из кажущихся разрозненными кусочков и фрагментов вполне можно составить достаточно достоверную историю, хотя это, конечно, будет одновременно и вымысел, основанный на слухах, домыслах и догадках. Я хочу рассказать вам, как был основан Дом Мудрецов на острове Рок, а если Великие Мастера Рока скажут, что это происходило совсем не так, то пусть сами и поведают нам, как это было в действительности. Ибо черные тучи скрывают те времена, когда остров Рок впервые стал называться Островом Мудрецов, и вполне возможно, что именно мудрецы-волшебники и приложили к этому руку.
Глава 2
Выдра
У ручья как-то выдра одна жила,
Обличье любое принять могла,
Знала заклятия все и законы,
Могла говорить с людьми и драконами.
Так вдаль бежит вода, вода,
Так вдаль бежит вода.
Выдра был сыном мастера-кораблестроителя, работавшего в порту Великого Хавнора. Но такое имя, Выдра, мальчику дала мать; она была родом из селения Эндлейн, что расположено на северо-западных отрогах горы Онн, и в столицу пришла просто в поисках работы, как и многие другие. Это было семейство в высшей степени благопристойное, занятое весьма уважаемым ремеслом, однако был у корабела и его жены повод тревожиться, ибо с некоторых пор стало очевидно, что их сынишка обладает неким магическим даром, который отец все время старался из него выбить.
— С тем же успехом ты мог бы поколотить тучу за то, что она не вовремя дождь приносит! — упрекала его мать Выдры.
— Смотри, как бы он не озлобился из-за твоих колотушек, — предостерегала тетушка.
— Осторожней! Не то парнишка возьмет да с помощью какого-нибудь заклятия твоим же ремнем тебя и удушит! — посмеивался дядюшка.
Но родные зря беспокоились: мальчик и не думал никому делать гадости или подшучивать над отцом. Он молча сносил побои и учился скрывать свой дар.
Впрочем, сам он этот дар ни в грош не ставил. Ему было достаточно подумать, и серебристый свет разливался в темной комнате, сама собой отыскивалась потерявшаяся заколка для волос, и распутывалась запутавшаяся шерсть, стоило ему коснуться клубка да что-то прошептать, а потому он никак не мог взять в толк, с чего это родные так волнуются, ведь все это сущие пустяки. Но отец, особенно на него злившийся из-за подобных «пустяков», как-то раз даже сильно ударил его прямо по губам, чтобы впредь за работой с шерстью не разговаривал, а работал молча и с помощью обычных инструментов.
Мать пыталась вразумить мальчика более мягко:
— Ну, представь, — говорила она, — вот нашел ты, скажем огромный бриллиант. И что таким беднякам, как мы, с ним делать прикажешь? Разве что спрятать! Ведь те, у кого денег достаточно, чтобы этот бриллиант купить, запросто могут и отнять его у тебя силой, а тебя самого убить. Так что лучше спрячь-ка свой дар подальше. И особенно остерегайся великих людей и всяких «ловкачей», что у них на службе состоят!
«Ловкачами» в те дни называли магов и волшебников.
Одно из магических умений — это умение распознавать себе подобных. Настоящий волшебник всегда узнает волшебника, если только тому не удалось скрыть свою истинную сущность уж очень изощренно и умело. А мальчик по прозвищу Выдра еще никакими такими умениями не владел, зато уже очень неплохо разбирался в строительстве лодок и прочих судов и считался весьма многообещающим учеником, хотя ему еще и двенадцати не исполнилось. И вот зашла к ним однажды та повитуха, что помогла Выдре появиться на свет, да и говорит его родителям:
— Пусть Выдра как-нибудь вечерком, после работы, заглянет ко мне. Пора ему учиться петь наши священные песни и готовиться к празднику имяположения.
В этом не было ничего предосудительного, ибо именно эта знахарка недавно обучила всему необходимому старшую сестру Выдры, которая уже получила свое Истинное имя, так что родители стали вечерами посылать к ней мальчика. Однако, будучи все же ведьмой, повитуха учила Выдру не только старинным песням эпохи Созидания. Она чувствовала, хоть и довольно смутно, сколь значителен талант этого ребенка. И сама эта знахарка, и многие подобные ей люди, колдуны, целители, ведьмы, немало помогавшие людям, но зачастую имевшие весьма сомнительную репутацию, — все они, имея хоть и небольшой волшебный дар, чуяли его и в других и втайне делились друг с другом теми знаниями и умениями, какие имели, и бережно их хранили. «Магический дар без знаний — все равно что корабль без руля», — говорили они Выдре и учили его всему, что знали сами. Знания у них были небольшие, однако в них все же содержались определенные начатки великих магических искусств; и Выдра, хоть ему и было стыдно обманывать родителей, не мог не тянуться к этим знаниям, не мог не ответить на дружелюбно-восхищенное отношение своих убогих учителей. «Эти уроки не принесут тебе ни малейшего вреда, но никогда не используй полученные знания во вред кому-то другому», — говорили они ему, и он с легкостью пообещал им это.
На берегу речки Серренен у северной городской стены, в месте тихом и уединенном, повитуха шепнула Выдре его Истинное имя, осуществив обряд имяположения, и это имя до сих пор хорошо помнят волшебники даже на островах, весьма далеких от Хавнора.
Среди знакомцев деревенской знахарки был один старик, которого они промеж себя называли почему-то «Метаморфоз» и говорили, что он владеет искусством превращений. Старик действительно научил Выдру нескольким иллюзиям, а когда мальчику было лет пятнадцать, отвел его как-то в поле на берег Серренен и научил тому единственному Высшему Заклятью, которое было ему известно.
— Сперва попробуй-ка превратить этот куст в дерево, — так начал он свой урок, и, когда Выдра с легкостью создал эту иллюзию, старик отчего-то страшно встревожился. Мальчику пришлось долго просить и даже умолять его, чтобы он согласился учить его дальше. Наконец Выдра пообещал колдуну, поклявшись своим Истинным именем, что если тот научит его своему Великому Заклятью, то он, Выдра, воспользуется им только в том случае, если нужно будет спасти чью-то жизнь — свою собственную или кого-то другого.
Свое обещание старик выполнил, но Выдра решил, что и в этих знаниях особой пользы нет — ведь и магические знания, и свой талант ему приходится скрывать.
То, чему он учился, работая с отцом и дядей на верфи, он по крайней мере мог использовать открыто, и его открыто хвалили или ругали. Выдра явно обещал стать в ближайшем будущем отличным мастером, это признавал даже его отец.
В Хавноре в те годы — а также в тех местностях, что прилегали к столице с юга и востока, — правил морской пират Лозен, сам себя провозгласивший Королем Внутреннего Моря. Собирая дань с богатых земель своего «королевства», он все больше увеличивал свое войско и все больше кораблей посылал в чужие страны с самыми что ни на есть пиратскими целями: грабить население и захватывать рабов. Как насмешливо говорил дядя Выдры, Лозен в своей алчности не давал корабелам скучать, и они были ему даже благодарны: ведь у них постоянно была работа, и жили они неплохо в такие времена, когда столько честных людей лишались заработка и могли прожить только нищенством. Во дворце Махариона шныряют полчища крыс, говорил отец Выдры, что уж там говорить об остальном; а их семейство занимается честным трудом! А уж для чего там используются результаты этого труда и мастерства — не их ума дело!
Однако те, совсем иные знания, которые получал Выдра во время своих тайных уроков, сделали его весьма чувствительным ко всякой реальной угрозе. Он понимал, например, что огромная галера, которую они строят сейчас, скорее всего, отправится завоевывать чужие земли, и на веслах в ней будут сидеть рабы Лозена, а обратно в качестве живого груза она тоже доставит рабов… Выдре было тошно даже подумать о том, что такой замечательный корабль будет служить грязным работорговцам.
— Почему бы нам не строить обыкновенные рыбачьи суда, как раньше? — спрашивал он отца, и тот отвечал ему:
— А что могут рыбаки заплатить нам?
— Ты хочешь сказать, что они не могут заплатить нам так же хорошо, как Лозен. Но на жизнь-то хватило бы, — возразил Выдра.
— Даже если и так, неужели ты думаешь, что я могу отказаться от заказа самого правителя Хавнора? Или, может, ты хочешь, чтобы меня вместе с другими рабами приковали к веслу на той галере, которую мы строим? Пошевели-ка мозгами, парень!
Так что Выдра работал вместе с отцом и дядей, и голова его оставалась ясной, а в сердце жил гнев. Они были в западне. Какой прок в волшебном могуществе, думал он, если ты, обладая им, не можешь даже из западни выбраться?
Душа корабельного мастера никогда не позволила бы ему испортить что-то в устройстве самого корабля; но душа прирожденного волшебника твердила ему, что он может заколдовать судно, вплести заклятие прямо в его мачты и корпус. И это, безусловно, было бы использование тайных знаний в самых лучших целях! Он был уверен, что это так. Даже если при этом он кому-то и навредил бы. Но навредить тому, кто наносит всем жителям островов такой огромный ущерб, было бы только справедливо! Выдра ни с кем не стал обсуждать свои планы. Если он что-то сделает неправильно, то учителя его тут ни при чем; им даже знать о его намерениях ни к чему. Он долго обдумывал, как ему поступить, прикидывал так и этак, очень осторожно составлял заклятие. Это было как бы отыскивающее заклятие наоборот: «заклятие утраты нужного направления», как он называл его про себя. Такой корабль будет, безусловно, отлично держаться на воде и слушаться руля, но никогда не будет слушаться руля так, как следовало бы.
Это было самое лучшее, что Выдра мог сделать, протестуя против использования таких хороших мастеров и такого хорошего корабля для грязных дел. Он был доволен собой. Когда корабль спустили на воду (и все шло прекрасно, ибо волшебство должно было сработать, только когда судно будет в открытом море), Выдра все-таки не сумел скрыть от своих учителей, что он сотворил. Разве мог он не рассказать о своей проделке этим несчастным старикам, простым повитухам, и тому молодому горбуну, который умел говорить с мертвыми, и той слепой девушке, которая знала столько подлинных имен вещей? Он рассказал им все, и слепая девушка радостно засмеялась, но старики дружно сказали: «Смотри! Будь осторожен! Не болтай лишнего и постарайся скрыться».
На службе у Лозена был один человек, который называл себя Легавым, потому что, как он говорил, у него особое чутье на всякие колдовские штучки и он всегда выйдет на след колдуна или ведьмы. Он был обязан, например, обнюхивать еду и питье Лозена, а также его одежду и одежду приходивших к нему женщин — ибо все это могли бы использовать против него враги, точнее волшебники, находившиеся на службе у его врагов; Легавый также всегда внимательно осматривал боевые корабли своего повелителя. Корабль в такой опасной стихии, как море, становится порой очень хрупким и на редкость уязвимым для всяческих заклятий и колдовства. И как только Легавый взошел на борт новой галеры, он тут же кое-что почуял.
— Так, так, — сказал он, — и кто же автор? — Он подошел к рулевому колесу и положил на него руку. — Умно, — заметил он. — Но все-таки кто же автор? Похоже, какой-то новичок. — Он еще потянул носом воздух и с удовлетворением отметил: — Очень, очень умно!
Они пришли на улицу Корабелов уже в темноте. Ногами вышибли дверь и ввалились в дом, а Легавый, за плечами которого толпились вооруженные люди в боевых доспехах, сказал:
— Его. Остальных можете оставить в покое. — И прибавил, обращаясь уже непосредственно к Выдре: — Не вздумай бежать. — Но сказал это тихо и почти дружелюбно. Он чуял в юноше великую силу, настолько могущественную, что даже немного его опасался. Но горькая растерянность Выдры была слишком велика, а
знаний и умений у него было еще слишком мало, чтобы он даже подумать мог о том, чтобы с помощью магии освободиться или хотя бы помешать этим людям проявлять такую жестокость. Он просто бросился на них и дрался, точно обезумевший зверек, до тех пор, пока они не стукнули его чем-то тяжелым по голове. Отцу Выдры они сломали челюсть, а мать и тетку избили до потери сознания, чтобы проучить и чтобы впредь не вздумали воспитывать таких «чересчур ловких» мальчишек. А потом они утащили Выдру прочь.
На узкой улочке ни одна дверь даже не приоткрылась. Никто не выглянул, чтобы посмотреть, что за шум, что происходит у соседей. И прошло немало времени после того, как вооруженные люди увели Выдру, когда кто-то из соседей все же решился выползти из своего логова и попытаться в меру своих сил утешить его родных. «Ах, какое проклятие — это волшебство!» — говорили они.
Легавый объявил своему хозяину, что человек, наложивший на корабль заклятие, находится взаперти и в надежном месте, и Лозен спросил:
— А на кого он работал?
— Он работал на вашей верфи, мой король. — Лозен любил, когда его так называли.
— Дурак, я желаю знать, кто велел ему наложить заклятие на мое судно?
— Это, похоже, была его собственная идея, мой король.
— Но откуда она взялась? Какой ему от всего этого прок?
Легавый только плечами пожал. Он не решился сообщить Лозену, как сильно ненавидят его люди.
— Так ты говоришь, он очень ловок? Можешь ли ты его как-то использовать?
— Я могу попробовать, ваше высочество.
— Ну так приручи его или уничтожь, — заявил Лозен и занялся другими делами, которые казались ему более важными.
Скромные учителя Выдры научили его быть гордым. И от всей души презирать тех волшебников, что работают на таких, как Лозен, позволяя страху или алчности превращать волшебство в злодеяние. С точки зрения Выдры, ничто не могло быть отвратительнее подобного предательства по отношению к своему искусству и мастерству. Так что его весьма беспокоило то, что презирать Легавого он не мог.
Его сунули в кладовую одного из тех старых дворцов, которые теперь считались собственностью Лозена. В кладовой не было окон, а дверь, прочная, дубовая, окованная железом и укрепленная заклинаниями, способна была помешать выбраться оттуда и гораздо более опытному волшебнику. Лозен содержал целую армию весьма искусных и могущественных магов.
Легавый, впрочем, отнюдь не считал себя волшебником. «Все, что у меня есть, это мой нос», — говорил он. Он каждый день заходил к Выдре посмотреть, как тот оправляется после удара по голове и вывиха плеча, и поговорить с ним. И был, насколько мог видеть Выдра, настроен по отношению к нему вполне дружелюбно.
— Если ты не захочешь на нас работать, тебя убьют, — сказал он. — Лозен не может держать у себя таких, как ты. Так что лучше тебе пойти к нему в услужение, если он предложит.
— Я не могу.
Выдра заявил об этом скорее с сожалением, чем с уверенностью. И Легавый посмотрел на него с уважением. Живя в доме правителя-пирата, он безумно устал от угроз, от хвастунов и грубых хамов.
— А в чем ты сильнее всего?
Выдра ответил не сразу. И, хотя Легавый ему почти нравился, он вовсе не собирался ему доверять.
— В изменении формы, — пробормотал он наконец неохотно.
— Неужели в настоящих превращениях?
— Нет, в обычных иллюзиях. Например, могу зеленый листок превратить в золотой слиток. Как будто.
В те дни еще не было определенных названий различных видов волшебства и магических искусств, да и связь между этими искусствами и умениями еще не была достаточно ясна. Еще не существовало, как говорили впоследствии мудрецы с острова Рок, никакой науки для тех знаний, которыми они обладали. Но Легавый отлично понимал, что его пленник просто скрывает свои таланты.
— Так, значит, сам ты не можешь ни во что превратиться по-настоящему? Или хоть понарошку?
Выдра пожал плечами.
Ему было очень трудно лгать. Он считал, что врет так неуклюже, потому что не имеет подобного опыта. Но Легавый был куда опытнее и умнее его. Он понимал, что магия сама по себе сопротивляется неправде. Плетение заклятий, фокусы, ловкость рук и сомнительные трюки с мертвецами — все это лишь подделка, а не настоящая магия. Это всего лишь отражение в зеркале истинного бриллианта; бронза, которая притворяется золотом. Все они лжецы, и ложь процветает среди них. Однако искусство магии, хотя его тоже можно использовать неправильно, имеет дело с тем, что истинно, реально, и те слова, которыми пользуются настоящие маги и волшебники, являются словами Истинной Речи. Так что настоящим волшебникам обычно очень трудно соврать, особенно в том, что касается их искусства. В душе они всегда сознают, что любое сказанное ими лживое слово способно переменить мир.
Легавый даже испытывал жалость по отношению к Выдре.
— Знаешь, если бы тебя допрашивал Геллук, ему было бы достаточно произнести одно-два слова, и он вытащил бы наружу все твои знания, а заодно и твой разум. Я не раз видел, ЧТО остается после допросов нашего старого Белолицего. Послушай, а ты совсем не умеешь управлять ветрами?
Выдра, поколебавшись, ответил:
— Немного умею.
— А мешок у тебя есть?
Умеющие заклинать ветер обычно носили с собой кожаный мешок, в котором, как они утверждали, они держат ветры и который демонстративно развязывали или завязывали, чтобы, например, выпустить на волю «хороший» ветер или, наоборот, загнать внутрь ветер «плохой». Возможно, этот мешок был всего лишь чисто внешним атрибутом, и все же у каждого заклинателя ветров такой мешок имелся, у кого большой и длинный, у кого совсем маленький, точно кошель.
— Он дома, — сказал Выдра. И это не было ложью. У него действительно дома был кожаный мешок, в котором он хранил свои инструменты резчика и уровень. Да и по поводу умения заклинать ветры он также не лгал. Несколько раз ему удавалось поймать волшебный ветерок и заставить его надуть паруса, хотя он понятия не имел, как бороться с настоящей бурей или хотя бы сдерживать ее, а это, конечно же, настоящий заклинатель ветров должен уметь. Но он подумал, что лучше уж утонуть в морской пучине, чем быть убитым в этой проклятой дыре.
— Но ты ведь не захочешь использовать это умение на службе у короля?
— В Земноморье нет короля, — сурово и непреклонно заявил юноша.
— Ну, на службе у моего хозяина, — терпеливо поправился Легавый.
— Нет, — ответил Выдра и заколебался. Он чувствовал, что обязан кое-что объяснить этому человеку. — Понимаешь, здесь важнее мое «не могу», чем «не хочу». Я подумывал, не сделать ли мне затычки в обшивке корабля, поближе к килю — понимаешь, о чем я? Они бы сработали, когда судно вышло в открытое море, да еще при приличной волне. — Легавый кивнул. — Но я не сумел сделать это. Я ведь корабел! Я не могу построить корабль только для того, чтобы он потом утонул! Да еще вместе с теми, кто будет у него на борту. Мои руки никогда не смогут сделать такое. Вот я и сделал то, что мог. Я заставил судно плыть, куда оно само захочет. Но не туда, куда захочет он.
Легавый улыбнулся.
— Они, между прочим, корабль до сих пор еще не расколдовали, — заметил он. — Старый Белолицый вчера весь день ползал вокруг него на коленях, ворча и ругаясь. Приказал, чтобы заменили руль. — Он говорил о главном маге Лозена, бледнолицем человеке с Севера по имени Геллук, которого все в Хавноре очень боялись.
— Это ничего не изменит.
— А ты можешь снять то заклятие, которое наложил на корабль?
Усталое измученное лицо юного Выдры осветила самодовольная улыбка.
— Нет, — сказал он. — И я не думаю, что кто-нибудь еще это сможет.
— А вот это уже совсем плохо. Между прочим, ты мог бы воспользоваться своим умением, чтобы поторговаться с ними.
Выдра промолчал.
— Ну вот, например, такой нос, как у меня, — вещь очень полезная при заключении сделок, — продолжал между тем Легавый. — Не то чтобы я стремился с кем-то соревноваться, но тот, кто ищет, всегда найдет, как говорится… Ты когда-нибудь в шахту спускался?
Догадки магов порой куда ближе к знанию, даже если маг и не очень ясно представляет себе, какие знания он получил. Первым признаком одаренности Выдры, проявившимся, когда ему было года два-три, была его способность идти прямо к любому предмету, который считался потерянным: оброненному случайно гвоздю, положенному не туда, куда следует, инструменту. Он находил любую вещь, как только узнавал и выучивал то слово, которым эта вещь обозначается в разговоре. И в детстве одним из самых любимых его занятий было бродить в одиночестве по лесам и полям, чувствуя босыми ногами и всем телом подземные источники, рудные жилы и скопления, каменные слои и различные вкрапления в гранитной породе. Это было похоже на прогулки по огромному зданию, где он разглядывает бесчисленные комнаты, коридоры и лестницы, ведущие в просторные подземелья, где блестят на стенах серебряные подсвечники. И чем дальше он уходил, тем больше ему начинало казаться, что тело его сливается с телом земли, что он чувствует каждую ее жилку, каждый орган, каждый мускул — как свой собственный. Этот дар в детстве приносил ему огромную радость. Но Выдра никогда не искал ему никакого применения. Этот дар был его тайной.
И на вопрос Легавого он не ответил.
— Что там, у нас под ногами? — Легавый указал на пол, выложенный грубой сланцевой плиткой.
Выдра некоторое время молчал, потом нехотя сказал:
— Глина, гравий, а дальше скальная порода, богатая гранатами. Подо всей этой частью столицы такая порода. Я не знаю, как она называется.
— Имена можно выучить.
— Я умею строить корабли, умею на них плавать.
— Ты бы гораздо больше пользы принес, держась подальше от кораблей, ото всех этих войн и пиратских налетов. Наш правитель ведет разработку старых шахт в Самори, по ту сторону горы. Там ты не стоял бы у него на пути. А работать на него тебе все равно придется, если хочешь остаться в живых. Я позабочусь о том, чтобы тебя туда отослали. Если ты поедешь, конечно.
Выдра помолчал немного и сказал:
— Спасибо. — И посмотрел прямо на Легавого. Это был один лишь быстрый вопрошающий и оценивающий взгляд.
Ведь это именно Легавый сделал его пленником; это он стоял и смотрел, как до смерти избивают родителей Выдры и других членов его семьи, но не прекращал избиения. И все же теперь он говорил с Выдрой, как друг. Почему? — спрашивали глаза Выдры. И Легавый ответил:
— Ловким людям нужно держаться вместе. — Люди, у которых нет никакого таланта, которые не владеют никаким искусством, у которых есть только их богатство, — такие люди стравливают нас ради собственной выгоды, не ради нашей. Мы продаем им свое могущество или умение. Но почему мы это делаем? Мы ведь прекрасно могли бы обойтись и без них, если бы следовали вместе своим собственным путем, а?
Легавый имел самые лучшие намерения, желая отправить юношу в Самори; вот только он не учел силы и волевого характера Выдры. Как не понимал еще этого и сам Выдра. Он слишком привык подчиняться другим, чтобы понять, что на самом деле всегда следовал своим собственным намерениям и склонностям, и был слишком молод, чтобы поверить, что его собственные поступки порой грозят ему смертельной опасностью.
Он задумал — как только его выведут из подвала — воспользоваться старинным заклинанием Истинного Превращения и таким образом спастись. «Жизнь моя в опасности, — думал он, — так почему бы мне не воспользоваться этим заклятьем?» Вот только он никак не мог решить, в кого ему превратиться — в птицу или в завиток дыма? Что будет наиболее безопасно? Но пока он об этом раздумывал, люди Лозена, привыкшие к разным волшебным трюкам, подмешали ему кое-что в пищу, и он перестал думать вообще о чем бы то ни было. Точно мешок с овсом его кинули в повозку, которую тащил покорный мул, а когда по дороге он стал приходить в себя, один из стражников просто стукнул его как следует по голове, заметив при этом, что теперь-то уж точно можно спокойно отдохнуть.
Когда же Выдра окончательно пришел в себя, чувствуя слабость и тошноту после подмешанной в еду отравы и сильного удара по голове, то увидел, что находится в каком-то помещении с кирпичными стенами и окнами, тоже заложенными кирпичом. Дверь, впрочем, была обыкновенная, железом не окованная и без металлических поперечин, и в ней не было видно никакого замка. Но когда он попытался встать на ноги, то почувствовал, что колдовские путы не дают ему не только расправить конечности, но и мешают нормально мыслить, не позволяют даже пальцем пошевелить, липнут к рукам, ногам и мыслям. Он мог, например, стоять, но не мог сделать к двери ни шагу. Не мог даже руку протянуть. Это было ужасное ощущение — точно тело его ему более не принадлежит! Выдра снова сел, затих и попытался сосредоточиться. Чары, опутывавшие его, точно паутина, не давали как следует вздохнуть, и голова работала плохо, словно и ей не хватало воздуха, словно все его мысли столпились на одном крошечном пятачке, слишком для них тесном.
Прошло немало времени, прежде чем дверь наконец отворилась и вошли несколько человек. Выдра даже сопротивляться не мог, когда они засунули ему в рот кляп и связали руки у него за спиной.
— Ну, теперь-то ты никаких чар на нас точно не нашлешь, да и заклятий никаких произнести против нас не сможешь, парень, — сказал мощный широкоплечий детина с заросшей бородой физиономией. — Но головой-то ты кивать вполне можешь, верно? Тебя сюда прислали как лозоходца. Если окажешься хорошим лозоходцем, будешь и вкусно есть, и сладко спать. Кивнуть ты должен, если обнаружишь киноварь. Королевский волшебник говорит, что она все еще где-то здесь есть, в глубине старых шахт, и она очень ему нужна. Так что лучше бы нам ее отыскать. А теперь я тебя выведу наружу. И вроде бы я буду воду искать, а ты будешь моей лозой. Ты пойдешь впереди, а я за тобой. А если тебе куда повернуть надо будет, так ты в эту сторону головой мотни. А как почуешь, что киноварь у тебя под ногами, так остановись и топни ногой. Такие вот у нас будут условия, ясно? И если сыграешь честно, так и я с тобой по-честному поступлю.
Он ждал, когда Выдра кивнет головой, но тот стоял совершенно неподвижно.
— Ну, молчи, молчи, — сказал бородатый тип. — Если тебе такая работа не нравится, так тебя всегда ведь можно и в Жаровню отправить.
Человек, которого остальные называли Лики, вывел его из темницы под слепящие лучи жаркого яркого утреннего солнца, и Выдра тут же почувствовал, что сковывавшие его магические узы ослабли, а потом и вовсе исчезли; но он все равно постоянно ощущал какие-то другие заклятья, которыми, точно колючей проволокой, опутаны были здесь все строения, особенно высокая каменная башня, от которой прямо-таки исходили некие невидимые, но вполне осязаемые волны ненависти и неприступности. Когда Выдра пытался прорваться сквозь эту паутину с гордо поднятой головой, живот его тут же сводила адская боль, и он невольно в ужасе склонял голову, пытаясь увидеть там страшную сквозную рану, но никакой раны там не было. С кляпом во рту, связанный, лишенный способности хоть что-то сказать или сотворить магическое заклятие, он ничем не мог помочь себе. Лики надел ему на шею некое подобие кожаного ошейника, прикрепил к нему один конец ремня, сплетенного из кожаных полосок, а второй конец ремня взял в руки и погнал пленника перед собой. Он не остановил Выдру, когда тот случайно ступил в зону особенно сильного воздействия охраняющих чар, и после этого Выдра сам старательно обходил такие места, если мог их различить, конечно, на пыльной тропе.
Лики уверенно вел его на поводке, точно собаку, и он шел, хмурый, покорный, дрожа от слабости и гнева. И все поглядывал на ту каменную башню, на груды дров у ее широких дверей, на покрытые какой-то странной ржавчиной колеса и в́орот у колодца, на огромные кучи гравия и глины. Попытка повернуть израненную голову неизменно вызывала у него головокружение и тошноту.
— Если ты настоящий лозоходец, так ищи, показывай свое мастерство! — сказал Лики, подходя к нему ближе и искоса на него поглядывая. — А если нет — все равно лучше ищи, иначе тебе тут сразу каюк!
Из каменной башни вышел какой-то человек. Он торопливо прошел мимо них какой-то странной шаркающей походкой, глядя прямо перед собой. Изо рта у него непрерывным потоком стекала слюна, подбородок отвратительно блестел, и вся грудь была мокрой.
— Это башня-жаровня, — сказал Лики. — Здесь-то как раз и извлекают ртуть из киновари. Такие рабочие, как этот, больше года-двух в Жаровне не выдерживают. Ну что, хочешь туда, лозоходец?
Чуть помедлив, Выдра мотнул головой влево, и они двинулись прочь от серой каменной башни, спускаясь в узкую и длинную долину, практически лишенную деревьев. По обе стороны от тропы виднелись лишь бесчисленные заросшие жесткой травой болотистые низины да груды отработанной руды.
— Говорят, здесь под ногами и земли-то давно не осталось, — сказал Лики, и Выдра почувствовал, что под ними действительно какой-то странный мир: пустоты, туннели, полные тьмы, — уходящий в земные глубины некий вертикальный лабиринт, самые глубокие шахты которого давно превратились в колодцы, полные гнилой, застойной воды. — Здесь и серебра-то никогда особенно много не было, а уж запасы киновари еще раньше истощились. Слушай, а ты хоть знаешь, что такое киноварь?
Выдра покачал головой.
— Ладно, я тебе покажу. Это за ней Геллук охотится. Ему нужна киноварь, чтобы делать жидкое серебро, ртуть то есть, понятно? Ртуть, она сильнее любого другого металла, она их все пожирает, даже золото, так что Геллук ее называет царем среди всех прочих подземных богатств. И если ты ему этого «царя» отыщешь, он все, что хочешь, для тебя сделает. Да ты не бойся, киноварь здесь часто попадается. Отдельными кусками, конечно. Идем, я тебе покажу. Я ведь понимаю, и собаке след не взять, пока она его не почует.
И Лики повел Выдру вниз, в шахты, чтобы показать, в какой породе киноварь встречается чаще всего. В дальнем конце одного из забоев работали несколько рудокопов. Как всегда, это были женщины.
То ли потому, что женщины меньше мужчин и им легче передвигаться в узком пространстве забоев, а может, потому, что они привыкли возиться с землей на огороде и в поле, или, может, потому, что таков был древний обычай, но на шахтах Земноморья всегда работали женщины. Это были женщины свободные, не рабыни, в отличие от тех, что работали в башне-жаровне. Геллук всегда самолично следит за работой рудокопов, пояснил Лики, но сам никогда в шахтах не работал и даже волшебство свое там применять не решается, ибо женщины-рудокопы всячески этому противятся, будучи глубоко убежденными, что нет большей опасности, чем когда мужчина, а тем более волшебник, берет в руки лопату или начинает ставить крепеж. Таким положением дел Лики, по его собственному признанию, был вполне доволен.
Коротко стриженная женщина с ясными глазами и со свечой, привязанной к каске рудокопа, положила свою кирку и показала Выдре несколько красно-коричневых зерен или комочков киновари, лежавших у нее в корзине. Тени метались по земляным стенам забоя. Потрескивал старый крепеж, сверху сыпались струйки земли. И хотя воздух в этих темных туннелях был довольно холодным, сами проходы были настолько узки и тесны, что было трудно дышать. Рудокопам приходилось то и дело останавливаться и расчищать себе путь. В некоторых старых штреках потолок совершенно обрушился. Лестницы были в ужасном состоянии — гнилые и шаткие. Это было поистине страшное место и очень опасное, но все же Выдра чувствовал себя здесь так, словно вдруг оказался в некоем убежище. Ему даже не очень-то и хотелось возвращаться на поверхность земли, к жаркому полдневному солнцу.
Затем Лики почему-то повел его не в башню, а назад, к жилым хижинам. Из запертой комнаты он вынес маленькую мягкую пухлую кожаную сумку, которая тяжело оттягивала ему руку, и открыл ее. На дне сумки Выдра увидел небольшое озерцо чего-то сверкающего и странно подвижного; блестящая поверхность озерца казалась чуть запылившейся. Когда Лики снова закрыл сумку, ртуть задвигалась, заворочалась внутри, точно зверек, пытающийся выбраться на свободу.
— Вот он, царь всех металлов! — сказал Лики таким тоном, в котором одинаково легко читались и почтение, и ненависть, и страх.
Даже не будучи колдуном, Лики показался Выдре куда более интересной личностью, чем Легавый. Впрочем, как и Легавый, он был груб, но не жесток, и требовал всего лишь беспрекословного подчинения. Выдра повидал немало рабов и рабовладельцев на верфях Хавнора и понимал, что ему повезло. По крайней мере днем, пока он находился под началом Лики.
Он смог поесть только у себя в темнице, когда у него изо рта вынули кляп. Ему дали всего лишь кусок хлеба с каплей растительного масла да лук. Он давно уже страдал от голода — в те ночи, которые он провел в темнице, связанный по рукам и ногам магическими заклятиями, он практически не способен был что-либо проглотить. Хлеб, который ему принесли, пахнул металлом и золой. Ночи были долгими и страшными, ибо заклятия давили на него всей своей тяжестью, и он без конца просыпался в ужасе, хватая ртом воздух и не в состоянии как следует собраться с мыслями. Здесь было абсолютно темно, ибо он не мог зажечь в темнице даже крошечный магический огонек. А потому каждый раз несказанно радовался наступлению дня, даже несмотря на то, что день означал, что ему снова свяжут за спиной руки, воткнут в рот кляп, а на шею наденут собачий ошейник.
Каждое утро совсем рано Лики выводил его из темницы, и они зачастую до полудня бродили по окрестностям. Лики был молчалив и терпелив, не приставал к Выдре с вопросами, не видит ли тот каких-либо признаков месторождения киновари, не притворяется ли он, что ищет киноварь, а на самом деле ее не ищет, и так далее. Собственно, Выдра и сам не смог бы, наверное, ответить на подобные вопросы. В этих бесцельных скитаниях знания о здешнем подземном мире проникали в него сами, как и всегда прежде, и он непременно старался как можно лучше в этих самостийных знаниях разобраться и лишь твердил про себя: «Я ни за что не стану служить злу!»
А потом теплый летний воздух и свет размягчали его душу, и его огрубевшие босые ступни начинали чувствовать покалывание сухой травы, и Выдра понимал, что там, в глубине, где находятся корни этих трав, пробирается во тьме маленький родничок, просачивается сквозь широкий пласт сланца с вкраплениями слюды, а под этим пластом есть пещера, и стены этой пещеры все сплошь покрыты тонким слоем алых зерен киновари… Он никак этого не показывал. Он думал, что, может быть, та карта подземного мира, что складывается сейчас в его памяти, когда-нибудь пригодится и для хорошего дела, если только он, конечно, сумеет придумать, как это дело сделать.
Но дней через десять Лики сказал:
— Вскоре прибывает мастер Геллук. Если ты здесь не найдешь для него ни одного месторождения киновари, то он, скорее всего, возьмет другого лозоходца.
Выдра прошел еще примерно с милю, потом вернулся назад и привел Лики к холмику, находившемуся неподалеку от самого дальнего конца старых штолен. Здесь он кивнул утвердительно и даже топнул ногой.
Вернувшись в свою темницу, когда Лики снял с него ошейник с поводком и вынул у него изо рта кляп, он сказал:
— Там есть небольшое месторождение. Вы можете попасть туда, следуя по старому прямому туннелю; до него футов двадцать или чуть больше.
— И много там киновари?
Выдра пожал плечами и промолчал.
— Как раз хватит, чтобы все так и продолжалось, а?
Выдра опять ничего не ответил.
— Ладно, меня это устраивает, — сказал Лики.
Через два дня, когда была вскрыта старая штольня и оттуда как раз поднимали наверх первую порцию добытой киновари, прибыл волшебник. Лики разрешил Выдре посидеть в сторонке на солнышке, а не оставил взаперти в хижине, и Выдра был ему очень благодарен за это. Не то чтобы ему было очень удобно сидеть со связанными руками и с кляпом во рту, но теплое солнце и ласковый ветерок были точно благословение. И он мог дышать полной грудью и дремать, не видя снов о том, как рот и ноздри засыпает землей — ибо по ночам в темнице ему снились только такие сны.
Он дремал, сидя на земле в тени хижины, и запах дыма от дров, которые жгли в башне-жаровне, вызывал в его памяти воспоминания о доме, о работе на верфи, о шелковистом сиянии свежеоструганных дубовых досок для обшивки нового корабля… Его мечты были прерваны каким-то шумом, и совсем рядом послышались чьи-то шаги. Выдра поднял глаза и увидел волшебника, который, чуть склонившись, стоял перед ним.
Геллук был одет совершенно фантастически, как и большая часть магов и волшебников той поры. В длинных алых одеждах из шелков Лорбанери с вышитыми золотыми и черными нитками рунами и всякими магическими символами и в остроконечной шляпе с широкими полями он казался значительно выше обычных людей. Выдре, впрочем, совсем не обязательно было видеть его одежды, чтобы признать в нем волшебника. Он сразу узнал ту руку, что сплела сковывавшие его узы и отравила его сны, сразу узнал едкий привкус и удушающую хватку его магического могущества.
— По-моему, я нашел своего маленького искателя, — промолвил Геллук. Голос его был звучен и одновременно мягок, точно звуки виолончели. — Спит себе на солнышке, как человек, хорошо выполнивший свою работу. Значит, ты послал их туда, потому что нашел Красную Мать, верно? А ты знал, что такое Красная Мать, до того, как попал сюда? Ты что же, придворный короля? Так, так… Не нужны нам теперь ни веревки, ни узлы. — И он, не сходя с места, одним движением пальца освободил стянутые веревкой запястья Выдры, и сунутый ему в рот в виде кляпа платок вывалился на землю сам собой.
— Я мог бы научить тебя делать все это самостоятельно, — сказал волшебник, улыбаясь и глядя, как Выдра растирает и разминает ноющие запястья и шевелит распухшими губами. — Легавый рассказал мне, что ты парнишка многообещающий и можешь далеко пойти, если тобой правильно руководить. Хочешь побывать в королевском дворце? Я могу отвезти тебя туда. Но, может быть, ты не знаешь того короля, о котором я говорю?
Выдра действительно не совсем понимал, что Геллук имеет в виду — правителя-пирата или же ртуть, — однако все же рискнул и коротко мотнул головой в сторону каменной башни.
Глаза волшебника сузились, зато улыбка стала еще шире.
— Знаешь его имя?
— Жидкий металл, — сказал Выдра.
— Так его называют в народе. А еще ртуть или тяжелая вода. Но те, кто ему служит, называют его «царем», или «королем», или «Всемогущим», а также — «Телом Луны»… — Взгляд Геллука, доброжелательный и испытующий, скользнул как бы мимо Выдры и уперся в каменную башню; потом он снова посмотрел на Выдру. Лицо у него было крупное, вытянутое и очень белое. Выдра никогда не видел такой белой кожи. А глаза светло-голубые. Подбородок и щеки волшебника были покрыты курчавой бородой, в которой смешались черные и седые волоски. Улыбка у него была спокойная; за приоткрывшимися губами видны были мелкие зубы, и нескольких зубов не хватало. — Те, кто научился видеть истинную суть вещей, способны увидеть моего короля таким, каков он на самом деле: истинный король среди всех прочих металлов и минералов. В нем самом заключен корень его могущества. Знаешь, как мы называем его в тайных чертогах его дворца? — И волшебник в своей высоченной шляпе вдруг сел прямо на грязную землю рядом с Выдрой. — Хочешь это узнать? Ты можешь узнать все, что захочешь. Мне совсем не нужно что-то таить от тебя. Как и тебе — от меня. — И Геллук рассмеялся, но не угрожающе, а, скорее, удовлетворенно. И снова внимательно посмотрел на Выдру; его крупное белое лицо было гладким и задумчивым. — У тебя действительно есть определенная сила и способности ко всяким небольшим превращениям и фокусам. Ты парень умный, но не слишком; и это хорошо. Не слишком умный, чтобы не желать учиться, как некоторые… Я стану учить тебя, если захочешь. Ты любишь учиться? Любишь знания? Хотел бы ты узнать истинное имя, которым мы называем короля, когда он совсем один в своих светлых каменных чертогах? Имя его Туррес. Знаешь ли ты это имя? Это одно из слов Истинной Речи. Его Истинное имя. А на своем родном языке мы могли бы называть его Семя. — Волшебник снова улыбнулся и похлопал Выдру по руке. — Ибо он и есть семя и оплодотворитель всего сущего. Источник могущества и создатель истинного положения вещей. Сам увидишь. Сам поймешь. Пойдем же! Пойдем! Пойдем и посмотрим, как наш король парит среди своих подданных, извлекая свою сущность — из них! — И Геллук резко и неожиданно вскочил, схватил Выдру за руку и рывком поставил его на ноги, возбужденно смеясь.
Выдра чувствовал себя так, словно его вновь вернули к нормальной жизни, вырвав из некоего ужасного сна, точнее полусна-полубодрствования. Когда волшебник прикоснулся к нему, он почувствовал не тяжесть магических уз, а, скорее, некий заряд энергии и надежды. Он говорил себе, что нельзя доверять этому человеку, но ему страстно хотелось кому-то верить, у кого-то учиться. Геллук обладал магической силой, он был настоящим Мастером, и он был совершенно необычен. К тому же именно он освободил его, Выдру! Впервые за много недель он шел совершенно свободно, и руки его не были связаны ни путами, ни заклятьями.
— Сюда, сюда, — тихо приговаривал Геллук. — Ничего страшного с тобой не случится. — Они подошли к дверям башни-жаровни — узкому проходу в стене толщиной фута в три. Геллук взял Выдру за руку, ибо юноша, вдруг заколебавшись, замедлил свой шаг.
Лики говорил ему, что металлические пары, поднимающиеся над нагретой рудой, как раз и являются причиной болезней и смертей тех, кто работает в башне. Раньше Выдра никогда не входил туда и никогда не видел, чтобы туда входил сам Лики. Правда, они подходили к башне достаточно близко, чтобы понять, что она окружена запирающими заклятиями, которые способны причинить жгучую боль, привести в полное замешательство любого и поймать его в ловушку, если он, скажем, попытается сбежать. Сейчас Выдра ощущал присутствие этих чар, точно липкие нити чудовищной паутины, точно канаты из темного тумана, которые расступались только перед тем волшебником, который их создал.
— Дыши, дыши, дыши, — приговаривал Геллук, смеясь, и Выдра постарался не задерживать дыхание, когда они вошли в башню.
Плавильная яма была устроена в самом центре огромного куполообразного помещения. Люди, больше похожие на скелеты, торопливо бросали лопатами руду прямо на горящие дрова, и пламя, раздуваемое гигантскими мехами, ревело и ослепительно сияло. Другие рабочие постоянно подносили новые охапки дров, а также трудились у мехов. В верхней части купола сквозь дым и испарения виднелись другие помещения, к которым вела винтовая лестница, спиралью поднимавшаяся прямо по башенной стене. В этих верхних помещениях, как рассказывал Выдре Лики, осаждались и конденсировались пары ртути, которые потом снова нагревали и снова конденсировали, пока чистейшая ртуть не стекала в каменную чашу — всего-то одна-две капли в день, по словам Лики, потому что сейчас ее добывали из очень бедной руды.
— Не бойся, — сказал Геллук, и его звучный голос легко перекрыл и задыхающееся шипение огромных мехов, и ровный гул ревущего пламени. — Иди сюда, посмотри, как ОН парит в воздухе! Как ОН очищает себя и своих подданных! — Волшебник подтащил Выдру к самому краю плавильни. Глаза его в мерцающем свете ярко сверкали. — Даже злые духи, которых ОН заставляет работать на себя, в итоге становятся чистыми, — сказал Геллук, приблизив губы к самому уху Выдры. — Когда они рабски служат ему, окалина и шлаки отваливаются от них и стекают вниз. Болезни и нечистота плавятся и выступают, точно пот через поры. А потом, когда огонь наконец очистит их, они обретают способность летать и взлетают прямо в чертоги короля. Пойдем же, пойдем со мной в его замок, где темная ночь порождает светлую луну!
И Выдра следом за ним стал подниматься по винтовой лестнице, сперва довольно широкой, но становившейся все ́уже и теснее. Они миновали помещения с испарителями и раскаленными красными печами, откуда специальные трубы вели в зольники, откуда полуголые рабы вручную выскребали обгорелую рудную корку и сажу, а потом лопатами сбрасывали эти отходы снова в печи, чтобы еще раз их переплавить. Наконец они поднялись в самое верхнее помещение. И Геллук сказал тому единственному рабу, что сидел здесь на корточках у края шахты:
— Покажи мне короля!
Раб, тощий безволосый подросток с незаживающими язвами на руках и плечах, поднял крышку над каменной чашей, стоявшей у края огромного сосуда, на стенках которого конденсировались ртутные пары. Геллук заглянул туда с любопытством ребенка и прошептал:
— Такой крошечный! Такой юный! Крошка-принц, мой маленький повелитель, князь Туррес. Семя мира! Драгоценная душа!
Из нагрудного кармана он извлек мягкую сумочку из тонкой кожи, расшитую серебряными нитками. К сумке была привязана изящная ложка из рога. Геллук зачерпнул ею несколько капель ртути, собранной в чашу, и перелил в сумочку, а затем тщательно затянул шнурок у горловины.
Раб стоял рядом совершенно неподвижно. Все те, кто работал в ядовитых испарениях башни-жаровни, были совершенно обнажены или одеты лишь в некое подобие набедренной повязки и башмаки. Выдра еще раз взглянул на раба и вдруг заметил маленькие женские груди. Да, это была женщина. Но только совершенно лысая! А ее суставы были похожи на страшные раздувшиеся узлы на тощих, как палки, конечностях. Она лишь один раз подняла на Выдру глаза и больше не пошевелилась, снова застыв, как изваяние.
— Это хорошо, служаночка! Ты у меня хорошо поработала, — сказал ей Геллук своим ласковым голосом. — Сбрось-ка шлак в огонь, и он превратится в живое серебро, в лунный свет. Разве это не чудо? — Он двинулся дальше, увлекая за собой Выдру, и они стали спускаться по винтовой лестнице вниз. — Скажи, разве это не чудо, когда из самых настоящих отбросов рождается то, благороднее чего нет на свете? Таков великий принцип нашего искусства! Отвратительная Красная Мать порождает прекраснейшего из королей! Из грязной руды и мерзкой слюны умирающего раба выходит серебряное Семя Власти!
Спускаясь вниз по крутой скользкой лестнице, Геллук неумолчно говорил что-то, и Выдра старался понять его, ибо это был действительно могущественный волшебник, который рассказывал ему, что такое власть над другими людьми.
Но стоило им выйти на солнечный свет, и голова у него закружилась, в глазах потемнело, и через несколько шагов он согнулся пополам, и его вырвало.
Геллук наблюдал за ним, как всегда внимательно и любовно, и когда Выдра наконец выпрямился, пошатываясь и хватая ртом воздух, волшебник мягко спросил:
— Ну что, боишься ты короля?
Выдра кивнул.
— Если ты разделишь его власть, будешь на его стороне, он не причинит тебе вреда. Бояться силы, сражаться с силой — вот что очень опасно. Но любить силу и разделять ее с кем-то — это истинно королевский путь. Смотри. Следи за тем, что я буду делать. — Геллук поднял мешочек, в который вылил те несколько капель ртути, и, не сводя глаз с Выдры, развязал горловину мешочка, поднес его к губам и выпил содержимое. Улыбаясь, он приоткрыл рот, и Выдра мог видеть у него на языке серебристые капли, прежде чем он проглотил их.
— Ну вот, теперь король у меня в гостях! О, это весьма почетный гость! И благородный. Он не заставит меня пускать слюни, не вызовет у меня рвоты, не причинит моему телу ни малейшего вреда. Нет, никогда, потому что я его не боюсь! Я сам приглашаю его войти в мой дом, и он входит, проникает в мою кровь и никакого вреда мне не причиняет. В моей крови течет серебро! Я вижу вещи, неведомые другим людям. Я вместе с моим королем храню его тайны. И когда он оставляет меня ненадолго, то скрывается в самой грязи, сохраняя всю свою блестящую сущность и целостность, и ждет, когда я приду, подниму его оттуда и очищу его, как он очищает меня, и с каждым разом мы с ним становимся все чище и чище… — Волшебник взял Выдру за руку и сказал ему доверительно и с улыбкой: — Я тот, кто даже испражняется лунным сиянием! Другого такого ты нигде не встретишь. Больше того! Король проникает даже в мое семя! Он, собственно, и есть мое семя. Я — это Туррес, а Туррес — это я…
Выдра настолько ошалел от всего этого, что словно сквозь некую пелену видел, что они направляются ко входу в шахту. И они действительно вошли туда и стали спускаться под землю. Здесь темный лабиринт туннелей был столь же путаным, что и слова волшебника. Выдра то и дело спотыкался, пытаясь увидеть путь и хоть что-то понять. Но все время видел перед собой ту рабыню в башне, ту хрупкую лысую женщину, которая лишь один раз быстро глянула на него. Но он хорошо запомнил ее глаза.
Они шли в темноте, не зажигая света, если не считать маленького волшебного огонька, который Геллук зажег, чтобы освещать им путь. Они шли по давно заброшенным штольням, и тем не менее Геллук знал здесь каждый поворот, а может, и не знал, а просто шел, не спеша и не выбирая цели. Он все время говорил, порой поворачиваясь к Выдре, чтобы показать, куда свернуть, или предупредить об опасном месте, и снова продолжал что-то рассказывать.
Наконец они добрались до того места, где работали рудокопы, расширяя старый туннель и продлевая его. Здесь волшебник о чем-то поговорил с Лики; от горящих свечей по стенам шахты метались изломанные тени. Волшебник поднял с земли в конце туннеля несколько невзрачных комков, скатал ладонями колобок, опустился на колени, попробовал землю на вкус… Все это он делал молча, и Выдра внимательно наблюдал за ним, стараясь понять, зачем он это делает.
Лики вернулся наверх с ними вместе. Геллук своим бархатным голосом пожелал им спокойной ночи, и Лики, как всегда, запер Выдру в комнате с кирпичными стенами, дав ему каравай хлеба, луковицу и кувшин воды.
И тут же его тело стиснули путы магических заклятий. Сегодня он с особой жадностью пил воду. Острый вкус луковицы и запах земли, исходивший от нее, были ему очень приятны, и он съел ее целиком.
Когда погас дневной свет, просачивавшийся в комнату сквозь щели в тех местах, где были заложенные кирпичами окна, Выдра не впал в жалкий полусон, как обычно, а продолжал бодрствовать. Мало того, всякий сон у него как рукой сняло. Буря, поднявшаяся в его душе и мыслях за то время, которое он провел в обществе Геллука, понемногу улеглась. И после нее что-то осталось, вполне осязаемое, совсем близкое и ясное, некий образ, который он видел то ли в шахте, то ли в башне, — немного туманный, но вполне отчетливый: да, это была та рабыня в комнате под самым куполом башни, та женщина с пустыми грудями и гноящимися глазами, которая осторожно сплевывала слюну, непрерывно текущую из ее отравленного рта, и старательно вытирала губы, стараясь и на пороге смерти выглядеть опрятной. Она тогда посмотрела на Выдру только один раз.
И теперь он видел ее более ясно, чем тогда в башне. Он отчетливо видел ее худые руки, распухшие локти и запястья, детскую ямку у нее на шее под затылком. Она словно была рядом с ним в этой комнате. Она словно вошла в его душу, стала им самим. И она смотрела на него. Он видел, как она на него смотрит. Он видел себя ее глазами!
И видел тонкие линии тех чар, что сковывали его, и тяжкие канаты тьмы, путаный лабиринт линий повсюду вокруг него. Существовал, правда, и некий выход из этого хитросплетения, если он сумеет повернуться сперва туда, потом сюда, потом еще раз туда и разведет магические путы руками, вот так… И вдруг он оказался на свободе.
Но больше он уже не мог видеть ту женщину. Он был в комнате один. Он стоял посреди комнаты и был абсолютно свободен.
И все те мысли, которые он никак не мог сформулировать в течение долгих дней и недель, прихлынули к нему разом, точно гроза. Это был настоящий вихрь мыслей и чувств, страсти и ярости, желания мстить, жалости, гордости и еще каких-то неведомых Выдре ощущений.
Сперва он был совершенно ошеломлен собственными яростными фантазиями, вызванными неожиданным приливом сил и желанием отомстить. Ему хотелось освободить разом всех рабов, хотелось заколдовать этого Геллука и швырнуть его прямо в пламя плавильни, хотелось связать его и ослепить, а потом оставить в башне — пусть всласть подышит ртутными парами на том, самом верхнем этаже, пока не умрет!.. Но когда он немного успокоился и стал мыслить трезво, то понял, что ему не победить такого умелого, опытного и могущественного волшебника, как Геллук, даже если этот волшебник и безумен. Если и есть какая-то надежда на победу, то ставку в игре нужно делать именно на его безумие, на то, чтобы заставить волшебника самого себя уничтожить.
Выдра задумался. Все то время, что он провел с Геллуком, он пытался чему-то у него научиться, проникнуть в тайный смысл его путаных речей. И все же он был уверен теперь, что идеи Геллука, то учение, которое он так стремился ему передать, не имеет ничего общего ни с его собственной силой, ни вообще с каким бы то ни было истинным волшебным могуществом. Шахтерское и плавильное ремесло были действительно настоящими ремеслами со своими тайнами и со своими мастерами, но Геллук, похоже, ничего в этих ремеслах не смыслил. Его болтовня насчет всемогущего короля и Красной Матери — это всего лишь пустые слова. И лживые к тому же. Но как он, Выдра, узнал об этом?
Во всем том потоке слов, который изливался из уст Геллука, прозвучало лишь одно-единственное слово Истинной речи, того старинного языка, на котором волшебники составляют свои заклятия; это было слово «туррес». Геллук сказал, что оно означает «семя». И Выдра, благодаря своему врожденному магическому таланту, чувствовал, что это действительно так. Геллук сказал еще, что это слово означает «ртуть», и Выдра понимал, что это неправда.
Его скромные учителя научили его всем словам Языка Созидания, какие знали сами. Среди этих слов не было ни слова со значением «семя», ни слова со значением «ртуть». Но губы Выдры шевельнулись сами собой, и его язык произнес: «айезур».
Но голос его почему-то был голосом той рабыни из каменной башни. Это она знала Истинное имя ртути! И это она произнесла слово Истинной Речи его устами!
Некоторое время Выдра не шевелился, тело его и мысли пребывали в полной неподвижности, ибо он впервые начинал понимать, в чем заключена его сила.
Он стоял посреди запертой комнаты в темноте и знал, что непременно выйдет на свободу, потому что уже свободен. И мысленно превозносил себя до небес.
Но через
некоторое время решительно вернулся в прежнюю ловушку, сотканную магическими чарами Геллука, и снова уселся в прежней позе на тюфяк в углу, погруженный в свои думы. Запирающее заклятие все еще действовало, но теперь оно не имело над ним никакой силы. Он мог снять его с себя или снова позволить ему действовать. Для него сейчас это были просто какие-то линии, начерченные на полу. И неистовая благодарность за обретенную свободу стучала в его душе в такт биению сердца.
Он думал о том, что должен сделать и как он должен это сделать. Он не был уверен, сам ли он вызвал из башни эту женщину, или же она явилась к нему по собственной воле. И не знал, как ей удалось сообщить ему то слово Истинной Речи. Он не знал, что делает сейчас она, но был почти уверен, что любая его попытка составить какое-нибудь заклинание немедленно поднимет на ноги Геллука. И все же, испытывая настоящий ужас, ибо о подобных заклинаниях среди тех, кто учил его колдовству, ходили лишь слухи, он решился призвать к себе ту женщину из каменной башни.
Он впустил ее в свою душу и увидел ее такой, какой видел там. Он позвал ее, и она пришла.
Она стояла совсем рядом с начерченной на полу паутиной магических линий и смотрела на него. И она хорошо его видела, ибо неяркий голубоватый свет, не имевший конкретного источника, вдруг наполнил комнату. Ее потрескавшиеся, покрытые коркой запекшейся крови губы дрогнули, но она ничего не сказала.
Тогда заговорил он, назвав ей свое Истинное имя:
— Я — Медра.
— А я — Аниеб, — прошептала она.
— Как мы можем освободиться?
— Его именем.
— Даже если бы я его знал… В его присутствии я не могу говорить.
— Если бы я была с тобой, я могла бы воспользоваться моментом.
— Но я не могу тебя вызвать!
— Ну что ж, я могу прийти и сама, — сказала она.
Она огляделась, а он испуганно поднял глаза. Оба чувствовали, что Геллук уже что-то почуял, что он уже не спит. Связующие заклятия вновь окрепли, комнату снова окутала прежняя тьма.
— Я приду, Медра, — пообещала Аниеб и, протянув к нему свою стиснутую в кулачок худенькую руку, раскрыла ладонь, что-то ему предлагая. И исчезла.
И вместе с нею исчез последний лучик света. Выдра остался один в темноте. Холодная хватка магических уз становилась поистине удушающей; заклятие сковало ему руки, сдавило легкие, не давая вздохнуть. Он согнулся в три погибели, хватая ртом воздух. Он не мог думать, ничего не мог вспомнить. «Останься со мной», — пробормотал он и не знал даже, кому он это сказал. Он был испуган и не знал, чего боится. Волшебника, его могущества, его заклятий?.. Все было погружено во тьму. Но в его теле, в его душе горело теперь некое знание, которое он даже определить бы не смог, некая уверенность, подобная маленькому светильнику, который оказался у него в руках, когда он снова попал в темный лабиринт подземных пещер и туннелей. И он не сводил глаз с этого крошечного зернышка света.
Мучительные страшные сны о смерти от удушья вернулись к нему, но не сумели овладеть его душой. И дышал он по крайней мере глубоко, полной грудью. А потом уснул. И снились ему горные склоны и долины, укрытые пеленой дождя, и просвечивавший сквозь эту пелену солнечный свет. Ему снились облака, проплывавшие над островами, и высокий округлый зеленый холм, вершина которого скрывалась в тумане, пронизанном солнечными лучами, по ту сторону какого-то морского залива…
Волшебник, который звался Геллук, и пират, который приказал называть себя король Лозен, трудились вместе в течение долгих лет и поддерживали друг друга, усиливая тем самым власть и силу каждого, и каждый был убежден, что второй является его слугой.
Геллук был уверен, что без него основанное на грабежах королевство Лозена вскоре потерпит крах и кто-нибудь из врагов сотрет правителя-пирата в порошок даже с помощью самого простого заклятия. Но он позволял Лозену играть роль повелителя. Этот пират был ему удобен, ибо Геллук давно привык, чтобы все его желания и потребности удовлетворялись незамедлительно, чтобы никто не спрашивал у него отчета о том, что и когда он делает, и чтобы всегда иметь достаточное количество рабов для своих нужд и опытов. Ему было нетрудно поддерживать те охраняющие чары, которые он наложил на самого Лозена, а также на его пиратские экспедиции и набеги; и так же легко постоянно сохранять в силе запирающие заклятия, наложенные на те места, где трудились рабы или хранились сокровища. Хотя впервые создать такие заклятия — было гораздо более сложным делом, потребовавшим немало сил и времени. Но теперь дело было сделано, и во всем Хавноре не нашлось бы волшебника, способного снять чары, наложенные Геллуком.
Геллук никогда еще не встречал человека, который вызвал бы у него страх. Правда, некоторые волшебники, встретившиеся ему на его долгом жизненном пути, оказывались достаточно сильны, чтобы заставить его насторожиться, но он не знал никого, кто был бы равен ему по силе и мастерству.
Уже давно, все глубже проникаясь мудростью, заключенной в той книге, которую один из бандитов Лозена привез с острова Уэй, Геллук стал совершенно равнодушен ко всем тем искусствам и умениям, которые постиг или раскрыл для себя прежде. Эта книга убедила его, что все они являются лишь бледными тенями, неясными намеками на некое более высокое мастерство. Подобно тому, как одно истинное вещество способно подчинить себе все прочие вещества, одно Истинное знание подчиняет себе и включает в себя и все прочие знания в мире. Все ближе подходя к познанию этого таинственного мастерства, Геллук понимал, что умения других волшебников столь же грубы и фальшивы, как и громкий титул правителя Лозена. Когда он, Геллук, воссоединится наконец с тем истинным веществом, он непременно станет и единственным истинным правителем Земноморья. И единственным среди тех людей, с которыми можно говорить на Языке Созидания и Уничтожения. А в качестве цепных псов ему будут служить драконы!
А в своем молодом лозоходце Геллук чувствовал силу, необученную и наивную, которую вполне можно было бы использовать. Ему было нужно куда больше ртути, чем он имел сейчас, а потому ему нужен был Искатель. Искательство было одним из основных магических искусств, но сам Геллук никогда им не занимался, хотя вполне мог понять, что у этого парня настоящий дар. И ему, Геллуку, очень неплохо было бы узнать Истинное имя парнишки, чтобы потом с уверенностью управлять им, контролировать каждое его действие. Волшебник тяжко вздохнул при мысли о том, сколько времени ему придется потратить на обучение мальчишки. Но ничего не поделаешь. Жаль зарывать в землю такой талант, данный от природы. Ох, а ведь найденную им руду все равно придется еще извлекать из шахт, плавить, подвергать очистке!.. И Геллук, как всегда, мысленно перенесся через все препятствия и отсрочки на своем пути к его концу, к тем чудесным таинствам, что ждут его в итоге.
В той мудрой книге, привезенной с острова Уэй, которую Геллук всегда возил с собой в ларце, запечатанном особым заклятием, был описан некий истинный, очищающий огонь. Геллук, долго эти описания изучавший, знал, что как только у него будет достаточное количество чистой ртути, то следующим шагом будет ее еще более высокая очистка и превращение его собственного тела в Тело Луны. Он разобрался в зашифрованных текстах этой книги и понял, что, для того чтобы получить абсолютно чистую ртуть, необходим костер не из обычных дров, а из человеческих трупов. Перечитывая эти слова и в очередной раз обдумывая их, он той ночью сумел распознать и еще одно возможное их значение: в этих словах всегда таилось множество таких, нераскрытых, значений. Возможно, в этой книге даже прямо говорилось, что должна быть принесена особая жертва — не только в виде человеческой плоти, но и в виде живых человеческих душ! В огромном костре башни должны сгореть не мертвые тела, а живые люди! Живые и в полном сознании. Чистота — из грязи; блаженство — из боли. Все это составляющие одного великого принципа, некогда явственно увиденного автором книги. И Геллук был уверен, что прав, что он наконец понял, что именно и как нужно сделать. Но он не должен торопиться, он должен быть терпелив, должен действовать наверняка! Он прочитал еще один отрывок из книги и сравнил его с первым, а потом глубоко задумался над прочитанным и думал до глубокой ночи. Пока на какое-то мгновение что-то не спутало его мысли, какое-то вторжение с периферии его сторожкого сознания. Ах вот как? Этот парнишка, похоже, пытается применить какой-то магический трюк! Геллук нетерпеливо произнес одно-единственное слово и вернулся к чудесам, которые способен творить его всемогущий властелин — ртуть. Он так и не заметил, что утратил власть над теми снами, что снились его пленнику.
На следующий день он велел Лики прислать мальчишку к нему. Он уже предвкушал встречу с ним. Он будет очень добр с парнишкой, начнет его учить и даже слегка баловать, как делал это вчера. Он уселся с Выдрой на солнышке. Геллук в принципе любил детей и животных. Он вообще любил все красивое. И ему было приятно иметь при себе это молодое и неопытное создание. И тот ужас и восторг, которые испытывал перед ним ничего не понимающий в магии Выдра, были Геллуку особенно приятны и дороги, как и то неосознанное могущество, которым обладал сам мальчишка. Рабы его раздражали — они были слишком немощны, лживы и безобразны. Разумеется, Выдра тоже был его рабом, но знать мальчишке об этом совсем не обязательно. Они вполне могут считаться учителем и учеником. Впрочем, ученики обычно довольно вероломны, думал Геллук, вспоминая своего ученика Эрли, который был, пожалуй, даже чересчур умен и которого ему следовало бы держать в куда более строгой узде. Отец и сын — вот кем примерно могли бы стать он и Выдра. Ничего, он еще заставит мальчишку называть его отцом. Геллук вспомнил, что вообще-то намеревался выяснить Истинное имя своего будущего «сынка». Для этого существовало несколько способов, но был и самый простой — поскольку юноша был уже в его власти: достаточно было просто спросить у него его Имя.
— Как твое имя? — спросил Геллук, внимательно глядя на Выдру.
Что-то недолго сопротивлялось в душе юноши, однако рот его открылся сам собой, и губы его прошептали:
— Медра.
— Очень хорошо, Медра, — молвил волшебник. — Ты можешь называть меня Отцом.
— Ты должен найти Красную Мать, — сказал Геллук Выдре примерно через день после этого. Они снова сидели рядышком за жилыми хижинами. Светило теплое осеннее солнце. Волшебник снял свою невероятную шляпу, и ветерок шевелил его густые седые волосы, беспорядочно падавшие ему на плечи. — Я знаю, это ты нашел то небольшое месторождение, где они сейчас так старательно роются, но киновари там совсем мало, можно сказать, несколько зерен. Вряд ли стоит жечь столько дров ради одной-двух капель ртути. Если ты действительно хочешь помочь мне и надеешься, как мы говорили раньше, что я стану тебя учить, то должен постараться получше. Я полагаю, ты и сам это понимаешь. И хорошо знаешь, что должен делать. — Он улыбнулся Выдре. — Я прав?
Выдра кивнул.
Он все еще был потрясен, ошарашен той легкостью, с какой Геллук заставил его назвать свое Истинное имя и мгновенно обрел над ним полную власть. Теперь нечего и пробовать ему сопротивляться! В ту ночь он был в полном отчаянии. Но потом ему мысленно явилась Аниеб: явилась по своей собственной воле и с помощью своей собственной магии. Сам-то он не только вызвать ее не смог бы, он даже подумать о ней был не в силах, да и не осмелился бы сделать это, поскольку уже назвал Геллуку свое подлинное имя. Однако Аниеб могла приходить к нему даже в присутствии волшебника — не в реальном обличье, разумеется, а лишь мысленно.
Хотя Выдре было очень трудно слушать ее, когда ему что-то говорил сам Геллук и черные нити волшебных чар оплетали его с ног до головы. Но когда Выдра все-таки был способен воспринимать Аниеб, то ему казалось, что она не где-то в его мыслях, а слилась с ним, живет в его душе. А может, она и была им самим или он — ею?.. Во всяком случае, он видел все ее глазами. Ее голос звучал в его ушах и звучал сильнее и чище, чем голос Геллука. Ее глазами он видел, ее разумом постигал все вокруг. И он постепенно догадался, что волшебник, будучи абсолютно уверенным в том, что тело и душа Выдры полностью ему подвластны, оказался не только не всесилен, но и несколько небрежен в отношении тех чар, с помощью которых подчинил юношу своей воле. А ведь всякие чары — это связь душ. И душа Выдры, связанная с душой Аниеб, — или же душа Аниеб, нашедшая приют в его душе и мыслях, — оказалась способна как бы проследить линии порожденных Геллуком чар и по этим линиям пробраться в душу самого волшебника.
А Геллук, не подозревая ни о чем, все продолжал что-то говорить, точно зачарованный собственным красивым и мелодичным голосом.
— Ты должен отыскать сокровенное чрево Земли, в котором зреет лунное семя. Знаешь ли ты, что Луна — это отец Земли? Да, да! И отец овладел собственной дочерью, имея на это полное право, древнее право! Да! И дал ей свое драгоценное семя, оплодотворив ее, однако родить истинного царя она не сможет. Слишком уж она грязна, труслива и похотлива. Ее так и тянет ко всяким мерзостям. Вот она и удерживает драгоценное семя у себя во чреве, прячет его, опасаясь, что родит того, кто будет повелевать ею. Вот почему, чтобы заставить ее все-таки родить ЕГО на свет, ее нужно сжечь заживо.
Геллук умолк и некоторое время не произносил ни слова, думая о чем-то своем, заветном; лицо его горело волнением. А Выдра, с помощью Аниеб читая его мысли, созерцал страшные картины, мелькавшие перед внутренним взором волшебника: огромные жаркие костры, в которых вместо дров горели живые люди, комки страдающей корчащейся плоти с руками и ногами, и они стонали, как порой стонет в пламени сырое дерево…
— Да, — мечтательно молвил Геллук, — она должна быть сожжена заживо! Только тогда лопнет ее чрево и ОН сможет выйти на свободу — в сиянии! О, как давно пришла этому пора! Мы должны освободить нашего царя! Мы должны отыскать самое большое месторождение. Я знаю, оно здесь, в том нет сомнений! Ибо там так и сказано: «Чрево Матери ищи близ Самори».
Геллук снова умолк. И вдруг посмотрел прямо на Выдру, который похолодел при мысли о том, что волшебник догадался о его связи с Аниеб и об их совместных планах. Однако Геллук, даже если он что-то и заподозрил, ничем себя не выдал, а просто еще некоторое время внимательно смотрел на Выдру своим странным, любопытным и одновременно почти невидящим взглядом, потом улыбнулся и воскликнул:
— Малыш Медра! — словно только что обнаружил, что юноша сидит с ним рядом. Он ласково похлопал Выдру по плечу и сказал: — Я знаю, что ты обладаешь даром отыскивать спрятанные предметы. Это великий дар, если его как следует развить, разумеется. Не бойся меня, сынок. Я сразу понял, почему ты привел моих слуг лишь к самому маленькому месторождению киновари. Ты играешь в свою игру, пытаешься отсрочить неизбежное. Но повторяю: теперь ты служишь мне, и тебе нечего бояться; и совершенно бессмысленно, как ты, должно быть, и сам понимаешь, что бы то ни было скрывать от меня. Не правда ли? Если дитя ведет себя мудро, любит своего отца и проявляет должное послушание, то отец всегда вознаграждает его по заслугам. — Геллук в своей обычной манере склонился совсем близко к Выдре и сказал ласково и доверительно: — Я не сомневаюсь, сынок: ты сможешь найти ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ месторождение киновари!
— Я знаю, где оно находится, — сказала Аниеб устами Выдры.
Сам он говорить не мог, и голос его прозвучал хрипло и едва слышно.
Очень немногие люди когда-либо осмеливались заговорить с Геллуком, прежде чем он сам не потребует этого. Заклятия, которыми он заставлял молчать всех, кто к нему приближался, ослабляя их волю и полностью подчиняя себе, стали для него настолько привычными, что он даже не задумывался, применяя их. Он привык, чтобы его слушали, но сам слушать совершенно не привык. До наивности уверенный в своем могуществе и одержимый своей сокровенной мечтой, он больше ни о чем думать не мог, а до чьих-то там еще мыслей ему просто не было дела. Он и Выдру-то воспринимал только как некую часть своих собственных планов, как некое продолжение себя самого.
— Да, да, и ты его найдешь! — рассеянно пробормотал он и улыбнулся.
Зато Выдра воспринимал Геллука — вполне отчетливо, физически, — как некую огромную враждебную силу, совершенно подмявшую его под себя. И сейчас ему казалось, что, заговорив его устами, Аниеб отняла у Геллука значительную часть волшебной силы, дав ему, Выдре, возможность как следует стоять на ногах, отвоевав для него некое жизненное пространство, ибо даже на столь малом расстоянии от Геллука — на столь опасном от него расстоянии! — Выдра сумел заговорить без его разрешения.
— Я отведу тебя туда, — сказал Выдра по-прежнему тихо, с трудом выговаривая слова.
Геллук привык, чтобы люди говорили именно то, чего он от них требовал, или же то, что он вложил в их уста. Если им вообще разрешалось что-то говорить в его присутствии. Но Выдра сказал именно те слова, которые Геллук хотел от него услышать, и все же услышать их от него он никак не ожидал. Волшебник взял юношу за руку, повернул лицом к себе и, заглянув ему в глаза, почувствовал, что Выдра в ужасе пытается от него отстраниться, спрятать свою душу и мысли.
— Однако! — воскликнул волшебник. — Неужели ты так хорошо умеешь искать? Ты что же, действительно нашел большое месторождение? И там действительно стоит копать? И стоит жечь дрова?
— Это настоящее месторождение, — подтвердил юноша.
Он говорил медленно, скованно, и слова падали с его губ, точно тяжелые капли ртути.
— Настоящее? — Геллук смотрел прямо на него; между их лицами было сейчас не больше нескольких дюймов. Бледно-голубые глаза волшебника поблескивали тем же странноватым приглушенным блеском, что и вожделенный металл. — Это действительно Чрево Земли?
— Я не знаю… Но только настоящий Мастер может пойти туда.
— Какой Мастер?
— Хозяин Дома.
Выдре этот разговор снова напоминал хождение с крошечным светильником в непроницаемой тьме. Светильником была душа Аниеб, ее незримое присутствие. Каждый раз перед ним открывалось крошечное новое пространство для нового шага, но то место, где он находился, увидеть целиком он так и не мог. Он не знал, что произойдет в следующий момент, и не понимал, что именно он увидит. Но уверенно шел вперед, к своей цели, произнося одно слово за другим.
— Как ты узнал о Доме?
— Я его видел.
— Где? Здесь рядом?
Выдра кивнул.
— Он в земле?
«Расскажи ему о том, что видит он сам», — услышал он голос Аниеб и сказал:
— Да. Там, меж сверкающими корнями, сквозь тьму бежит ручеек. Это корни Дома. Крыша его высока, ее поддерживают высокие колонны. Пол в Доме красный. И колонны тоже красные. И на них — сверкающие Руны…
Геллук затаил дыхание. А потом спросил очень тихо:
— А можешь ты прочесть эти Руны?
— Нет. — Теперь голос Выдры звучал на удивление спокойно и монотонно. — И пойти туда я тоже не могу. Никто не может войти в Дом, кроме его Хозяина. Только он может прочитать то, что там написано.
Белое лицо Геллука еще больше побелело, подбородок у него слегка дрожал. Он вдруг резко встал — ему, впрочем, были явно свойственны неожиданные решения и поступки — и потребовал:
— Отведи меня туда! — Он еще пытался сдерживаться, но с такой силой потянул Выдру за руку и потащил за собой, что юноша, поспешно вскочив на ноги, несколько раз споткнулся и чуть не упал. Неловко и скованно ступая, он двинулся вперед, стараясь не сопротивляться страстному желанию волшебника, который, поставив его перед собой, буквально наступал ему на пятки, вынуждая идти быстрее, и без конца хватал его за руку.
— Сюда, — несколько раз говорил он. — Да, да! Именно сюда! — Но сам тем не менее следовал строго позади Выдры. Его прикосновения и чары немного мешали юноше, сбивая с толку, но шел он все равно в том направлении, которое выбирал сам.
Они миновали башню, миновали старые разработки и новые шахты и оказались в той продолговатой долине, куда Выдра и Лики забрели в самый первый день своих поисков киновари. Теперь была уже поздняя осень. Кусты и жесткая трава, которые в тот день были совсем зелеными, пожелтели и высохли, ветер шелестел в редкой листве. Слева от них в зарослях ивняка бежал ручей. Светило нежаркое солнце. По склонам холмов скользили полосы и пятна теней от бегущих по небу облаков.
Выдра понимал, что наступает тот ответственный момент, когда он сможет освободиться от власти Геллука: в этом он был уверен еще с прошлой ночи. Он понимал также, что сможет даже одержать над волшебником полную победу, если тот, стремясь к заветной цели, хотя бы на мгновение забудет о собственной безопасности… и если… Выдра сможет узнать его имя!
Волшебные чары все еще крепко связывали их, и Выдре ничего не стоило проникнуть в душу Геллука и попытаться узнать его Истинное имя. Но он не знал, как это делается. Прирожденный Искатель, он не овладел еще всеми тонкостями этого мастерства и не имел достаточно знаний, чтобы действовать правильно. Поэтому он смог прочесть в мыслях Геллука лишь некоторые разрозненные страницы какой-то книги, содержавшей волшебную премудрость, но это не имело для него в данный момент никакого смысла; а еще он увидел в душе Геллука те самые чертоги, которые только что сам описывал Геллуку: огромный дворец с красными стенами, где на алых колоннах мерцают написанные серебром Руны. Однако Выдра не мог прочесть ни слова, не сумел разобрать ни одной Руны. Он ведь никогда не учился читать на Языке Созидания.
А между тем они с Геллуком уходили все дальше от башни, все дальше от Аниеб, и Выдра все слабее ощущал ее присутствие, однако призвать ее к себе не осмеливался.
И всего лишь в нескольких шагах от них было теперь то место, где под землей, на глубине двух-трех футов, просачивалась сквозь рыхлую землю, сквозь слюдяные пласты темная вода и падала в просторную неглубокую пещеру, все стены которой были покрыты зернами киновари.
Геллук был полностью поглощен своими мыслями, своим видением подземного царства, но, поскольку их души все еще были связаны между собой, он сумел увидеть и кое-что из того, что видел Выдра. Он остановился и судорожно стиснул руку юноши, дрожа от возбуждения и готовности немедленно действовать.
Выдра указал на длинный пологий склон, что вздымался перед ними, и твердо сказал:
— Дом твоего царя там. — И столь желанное наконец произошло: внимание Геллука полностью сосредоточилось на том, что было в глубинах земли, под сводами той пещеры, и волшебник совершенно забыл о существовании Выдры. И тот, конечно же, воспользовался этим и мысленно призвал к себе Аниеб. Она явилась мгновенно и, мгновенно проникнув в его душу, осталась с ним.
Геллук между тем стоял совершенно неподвижно; его трясущиеся руки были стиснуты, а длинное тело так напряжено, что подрагивало, точно у гончей, которая готова броситься по следу, но никак не может его обнаружить. Геллук явно растерялся. Он чувствовал, что это действительно ТО САМОЕ МЕСТО, однако видел перед собой лишь каменистый склон холма, заросший травой и невысоким кустарником, в котором не было даже намека на вход под землю.
Хотя Выдра и не успел еще придумать, что же ему сказать Геллуку, Аниеб снова его опередила, заговорив его голосом — таким же слабым и глуховатым, как и прежде:
— Только Хозяин может открыть дверь этого Дома. Только у правителя есть ключ от нее.
— Ключ от нее? — эхом откликнулся Геллук.
Выдра замер, как изваяние; лицо его оставалось совершенно безучастным — такое же лицо было у Аниеб в тот день на верхнем этаже башни, когда она впервые посмотрела на Выдру.
— Ключ? — удивленно и требовательно повторил Геллук.
— Ну да, ключ. Назови подлинное имя твоего Царя.
Что-то сдвинулось в темноте подземелий. Кто из них двоих шевельнулся? Кто произнес эти слова?
Геллук, напряженный, дрожащий и по-прежнему страшно растерянный, почти шепотом произнес:
— Туррес.
Ветер прошелестел в сухой траве.
И вдруг волшебник не выдержал; он рванулся вперед, глаза его сверкнули безумным огнем, и он вскричал:
— Откройся же именем моего царя, именем всего сущего на земле! Это приказываю тебе я, Тинарал! — И руки его взлетели вверх властным жестом, словно раздвигая тяжелый занавес.
Склон холма перед ними задрожал, покрылся морщинами, и в нем образовался провал, который становился все глубже, все шире. Этакий зев Земли. Вода хлынула из провала и побежала по земле, заливая ноги волшебника.
Он отступил, глянул на воду и яростным взмахом руки, точно назойливую помеху, убрал ручей, превратив его в подобие крошечного фонтана, струю которого сдувало ветром в сторону. Провал в земле стал еще глубже, внизу уже виднелись сверкающие слюдяные пласты, которые с громким треском расщепились, открывая бездонную пропасть, наполненную тьмой.
Волшебник сделал шаг вперед.
— Я иду к Тебе, — сказал он радостно своим бархатным голосом и смело устремился прямо к этой трещине, к этому жуткому провалу; его руки и голова были окутаны мерцающим белым сиянием. Но подойдя к самому краю и убедившись, что там нет ни лестницы, ни хотя бы пологого склона, волшебник заколебался, и тут Аниеб вскричала голосом Выдры:
— Туда, Тинарал, прыгай туда!
Услышав ее приказ, волшебник хотел было повернуть назад, отчаянно хватаясь руками за воздух, но не смог удержать равновесия и нырнул прямо во тьму. Его алый плащ, подсвеченный магическим сиянием, мелькнул в пропасти, точно падающая звезда, и исчез.
— Закройся! — крикнул Выдра, падая на колени и опираясь руками о рыхлую землю на краю провала. — Закрой свою рану, о Мать-земля! Исцелись! Стань опять целой! — Он умолял, просил, произнося слова Созидания, которых, как ему казалось, никогда не знал, пока не услышал, что произносит их. — О, Мать-земля, стань целой, как прежде! — И земля, точно внемля его мольбам, со стоном свела края раскрытой раны, исцеляя себя и вновь становясь целой.
На склоне холма остался лишь красноватый шрам, просвечивавший сквозь жидкую грязь, мелкие камешки и вытоптанную траву.
Ветер шуршал высохшими листьями низкорослых дубков и кустарников. Солнце уже успело скрыться за холмом; над головой неторопливо собирались низкие серые тучи.
Выдра, скорчившись, лежал у подножия холма. Рядом не было ни души.
Тучи совсем почернели. Пошел сильный дождь, обильно поливая землю и сухую траву. Но где-то высоко в небесах, выше этих дождевых туч, солнце неумолимо спускалось за море по западной лестнице своих светлых небесных чертогов.
Наконец Выдра заставил себя сесть. Он весь промок, совершенно окоченел и… ничего не понимал. Зачем он здесь? Почему он один?
Он что-то потерял и должен был найти. Он не знал, ЧТО именно потеряно, но помнил, что потеряно ОНО в той ужасной башне, в том самом месте, где винтовая лестница круто поднимается на самый верх сквозь дым и ядовитые испарения. Он должен пойти туда! Он встал и потащился к башне, прихрамывая и пошатываясь, как пьяный.
У него и в мыслях не было прятаться или пытаться как-то защитить себя с помощью иллюзий. К счастью, навстречу ему не попалось никого из стражников; их здесь вообще было немного, и они не особенно себя утруждали, будучи абсолютно уверенными, что заклятия волшебника никого из башни не выпустят. Теперь-то заклятия были сняты, но люди в башне этого не знали и продолжали трудиться, скованные куда более могущественным заклятием: безнадежностью.
Выдра миновал плавильню со сводчатыми стенами, торопливо суетившихся вокруг ямы рабов и стал медленно подниматься по винтовой лестнице, темной и осклизлой, пока не добрался до самого верхнего этажа.
Она была там, несчастная, истерзанная недугом женщина, сумевшая исцелить и освободить его, здорового парня; нищенка, державшая в своих руках бесценное сокровище; незнакомка, ставшая его вторым «я».
Он молча стоял в дверном проеме. Она сидела на каменном полу возле тигеля. Ее хрупкая фигурка казалась серой тенью, сливавшейся с серыми каменными стенами. Ее подбородок и грудь блестели, мокрые от слюны, непрерывно стекавшей у нее изо рта, и Выдра вдруг вспомнил тот ручей, что вырвался из разверзшейся земли на склоне холма.
— Медра, — сказала она и умолкла. Ее губы потрескались настолько, что не способны были внятно выговаривать слова. Он опустился возле нее на колени, взял обе ее руки в свои, заглянул ей в лицо.
— Аниеб, милая, — прошептал он, — пойдем со мной.
— Да, я хочу домой, — сказала она.
Он помог ей встать. Он даже не пытался пользоваться заклятиями, чтобы защитить себя и ее, сделать, скажем, на время невидимыми. Силы его были сейчас полностью исчерпаны. И хотя Аниеб, безусловно, обладала невероятным волшебным могуществом, позволившим ей постоянно быть с ним рядом во время того странного похода в долину, когда он обманом заставил Геллука назвать свое Истинное имя, никакими магическими знаниями она не владела, не знала ни одного заклятия, да и сил у нее совсем не осталось.
И тем не менее, пока они спускались по лестнице, никто даже внимания на них не обратил, словно их скрывали ото всех некие защитные чары. Они вышли из башни, миновали жилые постройки и двинулись прочь от шахт Самори сквозь небольшую рощу к тем холмам, что скрывали гору Онн от обитателей низин.
Аниеб шла куда быстрее, чем можно было бы ожидать от женщины, столь истощенной и измученной болезнью. К тому же она прямо-таки посинела от холода, ибо была почти обнажена, а погода была промозглой, накрапывал дождь. Казалось, вся воля Аниеб сосредоточена на одном: идти, как можно быстрее двигаться вперед, все дальше и дальше от этих мест; больше она не думала ни о чем — ни о Выдре, ни о чем-то ином. Но физически она была рядом с ним, и он ощущал ее присутствие столь же остро и странно, как и когда она явилась на его мысленный призыв. Капли дождя стекали по ее обнаженному телу, и он буквально заставил ее остановиться и надеть его рубашку. Ему было немного стыдно предлагать ей эту рубашку, грязную и пропахшую потом, ведь он носил ее все эти долгие недели и месяцы, но она безропотно позволила ему надеть на нее эти лохмотья и тут же пошла дальше. Особенно быстро она, конечно, идти не могла, но шла упрямо, не останавливаясь, не сводя глаз с едва видимых следов телеги на дороге, по которой они шли, пока — слишком рано из-за дождливой погоды — не спустилась ночь, и они не могли уже больше видеть дорогу перед собой.
— Зажги огонек, — сказала она. Голос у нее был жалобный, тоненький. — Сможешь?
— Не знаю, — откликнулся он, но все же попытался, и через некоторое время земля у них под ногами осветилась слабым мерцанием волшебного огня.
— Нам бы лучше где-нибудь укрыться и отдохнуть, — сказал он.
— Я не могу останавливаться, — сказала она и снова пошла.
— Но не можешь же ты идти всю ночь!
— Если я лягу, то уж не встану. А я так хочу снова увидеть Гору!
Ее тоненький голосок совершенно заглушал многоголосый шум дождя, изливавшегося на холмы и безжалостно хлеставшего по голым ветвям деревьев.
Они продолжали идти сквозь ночь, видя перед собой в слабом мерцании серебристого волшебного огонька только размытую дождем колею. Когда Аниеб споткнулась, Выдра подхватил ее, взял за руку, и они пошли бок о бок, прижавшись друг к другу — так было теплее и спокойнее обоим. Правда, теперь они шли гораздо медленнее, но все же шли. Вокруг не было слышно ничего, кроме шума дождя, падавшего с черных небес, да чавканья их насквозь промокших башмаков.
— Смотри, — сказала Аниеб, неожиданно останавливаясь, — смотри, Медра, смотри!
Он встрепенулся, хотя давно уже переставлял ноги совершенно машинально и почти спал на ходу. Бледный свет его волшебного огонька померк, словно утонул в некоем мощном, широко разливавшемся сиянии. Небо и земля в этом сиянии казались одинаково серыми, но впереди, в вышине, почти в небесах, над легкой грядой облаков светилась красным зубчатая вершина огромной горы.
— Вот она! — воскликнула Аниеб, указывая на эту вершину, и улыбнулась. А потом медленно и тяжело сползла на землю и встала на колени. Он тоже опустился на колени возле нее, пытаясь поддержать, но она выскользнула из его рук и легла прямо в грязь. Он успел лишь подложить руки ей под голову, чтобы она не захлебнулась в луже. Руки и ноги Аниеб сводило судорогой, зубы стучали. Он крепко прижимал ее к себе, пытаясь согреть.
— Там женщины… — шептала она. — Женщины Руки. Спроси о них. В деревне. Но я все-таки видела Гору!..
Она попыталась снова сесть, но судороги не прекращались, лишая ее последних сил. Она начала задыхаться. В красноватом свете, что изливался теперь с вершины горы, окрашивая весь восточный край неба, он увидел, что на губах Аниеб показалась розовая пена, а потом из уголка ее рта потекла струйка крови. Она еще пыталась прильнуть к его груди в последнем усилии, но больше не сказала ни слова и молча сражалась со смертью, сражалась до последнего вздоха, а красный свет постепенно мерк и вскоре погас, сменившись серым: тучи вновь затянули небо, скрыв от них и вершину горы, и восход солнца. Было уже позднее утро, дождь лил вовсю, когда Аниеб в последний раз судорожно вздохнула и больше уж не дышала.
А молодой мужчина по имени Медра сидел в грязи, нежно прижимая к себе мертвую женщину по имени Аниеб, и плакал.
Какой-то человек, что вел под уздцы мула, впряженного в тяжелый воз с дубовыми дровами, набрел на них и помог добраться до ближайшей деревни, которая называлась Лесная Опушка. Но вынуть из рук молодого мужчины мертвую женщину он так и не сумел. Юноша был очень слаб и весь дрожал, однако ни за что не отдавал своей печальной ноши, пока хозяин повозки не разрешил ему сесть на краешек телеги. Он и тогда не выпустил Аниеб из рук. И весь долгий путь до деревни Выдра прижимал ее к груди. Он лишь сказал вознице: «Она меня спасла». И возница не стал приставать к нему с вопросами.
— Она меня спасла, а я ее спасти не сумел! — яростно воскликнул он и перед жителями горной деревни, собравшимися вокруг него. Он по-прежнему не выпускал мертвую девушку из рук, словно надеялся хотя бы так защитить ее.
Понемножку им все же удалось убедить его, что одна из здешних женщин — это мать Аниеб, и он должен теперь отдать Аниеб матери. Только тогда он наконец решился опустить мертвую на землю, но ревниво следил, чтобы с нею обращались почтительно и нежно, то и дело порываясь опять защищать ее. Потом — видно, силы его совсем иссякли — он довольно покорно последовал за какой-то женщиной, покорно надел предложенную ему сухую одежду и немного поел. А потом послушно подошел к соломенному тюфяку, с ее помощью лег на него и долго плакал от горя и усталости, пока не уснул.
Через день-два в деревню явились люди, посланные Лики, и стали спрашивать, не слышал ли кто-нибудь о двух бесследно исчезнувших людях — великом волшебнике Геллуке и сопровождавшем его молодом Искателе. Перепуганные охранники говорили, что этих двоих, должно быть, поглотила сама земля. Но никто в деревушке ни слова не сказал им ни о незнакомце, спрятанном у старой Мид в чулане для яблок, ни об умершей девушке. И стражники, посланные Лики, убрались ни с чем. Возможно, поэтому тамошние жители теперь называют свою деревню не Лесная Опушка, как прежде, а Убежище Выдры.
Испытание, выпавшее на долю Выдры, оказалось для него чрезвычайно тяжким, ибо ему пришлось противостоять великой магической силе и мастерству настоящего волшебника. Впрочем, физические силы вскоре стали возвращаться к нему, ибо он был молод и силен, а вот душа его и разум выздоравливали гораздо медленнее. Он чувствовал, что утратил нечто очень важное, едва успев это найти, и утратил его навсегда.
Он искал Аниеб всюду — среди своих воспоминаний, среди теней былого, что снова и снова сгущались в его израненной душе: разгром его родного дома в Хавноре; каменная темница без окон, Легавый, подвал неподалеку от плавильни и паутина страшных связующих заклятий; «прогулки» с Лики и «задушевные» беседы с Геллуком; рабы, огонь плавильни, витки каменной лестницы, ведущей сквозь ядовитые испарения и дым в самое верхнее помещение башни… Ему необходимо было вспомнить все это, снова пройти этим путем, осуществляя свой поиск. Снова и снова он видел, как стоит в той самой верхней комнате башни и смотрит на женщину, пытаясь понять ее брошенный украдкой мимолетный взгляд. Снова и снова он мысленно проходил по той узкой долине, покрытой сухой травой, — проходил вместе с нею, — стремясь к вожделенной цели волшебника Геллука. Снова и снова видел он, как Геллук падает в пропасть, как смыкаются разверзшиеся края подземной пещеры. Он видел светившуюся красным вершину горы и лицо Аниеб, ее истерзанное лицо, которым она так доверчиво прижималась к его плечу, пока не умерла. А он все пытался говорить с ней, все спрашивал, кто она и как им удалось все это сделать, а она не отвечала… Не могла ответить.
Ее мать, Айо, и сестра ее матери, Мид, были мудрыми женщинами. Они лечили Выдру, как умели: теплыми масляными притираниями и массажем, травами и целительными песнями. Они охотно разговаривали с ним и всегда внимательно слушали, когда он что-то им рассказывал. Обе даже не сомневались, что юноша обладает огромной магической силой. Он же упорно отрицал это.
— Я бы ничего не смог сделать без твоей дочери, — говорил он Айо.
— А что сделала она? — мягко спрашивала Айо.
И он снова и снова рассказывал — как умел:
— Мы с ней даже знакомы не были. И все-таки она сразу назвала мне свое Истинное имя. А я ей — свое. — От воспоминаний о пережитом у Выдры часто перехватывало горло, и он надолго умолкал. — Это ведь меня все время заставляли ходить вместе с волшебником, ибо я был связан его чарами, но она по собственной воле стала ходить со мной, хотя она-то была свободна! Только вместе мы сумели направить силу Геллука против него самого, и он уничтожил себя. — Выдра надолго задумался и прибавил: — Это она отдавала мне свою силу!
— Мы всегда знали, что Аниеб — очень способная девочка, — сказала Айо и тоже надолго замолчала. — Но кто взялся бы учить ее? На горе ведь совсем не осталось учителей. Волшебники правителя Лозена стремятся извести всех колдунов и ведьм в округе. Вот и не осталось никого, к кому можно было бы обратиться.
— Как-то раз я поднялась высоко в горы, — вставила молчавшая Мид, — и меня там застигла весенняя пурга. Я совершенно сбилась с пути, так наша девочка явилась туда ко мне — не в обычном своем обличье, разумеется, — и вывела меня на тропу. А ведь ей тогда было всего двенадцать!
— Иногда она встречалась с мертвыми, — об этом Айо говорила почти шепотом. — Там, в лесной низине, недалеко от леса Фалиерн. Она хорошо понимала, что такое Древние Силы Земли, о которых мне еще моя бабушка рассказывала. Она говорила, что в той низине они особенно сильны.
— А вообще-то она была такой же девочкой, как и все остальные, — сказала Мид и закрыла лицо руками. — И очень хорошей девочкой!
Некоторое время все молчали, потом снова заговорила Айо:
— Она с другими деревенскими ребятишками спускалась до самого Фирна. Они там шерсть у пастухов покупали. А год назад, прошлой весной, туда явился этот проклятый волшебник, о котором мы уже были наслышаны, и с помощью своих заклятий стал забирать людей в рабство…
И теперь обе женщины замолчали уже надолго.
Айо и Мид были очень похожи, и Выдра видел, какой могла бы стать Аниеб в зрелые годы: маленькой, изящной, легкой на подъем женщиной с округлым лицом, ясными глазами и массой густых темных волос, не прямых, как у большей части жителей Земноморья, а вьющихся, даже курчавых. Здесь, в западной части острова Хавнор, довольно часто встречались такие курчавые волосы.
Но когда он впервые увидел Аниеб, она была совершенно лысой: все ее роскошные густые волосы «съела» проклятая башня, как и у остальных работавших там рабов.
Ее здешнее прозвище было Голубой Ирис, прелестный цветок, что расцветает весной. И мать с теткой тоже так ее называли.
— Кем бы я ни был, я никогда не смогу расплатиться за эту утрату; никакого волшебного могущества не хватит, чтобы исправить совершенное зло! — с горечью говорил Выдра.
— Это верно, — печально кивала Мид. — Да и что может любой человек сделать в одиночку?
Она подняла большой палец, потом расправила все остальные и сжала их в кулак, а потом медленно перевернула руку и раскрыла ее ладонью вверх, словно что-то предлагая. Выдра вспомнил, что Аниеб перед смертью сделала точно такой же жест. Значит, это не часть заклятия, размышлял он про себя, внимательно наблюдая за Мид; это всего лишь какой-то символ! И он заметил, что Айо буквально не сводит с него глаз.
— Это наша тайна, — сказала она в ответ на его вопросительный взгляд.
— Могу я узнать ее? — неуверенно спросил он, помолчав.
— Ты уже ее знаешь. Вы с Голубым Ирисом отдали ее друг другу. Это доверие, мальчик.
— Доверие? — растерялся Выдра. — Да, конечно… Но против них?.. Ну хорошо, Геллука больше нет. Может быть, теперь падет и Лозен. Но ведь этого мало, это, в сущности, ничего не изменит! Рабы не обретут свободу. Нищие не наедятся досыта. Справедливость не сможет восторжествовать, пока в мире правит зло. А мне кажется, это зло сидит во всех нас, в каждом из людей. Ну а доверие… доверие как бы перекидывает мостик над этой пропастью зла. Но пропасть-то все равно существует! И все, что мы ни делаем, в итоге служит злу, ибо в нас самих живет зло — алчность, жестокость, ненависть… Я смотрю на мир вокруг, на эти леса и горы, на эти небеса, и все это прекрасно, все это таково, каким и должно быть. Но с нами, людьми, что-то не так! Мы живем не по правилам. Ни один зверь не нарушает правил своей жизни. Да звери и не могут их нарушить. А мы можем и нарушаем. И никогда этому не будет конца!
Они слушали его, не соглашаясь, но и не противореча — просто принимая его отчаяние. И его слова падали в их внимательное молчание и оставались там порой на несколько дней, словно пуская корни, а потом возвращались к нему — измененными.
— Мы ничего не можем друг без друга, — говорил Выдра. — Но сплачиваются почему-то самые алчные и жестокие, тем самым укрепляя силы друг друга. А те, что не желают присоединяться к их страшному союзу, пытаются выстоять в одиночку… — Образ Аниеб — такой, какой он впервые увидел ее на верхнем этаже башни, когда она, несчастная, умирающая
женщина, стояла в одиночестве посреди той пустой комнаты, отравленной парами ртути, — не покидал его ни на минуту. — Истинное могущество растрачивается попусту! Каждый маг и волшебник использует свои умения и свое искусство только для борьбы с другими волшебниками, служа пораженным алчностью властителям или же просто защищая самого себя. Разве может в таких обстоятельствах добро победить зло? Все идет неправильно, все обесценено, точно жизнь раба, каждый из которых влачит свои оковы в одиночку. Но в одиночку никто не может быть свободен! Даже настоящий маг. Ведь, по сути дела, все они плетут свои заклятия в темнице, в позлащенной клетке, во имя пустой забавы или черной корысти, не получая в итоге никакой награды, ибо использовать свои волшебные силы во имя добра им уже не дано.
Айо, не сказав ему в ответ ни слова, сжала пальцы в кулак и раскрыла руку ладонью вверх — мимолетный жест, некий таинственный знак…
Через несколько дней в деревню из долины поднялся какой-то человек, сказавший, что он угольщик из Фирна, и попросивший проводить его к дому Айо.
— Моя жена Нести велела мне кое-что передать здешним мудрым женщинам, — сказал он, и жители деревни тут же отвели его куда он просил. Едва ступив на порог, он поспешно сделал уже знакомый Выдре жест — сжал пальцы в кулак и быстро перевернул руку раскрытой ладонью кверху. — Нести велела передать вам, что вороны что-то стали летать с самого раннего утра и что легавый пес охотится на выдру. — И гость внимательно посмотрел на обеих женщин.
Выдра, сидевший у огня и лущивший орехи, так и застыл. Мид поблагодарила гонца и предложила ему скромное угощение — кружку воды и горсть очищенных орехов. Потом сестры немного поболтали с угольщиком, расспросили, как поживает его жена, и он вскоре ушел, а Мид повернулась к Выдре.
— Легавый — это слуга Лозена, — сказал он. — Я сегодня же ухожу.
Мид вопросительно посмотрела на сестру.
— В таком случае пора тебе кое-что узнать, — сказала она, усаживаясь напротив него у очага. День был сырой, холодный, а дрова были в этой горной деревне тем единственным, чего здесь всегда хватало.
— В наших местах, а может, и не только здесь, немало таких, кто думает в точности, как и ты: никто не может быть мудрым и сильным в одиночку. И те, кто так думает, стараются держаться вместе. И именно поэтому нас и называют «Союзом Руки», или «Женщинами Руки», или просто «мудрыми женщинами», хотя среди нас не только женщины. Но это даже удобнее, что нас так называют, потому что здешним правителям, их слугам и их солдатам даже в голову не приходит, что женщины способны на что-то серьезное, и им даже могут приходить в голову мысли о том, что нашей страной правят неправильно, что порядок в ней установлен несправедливый. И уж, конечно, никто из них не верит, что какие-то деревенские старухи могут обладать хоть какой-то силой, магической и не только магической.
— Говорят, — подхватила Айо, сидевшая в темном уголке, — что есть в Земноморье такой остров, где неизменно осуществляется правый суд и торжествует справедливость, как то было при настоящих королях. Этот остров называют островом Морреда. Но это не Энлад, где жили короли, и не остров Эа, что расположен к северу от Хавнора. Этот остров, по слухам, находится на юге, и там, насколько нам известно, женщины из «Союза Руки», издавна владеющие древними магическими искусствами, обучают этим искусствам других, а не хранят свои знания в тайне друг от друга, как это делают здешние волшебники.
— Возможно, благодаря их урокам ты и сам смог бы в итоге преподать урок здешним волшебникам, — вставила Мид.
— Хорошо бы тебе удалось отыскать этот остров! — промолвила Айо.
Выдра переводил взгляд с одной женщины на другую. Они явно только что поведали ему самую главную свою тайну и теперь смотрели на него с откровенной надеждой.
— Остров Морреда… — пробормотал он.
— Ну, это только «Женщины Руки» так его называют, чтобы скрыть его истинное название от волшебников и пиратов. Без сомнения, остров этот носит совсем другое название.
— Он, должно быть, очень далеко отсюда, — промолвила Мид.
Для обеих сестер и для всех жителей деревни гора Онн была целым миром, а уж берега острова Хавнор означали, видимо, пределы Вселенной. И все, что лежало за этими пределами, принадлежало к миру слухов и снов.
— Говорят, что если идти на юг, то выйдешь к морю, — мечтательно сказала Айо.
— Он это знает, сестра, — успокоила ее Мид. — Он ведь рассказывал нам, что был плотником в порту и строил корабли. Но это действительно так ужасно далеко! Да к тому же этот Легавый висит у тебя на хвосте… Как же ты туда пойдешь?
— По воде, которая так милостива к некоторым и к тому же не передает запахи всяким легавым псам, — ответил Выдра, вставая. Ореховая скорлупа так и посыпалась на пол у него с колен, и он аккуратно замел ее веником в очаг. — Ну что ж, мне, пожалуй, пора.
— Погоди, у нас есть немного хлеба, — сказала Айо, и Мид поспешно стала укладывать в дорожный мешок черствый хлеб, жесткий овечий сыр и орехи. Они действительно были очень бедны, эти женщины, но готовы были отдать ему все, что имели. Как Аниеб тогда.
— Моя мать родом из Эндлейна, что неподалеку от леса Фалиерн, — сказал Выдра. — Знаете этот городок? Ее зовут Роза, дочь Рована.
— Летом наши мужчины со своими возами спускаются порой до самого Эндлейна.
— Если кто-нибудь передаст весточку обо мне любому из ее тамошней родни, то и она непременно вскоре все узнает. Ее брат всегда раз или два в год в столицу заглядывает.
Сестры дружно закивали.
— Просто чтобы она знала, что я жив, — прибавил Выдра.
Мать Аниеб кивнула:
— Ей непременно передадут.
— А теперь поспеши, сынок, — сказала Мид.
— Да скроет твой след вода! — сказала Айо.
Они обнялись на прощанье, и Выдра ушел.
Он сбежал вниз от стоявших кучно домишек прямо к быстрому шумливому ручью, пение которого слышал сквозь сон все те ночи, что провел в деревне. На берегу ручья он преклонил колена и попросил: «Возьми меня с собой, пожалуйста, спаси меня!» — а потом произнес то единственное заклятие Истинного Превращения, которому когда-то давно научил его старый колдун по прозвищу Метаморфоз. И не стало человека, стоявшего на коленях у говорливого ручья, но шустрая выдра быстро скользнула в воду и исчезла.
Глава 3
Крачка
Жил да был человек у нас на холме,
И уж очень он был себе на уме:
Он обличья менял, имена он менял,
Только Имени он никому не назвал!
Так вдаль бежит вода, вода,
Так вдаль бежит вода.
Однажды зимой, еще засветло, на песчаном берегу реки Онневы, где она широкой дельтой впадает в северную часть просторной гавани порта Хавнор, стоял бедно одетый человек в рваных башмаках; и был тот человек худой, смуглый и темноглазый и с такими красивыми и густыми волосами, что дождь, не успевая их намочить, скатывался по ним, точно по шерсти выдры. А надо сказать, что в тот день на низменных берегах Онневы не переставая шел дождь, мелкий, холодный, противный — даже не дождь, а густая изморось, свойственная этому времени года. Одежда человека, видно, промокла насквозь, и он, понурив плечи, наконец повернулся и пошел в ту сторону, где виднелся дымок над каминной трубой. Странно, но на мокром песке за ним остались следы четырех лапок выдры, словно именно здесь вылезшей из воды, а дальше следы эти неожиданно сменились обычными человеческими.
Куда Выдра отправился после того, в старинных песнях не говорится. Там говорится лишь, что «скитался долго он по островам». Если он сперва двинулся просто по берегу Великого острова, то во многих тамошних деревнях легко можно было отыскать в те времена ведьму, знахарку или колдуна, которые знали тайный знак Руки и непременно помогли бы ему; но вряд ли он поступил именно так, зная, что по его следу идет Легавый, так что он скорее всего покинул остров Хавнор, поспешив наняться матросом на какое-нибудь рыбачье судно с перешейка или же на торговый корабль с островов Внутреннего моря.
На острове Арк и на острове Хоск, в городе Оррими, а также на всех Девяноста Островах существуют легенды о человеке, который явился туда в поисках такой страны, где люди помнят о справедливости настоящих королей и о высокой чести волшебников; он называл эту неведомую страну островом Морреда. Нет также достоверных сведений о том, был ли именно Медра главным героем всех этих историй, поскольку он скитался под самыми различными именами и крайне редко называл себя Выдрой. А может, и вообще отказался от этого имени. Гибель волшебника Геллука отнюдь не привела к свержению Лозена, ибо у этого правителя-пирата было в услужении немало и других волшебников, которым он щедро платил. И одному из них по имени Эрли очень хотелось отыскать того молодого негодяя, который сумел победить такого мастера, как Геллук. И, надо сказать, что у Эрли были все возможности, чтобы выследить Выдру, ибо власть Лозена, которому Эрли служил, распространялась не только на остров Хавнор, но и на всю северную часть Внутреннего моря, да Легавый по-прежнему держал нос по ветру.
Возможно, именно для того, чтобы сбить со своего следа Легавого, Медра и отправился на остров Пендор, который находится довольно далеко от Хавнора, у самых западных границ Внутреннего моря. А может быть, какие-то слухи, ходившие среди «женщин Руки» с острова Хоск, вызвали в нем желание отправиться туда. Пендор некогда был богатым островом, пока дракон Йевод не сжег его практически дотла. Но что там ни говори, а куда бы Медра ни направился, он видел лишь, что положение дел всюду такое же, как на Хавноре, или еще хуже. Всюду в Земноморье люди вели бесконечные грабительские войны, совершали пиратские набеги, поля зарастали сорняками, а в городах кишело ворье. Может быть, думал Медра, именно далекий Пендор и есть тот самый «остров Морреда», ибо столица острова была прекрасна, жизнь здесь шла мирно, а население процветало. Во всяком случае, так ему казалось сперва.
На Пендоре он познакомился с одним старым магом по имени Хайдрейк, Истинное имя которого теперь уже никому не известно. Когда этот старик услышал историю об «острове Морреда», то улыбнулся печально и покачал головой.
— Это не здесь, — сказал он твердо. — Правители острова Пендор — хорошие люди. Они помнят Великих Королей Земноморья и их заветы. Они не стремятся к войне или грабежам. Плохо одно: они посылают своих сыновей на запад охотиться на драконов. Ради развлечения. Как будто драконы с островов Западного Предела — это обычная дичь, какие-нибудь утки или гуси! И, конечно же, ничем хорошим это кончиться не может.
Впрочем, Хайдрейк с удовольствием взял Медру в ученики.
— Моим Учителем был один маг, — сказал он юноше, — который передал мне свои знания совершенно бесплатно, и я готов был поступить так же, но так и не сумел найти подходящего ученика, так что я очень рад твоему появлению. Ко мне ведь приходит немало молодых людей, и все они говорят примерно одинаково: «А что хорошего в твоих знаниях? Ты золото отыскать можешь? А можешь ты научить нас превращать простые камни в алмазы? Или так заколдовать меч, чтобы им можно было убить дракона? Нет, твои разговоры о Великом Равновесии нам совершенно не интересны! И никакого проку в них нет!» Никакого проку! — И старик еще долго ворчал по поводу глупости молодых и того зла, что так распространилось по Земноморью в последнее время.
Знаниями своими Хайдрейк делился очень щедро, однако был весьма требовательным учителем. Впервые Медра начинал понимать магию не как набор неких талантов и загадочных действий, но как великое искусство и мастерство, которые можно познать, как познают любую профессию благодаря старательным занятиям и долгой практике. Но он чувствовал, что даже и после многолетней и успешной практики искусство это не утратит своей необычности и таинственности. На самом деле в своих умениях Хайдрейк не столь уж сильно превзошел своего ученика, однако же старик ясно сознавал и весьма разумно разъяснял Медре куда более важную вещь — идею о целостности магических знаний. Собственно, именно это и делало его настоящим магом.
Слушая его, Медра часто вспоминал о том, как они с Аниеб шли в кромешной темноте под дождем при свете всего лишь слабенького волшебного огонька, который, однако, способен был все же показать им, куда ступить в следующий раз, хотя и освещал путь всего лишь на шаг вперед, и как вдали, в вышине вдруг показалась красная в лучах зари вершина горы, и как они вместе смотрели на нее…
— Все заклинания на свете связаны между собой, и каждое из них зависит ото всех предыдущих, — говорил Хайдрейк. — Как если бы движение одного-единственного листка на одном-единственном дереве заставляло шевелиться и все остальные листья на всех остальных деревьях повсюду в Земноморье! Таков Истинный Путь. Именно этим путем должен следовать ты, пытаясь решить свою задачу, и именно за соблюдением правил этого пути ты должен следить во время своих поисков. Сейчас все в нашем мире идет неправильно, но и в этом проявляется целостность Истинного Пути, ибо каждая отдельная беда является частью общей большой беды. И только в устранении всей беды в целом могут заключаться истинное исцеление нашего мира и наша истинная свобода.
Медра прожил на Пендоре, учась у Хайдрейка, целых три года, а когда старый маг умер, правитель Пендора попросил Медру занять его место. Несмотря на то что Хайдрейк вечно ворчал да и открыто обвинял тех, кто отправляется охотиться на драконов, все на острове любили его и почитали, и то, что Медре предложено было стать его преемником, было для молодого человека весьма лестно. Возможно, соблазненный мыслью о том, что он уже приблизился к «острову Морреда» настолько, насколько это вообще возможно, Медра действительно принял предложение правителя Пендора и еще некоторое время прожил на этом острове. Он не раз плавал вместе с молодым правителем на его корабле далеко к Западному Пределу в поисках драконов, ибо втайне всегда мечтал увидеть живого дракона. Однако не ко времени рано начинавшиеся шторма и вообще сильно испортившаяся повсюду в Земноморье погода три раза служили причиной того, что их корабль возвращался к острову Ингат, и плыть дальше на запад не было никакой возможности, так высоки и опасны были волны, хотя Медра и успел многому научиться в искусстве управления погодой с тех пор, как покинул порт Хавнор.
А после Пендора Медра, как известно, вновь направился к югу и скорее всего достиг острова Энсмер. Потом он, согласно большей части версий, попал на остров Гит, входящий в число Девяноста Островов.
Жители Гита, как и теперь, были в основном китобоями. Однако Медре это занятие было совершенно не по вкусу. Здешние суда да и весь остров буквально провоняли китовым жиром. И как ни противно было Медре ступать на борт рабовладельческого судна, но это был единственный корабль, отправлявшийся с грузом китового жира в порт О, а Медре очень хотелось попасть в Закрытое море, ибо он не раз слышал всякие разговоры о расположенных к югу и востоку от острова О малоизвестных островах, не имеющих никаких торговых связей с островами Внутреннего моря. Возможно, там и находится то, что он ищет? И он поступил обыкновенным заклинателем ветров на отправлявшуюся к острову О галеру, где на веслах сидели четыре десятка рабов.
Погода наконец-то установилась вполне хорошая: дул попутный ветер, по ясному небу проплывали белые облачка, светило нежаркое еще солнце поздней весны. До вечера они прошли немалый отрезок пути, и Медра случайно услышал, как шкипер говорит рулевому: «Ночью все время правь на юг, чтобы пройти подальше от Рока».
Медра никогда не слышал об этом острове и спросил:
— А что там такое? Чем грозит нам этот остров?
— Там смерть и разорение, — грустно сказал шкипер, коротышка с маленькими умными глазками, чем-то похожими на глаза кита.
— Там идет война?
— Была и война. Давно только. Там… сущая чума, на острове этом! Там господствует черная магия. И все воды вокруг него прокляты.
— Черви! — вставил рулевой, брат шкипера, и пояснил: — Коли поймаешь рыбу неподалеку от Рока, так она непременно вся червивая окажется; и черви в ней прямо-таки кишат, точно в дохлой собаке.
— А люди там еще живут? — спросил Медра.
И шкипер сказал:
— Одни ведьмы.
А его брат прибавил:
— Пожирательницы червей.
В Архипелаг входило немало островов, ставших бесплодными и заброшенными в результате злобной борьбы волшебников друг с другом, их ненависти и бездумно наложенных заклятий. Эти места были поистине заражены злом, и было опасно не только высаживаться на берега таких островов, но и проплывать мимо них, так что Медра прекратил свои расспросы и больше не вспоминал об острове Рок, пока не наступила ночь.
Ночевал он на палубе, под звездным небом, и увидел удивительный и чрезвычайно живой сон: он видел, как в ясный день по синему небу мчатся облака, а у самого горизонта над морем виднеется залитая солнцем округлая вершина высокого зеленого холма. Медра проснулся, но сон тот оставался в памяти, и он понял, что когда-то, лет десять назад, видел тот же сон, и это было в темнице с кирпичными стенами на шахтах Самори, когда он ночами лежал без движения, скованный магическими чарами Геллука.
Медра сел и огляделся. Темное море было таким спокойным, что даже звезды были видны совершенно отчетливо то с одной, то с другой стороны слабо вздувавшихся волн. Весельные галеры редко отходили далеко от берега и по ночам тоже плавали редко, вставая на якорь в любой подходящей бухте или гавани; но на данном отрезке пути ни одной подходящей бухты не было, и, поскольку погода установилась на редкость благоприятная, они поставили мачту, укрепили большой квадратный парус, и корабль неторопливо поплыл дальше, а рабы, сидевшие на веслах, так и уснули на своих скамьях. Моряки, свободные от вахты, тоже спали; бодрствовали только рулевой и впередсмотрящий, хотя и последний тоже подремывал. Вода шептала что-то, касаясь бортов галеры, слабо поскрипывал такелаж, позвякивали цепи рабов…
«В такую тихую ночь никакой заклинатель ветров не нужен, да они, собственно, и не заплатили мне пока ничего», — уговаривал себя Медра. В голове у него вертелось название острова: Рок. Странно, почему он никогда не слышал об этом острове, никогда не замечал его на карте? Возможно, этот остров проклят и все избегают его, но разве из-за этого его не должно быть на картах?
«Я бы мог слетать туда, скажем, в обличье крачки и успел бы вернуться на корабль еще до рассвета, — лениво размышлял он. Ему все еще очень хотелось попасть в порт О. — В общем-то, — продолжал уговаривать он себя, — все разрушенные магами земли похожи одна на другую, так что нет никакой необходимости куда-то лететь, что-то обследовать, спешить обратно на корабль…» Медра устроился поудобнее на сложенной бухте каната и стал смотреть на звезды. На западе низко над горизонтом висели четыре яркие звезды созвездия Горн; из-за повисшей над морем дымки ему казалось, что звезды по очереди подмигивают ему.
Вдруг море слабо вздохнуло, и словно легкая дрожь пробежала по округлым куполам волн.
— Эй, шкипер, — крикнул Медра, вскочив на ноги, — просыпайся!
— Ну что такое? — Шкипер был явно недоволен, что его разбудили.
— К нам приближается какой-то волшебный ветер. Мало того, он намерен преследовать нас. Прикажи спустить парус.
Шкипер ошалело посмотрел на него. Пока что не чувствовалось ни малейшего ветерка, огромный парус висел, как тряпка. Однако звезды на западе померкли, точно поглощенные некоей молчаливой чернотой, что медленно всползала все выше и выше из-за западного края моря. Шкипер, заметив это, спросил неуверенно:
— Так ты считаешь, это волшебный ветер?
Те, кого на островах в те времена назвали «ловкачами», часто использовали погоду как свое оружие; они также способны были наслать какую-нибудь страшную болезнь на поля врага, и урожай погибал прямо на корню; они могли вызвать, скажем, внезапный шторм, чтобы в одну минуту потопить корабли противника, или страшную песчаную бурю, которая, обрушившись на землю далеко от тех мест, откуда была послана, вызывала смертельный ужас у земледельцев.
— Прикажи спустить парус! — повелительным тоном повторил Медра. Шкипер зевнул, выругался и принялся громко отдавать команды. Матросы, с трудом стряхивая с себя сон, стали медленно спускать бессильно повисший парус, а начальник гребцов, тоже получивший соответствующий приказ от шкипера и кое-что выяснив у Медры, принялся будить рабов, нанося направо и налево удары своей плеткой. Парус был уже наполовину спущен, весла наполовину вставлены в уключины, Медра успел произнести половину нужного заклинания, когда волшебный ветер нанес свой первый удар.
Этот удар сопровождался одним-единственным оглушительным раскатом грома, и из нависшей над ними абсолютной черноты потоками хлынул ливень. Корабль встал на дыбы, точно испугавшаяся лошадь, а потом так сильно и резко накренился, что мачта сразу надломилась у самого своего основания, хотя канаты все еще удерживали ее. Парус коснулся воды, тут же намок и своей тяжестью перевернул галеру на правый борт. Огромные весла выскочили из уключин, прикованные цепями рабы забились и закричали на своих скамьях, бочки с китовым жиром вылетели из своих креплений и с грохотом покатились по палубе; жир разлился — так судно еще некоторое время смогло продержаться на поверхности воды, причем палуба была расположена под прямым углом к ней, — а потом невесть откуда взявшаяся высоченная штормовая волна ударила в судно и мгновенно поглотила его. И сразу же наступила полная тишина. Лишь ревела, уже стихая, буря, да стучали по воде дождевые капли. Злой магический ветер улетал все дальше на восток, и на этом ветру с черной поверхности воды взлетела лишь одна белая морская птица, которая отчаянно захлопала крыльями и помчалась куда-то к северу.
На узкой песчаной полоске прямо под прибрежными гранитными утесами в первых лучах рассвета отчетливо были видны отпечатки лап севшей здесь морской птицы крачки. Следы эти уходили от воды, сменяясь человеческими; человек довольно долго шел вдоль моря по песку, порой почти прижимаясь к гранитным утесам, а потом следы его исчезли.
Медра знал об опасности слишком частых Превращений и длительного использования при этом одного и того же обличья, однако он был настолько потрясен стремительной гибелью судна, настолько утомлен далеким перелетом, а лететь ему пришлось до самого рассвета, что у него совершенно не было сил взбираться на эти неприветливые утесы, громоздившиеся над узкой полоской серого песка. Так что он снова произнес слова заклинания, и морская крачка, взмахнув своими сильными крыльями, взлетела прямо к вершинам этих неприступных утесов. А потом, охваченный красотой зари, которая точно прибавила ему сил, Медра полетел дальше над обширной равниной, еще затянутой сумеречной рассветной пеленой. И вскоре увидел далеко впереди округлую вершину высокого зеленого холма, освещенного первыми солнечными лучами.
И он устремился к этому холму, и приземлился на его вершине, и стоило ему коснуться земли, как он снова стал человеком.
Некоторое время он постоял там в полной растерянности, точно оглушенный. Ему казалось — он был практически в этом уверен! — что его истинное обличье вернулось к нему отнюдь не по его, Медры, воле, а только потому, что он коснулся этой земли, этого холма. Здесь правила великая магическая сила, куда более могущественная, чем его собственная.
Он огляделся — осторожно, но с огромным любопытством. По всему холму желтыми звездочками, точно искорки в зеленой траве, были рассыпаны мелкие цветы. Дети на Хавноре хорошо знали эти цветочки и называли их «искорками»; согласно древним легендам, считалось, что это искры от сожженного Повелителем Огня острова Илиен, стертого с лица земли после того, как Эррет-Акбе одержал над ним победу в бою. Бесчисленные героические песни и сказания вспомнились вдруг Медре, пока он стоял на вершине этого зеленого холма: перед его мысленным взором проходили многочисленные герои древности — Эррет-Акбе, Королева Орлов, Геру, Акамбар, изгнавший воинственных каргов далеко на восток, и Сепьиадх-миролюбец, и прекрасная Эльфарран с острова Солеа, и Морред, Белый Волшебник и Возлюбленный Король… Смелые, мужественные, мудрые, эти великие люди проходили перед ним, словно он призвал их магическим заклятием, хотя он не произнес ни слова. Он видел их совсем рядом, видел отчетливо. Они стояли среди высоких трав и золотистых цветов, похожих на искры костра и качавших своими головками на свежем утреннем ветру.
А потом все они вдруг исчезли, и Медра остался на холме один, потрясенный и недоумевающий. «Я только что видел всех великих королев и королей Земноморья, — думал он, — а теперь передо мной всего лишь трава… неужели это они стали той травой и теми цветами?..»
Он решил обойти вершину холма кругом и медленно двинулся на восток, где зеленый склон был ярко освещен теплым солнцем, край которого уже показался над горизонтом. Прикрыв глаза рукой, Медра увидел внизу крыши города, а дальше — удобную бухту, открывавшуюся к востоку, причалы у берега, а за входом в бухту — светлую линию горизонта над морем, словно делившую этот мир пополам. Он повернулся и посмотрел на запад: там были мирные поля, пастбища, дороги… На севере тянулась цепь невысоких зеленых гор. В низине, расположенной к югу от того места, где он стоял, он заметил прекрасную рощу высоких деревьев, от которой невозможно было отвести глаз. И Медра решил, что это, видимо, начало какого-то большого леса — такого, как лес Фалиерн на острове Хавнор. Он и сам не знал, что заставило его так подумать, поскольку с вершины холма ему было видно, что дивная роща невелика и ее окружают лишь вересковые пустоши да зеленые пастбища.
Он еще долго стоял там, прежде чем спуститься к подножию холма по густой траве и зарослям цветов-искорок. Внизу он вышел на тропу, с обеих сторон заботливо обсаженную деревьями. Тропа вела его меж крестьянских полей, которые выглядели вполне ухоженными, хотя и совершенно безлюдными. Он все искал какой-нибудь перекресток, чтобы свернуть на тропку или дорогу, ведущую на восток, в город, но ни одна из тех троп, что ему попадались, не вела на восток. И в полях не было ни души, хотя некоторые из них явно были только что вспаханы. Ни одна собака не залаяла на идущего по дороге незнакомого путника, и только старый осел, пасшийся на каменистом склоне, подошел к деревянной ограде и просунул над ней голову, явно желая познакомиться с Медрой поближе. Медра остановился и погладил осла по бурой костлявой морде. Будучи человеком городским, портовым, он мало знал о труде земледельцев и о нравах скота, однако ему показалось, что этот осел смотрит на него ласково. «Где я, ослик? — спросил он. — Ты не знаешь, как мне попасть в тот город, который я видел с холма?»
Осел еще сильнее надавил ему на руку, как бы приглашая еще почесать у него над глазами и за ушами, а потом благодарно дернул своим длинным ухом вправо. И Медра, расставшись с осликом, решил, что пойдет направо, хотя ему и казалось, что эта тропа может привести его только назад, снова на холм. Однако осел оказался прав, и довольно скоро показались дома и городские улицы, и одна из этих улиц наконец-то привела его в самый центр города, одной своей стороной смотревшего на залив.
Город был столь же странно тих и безлюден, как и ухоженные крестьянские поля. Медра не услышал ни одного голоса, не встретил ни одного человека. С виду это был самый обычный и очень милый городок, сияло чудесное весеннее утро, но Медру окружала такая звенящая тишина, словно он действительно попал на остров, опустошенный эпидемией какой-то страшной болезни или же кем-то намертво заколдованный. Между тем город вовсе не казался мертвым: от стены дома к старому сливовому дереву была протянута веревка, на которой сушилось белье, хлопая на ветру; из-за угла сада вышел кот, и не какой-нибудь бездомный, а чистенький, ухоженный, сытый, с белыми лапками и пышными усами — прямо-таки процветающий кот! И наконец, спустившись по узенькой вымощенной булыжником улочке, Медра услыхал голоса.
Он остановился, прислушался, но больше не услышал ни звука.
Он двинулся дальше и через некоторое время вышел на небольшую рыночную площадь. Там были люди, хотя и не очень много. И странно, они ничего не покупали и не продавали! И не было там ни прилавков, ни сараев, где хранился бы товар. И Медра догадался, что эти люди ждут его.
Еще с тех пор, как он в обличье крачки опустился на вершину зеленого холма и увидел оттуда этот город, а в траве яркие вспышки цветов, на сердце у него было удивительно легко. Он чего-то ждал, преисполненный великого изумления, но совсем не чувствовал страха. А потому стоял спокойно и смотрел на этих людей, которые собрались, чтобы встретить его.
Трое из них вышли вперед: старик, крупный, широкогрудый, с яркой седой головой, и две женщины. Волшебник всегда признает волшебника, и Медра понял, что эти женщины наделены магической силой.
Он поднял руку, сжатую в кулак, а потом, повернув ее ладонью вверх, раскрыл, словно что-то им предлагая.
— Ах! — сказала та из женщин, что была повыше, и засмеялась. Но на жест Медры таким же жестом не ответила.
— Скажи нам, кто ты? — спросил седовласый старик вежливо, но прямо, безо всяких преамбул. — Расскажи, как ты попал сюда.
— Я родился в Хавноре и получил профессию корабела, а потом еще выучился немного и стал колдуном. Я плыл на корабле, направлявшемся с острова Гит в порт О. И только я один уцелел во время кораблекрушения прошлой ночью, когда на нас налетела кем-то насланная волшебная буря. — Он умолк, вспомнив моментально затонувший корабль и рабов, прикованных цепями к скамьям, и страшную разверзшуюся бездну, которая во мгновение ока поглотила и судно, и всех, кто был у него на борту. Медра судорожно вздохнул, словно только что с трудом вынырнул из воды.
— Ну а сюда-то как ты попал?
— Я превратился в… птицу. В крачку. Это ведь остров Рок, да?
— Так ты, значит, изменил свое обличье?
Медра кивнул.
— Кому ты служишь? — спросила та из женщин, что была поменьше ростом и помоложе. Она вообще до сих пор молчала. У нее было умное суровое лицо и черные брови вразлет.
— Никому. Хозяина у меня нет.
— А зачем ты плыл в порт О?
— На острове Хавнор несколько лет назад я попал в рабство. Те, что освободили меня, рассказывали о некоем острове, где нет правителей, где помнят и чтят законы, установленные Серриадхом, где развиваются и совершенствуются различные мастерства и искусства. Я все время искал этот остров, все последние семь лет…
— Кто рассказал тебе о нем?
— Женщины Руки.
— Любой человек может сжать пальцы в кулак, а потом раскрыть его ладонью вверх, — заявила высокая женщина, совершенно беззлобно, впрочем. — Но не каждый может прилететь на Рок по воздуху! Или подойти к его брегам на парусном судне. Сюда вообще нелегко добраться. Так все-таки, что же привело тебя сюда?
Медра ответил не сразу.
— Случай, — сказал он наконец. — Просто удачный случай, который совпал с моим давним желанием. Но не колдовство. И не знания. Я и сейчас совсем не уверен, что пришел в то место, которое так долго искал. Хотя мне хотелось бы, чтобы вы оказались именно теми людьми, о которых мне говорили, но и в этом я совсем не уверен. Я думаю, что те деревья, которые я видел с вершины холма, хранят какую-то великую тайну, но не знаю, так ли это. Я с уверенностью могу сказать только одно: с тех пор, как я ступил на этот зеленый холм, я стал таким, как в детстве, когда впервые услышал «Подвиг Энлада». И это было так странно и так чудесно, что я совершенно голову потерял.
Седовласый старик посмотрел на обеих женщин. К ним подошли и другие люди, и все они стали тихо о чем-то переговариваться.
— Ну а если ты останешься здесь, то что хотел бы делать? — спросила его женщина с черными бровями вразлет.
— Я умею строить разные суда, ремонтировать их, управлять ими. А еще я хорошо умею находить разные вещи — как на земле, так и под землей. Я умею управлять погодой, если у вас есть такая потребность. И я готов учиться магическим искусствам у любого, кто согласится меня учить.
— А чему ты хочешь научиться? — тихо и ласково спросила его та женщина, что была повыше.
И Медра почувствовал, что от ответа на этот вопрос зависит вся его дальнейшая жизнь, посвященная служению добру или злу. А потому ответил он не сразу. Он уже начал было говорить, но передумал, еще немного помолчал и, наконец, промолвил неторопливо:
— Видишь ли, я не сумел спасти одного человека… одну женщину… ту единственную, что из последних сил спасла меня. И все мои тогдашние знания оказались непригодны. Недостаточны. Наверное, я слишком мало знаю о том, как быть свободным. Если же вам это знание дано, то, молю, научите этому и меня!
— Свобода! — с горечью воскликнула женщина, и ласковый голос ее на этот раз прозвучал, точно удар кнута. Потом она посмотрела на своих спутников и заставила себя слегка улыбнуться. Снова повернувшись к Медре, она сказала: — Все мы здесь пленники, заключенные в тюремные стены, а потому свобода — самая главная проблема для нас. Ты каким-то образом прошел сквозь стены нашей тюрьмы. Ты говоришь, что искал свободу… Но попал-то ты в тюрьму, и тебе следует знать, что покинуть Рок для тебя окажется, возможно, куда труднее, чем попасть сюда. Это настоящая тюрьма внутри еще большей тюрьмы, и некоторые ее стены мы, увы, построили сами. — Она оглянулась на остальных. — Что скажете? — спросила она их.
Много говорить они не стали: похоже, они умели советоваться друг с другом без слов. Наконец та женщина, что была пониже ростом, глянула на Медру своими огненными глазами из-под черных бровей и сказала:
— Хорошо. Оставайся. Ты этого хочешь?
— Да.
— Как нам тебя называть?
— Крачка, — сказал он; так его и стали звать на острове Рок.
На этом острове Медра нашел как значительно меньше, так и значительно больше того, что так долго искал, на что надеялся. Ему объяснили, что остров Рок — это сердце Земноморья. Первым островом, который Сегой поднял из вод морских в начале времен, был светлый остров Эа, что в северном море, вторым — остров Рок. Тот зеленый холм, что высился над островом, имел куда более глубокие корни, чем все острова Земноморья. Те деревья, которые Медра видел с вершины холма и которые странным образом впоследствии обнаруживал то в одной части острова, то в другой, были самыми древними деревьями в мире и служили источником и средоточием магических сил.
— Если Имманентную Рощу вырубить, исчезнет, рассыплется вся магическая премудрость. Корни этих деревьев — это корни Знания. Рисунок той тени, которую отбрасывают листья в Роще, — это написанные солнечным светом слова, которые произнес Сегой в момент Созидания.
Так говорила Эмбер, его чернобровая учительница с огненным взглядом.
Все те, кто занимался на острове Рок магическим искусством, были женщинами. Там не было мужчин, наделенных магической силой. На этом острове вообще было очень мало мужчин.
Тридцать лет назад пиратствующие правители острова Уотхорт послали целый флот, чтобы завоевать Рок и подчинить его себе. Впрочем, завоевать его им хотелось не столько из-за каких-то неведомых богатств — Рок никогда не считался особенно богатым островом, — а для того, чтобы навсегда сокрушить его волшебные силы, которые были поистине велики и считались несокрушимыми. К несчастью, среди волшебников Рока нашелся предатель, который помог «ловкачам» с Уотхорта ослабить охранявшие Рок заклятья. И как только с помощью магии в невидимых стенах, охранявших Рок, удалось пробить брешь, пираты захватили остров, уничтожая его население огнем и мечом. Их большие корабли заполнили гавань города Твила, полчища жестоких воинов жгли и грабили города и деревни, работорговцы захватывали в плен всех подряд: мужчин, мальчиков, молодых женщин. Малых детей и стариков они просто убивали. Пираты поджигали каждый попавшийся им на пути дом, каждое поле. Когда через несколько дней их корабли уплыли прочь, на острове не осталось ни одной уцелевшей деревни; все крестьянские дома были сожжены или же, полностью разоренные, лишились своих хозяев.
К счастью, город Твил, раскинувшийся на берегах залива, также обладал некими волшебными свойствами, благодаря близости Холма и Имманентной Рощи, поэтому, когда мародеры, поджигая дома, ворвались туда в поисках рабов и поживы, пожары тут же потухли сами собой, а узкие извилистые улочки Твила, превратившись в настоящий лабиринт, совершенно сбили бандитов с пути. Большую часть выживших жителей острова составляли после того страшного налета мудрые женщины, хранительницы магических искусств, и их дети, которым удалось скрыться в городе или в Имманентной Роще. Теперешнее поколение мужчин Рока было представлено, главным образом, теми самыми детьми, которые успели вырасти. В живых осталось также несколько стариков, спрятавшихся в Роще. Никакого правителя на Роке действительно не было; островом правили «Женщины Руки», и это именно их заклятия так долго и успешно защищали Рок, ибо после случившегося они еще более усилили их.
«Женщины Руки» почти не верили мужчинам. Ведь один из мужчин предал их когда-то жестоким пиратам! И пираты — тоже мужчины! — буквально уничтожили прекрасный остров, полностью разорив его, стольких угнав в рабство и стольких положив в неправедном бою. Здесь считалось, что именно мужские амбиции привели к тому, что магическая премудрость стала источником получения наживы. «Мы не имеем никаких дел с правителями-мужчинами с других островов», — твердо заявила Медре высокая Вейл.
Однако Эмбер прибавила: «Но причиной собственной гибели стали мы сами». И она рассказала Медре, как мужчины и женщины острова Рок объединились более ста лет назад в некое братство магов. Гордые своими достижениями и ощущавшие себя в безопасности благодаря своему объединенному волшебному могуществу, они стремились не только делиться знаниями друг с другом, но и создать тайный союз для борьбы с теми, кто развязывает войны и занимается работорговлей. В этом союзе зачинщиками и организаторами всегда были женщины, и это женщины, притворяясь торговками, продающими целебные мази, или прикрываясь тем, что плетут сети, отправлялись с Рока на другие острова Внутреннего моря и плели огромную тонкую сеть сопротивления. Даже и в наши дни в Земноморье еще остались отдельные ячеи и узелки той сети. А Медра впервые наткнулся на ее следы в родной деревне Аниеб и с тех пор постоянно шел по этому следу. Однако не он привел его на остров Рок. После того как пираты разграбили и сожгли большую часть полей и селений острова, его обитатели полностью изолировали себя от остального мира; они не имели ни с кем никаких торговых сношений, даже с соседними островами, замкнув пространство вокруг острова Рок могущественными защитными заклятиями, которые были созданы и постоянно обновлялись мудрыми женщинами Рока. «Мы не можем спасти их, — говорила Эмбер, — раз не смогли спасти самих себя!»
Вейл, при всей ее мягкости, нежном голосе и приятной улыбке, была настроена еще более непримиримо. Она, например, сама сказала Медре, что хотя она и согласилась с тем, чтобы его оставили на Роке, но предупредила всех, что за ним нужен глаз да глаз.
— Ты ведь однажды уже сумел пробраться сквозь все наши волшебные стены, — честно сказала она ему. — Возможно, то, что ты рассказал о себе, и чистая правда. А вдруг нет? Можешь ли ты привести мне такое доказательство, чтобы я все-таки поверила, что ты не лжешь?
Вейл, правда, согласилась с остальными в том, что Медре нужно предоставить небольшой домик на берегу залива и работу — назначить помощником городского кораблестроителя — это была, разумеется, тоже женщина, которая самостоятельно овладела этим ремеслом и очень радовалась, что у нее теперь такой умелый помощник. Вейл ни в чем не препятствовала Медре, не строила ему никаких козней и всегда ласково здоровалась с ним, но все же он помнил, как она сказала ему тогда: «Можешь ли ты привести мне такое доказательство, чтобы я все-таки поверила, что ты не лжешь?» — и ему нечего было сказать ей в ответ на эти слова.
Эмбер обычно хмурилась, когда он ее приветствовал. Она задавала ему отрывистые неожиданные вопросы, внимательно выслушивала его ответы, но сама очень часто на его вопросы отвечать отказывалась.
Как-то раз, сильно смущаясь, он попросил ее рассказать, что, в сущности, представляет собой Имманентная Роща, потому что, когда он спрашивал об этом других, они говорили: «Эмбер лучше тебе расскажет». Однако Эмбер отвечать на его вопрос отказалась — не то чтобы грубо, но решительно, — и заявила: «О Роще ты можешь узнать только в Роще и от самой Рощи!» А через несколько дней после этого разговора вдруг пришла на берег залива, где Медра на песке чинил рыбачью лодку, и старательно помогала ему, чем могла, а потом стала расспрашивать его о том, как строят суда, и он рассказал и показал ей все, что сумел. Это был удивительно мирный денек, однако впоследствии она не раз вела себя с ним недоверчиво и резко. Он даже немного ее побаивался: она была совершенно непредсказуема. Он, например, был очень удивлен, когда она вдруг сказала ему: «После Долгого танца я собираюсь в Рощу. Если хочешь, можем пойти туда вместе».
Казалось, с Холма видна вся Имманентная Роща целиком, и все же если в нее зайти, то далеко не всегда сумеешь выйти снова в те же поля. Можно без конца идти под деревьями-великанами, и Роще не будет конца. Деревья в самой Роще все были одинаковыми, такие деревья не росли больше нигде, однако же никакого особого названия в ардическом языке эти деревья не имели, а назывались просто «деревья». А на древнем Языке Созидания, по словам Эмбер, у каждого из этих деревьев, конечно же, было свое собственное Имя. Бредя по Роще, можно было и через некоторое время обнаружить, что идешь ты уже среди самых обыкновенных деревьев — дубов, берез, ясеней, каштанов, орехов, а также ив, которые весной, когда начинают зеленеть, особенно хороши, зато зимой стоят голые, узловатые, неприглядные. Были там и темные ели, и кедры, и еще какие-то вечнозеленые деревья, названий которых Медра не знал, с мягкой красноватой корой и густой листвой. И еще
замечательным было то, что тропа, по которой идешь среди деревьев, никогда не бывает точно такой же, какой была как вчера; эта тропа могла вывести порой в самые неожиданные места. Жители Твила предупреждали Медру, что в Роще лучше не заходить слишком далеко и возвращаться нужно только тем же путем, каким пришел.
— Как же далеко простирается этот лес? — спросил Медра.
И Эмбер сказала:
— Так далеко, как способны простираться твои мысли.
А еще она сказала, что листья здесь умеют говорить, а тени под деревьями можно прочесть, как письмена.
— Я как раз учусь их читать, — сказала она ему очень серьезно.
Живя на острове Оррими, Медра научился разбирать старинную руническую письменность островов Архипелага. Впоследствии старый Хайдрейк с острова Пендор научил его некоторым Истинным Рунам. Это, впрочем, были достаточно распространенные знания. А то, что изучала Эмбер в полном одиночестве в тиши Имманентной Рощи, не было известно никому, кроме очень и очень немногих. Это были особые, тайные знания. Эмбер, собственно, все лето прожила в Роще, имея при себе только сундучок, в который прятала запас съестного от лесных крыс и мышей. Жила она в шалаше, еду готовила на костре у ручья, выбегавшего из чащи и впадавшего в маленькую речушку, стремившуюся к морю.
Медра устроился неподалеку. Он не знал, что Эмбер от него нужно, но надеялся, что она все же собирается его чему-то учить, а может быть, и ответит наконец на его бесконечные вопросы о Роще. Но она с ним практически не говорила, а он был слишком застенчив и осторожен, чтобы решиться нарушить ее странное уединение, которое, пожалуй, даже немного пугало его, как и сама эта древняя Роща. Однако на второй день их пребывания в лесу Эмбер вдруг сказала, чтобы Медра шел за нею, и привела его в самую чащу. Они несколько часов шли в абсолютном молчании. В летнюю полдневную жару деревья вокруг тоже стояли молча. Не пели птицы. Замерли говорящие листья. Тропы, ведущие куда-то между деревьями, были бесконечно разнообразны и одновременно удивительно похожи. Медра и не заметил, когда они повернули назад, но точно знал, что они прошли куда дальше берегов острова Рок.
Из Рощи они вышли уже теплым вечером с той стороны, где раскинулись знакомые ему пахотные поля и пастбища. Пока они шли к той речушке, где у каждого было свое место ночлега, Медра заметил в небе над западными холмами четыре звезды — созвездие Горн.
Эмбер не сказала ему на прощанье ни слова, кроме привычного «спокойной ночи».
На следующий день она заявила:
— Я собираюсь сидеть под деревьями.
Он не совсем понял, что она, собственно, имеет в виду и чего ожидает от него, но все же последовал за нею, держась, правда, на некотором расстоянии, и в итоге они пришли в самую глубинную часть Рощи, где все деревья были одинаковыми и безымянными, хотя каждое из них, как говорила Эмбер, имело свое собственное Имя. Девушка устроилась на мягкой листвяной подстилке между могучими корнями огромного старого дерева. Медра подыскал себе местечко неподалеку и тоже уселся. Эмбер сидела совершенно неподвижно, наблюдая и слушая, и он тоже, затаив дыхание, стал наблюдать и слушать. Так они ходили «сидеть под деревьями» в течение нескольких дней. Затем однажды утром — просто из духа противоречия — Медра остался у ручья, а Эмбер снова ушла в Рощу. На него она даже не оглянулась.
В то утро из Твила к ним пришла Вейл с целой корзиной съестных припасов — она принесла хлеб, сыр, творог, первые летние фрукты.
— Ну, и что же ты здесь узнал? — спросила она Медру как всегда ласково-холодноватым тоном, и он ответил:
— Что я полный дурак!
— Это почему же, Крачка?
— Только дурак может целую вечность сидеть под этими мудрыми деревьями, не становясь от этого умнее!
Вейл слегка улыбнулась и заметила:
— Моей сестре до сих пор не доводилось учить мужчину. — Она искоса глянула на него и уставилась куда-то вдаль, в зеленые поля. — По-моему, Эмбер никогда прежде даже и не смотрела на мужчин, — прибавила Вейл и снова чуть усмехнулась.
Медра промолчал, чувствуя, как кровь приливает к щекам, а потом, не глядя на Вейл, пробормотал:
— А я думал… — И умолк.
В нескольких словах Вейл сразу объяснила ему очень многое — и странную нетерпеливость Эмбер, и ее «сердитый» нрав, и ее огненные взгляды, и ее странную молчаливость.
Медра всегда старался воспринимать Эмбер, как особу почти священную, неприкосновенную, хотя ему порой очень хотелось коснуться ее нежной смуглой кожи и черных блестящих волос. Когда же она поднимала на него глаза, в которых всегда горел какой-то непонятный вызов, ему казалось, что она на него за что-то сердится. Он очень боялся чем-нибудь обидеть ее, оскорбить. Оказывается, она тоже боялась! Но чего? Его желания? Или… своего? Но ведь она отнюдь не была неопытной девочкой, ее все называли «мудрой женщиной», она была магом, она ходила по Имманентной Роще и читала то, что написано на земле тенями волшебных листьев!
Все эти мысли разом пронеслись в его голове, точно бурный поток, прорвавшийся сквозь дамбу. Вейл по-прежнему молча стояла с ним рядом.
— Я думал, что маги всю жизнь проводят в одиночестве, не имея семьи, — сказал он наконец. — Хайдрейк говорил мне, что заниматься любовью — значит губить свою магическую силу.
— Да, так считают некоторые… мудрецы, — спокойно подтвердила Вейл и снова улыбнулась, а потом сразу попрощалась с ним и ушла.
А он весь день пребывал в душевном смятении, сердясь на себя самого. Заметив, что Эмбер вышла наконец из Рощи и направилась к своему шалашу на берегу ручья, он решительно встал и двинулся к ней, в качестве извинительного предлога прихватив с собой корзину, которую принесла Вейл.
— Можно мне поговорить с тобой? — спросил он девушку.
Она лишь коротко кивнула и нахмурила свои черные брови.
Но Медра не знал, с чего начать, и она, чтобы нарушить неловкое молчание, присела на корточки возле корзины и стала разбирать принесенные продукты.
— Ой, персики! — воскликнула она и вдруг улыбнулась.
— Мой учитель, Мастер Хайдрейк, говорил, что волшебники, которые занимаются любовью с женщинами, попусту растрачивают свои волшебные силы. Это правда? — выпалил вдруг Медра.
Эмбер ничего не ответила, выкладывая из корзины продукты и аккуратно деля их на две равные части.
— Как ты считаешь, это правда? — снова задал он свой вопрос.
Она пожала плечами и сказала:
— Нет.
Он прикусил язык. Она вздохнула, подняла голову, посмотрела на него и спокойно повторила:
— Нет, это неправда. Я, во всяком случае, так не считаю. Мне кажется, что у любого истинного могущества, как и у всех древних сил, один и тот же корень.
Он по-прежнему стоял, как вкопанный, и она снова заговорила:
— Посмотри, эти персики уже совсем спелые! Даже чересчур. Так что нам придется сразу их съесть.
— Если я скажу тебе свое имя, — заговорил он наконец, — свое Истинное имя…
— Я назову тебе свое, — просто ответила она. — Если… если именно с этого нам следует начать.
Но начали они все же с персиков.
Оба были достаточно застенчивы по характеру. Когда Медра взял ее за руку, его собственная рука так дрожала, что Эмбер отвернулась и нахмурилась, чтобы скрыть смущение. Собственно, для него она была уже не Эмбер, а Элеаль, ибо таково было ее Истинное имя. Затем она сама легонько коснулась его руки. Но когда он наконец решился и погладил ее блестящие черные волосы, водопадом падавшие на спину, ему показалось, что она с трудом терпит его прикосновение, и он убрал руку. И вдруг она обернулась и страстно, торопливо, неловко обняла его. И далеко не в первую ночь, которую они провели вместе, испытали они истинное наслаждение или хотя бы почувствовали себя достаточно свободно. Однако они старательно учились друг у друга и наконец, оставив позади стыд и страх, достигли вершин настоящей любви и страсти. И тогда долгие дни и короткие звездные летние ночи в тиши этих волшебных лесов стали для них самыми счастливыми в жизни..
Когда Вейл в следующий раз поднялась к ним из города, чтобы угостить их последними поздними персиками, и достала эти фрукты из корзины, они дружно рассмеялись: персики стали для них настоящим символом счастья. Они попытались уговорить Вейл остаться и поужинать с ними вместе, но она ни за что не хотела.
— Живите здесь, пока есть такая возможность, — только и сказала она на прощанье.
В тот год лето закончилось слишком рано, начались дожди. А среди осени снег выпал даже на таком южном острове, как Рок. На море один шторм следовал за другим, словно ветры в гневе поднялись против неправедной власти и пагубных деяний «ловкачей» и пиратов. В деревнях женщины собирались у кого-нибудь на кухне, у очага, чтобы не было так страшно в одиночестве. Горожане Твила тоже часто собирались у огня и слушали, как воет ветер, как стучит дождь, как бесшумно падает густой снег. А за пределами гавани море так ревело и бушевало среди рифов и прибрежных утесов, что ни один моряк не решился бы проплыть по таким волнам.
Жители острова делились друг с другом всем, что имели. В этом отношении это был действительно «остров Морреда». Никто здесь не голодал, у всех была крыша над головою, хотя вряд ли у кого-то из этих людей имущества и еды было больше самого необходимого минимума. Скрывшись от остального мира не только с помощью естественных помощников — моря и зимних бурь, — но и с помощью особых заклятий, которые настолько изменяли облик острова, что заставляли суда плыть прочь от него, эти люди дружно трудились, дружно беседовали по вечерам и пели старинные песни: «Зимнюю песнь», и «Подвиг молодого короля», и многие другие. И были у них еще книги: «Хроники Энлада», «История мудрых героев» — множество книг, и эти драгоценные книги старики и старухи обязательно читали вслух в том просторном зале, что был расположен близ верфи и где имелся большой очаг. Слушая их чтение, рыбачки плели и чинили свои сети, и даже с дальних ферм туда приходили люди послушать, как старики читают эти мудрые прекрасные истории, и все слушали молча, внимательно. «Души наши терзает голод», — сказала как-то Эмбер.
Теперь она по большей части жила вместе с Медрой в маленьком домике неподалеку от пристани, хотя довольно часто гостила и у своей сестры Вейл. Эмбер и Вейл были еще совсем маленькими и жили в деревне недалеко от Твила, когда с острова Уотхорт на Рок приплыли пираты. Мать спрятала девочек в подвале их деревенского дома и постаралась использовать все свои магические знания, чтобы защитить мужа и братьев, ибо мужчины прятаться, конечно же, не пожелали и решили сражаться с захватчиками. Но силы были слишком неравными, и их попросту зарезали вместе со скотиной, а дом и амбары сожгли. Девочки всю ночь просидели в подвале, а потом и еще несколько ночей, пока не пришли соседи, чтобы похоронить убитых, ибо трупы уже начинали разлагаться. Люди случайно обнаружили в подвале умиравших от голода и ужаса малышек, которые сидели молча и, вооружившись мотыгой и обломком плуга, готовы были защищать не только себя, но и своих погибших родственников.
Медра уже частично знал эту страшную историю от Эмбер. Но как-то вечером Вейл, которая была на три года старше Эмбер и все это помнила более ясно, подробно рассказала ему о своем детстве и о том, что случилось с ее семьей. Эмбер молча сидела рядом и внимательно слушала.
И тогда Медра рассказал сестрам о шахтах Самори, об отвратительном волшебнике Геллуке и о рабыне Аниеб.
Когда он закончил свой рассказ, Вейл довольно долго молчала, а потом сказала:
— Так вот что ты имел в виду, когда сказал, впервые оказавшись у нас на острове: «Я не смог спасти ту, что спасла меня».
— А ты еще требовала у меня доказательств того, что я не лгу.
— Вот я их и получила, эти доказательства, — сказала Вейл.
Медра взял ее руку и, низко склонившись, коснулся этой руки лбом. Рассказывая о гибели Аниеб, он с трудом сдерживал слезы, но теперь больше не в силах был сдерживаться, и слезы все же потекли у него по щекам.
— Она подарила мне свободу, — сказал он. — И я до сих пор чувствую, что все, что я делаю, я делаю благодаря ей и для нее. Нет, не для нее. Мы ничего не можем сделать для мертвых. Но для…
— Для нас, — сказала Эмбер, — для нас, живых, которые продолжают жить, несмотря ни на что, скрываясь, но никого не убивая. Мертвые мертвы. А великие и могущественные идут своим путем, ничего не замечая, и ничто их не остановит. Так что нам, обыкновенным людям, остается надеяться только на самих себя.
— Но неужели мы должны вечно скрываться?
— Вот, это говорит мужчина! — заметила Вейл со своей ласковой и будто раненой улыбкой.
— Да, — сказала Эмбер, — мы должны скрываться и будем скрываться вечно, если в том будет необходимость. Ибо ничего другого нам не осталось, только быть убитыми или убивать самим. Ты ведь и сам говоришь, что за пределами нашего острова это так, и я тебе верю.
— Но ведь невозможно скрыть истинное могущество, — сказал Медра. — Во всяком случае — невозможно скрывать его долго. Оно ведь умирает, если его скрывать, если ни с кем своим могуществом не делиться.
— Волшебство на Роке не умирает НИКОГДА! — сказала Вейл. — На Роке все заклятия обретают особую силу. Так говорил сам Атх. Ты ведь уже немало времени провел в Роще, ходил под ее деревьями… Ты должен был почувствовать ее могущество. А нашей задачей должно стать поддержание этого могущества. Да, мы должны его скрывать, но должны и хранить и умножать его — подобно тому, как молодой дракон хранит и умножает силу своего пламени. И еще — мы непременно должны делиться друг с другом этим могуществом и своими знаниями о нем. Но только здесь, на Роке, где эти знания в безопасности и где грабители и убийцы станут искать его в последнюю очередь, поскольку уверены, что здесь живут только «простые» люди. И в один прекрасный день наше могущество — этот великий дракон — войдет в полную силу, даже если это займет целую тысячу лет…
— Но за пределами острова Рок, — заметил Медра, — тоже есть простые люди, которых превращают в рабов, которые ведут скотское существование, которые умирают от голода и болезней. Неужели они тоже должны ждать тысячу лет, не имея никакой надежды?
Он смотрел на сестер, переводя взгляд с одной на другую: одна была внешне удивительно мягка, однако душа ее словно застыла; другая, несмотря на внешнюю суровость, обладала нежной душой, вспыхивавшей легко, точно сухое топливо в очаге.
— На острове Хавнор, — сказал Медра, — далеко от Рока, в одной деревне на горе Онн, среди тех простых людей, которые почти ничего не знают о внешнем мире, также есть «Женщины Руки». И созданный некогда союз таких людей не распался и не был уничтожен — за столько лет! Как же крепко была сплетена эта сеть!
— Скорее, умело, — обронила Эмбер.
— И ведь «Союз Руки» охватывает многих и на других островах! — Медра снова некоторое время молча смотрел на сестер. — Меня не слишком хорошо учили в Хавноре, тайком учили, — сказал он. — Однако все мои тамошние учителя твердили мне, что я никогда не должен использовать волшебство в дурных целях, а сами жили в постоянном страхе, не имея сил сопротивляться правителям и их приспешникам. Они отдали мне все, что могли, но это, к сожалению, было очень и очень немного. И лишь благодаря счастливой случайности я не оказался сейчас на неверном пути. И еще потому, что Аниеб дала мне силу и надежду. Если бы не она, я сейчас был бы слугой Геллука. Однако и сама Аниеб не имела необходимых знаний, хотя и обладала врожденным волшебным даром. Из-за своего незнания она и попала в рабство. Если великие маги — даже лучшие из них! — станут плохо учить своих учеников, если могущество этих магов будут использовать в своих корыстных целях правители-пираты, то разве сможет возрасти наше могущество здесь, на Роке? Чем вы станете кормить своего молодого дракона?
— Рок — это средоточие магических сил, — сказала Вейл. — Центр нашего мира. Мы должны держаться центра. И ждать.
— Нет, мы еще и непременно должны отдавать то, что имеем, — возразил Медра. — Если все в Земноморье, кроме нас, будут рабами, то какой смысл в нашей свободе?
— Истинное искусство всегда побеждает фальшь. Истинный Путь извратить невозможно, — хмурясь, промолвила Эмбер. Кочергой она подтолкнула в огонь многочисленные записки с именами тех, кто был назван в ее честь, и записки ярко вспыхнули. — Это я знаю твердо. Но жизнь наша коротка, а Путь очень долог. Если бы Рок был таким, каким был когда-то… Если бы здесь собралось побольше тех, кто владеет Истинными искусствами, кто мог бы изучать и сохранять их и дальше, обучая им и других…
— Если бы Рок стал таким, как когда-то, когда он был открыт всему миру и всему миру известен своим могуществом, то те, кто сейчас нас боится, снова явились бы, чтобы его уничтожить! — упрямо сказала Вейл.
— Значит, главное — в сохранении тайны? — спросил Медра. — Неужели это действительно самое главное?
— Нет, главная наша проблема в отсутствии мужчин, — трезво пояснила Вейл. — Ты уж прости меня, дорогой братец, но мужчины всегда больше ценили других мужчин, чем женщин и детей. Вот, например, если бы волшебники с других островов узнали, что у нас здесь появилось пять или шесть десятков ведьм или даже настоящих чаровниц, их бы это не слишком встревожило. Но если бы они узнали, что на Роке появилось сразу пять могущественных магов, то нас всех, конечно же, снова постарались бы уничтожить.
— Так что, хотя среди нас всегда были и мужчины, нас всегда называли именно «ЖЕНЩИНАМИ Руки», — сказала Эмбер.
— Я знаю, — сказал Медра. — И Аниеб была одной из вас. Но и она, и вы, и все мы жили и живем в одной и той же тюрьме.
— Что же мы можем сделать? — спросила Вейл.
— Постараться познать собственную силу! — сказал Медра.
— Школа?.. — задумчиво проговорила Эмбер. — Куда могли бы приезжать волшебники и учиться друг у друга, изучать Путь… Имманентная Роща, возможно, защитила бы нас.
— Все эти воинственные правители-пираты презирают ученых и учителей, — сказал Медра.
— Я думаю, они также боятся их, — заметила Вейл.
Вот какие разговоры вели они в ту долгую зиму, и постепенно в этих разговорах стали принимать участие и другие, но далеко не сразу от абстрактных рассуждений они перешли к конкретным намерениям, от страстной мечты — к определенному плану. Вейл всегда была особенно осторожна, всегда предупреждала о возможных опасностях. А вот седовласый Дьюн так размечтался о возможности создания Школы, что Эмбер сказала Медре, что старик давно готов учить колдовству любого ребенка в Твиле. Как только Эмбер уверовала, что свобода Рока зависит от того, будут ли свободны все остальные острова, она все свои помыслы направила на усиление некогда очень сильного «Союза Руки». Однако разум ее, сформировавшийся практически в полном одиночестве среди волшебных деревьев Рощи, всегда стремился к определенной форме и ясности задач, так что она спросила:
— Как же мы сможем учить нашему искусству других, если сами не знаем толком, что оно из себя представляет?
И теперь их разговоры уже превратились в настоящие дискуссии о волшебных искусствах и умениях, и в них участвовали все мудрые женщины острова. Что такое истинное искусство магии? В какой момент оно стало превращаться в подделку? Как было сохранено или утрачено равновесие в мире? Какие умения необходимы более других? Какие наиболее полезны? Какие наиболее опасны? Почему у некоторых людей один магический дар, а не другой? Можно ли научиться некоему искусству, если у тебя нет врожденной к нему предрасположенности? Во время дискуссий по всем этим вопросам они придумывали и названия для различных магических искусств и умений, и слова эти впоследствии всегда употреблялись на Роке и на других островах, например, слово для умения отыскивать потерянные вещи или управлять погодой, слово для великого искусства Превращений и для целительства, для умения вызвать заклятием любую душу, для умения выбрать нужный Путь, для умения узнавать Истинные имена людей и вещей, для искусства создавать иллюзии, для умения исполнять древние священные песни… Таковы искусства Мастеров Рока и в наши дни, хотя место Мастера Искателя в Школе Рока теперь свободно, и в Девятке его занял мастер Регент, ибо такое умение, как Искательство, было сочтено просто одним из полезных умений, а не одним из наиважнейших искусств, которыми полагается владеть настоящему магу.
Так, во время этих дискуссий и было положено начало Школе Волшебников на острове Рок.
Некоторые говорят, что Школа эта начала действовать совсем иначе. Они утверждают, что островом всегда правила некая женщина, которую все называли Темной Женщиной и которая была в союзе с Древними Силами Земли. Говорили, что жила эта женщина в пещере под Холмом и никогда не выходила на свет, а плела там, в темноте, могущественные заклятья, опутывавшие и сам остров, и море вокруг него, и с помощью этих заклятий она якобы подчиняла людей, и в первую очередь мужчин, своей злой воле. Так продолжалось, пока на Рок не прибыл первый Верховный Маг, не распечатал вход в ту пещеру и не одержал победу над Темной Женщиной. И сам не занял ее место.
В этой истории нет ни слова правды, если не считать того, что действительно один из первых Мастеров Рока открыл некую великую пещеру и вошел в нее. Но, хотя корни острова Рок — это корни всех островов Земноморья, пещера эта, увы, находилась не на острове Рок.
Правда и то, что во времена Медры и Элеаль жители Рока, мужчины и женщины, совсем не боялись Древних Сил Земли, но почитали их и искали у них помощи и умения видеть будущее. Со временем, впрочем, это отношение переменилось.
В тот год весна опять пришла поздно и была холодной и богатой штормами. Медра увлеченно строил корабль. В тому времени, как зацвели персики, он успел построить изящное, прочное судно, способное плыть в далекие моря. Он строил его по всем правилам науки корабелов Хавнора и назвал его «Надежда». И вскоре после этого, подняв паруса, вышел на нем из залива Твил, не взяв с собой ни одного помощника.
— Жди меня к концу лета, — сказал он Эмбер.
— Я буду в Роще, — отвечала она. — А сердце мое будет с тобой, моя темная выдра, моя белая крачка, любовь моя, мой Медра!
— А мое — с тобой, пылающие угли моего костра! Милая моя, мое цветущее деревце, любовь моя, моя Элеаль!
* * *
Во время своего первого путешествия Медра по прозвищу Крачка отправился через Внутреннее море на север, к острову Оррими, где уже побывал когда-то и знал там несколько человек из «Союза Руки», которым вполне доверял. Одного из них звали Вороном. Это был человек зажиточный, большой любитель уединения и всяких мудрых книг и историй, но, к сожалению, лишенный какого бы то ни было магического дара. Медра помнил, как этот Ворон тыкал его носом в книгу, пока он не научился читать.
— Неграмотные волшебники — вот проклятие Земноморья! — кричал Ворон. — Невежественным людям следует запретить пользоваться той магической силой, что дарована им от природы! — Ворон вообще был человек довольно странный: упрямый, своенравный, самонадеянный; но если требовалось защищать предмет его страсти — книги, письменное слово, — он готов был проявить поистине чудеса храбрости. К могущественному правителю Хавнора Лозену он относился с презрением, а за несколько лет до описываемых событий ездил тайком, старательно изменив внешность, в порт Хавнор и привез оттуда четыре замечательные книги из старинной королевской библиотеки. Ему удалось также раздобыть — чем он страшно гордился — знаменитый магический трактат о свойствах ртути, некогда созданный на острове Уэй. — И этот трактат я тоже увез у Лозена из-под носа! — весело сообщил он Крачке. — Ты заходи, посмотришь, что за книга! Замечательная! Она принадлежала одному знаменитому волшебнику.
— Ну да, Тинаралу, — кивнул головой Крачка. — Я его знал.
— Значит, ерунда? — разочарованно спросил Ворон.
— Не знаю. Думаю, что нет. Но я охочусь за более крупной добычей. — Ворон насторожился и по-птичьи склонил голову набок. — Мне нужна «Книга Имен»!
— Но ведь она была утрачена, еще когда великий Атх отправился на запад, — сказал Ворон.
— Один старый маг по имени Хайдрейк говорил мне, что когда Атх какое-то время жил на острове Пендор, то он рассказывал одному тамошнему волшебнику, что оставил «Книгу Имен» на сохранение у некоей женщины с Девяноста островов.
— «Книгу Имен»? У женщины? На сохранение? Да еще с Девяноста островов! Да он что, спятил?
Ворон еще долго возмущенно выкрикивал что-то насчет женщин и древних книг, однако мысль о том, что «Книга Имен», возможно, все же не утрачена, пробудила в нем полнейшую готовность немедленно, или как того пожелает Крачка, плыть на ее поиски к Девяноста островам.
Так что они снарядили «Надежду» и отправились на юг, сперва причалив к весьма негостеприимным берегам острова Гит, а потом под видом мелких торговцев стали перебираться с одного острова на другой по лабиринту бесчисленных проливов и каналов. Ворон заботливо набил трюмы куда лучшим товаром, чем привыкли видеть у посещавших их торговцев жители Девяноста островов, а Крачка продавал эти вещи по весьма сходной цене, а порой и просто менял, поскольку у тамошних бедняков деньги водились нечасто. Слава об удивительных торговцах, меняющих прекрасные товары на старые книги далеко обгоняла путешественников. Всем уже было известно также, что книги им нужны только настоящие старинные, а не какая-нибудь современная подделка. Впрочем, на Девяноста островах все книги были старые и все настоящие — во всяком случае, среди тех, что там еще сохранились. Других книг там просто не было.
Ворон был счастлив, когда заполучил чуть попорченный водой «Бестиарий» времен Акамбара, отдав за него пять серебряных пуговиц, кинжал с украшенной перламутром ручкой и штуку шелка из Лорбанери. Теперь он все чаще сидел где-нибудь в укромном уголке, нахохлившись, как настоящий ворон, и вперив взгляд в древние изображения харрекки, отаков и полярных медведей. А Крачка не пропускал ни одного из самых маленьких островков и непременно высаживался на берег, демонстрируя свои товары хозяйкам на кухнях и старикам в сонных харчевнях. Иногда он как бы невзначай сжимал пальцы в кулак, а потом заветным жестом раскрывал кулак, повернув руку ладонью вверх, но никто ни разу не ответил ему тем же.
— Книги? — спросил его кровельщик на Северном Судиди. — Вот такие, что ли? — И он показал Крачке длинные полоски тонкого пергамента, большая часть которых была уже вплетена в тростниковую крышу его дома. — А они разве и еще на что-нибудь годятся?
Ворон, вглядываясь в слова, еще видимые кое-где на полосках пергамента, которые уже были вплетены в кровлю, прямо-таки весь затрясся от злости, и Крачка поспешил поскорее увести своего друга на судно.
— По-моему, это был всего лишь справочник ветеринара, — пробормотал Ворон, немного успокоившись, когда они уже отплыли от злополучного острова. — Я успел разобрать слова «животное, страдающее шпатом» и еще что-то о вымени ярок. Но все равно — какое невежество! Какое дикое невежество! Крышу он, видите ли, кроет пергаментом из старинных книг!
— А между тем это были очень полезные знания для скотоводов и вообще сельских жителей, — подхватил Крачка. — Как можно преодолеть невежество, если люди сами губят собственные знания, если они их не желают ни воспринимать, ни передавать друг другу? Вот если бы все старинные книги можно было собрать где-нибудь в одном месте…
— Как это было в Королевской библиотеке! — мечтательно подхватил Ворон и даже глаза закрыл, предавшись сладостным воспоминаниям о былой славе Земноморья.
— Или в твоей, — заметил Крачка, давно уже научившийся льстить этому библиоману.
— Ну, что там моя библиотека! — презрительно воскликнул Ворон, словно это не он потратил всю жизнь на любовное собирание книг. — У меня сущая ерунда, разрозненные фрагменты… Остатки!
— Начала, — возразил Крачка.
Ворон в ответ только вздохнул.
— По-моему, нам пора отправляться дальше на юг, — сказал Крачка, стоя у руля и ловко огибая очередной островок. — К острову Поди.
— А торгуешь ты здорово, прямо талант! — восхищенно заметил Ворон. — И всегда ведь знаешь, где что искать! Вот ведь привел нас прямиком к этому «Бестиарию», который у них в амбаре валялся… Но, пожалуй, ты прав: здесь больше искать нечего. Во всяком случае, вряд ли мы найдем еще что-нибудь стоящее. Такой великий человек, как Атх, никогда не оставил бы без внимания «Книгу Имен» — особенно среди этих дикарей, которые и ее, самую мудрую книгу всех времен, вполне могли бы на полоски разрезать и крышу покрыть! Можно, конечно, и на Поди сплавать, если хочешь. А потом давай на Оррими вернемся, ладно? С меня, пожалуй, довольно.
— Да и пуговицы у нас все вышли, — кивнул Крачка. Ему отчего-то было весело: название Поди внушало странную уверенность, что направление выбрано верно. — Может, правда, по пути удастся еще пуговицами разжиться. Ты же сам говоришь, что у меня талант к торговле.
Оба они на Поди никогда не бывали. Это был сонный южный остров, главным городом которого был старинный порт Телио, почти все дома в котором были построены из розового песчаника. Вокруг Телио раскинулись поля и сады, которые, несомненно, когда-то давали отличные урожаи. Однако правители Уотхорта, во власти которых уже лет сто находился этот остров, облагали его население такими налогами, стольких людей забрали в рабство и так чудовищно эксплуатировали некогда весьма плодородные земли, что поля и сады плодоносить перестали, а жители обнищали до предела. Залитые солнцем улицы Телио были грязны и печальны. Люди жили на этом некогда таком благополучном острове, точно в диком краю: в палатках и шалашах, сделанных из каких-то обломков, а то и прямо под открытым небом.
— Нет, тут добра не жди, — проворчал Ворон, с отвращением перешагивая через кучку экскрементов. — У этих тварей никаких книг нет и быть не может!
— Погоди, погоди, — успокаивал его Крачка. — Дай мне хотя бы один день.
— Это же, наконец, просто опасно! — возражал Ворон. — И совершенно бессмысленно. — Но больше Крачку не отговаривал. Некогда такой скромный и наивный юноша, которого он учил разбирать ардические руны, непостижимым образом превратился теперь в его учителя и провожатого.
Ворон шел следом за своим молодым другом по одной из центральных улиц города; потом Крачка уверенно свернул на боковую улочку, которая в итоге привела их в старинный квартал, застроенный маленькими жалкими домишками. Здесь жили ткачи. На острове Поди издавна выращивали лен, и путешественникам на каждом шагу попадались каменные мочильни, которыми теперь практически не пользовались, а за окнами многих домов были видны прядильные и ткацкие станки. На маленькой площади, у колодца, укрывшись в тени от палящего солнца, сидели и пряли пряжу пять-шесть местных женщин. Рядом играли дети, совершенно, казалось, равнодушные к жаре и ужасно худые, кожа да кости. Дети без особого интереса взирали на чужаков, даже не прервав игры. Крачка шел уверенно, словно совершенно точно знал, куда именно ему нужно. Но у колодца он остановился и приветливо поздоровался с женщинами.
— Ох, милый человек, — сказала ему с улыбкой одна из них, — даже и не показывай нам, что у тебя в мешке! Ведь у меня ни гроша нет! Ни одной медной монетки, ни одной пластинки из слоновой кости — мы денег уже несколько месяцев не видели.
— Но у вас, может быть, найдется льняное полотно? Или хотя бы пряжа? Льняное полотно с острова Поди, как мне говорили в Хавноре, считается в Земноморье самым лучшим. Да я и сам вижу, какую отличную нить вы прядете! — Ворон с удивлением и восторгом наблюдал за своим спутником; сам он из-за книги мог торговаться сколько угодно, с кем угодно и очень упорно, но просто так заигрывать с простыми женщинами, чтобы продать им пуговицы или купить у них льняную пряжу — нет уж, это было выше его сил! А Крачка между тем продолжал: — Вот я только чуть-чуть мешок приоткрою, а вы посмотрите! — И он принялся доставать свои товары и раскладывать их на камнях. Женщины и их грязные застенчивые дети подошли поближе: такой красоты они явно никогда в жизни не видели. — Вообще-то нас интересуют ткани, но мы покупаем также и некрашеную пряжу и прочие товары — вот только пуговиц у нас маловато. Если у вас есть пуговицы из слоновой кости или из рога, я бы купил. Готов обменять вот эту прелестную бархатную шапочку на три-четыре костяных пуговицы. Вы только посмотрите, какой цвет! И очень идет к вашим волосам, госпожа моя! А еще я могу взять в обмен старые бумаги или книги. Наши хозяева — мы ведь с острова Оррими — очень всякими старинными штуковинами интересуются, так что, может, у вас случайно что-нибудь такое и найдется, а?
— О, ты и правда очень милый! — засмеялась та, что первой заговорила с Крачкой, и он приложил к ее черной косе алую ленту. — Вот уж жаль, что у меня ничего для тебя нет!
— Я, конечно, не такой нахал, чтобы за свой скромный подарок просить поцелуя, — сказал Медра, — но, может быть, ты мне хотя бы ручку свою позволишь поцеловать?
И он сделал заветный жест. Несколько секунд она молча смотрела на него, потом сказала:
— Что ж, ручку — это можно, — и ответила тем же жестом. — Хотя и не всегда безопасно, ежели люди друг друга совсем не знают.
А он между тем, словно ничего не заметив, продолжал показывать ей и другим женщинам свои товары, шутить с ними и угощать сладостями детишек. Никто ничего не покупал и покупать явно не собирался. Они смотрели на всю эту дребедень так, словно то были настоящие сокровища. Крачка позволил им рассматривать и трогать все, что захочется; он даже сделал вид, что не заметил, как один из мальчишек стащил у него маленькое зеркальце из полированной бронзы; он видел, как зеркальце исчезает под драной рубашкой, но не сказал ни слова. Наконец он заявил, что должен идти, и ребятишки отошли в сторону, а он собрал и завязал свой мешок.
— Знаешь, — сказала ему вдруг та женщина с черными косами, — у меня есть соседка, так вот у нее вполне могут найтись кое-какие старинные бумаги, если ты их ищешь.
— А на них хоть что-нибудь написано? — хмуро спросил у нее Ворон, до сих пор молча сидевший на краю колодца. — Знаки на них какие-нибудь нарисованы или нет?
Женщина презрительно смерила его взглядом с головы до ног и сказала:
— Есть там знаки, господин мой! — И, снова повернувшись к Крачке, предложила уже совсем другим тоном: — Если хочешь, я покажу тебе, где она живет; это недалеко. И вот что я скажу тебе, торговец: она хоть и девчонка совсем, да к тому же из бедных, но здороваться КАК НАДО умеет не хуже других! Хотя у нас здесь совсем не все этому обучены.
— Ну да, трое из троих, — проворчал Ворон, шутливо изображая заветный жест. — Ты бы лапшу-то свою нам на уши не вешала, женщина! Прибереги ее для других.
— Ты бы лучше помолчал, господин мой! — не смутилась она. — Мы тут люди невежественные, грубые… — И она грозно сверкнула в его сторону глазами.
Вскоре она привела их к дому, стоявшему в самом конце узкой улочки. Когда-то это был поистине прелестный уголок: очаровательный двухэтажный дом из камня, окруженный садом; но теперь дом был наполовину пуст, фасад его частично разрушен, во многих окнах выломаны рамы, а сад пришел в полное запустение. Они прошли по двору, в центре которого был колодец, и женщина постучала в боковую дверь. Дверь отворилась, и на порог вышла девушка.
— Тьфу, настоящее ведьмино логово! — воскликнул Ворон, ибо из дверей доносился явственный запах разнообразных курений и сушеных трав. Он даже назад чуть отступил.
— Здесь не ведьмы живут, а целители, — заявила их провожатая. — Что, ей опять хуже, Дори?
Девушка кивнула, переводя взгляд то на Крачку, то на Ворона. Ей было лет тринадцать-четырнадцать; она была невысокая, довольно коренастая, но очень худая, с насупленными бровями и неподвижным взглядом.
— Это люди Руки, Дори; вот этот, молодой и невысокий, очень милый, а вон тот, высокий, слишком гордый. Они говорят, что ищут старые бумаги. Я знаю, у тебя что-то такое было, хотя, может, теперь уж ничего и не осталось. Товара для тебя подходящего у них нет, но, может, они согласятся заплатить хотя бы слоновой костью, если найдут то, что им нужно. Я верно говорю? — И она глянула своими ясными глазами на Крачку; тот согласно кивнул.
— Ей совсем плохо, Раш, — прошептала девушка. И снова посмотрела на Крачку. — Вы-то, похоже, не целитель? — В ее словах звучало осуждение.
— Нет.
— А вот наша Дори, — вмешалась их чернокосая провожатая по имени Раш, — настоящая целительница! — Как и ее мать, и мать ее матери… Впустила бы ты нас в дом, Дори! Хотя бы меня одну. Мне с ней поговорить нужно. — Девушка исчезла в доме, прикрыв за собой дверь, и Раш пояснила: — Мать у нее от чахотки умирает. Никто из целителей ее вылечить не сумел. А сама она всех лечила и вылечивала, и золотуху, и любую боль одним прикосновением снимала… Она была настоящим чудом! Дори правильно сделала, что по ее стопам пошла.
Дори, выглянув на крыльцо, жестом пригласила их войти в дом. Ворон, правда, предпочел остаться снаружи. Комната оказалась продолговатая, с высоким потолком и следами былой элегантности, но сильно обветшавшая и выглядевшая теперь убого. Разнообразные причиндалы целителей и сухие травы составляли главное ее убранство и были размещены по каким-то определенным правилам. Возле красивого каменного очага, в котором дымилась горстка сладко пахнувших трав, было устроено ложе. Женщина, лежавшая на нем, была настолько бледна и худа, что в неясном свете казалась тенью. Когда Крачка подошел к ней поближе, она попыталась сесть и даже хотела что-то сказать ему, но не смогла, и дочь приподняла ей голову и подложила вторую подушку. Только тогда Крачка, наклонившись к больной совсем близко, сумел расслышать:
— Ты — волшебник, — шептала она. — И ты тут не случайно.
Будучи одарена магической силой, она сразу поняла, кто он такой. Неужели это она призвала его сюда?
— Я — Искатель. Умею искать все, что угодно. — сказал он. — И обычно нахожу.
— Девочку мою сможешь учить?
— Вряд ли. Но могу отвезти ее к тем, кто сможет.
— Отвези.
— Хорошо.
Больная совершенно без сил откинулась на подушку и закрыла глаза.
Потрясенный силой ее воли, Крачка выпрямился и судорожно вздохнул. Потом посмотрел на девушку, но Дори на его взгляд не ответила; она смотрела только на мать, и в глазах у нее была тупая, угрюмая тоска. Только когда больная погрузилась в сон, Дори наконец шевельнулась и принялась помогать Раш, которая на правах подруги и соседки уже копошилась в комнате, убирая окровавленные тряпки, разбросанные по полу вокруг постели умирающей.
— У нее только что опять было кровотечение, и я никак не могла его остановить, — сказала Дори. Слезы безостановочно текли у нее из глаз и скатывались по щекам. Но само лицо оставалось совершенно безжизненным.
— Ах, детка моя, ягненочек мой, — сказала Раш, обнимая девочку, но та не отвечала на ласку и была как каменная от сковавшего ей душу горя.
— Я вижу: она идет туда, прямо к стене, а я не могу пойти с нею!.. — промолвила Дори с отчаянием. — Она идет туда совсем одна, а я… Не мог бы ты пойти туда с нею? — Она посмотрела прямо Крачке в глаза. — Ты ведь можешь!
— Нет, — сказал он. — Я не могу. Я еще не знаю пути туда.
Но стоило Дори спросить его об этом, и он вдруг увидел то, что видела она: длинный пологий склон какого-то холма, уходящий во тьму, и пересекающую его в слабом сумеречном свете низкую каменную стену. И пока он рассматривал эту стену, ему показалось, что он видит женщину, идущую по ту сторону стены, очень худую, почти прозрачную, состоящую, похоже, из одних костей и теней. Но то была не умирающая, что лежала перед ним на постели. То была Аниеб!
Потом видение исчезло, и он, словно очнувшись от забытья, понял, что стоит и в упор смотрит на юную ведьму. Постепенно ее обвиняющий взгляд несколько смягчился, и она закрыла лицо руками.
— Мы должны отпустить их, — сказал он.
— Я знаю, — тихо промолвила она.
Раш смотрела то на одного, то на другого своими ясными умными глазами, а потом сказала:
— А ты, оказывается, не только искусный торговец, но и очень ловкий человек! Ну что ж, ты не первый.
Он вопросительно посмотрел на нее.
— Этот дом называется Дом Атха, — пояснила она.
— Он действительно некогда жил здесь, — сказала Дори, и сквозь ее беспомощную печаль и тоску пробился даже слабый лучик гордости, — великий маг Атх. Только давно, очень давно. Еще до того, как отправился на запад. Все мои предки по женской линии были мудрыми женщинами, ведьмами и колдуньями. Вот он и останавливался у них. В этом самом доме.
— Дай-ка мне корыто, — попросила Раш. — Я это все замочу.
— А я принесу воды, — сказал Крачка. Он взял ведро и пошел во двор к колодцу. Ворон по-прежнему сидел на краешке сруба, встревоженный и насупленный.
— Зачем мы тратим здесь время? — сердито спросил он, когда Крачка опустил ведро в колодец. — Ты что же, теперь водоносом у этих ведьм заделался?
— Угу, — буркнул Крачка. — А когда эта несчастная мужественная женщина умрет, я отвезу ее дочку на Рок. А тебе, если ты все же хочешь прочитать «Книгу Имен» и поехать с нами, придется набраться терпения и подождать.
Вот так Школа на острове Рок получила своих первых заморских учеников, а также своего первого библиотекаря. «Книга Имен», что хранится теперь в Одинокой Башне, послужила фундаментом той науки и того метода обучения, которыми пользовались все мастера Ономатеты. Это лежит в основе великой магии Рока. Девушка Дори, которая, по слухам, оказалась гораздо одареннее и умнее своих учителей, стала наилучшим мастером всех целительских искусств и великим знатоком науки о травах; она же возвела эти знания и умения на пьедестал должной высоты среди прочих магических наук и умений, которыми владеют знаменитые Мастера острова Рок.
Что же касается Ворона, который оказался не в силах расстаться с «Книгой Имен» даже на месяц, то он просто послал за своими книгами и кое-каким имуществом на Оррими и, получив все это, устроился жить в Твиле. Он позволял ученикам Школы сколько угодно пользоваться его библиотекой, если те обращались с книгами бережно, а их хозяину оказывали должное уважение.
Таковы оказались несколько лет жизненного
пути Крачки-Медры. Поздней весной он обычно отправлялся в путешествие на своей «Надежде», отыскивая и привозя на Рок новых учеников — главным образом, детей и совсем молодых людей, которые от рождения были наделены магической силой, а иногда и совсем взрослых мужчин или женщин. Дети, по большей части, были из очень бедных семей, и хотя он никого из них не увозил из дому силой, родители детей или их хозяева редко интересовались по-настоящему, куда увозит ребенка этот человек: Крачка часто сказывался, например, рыбаком, которому нужен был помощник — мальчик, чтобы помогать на судне, или девочка, чтобы плести сети; или же представлялся работорговцем, покупающим рабов для своего хозяина, живущего на другом острове. Если родители отправляли своего ребенка с ним, надеясь, что ему выпадет удача, или же отдавали его незнакомцу нехотя, только из-за горькой нужды, он платил им настоящей слоновой костью; если же они продавали ему ребенка в рабство, он всегда платил им чистым золотом, однако успевал исчезнуть уже на следующий день — до того, как это «чистое золото» превратится в коровий навоз.
Он посещал самые дальние острова Архипелага и даже острова Восточного Предела, но никогда не посещал дважды один и тот же город или островок, пока после его первого визита туда не пройдет несколько лет и не остынут некоторые неприятные воспоминания у местных жителей. И все-таки о нем пошли слухи, как о колдуне; Похититель Детей — так его называли, считая, что он уносит детей на свой обледенелый остров где-то на севере и там высасывает из них кровь. В деревнях на островах Уэй и Фелкуэй до сих пор рассказывают детям об ужасном Похитителе Детей, желая внушить им недоверие ко всем чужакам.
К этому времени уже многие люди из «Союза Руки» знали, что на острове Рок создается Школа Волшебников, и посылали туда талантливую молодежь, а также мужчин и женщин, желавших учиться и учить. Для многих из этих людей путь на Рок стал тяжким испытанием, ибо заклятия, оберегавшие остров, были в те времена сильнее, чем когда-либо, и благодаря им остров казался всего лишь облачком в небесах или рифом в бушующем море; ну а знаменитый волшебный ветер Рока без разрешения Мастеров не давал войти в гавань Твила ни одному кораблю, особенно если на борту его оказывался такой колдун, который умел заклинать ветры и мог попытаться повернуть волшебный ветер вспять. И все-таки новички прибывали на Рок! И с течением лет для Школы понадобился дом побольше, причем больше любого из домов, имевшихся в Твиле.
На островах Архипелага существовал обычай: мужчины строили корабли, а женщины — дома. Но если строили какой-то уж очень большой дом, то женщины охотно позволяли мужчинам работать с ними вместе — в отличие, скажем, от женщин-рудокопов, которые, страдая неискоренимыми предрассудками, всегда стараются прогнать из шахты любого мужчину. Точно так же мужчины-кораблестроители запрещают женщинам даже смотреть на то, как корабль спускают на воду. Так что Большой Дом на острове Рок строили вместе и мужчины и женщины, и почти все они обладали каким-то магическим даром. А краеугольный камень этого здания был возложен на вершине холма над городом Твил, неподалеку от Имманентной Рощи, и дом был построен лицом к волшебному Холму Рок. Стены Большого Дома были построены не только из камня и дерева, но и укреплены магией, самыми различными и весьма искусными заклятиями.
Как-то раз, стоя на холме посреди стройки, Медра сказал:
— Прямо под тем местом, где я стою, под землей бьет маленький родничок, который никогда не иссякнет. — И люди стали копать там, добрались до этого источника и позволили ему вырваться на волю, к солнцу, и самой главной частью Большого Дома, самым его сердцем стал знаменитый внутренний дворик с фонтаном, питаемым этим подземным источником.
И у этого фонтана по белым плитам двора часто прогуливались Медра и Элеаль, и происходило это, когда еще даже сами стены Большого Дома не были достроены.
Элеаль посадила у фонтана молодой ясень из Имманентной Рощи, и они приходили туда, чтобы посмотреть, прижилось ли деревце. Сильный весенний ветер дул с Холма Рок к морю, отклоняя струю воды в фонтане. Высоко на склоне Холма, почти на вершине, небольшая группа молодых учеников Школы училась создавать иллюзии у колдуна Хёга с острова О; ученики прозвали его Мастер Ловкая Рука. Цветы-искорки сверкали в траве, осыпая свои золотистые лепестки. А в волосах Эмбер сверкали серебряные нити.
— Значит, ты опять уплывешь, — грустно сказала она, — а мы опять начнем пререкаться по поводу Устава Школы.
— Если хочешь, я останусь.
— Я действительно очень этого хочу, но не надо! Ты ведь Искатель. Ты должен искать. И я не понимаю, почему решить вопрос о Пути — или Уставе, как больше нравится Варису, — оказалось в два раза труднее, чем построить Школу! И почему эта проблема вызывает в десять раз больше ссор? Понимаешь, мне бы тоже хотелось быть ото всего этого подальше. Мне бы, например, хотелось просто гулять с тобой, как сейчас… И еще мне бы очень хотелось, чтобы ты не уезжал на север!
— Но, интересно, почему Устав вызывает так много споров? — спросил Медра, заметно помрачнев.
— Дело в том, что нас теперь просто стало гораздо больше! Собери двадцать-тридцать магов в одной комнате, и каждый станет отстаивать свою точку зрения. А ты к тому же соединил в Школе мужчин, которые всегда жили по-своему и презирали женщин, с женщинами, которые тоже всегда жили по-своему и презирали мужчин. Вот они и не могут примириться. И потом, между всеми нами, магами, действительно существуют некоторые настоящие и вполне реальные различия, Медра. И это очень серьезная проблема, которую так просто не решишь. Хотя, если бы каждый проявил хоть самую малую толику доброй воли, мне кажется, горы можно было бы свернуть, а не только принять Устав.
— Так что, все дело в Варисе?
— В Варисе и кое в ком еще. И все они — мужчины, и все они считают, что именно то, что они МУЖЧИНЫ, важнее всего остального на свете. Они даже к Древним Силам Земли относятся с некоторым презрением, ибо в них заключено женское начало. Ну а наличие у женщины магической силы кажется им просто подозрительным, потому что они считают, что все женщины так или иначе связаны с Древними Силами Земли. Словно не знают, что этими Силами не только невозможно управлять, но и вообще лучше не иметь с ними дела! Однако они на вершину вселенского пьедестала возводят именно мужчину и совершенно уверены, что настоящим волшебником может и должен быть только мужчина! Причем непременно давший обет безбрачия!
— А, опять они за свое, — безнадежным голосом сказал Медра.
— Вот именно! Вчера вечером сестра сказала мне, что Эннио и плотники предложили построить одну часть Дома специально для женщин! Или даже построить для них какой-нибудь отдельный дом, чтобы они жили там отдельно от мужчин и могли бы блюсти свою чистоту.
— Чистоту?
— Это не мое выражение, а Вариса. Но это предложение не прошло. Они хотят, чтобы Устав Школы отделил мужчин от женщин и чтобы все решения здесь принимали только мужчины. Разве можно с ними договориться? Зачем они вообще явились сюда, если не желают работать вместе с женщинами?
— По-моему, нам следует отсылать прочь любого, кто этого не понимает.
— Отсылать прочь? Раздосадованного? Чтобы он явился в Уотхорт или в Хавнор и гневно заявил их правителям, что ведьмы с острова Рок затевают бурю?
— Я забываю… я все время забываю… — Медра потупился. — Я забываю о стенах этой тюрьмы. Честное слово, я значительно умнею, когда оказываюсь вне ее «надежных» стен… А когда я здесь, я просто не могу поверить, что это, в общем-то, тюрьма. Пусть волшебная, но тюрьма! Однако же за ее пределами, тоскуя по тебе, я это помню… Мне тоже не хочется уезжать сейчас, Элеаль, но я должен! Я не хочу, чтобы и здесь что-то пошло не так, как надо, но я должен ехать… Обязательно! И я непременно поплыву на север! Но зато потом, когда я вернусь, то больше уж никуда не уеду. Обещаю тебе. То, что мне нужно найти, я буду искать и найду здесь. Да я, собственно, уже и нашел, верно?
— Нет, — сказала она, — пока что ты нашел только меня. А нам с тобой еще так много нужно искать и найти в Роще! Там столько дел, что даже ты сумеешь избавиться от своей вечной непоседливости и беспокойства. Но почему на север, Медра?
— Я хочу расширить границы «Союза Руки», побывать на Энладе и Эа. Ведь мы почти ничего не знаем о тамошнем искусстве волшебства. О, Энлад, остров королей… И светлый Эа, старейший из островов! И мы, конечно же, найдем там союзников!
— Но путь туда преграждает Хавнор, — сказала она.
— А я и не собираюсь плыть близ берегов Хавнора, любовь моя. И не стану пересекать его по суше. Я намерен обогнуть этот остров по морям, по волнам. — Он был единственным, кому всегда удавалось заставить ее рассмеяться. Эмбер сильно менялась, когда его с нею не было: в эти периоды она говорила всегда тихо и спокойно, точно усмирив свой бешеный нрав и понимая бессмысленность нетерпения, когда положен определенный срок ожидания. Занимаясь той работой, которая должна была быть сделана в отсутствие Медры, она порой все же хмурила брови, иногда улыбалась, но никогда не смеялась. И при первой же возможности уходила одна в Рощу, как и прежде. Но в течение тех долгих лет, что длилось строительство Большого Дома и создавалась Школа Волшебников, Эмбер редко удавалось ходить туда. И даже в те дни, когда она могла это делать, она чаще всего прихватывала с собой одного-двух наиболее способных учеников, чтобы научить их отыскивать путь в волшебном лесу и читать слова, написанные узорчатой тенью листвы, ибо в Школе Эмбер стала Мастером Путеводителем.
В тот год Крачка собрался в свои странствия поздно. С собой он взял двоих: мальчика Моута пятнадцати лет, очень способного юного заклинателя погоды, которому просто необходимо было потренироваться в открытом море, и шестидесятилетнюю женщину по имени Сава, которая прибыла на Рок лет семь-восемь назад. Сава принадлежала к «Союзу Руки» и родом была с острова Арк. Не имея никаких магических талантов, Сава обладала таким замечательным талантом организатора, что умудрялась любую группу людей заставить отлично работать вместе, полностью доверяя друг другу. За это на Арке, а теперь и на Роке ее почитали как очень мудрую женщину, хотя она не была даже ведьмой. Сава попросила Крачку взять ее с собой, чтобы повидаться с родными — с престарелой матерью, с сестрой и с двумя взрослыми сыновьями. Крачка намеревался оставить Моута с ней на Арке, а на обратном пути забрать их обоих с собой на Рок. Итак, судно «Надежда» вышло из гавани Твила и взяло курс на север. Стояли летние погожие деньки, и Крачка велел Моуту поднять небольшой волшебный ветерок и наполнить парус, чтобы с уверенностью добраться до Арка, прежде чем начнется Долгий Танец.
Когда они подошли совсем близко к Арку, Крачка сделал так, чтобы их «Надежда» казалась не судном, а просто бревном на волнах, обыкновенным куском плавника, ибо пираты и работорговцы Лозена в этих водах прямо-таки кишели.
От селения Сесесри на восточном берегу Арка, где Крачка оставил своих пассажиров, оттанцевав вместе с ним Долгий Танец, он направился дальше на север по Проливам Эбавнора, а затем свернул на запад вдоль южного берега острова Омер. Все это время он поддерживал ту же иллюзию, скрывая от чужих глаз свой корабль. Наконец в прозрачном и чистом воздухе середины лета при северном ветре он увидел далеко впереди голубую полосу пролива и чуть более бледные голубовато-коричневые очертания острова — длинные горные хребты и легкую, казавшуюся невесомой вершину горы Онн.
Смотри, Медра, смотри!
Это был остров Хавнор, его родная земля! Здесь жила его семья и друзья детства, а он даже не знал, живы они или умерли; здесь была могила Аниеб — вон там, на горе. Он ни разу с тех пор не возвращался сюда и никогда не подходил к этому острову так близко на судне. Сколько же лет прошло? Шестнадцать? Семнадцать? Никто, конечно же, не узнал бы его, все уже, наверное, забыли мальчика Выдру. Вряд ли кто-то, кроме отца, матери и сестры, узнает его, если, конечно, родители его еще живы… И, конечно же, здесь нашлись бы те, кто входит в «Союз Руки». В юности он, правда, никогда не слышал о таком союзе, но теперь-то он должен сразу узнать этих людей…
Медра плыл по широкому проливу до тех пор, пока гора Онн не скрылась из виду за холмами на берегу. Если он поплывет дальше на север, то больше ее не увидит, не увидит ее величественной вершины, отражающейся в спокойной воде гавани, где он пытался вызвать магический ветер, когда ему было всего двенадцать… А если немного проплыть в другую сторону, то непременно увидишь те башни с флагами на вершинах, что, казалось, вздымаются прямо из воды и у своего основания окутаны туманом — дивный, белый город, сердце его мира!..
Это же просто трусость, решил он, столько лет держаться вдали от Хавнора! Он научился слишком дорожить собственной шкурой! Или боится узнать, что от его семьи не осталось и следа; боится того, что воспоминания об Аниеб могут оказаться слишком живыми и болезненными…
Ибо порой ему казалось, что, как и когда-то, он может призвать ее к себе, живую! И она, мертвая, может призвать к себе его, ибо та связь, что когда-то соединила их и позволила им спастись, не порвалась и до сих пор. Эта связь сохранилась! Много раз приходила Аниеб в его сны и стояла молча, как стояла тогда, когда он впервые увидел ее на шахтах Самори, в наполненной вонючими испарениями каменной башне. А несколько лет назад он снова видел ее — когда стоял возле умирающей целительницы из Телио, — и вокруг были сумерки, и она шла вдоль той странной каменной стены…
Теперь Медра уже знал от Элеаль и других волшебников с Рока, что это за стена. Она отделяет мир живых от мира мертвых. Но странно: в том видении мертвая Аниеб шла к нему ПО ЭТУ СТОРОНУ стены, а не уходила вниз по склону холма во тьму, в ту страну, откуда нет возврата…
Неужели она не умерла? Неужели он боится ее, той, что спасла его?
И Медра, борясь с сильным ветром, дувшим над Южной Косой, направил свое судно прямо в гавань Хавнора.
Над столицей Великого Острова по-прежнему реяли на ветру знамена, и король по-прежнему сидел там на троне; но знамена эти принадлежали захваченным во время пиратских налетов городам и островам, да и король был ненастоящий: это был алчный и воинственный правитель Лозен, печально знаменитый пират и работорговец. Однако Лозен теперь уже никогда не покидал своего мраморного дворца, где рабы исполняли любое его желание и где он целыми днями глядел, как тень от меча Эррет-Акбе скользит, точно стрелка огромных солнечных часов, по крышам раскинувшегося внизу города. Лозену стоило хлопнуть в ладоши, и рабы говорили: «Все исполнено, ваше величество». К Лозену, почтительно кланяясь, приходили старейшие жители острова и называли себя его «покорными слугами». Лозен призывал к себе своих волшебников, и маг Эрли склонялся перед ним в низком поклоне, выражая готовность в любую минуту служить своему господину. «Сделай так, чтобы я мог ходить!» — кричал на него Лозен и бил по своим омертвевшим парализованным ногам слабеющими руками.
На это Эрли неизменно отвечал: «Как известно вашему величеству, моего жалкого мастерства для исцеления вашего недуга недостаточно, но я уже послал за величайшим целителем Земноморья с далекого острова Нарведен, и как только этот целитель прибудет сюда, то, я уверен, ваше величество вновь обретет способность ходить и даже танцевать Долгий Танец».
И тогда Лозен начинал выкрикивать проклятья и плакать, рабы приносили подносы с вином, сладостями и фруктами, а маг, пятясь и кланяясь до земли, спешил убраться прочь, не забывая, правда, удостовериться, что вызывающее паралич заклятие держится крепко.
Ему было гораздо удобнее, чтобы королем оставался недвижимый, хотя и невероятно капризный, Лозен, чем самому открыто править Хавнором. Военные люди не доверяли магам и волшебникам и зачастую открыто отказывались им подчиняться. И сколь бы ни была велика сила того или иного мага — если только это не был сам Враг Морреда, конечно! — он, даже захватив королевский трон, все равно не смог бы управлять ни армиями, ни флотами. Люди привыкли бояться Лозена и по-прежнему подчинялись ему, хотя теперь уже, скорее, по привычке, но это была настолько старая привычка, что въелась им в плоть и кровь. Как ни странно, но они доверяли Лозену, помня о том, какое могущество он приобрел благодаря своей смелой стратегии, твердому руководству и абсолютной жестокости; ну и, естественно, простой народ наделял своего правителя таким могуществом, какого у него никогда и в помине не было — например, способностью повелевать теми волшебниками, что жили у него при дворе.
Теперь, правда, при дворе, кроме Эрли, не осталось ни одного настоящего волшебника. Была еще, пожалуй, парочка жалких колдунов, а всех остальных Эрли изгнал или убил одного за другим — всех, кто мог бы соперничать с ним, добиваясь особого расположения Лозена, — и вот уже много лет наслаждался своей, по сути дела, безграничной властью над Хавнором.
Еще будучи учеником, а потом и помощником Геллука, он привлек внимание своего учителя к учению магов с острова Уэй и вскоре обнаружил, что совершенно свободен в своих действиях, пока Геллук колдует над своей драгоценной ртутью, которой увлекся безо всякой меры. И все же страшная гибель Геллука потрясла его. Была в ней какая-то темная тайна, и для разгадки этой тайны Эрли явно не хватало знаний. Или какого-то конкретного человека. Призвав на помощь такого полезного сыщика, как Легавый, Эрли проделал тщательнейшее расследование случившегося. В общем, найти то место, где исчез Геллук, не составило особого труда. Легавый проследил его последний путь вплоть до загадочного шрама на склоне холма и заявил, что Геллук покоится именно там, глубоко под землей. Впрочем, Эрли не имел ни малейшего намерения откапывать его труп. А вот того мальчишку, что тогда был вместе с Геллуком, ему бы поймать очень хотелось, однако Легавый так и не смог выяснить, то ли этот парень тоже покоится под землей вместе с волшебником, то ли ему каким-то чудом удалось бежать, причем не оставив никаких следов. К тому же после исчезновения волшебника всю ночь лил сильный дождь, так что, когда Легавый, как ему казалось, напал наконец на след, следы эти в итоге оказались женскими и привели к тому месту, где эта женщина умерла.
Эрли не стал наказывать Легавого за эту неудачу, но запомнил ее. Он не привык к неудачам и терпеть их не мог. И ему очень не понравилось то, что Легавый рассказывал об этом мальчишке по имени Выдра, причем рассказывал чуть ли не с восхищением. Это Эрли тоже хорошо запомнил.
Жажда власти питает себя, пожирая все вокруг, и становится все сильнее по мере того, как разрастается, и теперь Эрли буквально «умирал от голода». То, что он фактически правил Хавнором, а этот остров превратился в последние десять лет в настоящую страну нищих, приносило ему мало удовлетворения. Какой прок в обладании троном Махариона, если на нем сидит вечно пьяный калека? Какую славу могут принести дивные столичные дворцы, если в них никто не бывает, кроме рабов и прочих пресмыкающихся перед Эрли и Лозеном лизоблюдов? Да, Эрли мог получить любую женщину, какую хотел, но женщины высасывали из него магическую силу, и от женщин он отказался без сожалений, не подпуская к себе ни одну из них. Зато он мечтал о враге, о достойном противнике — мечтал сразиться с ним и уничтожить его.
Вот уже больше года его шпионы являлись с доносами о том, что повсюду в его королевстве ширится движение инсургентов, возглавляемых мятежными колдунами, и эти инсургенты называют себя «Союзом Руки». Мечтая отыскать долгожданного противника, Эрли однажды даже выследил группу таких мятежников. Оказалось, что она состоит в основном из старух, а также рабочего люда — плотников, канавокопателей, жестянщиков и тому подобного сброда. Там было даже несколько совсем маленьких мальчиков. Униженный и разъяренный, Эрли велел казнить всех без разбора, включая и самого доносчика. Это была публичная казнь, совершенная именем Лозена за преступный заговор против короля. Возможно, это было даже полезно для укрепления его власти — слишком уж давно в стране не было подобных потрясений. И все же на публичную казнь Эрли согласился неохотно. Он не любил подобных спектаклей; не любил казнить тех, кому удалось заставить его бояться их. Он предпочитал расправляться с такими людьми по-своему и в более подходящее время. Чтобы служить питательной средой повиновения, страх должен быть внезапным. Эрли необходимо было видеть, как люди боятся его, нужно было слышать их ужас, обонять его, чувствовать его вкус. Но поскольку он правил именем Лозена, который держал в повиновении свою армию и флот, то ему приходилось держаться на заднем плане, а свои дела устраивать с помощью рабов, учеников и шпионов.
Вскоре после этого он послал за Легавым, чтобы дать тому некое поручение, и, когда с деловыми вопросами было покончено, старик спросил Эрли:
— Слышал ли ты когда-нибудь об острове Рок, господин мой?
— Конечно. Он на юго-западе от Камери и уже лет сорок или пятьдесят находится под протекторатом Уотхорта.
Хотя Эрли редко покидал столицу, он весьма гордился собственными знаниями об островах Архипелага, которые получал от своих мореходов, а также изучая великолепно составленные древние карты, хранившиеся в Королевской библиотеке. Карты он чаще всего изучал по ночам, в тишине и покое, подолгу обдумывая любую возможность расширить пределы своих владений.
Легавый кивнул, словно местонахождение Рока было единственным интересовавшим его вопросом, и промолчал.
— Ну так что ты хотел сообщить мне о Роке? — не выдержал Эрли.
— Видишь ли, господин мой, парень, что пытал одну из тех старух, которых ты велел потом сжечь — помнишь? — кое-что рассказал мне. Эта старуха все твердила о своем могущественном сыне, который живет на Роке, и призывала его прийти и спасти ее, понимаешь? И, похоже, у него было вполне достаточно сил, чтобы действительно сделать это…
— Ну и дальше-то что?
— Мне это показалось странным. Старуха родом из центральных земель острова, из какой-то жалкой деревушки; она и моря-то никогда не видела, но знала название острова, который находится очень далеко отсюда, да и слава о нем идет нехорошая…
— Ну, наверное, сын ее был рыбаком и много рассказывал ей о море и о своих приключениях, — раздраженно сказал Эрли, устало махнул рукой, и Легавый, потянув носом воздух, кивнул и пошел прочь.
Однако Эрли никогда не упускал из виду ни одно из самых заурядных событий, о которых упоминал Легавый, ибо слишком многие из них в итоге оказывались отнюдь не такими уж заурядными. За это невероятное чутье Эрли терпеть не мог старика. Кроме того, его безумно раздражала невозмутимость Легавого. Эрли никогда его не хвалил и старался пользоваться его услугами как можно реже, однако же Легавый был слишком полезен, чтобы его услугами не пользоваться совсем.
Волшебник все время помнил об этом их разговоре и когда снова услышал название Рок, причем опять в связи с деятельностью инсургентов, то понял, что Легавый в очередной раз верно взял след.
Дело было в том, что одним из патрулей Лозена были задержаны трое подростков — два мальчика лет пятнадцати и двенадцатилетняя девочка. Их поймали к югу от Омера, когда они довольно успешно управляли украденной рыбачьей лодкой с помощью магического ветра. Патрульное судно остановило их только благодаря тому, что на борту был опытный заклинатель ветров, который поднял большую волну, затопившую суденышко с детьми. Их, конечно, тут же выловили из воды и отвезли обратно в Омер, и там один из мальчишек сломался и стал нести какую-то чушь насчет могущественного «Союза Руки». Услышав знакомое название, патрульные сказали мальчишке, что за причастность к этому союзу все трое будут незамедлительно подвергнуты пытке, а потом сожжены. Вконец перепуганный подросток в ответ закричал, что если его пощадят, то он расскажет им все и о «Союзе Руки», и о Великих Магах острова Рок.
— Немедленно привести всех сюда! — велел Эрли посыльному.
— Девчонка-то сбежала, господин мой, — нехотя отвечал тот, смущенно потупившись.
— Как это сбежала?
— Да она в птицу превратилась, господин мой! В скопу, говорят. Никто и не ожидал такого — она ведь совсем еще девчонка. Они даже и не заметили, как она крыльями взмахнула и улетела.
— Тогда веди сюда мальчишек, — велел Эрли мертвенно-спокойным голосом, проявляя прямо-таки поразительное терпение.
Но к нему привели только одного мальчика. Второй хотел спрыгнуть с борта судна во время перевозки из Омера в Хавнор и был убит арбалетной стрелой. Тот мальчишка, которого наконец доставили к Эрли, был настолько перепуган, что волшебник даже испытал некоторое отвращение. Сильнее испугать существо, которое и без того совершенно ошалело от страха, было бы просто невозможно. Он наложил на мальчика связующее заклятие, заставив его стоять прямо и неподвижно, как статуя, и в таком виде оставил его примерно на сутки, время от времени разговаривая с ним и уверяя его, что если он будет вести себя достаточно умно, то вполне может стать учеником волшебника и здесь, в королевском дворце, ибо он, Эрли, готов учить его. Ну а когда-нибудь потом он, может быть, и на острове Рок побывает вместе с Эрли, потому что и сам Эрли давно подумывает о том, чтобы туда съездить и встретиться с тамошними магами и волшебниками.
Когда он освободил мальчишку от заклятия, тот еще некоторое время пытался притворяться статуей, говорить не способной. Так что Эрли пришлось просто проникнуть в его мысли тем способом, который он давным-давно узнал от Геллука, а Геллук был настоящим мастером этого дела. После того как Эрли выяснил все, что мог, мальчишка стал ему совершенно не нужен, так что пришлось с ним покончить. И это снова было очень глупо и унизительно, тем более что его, Эрли, снова перехитрили какие-то жалкие, невежественные подростки! Впрочем, он узнал, что пресловутый «Союз Руки» коренится именно на острове Рок, а также — что там находится и некая Школа, где учат магическим искусствам. И еще он узнал одно имя, имя мужчины…
Идея устройства подобной школы заставила его рассмеяться. Школа для диких кабанов, думал он, университет для драконов! Но то, что на острове Рок существует некая организация тех, кто обладает магической силой, казалось ему вполне возможным, и чем больше он думал об этом, тем больше мысль о каком бы то ни было союзе или объединении магов и волшебников тревожила его. Такой союз, разумеется, был бы совершенно неестественным и мог бы существовать только под руководством волшебника, в высшей степени могущественного, под давлением его доминирующей воли. Вот он, тот враг, тот достойный противник, о котором он так долго мечтал!
Ему сообщили, что Легавый уже дожидается у дверей, и он послал за ним, велев ему подняться.
— Кто такой Крачка? — спросил он у старика, как только тот вошел.
С возрастом Легавый стал еще больше соответствовать своей кличке — с отвислыми, покрытый морщинами щеками, длинноносый, с печальными умными глазами. Он потянул носом и, казалось, готов был уже отрицательно покачать головой, но прекрасно понимал, что лгать Эрли не стоит, а потому вздохнул и сказал:
— Это Выдра. Тот, что убил Белолицего.
— Где же он скрывается?
— А он совсем и не скрывается. Он только что в Хавноре был. Ходил себе по городу, с людьми беседовал. Побывал в гостях у своей матери в Эндлейне, что за горой. Он и сейчас там.
— Тебе следовало немедленно сообщить мне об этом, — сухо заметил Эрли.
— Так я ж не знал, что он тебе снова понадобится, господин мой! Я-то за ним долго охотился, да только он меня провел, ловко провел. — Легавый сказал это абсолютно беззлобно.
— Он обманул и убил великого мага, моего учителя! Он опасен. Я желаю ему отомстить. С кем именно он здесь беседовал? Я желаю видеть этих людей. А потом я примусь за него самого.
— Это какие-то старухи из доков. Один старый колдун. И еще его сестра.
— Доставь всех сюда. Возьми моих людей, сколько нужно.
Легавый потянул носом, вздохнул и согласно кивнул.
Ничего особенного добиться от тех людей, которых к нему привели, Эрли опять не удалось. Все твердили одно и то же: они принадлежат к «Союзу Руки», а это союз могущественных колдунов с Острова Морреда или с острова Рок, и человек по прозвищу то ли Выдра, то ли Крачка как раз оттуда и прибыл, хотя на самом-то деле он родом с Хавнора, и все они очень его уважают, хотя он всего-навсего Искатель. Сестра же этого «Искателя» куда-то исчезла, возможно, правда, она сейчас вместе с Выдрой гостит у матери в Эндлейне. Эрли порылся в их затуманенных мозгах и велел подвергнуть пытке самого молодого, но, так ничего и не добившись, сжег всех на площади перед дворцом, чтобы Лозен, сидя у своего окна, мог наблюдать за казнью. Королю иногда требовались подобные развлечения.
На все это ушло два дня, и Эрли ни на минуту не забывал о селении Эндлейн; он сразу послал туда Легавого и других своих агентов, чтобы те внимательно наблюдали за тем, что там происходит. И когда ему донесли, что нужный человек действительно находится в Эндлейне, он мгновенно перенесся туда в облике орла, ибо, надо сказать, Эрли был великим мастером превращений и решился бы, наверное, принять даже обличье дракона.
Он понимал, что с этим человеком нужно быть очень осторожным. Этот Выдра еще мальчишкой победил самого Тинарала, а потом заварил такую кашу на Роке. Он явно обладает большой магической силой, или же, возможно, ему помогает КТО-ТО ДРУГОЙ, еще более могущественный. И все-таки Эрли трудно было заставить себя опасаться обыкновенного лозоходца; ведь не боялся же он всяких ведьм-повитух и колдунов-целителей. Нет, он не станет скрываться! И Эрли в обличье орла спустился среди бела дня прямо на пустынную площадь Эндлейна, и все видели, как его когтистые лапы превратились в обычные ноги, а огромные орлиные крылья — в руки.
К сожалению, зрителей поблизости почти не случилось, лишь какой-то малыш с испуганным плачем бросился к матери. Эрли с орлиной зоркостью огляделся. Волшебник всегда признает волшебника, и ему сразу стало ясно, в каком из домов находится сейчас та дичь, за которой он гнался. И Эрли пошел прямо туда и с силой распахнул дверь настежь.
Стройный, худощавый, смуглый человек, что сидел за столом, не вставая, посмотрел на него.
Эрли поднял было руку, чтобы опутать его связующим заклятием, но рука так и повисла, недвижимая, в воздухе.
Так это поединок! Так это, оказывается, вполне достойный соперник! Эрли быстро отступил на шаг, а потом, улыбаясь, поднял обе руки вперед и вверх, собираясь произнести заклятие; он делал это очень медленно, но очень уверенно, не сдерживаемый никакими действиями противника.
Дом исчез. Ни стен, ни крыши — ничего. Эрли стоял на пыльной деревенской площади, освещенной утренним солнцем, с поднятыми вверх руками.
Это, конечно, была всего лишь иллюзия, однако она все же смутила его, помешав вовремя произнести заклятие; к тому же пришлось эту иллюзию устранять, возвращать на прежнее место дверной косяк, стены и балки под крышей, а также отблеск солнечного света на фаянсовой посуде, каменный очаг, стол… Но за столом больше никто не сидел. Его враг исчез.
И тут Эрли рассердился, очень рассердился, точно голодный, у которого прямо из-под носа стащили еду. Он попытался призвать своего соперника с помощью Истинного Заклятия, но не знал подлинного имени этого человека, а потому не имел никакой власти ни над его душой, ни над ним самим. Так что все его усилия оказались напрасными: этот то ли Крачка, то ли Выдра не явился и не отозвался.
Эрли выбежал из дома, обернулся и в гневе осыпал его такими проклятиями, что дом тут же вспыхнул. Из дома с воплями выбежали женщины. Они, несомненно, прятались где-то в дальних комнатах; тогда Эрли даже внимания не обратил, есть ли в доме еще кто-нибудь. «Легавый нужен!» — подумал он и призвал старика его Истинным именем, и тот, конечно же, явился, хотя вид у него, надо отметить, был хмурый и недовольный.
— Я ведь сидел в таверне, вон там, — сказал он. — Ты, господин мой, мог бы просто меня окликнуть моим обычным прозвищем, я бы сразу пришел.
Эрли молча глянул на него, но так, что рот Легавого закрылся сразу и навсегда.
— Будешь говорить, когда я тебе это позволю, — сказал ему волшебник. — Где этот человек?
Легавый мотнул головой в сторону северо-востока.
— А что там такое?
Эрли позволил Легавому открыть рот и дал ему достаточно голоса, чтобы тот смог ровным мертвым тоном произнести:
— Самори.
— В каком обличье он туда отправился?
— Выдры, — прозвучал тот же мертвый голос.
Эрли расхохотался.
— Что ж, я буду ждать его там, — сказал он, и пальцы у него на ногах превратились в желтоватые орлиные когти, а руки — в широкие мощные крылья. Орел взлетел в воздух и двинулся на северо-восток, легко преодолевая сопротивление ветра.
Легавый потянул носом, вздохнул и нехотя последовал за ним. У него за спиной в деревне догорал дом, плакали дети, а женщины выкрикивали проклятия вслед улетающему орлу.
Опасность любой попытки совершить доброе дело заключается в том, что разум путает две вещи: желание сделать что-то хорошее и желание сделать что-то хорошо.
Впрочем, отнюдь не об этом думала выдра, когда быстро плыла прочь по реке Иеннаве. Она вообще почти ни о чем не думала, кроме того, с какой скоростью и в каком направлении ей нужно плыть, и наслаждалась сладким вкусом речной воды и дивным ощущением ловкости собственных движений. Зато именно о попытках совершить добро думал сам Медра, когда сидел за столом в доме своей бабушки в Эндлейне и разговаривал с матерью и сестрой — перед тем как дверь резко распахнулась и на пороге появилась ужасная светящаяся фигура.
Медра явился на остров Хавнор, думая, что, поскольку сам он не желает никому зла, то никому никакого зла и не причинит. Он уже причинил достаточно зла: те несчастные мужчины, женщины и дети умерли из-за него. И умерли в страшных мучениях, сожженные заживо. Явившись в гости к матери и сестре, он подверг их чудовищной опасности; опасность грозила и ему самому, а через него — и острову Рок. Если бы Эрли (Медре было известно только это его имя и его дурная репутация, но знаком он с ним не был) поймал его и ИСПОЛЬЗОВАЛ — а по слухам, он использовал других людей так, что их души превращались в пустые мешки, — то все жители Рока могли бы оказаться во власти этого волшебника, став легкой добычей флота и армии, которыми, в сущности, командовал он, а не Лозен. И получилось бы, что именно он, Медра, предал Рок, подчинил его Хавнору — в точности как тот волшебник, имени которого они никогда не произносили вслух, некогда предательски подчинил Рок Уотхорту. Возможно, впрочем, что тот волшебник тоже полагал, что не способен никому причинить никакого зла.
И Медра как раз обдумывал то, как бы ему поскорее и незаметно убраться с Хавнора, когда на пороге их дома возник Эрли.
А теперь, в обличье выдры, он думал только о том, что хотел бы выдрой и остаться, всегда быть выдрой, всегда плавать в этой сладкой коричневатой воде, в этой живой воде, в которой для выдры нет смерти, а одна лишь бесконечная жизнь и счастье. Но у этой маленькой выдры были, к сожалению, человеческая душа и человеческий разум, а потому в излучине реки близ Самори ей пришлось вылезти на скользкий глинистый берег, и через мгновение там уже сидел на корточках, дрожа от холода, самый обыкновенный человек.
Ну, и куда дальше? Зачем, собственно, он приплыл сюда?
Об этом он как-то не подумал. Он принял то обличье, которое мог принять быстрее всего, и, как всякая выдра, бросился в реку и поплыл. Но лишь в своем истинном обличье он был способен думать по-человечески, прятаться от врагов, что-то решать, действовать, как действует человек — или, точнее, как волшебник, зная, что другой могущественный волшебник на него охотится.
Он понимал, что с Эрли ему не справиться. Для того чтобы приостановить действие того первого связующего заклятия, ему пришлось использовать всю свою магическую силу без остатка. Умение создавать иллюзии и менять обличье были единственными его козырями в этой игре. Если он снова столкнется с Эрли лицом к лицу, то, вполне возможно, будет уничтожен. И вместе с ним будет уничтожен Рок. И Школа. И Элеаль, его возлюбленная. И Вейл, и Ворон, и Дори — все, все, и фонтан во внутреннем дворике, выложенном белыми плитами, и юный ясень у фонтана… И только Роща выстоит. Да зеленый Холм, молчаливый, неколебимый. Он услышал слова Элеаль: «Вся истинная магия, все древние силы имеют один общий корень».
Медра огляделся. Это был тот же склон холма над ручьем, куда он тогда привел Тинарала — и Аниеб, мысленно ощущая ее присутствие. Вон там, буквально в двух шагах, тот шрам на поверхности земли, та печать, которую еще не скрыли зеленые травы лета.
— О, Мать-земля, — сказал он, стоя на коленях, — откройся, впусти меня!
Он положил руки на тот шрам, но в руках его больше не было силы.
— Впусти меня, Мать-земля! — прошептал он на том языке, который был столь же древен, как сам этот Холм. И вдруг земля содрогнулась и слегка приоткрыла свою уже начавшую затягиваться рану.
Медра услыхал над головой пронзительный крик орла. Вскочил на ноги и… бросился в темноту.
Орел спускался, кружа над долиной и испуская пронзительные крики; он тщетно кружил и кружил над холмом, над росшими вдоль реки ивами в поисках своей жертвы, но тщетно, и в итоге, злой и усталый, улетел в том же направлении, откуда явился.
Прошло еще какое-то время, и уже ближе к вечеру на тот же холм притащился наконец старый Легавый. Он то и дело останавливался, принюхивался, потом присел на землю у шрама на поверхности земли, заодно давая отдохнуть усталым ногам, и стал внимательно осматривать землю в том месте, где валялись комки свежей влажной глины и была примята трава. Легавый погладил траву, как бы выпрямляя ее, потом встал, подошел к реке и в тени под ивами с удовольствием напился чистой прохладной коричневатой воды, а потом пустился в обратный путь, к шахтам.
Медра очнулся в полной темноте, страдая от боли. Довольно долго вокруг не было видно ни зги. Боль то возникала, то проходила, а вот тьма оставалась. Однажды, правда, она чуть-чуть рассеялась, превратившись в некое подобие сумерек, так что он смог, хотя и весьма неясно, разглядеть какой-то склон, уходящий вниз от того места, где он лежал, к невысокой стене из камня, за которой снова стеной стояла непроглядная тьма. Но подняться на ноги он не мог и не мог подойти к той стене. Вскоре вернулась и боль, временами становясь очень сильной; видимо, у него были повреждены плечо и бедро, к тому же просто раскалывалась голова. А потом его снова со всех сторон обступила тьма, и он погрузился в небытие.
Очнувшись, он почувствовал нестерпимую жажду и жгучую боль. И услышал где-то рядом звук бегущей воды.
Он попытался вспомнить, как зажечь волшебный огонек. Аниеб жалобным голосом просила его тогда зажечь огонек, а он не мог… И сейчас тоже не смог и полз в темноте, пока звук бегущей воды не стал громче, пока он не почувствовал под собой влажные камни, пока не нащупал во тьме воду. Он напился и попытался отползти в сторону от подземного ручья, потому что очень замерз на мокрых камнях. Похоже, одно плечо у него было сломано и совершенно вышло из строя. Голову вдруг пронзила такая острая боль, что он застонал и, дрожа, сжался в комок, пытаясь утишить боль и согреться. Но согреться на ледяных влажных камнях было невозможно, и по-прежнему со всех сторон его обступала непроглядная тьма.
Он сел, пытаясь осмотреться, а потом снова лег, свернувшись клубком, рядом с тем местом, где из-под мощного слоя слюды просачивался крошечный родничок. Неподалеку от него лежало бесформенной кучей чье-то тело — красный шелк полусгнившего платья, длинные волосы, обнажившиеся кости черепа… А дальше был вход в какую-то просторную пещеру, и ему довольно хорошо было видно, как далеко простирается эта пещера и те пещеры и переходы, череда которых находится за нею; об этих пещерах ему когда-то кое-что было известно, но он думал об этом с тем же безразличием, с каким смотрел на истлевшее тело Тинарала и с каким только что осматривал в темноте свое собственное тело. Он ощутил лишь легкое сожаление. Будет только справедливо, если он умрет рядом с тем, кого убил. Все правильно. Но какая-то боль внутри не давала ему покоя — нет, то была не физическая боль его израненного тела, а другая, давняя, ПОЖИЗНЕННАЯ его боль…
— Аниеб? — сказал он.
И тут же в голове у него прояснилось, несмотря на отчаянную боль в плече и бедре. Его подташнивало, голова кружилась, вокруг стояла тьма. Стоило ему чуть шевельнуться, и он застонал от боли, но все же сел. «Я должен жить, — думал он. — Я должен вспомнить, КАК нужно жить. И как зажечь волшебный огонек. Я должен это вспомнить! Я должен вспомнить резные тени под деревьями в Роще…»
«Как далеко простирается этот лес»? — «Так далеко, как способно простираться твое воображение».
Медра поднял голову и всмотрелся во тьму. Потом слегка шевельнул здоровой рукой, и на конце пальцев повис слабенький огонек.
Оказалось, что верхний свод пещеры довольно высок. Звонкий ручеек, стекавший по слюдяному пласту, переливался в свете волшебного огонька.
А вот остальные помещения и переходы огромной пещеры он видеть теперь больше не мог — так, как видел их до того своим равнодушным, незрячим «третьим» глазом. Мерцающий волшебный огонек освещал лишь незначительную часть пространства вокруг него. Как и в ту ночь, когда он шел вместе с Аниеб навстречу ее смерти и видел вперед ровно на один шаг, не больше.
Он встал на колени и, немного подумав, прошептал: «Благодарю тебя, Мать-земля!» И потом попытался встать и тут же упал, громко вскрикнув, ибо его левое бедро отозвалось пронзительной болью. Полежав некоторое время, он предпринял вторую попытку встать и встал. А потом двинулся дальше.
Ему потребовалось немало времени, чтобы пересечь эту пещеру. Он сунул сломанную руку за пазуху, а здоровой рукой придерживал бедренный сустав, благодаря чему было немного легче идти. Стены вокруг постепенно сужались, образовывая некий коридор. Потолок здесь был гораздо ниже, он почти касался его головой. По одной стене стекала просачивавшаяся откуда-то вода и собиралась под ногами среди камней в маленькие
лужицы. Это был отнюдь не чудесный дворец с красными стенами из грез Тинарала, и мистические серебристые руны не поблескивали вокруг на бесчисленных колоннах. Это была самая обыкновенная подземная пещера или старая штольня, и вокруг были самые обыкновенные земля, камень и вода. Воздух здесь был холодным и неподвижным. Тот родничок остался позади, и уже не слышно было даже его слабого журчания. За пределами крошечного круга света, образованного волшебным огоньком, стеной стояла тьма.
Медра опустил голову и остановился. «Аниеб, — сказал он, — не можешь ли ты вернуться ко мне? Или хотя бы показать мне путь? Я не знаю, как выбраться отсюда». Он немного подождал. Но ответа не было. Вокруг лишь тьма и тишина. И тогда медленно, то и дело останавливаясь, он вошел в подземный коридор.
Как этому человеку удалось уйти от него, Эрли так и не понял. Но две вещи он теперь знал наверняка: этот Выдра — или как его там? — был куда более могущественным магом, чем все, кого Эрли знавал прежде, и он постарается как можно скорее вернуться на Рок, поскольку именно там источник его могущества. Было совершенно бессмысленно пытаться попасть туда раньше него; он уже сделал свой первый ход. Но Эрли мог за ним последовать, и если его собственной магической силы окажется недостаточно, он привлечет на помощь такую военную силу, которой не смог бы противостоять ни один маг на свете. Ведь даже сам Морред был в итоге сражен не каким-то колдовством, а просто благодаря мощи тех вражеских армий, которые были брошены против него!
— Ваше величество, следует послать флот на юг, — сказал Эрли в ответ на вопросительный взгляд старого Лозена, как всегда сидевшего в своем кресле у окна королевского дворца. — Страшный враг идет на нас с южного берега Внутреннего моря, но мы намерены дать ему должный отпор! Сто военных кораблей следует послать одновременно из Хавнора, из Омера и из Южного порта, а также из вашего родового замка на острове Хоск. Это будет самое великое морское сражение, какое когда-либо видел мир! Я сам поведу эти корабли. А вся слава достанется вашему величеству. — И он рассмеялся Лозену в лицо, так что тот в ужасе уставился на него, в конце концов, видимо, начиная понимать, кто здесь настоящий хозяин.
И столь сильно было влияние Эрли на Лозена, что не прошло и двух дней, как огромный флот вышел из Хавнора, по дороге собирая дань с подчиненных островов. Восемьдесят кораблей проплыли мимо Арка и Илиена, и попутный магический ветер неустанно наполнял их паруса, неся их прямо к острову Рок. Иногда сам Эрли в белых шелковых одеяниях, держа в руке длинный белый посох, сделанный из рога какого-то северного морского чудовища, стоял на носу головной галеры, и сто ее весел, взлетая разом в воздух, напоминали крылья огромной морской чайки. Порою же он и сам превращался в чайку, или в орла, или даже в дракона и кружил над кораблями чуть впереди них, и люди, видя его в этом обличье, кричали: «Повелитель драконов! Повелитель драконов!»
Они причалили к острову Илиен, чтобы запастись водой и пищей. Отправка в путь сотен людей одновременно не позволила как следует пополнить имевшиеся на судах запасы воды и продовольствия. И войско Эрли совершенно опустошило города и селения на западном берегу Илиена; то же самое произошло на Виссти и Камери — они забрали все, что смогли унести, а остальное сожгли. Затем огромный флот повернул на запад, держа курс к единственной гавани острова Рок, заливу Твил. Эрли была известна эта гавань благодаря морским картам, имевшимся в Хавноре, и он знал, что над этим заливом возвышается огромный холм. Когда они подошли достаточно близко к острову, он в обличье дракона взмыл высоко в небеса и, оставив внизу свои корабли, полетел вперед, высматривая на западе вершину этого холма.
Когда же он увидел ее, подернутую дымкой и ярко-зеленую на фоне туманного моря, то громко крикнул, и люди на кораблях услышали этот пронзительный крик дракона, а он еще быстрее полетел вперед, стремясь к заветной цели.
Согласно всем известным ему слухам, остров Рок был защищен особыми заклятиями и опутан особыми чарами, скрывавшими его от глаз обычных людей. Но если и были какие-то чары, скрывавшие этот холм или этот залив, то теперь они, очевидно, рассеялись, ибо Эрли видел над островом лишь легкую осеннюю дымку, почти прозрачную. Ничто не туманило его взор, ничто, казалось, не препятствовало его намерениям, когда он летел над заливом, над маленьким городком и над недостроенным огромным зданием на склоне другого холма, несколько выше остального города. Устремившись к самой вершине того округлого зеленого холма, Эрли, выпустив драконьи когти и, хлопая ржаво-красными крыльями, наконец приземлился.
И, едва коснувшись земли, принял свое первоначальное обличье. Однако же он совершил это превращение не по своей воле, и это его встревожило, вселив в душу неуверенность.
Дул ветер, и высокая трава согласно кивала ему. Лето уже перевалило за середину, и трава успела пожухнуть, пожелтеть, в ней не было видно цветов, разве что белый пушок отцветших соцветий. Какая-то женщина поднималась прямо к нему по склону холма среди высоких трав. Шла она не по тропе, но очень легко, свободно, не спеша.
Ему казалось, что он успел поднять руку и произнести связующее заклятие, чтобы остановить ее, но почему-то рука его так и не поднялась, а женщина продолжала идти. Она остановилась, только когда была от него на расстоянии шага.
— Назови мне свое имя, — сказала она, стоя чуть ниже и подняв к нему лицо, и он ответил:
— Териэль.
— Зачем ты сюда явился, Териэль?
— Чтобы вас уничтожить.
Он не сводил с нее глаз, но видел перед собой всего лишь обыкновенную круглолицую женщину средних лет, невысокую и крепкую, с сединой в волосах; ее темные глаза смотрели из-под густых темных бровей так, что приковывали к себе его взгляд и заставляли его уста произносить только правдивые слова.
— Уничтожить нас? Уничтожить наш Холм? И эти деревья? — Она посмотрела вниз, на небольшую рощу недалеко от холма. — Возможно, Сегой, который их создал, и был бы способен их уничтожить. Возможно, сама земля тоже способна уничтожить себя. И, возможно, она, в итоге, так и сделает — благодаря нашим усилиям. Но только не твоим, фальшивый правитель, фальшивый дракон, фальшивый человек. Никогда не ступай на Холм Рок, если не знаешь заранее, какова та земля, на которую ты ступил! — Она сделала один-единственный жест рукой, указав ему на землю, повернулась и пошла прочь — вниз по склону холма, по высокой траве, тем же путем, каким пришла сюда.
И вдруг Эрли увидел, что на холме вокруг него толпится множество людей — мужчины и женщины, старики и дети, живые и мертвые, причем души мертвых толпились среди живых. Эрли стало страшно. Он даже присел на корточки и попытался произнести заклятие, которое скрыло бы его ото всех этих людей.
Но никакого заклятия он не произнес. И понял, что у него совсем не осталось волшебной силы. Вся она куда-то исчезла, ушла из него, утекла в этот ужасный холм, в эту ужасную землю у него под ногами, покинула его! Он больше не был волшебником, он стал самым обыкновенным человеком, таким же, как все остальные, и он был бессилен.
Эрли понимал это, понимал это отлично, но все еще пытался выговорить слова заклятия, все еще вздымал руки в повелительном жесте, все еще сотрясал кулаками в бессильной ярости. А потом посмотрел на восток, напрягая зрение и надеясь разглядеть сверкающие на солнце весла боевых галер и их паруса. Они идут сюда, его корабли! Они спасут его и накажут всех этих людей и эту строптивую женщину!..
Но парусов он не увидел; он увидел только туман. Густой туман повис над водой, окутав залив и скрывая море за его пределами. И туман этот все сгущался, становился темнее, а на море неторопливо начинали вздуваться волны, предвещая бурю.
Земля, вращаясь вокруг своей оси и поворачиваясь к солнцу той или иной стороной, заставляет ночь и день сменять друг друга, но внутри земли царит ночь. Медра шел в сплошной темноте. Он очень сильно хромал, и у него часто не хватало сил, чтобы поддерживать волшебный свет. Когда гас и этот крошечный огонек, ему приходилось просто останавливаться. Тогда он опускался на землю и засыпал. Но этот сон не был похож на смерть и ни разу не превращался в нее, как ему сперва показалось. Он просыпался от вполне живых, хотя и весьма неприятных ощущений — от холода, от боли, от невыносимой жажды. И все же, как только ему удавалось зажечь волшебный огонек, он поднимался на ноги и шел дальше. Он ни разу не видел Аниеб, но знал, что она рядом. Это она вела его. Иногда ему попадались очень большие пещеры. А иногда — настоящие озера с такой неподвижной водой, что было страшно нарушать эту неподвижность, но все же он пил из них. Ему все время казалось, что он заходит все глубже и глубже в недра земные, но вдруг вышел на берег очередного озера, самого большого из тех, что ему до сих пор попадались, и после этого снова начался явный подъем. Теперь уже он вел Аниеб, а она лишь следовала за ним. И он уже мог произнести вслух ее имя, хотя она ему не отвечала. Но никаких других имен он вслух произнести не мог, зато мог думать о деревьях из Рощи, о корнях тех деревьев… Здесь было настоящее царство древесных корней. Как далеко простирается этот лес? Так далеко, как обычно простираются леса. И тянутся так долго, как жизни людей, корни которых так же глубоки, как корни деревьев. И все это продолжается, пока листва в Роще отбрасывает на землю резные тени… Но здесь не было ни света, ни теней, только тьма, и Медра упрямо шел вперед, пока не увидел перед собой Аниеб. Ее блестящие глаза, облако ее пышных кудрявых волос… Оглянувшись, она некоторое время смотрела на него, а потом вдруг свернула в сторону и легко побежала куда-то вниз по пологому склону — во тьму.
И он вдруг заметил, что тьма вокруг уже не такая плотная, и почувствовал на лице слабое дыхание ветра. А далеко впереди виднелся свет, неясный, слабый, но, похоже, самый настоящий, не волшебный. И Медра пошел вперед, точнее, пополз, приволакивая правую ногу, ибо она уже не выдерживала его веса. Продвигаясь все дальше вперед, он вскоре почувствовал земные вечерние запахи и увидел кусочек вечернего неба, просвечивавшего сквозь ветви и листву огромного дерева. Изогнувшийся дугой корень огромного дуба образовывал как бы арку над входом в пещеру, и этот вход был такой узкий, что крупный барсук и уж тем более человек с трудом мог бы в него протиснуться. Но Медра прополз в эту дыру и наконец оказался СНАРУЖИ. А потом он лег прямо у корней дерева и стал смотреть, как меркнет вечерний свет, как среди листвы загораются первые звезды.
Именно там и нашел его Легавый — в нескольких милях от того шрама на склоне холма, на самой опушке великого леса Фалиерн.
— Ну вот, догнал я тебя наконец! — удовлетворенно сказал старик, глядя на распростертое на земле грязное и казавшееся совершенно безжизненным тело Медры. И тут же прибавил с сожалением: — Только слишком поздно. — Он наклонился, пытаясь приподнять мертвого и опасаясь, что ему придется просто волочь его по земле, но тут почувствовал в лежащем без чувств человеке слабое биение жизни и радостно воскликнул: — Да ты никак живой! Ну так давай, просыпайся, парень! Очнись! Эй, Выдра!
Медра открыл глаза, явно узнал Легавого, но даже сесть оказался не в силах и едва мог говорить. Старик накинул ему на плечи свою куртку, напоил его водой из фляжки и присел возле него на корточки, прислонившись спиной к огромному стволу дуба. Некоторое время оба молчали, глядя куда-то в лес. Близился полдень, яркие лучи летнего солнца пробивались сквозь густую зеленую листву. На вершине дуба застрекотала белка, с соседнего дерева ей откликнулась сойка. Легавый поскреб шею и вздохнул.
— Волшебник наш, как всегда, отправился по ложному следу, — сказал он наконец. — Сказал, что ты непременно на острове Рок, там он тебя и поймает. А я ничего ему не сказал.
И он посмотрел на человека, которого знал только под именем Выдра.
— Ты ведь ушел под землю через ту дыру, в которую старый Белолицый прыгнул, верно? Нашел ты его там?
Медра кивнул.
— Хм… — Легавый коротко и немного сердито усмехнулся. — Ты всегда находишь то, что ищешь, верно? Как и я. — Он видел, что его собеседник чем-то сильно опечален, и сказал: — Ты не бойся, я тебя отсюда вытащу. Схожу в деревню — она вон там, под горой, — и приведу кого-нибудь с повозкой. Вот только отдышусь немного. Послушай, ты насчет меня плохого не думай: я не для того столько лет всех с твоего следа сбивал, чтобы теперь тебя Эрли отдать, как Геллуку тогда отдал. До чего же я об этом потом жалел! И сколько передумал! А помнишь, я говорил тебе, что нам, «ловкачам», надо вместе держаться? И понимать, на кого мы работаем? Правда, у меня-то особого выбора не было. Но после истории с тобой я сильно задумался и решил, что если мне еще раз доведется с тобой встретиться, то я непременно окажу тебе настоящую услугу. Если смогу, конечно. Как один Искатель другому, ясно?
Выдра, задыхаясь, попытался что-то сказать в ответ, но Легавый ласково коснулся его руки и сказал:
— Молчи. И ни о чем не беспокойся. — Он решительно встал, собираясь идти в деревню. — Лежи, отдыхай, а я скоро вернусь.
Он действительно очень скоро вернулся с возчиком, который согласился доставить их в Эндлейн. Мать Выдры и его сестра жили теперь у родственников, надеясь впоследствии все же отстроить сгоревший дом. Они просто глазам своим не поверили, увидев Выдру живым, и страшно обрадовались. Не зная о том, что Легавый находится на службе у Лозена и Эрли, эти женщины обращались с ним, как с родным. Они были очень благодарны этому хорошему человеку, который не только нашел их бедного Выдру полумертвым в лесу, но и привез его домой. Мать Выдры без умолку расхваливала Легавого соседям, говоря, какой он мудрый и добрый. Действительно, мудрый, но вот добрый ли? Этого и сам Выдра еще не знал.
Выдра поправлялся медленно. Целительница-костоправ долго колдовала над его сломанным плечом и вывихнутым бедром, лечила глубокие порезы на руках, на коленях и на голове, нанесенные острыми краями камней в темных подземных пещерах, а мать готовила ему вкусные кушанья и все старалась принести какое-нибудь лакомство из местных садов и ягодников. Но он лежал, почти такой же слабый и безучастный, как и когда Легавый нашел его у корней большого дуба. «У него больше не осталось сердца», — сказала знахарка, лечившая его. Она говорила правду: сердце его действительно было в другом месте, изъеденное тревогой, страхом и стыдом.
— Ну, и куда же его сердце подевалось? — сердито спрашивал знахарку Легавый.
Вдруг Выдра, до того молчавший, промолвил:
— Мое сердце на острове Рок.
— Ага! Там, значит, куда старый Эрли отправился со своим огромным флотом? Ясно… У тебя, значит, друзья там? Ну что ж, один из тех кораблей уже вернулся. Пойду-ка я в таверну да порасспрошу кое-кого из морячков. Разузнаю, как они добрались до этого острова и что там дальше случилось. Но вот одно я могу тебе и так сказать совершенно точно: старый Эрли, похоже, не скоро еще вернется домой! Хм, хм… — Легавый был страшно доволен своей шуткой и еще раз повторил: — Да, домой наш Эрли вернется еще не скоро! — Он встал и посмотрел на Выдру. Вид у того, надо сказать, был довольно жалкий. — Ничего, парень. Отдыхай и ни о чем не думай! — И Легавый удалился.
Его не было несколько дней. А вернулся он с конной повозкой и с таким победоносным видом, что сестра Выдры воскликнула:
— Легавый-то наш, верно, целое состояние выиграл! Приехал на отличной городской бричке, а в бричку отличная городская лошадка впряжена. И сам восседает на козлах, точно принц какой!
Не успела она это сказать, как вошел сам Легавый.
— Ну что ж, — сказал он, — во-первых, когда я прибыл в столицу, то сразу пошел во дворец, чтобы узнать последние новости, и что же я увидел? Я увидел нашего старого правителя Лозена, который стоял на собственных ногах и раздавал направо и налево всякие указания! СТОЯЛ! А ведь он сколько лет уже к своему креслу параличом был прикован! И как громко он командовал, ты бы слышал! Вот только некоторые его приказов слушались, а некоторые нет. Так что я поспешил оттуда убраться: когда в королевском дворце идет раскол, там становится опасно. И я отправился к своим друзьям и спросил, где сейчас старый Эрли, добрался ли его флот до острова Рок и вернулся ли он назад? Ну и все такое. И они сказали, что об Эрли с тех пор вообще ничего не известно! Ни его самого больше не видели, ни весточки какой от него с тех пор не получали. Может быть, спросили они меня, я сумел бы его отыскать — ну, это они, конечно, шутили, поддразнивали меня, хм… Они-то знают, как я нашего Эрли люблю. А что касается кораблей, то некоторые из них вернулись вместе со всей командой, и моряки утверждают, что так и не смогли добраться до Рока, что они даже его не видели, а проплыли как бы сквозь него, прямо по тому месту, где, согласно картам, должен был быть остров, только никакого острова там не оказалось. А еще я в таверне встретил несколько человек с одной из самых крупных галер, и они мне рассказали, что когда их судно подошло совсем близко к тому месту, где должен быть остров, то вдруг поднялся такой густой туман, ну точно мокрая простыня, и море тоже стало каким-то вязким, так что гребцы едва могли шевелить веслами, и в этом киселе они проторчали, как в ловушке, целые сутки. А когда выбрались из тумана, то вокруг до самого горизонта не было видно больше ни одного корабля, и рабы чуть не взбунтовались, так что шкипер развернул судно и постарался как можно скорее вернуться домой. Другая галера, старая «Грозовая туча», которая считалась личным кораблем Лозена, как раз входила в гавань, когда я сидел в таверне. И я потом кое с кем из ее команды тоже переговорил. Они все утверждали, что в том месте, где должен быть Рок, не было ничего, кроме рифов и тумана, так что они проплыли с семью другими кораблями немного южнее и там столкнулись с боевыми судами правителя Уотхорта. Возможно, тот решил, что на их остров движется с захватническими целями огромный флот Лозена, а потому ни в какие переговоры вступать не стал, а просто велел своим волшебникам наслать на наши суда волшебный огонь. Свои же суда выстроил неподалеку, чтобы пойти на абордаж, если представится такая возможность. Те люди, с которыми я беседовал, сказали, что бой был тяжелый, им огромных усилий стоило хотя бы уйти от погони, и не всем это удалось. Однако об Эрли они ничего не слышали, а на обратном пути им даже пришлось другого колдуна-ветродуя нанять. И уцелевшие в том сражении корабли плелись обратно через все Внутреннее море, точно побитые собаки, — так мне тот моряк с «Грозовой тучи» рассказывал. Ну как? Нравятся тебе мои новости?
Выдра задыхался от слез, он даже лицо руками закрыл.
— Да, — только и смог он вымолвить, — да, спасибо!
— Я так и думал, что тебе мой рассказ по сердцу придется. А что касается Лозена, — продолжал Легавый, — то кто знает… — Он потянул воздух носом и вздохнул: — Я бы на его месте, пожалуй, ушел на покой. Думаю, что и мне самое время это сделать.
Выдре наконец удалось совладать со своим лицом и голосом, он вытер глаза, высморкался, откашлялся и сказал:
— Что ж, это, возможно, очень неплохая мысль. Приезжай к нам на Рок. Там безопаснее всего.
— Похоже, мне это место отыскать будет трудновато, — заметил Легавый.
— Ничего, зато я всегда могу его отыскать, — радостно заверил его Выдра.
Глава 4
Медра
Двери в доме у нас человек сторожил.
И богатым, и бедным он равно служил.
И князья, и крестьяне являлись туда,
Только двери им он открывал не всегда.
Так вдаль бежит вода, вода,
Так вдаль бежит вода.
Легавый остался в Эндлейне. Он мог там зарабатывать себе на жизнь как лозоходец, а также просто отыскивая пропавшие вещи. К тому же ему очень нравилась местная таверна и гостеприимство матери Выдры.
К началу осени Лозена повесили за ноги на стене Нового Дворца, и он висел там, пока не сгнил, а шестеро воинственных правителей тем временем воевали, пытаясь поделить его королевство, и корабли некогда огромного единого флота гонялись друг за другом по всем морям и проливам, воды которых были взбаламучены бесконечными штормами, насылаемыми волшебниками.
Но «Надежда», хорошо оснащенная и управляемая двумя молодыми колдунами из «Союза Руки», спокойно вышла из Хавнора и доставила Медру целым и невредимым через все Внутреннее море на остров Рок.
Эмбер встречала его на причале. Хромой и страшно исхудавший, он подошел к ней и взял ее руки в свои, но никак не мог поднять глаза и посмотреть ей в лицо.
— У меня на сердце слишком тяжело: столько смертей на моей совести, Элеаль! — только и сказал он.
— Ну так пойдем со мной в Рощу, — просто предложила она ему.
И они вместе отправились в Имманентную Рощу и прожили там до начала зимы. А на следующий год построили себе маленький домик на берегу речки Твилберн, что берет начало в Роще, и каждое лето жили в этом домике.
Работали же они и учили учеников в Большом Доме. Они сами следили за тем, как он строился, и каждый камень в его стенах был укреплен их защитными заклятиями, а также заклятиями прочности и мира. Они были свидетелями того, как был принят Устав острова Рок, хотя это прошло далеко не так гладко, как им бы хотелось, и всегда на острове и в Школе шла борьба с некоей оппозицией, ибо маги и волшебники прибывали на Рок и с других островов, а также вырастали из бывших учеников — мужчин и женщин, наделенных не только магической силой и знаниями, но и непомерной гордостью. Все они клялись на Уставе трудиться вместе со всеми и во имя Добра, но каждый по-своему представлял себе, как именно это следует делать.
Старея, Элеаль все больше уставала от кипевших в Школе страстей и тамошних проблем и испытывала все большую тягу к деревьям в Роще; она часто уходила туда одна и забиралась так далеко, как только может простираться человеческий разум. Медра тоже часто уходил в Рощу, но не так далеко, как Элеаль, ибо был хром.
Когда Элеаль умерла, Медра так и остался жить один в своем маленьком домике на опушке Рощи.
Однажды осенью он вернулся в Школу. Он вошел туда через заднюю дверь, выходившую в сад и на тропу, ведущую через поля на Холм Рок. Самое любопытное в Большом Доме Рока то, что в нем нет ни парадного входа, ни красивых ворот. В Школу Волшебников можно войти только через боковую дверь, которая — хоть она и сделана из рога с рамой из драконьего зуба, хоть на ней и вырезано Древо Жизни С Тысячью Листьями, — совсем не видна снаружи, когда подходишь к ней по узкой извилистой улочке Твила. Правда, попасть в Большой Дом можно еще через сад, куда выходит простая дубовая дверь с железной задвижкой. Но все равно — парадной двери в этом доме нет вообще.
Медра прошел по залам и коридорам с мраморными стенами в самое сердце Школы — во внутренний дворик, выложенный белой плиткой, где пел фонтан и где рос посаженный Элеаль ясень, теперь ставший высоким и раскидистым.
Услышав, что он здесь, все сразу же поспешили к нему, учителя и ученики Школы, мужчины и женщины, мастера и подмастерья магических искусств и ремесел. Медра прежде был в Школе Мастером Искателем, пока не ушел жить в Рощу, и теперь одна женщина, его бывшая ученица, учила молодых его искусству.
— Я вот все думал, — сказал он. — Вас здесь восемь Мастеров. Но девять — куда лучшее число. Так что можете считать меня снова одним из вас. Если хотите, конечно.
— А что ты будешь делать, Мастер Крачка? — спросил Мастер Заклинатель, седовласый маг с острова Илиен.
— Я буду стеречь нашу дверь, — сказал Медра. — Будучи хромым, я не смогу далеко отойти от нее. Будучи старым, я сразу пойму, что сказать тому, кто к нам постучится. Будучи Искателем, я отыщу причину, приведшую сюда этого человека, и узнаю, подходит ли он нам.
— Это избавило бы нас от огромного количества хлопот и забот, а также от известной опасности, — сказала бывшая ученица Медры, молодая Искательница.
— А что ты намерен у них спрашивать? — спросил Заклинатель.
— Я стану спрашивать у каждого его Истинное имя, — сказал Медра. И улыбнулся. — Если человек назовет его мне, то сможет войти. А если он будет считать, что ему ни к чему называть свое Имя какому-то привратнику, то пусть отправляется восвояси. Те же из учеников, которые решат, что уже научились всему на свете, смогут отсюда уйти только в том случае, если назовут мое Имя.
Так все и стало происходить отныне. И всю оставшуюся жизнь Медра охранял двери Большого Дома на острове Рок. Та садовая дверь, что выходила на Холм, долго еще называлась Дверью Медры — даже после того, как очень многое переменилось в этом Доме с течением столетий. И по-прежнему девятым Мастером в Школе считается Мастер Привратник.
В селении Эндлейн и других деревнях у подножия горы Онн на острове Хавнор женщины за работой, когда ткут, прядут или вяжут, часто поют одну песенку-загадку, последний куплет которой, возможно, имеет самое непосредственное отношение к человеку, Истинное имя которого было Медра, но которого звали также Выдра и Крачка:
Три вещи в мире более неповторимы:
Солеа, светлый остров среди волн морских;
Дракон, плывущий в море, точно в облаках;
Морская птица, что и под землей — летит!
Темная Роза и Диамант
Песня лодочника с западного побережья Хавнора:
Куда устремится любовь моя,
Туда же пойду и я.
Куда повернет он лодку свою,
Туда я жизнь поверну мою.
Мы с ним смеяться вместе будем
И плакать, как одна семья.
Коль жив он будет, буду жить я,
Умрет он, так умру и я.
На Западном побережье острова Хавнор, среди холмов, заросших дубовыми и каштановыми рощами, стоит город Глейд. Сколько-то лет назад жил там очень богатый купец по имени Голден, по прозвищу Золотой. Голден владел лесопилкой, где стволы дубов превращали в доски для обшивки тех кораблей, которые строили в портах Хавнора. Был он также хозяином самых больших каштановых рощ на острове; ну и, разумеется, имелись у него всякие телеги и повозки, и он специально нанимал множество возчиков, чтобы те развозили лес и каштаны по всему холмистому побережью Хавнора на продажу. От своих лесных владений он имел немалую выгоду, и когда у него родился сын, то жена его сказала: «Может, нам стоило бы назвать мальчика Каштан или Дуб?» — но он возразил: «Нет, только Диамант!» — ибо диамант, или бриллиант, по его разумению, был единственной вещью на свете, что стоила дороже золота.
Итак, маленький Диамант рос в одном из самых богатых домов города Глейда, и был он толстеньким ясноглазым малышом, а потом стал румяным веселым мальчишкой-проказником. У него был приятный звонкий голосок и хороший слух. Музыку он очень любил, так что мать называла его Певчей Птичкой или Жаворонком, а также другими любовными прозвищами, потому что никогда особенно не любила имя Диамант. Мальчик сразу запоминал любую песню или мелодию, стоило ему ее один раз услышать, да и сам легко сочинял всякие песенки и распевал их на весь дом, если не удавалось услышать ни одной новой. Его мать, Тьюли, специально пригласила в дом одну мудрую женщину по имени Тангле, чтобы та учила мальчика «Созданию Эа» и «Подвигу молодого короля», и к весеннему равноденствию, когда Диаманту исполнилось одиннадцать, он спел «Зимнюю песнь» для правителя Западных земель — тот как раз посещал свое поместье, расположенное в горах, над Глейдом. Этот лорд и его супруга очень хвалили мальчика за прекрасное пение и подарили ему на память маленькую золотую шкатулочку, в крышку которой был вделан крошечный бриллиант — этот подарок показался Диаманту и его матери очень красивым и щедрым. Но Голдена несколько раздражало и пение сына, и его любовь к красивым безделушкам. «Есть куда более важные вещи, сынок, и тебе вскоре предстоит ими заняться, — говорил он. — А награды, которые ты еще получишь в жизни, тоже должны быть неизмеримо выше».
Диамант считал, что отец говорит о своем деле — о лесорубах, о пильщиках, о лесопилке, о каштановых рощах, о сборщиках каштанов, о возчиках и повозках — обо всех тех сложных «взрослых» проблемах, которые, как ему казалось, пока что не имеют к нему никакого отношения, так что он просто не мог участвовать в подобных разговорах. Но Голден не терял надежды. «Возможно, — думал он, — Диамант еще слишком мал и все поймет, когда вырастет».
Но на самом-то деле Голден думал отнюдь не только о делах. Он давно уже заметил в своем сыне кое-что такое, отчего уверен был, что тому суждено заниматься чем-то большим, чем торговля лесом и каштанами, и порой он в священном ужасе закрывал глаза, представляя себе дальнейшую судьбу Диаманта.
Сперва он думал, что это просто некая случайная искорка магической силы — в Земноморье такое часто бывает у детей в раннем возрасте, а потом пропадает. Сам Голден, например, в детстве тоже умел заставить светиться собственную тень или делал так, что от него во все стороны сыпались искры. Отчасти за это он и получил свое прозвище Золотой. В семье его всегда хвалили за эти фокусы и заставляли демонстрировать их гостям; а потом, когда ему исполнилось лет семь или восемь, он эту способность утратил, причем раз и навсегда.
Когда Голден увидел, как его сынок спускается по лестнице, не касаясь ступеней, то не поверил собственным глазам; но через несколько дней он снова заметил, что Диамант буквально вплывает по лестнице на верхний этаж, лишь касаясь пальцем дубовых перил.
— А вниз ты так спуститься можешь? — спросил Голден заинтересованно, и мальчик радостно ответил:
— Ой, ну конечно! Это же еще легче. — И поплыл по лестнице вниз, точно невесомое облачко, гонимое южным ветерком.
— Как ты этому научился? — спросил отец.
— Да я просто… обнаружил вдруг, что умею это делать, — запинаясь, пояснил Диамант, явно не уверенный в том, что отцу это понравится.
Голден хвалить мальчика не стал, не желая пробуждать в нем зазнайство или тщеславие из-за того, что в итоге может оказаться просто детской особенностью развития, которая со временем пройдет — вроде его звонкого голоса. Ох уж этот голос! Слишком много из-за него было шума, да и жена все уши ему прожужжала о необычайных музыкальных способностях сынишки.
Но как-то раз, примерно через год после этого разговора, Голден заметил из окна, что Диамант играет в саду за домом вместе со своей подружкой Розой. Дети сидели на корточках, близко придвинув друг к другу головы, и чему-то смеялись. Какое-то жутковатое напряжение, царившее вокруг них, заставило Голдена замедлить шаг, остановиться у окна и понаблюдать подольше. Что-то живое прыгало в траве между детьми — вверх-вниз, вверх-вниз… лягушка? жаба? большой кузнечик? Голден спустился в сад и подошел к детям поближе, ступая так тихо и осторожно, хотя он был очень крупным мужчиной, что малыши, поглощенные своим занятием, ничего не услышали. То, что прыгало вверх-вниз на траве возле их босых ног, оказалось простым камешком. Когда Диамант поднимал руку, камешек подпрыгивал вверх. Когда он слегка поводил рукой туда-сюда, камешек тоже начинал описывать в воздухе круги и зигзаги, а стоило мальчику хотя бы палец вниз опустить, камешек падал на землю.
— А теперь ты, — сказал Димант Розе, и девочка попробовала сделать то же самое, но у нее камешек только чуть-чуть шевельнулся.
— Ой, — прошептала вдруг Роза, — тут, оказывается, твой папа!
— Как это у вас здорово получается, — сказал Голден.
— Это все Ди придумал! — сказала Роза восхищенно.
Голден терпеть эту девчонку не мог. Слишком уж она была открытой и одновременно острой на язык, всегда готовой защищаться, но, как ни странно, очень застенчивой. Она была на год моложе Диаманта, но, самое главное, она была дочерью этой ведьмы Тангле! Голден предпочел бы, чтобы его сын играл со своими сверстниками-мальчишками, и лучше бы из таких же уважаемых семей Глейда, как его семья, но Тьюли почему-то упорно привечала эту ведьму, называла ее «мудрой женщиной», хотя ведьма есть ведьма, и дочка ее — совсем не подходящая компания для маленького Диаманта. Однако самолюбию Голдена даже отчасти польстило то, что его сын обучает магическим трюкам ведьмино отродье.
— А что еще ты умеешь, Диамант? — спросил он.
— Играть на флейте, — и мальчик тут же вытащил из кармана маленькую флейту, которую мать подарила ему в день двенадцатилетия. Он поднес флейту к губам, пальцы его заплясали на дырочках. Он играл прелестную мелодию с западного побережья «Куда устремится любовь моя».
— Очень мило, — сказал Голден. — Но вообще-то на флейте любой может научиться играть.
Диамант быстро глянул на Розу; та отвернулась и потупилась.
— Но я ОЧЕНЬ быстро научился! — возразил Диамант.
Голден что-то равнодушно проворчал себе под нос.
— Вообще-то моя флейта и сама может играть, — сказал Диамант и отнял флейту от губ, продолжая перебирать пальцами отверстия. И флейта действительно сыграла джигу. Правда, в нескольких местах она взяла фальшивую ноту, а закончила довольно визгливым аккордом.
— У меня пока еще не очень хорошо получается, — сказал Диамант немного смущенно.
— Да нет, почему же, очень неплохо, — похвалил его отец. — Ну ладно, продолжай упражняться. — И он пошел по своим делам, совершенно не уверенный в том, что сказал сыну правильные слова. Ему очень не хотелось поощрять эти музыкальные занятия, а также крайне не нравилось то, что мальчишка слишком много времени проводит в обществе этой девчонки и занимается всякими глупостями, а ведь ни музыка, ни ведьмина дочка не сумеют помочь ему достигнуть в жизни должных высот. Но этот магический дар, этот неоспоримый талант волшебника — скачущий камешек, играющая сама собой флейта… Ну что ж, было бы неправильно возлагать на этот дар слишком большие надежды, однако, пожалуй, расхолаживать мальчика не стоит.
В представлении Голдена, власть всегда обеспечивали деньги, но в жизни важна была не только власть. Были еще два фактора, и один из них имел примерно такой же вес, а другой был гораздо весомее. Во-первых, крайне важно, в какой семье ты родился. Когда правитель Западных земель прибыл в свое поместье близ Глейда, Голден был чрезвычайно рад присягнуть ему на верность, как сюзерену. Этот лорд был рожден, чтобы править своей страной и охранять ее мир и покой, а он, Голден, был рожден для того, чтобы заниматься торговлей и приумножать собственное богатство, и каждый был на своем месте, ведь любой человек, знатный или самый простой, если он хорошо и честно служит своему делу и исполняет свой долг, достоин славы и уважения. Но существовали и мелкие правители, которых Голден мог купить, или продать со всеми потрохами, или, например, заставить просить милостыню; эти люди, родившись в благородных семьях, не заслужили ни денег, ни славы, ни почестей, ни уважения, и вряд ли кто-то стал бы присягать им на верность. Знатность и власть, которую эта знатность дает, а также власть, которую дает богатство, — это вещи условные, зависящие от обстоятельств, но их нужно заработать, иначе и ту, и другую власть ничего не стоит и потерять.
Но среди богатых и знатных людей были и такие, кого по совсем иной причине называли людьми могущественными, ибо они обладали особой, магической силой и были волшебниками. Власть таких людей, даже при минимальном ее применении, была абсолютной. В их руках находилось управление практически всеми островами Архипелага, давно уже не имевшими настоящего короля.
Если Диамант рожден для власти такого рода, думал Голден, если именно таков его природный дар, то все планы насчет того, чтобы обучить его торговому делу и сделать своим помощником, рассыпаются в прах, а ведь он, Голден, так мечтал, чтобы сын впоследствии расширил торговые отношения с Южным портом, сделав их регулярными, а также присовокупил к уже имеющимся каштановым рощам те рощи, что на холмах близ Рече! А что, если Диаманта отправить в Школу Волшебников на острове Рок? Некогда там учился, например, дядя Тьюли и, между прочим, впоследствии прославил свою семью, став придворным магом во дворце короля в Хавноре. Голден и сам взлетел по лестнице, почти не касаясь ступеней, настолько воодушевили его эти мечты.
Но мальчику он ничего о своих планах не сказал, как не сказал ничего и его матери. Он вполне сознательно держал рот на замке, не доверяя мечтам и иллюзиям, пока они не стали конкретными и воплощенными в жизнь фактами. А его жена Тьюли, хоть и была заботливой хозяйкой и любящей матерью, и без того уже слишком много внимания уделяла талантам Диаманта и его успехам. Кроме того, она, как и все женщины, питала склонность к пустой болтовне и сплетням, а также, по мнению Голдена, была слишком неразборчива в выборе друзей. Например, эта девчонка Роза не отходила от их мальчика ни на шаг, а все потому, что Тьюли очень подружилась с ее матерью, ведьмой Тангле, всячески ее привечала и без конца приглашала к себе — посоветоваться или просто поболтать. Стоило Диаманту содрать заусеницу, как Тьюли уже звала эту особу. Да и вообще она рассказывала ей куда больше, чем кому-либо другому, — в том числе и о делах мужа. А он в своих делах не желал иметь ничего общего с ведьмами. С другой стороны, только Тангле могла бы сказать наверняка, обладает ли его сын каким-то особым магическим даром… Однако просить совета у ведьмы Голдену уж очень не хотелось, тем более о судьбе собственного сына.
И он решил подождать и понаблюдать. Будучи человеком терпеливым и обладая сильной волей, он ждал целых четыре года, пока Диаманту не исполнилось шестнадцать и он не превратился в крупного, хорошо развитого юношу, делавшего успехи и в спорте, и в науках. Он был такой же румяный, ясноглазый и веселый, как в детстве, и страшно огорчился, когда у него начал ломаться голос и его замечательный звонкий дискант куда-то исчез. Голден надеялся, что тут-то его увлечение пением и закончится, но юноша продолжал ходить следом за бродячими музыкантами, всякими там исполнителями баллад и прочим подозрительным народом и мгновенно выучивал весь их репертуар, хотя заниматься подобной ерундой было, конечно, совершенно негоже для сына столь уважаемого купца. А ведь именно Диаманту предстояло унаследовать и развить дело отца, принять во владение все его немалое имущество, все лесопильные и торговые предприятия, так что в итоге Голден сказал ему прямо:
— С пением пора кончать, сынок. Надо думать о том, как стать настоящим мужчиной!
Диамант уже получил свое Истинное имя у источников Амиа, что бьют в горах над Глейдом. Волшебник Хемлок, который когда-то был знаком с двоюродным дедушкой Диаманта, известным магом (тем самым дядей его матери, который учился на Роке), специально поднялся в горы из Южного порта, чтобы осуществить обряд имяположения. А год спустя Хемлок был приглашен и на пир, устроенный по случаю именин Диаманта. На пиру было множество вкусной еды и питья, а также каждый ребенок получил в подарок новую юбку, штаны или сорочку — этот старинный обычай всегда соблюдали на западе Хавнора. А после пира теплым осенним вечером были устроены танцы на зеленой траве. У Диаманта было много друзей — чуть ли не все юноши и девушки в городе. Молодежь танцевала до упаду, и некоторые явно выпили чересчур много пива, но никто никаких особых выходок себе не позволял, и это был очень веселый и всем запомнившийся праздник. Но уже на следующее утро Голден снова позвал к себе сына и сказал ему, что пора становиться взрослым.
— Я уже немного подумал о том, как мне это сделать, папа, — отвечал Диамант своим хрипловатым ломающимся голосом.
— И что же ты придумал?
— Ну, я… — начал было Диамант и осекся.
— Я-то всегда считал, что ты займешься нашим фамильным делом, — сказал Голден. Сказал он это совершенно спокойно, почти равнодушно, и Диамант промолчал. — А ты что на этот счет думаешь? Или, может, ты чем-нибудь иным заняться хотел?
— Иногда меня посещают довольно странные мысли…
— А ты хоть раз говорил об этом с Мастером Хемлоком?
Поколебавшись, Диамант ответил:
— Нет. — И вопросительно посмотрел на отца.
— А вот я вчера говорил с ним! И он сказал, что некоторые природные таланты не только трудно, но и совершенно неправильно, даже преступно подавлять.
В темных глазах Диаманта вспыхнул огонек надежды.
— Мастер Хемлок, — продолжал между тем Голден, — сказал также, что подобные таланты, если они развиты неправильно и лишены нужных знаний, не только, по сути дела, пропадают втуне, но и могут стать очень опасными. Различным искусствам нужно обязательно учиться и практиковаться в них, вот что он сказал. — Лицо Диаманта прямо-таки светилось. — Однако, — продолжал его отец, — Хемлок предупредил, что ради развития своего таланта ты должен заниматься и упражняться постоянно. — Диамант с готовностью закивал. — Особенно если это настоящий талант. Какая-то деревенская ведьма с ее приворотным зельем особого вреда причинить не может, но даже самый обыкновенный волшебник, сказал Хемлок, должен быть очень осторожен, особенно если он использует свои знания и умения для неких коренных изменений… Кроме того, он может невольно погубить и себя самого. Или потерять свою магическую силу. Хотя, разумеется, даже колдун должен получать плату за свой труд. Ну а настоящие волшебники, как ты знаешь, живут во дворцах и имеют все, чего их душа пожелает.
Диамант внимательно слушал его, слегка нахмурившись.
— В общем, — немного помолчав, снова заговорил Голден, — если у тебя действительно есть такой дар, Диамант, то в нем для моего дела — непосредственно, конечно, — никакого проку нет. Но если его должным образом развивать и держать под контролем… Только в таком случае, по словам Хемлока, с тобой можно будет начинать разговор о том, как именно ты можешь своим талантом распорядиться и что хорошего он может дать тебе… и другим! — прибавил он, сознательно сделав паузу. Потом довольно долго молчал, но, поскольку молчал и его сын, он снова заговорил:
— Я рассказал Хемлоку, что видел, как ты, всего лишь шевельнув рукой и произнеся одно-единственное слово, превратил деревянную резную фигурку в живую птичку, которая взлетела на ветку и запела. Я видел, как ты зажег волшебный огонь прямо в воздухе. Ты не знал, что я за тобой
наблюдаю? А я наблюдал! Но долгое время никому ничего не говорил. Я не хотел, чтобы все это превратилось в детскую игру, а потом пропало втуне. Я уверен, что у тебя талант, возможно, большой талант! И после моего рассказа Мастер Хемлок со мной согласился. И сказал, что ты можешь отправиться с ним в Южный порт и стать его учеником; на это уйдет не менее года, а то и больше.
— Учиться у Мастера Хемлока? — спросил Диамант, и голос его вдруг прозвучал на целую октаву выше обычного.
— Если хочешь, конечно.
— Но я… я… я никогда даже не думал об этом! Можно я подумаю? Недолго… один день!
— Ну конечно! — воскликнул Голден, довольный тем, что его сын проявляет такую осмотрительность. Он-то думал, что Диамант сразу ухватится за столь заманчивое предложение, и это, возможно, было бы только естественно, однако ему, отцу, трудно давалось понимание того, что сын не такой, как он сам, — точно филину, который вырастил в своем гнезде орла.
Ибо Голден воспринимал магическое искусство с искренней и безнадежной покорностью, как нечто, находящееся за пределами его разумения, но не как простую забаву, вроде занятий музыкой или сказительством, а как занятие вполне практическое и дающее к тому же прекрасные перспективы, какие и не снились представителям его собственной профессии. А еще Голден — хотя сам он никогда не признался бы в этом — волшебников побаивался. Немного презирал, особенно колдунов с их фокусами, иллюзиями и прочей чепухой, но все же боялся; особенно настоящих волшебников.
— А мама знает? — спросил Диамант.
— Узнает, когда время придет. Она не должна никак влиять на твое решение, Диамант. Женщины ничего в этих делах не смыслят и не должны иметь к ним никакого отношения. Ты должен сделать свой выбор сам, как настоящий мужчина. Понимаешь? — Голден говорил серьезно и горячо, видя в этом разговоре возможность наконец оторвать парня «от маминой юбки». Тьюли, конечно же, будет за него цепляться, но он должен проявить наконец мужскую твердость и выпустить из рук ее подол. И видя, что Диамант кивнул ему достаточно уверенно и с пониманием, Голден остался доволен, а вот у его сына вид был весьма растерянный.
— Значит, Мастер Хемлок сказал, что я… — неуверенно начал Диамант, — …что он думает… что у меня, может быть, есть какой-то… дар? Какой-то талант?
Голден еще раз заверил его, что волшебник сказал именно так, хотя, конечно, еще предстояло установить, каков именно этот дар. То, что мальчик ведет себя так скромно, вызвало у него огромное облегчение. Отчасти бессознательно, он опасался, что Диамант почувствует себя одержавшим над ним, его отцом, победу и сразу попытается утвердить свое превосходство за счет некоего таинственного, опасного и непредсказуемого могущества, по сравнению с которым все богатство, все умение и все достоинство Голдена превращаются в ничто.
— Спасибо, отец, — сказал Диамант, и Голден, обняв сына, ушел, очень им довольный.
Их встреча происходила в зарослях желтоватого ивняка на берегу реки Амии, протекавшей чуть ниже кузницы. Как только Роза добралась туда, Диамант сказал ей:
— Он хочет, чтобы я поехал учиться у Мастера Хемлока! Что же мне теперь делать?
— Учиться у этого волшебника с ядовитым именем? Ведь «хемлок» — это «ядовитый болиголов»!
— Он думает, что у меня огромный талант. К магии.
— Кто?
— Отец. Он видел кое-что из той ерунды, которой мы с тобой все время развлекаемся. Но, по его словам, Хемлок настаивает на том, что мне надо учиться, потому что, видите ли, опасно ничему не учиться, имея какой-то там особый дар! Ох! — И Диамант стукнул себя кулаком по голове.
— Но у тебя ведь действительно талант.
Диамант в ответ только застонал и попытался выдрать у себя клок волос. Он сидел на земле рядом с тем местом, где они так любили играть в «оживление предметов»; ивы здесь росли очень густо и образовывали нечто вроде беседки, и было слышно веселое журчание бегущей по камушкам воды и перезвон-перестук, доносившийся из кузни. Роза тоже села на землю лицом к нему.
— Ты вспомни обо всех тех штуках, которые умеешь делать, — сказала она. — Ты бы ни одной сделать не смог, если бы у тебя к этому таланта не было!
— Но это же очень маленький талант, — невнятно пробормотал Диамант. — Только для таких трюков и годится.
— Откуда тебе знать?
Роза была очень смуглой; облако сильно вьющихся волос обрамляло тонкое лицо; у нее были прелестные рот и нос, серьезные, внимательные глаза. Босые ноги и обнаженные до локтей руки были вечно перепачканы землей, юбка и кофта в полном беспорядке, зато пальцы на руках тонкие и длинные, как у аристократки, ступни маленькие и удивительно изящные, а под драной кофтенкой на шее поблескивало прекрасное ожерелье из аметистов. Ее мать, Тангле, хорошо зарабатывала своим целительством; она отлично вправляла кости, помогала детям появиться на свет, ну и, конечно, знала кое-какие заклятия, помогавшие отыскать потерянную вещь, сварить приворотное или снотворное зелье. Она запросто могла бы позволить и себе, и своей дочери носить красивые новые платья и башмаки, да и вообще — обе могли бы выглядеть более чистыми и аккуратными, только Тангле это все даже в голову не приходило. Домашнее хозяйство ее также совершенно не интересовало. Они с Розой варили на обед главным образом кур или жарили яичницу, поскольку Тангле за ее услуги платили чаще всего именно домашней птицей. У них был домишко в две комнатки, и во дворе там творилось нечто невообразимое: буквально кишели куры и кошки. Тангле очень любила кошек, а также, будучи ведьмой, любила жаб и драгоценные камни. То аметистовое ожерелье, что красовалось теперь на шее у Розы, было когда-то подарено Тангле в благодарность за благополучно принятые роды женой главного лесничего, которая наконец-то родила мальчика. Сама Тангле побрякушки обожала и чуть ли не по локоть украшала свои руки кольцами и браслетами, которые блестели и звенели, когда она торопливо и немного нетерпеливо взмахивала руками, произнося то или иное заклинание. Иногда, в виде украшения, она носила на плече одного из котят. Матерью она была не слишком внимательной, и Роза лет в семь как-то спросила ее:
— Зачем же ты меня родила, если не хотела ребеночка?
— А ты сама подумай: разве можно правильно принять роды, если сама ни разу не рожала? Во всяком деле нужен опыт, — ответила ей мать.
— Значит, ты меня родила, только чтобы опыт приобрести, — фыркнула Роза.
— Мы в жизни только и делаем, что опыт приобретаем, — сказала Тангле. Вообще-то она была совсем не злая, но ей крайне редко приходило в голову как-то побаловать свою дочь, сделать ей что-нибудь приятное. Впрочем, она никогда ее не била и не бранила и всегда старалась дать девочке то, о чем та ее просила. Она также каждый день, хотя и неохотно, готовила для дочери обед, подарила ей свою любимую жабу и аметистовое ожерелье и с большим удовольствием учила ее своему ведьминскому мастерству. Она бы и новую одежду Розе, конечно же, купила бы, да только сама Роза никогда ее об этом не просила. Она вообще старалась никого и ни о чем не просить и сама заботилась о себе с раннего детства, и это было одной из причин того, что Диамант так любил ее. Только с ней он понимал, что такое самостоятельность и свобода. А без нее он чувствовал себя свободным, только слушая музыку или сам исполняя какую-нибудь мелодию или песню.
— У меня, пожалуй, действительно есть один талант, — сказал он, ероша свои светлые волосы и откидывая их назад.
— Оставь свою голову в покое, — заметила Роза.
— И я знаю, что Тарри тоже так считает!
— Ну конечно, есть! И какая разница, что там думает твой драгоценный Тарри? Ведь ты играешь на арфе раз… в девять лучше, чем он!
И это была вторая причина, по которой Диамант так любил Розу.
— А бывают волшебники-музыканты? — спросил он вдруг, поднимая на нее глаза.
Она задумалась:
— Не знаю.
— И я тоже. Вот Морред и Эльфарран часто пели друг другу, а ведь он был великим магом. Я знаю также, что на острове Рок есть Мастер Регент, который рассказывает своим ученикам старинные лэ и всякие истории, а также учит их старинным песням. Но я никогда не слышал о том, чтобы кто-то из волшебников был просто музыкантом.
— Не вижу в этом ничего невозможного. — Роза никогда не видела, почему что-то на свете может оказаться невозможным. И это была третья причина, по которой Диамант так любил ее.
— Мне всегда казалось, что они в чем-то похожи — магия и музыка, — сказал он. — Ведь и любое заклятие имеет свою мелодию. По крайней мере, и песня, и заклятие должны звучать абсолютно чисто.
— Во всяком деле нужен опыт, — сказала Роза наставительно, хотя вид у нее при этом был довольно кислый. — Уж я-то знаю. — Она швырнула в Диаманта камешком, который на полпути превратился в бабочку. Он тоже кинул в ее сторону такую «бабочку», и обе бабочки порхали, сверкая необычайно яркими красками, пока снова не превратились в камешки и не упали на землю. Диамант и Роза давно уже научились подобным трюкам, кстати, очень старым, с помощью которых можно было заставить камешки прыгать или летать, как живые.
— Знаешь, тебе все-таки следует туда поехать, Ди, — сказала Роза. — Просто чтобы выяснить все окончательно.
— Я понимаю…
— А вдруг ты станешь настоящим волшебником? Ох! Ты только подумай, скольким еще штукам ты смог бы тогда меня научить! Например, как менять свое обличье… Мы бы могли становиться кем угодно. Лошадьми! Медведями!
— Лучше уж кротами, — сказал Диамант. — Нет, честное слово, мне больше всего сейчас хочется спрятаться под землю, как крот! Я всегда думал, что отец хочет, чтобы я продолжал его дело, когда стану взрослым. Но весь последний год он молчал и от подобных разговоров воздерживался. Теперь-то я догадываюсь, что было у него на уме! Но что, если из меня никакого волшебника не выйдет? Если в изучении чародейства и волшебства я выкажу не больше успехов, чем в бухгалтерском искусстве? Ну скажи, почему я не могу заниматься тем, чего ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу? Ведь это-то у меня бы получилось, я уверен!
— А почему бы тебе не заняться и магией, и музыкой одновременно? Между прочим, бухгалтера всегда ведь и нанять можно.
Когда она смеялась, ее тонкое худенькое личико начинало светиться, губы раскрывались, как лепестки цветка, а глаза исчезали в веселых морщинках.
— Ох, моя Темная Роза, — сказал Диамант, — как я люблю тебя!
— Конечно, любишь! И не вздумай разлюбить! Не то я тебя так заколдую, что не обрадуешься!
И они, стоя на коленях и упершись ладонями в землю, приблизились друг к другу настолько, что пальцы их переплелись. И под губами Розы лицо Диаманта казалось гладким и нежным, точно спелая слива, лишь пробивавшаяся над верхней губой и на подбородке борода слегка покалывала ее, потому что эти места он недавно начал брить. А под губами Диаманта лицо Розы было нежным, как шелк, лишь на щеке в одном месте к нему прилипла грязь — там, где она почесала щеку испачканной в земле рукой. Они еще теснее прижались друг к другу, но руки их по-прежнему были опущены вниз. И продолжали целоваться.
— Ты моя Темная Роза, — шептал он ей на ухо тайное прозвище, известное только им двоим.
Она молчала, но ее дыхание, касавшееся уха Диаманта, было таким горячим, что он даже застонал. И крепче стиснул ее руки. А потом вдруг отпрянул от нее. И она тоже немного от него отодвинулась.
И оба, откинувшись на пятки, замерли, глядя друг другу в глаза.
— Ох, Ди, — сказала она, — как это будет ужасно, когда ты уедешь!
— А я не уеду, — сказал он. — Никуда. Никогда.
Но он, конечно же, уехал. В Южный порт он ехал на одной из повозок отца, и на козлах тоже сидел один из знакомых возчиков, а рядом с ним сидел Мастер Хемлок. Как правило, люди разумные поступают так, как советуют им волшебники. И, кстати, немалая честь, если волшебник сам приглашает тебя стать его учеником или помощником. Хемлок, учившийся и получивший свой посох волшебника на острове Рок, привык, чтобы многочисленные юнцы стучались в двери его дома, умоляя испытать их, а если у них обнаружится хоть какой-нибудь магический дар, то взять их в ученики. Так что он даже с некоторым любопытством посматривал на этого мальчика, который под вежливыми манерами и веселым поведением явно скрывал самые серьезные сомнения в выбранном пути, а может, даже и сопротивление чьей-то чужой воле. Впрочем, это ведь была идея его отца, считавшего, что мальчик так одарен, что ему просто необходимо учиться у настоящего волшебника. Это было не так уж и необычно среди богатых людей, но еще чаще встречалось среди людей бедных. Что ж, так или иначе, а плату за обучение этого мальчика он, Хемлок, получил очень хорошую и авансом. К тому же все золотыми монетами и пластинками из слоновой кости. Если у этого Диаманта есть какой-то талант, он, конечно же, станет его учить, а если у него всего лишь, что более вероятно, дарование небольшое, этакое отклонение от нормы, свойственное многим детям в Земноморье, то он отошлет его домой вместе с теми деньгами, что останутся от полученного аванса. Хемлок был человеком честным, прямым и начисто лишенным чувства юмора; к тому же он был и в достаточной степени педантом, так что его весьма мало интересовали всякие там завиральные идеи и чувства. Его собственный талант заключался в знании имен. «Магическое искусство начинается и кончается именами», — говорил он, и это действительно так, хотя между началом и концом есть много еще чего.
Итак, Диамант вместо изучения заклятий, иллюзий, превращений и прочих «цветистых трюков», как называл их Хемлок, сидел в тесной комнатушке на задах небольшого домишки волшебника на одной из узких окраинных улочек старой столицы и запоминал длинные-предлинные списки слов, обладавших магической силой и принадлежавших Языку Созидания. Названия растений и их частей, названия животных и их частей, названия островов и частей этих островов, частей судов, частей человеческого тела… Эти слова никогда не имели для него никакого смысла, никогда не складывались в предложения, это были всего лишь перечни отдельных слов. Длинные-предлинные перечни.
Мысли его то и дело «убегали» в сторону. Например, он узнавал, что слово «ресницы» в Истинной Речи звучит как «сиаса», и чувствовал, как знакомые темные ресницы, точно крылья бабочки, щекочут ему щеку… Он изумленно вскидывал глаза, уверенный, что нечто коснулось его щеки, но не понимал, что же это было. А когда он пытался повторить это слово по требованию Хемлока, то губы отказывались ему повиноваться, и он стоял, будто онемев.
— Память, память, — сердито бурчал Хемлок. — Талант без памяти ничто! — Волшебник был не то чтобы жесток, но неуступчив, и Диамант даже не догадывался, каково мнение Хемлока о его персоне, но полагал, что мнение это не слишком высоко. Хемлок иногда брал его с собой — посмотреть на работу настоящего волшебника. Чаще всего ему приходилось налагать охраняющие заклятия на корабли и дома и очищающие заклятия на колодцы. Иногда он также участвовал в заседаниях городского совета, во время которых обычно молчал, высказывался крайне редко, но всегда очень внимательно слушал. В Южном порту был и другой волшебник; ему не довелось учиться на Роке, но он обладал истинным талантом целителя, а потому взял на себя заботу обо всех больных и умирающих, чему Хемлок был несказанно рад. Для самого Хемлока не было большего удовольствия, чем занятия наукой, чтением какой-нибудь из древних мудрых книг, и, насколько уже успел убедиться Диамант, магией как таковой он вообще предпочитал не заниматься. «Главное — сохранять Равновесие, ибо все в Нем, — говорил Хемлок и прибавлял: — Знания, порядок и самоконтроль». Эти слова он повторял так часто, что они для Диаманта сложились в нечто вроде припева, который постоянно звучал у него в ушах.
Вообще же, когда Диаманту удавалось придумать какую-нибудь мелодию и, точно стихи, положить на нее очередной список имен, он запоминал эти имена гораздо быстрее. Но тогда эта мелодия становилась уже как бы частью этих имен, и Диамант не произносил, а выпевал их так звонко — ибо его голос восстановился, превратившись в сильный и не слишком высокий тенор, — что Хемлок даже хмурился: он любил, чтобы у него в доме всегда стояла тишина.
Предполагалось, что ученик должен всегда находиться при учителе, или же изучать списки имен в той комнате, где стояли всякие мудрые книги, или же просто спать. Хемлок был сторонником заповеди «рано вставать — рано в кровать», и Диаманту лишь изредка удавалось выкроить часа два совершенно свободных. В таких случаях он всегда уходил на берег, к докам, сидел на пирсе или у лестницы, ведущей к причалам, и думал о Темной Розе. Стоило ему выйти из дома и оказаться подальше от Мастера Хемлока, как он начинал думать о Темной Розе, и все остальное тут же вылетало у него из головы. Это его даже немного удивляло. Он думал, что будет очень скучать по дому, по матери, и он действительно довольно часто думал о ней и действительно очень часто скучал по дому, особенно вечерами, лежа в своей узкой и почти пустой комнатке после скудного ужина, состоявшего обычно из холодной гороховой каши, — ибо Хемлок жил совсем не в такой роскоши, какая грезилась когда-то Голдену. Но в своей комнате по ночам Диамант никогда не думал о Темной Розе. Он думал о матери, или о залитых солнцем комнатах родного дома, или о вкусной горячей еде, или о той мелодии, которая только что зародилась у него в голове и которую он мысленно пытался сыграть на арфе, а потом постепенно соскальзывал в сон. Темная Роза вспоминалась ему, только когда он уходил в доки и бесцельно смотрел в морскую даль, на пирсы, на пестрые рыбачьи лодки в заливе… Только не в доме Хемлока и чем дальше от самого волшебника, тем лучше!
Так что он особенно ценил эти свободные часы: они казались ему настоящими свиданиями с Розой. Он всегда любил ее, с самого детства, только не понимал тогда, что любит ее больше всех на свете. Когда он был с нею, даже когда он всего лишь сидел в доках, думая о ней, он чувствовал себя живым, полным сил. А вот в доме Мастера Хемлока и в его присутствии он себя по-настоящему живым никогда не чувствовал! При нем он чувствовал себя как бы «немного мертвым». То есть не совсем мертвым, а чуть-чуть. Но не живым.
Частенько, сидя на лестнице у причала, он слушал плеск грязной воды внизу, пронзительные крики чаек, перестук молотков и визг пил, доносящиеся из доков, и тогда, если закрыть глаза, он видел свою любимую так ясно и так близко от себя, что, казалось, мог ее коснуться. И он мысленно протягивал руку, отчего-то в то же время мысленно играя на арфе, и действительно касался ее, своей Темной Розы. Он чувствовал ее руку в своей, и ее щеку, прохладную из-за холодного ветра и такую нежную, шелковистую, и находил губами знакомый комочек земли, присохшей к ее щеке… Мысленно он даже разговаривал с нею, и она ему отвечала, и ее знакомый, чуть хрипловатый голос произносил его имя: «Диамант…»
Но стоило ему двинуться назад, к дому Хемлока, по улицам Южного порта, и она сразу исчезала. Он клялся себе, что будет думать о ней всю ночь, но образ ее растворялся почти мгновенно, и к тому времени, как он открывал дверь дома, он уже привычно бормотал очередной перечень имен или же сразу спрашивал, что будет на обед, потому что большую часть времени был голоден. А по собственной воле выбрать часок и сбегать в порт, чтобы иметь возможность подумать о Темной Розе, он никак не мог.
И в итоге он буквально жил ради тех недолгих часов, что казались ему настоящими свиданиями с возлюбленной; он мечтал теперь только об одном: как бы поскорее снова ощутить под ногами прибрежную гальку, увидеть гавань и далекую линию горизонта. Ведь только там он вспоминал то, что стоило вспоминать!
Прошла зима, миновала холодная ранняя весна, а уже ближе к лету, когда наконец стало совсем тепло, один из отцовских возчиков привез Диаманту письмо от матери. Диамант прочитал его и тут же пошел к Мастеру Хемлоку.
— Господин мой, я получил от матери письмо: она спрашивает, нельзя ли мне провести этим летом хотя бы месяц дома?
— Вряд ли это целесообразно, — пробормотал волшебник, а потом, словно наконец заметив Диаманта, отложил перо и сказал: — Молодой человек, я вынужден спросить тебя, хочешь ли ты продолжать занятия со мной?
Диамант был настолько ошеломлен, что не знал, как ответить. Ему даже в голову не приходило, что он может самостоятельно решать такие вопросы.
— А ты, господин мой, как думаешь? Считаешь ли ты, что мне следует их продолжать? — спросил он наконец.
— Вряд ли это целесообразно, — повторил волшебник.
Диамант ожидал, что после таких слов испытает громадное облегчение, но почувствовал лишь стыд: его сочли недостойным, отвергли!
— Прости меня, господин мой! Мне очень жаль, что так вышло, — сказал он, и в голосе его прозвучало достаточно достоинства, чтобы Хемлок поднял глаза и посмотрел на него.
— Ты мог бы отправиться на Рок, — сказал он.
— На Рок?
Диамант еще больше растерялся. Его растерянный вид явно раздражал Хемлока. Юноша не знал, что волшебники привыкли скорее к избыточной самоуверенности молодых магов, хотя и надеются всегда, что скромность к таким гордецам придет позднее. Если вообще придет.
— Ну да, я, по-моему, ясно сказал: на Рок. — Судя по тону Хемлока, повторять он тоже не привык. А потом, поскольку этот мальчишка, этот тупоумный, испорченный, рассеянный, мечтательный мальчишка стал ему даже нравиться, особенно благодаря своему терпению и отсутствию привычки жаловаться, он сжалился над ним и сказал: — Тебе следует непременно либо отправиться на Рок, либо найти где-нибудь такого волшебника, который смог бы обучить тебя тому, что тебе действительно нужно. Разумеется, тебе, как будущему магу, необходимо и то, чему тебя могу научить я. Прежде всего знанию имен. Искусство магии начинается и кончается знанием имен. Но твое дарование лежит в иной плоскости. К тому же у тебя плохая память на слова. Ее, кстати, необходимо неустанно тренировать. Однако же мне совершенно ясно, что кое-какие — и даже весьма значительные! — способности у тебя есть, и тебе их необходимо развивать, при этом, безусловно, приучая себя к дисциплине! Однако тебе нужен другой учитель, который сможет дать тебе больше, чем я, да и научит тебя лучше, чем я. — Вот так порой скромность порождает скромность и дает столь неожиданные плоды, да еще и в такие моменты, когда этого меньше всего ожидаешь. — Если ты собираешься отправиться на Рок, — продолжал Хемлок, — я отправлю с тобой письмо с просьбой, чтобы тебе особое внимание уделил тамошний Мастер Заклинатель.
— Ага… — только и пробормотал Диамант смущенно, ибо искусство настоящего Заклинателя — это, возможно, самое таинственное и опасное из всех магических искусств.
— Возможно, впрочем, что я не прав, — продолжал Хемлок своим обычным суховатым ровным тоном. — Возможно, твой дар следует развивать Мастеру Путеводителю. А может быть, это самый обычный талант, которым вполне может заняться Мастер Метаморфоз… Я пока не уверен…
— Но ведь я же, на самом деле…
— О да! Ты необычайно медлителен! И особенно в том, что касается распознавания своих собственных возможностей. — Это было сказано довольно неприязненным тоном, и Диамант напрягся.
— Я считал, что мой талант — только в музыке, — выговорил он наконец.
Хемлок даже слушать его не стал и пренебрежительным жестом отмел эту идею.
— Я толкую с тобой об Истинном Искусстве, — сказал он. — И скажу тебе совершенно откровенно: напиши-ка поскорее родителям — я тоже им напишу — и сообщи им о своем решении отправиться в Школу Волшебников на остров Рок, если ты решишь отправиться именно туда, или же в Великий Хавнор, если Маг Рестив согласится взять тебя в ученики, а я думаю, он согласится — благодаря моим рекомендациям. Но ездить домой на каникулы я тебе не советую. Встречаться с родственниками, друзьями, радоваться, волноваться — это именно то, от чего ты должен быть отныне избавлен.
— А разве у волшебников не бывает семьи?
Хемлок даже с некоторым удовольствием заметил, как вспыхнули у юноши глаза.
— Все они единая семья, — сказал он.
— А друзья?
— Волшебники могут иногда дружить друг с другом. А что, разве я говорил тебе, что это легкая жизнь? — Хемлок помолчал, глядя Диаманту прямо в лицо. — Мне кажется, у тебя там была какая-то девушка? — спросил он.
Диамант некоторое время молча смотрел ему прямо в глаза, но так и не ответил.
— Твой отец говорил мне. Дочка ведьмы, с которой вы в детстве вместе играли. Он был уверен, что ты учил ее всяким магическим забавам.
— Это она меня учила!
Хемлок кивнул:
— Понимаю. Это вполне естественно в детском возрасте. Но практически невозможно сейчас. Ты-то сам это понимаешь?
— Нет, — сказал Диамант.
— Сядь, — велел ему Хемлок. Чуть помедлив, Диамант сел на жесткий стул с высокой спинкой лицом к волшебнику.
— Здесь я могу защитить тебя, — сказал Хемлок, — что и делал все это время. Впрочем, на острове Рок ты, разумеется, будешь в полной безопасности. Там даже сами стены… Но если ты поедешь домой, ты должен сам захотеть для себя защиты. А это очень непросто для такого молодого человека, очень непросто… Это испытание воли, а она у тебя еще недостаточно закалена, и ума, который еще не знает, в чем его истинное предназначение. Я очень, очень советую тебе не рисковать понапрасну. Напиши родителям и отправляйся в Великий Хавнор или на остров Рок. Половину той платы, что я получил за год твоего обучения, я тебе отдам; этих денег тебе на первое время должно вполне хватить.
Диамант сидел совершенно прямо и неподвижно. В последнее время он почти догнал в росте и ширине плеч отца и выглядел настоящим мужчиной, хотя и был еще очень молод.
— А что ты, господин мой, имел в виду, говоря, что защищал меня здесь? — спросил он.
— То же самое, что я делаю, защищая себя, — сказал волшебник и прибавил чуть более раздраженно: — Это сделка, мой мальчик! Та сила, которую мы отдаем в обмен на силу магическую. Но при этом мы, конечно, отказываемся от самых примитивных чувств. Ты ведь, наверное, знаешь, что каждый настоящий волшебник дает обет безбрачия?
Повисла пауза. Потом Диамант сказал:
— Так, значит, вот о чем ты заботился, господин мой!.. Чтобы я…
— Ну разумеется! Я нес за тебя ответственность как твой учитель.
Диамант понимающе кивнул:
— Что ж, спасибо. — И вскочил. — Извини меня, господин мой. Я должен подумать.
— Куда ты собрался?
— Схожу вниз, к воде.
— Лучше останься здесь.
— Нет, здесь я не могу думать!
И Хемлок, возможно, понял, почему Диамант так спешит уйти и к чему снова стремится; но поскольку он уже сказал, что больше не будет его учить, то и приказывать ему, по совести говоря, больше не мог.
— Ты обладаешь истинным волшебным даром, Эссири, — сказал он, называя Диаманта тем именем, которое дал ему у истоков реки Амиа; это слово на Языке Созидания означает «ива». — Хотя я не совсем понимаю, в чем именно проявится этот дар. Думаю, что и ты сам этого пока не понимаешь. Так что будь очень осторожен! Неправильное использование своих магических возможностей или отказ от их использования могут привести к большим потерям, к великим несчастьям!
Диамант кивнул, страдая и каясь в душе, внешне покорившийся, но непоколебимый.
— Ступай же, — сказал волшебник, и Диамант ушел.
Позже Хемлок понял, что ему ни в коем случае не следовало отпускать мальчишку из дома. Он недооценил силу воли Диаманта, как и силу того заклятия, которое наложила на него та юная ведьма. Разговор их состоялся утром, так что Хемлок с наслаждением вернулся к своим книгам, а точнее, к сюжету одной старинной мистификации; и до ужина он даже не вспоминал о своем бывшем ученике, и только поужинав в одиночестве, он пришел наконец к выводу, что Диамант сбежал.
Хемлок очень не любил пользоваться низшими формами магических искусств, а потому, чтобы разыскать Диаманта, не стал произносить самое простое заклинание, как это сделал бы любой колдун. Не стал он и призывать к себе Диаманта с помощью Истинного Заклятия. Он был рассержен. Возможно, он даже страдал. Он так хорошо относился к этому мальчишке! Ведь он сам предложил написать для него рекомендательное письмо Мастеру Заклинателю, а Диамант сломался при первой же попытке проверить, сколь сильна его воля. «Она разбилась — как стекло!» — шептал волшебник. Что ж, по крайней мере, эта его слабость доказывала то, что он практически не опасен. Хемлок хорошо знал, что некоторые таланты лучше сразу направлять в нужное русло благодаря знаниям и строжайшей дисциплине, но этот парень никому не мог принести ни особого зла, ни бед. Никакого честолюбия! «Совершенно бесхарактерный! — бормотал Хемлок в тишине своего дома. — Что ж, пусть спешит домой, к мамочке! И этой юной ведьме!»
А все-таки его задело то, что Диамант попросту бросил его, не сказав ни слова благодарности. Даже не извинившись! «Ничего не поделаешь, манеры у него тоже дурные», — сердито думал старый волшебник.
Когда Роза задула лампу и нырнула в постель, то почти сразу услышала крик совы — негромкое булькающее «ху-гу, ху-гу», из-за которого люди называют этих сов «смеющимися». Она слушала этот крик, и смертельная тоска терзала ее сердце. Когда-то этот крик служил им сигналом — когда летними ночами они выскальзывали из дому и встречались в зарослях ивняка на берегу Амии, а дома все мирно спали и никто ничего не замечал… По ночам она старалась не думать о Диаманте. Зимой она каждую ночь посылала ему какую-нибудь весточку — она давно научилась у матери этому несложному искусству. Призывала она его и с помощью настоящих заклятий. Она посылала ему свой голос, произносящий его имя, снова и снова пыталась пробиться к нему, но каждый раз наталкивалась на непреодолимую преграду. И молчание. Он точно оградил себя от нее стенами. Он не желал ни слышать, ни видеть ее!
Но днем, причем каждый раз совершенно неожиданно, она много раз чувствовала и знала, что душа его где-то рядом, что она может коснуться руки Диаманта или его щеки, стоит только руку протянуть. А по ночам он от нее скрывался. Может быть, его заставили все же от нее отказаться? Вот уже несколько месяцев прошло, как она совершенно оставила всякие попытки до него добраться, но боль в сердце так и не утихала.
«Ху-гу!» — крикнула сова прямо у нее под окном, а потом вдруг заговорила по-человечески и окликнула ее: «Темная Роза!» Потрясенная, жалкая в своем горе, она вскочила с кровати и распахнула ставни.
— Выгляни-ка наружу, — прошептал ей Диамант, в лунном свете казавшийся всего лишь тенью.
— Матери нет дома. Входи скорей! — И она встретила его на пороге.
Они буквально стиснули друг друга в объятиях, не говоря ни слова, и все никак не могли разомкнуть рук. У Диаманта было такое ощущение, словно он держит в руках собственное будущее, всю свою жизнь целиком.
Наконец Роза шевельнулась, поцеловала его в щеку и прошептала:
— Я так скучала по тебе, так скучала! Ты надолго?
— На сколько захочу!
Она потащила его в комнату. Диамант всегда неохотно заходил в дом ведьмы, наполненный острыми, пряными запахами, грязноватый и полный всяких женских тайн и колдовства. Этот дом разительно отличался от его собственного дома, чистого и удобного, но еще больше отличался он от холодного и сурового дома волшебника Хемлока. И Диамант задрожал, точно конь, боясь отойти слишком далеко от порога, и наклонил голову, чтобы не задеть за увешанную пучками пахучих трав притолоку. Он был очень напряжен и совершенно измучен, пройдя сорок миль за шестнадцать часов без еды и воды.
— Где твоя мать? — спросил он шепотом.
— Сидит со старой Ферни. Старуха сегодня днем умерла, и мама пробудет там всю ночь. Но как ты попал сюда?
— Пришел пешком.
— Значит, твой волшебник все-таки разрешил тебе повидать родных?
— Нет. Я убежал.
— Убежал? Но почему?
— Чтобы сохранить тебя.
Он сказал это очень серьезно и посмотрел на нее — на ее живое, страстное, смуглое лицо в густом облаке черных кудрей. На ней была только тонкая сорочка, и он с бесконечной нежностью смотрел на округлые холмики ее грудей, слегка прикрытых тканью. Потом снова прижал ее к себе, и она тоже сперва обняла его, но тут же отстранилась и нахмурилась.
— Сохранить меня? — переспросила она. — Но всю зиму ты, похоже, не очень-то беспокоился насчет того, что можешь меня потерять! Почему же теперь ты передумал и вернулся?
— Он захотел, чтобы я отправился на Рок.
— На Рок? — Роза так и уставилась на него. — На Рок, Ди? Так значит, у тебя действительно есть волшебный дар… и ты мог бы стать настоящим колдуном?
Неужели и она на стороне Хемлока? Вот это удар!
— Колдуны для него ничто. Он считал, что я мог бы стать волшебником. Заниматься магией. Магическими науками и искусствами. А не просто колдовством.
— Ах вот как… — Роза немного помолчала. — Но я не понимаю, почему же все-таки ты убежал.
Они давно уже расцепили руки и сидели, не касаясь друг друга.
— Неужели ты не понимаешь? — Он был в отчаянии от того, что она этого не понимает, что он и сам до сих пор еще этого как следует не понял. — Волшебник не может иметь ничего общего с женщинами! С ведьмами. Со всем этим.
— Да, я знаю. Это недостойно настоящего волшебника.
— Не просто недостойно…
— Но ведь я права! Спорить готова, что тебе пришлось выкинуть из головы все заклятия, которым я тебя научила. Верно?
— Но дело совсем не в этом…
— Нет. Дело в том, что это не Высокое Искусство. И не Язык Созидания. Волшебник не должен поганить свои уста обычными заклинаниями. «Слабый, как женские чары, опасный, как женские чары!» Ты думаешь, я этого не знаю? Так с какой же стати ты сюда вернулся?
— Чтобы увидеть тебя.
— Зачем?
— А ты как думаешь?
— Ты ни разу даже весточки мне не прислал, ни разу не принял моих посланий! У тебя для меня просто времени не было! Ты как стеной от меня отгородился, а я, по-твоему, должна была ждать, пока тебе не надоест играть в волшебника? Ну так вот: ждать мне надоело! — Ее всю трясло, но говорила она почти шепотом.
— Тут кто-то еще замешан, да? — спросил Диамант, не веря, что Темная Роза способна стать его врагом. — За тобой кто-то другой ухаживает?
— Не твое дело, даже если и ухаживает! Ты же ушел от меня, отвернулся! Еще бы! Волшебники же не имеют ничего общего с ведьмами, с тем, чем занимаюсь я, чем занимается моя мать. Ну так и я не желаю иметь ничего общего с волшебниками. Убирайся!
Умирая от голода, исполненный отчаяния, совершенно не понятый, Диамант попытался было снова обнять ее, заставить ее тело понять, как исстрадалось его тело; ему хотелось прижать ее к себе так же нежно и крепко, как в первое мгновение их встречи, которое, казалось, заключало в себе суть всей их жизни и любви. Но обнаружил вдруг, что отлетел от нее шага на два, руки его будто стянуты путами, в ушах звон, а голова идет кругом. Глаза Розы метали молнии, а от пальцев полетели искры, когда она стиснула их в кулаки.
— Никогда больше этого не делай, — прошипела она.
— Не бойся, больше я никогда этого не сделаю! — сказал Диамант, резко повернулся и бросился вон. Былинка сухого шалфея запуталась у него в волосах, но он этого так и не заметил.
Он провел ночь на их старом месте в ивняке, все еще надеясь, что она придет, но она не пришла, и он уснул, сраженный чудовищной усталостью. И проснулся от холода с первыми проблесками рассвета. Он сел и крепко задумался. Вся его жизнь виделась ему теперь иначе в этом холодном утреннем свете. Потом он спустился к реке, в водах которой был наречен именем, напился, вымыл руки и лицо, привел себя по возможности в порядок и стал подниматься в город, на самый верх, где стоял красивый дом его отца.
После того как отзвучали первые радостные приветствия и разомкнулись первые горячие объятия, мать и слуги усадили его завтракать. Так что в желудке его уже было достаточно горячей еды, а в сердце — холодного мужества, когда он встретился с отцом, который с утра провожал возы с лесом в Великий порт.
— Ну что ж, сынок! — Они обнялись, коснулись друг друга щеками. — Значит, Мастер Хемлок отпустил тебя на каникулы?
— Нет, господин мой. Я ушел сам.
Голден долго смотрел на него, потом наполнил свою тарелку едой и сел за стол.
— Ушел? — переспросил он.
— Да. Я больше не хочу быть волшебником.
— Хм?.. — Голден продолжал жевать. — Так ты, значит, решил уйти от Мастера Хемлока? Бросить занятия? А разрешение у него ты получил?
— Нет, я решил уйти сам. И никакого разрешения он мне не давал.
Отец продолжал медленно-медленно жевать, не поднимая глаз от стола. Диамант уже видел однажды на его лице такое же выражение — тогда один из лесников сообщил ему о страшной болезни, поразившей каштановые рощи; и потом еще раз — когда Голден обнаружил, что продавец мулов здорово его надул.
— Хемлок хотел, чтобы я отправился в Школу Волшебников на остров Рок и учился там у Мастера Заклинателя. Он даже собирался писать рекомендательное письмо. Но я все-таки решил не ездить.
Голден еще некоторое время молчал, по-прежнему глядя к себе в тарелку, потом спросил:
— Почему?
— Это совсем не то, чему я хотел бы посвятить свою жизнь.
Снова повисло тягостное молчание. Голден глянул на жену, которая стояла у окна, прислушиваясь к наступившей в комнате тишине, и перевел глаза на сына. Постепенно выражение лица его менялось: странная смесь гнева, разочарования, смущения и уважения уступала место пониманию, сочувствию; он чуть было не подмигнул сыну.
— Ясно, — промолвил он. — И что же, по-твоему, тебе нужно в жизни?
Диамант ответил не сразу. И голос его был ровен, когда он наконец сказал, не глядя, однако, ни на мать, ни на отца:
— Вот это все. То, что меня здесь окружает.
— Ха! — воскликнул Голден. — Ну что ж, я, честно признаться, очень этому рад, сынок! — И он в один присест проглотил пирожок со свининой. — Стать волшебником, отправиться на остров Рок — все это, конечно, заманчиво, но никогда не казалось мне настоящим занятием для взрослого мужчины. А уж если совсем начистоту, то, если бы ты там остался, у меня бы просто руки опустились. Для чего все это было бы тогда нужно? Мое дело, которому я посвятил всю жизнь? Нажитое богатство? Ведь если ты действительно останешься, наше дело будет развиваться, понимаешь? Развиваться! Да… Но, послушай, неужели ты сбежал от Хемлока? Он вообще-то знал, что ты собираешься уехать?
— Нет. Но я ему обязательно напишу. — Все это Диамант сказал своим новым, РОВНЫМ голосом.
— И он не рассердится? Говорят, волшебников ничего не стоит рассердить. Уж больно они гордые.
— Он и так уже наверняка сердится, — сказал Диамант, — но мне он ничего дурного не сделает.
Так оно и оказалось. К тому же Мастер Хемлок, страшно удивив Голдена, вернул ему ровно две пятых той суммы, которую получил в уплату за обучение Диаманта. В том же пакете — его передал Голдену один из возчиков, возивших доски для обшивки кораблей в Южный порт, — было письмо, адресованное Диаманту. В этом письме было всего несколько слов: «Истинное искусство требует честного и преданного сердца». Вместо имени адресата на конверте была изображена ардическая руна «ива», а вместо подписи — руна «хемлок», у которой два значения: «болиголов» и «страдание».
Диамант сидел у себя в комнате наверху, на залитой солнцем мягкой постели, и слушал, как поет его мать, занимаясь какими-то своими домашними делами. Он держал в руках письмо волшебника и без конца перечитывал написанную им фразу и те две руны. Та холодная и спокойная медлительность, что охватила его ум и душу утром на берегу реки в зарослях ивняка, вполне позволяла ему принять пощечину волшебника. Хемлок прав. Никакой магии. Никогда больше. Да он, собственно, никогда особенно и не стремился к знанию магических искусств. Все это было для него лишь игрой, в которую они так весело играли вместе с Темной Розой. Даже имена Истинной Речи, которые он учил в доме волшебника, понимая всю заключенную в них силу и красоту, он запросто мог позабыть, мог позволить им стереться из памяти. Он не воспринимал этот древний язык как родной.
Слова этого языка он мог произносить легко, только общаясь с Темной Розой. Но ее он утратил. Сам отпустил ее. А двоедушные, как говорит Хемлок, не могут знать Языка Созидания. Все. Отныне он будет говорить только на языке долга и выгоды: получать и тратить, подсчитывать доходы и расходы…
И ничего другого он себе не позволит. Никаких прежних иллюзий, никаких камешков, которые превращаются в бабочек, никаких деревянных птичек, способных летать и петь по-настоящему минуты две-три. И, если честно, выбора-то у него и нет. Для него всегда существовал только один путь.
А Голден был невероятно счастлив. Это была совершенно нежданная радость. «Ну вот, наш старик заполучил-таки свое сокровище обратно, — сказал один из его возчиков леснику. — Весь так и светится! И впрямь, точно золотой!» Голден, правда, не подозревал о том, что стал «светиться», и думал лишь о том, насколько светлой стала теперь его жизнь. Он успел-таки купить ту рощу, что над селением Рече, и отдал за нее, надо сказать, немало, зато она по крайней мере досталась не старому Лоубау из Истхилла, а им с Диамантом, и ею теперь можно будет как следует заняться. В этой роще помимо каштанов росли также отличные сосны, которые можно срубить и продать на мачты, рангоутное дерево и корабельную обшивку, а вместо них посадить еще каштаны. И со временем эта роща будет не хуже его старой и знаменитой Большой Рощи, самого сердца его каштанового королевства. Со временем, конечно. Дуб и каштан не способны вырасти за две недели, как рябина или ива. Но время пока что есть. Пока что есть. Мальчику еще только семнадцать, а ему самому всего сорок пять! Он — мужчина в самом расцвете лет. За время отсутствия сына он, правда, уже успел почувствовать себя стариком, но это все пустяки. Нет, силенки у него еще есть!..А заодно с соснами в новой роще нужно срубить и все старые каштаны, уже не способные плодоносить. У них тоже древесина неплохая, для мебельщиков, к примеру, очень даже подойдет.
— Так, так, так, — говорил он жене, потирая руки, — ты небось тоже теперь все в розовом свете видишь, а? Как же, мальчик твой драгоценный домой вернулся! Зеница твоего ока! Ну что, милая, больше хандрить не будешь?
Тьюли только улыбалась в ответ и гладила мужа по руке.
Но однажды она вдруг сказала:
— Это замечательно, что наш мальчик наконец вернулся, но… — и
Голден тут же перестал ее слушать. Он считал, что матери рождены на свет, чтобы беспокоиться о своих детях, а женщины — чтобы никогда не быть довольными. С какой стати он должен слушать эти бесконечные беспокойные предположения, которыми Тьюли вечно усложняет жизнь себе и другим? Она, разумеется, считает, что судьба простого купца не достойна ее гениального сына. Может быть, она согласилась бы на королевский трон в Хавноре? Или этого тоже мало?
— Когда он заведет себе девушку, — сказал Голден, не обращая внимания на то, что говорит ему жена, — он и вовсе о нас думать перестанет. Этот год в доме у волшебника, знаешь ли, привел к тому, что Диамант насчет девушек немного отстал. Но ты за нашего парня не беспокойся. Он скоро во всем разберется и поймет, что ему действительно нужно!
— Надеюсь, что так, — промолвила Тьюли.
— По крайней мере, с дочкой той ведьмы он больше не встречается, — сказал Голден. — С этим покончено. — И ему вдруг пришло в голову, что и Тьюли тоже давно не видится со своей подружкой. Долгие годы они были практически неразлучны и виделись тайком, несмотря на то что это его всегда сердило, а теперь Тангле у них в доме и вовсе не бывает. Впрочем, женская дружба ведь недолговечна. Голден даже немного поддразнивал жену насчет этого. Однажды, заметив, как Тьюли кладет в сундуки с зимними вещами и карманы шуб мяту от моли, он сказал:
— А раньше-то ты все больше к помощи своей подружки прибегала, чтобы моли не было, а? Или вы с ней больше уж не подружки?
— Нет, — сказала Тьюли тихим ровным голосом, — больше не подружки.
— Вот и прекрасно! — воскликнул Голден. — А что с ее дочерью сталось? Я слышал, она ушла с бродячими жонглерами?
— Да, ушла. Но только с музыкантом одним, — поправила его Тьюли. — Еще прошлым летом.
— Скоро твои именины, — сказал Голден сыну. — Устроим праздник! Надо же и нам немного повеселиться, послушать музыку да потанцевать. Девятнадцать лет! Этот день надо хорошенько отметить!
— Но я собираюсь в Истхилл с Сулом.
— Нет, нет, нет! Сул прекрасно справится и сам. А ты останешься дома, и мы устроим настоящий пир. Ты славно поработал, мой мальчик! Мы наймем целый оркестр. Чей оркестр самый лучший? Тарри?
— Отец, мне совсем не хочется веселиться на пиру, — сказал Диамант и встал, напряженный, точно встревоженный конь. Он уже перерос отца и стал шире его в плечах, так что когда он неожиданно выпрямлялся во весь рост, то выглядел настоящим великаном. — Я лучше в Истхилл поеду! — И он поспешил уйти.
— Что с ним такое? — спросил у жены Голден, сам, впрочем, понимая, что это вопрос скорее риторический. Тьюли только посмотрела на него и ничего не сказала в ответ.
А когда Голден ушел по каким-то своим делам, она отыскала сына в комнатке счетовода, где он просматривал гроссбухи — длинные-предлинные списки наименований товаров и чисел, дебет и кредит, доходы и расходы…
— Ди, — окликнула она его, и он поднял голову. Лицо у Диаманта все еще было по-детски округлым, и нежная кожа напоминала персик, но черты стали куда более резкими, а глаза — очень грустными.
— Я совсем не хотел обижать отца, — сказал он.
— Если он хочет устроить пир, он его все равно устроит, — сказала Тьюли. Голоса у них сейчас были очень похожи: оба довольно высокие, но звучавшие приглушенно и сдержанно. Она присела на табуретку рядом с его конторкой.
— Я не могу… — сказал он и вдруг замолк. Потом договорил: — Я действительно не хочу устраивать никаких танцев, мама!
— Отец устраивает не танцы, а смотрины, — суховато пояснила Тьюли, любовно поглядывая на сына.
— Мне нет до этого никакого дела.
— Я знаю.
— Дело в том…
— Все дело в музыке, — договорила она за него.
Диамант кивнул.
— Но, сынок, нет ни малейшей причины, — она вдруг заговорила громко и страстно, — ни малейшей, понимаешь, отказываться от того, что ты любишь!
Он взял ее руку и поцеловал.
— Нельзя смешивать такие разные вещи, — сказал он. — Надо бы, но не получается. Я сам к этому выводу пришел. Когда я ушел от Мастера Хемлока, то думал, что смогу и это, и то, и другое… Понимаешь? Смогу одновременно заниматься магией и музыкой, быть отцу хорошим подспорьем и любить Розу… Но из этого ничего не получилось. Нет, нельзя все-таки смешивать такие разные вещи.
— Можно, можно! — воскликнула Тьюли. — Все на свете связано, перемешано…
— Может быть, ты и права — но это для женщин! А я мужчина… И я не могу быть двоедушным, мама!
— Двоедушным? Ты? Ты же отказался от магии, понимая, что если не откажешься, то предашь ее!
Он слушал ее, явно потрясенный тем, как глубоко и хорошо она знает его душу, и возражать не стал.
— Но почему, — спросила его мать, — почему ты отказался от музыки? Этого я понять не могу!
— Я должен иметь только одну душу. Я не могу играть на арфе и одновременно заключать сделки или торговаться, покупая новую партию мулов. Я не могу сочинять баллады и одновременно подсчитывать, сколько мы должны заплатить сборщикам каштанов, чтобы их не переманил Лоубау! — Его голос слегка дрожал, а глаза уже не были так печальны: в них горел гнев.
— Выходит, ты сам себя околдовал, — сказала Тьюли. — В точности как тот твой волшебник, когда наложил на тебя заклятие, чтобы тебя «обезопасить», чтобы ты вечно жил среди торговцев мулами, сборщиков каштанов и тому подобных людей. — Она с такой презрительной яростью стукнула кулаком по толстому гроссбуху, полному сведений о товарах и платежах, точно хотела разбить его вдребезги. — Ты наложил на себя заклятие вечного молчания, сынок, — с горечью проговорила она.
Диамант долго молчал, потом спросил:
— А как еще я мог бы поступить?
— Не знаю, дорогой. Я ведь тоже хочу, чтобы ты жил счастливо и в полном довольстве. И я очень хочу видеть твоего отца счастливым и гордым тобой. Но я не могу спокойно смотреть в твои бесконечно тоскливые глаза! В твои покорные глаза! Ты что же, совсем лишился гордости? Не знаю… Возможно, ты и прав. Возможно, для мужчины всегда есть только один путь. Но мне так не хватает твоих песен!
И Тьюли заплакала. Он обнял ее, а она гладила его по густым блестящим волосам и просила прощения за свои жестокие слова, и он еще крепче обнимал ее, целовал и все повторял, что она самая лучшая, самая добрая мать в мире. Наконец Тьюли собралась уходить, но на пороге обернулась и сказала:
— Пусть уж он устроит этот пир, хорошо, Ди? И постарайся хоть немного тоже повеселиться, позволь себе это.
— Хорошо, — сказал он, желая ее утешить.
Голден заказал огромное количество пива, разных угощений, всякие фейерверки, но музыкантов Диамант решил пригласить сам.
— Ну, разумеется, мы придем! — сказал ему Тарри. — Такой отличный повод! Грех его пропустить. Да любой флейтист сразу сюда прибежит, узнав, что твой отец пир устраивает!
— Хорошо. Можешь передать всем своим музыкантам, что заплатят им, как полагается.
— Ох, да они ради одной славы на таком пиру играть готовы! — сказал арфист Тарри, аккуратный длиннолицый мужчина лет сорока с бельмом на глазу. — Может, ты и сам с нами разок сыграешь, а? У тебя здорово получалось, пока ты выколачиванием денег не занялся. И голос у тебя тоже был неплохой. Над ним бы еще немного поработать, и отлично бы вышло.
— Сомневаюсь, — сказал Диамант.
— А эта девчонка, что тебе нравилась, дочка той ведьмы, Роза, тоже ведь где-то в наших краях скитается. Я слыхал, она с Лабби сбежала. Ну так Лабби, конечно, тоже заявится. И она с ним.
— Вот и увидимся, — сказал равнодушным тоном Диамант и пошел прочь, огромный, красивый и ко всему безразличный.
— Ишь ты, зазнался как! Не может просто так постоять да поговорить с человеком, — проворчал Тарри. — А ведь это я его всему учил! И на арфе играть, и вообще! Да разве старая дружба для богатых что-нибудь значит?
Подковырки Тарри сильно задели Диаманта, а мысль о грядущем пире угнетала так, что он в итоге совершенно утратил аппетит и даже обрадовался, надеясь, что заболел и не сможет присутствовать на празднике. Но в назначенный день он все же туда явился. Не такой, правда, радостный, как его отец, но все же улыбался и даже танцевал. Там собрались многочисленные друзья его детства; половина из них уже успела пережениться, но все же хватало и милующихся парочек, флирта и всего такого прочего. Стайки хорошеньких девушек так и вились вокруг красавца Диаманта, и он, выпив немало отличного пива, сваренного знаменитым Гэджем, обнаружил, что вполне способен и музыку слушать, и под эту музыку танцевать, и болтать и смеяться с хорошенькими девушками. Он танцевал с ними со всеми по очереди, а потом снова и снова — с той, которая успевала «вовремя подвернуться», и, надо сказать, каждая старалась как-нибудь невзначай это сделать.
Это был самый лучший из всех пиров, какие когда-либо давал Голден. На площадке для танцев, устроенной чуть поодаль от его дома, вовсю веселилась молодежь, а на городской площади был раскинут шатер, где люди постарше могли спокойно посидеть, выпить, закусить и вдоволь посплетничать. Все дети получили в подарок новое платье и тоже были очень довольны, тем более что жонглеры и кукольники — некоторые из них были наняты специально, а некоторые пришли сами, чтобы по возможности получить и свою долю мелких монет и бесплатного угощения, — устроили отличное представление. Любой праздник всегда привлекает странствующих лицедеев и музыкантов; это их хлеб, и им, даже если никто их специально и не приглашает, всегда рады. Чуть поодаль, под большим дубом бродячий сказитель монотонно и нараспев под заунывные звуки волынки исполнял «Подвиг Повелителя Драконов» для довольно большой группы особых любителей старинных героических песен. Когда оркестр Тарри, состоявший из арфиста, флейтиста, скрипача и барабанщика, сделал перерыв, чтобы закусить и освежиться напитками, их место заняла какая-то новая группа музыкантов.
— О, да это же Лабби! — воскликнула хорошенькая девушка, стоявшая ближе всех к Диаманту. — Давайте, давайте! Они тут лучше всех!
Лабби, светлокожий и фатоватый парень, играл на деревянном рожке. В его группе были также скрипач, барабанщик и… Роза, которая играла на флейте. Они блестяще сыграли первый танец, ритмичный и быстрый, но оказавшийся слишком быстрым для некоторых танцоров. Диамант и его партнерша, впрочем, остались в кругу до самого конца, и зрители хлопали и подбадривали их криками.
— Пива! — крикнул Диамант, вытирая пот со лба, и его тут же увлекли к столу и со всех сторон окружили шумные веселые юноши и девушки.
И вдруг он услышал, как позади музыканты заиграли новую мелодию. На этот раз, собственно, играла одна лишь скрипка, печальным высоким голосом выводившая: «Куда устремится любовь моя».
Диамант залпом осушил целый кувшин пива, и окружавшие его девушки с восхищением смотрели, как при глотках движутся мускулы на его сильной шее, и смеялись, и переговаривались, и подталкивали друг друга, а он, выпив, лишь отряхнулся всем телом, как лошадь, которую одолели мухи, и сказал:
— Нет, я не могу!.. — И исчез в темноте за шатром с напитками.
— Куда это он? — удивились его приятели. — Ничего, вернется! — И они продолжали болтать и смеяться.
Скрипка смолкла.
— Темная Роза, — тихо окликнул он ее, стоя совсем рядом в темноте. Она обернулась, и взгляды их встретились. Их лица, собственно, были почти на одном уровне, хотя Роза сидела, скрестив ноги, на возвышении для музыкантов, а Диамант стоял возле этого возвышения на коленях.
— Пойдем на наше место? — попросил он.
Она не ответила. Лабби, глядя на нее, поднес к губам свой рожок. Барабанщик ударил в барабан, и они заиграли моряцкую джигу.
Когда же Роза снова обернулась, ища глазами Диаманта, то его уже и след простыл.
Тарри со своим оркестром вернулся примерно через час и даже не поблагодарил за предоставленную возможность передохнуть. Напротив, он довольно сердито прервал на середине исполняемую оркестром Лабби мелодию и велел ему убираться.
— Сопли сперва подбери, щипач несчастный, — заявил ему Лабби. Тарри, разумеется, обиделся, а люди вокруг тут же разделились на два лагеря, и пока разгорался спор, Роза сунула свою флейту в карман и тихо ускользнула прочь.
В стороне от освещенной фонарями площадки было совсем темно, но она и в темноте нашла дорогу очень быстро, ибо отлично знала ее. Он, конечно, был уже там. Ивы за эти два года еще подросли, и теперь в ивняке почти не осталось свободного места, чтобы можно было присесть: всюду торчали из земли молодые побеги да покачивались длинные свисавшие почти до земли ветви взрослых деревьев.
Музыка заиграла снова, далекая, заглушаемая ветром и шепотом реки.
— Чего тебе от меня нужно, Диамант?
— Всего лишь поговорить с тобой.
В темноте они казались друг другу тенями.
— Ну, говори, — сказала она.
— Я ведь хотел попросить тебя уехать со мной отсюда, — сказал он.
— Когда?
— Тогда еще. Когда мы поссорились. Только я все неправильно сказал. Я думал… — Повисло долгое молчание. — Я думал, что просто снова смогу убежать. Вместе с тобой. Играть музыку. И как-то прожить. Вместе. Я это хотел сказать.
— Но ты этого не сказал!
— Я знаю. Я все сказал неправильно. Я все сделал неправильно. Я всех предал. Магию. Музыку. И тебя.
— Ничего. Я неплохо устроилась.
— Вот как?
— Я не бог весть как умею играть на флейте, но, в общем, получается ничего. А то, чему ты меня так и не научил, я, в конце концов, могу восполнить и с помощью заклятий, если так уж будет нужно. И эти ребята из оркестра тоже ничего. Лабби ведь совсем не такой, каким кажется. Он хорошо ко мне относится. Никто меня не обманывает. И мы очень неплохо зарабатываем. А зимой я обычно живу у мамы и помогаю ей. Так что у меня все в порядке. А у тебя, Ди?
— А у меня все очень плохо.
Она хотела было что-то сказать, да так и не сказала.
— Я думаю, тогда мы были совсем детьми, — сказал он, — а теперь…
— Что же изменилось?
— Я сделал неправильный выбор.
— Однажды? — спросила она. — Или дважды?
— Дважды.
— Ну что ж, третий раз волшебный.
Оба некоторое время молчали. Она с трудом различала даже его громоздкий силуэт в черной тени листвы.
— Ты стал такой огромный, — сказала она вдруг, — гораздо больше, чем прежде! А ты все еще умеешь зажигать огонек, Ди? Я хочу видеть тебя.
Он покачал головой.
— Это была единственная вещь, которую ты мог делать всегда, а я так никогда и не научилась. Не смогла. Да и ты не сумел меня этому научить.
— Я не нарочно, — сказал он, — у меня ведь тоже иногда это получалось, а иногда нет.
— А тот волшебник из Южного порта не научил тебя, как сделать, чтобы всегда получалось?
— Он учил меня только именам.
— А почему ты не можешь сделать это сейчас?
— Я отказался от магии, Темная Роза. Я должен был либо заниматься только ею и больше ничем, либо оставить ее совсем. Нужно иметь только одну душу.
— Не понимаю, почему, — пожала она плечами. — Моя мать может излечить лихорадку, может помочь при родах, может отыскать потерявшееся кольцо и еще многое другое; может быть, это и не идет ни в какое сравнение с тем, что делают настоящие волшебники и повелители драконов, но все равно это кое-что. И она, чтобы заниматься всем этим, ни от чего не отказывалась. Даже то, что она меня родила, никак ей не помешало. А знаешь, она родила меня, чтобы НАУЧИТЬСЯ рожать! Неужели только потому, что я училась у тебя музыке, я должна была отказаться от умения составлять заклятия? Я, между прочим, могу и сейчас запросто наслать лихорадку. Почему же ты должен от чего-то отказываться, чтобы иметь возможность заниматься чем-то другим?
— Мой отец… — начал было он и умолк. И даже негромко рассмеялся. — Пойми, они просто не сочетаются — деньги и музыка.
— Как твой отец и дочка ведьмы, — сказала Темная Роза.
И снова повисло молчание. Чуть шелестела ивовая листва.
— Ты вернешься ко мне? — спросил он и заторопился: — Ты уедешь со мной, будешь со мной жить, выйдешь за меня замуж, Темная Роза?
— Только не в доме твоего отца, Ди?
— Где ты сама захочешь! Убежим хоть сейчас!
— Но ты же не можешь получить только меня одну, без музыки, правда?
— Или музыку без тебя.
— Я согласна, — сказала она.
— А Лабби, случайно, арфист не нужен?
Она заколебалась, потом засмеялась и сказала:
— Ну, если ему будет нужен флейтист, так и арфисту дело найдется.
— Но я не играл с тех пор, как уехал из дома, Темная Роза, — сказал он. — И все же музыка всегда звучала у меня в ушах, и твой голос… — Она протянула к нему руки. Они опустились на колени лицом друг к другу; над головами их что-то шептали листья ив. Они поцеловались. Сперва застенчиво, боясь коснуться друг друга…
Прошло несколько лет с тех пор, как Диамант покинул родной дом. За это время Голден невероятно разбогател, буквально все его предприятия оказывались выгодными. Казалось, удача навсегда прилепилось к нему и теперь ее уже не стряхнешь, даже если захочешь. Он стал очень, очень богат.
Но сына так и не простил. Все могло бы кончиться по-хорошему, да только Диамант сам все испортил. Уехал, не сказав ни слова, в день своих же именин, прямо во время пира, сбежал с какой-то ведьмой, бросил настоящую работу, не доведя ее до конца, и стал бродячим музыкантом, жалким арфистом! И теперь поет и играет, где придется, да еще и улыбается за жалкие гроши — ничего, кроме стыда, боли и гнева в душе Голдена это не вызывало. И он упивался своими переживаниями, но сына видеть не желал.
Тьюли долгое время делила с ним его горе, но с Диамантом старалась все же видеться, что было трудновато, потому что ей приходилось обманывать мужа; и она плакала, думая, как часто ее мальчик голоден и бесприютен. А уж холодные осенние ночи стали для нее настоящим кошмаром. Но время шло, и она все чаще слышала, как люди хвалят «сладкоголосого Диаманта с Западного побережья» и рассказывают, что он играет на арфе и поет во дворцах великих правителей и даже в Башне Меча, и постепенно на сердце у Тьюли полегчало. И однажды, когда Голден уехал в Южный порт по делам, они с Тангле запрягли в повозку ослика и поехали в Истхилл, где и услышали, как Диамант исполняет, аккомпанируя себе на арфе, знаменитое «Лэ о пропавшей королеве». И Темная Роза сидела с ними рядом, и маленькая Тьюли забралась наконец к большой Тьюли на колени. И если это и не самый счастливый конец, то все же Тьюли испытала истинную радость и решила, что, видимо, большего у судьбы и просить-то не стоит.
Кости земли
Снова шел дождь, и старый волшебник из Ре Альби с тоской мечтал о том, чтобы заколдовать эту проклятую погоду хоть ненадолго. Взять бы да послать эту проклятую тучу вокруг горы — пусть себе тот берег Гонта поливает! У него все кости ломило. Его старые кости прямо-таки жаждали солнца, ибо только солнце могло насквозь прогреть и высушить его плоть, изгнать из него всю эту влагу и хворь. Можно, конечно, произнести заклятие, утишающее боль, да только проку от него мало: оно способно заставить боль затаиться лишь на время, а потом-то будет еще хуже. Нет, не было такого средства, чтобы избавиться от этой мучительной ломоты в костях. Старым костям нужно одно: солнце. И Далсе продолжал стоять на пороге, как бы между темнотой комнаты и пронизанным нитями дождя серым небом, и с трудом удерживался от произнесения заклятия, злясь на себя за то, что стар и болен, и за то, что должен сдерживать себя.
Он никогда не ругался — истинно могущественные волшебники не произносят вслух бранных слов, это небезопасно, — но все же облегчил душу: откашлялся сердитым ворчливым кашлем, похожим на рычание медведя. И через мгновение страшный раскат грома сотряс вершину горы Гонт, и эхо его прокатилось по ее склонам от севера до юга и замерло в далеких, окутанных туманом лесах.
Добрый знак, подумал старик. Значит, дождь скоро прекратится. Он накинул капюшон плаща и сошел с крыльца под дождевые струи, чтобы покормить кур.
Проверив курятник, Далсе обнаружил три свежих яйца. Рыжая Бакка, его лучшая наседка, сидела на яйцах давно, и цыплята должны были вот-вот вылупиться. Наседку замучили клещи, и выглядела она какой-то запыленной и несчастной. Тут уж Далсе раздумывать не стал: он произнес несколько слов — заклинание против клещей — и решил непременно как следует вычистить курятник, как только вылупятся цыплята, а потом отправился на птичий двор, где Шоколадница, и Серая, и Пышные Штанишки, и Смелая, и даже сам петух Королек сидели, нахохлившись, под навесом и время от времени тихими голосами на своем курином языке отпускали сердитые замечания в адрес противного дождя.
— Ничего, он к полудню перестанет, — сказал курам волшебник. Он покормил их и поплелся назад, в дом, сунув в карман три еще тепленьких свежих яйца. В детстве он очень любил шлепать по грязи босиком. Он помнил то сладостное чувство, которое вызывала у него чавкавшая и вылезавшая между пальцами ног земля. Босиком он и сейчас еще ходил с удовольствием, но по грязи шлепать разлюбил совсем; уж больно она липла к ногам, а потом приходилось наклоняться и тщательно мыть ноги, прежде чем войти в дом. Пока пол в его домишке был земляной, это особого значения не имело, но потом ему сделали настоящий деревянный пол, как в доме у какого-нибудь лорда, или богатого купца, или самого Верховного Мага. Впрочем, деревянный пол был Далсе просто необходим, чтобы защитить старые простуженные кости от холода и сырости. Это ведь не сам он придумал — с полом-то. Это все Молчаливый. Прошлой весной он явился к нему в горы из порта Гонт и сделал в старом домишке новые деревянные полы. И тогда они с Молчаливым единственный раз в жизни крупно поспорили — из-за этих полов. И он, Далсе, с тех пор раз и навсегда зарекся с ним спорить.
— Я топчу землю уже семьдесят пять лет, — сказал тогда Далсе. — И не умру, если еще несколько лет по земляному полу похожу!
На что Молчаливый, разумеется, ничего не ответил, давая Далсе возможность самому прислушаться к собственным словам и хорошенько осознать всю их глупость.
— И потом, земляной пол гораздо проще содержать в чистоте, — пробормотал волшебник, сознавая, что спор уже проиграл. С другой стороны, ведь правда: при хорошо утрамбованных глиняных полах в доме для наведения чистоты достаточно слегка подмести пол да сбрызнуть его водой, чтобы улеглась пыль. И все-таки доводы его звучали на редкость глупо.
— И кто же будет мне эти деревянные полы настилать? — уже сдаваясь, проворчал он. В меру раздраженно.
Молчаливый кивнул, что означало: он сам и будет.
У этого парня, на самом деле, были прямо-таки золотые руки: он был первоклассным плотником, краснодеревщиком, каменщиком, кровельщиком; причем это свое мастерство он доказал давно, еще когда жил здесь, в горах, на правах ученика Далсе. К счастью, жизнь в богатой семье не сделала из него белоручку. Молчаливый пригнал с Шестой мельницы близ Ре Альби телегу, в которую были впряжены волы; телега была доверху нагружена первосортными досками, и он тут же сам их и разгрузил, а потом быстренько настелил полы и на следующий день не просто вымыл, а прямо-таки отполировал их, пока старый волшебник ходил к Заболоченному озеру за какими-то травами. Когда Далсе вернулся домой, полы сверкали, точно озерная гладь.
— Ну вот, теперь придется каждый раз ноги мыть, если в дом войти захочется, — проворчал старик и осторожно вошел в дом. Полы были такими гладкими и по ним было так приятно ступать босыми ногами, что они показались Далсе даже мягкими.
— Чистый атлас! — вырвалось у него. — Но ты, конечно же, не мог успеть все это сделать за один день без парочки заклинаний, верно? Признавайся! М-да, деревенская развалюха с королевскими полами! Ну что ж, зимой будет, наверное, очень красиво, когда огонь будет в этом полу отражаться! Или, может, мне теперь еще и ковер себе купить? Из чистой шерсти и расшитый золотыми нитками?
Молчаливый улыбнулся. Он был очень доволен собой.
Впервые он постучался в эту дверь довольно давно, несколько лет назад. Хотя нет, теперь-то уж, наверное, лет двадцать прошло, если не двадцать пять! В общем, много. Он был тогда еще совсем малышом, длинноногий, взлохмаченный, с нежной детской мордашкой. Но рот у него был решительный, а глаза смотрели ясно.
— Тебе чего надо-то? — спросил у него волшебник, зная, чего ему надо и чего им всем надобно, и стараясь не смотреть в эти ясные глаза. Он был хорошим учителем, лучшим на Гонте, и знал это. Но он устал от учеников и не хотел, чтобы очередной мальчишка несколько лет путался у него под ногами. И еще он вдруг почуял опасность.
— Учиться, — прошептал мальчик.
— Вот и отправляйся на Рок, — отрезал волшебник. На мальчике были крепкие башмаки и хорошая кожаная куртка. Его родители явно могли себе позволить послать сына в Школу Волшебников. Или уж, в крайнем случае, такой крепкий парнишка вполне был способен и сам отработать свой проезд на Рок в качестве юнги.
— Я там уже был.
Далсе чуть напрягся и снова осмотрел мальчика с ног до головы. Ни плаща, ни посоха волшебника видно не было.
— И что, провалился? Тебя отослали прочь? Или ты сам сбежал?
На каждый вопрос мальчик лишь отрицательно мотал головой. Он даже зажмурился, а уж рта и вовсе ни разу не открыл. И продолжал стоять у Далсе на пороге, напряженный, собранный в тугой комок, пытаясь скрыть волнение и страдальческое выражение глаз. Потом он вдруг тяжело вздохнул, посмотрел волшебнику прямо в глаза и заявил едва слышно:
— Я хочу учиться только здесь, на Гонте. А имя моего единственного учителя — Гелет.
При этих словах волшебник, чье Истинное имя как раз и было Гелет, прямо-таки застыл, как изваяние, и так впился в мальчика глазами, что тот не выдержал и потупился.
Молча, ни о чем его не спрашивая, узнал старый Далсе имя мальчика и еще две важные вещи: увидел силуэт ели и руну Сомкнутых Уст. А потом, желая узнать больше, услышал мысленно и его Истинное имя, но вслух его не произнес.
— Я устал от учеников и бесконечных разговоров с ними, — сказал он. — Больше всего сейчас мне нужно молчание. Тебя это устраивает?
Мальчик кивнул — один раз, но очень твердо.
— Хорошо, тогда я так и буду звать тебя — Молчаливый, — сказал волшебник. — Спать ты можешь вон в том алькове у западного окошка. В сарае есть старый тюфяк, его только проветрить нужно как следует да выбить хорошенько. Смотри не притащи в дом мышей! — И волшебник, повернувшись к мальчику спиной, медленно побрел в сторону Водопада, сердясь и на своего нового ученика за то, что явился к нему непрошенным, и на себя за то, что так быстро уступил. Однако отнюдь не гнев заставлял так быстро биться его сердце. Он шел довольно быстро — тогда он еще мог ходить относительно быстро! — и ветер все ударял его порывами слева, а утреннее солнце уже скрылось за горой, и лучи его освещали лишь далекое море у самого горизонта, и непрерывно думал о Великих Мудрецах с острова Рок, мастерах магических искусств, профессорах всяческих таинств и волшебных знаний. «Так он, значит, оказался им не по зубам, так, что ли? Впрочем, похоже, и мне он тоже не по зубам будет», — думал Далсе и улыбался. Он был человеком мирным, но иногда был очень не против небольшой порции опасности и риска.
Он остановился, почувствовав вдруг под ногами влажную землю. Он был, как всегда, бос. Когда он учился на Роке, то, конечно же, носил башмаки, однако, вернувшись на Гонт, в родной Ре Альби, с посохом волшебника, тут же разулся и больше башмаков почти не носил. Он стоял неподвижно, чувствуя под ногами не только землю и мелкие камешки, но и мощный гранитный пласт, по поверхности которого шла тропа и который подходил к самому краю утеса, и под этим гранитным пластом мысленно видел такие же мощные пласты, а гораздо ниже — корни самого острова, там, глубоко, во тьме. И во тьме, глубже, чем дно самого глубокого океана, корни всех островов соприкасались и соединялись. Примерно так когда-то рассказывал ему его учитель Ард, примерно так говорили и Мастера с острова Рок. Но Гонт был его островом, и это была его скала, и его земля была у него под ногами. Его волшебная сила выросла из этой земли. Тот мальчик сказал тогда, что хочет учиться только здесь, и назвал Истинное имя своего учителя. Его имя. Но дело было, видно, не только в том, что он хотел учиться только у Далсе. Мальчик чувствовал, что корни волшебной силы старого мага гораздо глубже его мастерства. Видимо, именно этому он и хотел научиться у Далсе: тому, у чего корни глубже корней самого высокого магического мастерства. Тому, что и сам Далсе когда-то постиг здесь, на Гонте, еще до того, как решил отправиться на Рок.
Но этот мальчик непременно должен был получить посох волшебника! Интересно, почему это Неммерль отпустил его, позволил ему покинуть Рок без посоха, точно незадачливому ученику или простому колдуну? Такую силу, какой обладает этот парнишка, нельзя оставлять без присмотра, не дав ей конкретного приложения, никак не обозначив ее присутствие!..
А ведь у моего учителя волшебного посоха тоже не было, подумал вдруг Далсе. Он прекрасно понимал: этот мальчик хочет получить свой посох из моих рук. Получить посох, сделанный из гонтийского дуба и от гонтийского волшебника. Ну хорошо. Он этот посох получит. Если сможет держать рот на замке (а он, похоже, сможет). И тогда я оставлю ему все свои книги, а в них собрано немало всякой премудрости. Значит, условия таковы: пусть научится чистить курятник, разбираться в «Толкованиях Данемера» и, главное, держать рот на замке.
Новый ученик запросто вычистил курятник, взрыхлил и прополол все грядки с бобами и довольно скоро научился разбираться в «Толкованиях Данемера», а также в «Колдовском напитке Энлада», и рот свой действительно держал на замке. Он слушал. Он слышал все, что говорил ему Далсе, а иногда и гораздо больше: то, о чем Далсе думал. Он делал все, чего Далсе от него требовал, а также то, о чем Далсе даже не подозревал, но что всегда оказывалось очень даже кстати. Талант Молчаливого был куда глубже и шире того, чему мог научить его Далсе, однако же он пришел именно к нему, в Ре Альби, и оба они отлично это понимали.
В те годы Далсе частенько думал об отцах и сыновьях. Сам он когда-то поссорился с отцом, колдуном и золотоискателем, из-за того, что выбрал себе такого учителя. Его отец тогда кричал, что Ард не может быть его учителем, что он больше ему не сын, и потом долго еще носился со своим гневом, да так и умер, не простив Далсе.
Далсе не раз видел, как молодые мужчины плачут от радости, когда у них рождается первенец. Он видел, как бедняки отдают ведьмам весь свой годовой доход, лишь бы пообещали, что у них родится здоровый наследник; видел, как тот или иной богач, касаясь личика своего увешанного золотом сына-первенца, шепчет влюбленно: «Мое бессмертие!» Однако он не раз видел, как отцы до полусмерти избивают своих сыновей, оскорбляют и унижают их, без конца спорят с ними, ненавидя в них… свою собственную смерть! И он видел ответную ненависть в глазах сыновей, угрозу, безжалостное презрение к отцам. И видя все это, Далсе понимал, почему и сам он никогда не стремился примириться с отцом.
Ибо он видел, и не раз, как отец и сын молча и согласно работают в поле с восхода до заката: старик-отец ведет полуослепшего вола, а сын, мужчина средних лет, налегает на плуг с железными лопастями. Когда же они заканчивают работу и начинают собираться домой, старик лишь на мгновение кладет руку на плечо сына, и в этом прикосновении заключена вся его любовь и доверие.
Далсе всегда помнил об этом. Вот и сейчас тоже вспомнил, глядя на склонившееся над старинной книгой смуглое лицо своего ученика, который, устроившись зимним вечером напротив него у очага, был обычно занят либо чтением, либо починкой одежды. И всегда — глаза опущены долу, уста сомкнуты, но душа внемлет.
«Примерно раз в жизни, и то если очень повезет, волшебник находит кого-то, с кем он может говорить по душам». Это сказал Неммерль за день-два до того, как Далсе навсегда покинул Рок, и за год или за два до того, как Неммерль был избран Верховным Магом Земноморья. В Школе он был тогда Мастером Путеводителем и самым добрым из учителей Далсе. «Я думаю, если бы ты остался, Гелет, — сказал он Далсе на прощанье, — мы могли бы иногда беседовать друг с другом».
Некоторое время Далсе просто не знал, что ему ответить. Потом, заикаясь и чувствуя себя виноватым, неблагодарным, но все же не желая уступать, он сказал: «Господин мой, я бы остался, но меня на Гонте работа ждет. Жаль, что мне не удастся поработать здесь, с тобой…»
«Ну что ж, это редкий дар — знать, где именно тебе следует быть, до того, как побываешь во всех прочих местах, где тебе быть вовсе и не следовало бы, — вздохнул Неммерль. — Если хочешь, можешь иногда присылать ко мне в ученики способных мальчиков. Школе нужны ребятишки с Гонта; там очень много одаренных детей. Хотя мне кажется, мы в нашей Школе все-таки что-то упускаем, что-то очень важное, что волшебникам следовало бы знать…»
И Далсе регулярно посылал в Школу учеников; троих или четверых, отличных ребят с различными талантами, он послал к самому Неммерлю; и все-таки тот единственный, которого так ждал Неммерль, пришел и ушел по своей воле, и что они подумали о нем там, на Роке, Далсе известно не было. А Молчаливый, естественно, ничего не рассказывал. Но было ясно, что за два или три года, проведенные в Школе, он узнал столько, сколько некоторые узнают, лишь проучившись лет шесть-семь, а некоторые и вовсе не узнают никогда. Для Молчаливого же обучение в Школе волшебников оказалось просто первичной подготовкой.
— Что же ты сразу ко мне не пришел? — спросил его как-то Далсе. — Поучился бы у меня немного, а уж потом мог бы и на Рок отправиться и там свои знания как следует отполировать.
— Я не хотел, чтобы ты, господин мой, зря тратил на меня свое время.
— А Неммерль знал о твоих дальнейших планах? Что ты хочешь работать со мной?
Молчаливый только головой покачал.
— Между прочим, если бы ты соблаговолил поведать ему об этом, он, возможно, прислал бы мне весточку заранее.
Молчаливый ошарашенно посмотрел на него:
— А что, разве он был твоим другом, господин мой?
Далсе ответил не сразу.
— Он был моим Учителем, — сказал он. — А, возможно, стал бы и другом, если бы я остался на Роке. Но разве у волшебников есть друзья? Не чаще, чем жены или сыновья, по-моему… Однажды, правда, он сказал мне, что волшебнику здорово везет, если он находит человека, с которым мог бы поговорить по душам… Запомни это. Если тебе повезет, то в один прекрасный день тебе придется открыть свой рот и заговорить как следует.
Молчаливый еще ниже наклонил свою кудлатую голову и задумался.
— Если только язык у тебя совсем не заржавеет от молчания, — прибавил Далсе.
— Если ты, господин мой, попросишь, чтобы я заговорил, я заговорю! — Это вырвалось у него с такой искренней готовностью в один миг отказаться от собственных наклонностей и привычек по одной лишь просьбе Далсе, что волшебник не удержался и со смехом заметил:
— Пока что я просил тебя не раскрывать рта. Я и сам говорю более чем достаточно. Можно сказать, за двоих. Ладно, не обращай внимания. Я пошутил. В свое время ты и сам будешь точно знать, что нужно сказать. Это ведь тоже искусство, верно? Что сказать и в какой момент. А остальное — молчание.
Три года юноша спал в доме Далсе на соломенном тюфяке в алькове под маленьким окошком, выходящим на запад. Он старательно учился магическим искусствам и умениям, охотно кормил кур, чистил курятник, доил корову. И однажды предложил Далсе завести коз. Перед этим он целую неделю буквально не раскрывал рта, а осенние эти дни выдались холодными, дождливыми, и он вдруг заговорил:
— Господин мой, мы могли бы держать еще и коз.
Далсе сидел за столом, и перед ним лежала толстенная книга с собранными в ней магическими премудростями, и в этот момент он как раз пытался восстановить одно из могущественных заклятий Акастана, несколько веков назад сильно поврежденное и сделавшееся почти бессильным из-за вредоносных эманаций Фундаура. Далсе уже начал было понимать значение недостающего слова, способного заполнить один из образовавшихся пробелов, и уже почти разгадал его, как вдруг прозвучало это«…мы могли бы держать еще и коз».
Далсе хорошо знал свой нрав и считал себя излишне говорливым, слишком нетерпеливым и чересчур вспыльчивым. Для него, например, запрет на произнесение вслух бранных слов был, особенно в молодые годы, поистине тяжким бременем. Кроме того, целых тридцать лет он сносил тупость учеников, да и тупоумие коров и кур тоже изрядно его утомляло. Ученики и те, кто приходил к нему за советом и помощью, больше всего боялись его острого языка, а вот коровы и куры на его ядовитые замечания даже внимания не обращали. На Молчаливого же он вообще никогда раньше не сердился. Но на этот раз он ответил ему не сразу и довольно долго молчал, усмиряя гнев.
— Зачем? — коротко спросил он наконец.
Молчаливый явно не заметил ни этой странной паузы, ни чрезмерно нежного тона Далсе.
— Молоко, сыр, жареные козлята, просто веселая компания, — перечислил он грядущие выгоды.
— А ты когда-нибудь за козами ухаживал, милый? — спросил Далсе тем же нежным и изысканно вежливым тоном.
Молчаливый покачал головой.
Он вообще-то был парнем городским, родом из порта Гонт. Он так ничего и не рассказал ни о себе, ни о своей семье, но Далсе обиняком кое-что о нем выяснил. Его отец, портовый грузчик, погиб во время большого землетрясения, когда Молчаливому было лет семь или восемь. Мать его была поварихой в прибрежной гостинице. В двенадцать лет мальчик угодил в большую беду, возможно, что-то напутав с магическими заклятиями, и матери с трудом удалось отдать его в ученики Элассену, весьма уважаемому колдуну из Вальмута. Там Молчаливый получил свое Истинное имя и вполне профессиональные навыки в столярном деле и земледелии, хотя в области магических наук ничему особенно не научился, причем Элассен через три года настолько расщедрился, что даже оплатил ему проезд до острова Рок. Больше Далсе узнать не удалось ничего.
— Я козий сыр терпеть не могу! — только и сказал Далсе в ответ на предложение Молчаливого.
Молчаливый кивнул и больше о козах не заговаривал.
И время от времени все эти годы Далсе вспоминал, как это он умудрился не выйти из себя, когда Молчаливый спросил его насчет коз; и каждый раз память давала ему ощущение тихого удовольствия, вроде того, которое возникает, когда отправишь в рот последний кусок отличной спелой груши.
А тогда, проведя еще несколько дней в попытках снова «поймать» недостающее слово, он засадил Молчаливого за изучение «Заклятий Акастана». И через некоторое время они вместе наконец, правда, после долгих мучений, сумели-таки определить значения всех нужных слов!
— Ох, все равно что пахать на полуслепом воле! — вздохнул Далсе.
И вскоре после этого он вручил Молчаливому посох волшебника, который сделал сам из гонтийского дуба.
А потом, в который уже раз, правитель порта Гонт попытался убедить Далсе спуститься с гор и навести в порту порядок, и Далсе вместо себя послал туда Молчаливого, который там и остался.
И вот теперь Далсе стоял на пороге своего дома с тремя свежими куриными яйцами в руке, а холодный дождь все продолжал падать с небес.
Как долго он простоял там? Почему? Он же думал о деревянных полах, о том, как хорошо ходить по земле босиком, о Молчаливом. Или нет? А может, он ходил по тропе над Водопадом? Нет, в тот раз — и это, кстати, было много лет назад, — светило солнце. А сейчас давно уже идет дождь… Нет, дело было так: он накормил кур и вернулся на крыльцо, держа в руках эти три свеженьких яйца; и он сразу вспомнил тот могучий раскат грома и то, как его старые кости и босые ступни ощутили какую-то необыкновенную дрожь земли, вызванную этим раскатом. Да и гром ли это был?
Нет. Был какой-то грохот. Но не гром. У Далсе возникло какое-то смутно знакомое чувство, но он его никак не мог распознать. Такое он уже чувствовал когда-то давно… когда? Давно. Задолго до тех дней, которые он только что вспоминал. Когда же это было? До землетрясения. Да, как раз перед землетрясением! Как раз перед тем, как в море обвалился здоровенный кусок побережья близ Эссари, и люди погибли под руинами собственных домов, и огромная волна вдребезги разнесла верфи в порту…
Далсе сошел с крыльца на размокшую землю, чтобы еще раз попытаться прочесть послание земли нервными окончаниями ступней, но земля, превратившаяся в грязь, видно, спутала все слова, которые хотела ему сказать. Далсе положил яйца на ступеньку, сел рядом, вымыл ноги водой из старой миски, стоявшей у крыльца, насухо вытер их тряпицей, что лежала тут же, как следует выжал тряпицу и повесил ее на перила; потом снова бережно положил яйца в карман и медленно пошел в дом.
Бросив острый взгляд на свой посох, стоявший в углу за дверью, он отнес яйца в кладовку, быстро съел яблоко, ибо был голоден, и взял посох в руки. Посох был тисовый, нижний конец обит медью, а ручка блестела, как шелк, отполированная руками за столько-то лет. Этот посох ему вручил когда-то сам Неммерль.
— Стой! — велел он посоху на Языке Созидания и выпустил его из рук. Посох застыл посреди комнаты, словно его вставили в специальное гнездо.
— Веди меня к корням, — нетерпеливо приказал посоху Далсе на Языке Созидания. — К корням!
И уставился на стоявший посреди сиявшего чистотой пола посох. Через некоторое время посох слегка шевельнулся или, скорее, вздрогнул.
— Ах, вот как! — вырвалось у старого волшебника. — Но что же мне делать?
Посох качнулся, замер, и по нему снова пробежала дрожь.
— Ну, довольно, дорогой мой, — сказал Далсе, ласково поглаживая посох. — Хватит. Ничего удивительного, что я все время думаю о Молчаливом. Вообще-то следовало бы поскорее послать за ним… к нему… Нет. Что там говорил великий Ард? Ищи средоточие? Вот какой вопрос нужно задавать себе! Вот что нужно делать!.. — И Далсе, продолжая что-то бормотать про себя, расправил свой тяжелый плащ и поставил воду на горевший в очаге огонь, чтоб закипела, а потом вдруг удивился: что это с ним? Неужели он всегда вот так разговаривает с самим собой? Неужели он говорил с самим собой и в те годы, когда у него жил Молчаливый? Нет, конечно. Это стало у него привычкой только после ухода Молчаливого, когда ему невольно пришлось вернуться к прежним обыденным заботам, одновременно мысленно готовясь к неведомым еще бедам и разрушениям.
Он сварил вкрутую четыре
яйца — три свеженьких и еще одно из кладовки — и положил их в заплечный мешок, сунув туда же четыре яблока и небольшой бурдюк вина, обладавшего приятным, чуть смолистым вкусом (на тот случай, если придется всю ночь провести под открытым небом). Потом, морщась от боли в суставах, накинул свой тяжелый плащ, взял в руки посох, велел огню погаснуть и вышел из дома.
Корову он давно уже не держал. Но около птичника остановился, думая, что же делать с курами. С одной стороны, в последнее время в сад частенько наведывались лисы, но с другой — курам придется самим искать корм, если он задержится. Что ж, пусть, как и все остальные, сами испытают свою судьбу. Он немного приоткрыл дверцу птичника. Хотя дождь и превратился уже в некую туманную морось, куры, нахохлившись и с самым разнесчастным видом, продолжали сидеть под навесом своего домика. А Королек даже ни разу не прокукарекал сегодня с утра.
— Может, хотите что-нибудь мне сказать на прощанье? — спросил их Далсе.
Его любимая несушка отряхнулась и несколько раз отчетливо произнесла собственное имя: Бакка. Остальные продолжали молчать.
— Ну ладно, вы тут осторожнее. В полнолуние в сад лиса заходила, я сам видел, — предупредил кур Далсе и пошел прочь.
И все думал, думал на ходу, вспоминал и вспомнил все, что мог, о том, что когда-то давно и только один раз рассказывал ему его Учитель. Странные то были истории, настолько странные, что Далсе так тогда и не понял, то ли Учитель говорил об истинном волшебстве, то ли о простом колдовстве. На Роке Далсе ни о чем таком определенно ни разу не слышал и сам никогда об этом ни с кем не говорил — опасался, что Мастера будут презирать его за то, что он так серьезно воспринимает подобные глупости; а может, уже тогда догадывался, что Мудрецы Рока никогда «подобных глупостей» не поймут, потому что все эти истории касались исключительно Гонта; это было древнее гонтийское волшебство, и эти знания не были описаны даже в мудрых книгах Арда, которые достались ему от Великого Мага Эннаса из Перрегаля. Знания эти всегда передавались только из уст в уста. Они были, так сказать, домашними истинами гонтийских мудрецов.
— Если хочешь узнать о сущности Горы, — говорил ему когда-то Ард, — ступай к Темному Пруду на верхнем конце того коровьего пастбища, что принадлежит Семерсу. И там, может быть, тебе станет ясно, как это сделать. Прежде всего необходимо отыскать центр, средоточие. А потом найти вход.
— Вход? Какой вход? — прошептал юный Далсе.
— Ну да, вход. Разве можно что-то узнать, находясь снаружи?
Далсе долго молчал, потом спросил:
— Но как это сделать?
— А вот как. — И Ард широко раскинул длинные свои руки и стал произносить слова того великого заклятия, которое, как Далсе узнал впоследствии, было заклятием Истинного Превращения. Ард произносил эти слова невнятно, как и обязаны делать те, кто учит волшебству, чтобы силой заклятия случайно не воспользовались другие. Но Далсе уже знал тот прием, благодаря которому можно расслышать любые слова как следует и даже запомнить их, так что когда Ард замолк, Далсе уже повторял про себя слова только что произнесенного его Учителем заклятия, едва заметно жестикулируя при этом, ибо движения рук тоже необходимо было запомнить. Вдруг рука его замерла сама собой.
— Но ведь это заклятие невозможно повернуть вспять! — вдруг произнес он вслух.
Ард кивнул:
— Да, ЭТО отменить невозможно!
Далсе не знал ни одного превращения, которое нельзя было бы отменить, и ни одного заклятия, которое нельзя было бы повернуть вспять. Исключение составляло лишь Слово, Отпускающее Душу, которое произносится лишь один раз в жизни.
— Но тогда почему?..
— Только при острой необходимости, — сказал Ард.
Далсе хорошо знал, что расспрашивать дальше не следует. Да и острая необходимость, когда произносятся подобные заклятия, возникает не слишком часто; а возможность того, что придется прибегать к таким крайним мерам, и вовсе была очень мала. Далсе как бы уронил ужасное заклятие на самое дно памяти, и оно спряталось там в залежах других знаний — полезных, прекрасных, несущих свет, самых разнообразных магических искусств и умений, строгих правил острова Рок и тех тайных сведений, которые он почерпнул в старинных книгах, завещанных ему Ардом. Недозрелое и бесполезное, страшное это заклятие лежало во тьме его души целых шестьдесят лет, точно краеугольный камень какого-то древнего, давно разрушившегося и забытого строения, который обнаруживаешь вдруг в подвале собственного дома, полного света, благополучия и детей.
Дождь давно прекратился, но туман все еще скрывал вершину горы, а над лесами, покрывавшими верхнюю часть склонов, проплывали клочья облаков. Далсе хотя и не был таким неутомимым ходоком, как Молчаливый, который готов был хоть всю жизнь скитаться по лесным тропам Гонта, но все же темп держал неплохой, ибо родился в Ре Альби и знал каждую тамошнюю тропинку так же хорошо, как самого себя. Он срезал путь у колодца Рисси и вышел на верхнее пастбище еще до полудня. Пастбище представляло собой почти ровный выступ на склоне горы; примерно милей ниже виднелись залитые солнцем хозяйственные постройки и крестьянский дом, к которому двигалось стадо овец, похожее на тень от облака, бегущую по земле. Порт и залив были скрыты от глаз узловатыми холмами с крутыми вершинами.
Далсе пришлось немного побродить по пастбищу, прежде чем он отыскал то, что решил все же считать тем самым Темным Прудом. Это был маленький, грязный, наполовину заросший тростником прудик, к которому вела одна-единственная едва заметная грязная тропинка, истоптанная козьими копытцами; больше вокруг не было ничьих следов. Вода в пруду была действительно очень темная, хотя небо над ней светилось голубизной, а торфяники остались далеко внизу. Далсе пошел по козьей тропе, ворча и оскальзываясь в грязи; он чуть не вывихнул лодыжку, стараясь не упасть. Подойдя к самой воде, он остановился, наклонился, растер ноющую лодыжку и прислушался.
Было абсолютно тихо.
Ни ветерка. Ни птичьего крика. Ни отдаленного мычания коров или блеяния коз. Ни звука. Словно весь остров вдруг замер. Даже мухи перестали жужжать.
Далсе посмотрел на темную воду. В ней ничего не отражалось.
Он нерешительно сделал шаг вперед. Он был босиком, в закатанных до колен штанах. Плащ он снял и скатал еще час назад, когда из-за туч выглянуло солнце. Тростники щекотали босые ноги. Глинистое дно было мягким; под ногами чавкало; пальцы путались в переплетении корней тростника. Далсе медленно и практически бесшумно продвигался к средине пруда, и расходившиеся от него круги на воде были небольшие и легкие. Пруд казался совсем мелким. Вдруг его осторожно шарившая по дну нога ощутила пустоту, и он остановился.
Вода как бы вздрогнула. Сперва Далсе ощутил бедрами легкое прикосновение — его точно коснулся шерстистый бок какого-то животного; потом увидел, что вся поверхность воды в пруду дрожит и эта дрожь не похожа на легкие концентрические круги, что расходились от него при движении и давно уже замерли, нет, скорее это напоминало вздрагивание какого-то огромного живого существа и повторялось снова и снова.
— Где? — прошептал он на Языке Созидания, а потом произнес это слово громко, ибо этот язык понимают все живые твари и все вещи на свете, не обладающие собственным языком.
Ответом была тишина. А потом из черной дрожащей воды вынырнула рыба, бело-серая, длиной примерно с его руку, и эта рыба, подпрыгнув в воздух, воскликнула тоненьким чистым голоском на том же Языке Созидания:
— Йавед!
Старый волшебник стоял неподвижно, вспоминая все, что знал из Истинных имен Гонта, все названия его холмов, утесов и оврагов, и через минуту понял, где именно находится место под названием Йавед. Это был некий перекресток у вершин двух очень близко друг от друга расположенных холмов, и находился он довольно далеко от порта Гонт, в глубине острова, среди тех узловатых островерхих холмов. Это было место геологического сброса. Если центр землетрясения окажется там, гора просто стряхнет город в море, или завалит камнями, спустив на него лавину, или затопит, подняв огромную волну, и потом раздавит, сомкнув утесы у входа в гавань, как пальцы руки. Далсе вздрогнул, и дрожь тут же охватила все его тело, как только что темную воду в пруду.
Он повернулся и торопливо побрел к берегу, не заботясь о том, куда ставит ногу, и уже не думая, не нарушает ли его дыхание и плеск воды у него под ногами здешнюю тишину. Он прочавкал по вязкому дну меж тростниками, выбрался на берег, покрытый жесткой травой, и наконец услышал гудение мошкары и треск кузнечиков. И тогда он сел прямо на твердую землю, ибо ноги его дрожали.
— Ничего не выйдет, — сказал он сам себе на обычном языке Земноморья: — Я не смогу это сделать. Не смогу — один!
Он был так расстроен, что когда решился наконец позвать на помощь Молчаливого, то не сразу вспомнил начало того заклинания, которое было ему известно вот уже шестьдесят лет; когда же наконец ему показалось, что он его вспомнил, и он уже начал произносить слова Великого Заклинания, способного призывать человеческие души, оно сразу же начало действовать, и только тогда он понял, что поступил неправильно, и стал медленно, слово за словом отменять действие заклятия.
Потом сорвал немного травы и попытался стереть с ног липкую донную глину и ил. Грязь еще не успела засохнуть, и травой он только размазал ее по коже.
— Ненавижу грязь! — прошептал Далсе и тут же крепко стиснул зубы и даже прикрыл рот рукой, немедленно прекратив всякие попытки вытереть ноги. — Нет, не грязь — земля, земля… — приговаривал он, нежно поглаживая землю, на которой сидел. Затем, успокоившись, очень медленно, очень осторожно начал произносить слова призывающего заклятия.
* * *
На шумной улице, что ведет вниз, к верфям порта Гонт, волшебник Огион вдруг остановился, и шкипер, шедший с ним рядом, прошел еще несколько шагов, прежде чем, обернувшись, увидел, что Огион разговаривает с кем-то невидимым.
— Конечно же, я приду, Учитель! — сказал он. И спросил, немного помолчав: — Как скоро? — Потом снова довольно долго молчал, а потом заговорил с невидимым собеседником на таком языке, которого шкипер не понимал. Вдруг Огион сделал какой-то жест, и воздух вокруг него мгновенно как бы сгустился и потемнел.
— Ты, капитан, прости меня, — обратился Огион к шкиперу, — но придется тебе немного подождать. Я после заговорю твои паруса. А сейчас я должен предупредить город, ибо близится землетрясение. Ты же ступай в порт и скажи, чтобы все суда, которые способны держаться на воде, немедленно отошли как можно дальше в открытое море. И подальше от Сторожевых утесов. Удачи вам! — И с этими словами Огион повернулся и бегом бросился назад, вверх по улице, высокий сильный человек с копной седеющих волос, и, надо сказать, бежал он, точно молодой олень.
Порт Гонт расположен в самом конце узкого и длинного залива с крутыми берегами. Войти в залив можно только между двумя отвесными Сторожевыми утесами, которые называют еще Воротами порта. Расстояние между ними не более ста футов, и за такими воротами жители порта Гонт всегда чувствовали себя в относительной безопасности от набегов морских пиратов. Однако же Сторожевые утесы, являясь гарантом их безопасности, одновременно таят в себе страшную угрозу, ибо этот длинный залив представляет собой конец огромной трещины в земной коре, и челюсти, что некогда открылись, всегда могут вновь захлопнуться.
Когда Огион сделал все, что было в его силах, чтобы предупредить город об опасности, когда он убедился, что охрана Ворот и порта делает все необходимое, чтобы предотвратить столпотворение на немногочисленных дорогах, ведущих из города, ибо туда сразу хлынули обезумевшие от страха горожане, он заперся на маяке, оградив себя еще и заклятием, потому что всем тут же понадобилось с ним посоветоваться, и мысленно послал свою душу на берег Темного Пруда.
В это время его старый учитель сидел у пруда на траве и ел яблоко. У его ног, облепленных подсыхающей грязью, валялась яичная скорлупа. Когда Далсе поднял глаза и увидел в воздухе лицо Огиона, то сразу заулыбался широкой ласковой улыбкой. Но выглядел он постаревшим. Никогда прежде не выглядел он таким старым! Огион не видел его примерно год; он всегда был очень занят в городе, к нему все время обращались с просьбами и лорды, и простые люди, и он не имел ни малейшей возможности даже немного отдохнуть. Хотя бы просто погулять в лесу на склоне горы или сходить в Ре Альби и посидеть с Далсе, Истинное имя которого было Гелет. Просто посидеть с ним рядом в его маленьком домишке, послушать и помолчать. Гелет действительно был уже стар, где-то под восемьдесят, но он всегда был бодр и крепок. А сейчас он явно был напуган, хотя и радостно улыбался Огиону.
— По-моему, — начал он без лишних предисловий, — в первую очередь нам нужно попытаться удержать этот разлом от слишком больших разрушений, а город — от сползания в море. Ты будешь удерживать эту трещину у Сторожевых утесов, а я — у ее противоположного конца, который ближе к центру Горы. Будем, как говорится, действовать общими усилиями. Я чувствую, как его мощь нарастает, а ты?
Огион, точнее, его бесплотный двойник, покачал головой и сел на траву рядом с Далсе, и под его нематериальным телом не согнулась ни одна травинка.
— Я пока ничего особенного сделать не успел, разве что посеял в городе панику и велел судам выйти из залива, — сказал он. — А что именно ты чувствуешь? И КАК ты это чувствуешь?
Это были, можно сказать, чисто профессиональные, даже чисто технические вопросы. И Гелет, поколебавшись, ответил:
— Я научился этому у Арда. — Больше он ничего не прибавил и снова замолчал.
Он никогда прежде ничего не рассказывал Огиону о своем первом учителе, которого на Гонте считали обыкновенным колдуном и, пожалуй, даже недолюбливали. Мало того, распускали о нем весьма неприятные слухи. Огион знал только, что этот Ард никогда не был на острове Рок и знания свои получил на острове Перрегаль; слышал он также, что имя этого волшебника было опорочено чем-то таинственным или даже позорным. Гелет, который для волшебника был, пожалуй, чересчур разговорчивым, относительно этих вещей был нем, как рыба. А потому Огион, который молчание и тишину уважал более всего на свете, никогда его об Арде и не расспрашивал.
— Этой магии не учат на острове Рок, — сказал вдруг старик. Голос его звучал суховато, словно он заставлял себя говорить об этом. — Однако она никак не вредит Равновесию, и в ней нет ничего… неприемлемого.
Он всегда пользовался именно этим словом, «неприемлемый», обозначая им все подряд — дурные поступки, серьезные заклятия, которые используют просто для развлечения или, скажем, для наведения порчи — в общем, для всякой «черной магии». Он так и говорил: «Это неприемлемое колдовство!»
Помолчав немного и словно подыскивая нужные слова, он продолжил:
— Земля. Скалы. Камни. Все это — старинная магия земли, Огион. Такая же древняя, как сам остров Гонт.
— Древние Силы Земли? — прошептал Огион.
— Не уверен, — сказал Гелет.
— А способны ли эти силы управлять самой землей?
— Это сейчас не так уж и важно. Куда важнее, как мне представляется, проникнуть вместе с ними внутрь земли. — Старик аккуратно закапывал огрызок яблока и яичную скорлупу в ямку, присыпая мусор землей и старательно приминая сверху. — Конечно же, я знаю некоторые нужные слова, но мне придется учиться на ходу и на ходу решать, что делать дальше. В этом-то и есть главная беда. А вообще с Великими Заклятиями всегда так, верно? В общем-то, учишься уже в процессе, когда все уже начинает свершаться. И решительно никакой возможности попрактиковаться заранее! — Он поднял глаза. — Ага… вон там! Чувствуешь?
Огион покачал головой.
— Напрягается, — сказал Гелет, а рука его по-прежнему рассеянно и нежно поглаживала землю, как поглаживают порой испуганную корову. — Теперь уже совсем скоро, я думаю. Сумеешь ли ты удержать Ворота открытыми, мой дорогой?
— Постараюсь, но скажи, что будешь делать ты?..
Гелет отрицательно покачал головой.
— Нет, — молвил он. — Времени не осталось. Да и все равно ты ЭТОГО не можешь… — Он все более внимательно прислушивался к тому, что чуял то ли в недрах земли, то ли в воздухе, и был совершенно этим поглощен. Огион тоже начинал чувствовать это сгущавшееся невыносимое напряжение.
Некоторое время они посидели молча, потом кризис миновал, и Гелет немного расслабился, даже улыбнулся.
— Это очень древнее волшебство, — сказал он. — То, чем я буду сейчас заниматься. Жаль, что я раньше маловато думал об этом. И жаль, что не передал это умение тебе. Впрочем, мне эта магия всегда казалась несколько грубоватой, примитивной. Жестокой… Да и Она никогда мне не говорила, где научилась своему мастерству. Здесь, конечно, где же еще… В конце концов, на островах существуют самые разные формы знаний…
— Она?
— Ард. Моя учительница. — Гелет поднял на него глаза. По лицу его ничего прочесть было невозможно, но глаза смотрели почти лукаво. — Ты не знал, что это была женщина? Пожалуй, действительно нет. По-моему, я никогда об этом не упоминал… Интересно, то, что она была женщиной, имело какое-то значение для этой магии? Или то, что я мужчина, может повлиять на… Нет, мне кажется, важнее то, в чьем доме мы живем. И кому позволяем входить в этот дом. Все эти вещи… Вот! Вот опять!..
Его внезапно напрягшееся и застывшее в неподвижности тело, его напряженное лицо, взгляд, словно обращенный вовнутрь, вызывали мысли о женщине-роженице, которая прислушивается к усиливающимся схваткам. Именно об этом думал Огион, спросив:
— Господин мой, а что означают твои слова «внутри Горы»?
Спазм прошел; и Гелет ответил:
— То и означают. Внутри нее. Там, близ Йаведа, есть вход. — И он показал Огиону на узловатые холмы внизу. — Я войду внутрь и попытаюсь удержать берег от сползания, ясно? Но сообразить, как именно это сделать, смогу только по ходу дела. А тебе, я думаю, пора вернуться в порт. Дело принимает серьезный оборот. — Он снова умолк; казалось, его терзает невыносимая боль: он весь скорчился и стиснул зубы. Потом с огромным трудом Гелет поднялся на ноги. Не подумав, Огион протянул свою бесплотную руку, чтобы помочь ему.
— Бесполезно, — сказал старый волшебник, усмехнувшись, — ведь ты сейчас не более чем ветер и солнечный свет. А я уже начинаю превращаться в тяжелую землю и камень. И сейчас тебе лучше уйти. Прощай, мой молчаливый Айхал. И постарайся… держать рот открытым! Ясно?
Огион, послушный его воле, вернулся в собственное тело, находившееся в тесноватой комнатке на маяке, но шутку старика понял только тогда, когда, повернувшись к окну, увидел, что Сторожевые утесы готовы вот-вот сомкнуться, точно хищные челюсти.
— Хорошо, — сказал он и принялся за дело.
— Понимаешь, в первую очередь я должен… — старый волшебник по-прежнему обращался к Огиону Молчаливому, потому что это его успокаивало, хотя самого Огиона рядом уже не было, — проникнуть внутрь горы. Но не так, как это делают колдуны-золотоискатели, не просто проскользнуть в какую-нибудь трещину или старую шахту, высматривая и вынюхивая. Нет, мне нужно попасть гораздо глубже. И все время стремиться к центру земли. Не по венам ее с током крови, а прямо по костям. Примерно вот так. — И Гелет, стоя в одиночестве на верхнем пастбище под полуденным солнцем, широко раскинул руки, начиная произносить то великое заклинание, которое открывает и все остальные Великие Заклятия.
Он произнес все необходимые слова, но ничего не произошло. Хотя теперь то заклятие, которому некогда, нарочно произнося его невнятно, научила Гелета его старая учительница, колдунья с горькой складкой у рта и длинными изящными пальцами, было произнесено так, как подобает.
Время шло, но ничего по-прежнему не происходило. И у Гелета хватило времени, чтобы пожалеть о том, что он расстается с этим солнцем и с морским ветерком, и хватило времени, чтобы посомневаться и в силе произнесенного им заклятия, и в себе самом, прежде чем земля вокруг него вдруг встала на дыбы, сухая, теплая, окружив его темной густой пеленой.
Он понимал, что теперь ему следует поспешить, ибо кости земли испытывают боль при малейшем движении, а именно ему предстояло стать ее костями, чтобы иметь возможность направлять и сдерживать подземные толчки. Но поспешить он не смог. Он был ошарашен, сбит с толку, как это всегда бывает при Истинных Превращениях. Он в свое время успел побывать и лисой, и быком, и стрекозой, и знал, каково это — переменить не только свое обличье, но и свою сущность. Но сейчас все было иначе. Больше всего это напоминало какое-то неторопливое увеличение всех частей его тела. Я расту, расширяюсь, думал он безо всякого удивления.
Он достал уже до Йаведа, до того места, где была сосредоточена боль земли, ее страдание, и, приблизившись к нему, почувствовал, как в него откуда-то с запада вливается мощный поток сил; ему даже показалось, что это Молчаливый все же пробрался к нему и взял его за руку. И теперь, благодаря установившейся связи с Огионом, Гелет мог послать всю свою силу Горе, чтобы помочь ей выстоять. «Я так и не сказал ему, что назад не вернусь», — думал он, и это были его последние слова, последние мысли на ардическом языке, последняя человеческая печаль, ибо теперь Гелет проник уже в сердцевину костей Горы. И чувствовал ее огненные артерии, биение ее огромного сердца, и хорошо знал, что ему делать дальше. И он сказал себе и Горе, но уже не на языке людей: «Успокойся, расслабься. Ну-ну, вот так! Держись! Ничего, мы с тобой выстоим!»
И он был спокоен и неподвижен и держался крепко, и один камень цеплялся за другой камень, один земляной слой ложился поверх другого — в огненном чреве Горы…
Именно своего мага Огиона увидели жители порта на крыше сигнальной башни маяка в полном одиночестве, когда крутые улицы города стали выгибаться и извиваться, как змеи, так что булыжники выскакивали из мостовой, а кирпичные стены домов превращались в клубы пыли, а Сторожевые утесы со стонами все тянулись друг к другу, все пытались сомкнуться. И Огион напряженными распростертыми руками словно что-то разводил в стороны, стоя на башне, и в конце концов утесы действительно раздвинулись, разошлись и застыли неколебимо, неподвижно на прежних своих местах. Город еще раз содрогнулся и тоже застыл, успокоился. Это Огион остановил землетрясение, говорили все. Все видели это, и все только об этом и говорили.
— Нет, я был не один, — сказал Огион, когда люди стали восторженно благодарить его. — Со мной был мой Учитель, а с ним — его Учительница. Я смог удержать Ворота открытыми только потому, что Гелет заставил Гору стоять спокойно. — Люди похвалили его за скромность, однако особенно прислушиваться к его словам не стали. Умение слушать — редкий дар, а героев люди обычно выбирают себе сами.
Когда город снова привел себя в порядок, все суда вернулись в гавань, дома были заново отстроены, Огион, спасаясь от славы и похвал, ушел в горы, что возвышались над портом Гонт, и там отыскал маленькую долину, которая называлась Долина Наводящего Порядок (впрочем, Истинное имя этой долины на Языке Созидания было Йавед, как и Истинное имя Огиона было Айхал). Огион бродил по этой долине целый день, словно что-то разыскивая, а вечером лег на землю и заговорил с нею.
— Тебе следовало бы сказать мне. Я бы, по крайней мере, попрощался с тобой, — сказал он и заплакал, и слезы его упали на сухую землю и зеленую траву, и там, где они упали, образовались маленькие комки мокрой и липкой земли.
Он так и заснул там, на голой земле, ничем не укрывшись и ничего не подстелив под себя, и ничто не отделяло его от этой земли. А на рассвете он прошел по верхней дороге прямо в Ре Альби, даже в деревню не зашел, а сразу свернул к домику старого волшебника, что стоял в стороне от деревни, ближе к Водопаду. Дверь в доме после ухода Гелета так и осталась открытой.
В огороде последние стручки бобов стали просто огромными и жесткими, зато кочаны капусты были просто великолепны. Три несушки бродили, квохча и что-то подбирая на земле, возле запылившегося крыльца — рыжая, коричневая и белая. Серая наседка сидела в курятнике на яйцах. Цыплят видно не было, как и петуха Королька. Король умер, подумал Огион, и, может быть, какой-нибудь цыпленок сейчас уже готовится занять его место. Огиону показалось, что из садика за домом метнулась рыжая лисица.
Он старательно вымел из домика пыль и сухие листья, залетевшие в открытую дверь. Вытащил тюфяк и одеяло Гелета на солнышко, чтобы проветрились, и подумал: «Хороший дом». Потом еще немного подумал и решил: «Пожалуй, мне стоит завести еще несколько коз».
На верхних болотах
Остров Семел находится на северо-западе от Хавнора, по ту сторону Пельнийского моря и, стало быть, на юго-западе от Энлада. Это один из крупнейших островов Земноморья, однако о нем известно очень немного, даже сказок и легенд о нем почти не рассказывают. У Энлада богатейшее историческое прошлое, все знают великих героев Энлада. Хавнор всегда славился своим богатством, и даже небольшой остров Пальн тоже имеет собственную, хоть и дурную, славу. А вот на Семеле только и есть, что стада коров и овец, бесконечные леса да крохотные городки, скорее похожие на деревни. Ну и, конечно, огромный уснувший вулкан Анданден, который высится над всем островом.
Когда этот вулкан в последний раз проснулся и заговорил, то к югу от него выпал слой пепла в сто футов толщиной. На Семеле реки и ручьи прокладывают свой путь на юг по высокогорной равнине, то без конца петляя и образуя запруды, то разливаясь и уходя в сторону от основного русла, и тогда земли вокруг превращаются в болотистые низины. Таких низин здесь много; это обширные ровные пространства, на которых полно озер со стоячей водой, деревья встречаются крайне редко и одиноко торчат на фоне далекого горизонта, а люди и вовсе почти не встречаются. Зато здесь, на удобренной пеплом земле произрастают отличные сочные травы, и жители Семела охотно скармливают их скоту, который пасется сам по себе на этих низменных лугах, где реки и речки служат естественными межами, и жиреет, а потом его отправляют на убой в значительно более людные районы южного побережья.
Как и все крупные горы, Анданден сильно влияет на климат родного острова, как бы собирая вокруг себя облака. Лето на Семеле короткое, а зима длинная, особенно на Верхних Болотах.
Однажды в рано наступающих зимой сумерках на перекрестке двух троп остановился путник, которому ни одна из этих троп не казалась, видно, достаточно надежной. Действительно, это были, скорее, протоптанные коровами проходы в тростниках. А этот человек явно искал какое-то селение, где ему могли бы подсказать, куда идти дальше.
Наконец с вершины последнего холма он увидел разбросанные среди болот дома какой-то деревеньки. Он, собственно, и раньше предполагал, что деревня должна быть недалеко, но, видно, где-то неудачно свернул. Высокие тростники так тесно обступали тропу, по которой он спускался к селению, что даже если в сумерках и мелькал вдали огонек жилья, то как следует разглядеть его сквозь заросли тростников было невозможно. Совсем рядом насмешливо болтала и пела река. Путник так долго был в пути, что вдрызг износил свои башмаки; ему пришлось обойти практически всю гору, а горные тропы здесь весьма каменистые и покрыты потрескавшейся черной лавой. Подметок на его башмаках, можно сказать, не осталось совсем, и ноги ныли от прикосновений к ледяной и вечно влажной поверхности троп, ведущих через болота.
Быстро темнело. С юга надвигался туман, скрывая небеса, и лишь над неясно видимой вершиной темной громады Анданден звезды светили действительно ярко. В тростниках тихо и уныло посвистывал ветер.
Путник, остановившись на перекрестке, тоже свистнул ветру в ответ.
И вдруг на одной из троп шевельнулось что-то большое, черное, но, благодаря своей величине, различимое даже в темноте.
— Это ты, моя дорогая? — спросил путник. Он говорил на древнем языке, Языке Созидания. — Улла, Улла, иди ко мне! — позвал он кого-то, и молодая нетель нерешительно сделала шаг или два в его сторону, ибо он назвал ее Истинным именем. Человек тоже сделал несколько шагов ей навстречу и вскоре нащупал в темноте крупную голову коровы и погладил шелковистый лоб между глазами и возле рогов. — Красавица ты моя, красавица! — приговаривал он, вдыхая травяной запах, исходивший от нее, и прижимаясь к ее теплому крутому боку. — Ну что, ты сама поведешь меня, моя милая Улла? Поведешь меня в деревню, да?
Ему повезло: он действительно встретил одну из деревенских коров, а не бродячую, которых здесь тоже было немало и которые способны были бы только завести его еще глубже в болото. Дело в том, что молоденькая Улла просто очень любила прыгать через ограду и уходить на просторный луг. Однако, немного побродив на свободе, она всегда вспоминала о милом хлеве и о матери, от которой ей все еще перепадало порой немного молока; так что теперь она охотно повела путника в деревню. Она шла медленно, но целеустремленно по одной из едва заметных тропок, и он послушно следовал за ней, время от времени обнимая ее и поглаживая по крупу — когда позволяла ширина тропы. Когда корова переходила вброд какой-нибудь ручей, он хватался за ее хвост. Вскарабкавшись на невысокий скользкий глинистый бережок, Улла встряхивалась и старалась высвободить свой хвост, но все же всегда ждала, пока человек, оказавшийся еще более неуклюжим, чем она сама, не взберется на берег. Потом она снова неторопливо пускалась в путь, а он все жался к ее теплому боку, ибо промокал насквозь почти в каждом встречном ручье и весь дрожал от холода.
— Му-у, — сказала вдруг негромко его провожатая, и путник увидел скрытый пеленой тумана небольшой желтый прямоугольник освещенного окна чуть ли не рядом с собой, слева.
— Спасибо тебе, Улла! — сказал он, открывая для нее ворота, и молодая корова пошла здороваться с матерью, а человек побрел через темный двор к дверям дома и постучался.
Постучаться должен был Берри, однако, услышав стук в дверь, она была почти уверена, что никакой это не Берри, но все же крикнула:
— Да входи же, дурачок! — Но стук раздался снова, и она отложила свое рукоделье и подошла к двери. — Ты что, настолько пьян, что собственную дверь открыть не можешь? — проворчала она, отворила дверь и увидела незнакомца.
Сперва она решила, что это сам король, или какой-то знатный лорд, или великий Махарион из героических песен — такой он был высокий, стройный, красивый. Потом передумала: незнакомец был больше похож на нищего — жалкий, в грязной одежде, дрожащий от холода…
— Я сбился с пути, — сказал он. — Это ведь какая-то деревня, да? — Голос у него был грубый, охрипший, голос нищего бродяги, но вот выговор совсем иной.
— Деревня в полумиле отсюда, — сказала Гифт.
— А гостиница там есть?
— Нет. Гостиница есть только в Ораби, а это еще миль десять-двенадцать к югу. — И она быстро предложила: — Если тебе, господин мой, переночевать нужно, то у меня свободная комната найдется. Или еще у Сана можно, он-то как раз в деревне живет.
— Спасибо, я бы с удовольствием здесь остался, — сказал он вежливо. Ну точно, принц! А сам-то едва на ногах стоит, даже за дверной косяк цепляется, чтобы не упасть, и зубы так и стучат!
— Ты башмаки-то сними, господин мой, — сказала Гифт. — Вон они у тебя насквозь промокли, вода так и чавкает! А потом в дом проходи. — Она отступила в сторонку, давая ему пройти, и предложила: — Да ты к огню поближе устраивайся, — она буквально заставила его сесть на место Брена рядом с очагом. — Ты поленья-то кочергой повороши, огонь и разгорится. А супу не хочешь? Еще горячий.
— Спасибо, хозяюшка, с удовольствием, — пробормотал он, скорчившись у огня. Она принесла ему чашку бульона, и он выпил его, хотя и довольно осторожно, словно давно отвык от горячего.
— Ты из-за горы, господин мой?
Он кивнул.
— А сюда зачем пришел?
— По необходимости, — туманно ответил он. Дрожь у него начинала понемногу проходить. Но на его босые ноги было жалко смотреть — все исцарапанные, изодранные, распухшие. Ей хотелось сказать, чтобы он придвинул ноги как можно ближе к огню, но она не осмелилась. Кто бы он ни был, он явно стал нищим не по собственной воле.
— Немногие приходят сюда, на Верхние Болота, по своим-то делам, — сказала она. — Разве что коробейники забредают. Да и то в зимнее время редко.
Он допил бульон, и Гифт унесла чашку. А потом снова уселась на прежнее место, на табуретку справа от очага, поближе к масляному светильнику, и снова взяла в руки шитье.
— Ты хорошенько погрейся, господин мой, а потом я покажу тебе, где можно лечь, — сказала она. — В той комнате очага-то нет. А что за погода на перевале? Говорят, там уж и снег выпадал?
— Да так, отдельные хлопья кружились, — кивнул он. Теперь, в свете лампы и очага, Гифт хорошо его рассмотрела. Оказалось, что он не так уж и молод, худой и не очень высокий, но лицо у него было действительно красивое, тонкое, хотя, на ее взгляд, чего-то в нем не хватало. А может, взгляд у него был какой-то… неправильный? В общем, подумала она, выглядит он, пожалуй, как конченый человек. Или сломленный.
— Так все-таки, зачем ты на Верхние Болота пожаловал? — снова спросила она. Она имела право это спросить, поскольку пустила его в свой дом и оставила ночевать, и все же ей было неловко, что она так пристает к нему с этим вопросом.
— Мне сказали, что тут у скота ящур. — Теперь, когда он стряхнул с себя путы холода, голос его звучал просто изумительно: как у сказителей, когда они рассказывают всякие истории о героях древности или о повелителях драконов. Так, может, он сказитель или певец? Да нет, он же о ящуре говорил!
— Да, болеет скот, сильно болеет!
— Что ж, возможно, я сумею помочь вашим животным.
— Так ты лекарь, господин мой?
Он кивнул.
— Ой, вот уж в деревне обрадуются! Ящур-то у нас прямо-таки косит скот.
Гость промолчал, но Гифт так и чувствовала, как тепло постепенно освобождает его тело и душу.
— Ты ноги-то к огню протяни, — ласково посоветовала она ему. — У меня где-то были старые мужнины башмаки… — Ей нелегко было произнести эти слова, но когда она их произнесла, ей тоже сразу стало легче, словно и ее тоже внутренне освободили. Интересно, между прочим, для чего она так долго хранит старые башмаки Брена? Берри они оказались чересчур малы, а ей самой слишком велики. Всю одежду Брена Гифт давно раздала, а вот башмаки почему-то оставила. Странно? Может, как раз для этого незнакомца? Все возвращается на круги своя, если терпение иметь, думала она. — Я вот их разыщу да в порядок приведу, может, они еще тебе сгодятся, — сказала она. — Твои-то совсем развалились, господин мой.
Он быстро на нее глянул. Глаза у него были большие, темные и непонятные, точно у лошади; и прочесть что-либо по ним она не смогла.
— Муж-то мой умер, — пояснила она. — Два года назад. От болотной лихорадки. Здесь этого и тебе остерегаться придется. Вода здесь гнилая. А я с братом живу. Он в деревню пошел, в таверну. Мы с ним молочных коров держим. Я сыр делаю. У нас тут трава очень хорошая, — и она особым образом сложила пальцы — от сглаза. — Я своих коров рядом с домом держу. На дальних-то пастбищах ящур прямо свирепствует. Может, как настоящие-то холода наступят, ему и конец придет?
— Вряд ли. Скорее, он успеет всех животных тут уничтожить, чем сам от холода погибнет, — сказал гость. Голос у него звучал несколько сонно.
— Меня Гифт зовут, — сказала она. — А моего брата Берри.
— Хорошие имена — Дар и Ягодка. А я — Чайка, — представился он, помолчав, и она поняла, что это имя он только что придумал, хотя оно ему совершенно не подходит. Да и вообще все в нем как-то не подходило одно к другому; как ни старайся, а целостного впечатления не получалось. И все же никакого недоверия к нему Гифт не испытывала. Ей с ним было легко и просто. Он явно не желал ей зла. И он, похоже, добрый — ведь как хорошо говорил о животных! Должно быть, запросто с ними общий язык находит. Да и сам он чем-то на зверька похож, на раненого зверька, которому нужна защита, да только он попросить об этом не может.
— Пойдем, — сказала она, — не то прямо здесь заснешь. — Он послушно пошел за нею в комнату Берри, представлявшую собой, собственно, клетушку, выгороженную в одном из углов дома. А себе Гифт устроила комнатку за печкой. Берри, конечно, явится пьяным, думала она, так что можно ему тюфяк прямо на пол у очага постелить. А этот бедолага пусть хоть одну ночку отдохнет по-человечески. Может, он еще и грош или два ей оставит. Гифт в те дни ужасно не хватало денег.
Он проснулся, как всегда в Большом Доме, и никак не мог понять, почему потолок такой низкий, а воздух, хотя и свежий, пахнет какой-то кислятиной, и почему за стеной блеют овцы и мычат коровы? Некоторое время пришлось полежать совершенно неподвижно и постепенно вернуться в эту ДРУГУЮ жизнь, в это другое место, в дом этой другой женщины. И еще он никак не мог вспомнить свое новое имя, хотя вчера вечером назвал его — той телке, что вывела его на дорогу, или той женщине, что его приютила. Свое Истинное имя он помнил, но от этого проку не было никакого; это имя называть не стоило нигде. И еще он помнил долгий путь по черным, залитым лавой тропам, крутые склоны горы и обширную зеленую страну, раскинувшуюся вдруг перед ним, всю изрезанную речками и речными рукавами, в которых на солнце так и сверкала вода. Дул холодный ветер, свистел в тростниках, и молодая корова вела его в деревню, без конца переходя вброд холодные речки и ручьи… А потом Эмер открыла перед ним дверь своего дома. Он сразу узнал ее подлинное имя; взглянул ей в лицо и сразу понял. Однако пришлось называть ее иначе, Гифт, да и нельзя было ему, незнакомцу, сразу назвать ее Истинным именем… Вот еще хорошо бы вспомнить, каким именем он сам назвался! Называться Ириотхом он не должен, хотя он действительно Ириотх. Но, возможно, со временем станет совсем другим человеком и будет зваться иначе. Нет, это неправильно; он должен быть самим собой. Ноги у него ныли от долгой ходьбы, а израненные подошвы так болели, что к ним было не прикоснуться. Зато кровать была хороша! С периной, теплая, и не нужно было немедленно вставать и спешить куда-то, так что он еще немного подремал, забывая во сне, что он Ириотх и ему нужно от этого избавляться.
Когда пришлось все же встать, то он никак не мог вспомнить, сколько ему сейчас лет. Он долго изучал свои руки, пытаясь понять, не семьдесят ли ему, хотя выглядел он по-прежнему на сорок, зато чувствовал себя на все семьдесят пять, да и двигался, как старик, — постанывая. Оделся он с трудом; после стольких дней ходьбы одежда была ужасно грязная. Под стулом он обнаружил вполне крепкие башмаки и вязаные шерстяные носки. Он натянул носки на истерзанные стертые ноги и прохромал в кухню. Эмер стояла у большого таза и отжимала что-то тяжелое, завернутое в тряпицу.
— Спасибо большое за носки и башмаки, — сказал он и, благодаря ее за этот дар, вспомнил, что таково значение ее имени, но говорить об этом не стал, только прибавил ласково: — Хозяюшка!
— Пожалуйста, — откликнулась она, вытряхнула творог из тряпицы в просторную глиняную миску и вытерла руки о фартук. Он совсем ничего не понимал в женщинах. И не жил с ними в одном доме с десяти лет. А тогда, в детстве, он этих женщин даже боялся, потому что они вечно кричали, чтобы он убирался прочь и не крутился под ногами, — все это было когда-то давным-давно на огромной кухне… Впрочем, за время своих странствий по Земноморью он не раз встречался с женщинами и обнаружил, что ему с ними так же легко, как с животными. Женщины обычно продолжали заниматься своими делами, не обращая на него особого внимания, если только он их не пугал. И он старался никогда этого не делать. У него не было ни желания, ни причины пугать их. Они же не были мужчинами.
— Свеженького творога не угодно? Очень хорошо на завтрак! — Она глянула на него и тут же отвела глаза, на его взгляд не ответила. Точно животное, точно кошка, присматривалась к нему осторожно, без вызова. Кстати, кот в доме был, большой, серый; сидел себе у самого очага, подобрав лапки, и смотрел на угли. Ириотх принял из рук женщины миску с творогом и ложку и сел на тот же сундучок, что и вчера. Кот тут же прыгнул к нему, замурлыкал и стал тереться о плечо.
— Нет, вы только посмотрите на этого кота! — удивилась Гифт. — Он же у нас ни к кому не подходит!
— Это он просто творогом интересуется.
— А может, своего чует?
Ириотх промолчал. В обществе этой женщины и этого кота ему было удивительно тепло и уютно. Он пришел в хороший дом!
— На улице холод! — сообщила ему Гифт. — С утра вся тропинка обледенела. А ты что ж, господин мой, сегодня дальше пойдешь?
Повисло неловкое молчание. Ириотх совсем забыл, что должен отвечать с помощью слов.
— Я бы остался, если можно, — неловко выговорил он. — Здесь бы остался.
Он заметил ее улыбку, но все же было видно, что она колеблется. Помолчав, она все же сказала:
— Ну что ж, пожалуйста, господин мой, но тогда мне придется спросить: ты мне хоть немного заплатить-то сможешь?
— О да, конечно! — смутился он, вскочил и прохромал в ту комнату, где спал, чтобы взять свой дорожный мешок. Оттуда он достал монетку и протянул ее хозяйке. Это была маленькая энладская золотая монетка с королевской короной.
— Мне бы только чтоб на еду да на топливо хватило… — извиняющимся тоном пояснила Гифт. — А торфяные брикеты теперь стали такими дорогими… — Она взглянула на монетку, которую он сунул ей в руку, и растерянно охнула. Он тут же понял, что совершил ошибку. — Ой, господин мой! Да ведь никто в деревне золотой и разменять-то не сможет! — Какое-то время она смотрела прямо на него. Потом вдруг рассмеялась. — У нас хоть всех жителей вместе собери, и то они настоящий золотой не разменяют! — Значит, все-таки все было в порядке, хотя слово «разменять» упорно продолжало звучать у него в ушах.
— Так ведь и я ее ни на что не разменивал, — сказал он, но понял, что она-то имела в виду нечто совсем иное. — Прости меня, хозяюшка, — сказал он. — Ну а если бы я, скажем, остался у тебя на месяц или на всю зиму, тогда этого было бы достаточно? Мне ведь все равно нужно где-то жить, пока я буду ваших животных лечить.
— Ну и спрячь свою монету подальше, — сказала Гифт, снова рассмеявшись, но уже совсем по-другому, и беспечно махнув рукой. — Если
сможешь скотину вылечить, так тебе хозяева заплатят, тогда ты мне должок и отдашь. Можешь считать, что дал мне эту монету в залог, если хочешь, но только спрячь ее пока что, господин мой! У меня даже голова кружится, когда я на нее смотрю. Да и Берри мой… — начала было она и умолкла, потому что в дверях вместе с клубами морозного воздуха появился сухощавый, молодой еще человек, двигавшийся несколько неуверенно. — Берри, этот господин будет жить у нас и лечить здешний скот. Да пошевеливайся ты! Между прочим, он мне залог дал. Так что ты будешь спать вон там, за камином, а он — в твоей комнате. — И она повернулась к Ириотху. — Это мой брат Берри, господин мой.
Берри поклонился и пробормотал что-то невнятное. Глаза его смотрели тупо. Казалось, он чем-то одурманен или отравлен. Когда он снова вышел из комнаты, женщина подошла к Ириотху и сказала тихо, но твердо:
— Берри, он вообще-то неплохой, только пьет сильно, весь насквозь спиртным пропитался. Винище-то ему все мозги и съело, а также — почти все наше добро в доме. Так что, господин мой, сам понимаешь: лучше тебе спрятать денежки туда, где их Берри найти не сможет! Искать-то деньги он, пожалуй, не станет, но уж если увидит, так точно пиши пропало! Да он зачастую и не соображает, что делает.
— Да, — сказал Ириотх, — я понимаю. А ты — добрая женщина. — Ему казалось, что Гифт говорит не о брате, а о нем, о том, что это он не соображает, что делает. И прощает его. — И добрая сестра. — Подобные слова были для него совершенно непривычными, он никогда раньше не произносил таких слов, они даже в голову ему не приходили. На мгновение он даже подумал, что произносит их на Языке Созидания, но это было невозможно: говорить на этом языке вслух он права не имел. А Гифт в ответ только пожала плечами и хмуро улыбнулась.
— Мне порой этому дурню просто голову оторвать хочется, — сказала она незло и вернулась к своей работе.
Ириотх понятия не имел, насколько он измучен и устал, пока не оказался в этом доме. Весь день он просидел у очага в обществе серого кота, погрузившись в полудремоту, а Гифт сновала туда-сюда, занимаясь привычными делами, и несколько раз предлагала ему поесть — то была грубоватая и довольно убогая пища, но он съедал все, съедал медленно, наслаждаясь каждым глотком. С наступлением вечера ее братец снова ушел, и она сказала со вздохом:
— Ну вот, теперь он заново счет в таверне откроет: вся деревня уже знает, что у нас постоялец есть. Но это я не к тому, господин мой, что ты виноват в чем-то…
— Да нет, — возразил Ириотх, — я, конечно же, виноват! — Но она на него не сердилась, да и серый кот теплым боком привалился к его бедру и спал. И кошачьи сны проникли в его душу — низменные луга, где он разговаривал с той коровой, какие-то затянутые пеленой сумерек места… Кот скользнул туда, и Ириотх вдруг почувствовал запах и вкус молока, и его охватило какое-то глубокое, пронзительно нежное чувство. А вот чувство вины исчезло совсем, осталось лишь ощущение полнейшей невинности. И еще там не было никакой необходимости в словах. И уж там бы они его ни за что не нашли! Ведь отсюда-то он бы исчез, и здесь не было бы никого, кроме женщины, спящего кота и потрескивающего пламени в очаге. Он поднялся по черным тропам мертвой горы и оказался среди зеленых пастбищ, где неторопливо бежали живые ручьи…
Он, конечно же, был не в своем уме, и Гифт понять не могла, как это ей в голову пришло позволить ему остаться, и все же она не чувствовала по отношению к нему ни страха, ни недоверия. А впрочем, какая разница, даже если у него и с головой что-то не в порядке? С ней он был очень вежлив и любезен и, наверное, был когда-то настоящим волшебником, прежде чем с ним что-то там приключилось. Ну и ладно. Не сумасшедший же он, в конце концов. Он действительно бывает как бы безумен — но только изредка, в отдельные моменты. И ничего-то в нем целого, даже его безумие какое-то непостоянное! Он, например, не смог вспомнить то имя, Чайка, которым сперва назвался ей, и велел людям в деревне называть его Отаком. Он, возможно, и ее имя не сумел запомнить; во всяком случае, он всегда называл ее только «хозяйкой» или «хозяюшкой». А может, это он просто из вежливости? Она-то ведь тоже из вежливости по-прежнему обращалась к нему «господин мой», тем более что такие имена, как Чайка или Отак, ему совершенно не подходили. Она слышала, что отак — это такой маленький зверек с острыми зубами и очень молчаливый, но на Верхних Болотах таких зверьков не водилось.
Гифт подумала даже, что все разговоры ее постояльца о том, что он явился сюда, чтобы лечить скот от страшной болезни, — это тоже одно из свидетельств его помешательства. Он вел себя совсем не так, как прочие целители, которые всегда тащили с собой целый мешок всяких снадобий и целебных мазей для животных, а также хвалились, что знают «особые» заклятия. А этот, отдохнув пару дней, спросил ее, где ему найти хозяев скота, и ушел, надев старые башмаки Брена и прихрамывая, потому что его стертые и израненные ступни зажить еще не успели. У нее прямо сердце сжалось, когда она увидела, как сильно он хромает.
Вернулся он только вечером, хромая еще сильнее, потому что Сан, разумеется, потащил его прямо на Долгий Луг, где паслась большая часть его бычков. В деревне ни у кого не было лошадей, только у Олдера, и эти лошади были предназначены исключительно его собственным пастухам. Гифт подала своему постояльцу чистое полотенце и налила в таз горячей воды, велев ему хорошенько отмыть и отогреть израненные замерзшие ноги, а потом подумала немного и спросила, не хочет ли он и сам вымыться, и он очень даже захотел. Так что они нагрели воды и налили в старую бочку, и она ушла к себе в комнатку, пока он мылся у очага. Когда Гифт вышла оттуда, все было уже убрано, пол вытерт насухо, а полотенца аккуратно повешены над очагом. Она никогда не видела, чтобы кто-то из мужчин занимался уборкой, и тем более не ожидала этого от своего постояльца: ей все время казалось, что в прошлом он был человеком богатым и знатным. Неужели там, откуда он пришел, у него не было слуг? Да и вообще — беспокойства от него было не больше, чем от ее серого кота. Он сам стирал себе одежду и даже простыни, на которых спал, однажды выстирал и развесил на солнышке, так что она даже и заметить не успела, когда он все это сделал.
— Ну а за стирку-то ты чего принялся, господин мой? — удивилась она. — Я бы заодно со своим и твое все постирала!
— Незачем, — ответил он с тем отстраненным видом, как если бы не совсем понимал, о чем она ему толкует; но потом прибавил: — У тебя и так слишком много дел.
— А у кого их мало, господин мой? Да к тому ж мне нравится сыры делать. Интересное это дело. А я сильная! Я боюсь только одного: старости, когда уж не смогу поднимать ведра с молоком и формы для сыра. — И она показала ему свои полные крепкие руки, сжала кулак, демонстрируя мускулы, и улыбнулась. — Вон какая я сильная! А ведь мне уже пятьдесят! — Было довольно глупо хвастаться своим возрастом, но она гордилась тем, что сохранила и силу в руках, и энергию, и мастерство.
— Вот и хорошо! — сказал он.
А уж с ее коровами как он замечательно обходился! Когда он по ее просьбе помогал ей в коровнике, заменяя Берри, то — как она, смеясь, рассказывала своей подружке Тауни — коровы слушались его лучше, чем старого пастушьего пса Брена. «Он с ними разговаривает, и, клянусь, они понимают, что он им говорит!» — восхищалась Гифт. Она не знала, как он там, на верхних пастбищах, лечит бычков, но все хозяева отзывались о нем очень хорошо. Хотя, конечно, они-то готовы были ухватиться за любое предложение о помощи. У Сана погибла уже половина стада. Олдер даже и сказать не мог, сколько голов скота он уже потерял. Туши мертвых животных валялись повсюду. Если бы не холода, все Болота давно провоняли бы тухлятиной. Воду сырой пить было невозможно, ее необходимо было кипятить в течение часа; чистой оставалась вода только в двух глубоких колодцах — в усадьбе Гифт и в том колодце, где бил родник, давший деревне ее название.
Однажды утром к ней во двор прискакал верхом один из пастухов Олдера, ведя в поводу оседланного мула.
— Господин Олдер сказал, что господин Отак может взять этого мула, потому что до Восточного Пастбища отсюда миль десять-двенадцать, — сказал молодой пастух.
Утро было ясное, но болота скрывала сияющая дымка испарений. Вершина Анданден словно плыла над этой туманной дымкой и, казалось, то и дело меняла свою форму на фоне северного края небес.
Целитель ничего не ответил пастуху, а направился прямиком к мулу или, точнее, к лошаку, поскольку это был отпрыск большой ослицы, принадлежавшей Сану, и белого жеребца из конюшни Олдера. Молоденький лошак был симпатичным белоснежным животным с приятной мордой. Отак подошел к лошаку и с минуту что-то шептал ему прямо в изящное ухо, ласково почесывая лоб животного.
— Вот он всегда так говорит с ними, — сказал пастух. Он смотрел на целителя восхищенно и в то же время чуть пренебрежительно. Гифт хорошо его знала: это был один из дружков Берри, тоже большой любитель выпить, но, в общем, парень неплохой.
— А лечит-то он как? — спросила она пастуха.
— Ну, эпидемию-то он, конечно, сразу остановить не сможет… Но, похоже, вылечивает тех, у кого еще вертячка не началась. А тех, что еще не заболели, говорит, что и вовсе убережет. Так что хозяева-то за ним прямо бегают; просят поехать и туда, и сюда, чтобы сделал хоть что-нибудь. Для многих, правда, уж слишком поздно оказывается.
Отак проверил стремена, отпустил немного уздечку и вскочил в седло не то чтобы очень ловко, но так, что лошак не выказал ни малейшего нетерпения. И даже повернул к наезднику свою длинную красивую морду и ласково посмотрел на него своими прекрасными темными глазами. И Отак ему улыбнулся! Гифт еще ни разу не видела, чтобы он улыбался!
— Ну что, поехали? — сказал он пастуху, который тут же тронул свою маленькую кобылку, махнув Гифт на прощанье рукой. Кобылка фыркнула, словно тоже прощаясь. Целитель двинулся следом за пастухом. Лошак, длинноногий и изящный, шел легко, его белая шкура прямо-таки сияла в утреннем свете, и Гифт вдруг подумала, что ее постоялец сейчас очень похож на принца из сказки. Потом наездники нырнули в светящийся туман, висевший над покрытыми снегом полями, и растворились в нем.
На пастбищах работы хватало. «А у кого дел мало?» — спросила его тогда Эмер, показывая свои округлые сильные руки с натруженными, загрубелыми, покрасневшими пальцами. Олдер очень рассчитывал, что целитель останется на Верхних пастбищах до тех пор, пока не осмотрит всех бычков в его огромных стадах, и послал ему в помощь еще двух пастухов. Пастухи устроили что-то вроде шалаша — набросали на землю побольше сухой травы и тростника и над этой подстилкой сделали двускатный навес. Топлива для костра на болотах практически не было, только ветки низкорослого редкого кустарника да сухой тростник, и такого огня едва хватало на то, чтобы вскипятить воды, а уж о том, чтобы согреться, можно было только мечтать. Пастухи постарались согнать животных в стадо, чтобы Отаку легче было их осматривать и не бегать за каждым по отдельности, потому что обычно бычки разбредались по всему пастбищу в поисках корма — сухой подмерзшей травы. Но удержать животных вместе оказалось им не под силу, и они сердились и на бычков, и на целителя, который делал все слишком медленно. А он все удивлялся тому, как нетерпеливы пастухи в обращении с животными и считают их чем-то вроде неодушевленных предметов, так сплавщики леса обращаются с бревнами — просто с позиции силы.
Впрочем, у них и по отношению к нему терпения не хватало, и они все покрикивали на него, требуя, чтобы двигался быстрее и поскорее кончал бы с «этой мутотой». Они и друг на друга постоянно огрызались, и на собственную жизнь без конца злились, а если и вели друг с другом какие-то мирные разговоры, то всегда о том, как будут развлекаться в ближайшем городе, Ораби, когда получат жалованье. Ириотх немало выслушал историй об определенных достоинствах шлюх из Ораби, Дейзи и Голди, и еще какой-то особы, которую они называли довольно странно: Купина Неопалимая. И он был вынужден слушать все это, сидя с ними рядом у костра, потому что всем им было необходимо хотя бы немного согреться, но сидеть ему рядом с ними совсем не хотелось. Он чувствовал в них некий неясный страх по отношению к нему, колдуну, а также — определенную ревность, но сильнее все же было их неосознанное презрение к нему, потому что он был гораздо старше и потому что он был иным. Совершенно не таким, как они. Со страхом и ревностью он был знаком хорошо и старался их избегать, да и презрение он помнил. И был очень рад, что не похож на этих людей, что они не воспринимают его как своего, что они даже разговаривать с ним не хотят. И он очень боялся, что как-нибудь не выдержит и согрешит против них.
Он вставал очень рано, как только занимался ледяной рассвет и пастухи еще спали, завернувшись в свои одеяла. Он знал, где пасется скот, и сразу отправлялся туда. Теперь он уже очень хорошо познакомился с особенностями проклятой болезни и чувствовал ее присутствие в животном, как легкое жжение или покалывание в руках, а иногда как дурноту, если болезнь успела зайти слишком далеко. Однажды, приблизившись к быку, который уже лежал на земле, он обнаружил, что вот-вот сам потеряет сознание, так сильно закружилась у него голова, а потом его просто вырвало. Больше он к этому животному не сделал ни шагу, но произнес слова, способные облегчить его последние часы, и перешел к осмотру других бычков.
Быки позволяли ему подходить к ним, хотя были почти дикими, а от людей не видели ничего хорошего, только процедуру кастрации и нож мясника. Ириотху было очень приятно, что они ему доверяют; он даже в какой-то степени гордился этим доверием. Гордиться, конечно, не следовало, но он все-таки гордился. Например, если ему нужно было ощупать одного из быков, то достаточно было немного поговорить с этой громадиной на том языке, которым пользуются все, даже и бессловесные твари. «Улла, — говорил Ириотх, называя быков их Истинными именами. — Эллу. Эллуа». И они стояли спокойно, огромные, ко всему равнодушные, но некоторые иногда подолгу смотрели на него. А иногда сами подходили к нему своей вольной величественной походкой и ласково дышали в его открытую ладошку. Всех тех, что подходили к нему сами, он вылечить сумел. Он прижимал ладони к их покрытым жесткой шерстью горячим бокам или шее и посылал им исцеление через свои руки вместе со словами волшебного заклятия, которое произносил снова и снова. И через некоторое время животное вздрагивало, или наклоняло голову, или делало шаг вперед, и тогда Ириотх опускал руки и некоторое время стоял неподвижно, совершенно опустошенный и отупевший. А потом к нему подходил следующий огромный зверь, любопытный, застенчиво-храбрый, с грязной шкурой, и проклятая болезнь жила в нем и ощущалась покалыванием и жжением в ладонях, а иногда — головокружением. «Эллу», — говорил Ириотх быку и прижимал к его бокам свои ладони, и не опускал их так долго, что они леденели на холодном ветру, словно он опустил их в горный ручей, бегущий с заснеженной вершины.
А пастухи все обсуждали, можно или нет есть мясо быков, павших от ящура. Запасы пищи у них и с самого начала были не особенно велики, а теперь и вовсе подходили к концу. И вот, не желая скакать верхом двадцать или тридцать миль, чтобы пополнить запасы продовольствия, пастухи решили вырезать язык одного из только что умерших быков.
Ириотх, все время с трудом заставлявший их хотя бы кипятить воду, которую они пили, сказал:
— Если вы будете есть это мясо, то примерно через год у вас начнутся головокружения. А закончится все слепотой, как и у этих быков, и точно такой же, как у них, смертью.
Пастухи ругались и презрительно фыркали, но ему все же верили, хотя он понятия не имел, действительно ли все это будет именно так, как он им сказал. Но когда он это говорил, ему казалось, что он говорит правду. Возможно, ему хотелось их напугать. А возможно — отделаться от них.
— Слушайте, вы возвращайтесь назад, — сказал он им наконец, — а я пока здесь останусь. Для одного тут еды еще дня на три-четыре хватит. А потом лошак сам меня назад доставит.
Уговаривать их не пришлось. Они так и помчались прочь, бросив все — свои одеяла, палатку, железный горшок.
— Как же мы все это в деревню доставим, а? — спросил Ириотх у лошака. Тот с грустью посмотрел вслед двум ускакавшим лошадям и тихонько заржал, словно говоря, что ему без них будет скучно.
— Но мы должны закончить работу, — сказал лошаку Ириотх, и тот посмотрел на него ласково и понимающе. Все животные были терпеливы, но терпение лошадей и их ближайших родственников было, пожалуй, сродни покорности. Вот собаки были типичными иерархами, разделявшими мир на правителей и простых людей. Лошади же все считали себя лордами и вполне соглашались на тайный сговор с людьми. Ириотх помнил, как еще малышом ходил между мохнатыми ногами огромных тяжеловозов и ничего не боялся. Он помнил теплое успокаивающее дыхание лошадей у себя на макушке. Это было очень, очень давно… Он обнял своего красавца-лошака и еще немного поговорил с ним, называя его «мой дорогой», нежно оглаживая и всячески давая ему почувствовать, что он не один.
Ириотху понадобилось еще шесть дней, чтобы осмотреть все стада на восточных болотах. Последние два дня он ездил верхом, высматривая разбросанные по пастбищам у подножия горы отдельные группки животных. Многие из них еще не успели подхватить заразу, и он сумел защитить их. Он ездил без седла, и белый лошак старался, чтобы езда для ездока была легкой. Однако еды у Ириотха совсем не осталось. Когда он возвращался в деревню, от голода у него кружилась голова и подгибались ноги. И он лишь с огромным трудом добрался домой от конюшни Олдера, где оставил своего лошака. Эмер очень ему обрадовалась, но сначала даже немного поругала и сразу попыталась как следует его накормить, но он объяснил ей, что много есть ему пока что нельзя.
— Пока я был там, среди больных животных, я и сам чувствовал себя больным, — пояснил он. — Через некоторое время я снова смогу нормально есть.
— Ты просто сумасшедший! — воскликнула Гифт сердито, но то был сладостный гнев. Интересно, почему другие разновидности гнева никогда не вызывают столь сладкого чувства? — подумала она и уже спокойнее предложила: — Тогда хоть вымойся, по крайней мере.
На это он охотно согласился и поблагодарил ее, понимая, что весь провонял хлевом и потом.
— А что тебе Олдер обещал заплатить за такую работу? — спросила она, пока грелась вода. Она была все еще сердита и потому вопросы задавала куда смелее, чем обычно.
— Не знаю, — ответил он.
Она так и застыла, уставившись на него.
— Так ты что ж, и плату не назначил?
— Как это — плату? — Он даже вспыхнул от возмущения. Но потом вспомнил, что больше не является тем, кем был когда-то, и смиренно пояснил: — Нет. Не назначил.
— Вот уж глупо! — окончательно рассердилась Гифт. — Он же тебя как липку обдерет! — Она вылила полный чугунок кипящей воды в бочку. — У него слоновая кость есть, — сказала она. — Скажи ему, пусть слоновой костью платит. За то, что ты там на холоде, голодный целых десять дней проторчал с его скотиной! У Сана-то ничего нет, кроме жалких медяков, а вот Олдер тебе слоновой костью вполне заплатить может. Ты уж меня прости, что я в твои дела вмешиваюсь, господин мой! — И она хлопнула дверью, отправившись с двумя ведрами к колодцу. Водой из ручья она не пользовалась совсем, понимая, что это опасно. Она вообще была мудрой и доброй женщиной. И почему это он так долго жил среди тех людей, которые не были ни добрыми, ни по-настоящему мудрыми?
— Это еще надо посмотреть, — сказал ему на следующий день Олдер, — выздоровели ли мои животные. Если они зиму переживут, тогда и станет понятно, хорошо ли ты их лечил. И не то чтобы я тебе не верил, но ведь так будет по справедливости, верно? Ты же не станешь просить у меня плату, если лечение твое не помогло и быки все-таки помрут? Не станешь собственную удачу отпугивать? Но и я тебя не заставлю ждать так долго безо всякой платы. Так что вот тебе задаток, а остальное потом, когда все между нами решено будет.
Монеты он даже в кошелек не положил! И Ириотху пришлось стоять с протянутой рукой, в которую скотовладелец одну за другой опустил шесть медных монет.
— Ну вот! Теперь все по справедливости! — заявил он. — А может, ты завтра или послезавтра посмотришь еще и моих теляток на Долгом Лугу?
— Нет, — ответил Ириотх. — Стадо Сана, когда я уезжал, уже спускалось с верхних пастбищ. Я буду нужен там.
— А вот тут ты ошибаешься, господин Отак! Пока ты на восточных болотах был, сюда явился один колдун-целитель — он тут уже бывал раньше, он с южного побережья, — вот Сан его и нанял. А ты работай на меня, и я тебе хорошо заплачу. Впоследствии. И, возможно, не просто медными монетами! Если, конечно, животные будут чувствовать себя хорошо.
Ириотх не сказал ни да, ни нет, ни спасибо, а просто молча повернулся и пошел прочь. Скотовладелец некоторое время смотрел ему вслед, потом злобно сплюнул и пробормотал:
— Чтоб тебя!
Впервые в душе Ириотха поднялось такое беспокойство, какого он не испытывал с тех пор, как пришел на Верхние Болота. И как он ни старался, тревога не утихала. Кто-то другой, тоже обладающий магической силой, пришел лечить скот, еще один волшебник! Нет, Олдер сказал, что это всего лишь колдун. Не волшебник, не маг. Всего лишь деревенский целитель. Ветеринар. Мне нечего его бояться. И его магической силы тоже. И я не собираюсь мериться с ним силами. Но я должен его увидеть, чтобы просто удостовериться, чтобы знать наверняка. Если он будет заниматься здесь тем же, чем занимаюсь я, то никакой опасности для меня в этом нет. Мы можем работать вместе. Если и я буду делать то, что делает он… И если он использует только обычное колдовство и никому не желает вреда… Как и я.
Ириотх спустился по извилистой улочке, ведущей к Чистому Колодцу и дому Сана. Сан, крепкий мужчина лет тридцати, стоял на крыльце и разговаривал с каким-то незнакомцем. Завидев Ириотха, оба явно почувствовали себя неловко. Сан вошел в дом, а незнакомец, помедлив немного, последовал за ним.
Ириотх подошел к дому и поднялся на крыльцо. Но в дом не вошел, а заговорил оттуда, благо дверь была открыта:
— Господин Сан, я, как мы договаривались, насчет того скота, что у вас пасется между речками. Я могу сегодня же туда отправиться и посмотреть животных. — Он и сам не знал, зачем говорит все это. Он ведь собирался совсем не это сказать.
— Ага, — откликнулся Сан, выходя на крыльцо; вид у него был смущенный. — Только ты уж извини, господин Отак, а услуги мне твои больше не нужны. Тут к нам мастер Санбрайт пожаловал, он у нас давно животных лечит. Он и раньше моих животных лечил — и от ящура, и от копытной гнили, и от всего прочего. А ты, господин мой, и так уж выложился — еще бы, в одиночку целое стадо быков вылечил! Олдер-то, поди, доволен! Вот я и решил…
У него из-за спины появился колдун. Истинное Имя его было Айетх, и сила в нем была совсем маленькая, испорченная, извращенная невежеством и неправильным использованием, а также — ложью. А вот зависть в нем пылала огнем.
— Я тут дела вот уж лет десять веду, — заявил он, меряя Ириотха взглядом, — и вдруг какой-то тип с севера нагло перехватывает у меня постоянных клиентов! За такое ведь и побить могут. А уж если два колдуна поссорятся, так это всегда плохо кончается. Если только ты колдун, конечно. То есть обладаешь хоть какой-то силой. Вот я, например, ее имею достаточно, и здесь об этом все добрые люди знают.
Ириотх хотел сказать, что ни с кем ссориться не собирается, что работы здесь вполне хватит для двоих, что он и не собирался перехватывать у этого колдуна его «клиентов», но все эти слова мгновенно сгорели, растворились, точно в кислоте, в зависти этого человека, который не пожелал их услышать и сжег их еще до того, как они были произнесены.
Взгляд Айетха становился все более дерзким, когда он увидел, как Ириотх заикается, пытаясь что-то сказать. Он уже хотел было совсем прогнать этого заику, но тут Ириотх все же совладал с собой и заговорил:
— Ты должен… — сказал он, — …тебе придется уйти. Назад. — И когда он произнес слово «назад», его левая рука резким рубящим движением опустилась вниз, точно острие ножа, и Айетх, упав навзничь и опрокинув табурет, испуганно уставился на Ириотха.
Он казался всего лишь жалким колдуном, целителем-обманщиком, владевшим несколькими слабенькими заклятиями. Во всяком случае, выглядел он именно так. Но что, если он только притворяется, скрывает свою истинную силу? Что, если это настоящий противник? Да к тому же завистливый? Его необходимо остановить связующим заклятием, назвав Истинным именем… Ириотх уже начал произносить слова связующего заклятия, когда его соперник вдруг вскочил и буквально пополз прочь, припадая к земле, корчась от боли и громко крича тонким, пронзительным, жалобным голосом. «Все неправильно, я снова все делаю неправильно! Это во мне заключено зло!» — сердясь на самого себя, подумал Ириотх. Он остановил действие заклятия, не дав остальным словам вылететь изо рта, силой загнав их обратно, а потом громко выкрикнул совсем другое слово. И этот Айетх упал на землю, трясясь и корчась в собственной блевотине, а Сан в ужасе смотрел на них обоих и все пытался сказать: «Минуй, минуй нас!» — хотя ничего особенно страшного не происходило. Но Ириотх чувствовал, как огонь жжет ему руки, выжигает глаза, и все пытался закрыть лицо руками, а когда он попытался что-то сказать, огонь перекинулся ему на язык, и он упал.
Довольно долго никто не решался к нему притронуться, когда он как подкошенный рухнул на пороге дома Сана. Но Санбрайт сказал, что этот колдун вовсе не мертв, но опасен, как гадюка, а Сан тем временем уже рассказывал всем, как Отак наслал на Санбрайта какое-то ужасное проклятие, из-за которого Санбрайт сперва вдруг стал быстро уменьшаться, треща, точно охапка хвороста, брошенная в костер, а потом в один миг снова стал самим собой, только тут его начало буквально выворачивать наизнанку, а вокруг того, второго, Отака, так и разливалось сияние, колдовской такой мерцающий свет, и прыгали тени, а голос его звучал так, как людские голоса не звучат. Ужас да и только!
Санбрайт велел жителям деревни побыстрее избавиться от этого типа, но сам даже не захотел поглядеть, как они это делать будут. Он выпил в таверне пинту пива и сразу пустился в обратный путь по южной дороге, сказав на прощанье, что для двух колдунов здесь места маловато, и что он, возможно, еще вернется, но только когда этот человек или кто он там такой отсюда уберется.
В общем, к Отаку никто так и не подошел. Все издали смотрели на него, лежавшего по-прежнему без движения, а жена Сана голосила на всю улицу: «Чтоб тебе пусто было! Теперь мой ребенок небось мертвым родится, знаю я вас, колдунов проклятых!»
Берри, услышав в таверне рассказ Санбрайта, а потом и еще несколько версий случившегося — в том числе версию Сана — сходил за сестрой. Самая интересная из этих версий звучала примерно так: Отак стал ростом футов в десять и, ударив Санбрайта молнией, превратил его в кусок угля, а потом уже у него самого пошла изо рта пена, он весь посинел и упал, как подкошенный, на пороге дома.
Гифт поспешила в деревню. Она прямиком направилась к лежавшему без чувств Отаку, наклонилась и положила руку ему на лоб. Все так и ахнули и принялись бормотать: «Минуй нас!» — и только младшая дочка Тауни что-то перепутала и пропищала: «Давай-давай, тетя Гифт!»
Бесформенная груда на крыльце зашевелилась, и Отак стал медленно подниматься на ноги. И жители деревни увидели, что он все тот же, ничуть не изменился, и никакого пламени изо рта не изрыгает, и никаких пляшущих теней вокруг него не видно, просто выглядит он совсем больным.
— Пойдем-ка, — сказала ему Гифт и повела его потихоньку по улице к своему дому.
Люди вокруг только головами качали. Гифт, конечно, женщина смелая, но, пожалуй, до безрассудства. А может, она и вовсе не в том смысле смелая, говорили за столами в таверне, это мы еще посмотрим! А все ж никому не стоит с колдунами путаться, особенно если в тебе от рождения никакого магического дара нет. Об этом, конечно, забываешь все время — они ведь, колдуны эти, с виду совсем как обычные люди. Да только они совсем другие! Кажется, к примеру, в таком целителе никакого вреда нет. Вылечит у коровы гнилое копыто или спекшееся вымя, и все хорошо. А встань такому поперек пути — и вот вам, пожалуйста: и пламя, и тени, и проклятия, и судороги всякие… Жуть одна! А этот и вообще всегда недоверие у всех вызывал. И откуда он только взялся такой? Нет, вы скажите, откуда он родом?
Она уложила его на постель, стащила с ног башмаки и велела спать. Берри явился поздно, пьяный в стельку, так что споткнулся и разбил себе лоб о подставку для дров. Весь в крови, страшно злой, он потребовал, чтобы Гифт немедленно прогнала этого колдуна. Потом его вырвало прямо в камин, он рухнул рядом на пол да там и заснул. Гифт оттащила брата в его закуток, уложила на матрас, стащила с ног башмаки и тоже велела спать. А сама пошла посмотреть, как там Отак. Он весь горел, и она положила свою прохладную ладонь ему на лоб. Он тут же открыл глаза, тупо посмотрел на нее и сказал: «Эмер», — а потом снова закрыл глаза.
Гифт в ужасе от него отшатнулась.
А позже, уже лежа в постели, все думала: наверное, он был знаком с тем волшебником, что нарек меня Истинным именем. Или, может, я случайно произнесла свое имя во сне? Откуда же он его узнал? Ведь его никто не знает и никогда не знал, кроме того волшебника и моей матери! А они умерли, они давно умерли… Наверное, я все-таки случайно произнесла его во сне…
Но она уже знала, что это не так.
Она стояла возле него, прикрывая рукой маленький масляный светильник, и его свет просвечивал красным сквозь ее пальцы, а на лицо ее бросал золотистый отблеск. И он произнес вслух ее подлинное имя. И она подарила ему сон.
Он проспал до позднего утра и проснулся, чувствуя себя слабым и вялым, точно после болезни. Он был так жалок, что просто смешно было бы его бояться. Гифт обнаружила, что он совершенно не помнит о том, что случилось в деревне, о другом колдуне и даже о тех шести медяках, которые она собрала, когда они рассыпались по покрывалу, и которые он, должно быть, все это время сжимал в руке.
— Это небось Олдер так здорово тебя «отблагодарил»? — сказала она насмешливо. — Жадюга!
— Я сказал, что готов посмотреть животных на… на том пастбище, что между двумя речками, так? — спросил он, все больше тревожась и снова глядя на нее со знакомым ей уже затравленным видом; потом попытался встать, но она сказала:
— Сядь, — и он послушно сел, но сидел как на иголках.
— Разве можно кого-то лечить, когда сам болен? — строго сказала она.
— А что же делать? — спросил он.
Но понемногу успокоился и принялся поглаживать серого кота.
Тут как раз и вошел Берри.
— А ну-ка выйдем! — сказал он сестре, лишь глянув на целителя. Гифт следом за ним вышла на крыльцо.
— Значит, так: больше я его в своем доме терпеть не желаю! — заявил Берри с видом хозяина, грозно возвышаясь над нею. Посреди лба у него красовался огромный синяк, а глаза, похожие на устриц, смотрели тупо; руки тряслись.
— Ну и куда ты в таком случае денешься? — спросила Гифт.
— Это не я денусь, а он!
— Ну вот что: это мой дом! Дом Брена. И целитель останется здесь. А ты можешь уходить или оставаться — как сам решишь.
— Нет, это я буду решать, останется здесь этот колдун или уйдет! Пусть уходит немедленно! И нечего тут командовать! Люди говорят, что он должен уйти. Он ничего не умеет.
— Ну да, конечно, не умеет! Вылечил тут половину всего скота, а ему за это целых шесть медяков «отвалили», Олдер расщедрился! А теперь тот же Олдер будет требовать, чтобы этот человек отсюда убирался, это на него похоже! Все, Берри, разговоры окончены. Он останется тут и будет жить в этом доме столько времени, сколько захочу я. И точка!
— Так ведь никто же не будет у нас молоко и сыр покупать! — заныл Берри.
— Кто это сказал?
— Жена Сана. И другие тоже.
— Ну и ладно. Я свои сыры в Ораби дороже продам, — заявила Гифт. — И знаешь, братец, пошел бы ты лучше да умылся, чем разговоры разговаривать! Грязный весь, в крови… И рубашку перемени, а то от тебя просто помойкой воняет! — И Гифт решительно повернулась к нему спиной и вошла в дом. Но там мужество покинуло ее, и она разразилась слезами.
— В чем дело, Эмер? — спросил целитель, поворачивая к ней свое исхудалое лицо; в его странных глазах снова плеснулась тревога.
— Ох, чует мое сердце, не кончится это добром! Да разве ж можно так пить? Все мозги уж пропил! — и она вытерла фартуком глаза. — Тебя-то небось тоже проклятая выпивка доконала?
— Нет, — изумленно ответил он, но совсем не обиделся. Похоже, он просто ее не понял.
— Да нет, конечно, господин мой, это я со зла сказала! Ты уж меня прости!
— А может быть, твой брат пьет, пытаясь стать другим человеком? — промолвил он. — Пытаясь как-то измениться?..
— Он пьет, потому что пьет, — отрезала Гифт. — С некоторыми людьми все дело только в этом. А теперь мне в молочный сарай нужно сходить, так я двери-то в дом запру, а то… ходят тут всякие… А ты пока отдохни. На улице-то холод, ветер… — Она хотела быть уверена, что он никуда не выйдет из дому, будет в безопасности, потому что в ее доме никто не сможет напасть на него неожиданно. А попозже она непременно сходит в деревню и перекинется парой слов кое с кем из разумных людей, а заодно и постарается положить конец всей этой дурацкой болтовне.
Когда же Гифт пришла в деревню, то жена Олдера, Тауни, и некоторые другие жители деревни вполне согласились с ее доводами, что в ссоре двух колдунов из-за работы нет ничего абсолютно нового и необычного. А вот Сан, его жена и кое-кто из постоянных посетителей таверны, таких же пьяниц, как Берри, никак не желали эту тему оставить: еще бы, о чем же им потом говорить всю зиму? Если не считать непобежденного пока что ящура, конечно.
— Знаешь, — сказала ей Тауни, — муженек мой всегда старается медяками расплатиться, даже если считает, что платить нужно слоновой костью.
— Так, значит, быки ваши, которых Отак лечил, здоровы?
— Вроде бы да. И больше пока ни один не заболел.
— Он настоящий волшебник, Тауни! — воскликнула Гифт. — Теперь я это точно знаю!
— В том-то все и дело! — сказала Тауни. — И ты, милая, это прекрасно понимаешь! Здесь не место для ТАКИХ людей. Кто он такой в действительности — не наше дело, но ты бы все-таки выяснила, зачем он сюда явился.
— Чтобы лечить животных, — уверенно ответила Гифт.
Не прошло и трех дней, как Санбрайт с позором бежал из деревни, а там уже снова появился какой-то чужак. Приехал он верхом по Южной дороге, и, надо сказать, конь у него был отличный. Незнакомец спросил в таверне, нельзя ли у кого-нибудь переночевать, и его, разумеется, послали к Сану, но жена Сана, как только услышала за дверью голос незнакомца, подняла крик и заявила, что если Сан впустит к ним в дом еще одного колдуна, то ее ребенок уж точно успеет дважды умереть, прежде чем родится. Ее вопли были слышны издалека, и в итоге на улице между домом Сана и таверной собралось даже человек десять любопытствующих.
— Нет, так не годится, — добродушно сказал незнакомец. — Не могу я служить причиной преждевременных родов! А у вас в таверне на чердаке местечка не найдется?
— Да отошлите вы его к Гифт, — посоветовал кто-то из пастухов Олдера. — Она любому рада, кто к ней в дом ни попросится! — Послышались приглушенные смешки и шушуканье.
— Ты вон туда ступай, господин мой, — и хозяин Таверны указал незнакомцу на дом Гифт. Тот поблагодарил и развернул коня.
— Ну вот, теперь у нас все чужаки в одной корзине, — заметил хозяин таверны, и эту шутку вечером повторяли в таверне раз двадцать, и каждый раз она служила неистощимым источником восхищения и веселья. Это было самое остроумное высказывание с тех пор, как на деревню обрушилась эпидемия ящура.
Гифт была в коровнике; она только что закончила вечернюю дойку и теперь, процедив молоко, расставляла миски с будущими сырами.
— Хозяюшка! — окликнул ее кто-то от дверей, и она, решив, что это Отак, сказала:
— Минутку, я сейчас закончу, — а когда, повернувшись, увидела на пороге совершенно незнакомого мужчину, от растерянности чуть не выронила миску. — Ох, и напугал ты меня, господин мой! — воскликнула она. — Чем могу служить?
— Да вот, ищу, где бы переночевать.
— Нет, один постоялец у меня уже есть, да и мы с братом в том же доме помещаемся, так что здесь негде. Может, у Сана, в деревне, местечко найдется?
— Я у них был уже, они-то меня сюда и послали. И сказали еще: «Теперь у нас все чужаки в одной корзине». — Незнакомцу было лет тридцать; красивый, хотя черты лица, пожалуй, несколько резковаты; одет просто, зато коренастый жеребец у него явно хороших кровей. — А ты устрой меня в коровнике, хозяюшка, мне тут вполне удобно будет. Ведь это, скорее, моему коню отдых требуется: устал он очень. А я спокойненько высплюсь тут на чердаке, а утром уеду. С коровами рядом спать — это ж одно удовольствие, да еще в холодную ночь. Я и заплатить могу, хозяюшка. Двух медных монет за ночь достаточно? А зовут меня Хок.
— А меня — Гифт, — ответила она. Она была чуточку встревожена, но человек этот ей нравился. — Ну ладно, господин Хок. Отведи-ка своего коня на конюшню да покорми — там сена полно, а во дворе хороший колодец. А потом в дом приходи, я тебя молочным супом угощу. А что касается платы, так и одной монеты более чем достаточно, и спасибо тебе, господин мой, за щедрость. — Странно, но ей почему-то не хотелось называть этого молодого мужчину «господин мой», как она всегда называла Отака. У этого парня ни в повадках, ни во внешности не было и следа того врожденного благородства, какое всегда ощущалось у ее постояльца, в котором она буквально с первых минут почувствовала чуть ли не короля.
Быстренько прибрав в молочном сарае, Гифт прошла в дом. Этот чужак по имени Хок сидел на корточках у очага и весьма умело разжигал огонь. Отак был у себя в комнате и по-прежнему спал. Она заглянула туда и закрыла дверь.
— Постоялец-то мой нездоров, — шепнула она гостю. — Застудился, видно. Еще бы, столько дней коров лечил на восточном болоте, голодный да на таком холоде, вот силы-то у него и кончились.
Когда Гифт занялась привычными кухонными делами, Хок принялся ей помогать, да так умело, что она только диву давалась. И выходило все это у него настолько естественно, так что она даже подумала про себя: а ведь мужчины из других краев, выходит, и в домашней работе куда более ловкие и умелые, чем здешние, с Болот. И говорить с этим Хоком было легко, и она даже немножко рассказала ему о своем постояльце, поскольку о себе-то ей вроде бы и рассказывать было нечего.
— Вот так они всегда! — возмущалась она. — Используют человека, а потом его же и ославят. А ведь Отак им такую большую помощь оказал! Несправедливо это!
— Так он, может, напугал их чем-нибудь?
— Да, наверное. Тут ведь что получилось: один целитель — он у нас тут бывал и раньше, да толку от него особого не было, я так скажу, — заявил Отаку: ты, мол, у меня работу перехватил. А сам-то мою корову, у которой вымя спеклось, два года назад так вылечить и не сумел! Да и мазь, которой он ее лечил, это самый обыкновенный свиной жир, поклясться могу! Ну так вот, повздорили они, и, возможно, Отак ему что-нибудь в том же духе ответил. В общем, оба разозлились и начали какие-то нехорошие заклятия произносить. Во всяком случае, по-моему, Отак точно какое-то заклятие произнес, а потом вроде как передумал и тому, второму, никакого вреда не причинил, зато сам взял да и рухнул замертво. А теперь не помнит даже, что между ними произошло. А тот колдун сразу сбежал совершенно невредимый, хоть его и вывернуло наизнанку. В деревне-то говорят, что все животные, которых Отак лечил или хотя бы коснулся, живы и здоровы. Десять дней он на восточных болотах провел! На ветру, под дождем! И все быков лечил. А знаешь, сколько ему хозяин этих быков заплатил? Шесть медных грошей! Чего ж тут удивительного, что Отак немного рассердился? Хотя, я бы не сказала… — Она вдруг умолкла, но потом, словно решившись, продолжила: — Я бы не сказала, что и сам он вполне нормальный. Иногда он вроде как не в себе бывает. Ну, как все ведьмы и колдуны, наверное. Не знаю, может, так оно и должно быть, раз они с такими силами дело имеют. Но человек он настоящий, хороший человек. И добрый.
— Хозяюшка, — сказал Хок, — можно я тебе историю одну расскажу?
— Ой, так ты сказитель? Что ж ты сразу-то не сказал! А я все думаю, чего это человек по дорогам скитается в холод да в непогоду? А конь у тебя знатный! Я сперва даже решила, что ты купец, а сюда просто случайно забрел. А свою историю ты мне расскажи. Это для меня такая радость, что лучше и не придумаешь! И чем длиннее она будет, тем лучше. Но только сперва супу поешь, а я пока усядусь как следует и приготовлюсь слушать.
— По правде-то, я сказитель не настоящий, — сказал он, ласково ей улыбаясь, — но одна интересная история для тебя у меня точно найдется. — И он, покончив с супом, принялся рассказывать, а Гифт внимательно его слушала, устроившись рядом со своим вечным шитьем.
— Во Внутреннем море, на Острове Мудрых, то есть на острове Рок, где учат всем видам магии и волшебства, есть девять Мастеров… — начал Хок, и Гифт даже глаза закрыла от удовольствия.
Он перечислил их всех: Мастера Ловкая Рука и Мастера Травника, Мастера Заклинателя и Мастера Путеводителя, Мастера Ветродуя и Мастера Регента, Мастера Ономатета и Мастера Метаморфоза, а также Мастера Привратника.
— Особенно опасными могут оказаться те искусства, которым учат Метаморфоз и Заклинатель, — продолжал Хок. — Может, ты кое-что слышала об искусстве Истинных Превращений? Иногда даже самый обычный колдун умеет создать иллюзию, или ненадолго превратить одну вещь в другую, или сменить собственное обличье. Ты никогда этого не видела, хозяюшка?
— Нет, только слышала, что такое бывает, — прошептала она.
— А некоторые ведьмы и колдуны уверяют, что способны призывать мертвых или говорить их устами. Скажут такое, например, родителям умершего ребенка, которые о нем плачут и горюют, и вот в хижине ведьмы, в полной темноте, несчастные родители вдруг слышат, как плачет или смеется их дитя…
Она кивнула.
— Но это всего лишь иллюзии, так называемые Заклятия подобия. Правда,
есть и другие, Истинные заклятия, с помощью которых действительно можно изменять свое обличье и сущность, а также — призывать к себе и живых и мертвых. Но этими заклятиями может пользоваться только настоящий волшебник, и они могут порой стать для него страшным искушением. Это ведь так чудесно, парить в небесах на крыльях сокола и видеть далеко под собой землю!.. Ну а умение призывать к себе людей и их души, основанное на знании Истинных имен, дает великую власть над людьми! Ибо знать Истинное имя человека — значит уже обладать над ним властью, как ты, наверное, и сама знаешь, хозяюшка. Искусство Мастера Заклинателя заключается, прежде всего, именно в этом. И как это прекрасно и удивительно, когда волшебник способен вызвать образ или душу кого-то, давно умершего, например, увидеть Эльфарран в садах острова Солеа такой, какой ее некогда увидел Морред…
Голос Хока звучал совсем тихо и как-то таинственно.
— Итак, вернемся к моей истории. Более сорока лет назад на богатом острове Арк, что находится во Внутреннем море к юго-востоку от острова Семел, родился мальчик. Этот мальчик был сыном помощника управляющего в замке самого правителя Арка, и отец его бедняком, конечно, не был, но и особого богатства тоже не нажил. К сожалению, родители мальчика умерли рано, и никто на него особого внимания не обращал, пока не пришлось все же это сделать, ибо оказалось, что ребенок этот особенный и способен на многое. Во-первых, он был совершенно несносным шалуном, а во-вторых, обладал незаурядной магической силой. Он мог, например, зажечь огонь или погасить его с помощью одного лишь слова. Он мог заставить горшки и сковородки летать по кухне, как летают птицы, или превратить мышь в голубя. А если его нарочно сердили или пугали, он мог причинить обидчику и настоящее зло. Взял, например, да и заставил чайник с кипятком подпрыгнуть и опрокинуться на повара, который мальчишку недолюбливал и плохо с ним обращался.
— Минуй нас! — прошептала Гифт. Она так и не сделала ни единого стежка с тех пор, как Хок начал свой рассказ.
— Он был всего лишь непослушным и одиноким ребенком, а у волшебников, служивших тому лорду, не хватило мудрости и доброты по отношению к нему, — возразил Хок. — А может, они просто его боялись. И потому связывали ему руки и затыкали рот кляпом, чтобы он не мог произнести никаких заклинаний; они запирали его в каменном подвале и держали там, точно в тюрьме, до тех пор, пока не решили, что окончательно его приручили. Потом его сослали на конюшню и велели там жить. Дело в том, что он умел отлично ладить с любым животным и к тому же, находясь при лошадях, вел себя гораздо тише и спокойнее. Однако он все же умудрился вскоре поссориться с конюхом и превратил беднягу в кучу навоза. Когда тамошним волшебникам удалось вернуть несчастному конюху его прежнее обличье, они покрепче связали мальчишку, заткнули ему рот, посадили на корабль и отправили на остров Рок, надеясь, что, может быть, тамошние Мастера сумеют его приручить.
— Бедный мальчик! — прошептала Гифт.
— Да, ты права, хозяюшка, но моряки на корабле тоже боялись этого ребенка и до самого Рока держали связанным. Когда Мастер Привратник из Большого Дома увидел мальчика, то прежде всего развязал ему руки и вытащил изо рта кляп. И как ты думаешь, что сразу же сделал этот милый ребенок? Он перевернул знаменитый Длинный Стол в столовой вверх дном, сделал кислым пиво, а того ученика Школы, который попытался его остановить, на некоторое время превратил в свинью… Но достойного соперника он себе нашел только среди Мастеров.
Мастера его не наказывали, но старались все же связать его необузданные магические силы особыми заклятиями, пока он сам не начнет к кому-то прислушиваться и чему-то учиться. На это потребовалось немало времени. Однако ему был весьма свойствен дух соперничества, который и заставил его в итоге стремиться к знаниям и обрести все те умения и навыки, которыми он не владел, однако знания и опыт других он упорно воспринимал как некую угрозу, как вызов, как нечто такое, с чем ему обязательно нужно сражаться до тех пор, пока он не сумеет одержать верх. Там, на Роке, таких мальчиков много. Я тоже был таким. Но мне повезло. Я свой главный урок усвоил еще в ранней юности…
Итак, парнишка этот все-таки научился наконец усмирять свой гнев и как-то управлять своим, повторяю, незаурядным могуществом. Он действительно был на редкость талантлив. Какое бы магическое искусство он ни изучал, все ему давалось легко, даже слишком легко, так что он с презрением относился к «такой ерунде», как создание иллюзий или заклинание ветров; даже к целительству он не мог относиться серьезно, потому что всеми этими искусствами он овладел в два счета, они совершенно его не пугали и не бросали ему вызов. Да он, собственно, и не стремился как следует овладевать ими: они ему были не интересны. Так что, когда Верховный Маг Неммерль нарек его Истинным именем, он устремил все свои помыслы на овладение великим и опасным искусством Истинных Заклятий. И долгое время изучал это искусство с Мастером Заклинателем.
Он не стремился покинуть остров Рок, ибо именно там накапливаются и хранятся знания обо всех магических искусствах и умениях. У него даже никогда не возникало желания путешествовать или знакомиться с другими людьми. Не было у него желания и посмотреть мир — он утверждал, что может весь этот мир запросто призвать к себе! И, по правде сказать, это действительно было так. И это, возможно, одна из главных опасностей искусства Истинных Заклятий.
Теперь вот о чем: любому Заклинателю, как и любому волшебнику вообще, запрещается призывать чью-либо живую душу. Да, мы действительно способны это сделать. И нам разрешается посылать к кому-то свой голос, свой образ или даже собственную душу, но живую человеческую душу мы к себе не призываем никогда! Ни душу, ни самого этого человека во плоти. Мы можем призывать только мертвых. Только тени покойных из их сумеречной страны. Тебе и самой легко догадаться, почему так должно быть. Призвать к себе живого человека или его живую душу — значит, проявить свою полную власть над ним. Тогда как никто, каким бы могущественным, мудрым и великим человеком и волшебником он ни был, не имеет права властвовать над душой другого человека, использовать ее в своих целях.
Однако в том парнишке, по мере того как он взрослел, все сильнее становился дух соперничества. Этот дух вообще очень силен на острове Рок: молодому человеку всегда хочется быть лучше других, всегда хочется быть первым… И вот искусство превращается в соревнование, в игру, а конечный результат познания становится всего лишь средством для достижения собственной цели, как бы принижая само данное искусство. На острове Рок в те времена не было человека более одаренного, чем этот юноша, но тем не менее он всегда очень тяжело переживал, если кому-то удавалось сделать что-то лучше, чем он. И это стало постоянным источником его тревоги и раздражения.
Когда он закончил Школу, то для него не нашлось места среди ее Мастеров, поскольку новый Мастер Заклинатель к этому времени уже был избран; это был сильный человек, еще достаточно молодой, в самом расцвете сил, и не похоже было, чтобы он в ближайшем будущем собрался в отставку или умер. Среди собравшихся в Школе ученых и волшебников этот молодой человек занимал достаточно почетное место, но в знаменитую Девятку не вошел и, видимо, считал себя обойденным. Возможно, к тому же для него было не слишком полезно постоянно находиться в обществе волшебников, магов и их учеников, ибо каждый из них стремился к власти и постоянно приумножал свое могущество, желая непременно быть сильнейшим. В общем, так или иначе, а с годами он все больше отдалялся от них, не общаясь при этом и с обычными людьми, и почти постоянно жил, занимаясь какими-то своими исследованиями, в Одинокой Башне, стоявшей в отдалении от Большого Дома; он мало кого брал в ученики и в обществе других по большей части молчал. Правда, Мастер Заклинатель все же посылал к нему особо одаренных юношей, но многие ученики Школы вообще ничего или почти ничего о нем не знали. И вот постоянное уединение привело к тому, что он начал практиковаться в некоторых магических искусствах, которыми вообще заниматься не следовало бы, ибо это почти всегда приводит к весьма печальным последствиям.
Любой настоящий заклинатель в итоге привыкает к тому, что может приказывать духам и теням являться по первому же его зову и делать то, что он скажет. Возможно, и этот молодой волшебник стал думать примерно так же, а потом решил: а почему бы мне не попробовать то же самое с живыми людьми? Зачем мне дано такое могущество, если я не имею права им воспользоваться? И он начал призывать к себе души живых людей, и в первую очередь души тех обитателей острова Рок, которых опасался, считая их своими соперниками и завидуя их силе. А призвав их души, он отнимал у них силу и присваивал ее, а их заставлял молчать. И после этого они даже сказать не могли, что же с ними случилось и куда подевалось их волшебное мастерство: они этого не помнили.
И однажды он сумел призвать даже душу своего собственного учителя, Мастера Заклинателя, застигнув его врасплох.
Но Мастер Заклинатель все же оказал ему сопротивление. Это был настоящий поединок магов, и Мастеру Заклинателю пришлось позвать на помощь меня, и я, конечно же, ему на помощь пришел, и мы вместе сражались с тем невероятно могучим проявлением воли и духа, которое грозило попросту нас уничтожить…
За окнами сгустилась ночная тьма. Светильник на столе мигнул и погас, и теперь лицо Хока освещали лишь красноватые отблески пламени очага. И лицо это сейчас показалось Гифт совсем иным, чем прежде: более старым, изможденным, а черты его стали еще более резкими; и на одной щеке она разглядела вдруг чудовищные шрамы. В эти мгновения он был удивительно похож на ястреба. Однако, глядя на него и удивляясь, она продолжала сидеть молча и совершенно неподвижно, точно завороженная, и напряженно слушала его рассказ.
— Такой истории никто из сказителей тебе не расскажет, хозяюшка, — заметил он, мельком глянув на ее взволнованное лицо. — Да и кто-то другой вряд ли знает что-либо подобное.
— В те годы, — продолжил он свое повествование, — я только что стал Верховным Магом Земноморья и был даже моложе того волшебника, с которым мы сражались, а потому, возможно, несколько его недооценивал. И нам с Мастером Заклинателем пришлось противопоставить всю свою волю и все свое могущество его воле и могуществу — и все это происходило в тиши Одинокой Башни, в одном из самых потаенных ее уголков, и никто даже не знал, что именно там происходит. Наше сражение с ним было долгим, очень долгим, и в итоге он не выдержал, сломался. Сломался, как ломается палка. И все же, сломленный, сумел бежать! И Мастер Заклинатель был не в силах что-либо сделать, ибо сперва попусту растратил слишком много сил, пытаясь в одиночку преодолеть воздействие на него слепой воли противника. Да и у меня в тот момент не хватило ни сил, чтобы остановить того человека, ни ума, чтобы послать кого-нибудь за ним вдогонку. И ему удалось скрыться с острова Рок. И исчезнуть.
Мы не смогли скрыть от Мастеров, что нам пришлось выдержать с этим волшебником жестокую битву, после которой ему удалось бежать. Но мы рассказали о поединке так скупо, что многие в Школе решили: ну и хорошо, что его здесь больше нет; он и так был, похоже, не в своем уме, а теперь, видно, совсем с ума сошел!
Но мы с Мастером Заклинателем, с трудом сумев залечить те раны, которые были нанесены нашим душам, и преодолеть ту непреодолимую душевную тупость и телесную слабость, которые являются неизбежным следствием подобных сражений, оба полагали, что очень опасно, когда волшебник, наделенный таким невероятным могуществом, скитается по Земноморью, утратив стыд и совесть, а возможно — и рассудок; или, может быть, сгорая от стыда, или испытывая бессильный гнев, или одержимый желанием мстить.
Мы не смогли обнаружить его следов ни на одном из островов. Он, без сомнения, покинул Рок в обличье птицы или рыбы и не менял этого обличья, пока не нашел себе подходящего убежища. А надо тебе знать, хозяюшка, что настоящий волшебник способен к тому же скрыться от любого ищущего заклятия. Мы повсюду наводили справки о нем — мы хорошо умеем это делать, — но никто ничего о таком человеке не знал, и никаких сведений о нем мы так и не получили. Пришлось пуститься на поиски самим: Мастер Заклинатель отправился на восточные острова, а я — на западные. Ибо при мысли об этом человеке перед моим внутренним взором всегда почему-то возникала огромная гора, похожая на конус со сломанной верхушкой, и просторная зеленая долина, раскинувшаяся у ее подножия с южной стороны. Я припомнил уроки географии, которые мне еще в детстве давали в Школе Рок, припомнил расположение острова Семел и его главную гору Анданден, и вскоре оказался на вашем острове. А потом добрался и до Верхних Болот. И, по-моему, направление было выбрано мною правильно.
Он умолк. В наступившей тишине был слышен лишь шепот огня в камине.
— Мне поговорить с ним? — спросила Гифт очень спокойно.
— Нет, не нужно! — ответил он резко и каким-то пронзительным голосом, похожим на крик ястреба. — Я сам! — И он произнес одно лишь слово: «Ириотх».
Гифт посмотрела на дверь спальни и увидела, что дверь отворилась как бы сама собой и на пороге показался Отак, худой, изможденный, а в его темных глазах, еще совсем сонных, сквозят растерянность и боль.
— Это ты, Гед, — промолвил он и поклонился. А потом вдруг гордо вскинул голову и спросил: — Ты отнимешь у меня мое Имя?
— С какой стати?
— Оно всем приносит только горе и боль. В нем слишком много ненависти, гордости, алчности…
— Все это я отниму у тебя, Ириотх. Но только не твое Имя.
— Я просто не понимал тогда… — сказал Ириотх. — Я даже не задумывался — насчет остальных…. Мне и в голову не приходило, что они просто ИНЫЕ. Хотя все мы ИНЫЕ по отношению друг к другу. Собственно, люди и должны быть такими. Я был не прав, Гед.
И тот, кого он назвал Гедом, подошел к нему, взял его руки, протянутые в немой мольбе, в свои и сказал:
— Ты пошел неверным путем, Ириотх. Но ты вернулся. А сейчас ты просто очень устал. Ведь этот путь, когда идешь по нему один, страшно тяжел и труден. Хочешь, вернемся вместе домой?
Ириотх стоял, уронив голову на грудь, точно все силы разом покинули его, как только спало напряжение. Казалось, вся страстность его натуры вдруг улетучилась, и все же он вдруг поднял голову и нашел взглядом — нет, не глаза Геда, а глаза Гифт, которая молча стояла в уголке у камина.
— У меня здесь еще работа осталась несделанной, — промолвил он.
Гед тоже посмотрел на нее.
— Это правда, — подтвердила она. — Он наш скот лечит.
— Они показали мне, что я должен делать, — сказал Ириотх. — И дали понять, кто я такой. Они знают мое имя. Но никогда его не произносят.
Несколько мгновений прошли в молчании, потом Гед нежно привлек к себе Ириотха и что-то тихонько сказал ему на ухо. Когда же он выпустил его из своих объятий, Ириотх глубоко вздохнул с явным облегчением и сказал:
— Видишь ли, Гед, ТАМ я ни к чему. А здесь я очень нужен. Если, конечно, сами люди позволят мне делать для них эту работу. — Он снова посмотрел на Гифт, и Гед тоже на нее посмотрел. Она переводила взгляд с одного на другого.
— Ну а ты что скажешь, Эмер? — спросил у нее тот из них, что был так удивительно похож на ястреба.
— А я вот что скажу!.. — промолвила она странно тоненьким, каким-то неуверенным голосом, обращаясь к Ириотху. — Если быки Олдера эту зиму переживут и останутся здоровыми, то по всей округе хозяева скота будут просто на коленях молить тебя остаться! Хотя скорее всего любить тебя они не будут никогда.
— Колдунов никто не любит, — сказал Верховный Маг. — Ну что ж, Ириотх! Неужели я проделал столь долгий путь да еще в самую стужу, только чтобы отыскать тебя и вернуться назад в одиночестве?
— Скажи им… скажи им, что я был не прав, — промолвил Ириотх. — Скажи, что я стыжусь своих поступков. А Ториону скажи… — и он смущенно умолк.
— Я скажу ему, что превращения, которые человеческая натура испытывает в течение своей жизни, бывают порой куда сложнее всех известных нам магических превращений, ибо природа мудрее всей нашей искусственной премудрости и всех наших знаний, — сказал Верховный Маг. И снова посмотрел на Эмер. — Может он здесь остаться, хозяюшка? Совпадает ли это его желание с твоим?
— Для меня он в десять раз лучше, чем мой родной брат! — сказала она. — И он человек добрый и честный, как я и говорила, господин мой. А уж пользы от него всем — и не перескажешь!
— Ну что ж, прекрасно. Прощай, Ириотх, дорогой мой товарищ, учитель, соперник и друг! Прощай! А тебе, Эмер, храбрая женщина, я низко кланяюсь в знак глубочайшего уважения и огромной благодарности. И пусть мир царит в твоем сердце и в твоем доме, — и он сделал рукой странный жест, после которого в воздухе над очагом возник и не сразу растаял какой-то светящийся знак. — А теперь я, пожалуй, пойду к себе в коровник и немного посплю. — И он действительно отправился прямиком в коровник.
Когда за ним закрылась дверь, снова наступила полная тишина, только по-прежнему шептал что-то огонь в камине.
— Иди-ка поближе к огню, — сказала Гифт Ириотху. Тот послушно подошел и уселся на сундук.
— Неужели это сам Верховный Маг был? Правда?
Он кивнул.
— Верховный Маг Земноморья спит на сеновале в моем коровнике!.. — ужаснулась она. — Мне бы следовало уступить ему свою постель!
— Он бы ни за что не согласился, — сказал Ириотх.
И она поняла, что это действительно так.
— Какое у тебя имя красивое! — сказала она, немного помолчав. — Ириотх! А я вот никогда не знала, каково Истинное имя моего покойного мужа. И он моего не знал. Ты не бойся, я твое имя больше вслух произносить не стану! Но знать мне его очень приятно, тем более что и ты мое знаешь.
— У тебя очень красивое имя, Эмер, — сказал он. — И я с удовольствием стану его произносить, если ты сама этого захочешь, конечно.
Стрекоза[4]
Глава 1
Ирия
Предки ее отца владели обширными плодородными угодьями на большом и богатом острове Уэй. Не требуя ни титулов, ни придворных привилегий от тех правителей, что, сменяя друг друга, захватывали королевский трон в мрачный период, последовавший за падением Махариона, эти независимые лорды твердой рукой правили своими землями и своими людьми и полученный доход, согласно старинной традиции, снова вкладывали в землю. Они старались поддерживать в своих владениях хотя бы относительную справедливость и порядок и тем самым уже противостояли лживым тиранам, захватившим власть на островах Архипелага. Когда же Земноморьем стали править Мудрецы с острова Рок, вернувшие людям мир и покой, эта старинная семья с острова Уэй и находившиеся в ее владениях крестьянские селенья стали даже процветать. Благоденствие этого края, который назывался Ирия, а также красота тамошних полей, высокогорных пастбищ и покрытых дубовыми рощами холмов даже породили поговорки «тучный, как коровы Ирии», или «удачливый, как житель Ирии». Хозяева и многочисленные арендаторы прибавляли название этого края к своему имени, и каждый с гордостью называл себя «ириан», что значит «житель Ирии». Но хотя тамошние земледельцы и пастухи из поколения в поколение старательно передавали накопленные знания и умения и воспроизводили себе подобных сыновей и внуков с тем же постоянством, что и дубы на холмах, знатное семейство, члены которого владели этими землями, сменяя друг друга, постепенно приходило в упадок, утрачивая былую удачливость, независимый нрав и стремление к порядку.
Однажды ссора, разгоревшаяся между двумя братьями из-за наследства, окончательно расколола семью, а потом один из братьев пустил по ветру свою долю наследства из-за собственной глупости, а второй — из-за непомерной жадности. У одного из этих братьев была дочь, которая вышла замуж за купца, переехала в столицу и попыталась оттуда управлять поместьем, что получалось у нее, разумеется, плохо. У второго же брата был сын, сыновья которого впоследствии тоже поссорились между собой, пытаясь поделить заново уже поделенные между ними земли. К тому времени, как родилась героиня этой истории, которую все звали Стрекоза, тот благодатный край, что носил название Ирия, по-прежнему оставаясь одним из самых прелестных уголков Земноморья благодаря своим холмам, полям и лугам, превратился в настоящее поле брани, где велись бесконечные междуусобицы и тяжбы. Вскоре крестьянские поля покрылись сорняками, а дома арендаторов стояли без крыш; коровники опустели, а пастухи увели свои стада далеко за гору в поисках лучших пастбищ. Старинный господский дом, некогда бывший средоточием жизни всего края, совершенно обветшал, но все еще возвышался на холме среди дубов.
Теперь его владельцем стал один из четырех братьев, которые называли себя хозяевами Ирии. Впрочем, остальные трое братьев называли четвертого — желая быть совершенно точными — «хозяином Старой Ирии». Этот человек все свои молодые годы провел в столице острова, Шелитхе — в судах и приемных правителей, истратив там большую часть полученного им наследства и пытаясь доказать законность своих прав на земли всего края. Но стать хозяином всей Ирии ему так и не удалось. Домой он вернулся, потерпев полное поражение, исполненный горечи, и оставшиеся годы жизни провел, усердно попивая крепкое красное вино со своего последнего виноградника или обходя пешком границы своих владений в сопровождении целой стаи недокормленных и неухоженных псов, которых держал для того, чтобы всегда иметь возможность прогнать непрошеных гостей, если те вольно или невольно вторглись на его земли.
Еще в Шелитхе, тщетно обивая пороги приемных и судов, он успел жениться, но о его жене в самой Ирии абсолютно ничего известно не было, ибо она была родом с другого острова, по слухам, откуда-то с дальнего запада, а в самом имении так ни разу появиться и не успела, потому что умерла при родах еще в столице.
Когда же хозяин Старой Ирии вернулся домой, с ним приехала и его трехлетняя дочка. Он поручил ее заботам своей экономки и напрочь забыл о девочке, вспоминая о ней, только изрядно напившись. Если в такой день ему удавалось разыскать малышку, то он заставлял ее часами стоять возле его кресла или сидеть у него на коленях и слушать горестные рассказы о тех несправедливостях, которые выпали на его долю по вине других людей. Он ругался, кого-то проклинал, кричал, снова пил вино и девочку тоже заставлял пить и все требовал, чтобы она поклялась беречь и чтить свое наследство. Стрекоза с отвращением глотала вино, но все эти проклятия в адрес «нечестных людей», требование «чтить наследие предков», ханжеские слезы и слюнявые нежности просто ненавидела и удирала от отца при первой же возможности. Она куда лучше чувствовала себя в обществе собак, лошадей и коров. И этим животным она клялась, что всегда будет верна памяти своей бедной мамочки, которой никто здесь не знал и которую даже отец толком не помнил.
Когда Стрекозе исполнилось тринадцать, старый виноградарь и экономка, единственные слуги, что еще остались в поместье, пришли к своему хозяину и сказали, что девочку пора наречь Истинным именем. Но когда они спросили, не послать ли за колдуном, который жил довольно далеко, за Западным Прудом, или сойдет и местная колдунья, хозяин Старой Ирии вдруг невероятно разъярился и завизжал:
— Деревенская ведьма? Эта старая карга наречет именем дочь лорда и наследницу Ирии? Или, может, сюда явится какой-то вонючий колдун-предатель, прислужник тех ворюг, что украли Западный Пруд еще у моего деда? Да если этот хорек осмелится ступить на мою землю, я на него собак спущу — пусть ему печень вырвут! Так ему можете и передать! — Он еще долго орал и кипятился, так что в итоге старая Дейзи просто вернулась к себе на кухню, а старый Кони — на виноградник. Что же касается тринадцатилетней Стрекозы, то она выбежала из дома и помчалась в деревню, раскинувшуюся у подножия холма; за нею следом, ошалев от возбуждения, лая и виляя хвостами, неслась стая собак, которых она пыталась прогнать обратно домой с помощью далеко не самых «благородных» выражений, которых набралась у отца.
— Вернись немедленно, ты, сука неблагодарная! — вопила она. — Домой, предатель ползучий! — И собаки в конце концов действительно ее послушались и побрели к дому, опустив виновато хвосты.
Стрекоза застала деревенскую ведьму за весьма неприятным занятием: та извлекала червей из загноившейся раны на овечьем огузке. Обычно эту ведьму все звали просто Роза; это было очень распространенное имя на островах Архипелага. Люди, Истинное имя которых таит в себе магическую силу, как бриллиант таит внутри себя свет, часто предпочитают для себя в быту самые расхожие, самые заурядные имена.
Роза бормотала какое-то заклятие, способствующее заживлению гнойных ран, но основную часть работы делали все же ее умелые руки и ее острый маленький ножичек. Ярка молча терпела эти ковыряния ножом в своей ране, и ее непроницаемые янтарные глаза смотрели тупо, точно куда-то по ту сторону происходящего; она лишь временами вздыхала от боли и топала маленьким копытцем левой передней ноги.
Стрекоза долго и внимательно наблюдала за работой ведьмы. Роза извлекла червя, бросила на землю, плюнула на него и снова принялась копаться в ране. Девочка обняла овцу за шею, желая ее утешить, и овца тоже благодарно прижалась к ней; обеим так было намного спокойнее. Наконец Роза вытащила последнего червяка, тоже бросила на землю, несколько раз плюнула сверху и сказала Стрекозе:
— А теперь подай-ка мне вон то ведерко. — Она хорошенько промыла рану соленой водой, и овца, вздохнув еще тяжелее, пошла прочь со двора. Медицина ей явно порядком надоела. — Эй, Баки! — крикнула Роза. Какой-то чумазый малыш вынырнул из-под куста, где, видимо, сладко спал, и потащился за овцой, о которой якобы должен был заботиться, хотя овца эта была значительно старше, крупнее и, возможно, мудрее его.
— Говорят, надо, чтобы ты дала мне имя, — сказала Стрекоза. — А отец страшно разозлился. Вот я и пришла сама.
Ведьма ничего ей не ответила. Она знала, что девочка права. Но когда хозяин Старой Ирии говорил, что именно отныне он будет разрешать или запрещать, то больше уж никогда своего решения не менял, гордясь собственной твердостью, ибо, согласно его мнению, только слабые люди способны сперва что-то утверждать, а потом отказываться от своих слов.
— А почему я не могу дать себе имя сама? — спросила Стрекоза, пока Роза мыла нож и руки в соленой воде.
— Этого делать нельзя.
— Но почему? Почему имя человеку обязательно должны давать ведьмы или колдуны? Что в вас такого особенного?
— Значит, так… — начала Роза и выплеснула соленую воду на грязный двор прямо перед крыльцом. Дом ее, как и у большинства ведьм, стоял несколько в стороне от деревни. — Значит, так, — повторила она, озираясь с таким странным видом, словно что-то ищет и не находит — то ли ответ на вопрос Стрекозы, то ли потерявшуюся овцу, то ли просто полотенце, — следовало бы тебе все-таки кое-что знать о магических силах и умениях колдунов и ведьм, ты ведь уже большая! — И она наконец посмотрела прямо на Стрекозу, правда, только одним глазом, потому что второй ее глаз смотрел куда-то в сторону, во всяком случае, не на Стрекозу. Иногда девочке казалось, что косит у Розы левый глаз, а иногда — что правый, но почему-то всегда один ее глаз смотрел прямо, а второй высматривал что-то невидимое то ли за углом, то ли вообще неизвестно где.
— О каких силах и умениях?
— О таких! — вдруг рассердилась Роза и вдруг ушла в дом — в точности как та ее овца со двора. Стрекоза последовала за ней, но остановилась на пороге: нельзя входить в дом ведьмы без приглашения.
— Ты же говорила, что сила у меня есть! — крикнула девочка куда-то в вонючую полутьму.
— Да, говорила. В тебе есть сила, и очень большая, — донеслось из глубины хижины. — И ты тоже об этом знать должна. Но того, что тебе предстоит в жизни, не знаем ни я, ни ты. Это сперва нужно выяснить. Но для этого нужна особая сила, которой в тебе нет. Только она позволяет давать людям их подлинные имена. Но ВЗЯТЬ себе имя не может никто!
— А почему? Ведь что может быть ближе человеку, чем его собственное имя?
Последовало длительное молчание. Стрекоза терпеливо ждала на крыльце.
Наконец ведьма вынырнула из своей норы с веретеном, сделанным из мыльного камня, и клубком грязноватой шерсти. Она уселась на скамеечку, стоявшую у дверей, запустила веретено и спряла довольно большой кусок серо-коричневой пряжи, прежде чем ответила:
— Твое имя — это как бы ты сама. Это твоя сущность, верно? Но раз так, то что такое имя? Это слово, которым тебя называют другие. А если бы вокруг не было никого, кроме тебя самой, то для чего тебе нужно было бы какое-то имя?
— Но ведь… — Стрекоза начала было возражать, но тут же умолкла: крыть ей было нечем. Подумав немного, она спросила: — Значит, имя — это вроде как чей-то дар?
Роза кивнула.
— Ну так подари мне мое имя, Роза, пожалуйста! — попросила девочка.
— Твой отец не разрешает.
— А я разрешаю!
— Он здесь хозяин.
— Ну и пусть! Он может лишить меня наследства и сделать меня нищей, может оставить меня глупой, необразованной и совершенно никчемной, но он же не может оставить меня безымянной!
Ведьма тяжко вздохнула — снова в точности как та овца, вынужденная смириться.
— Сегодня ночью, — твердо сказала ей Стрекоза. — На берегу речки под горой Ирия. То, чего отец не знает, ему совершенно безразлично. А он ни о чем и не узнает. — Голос у нее звучал чуть хрипловато от волнения, но в нем чувствовалась неколебимая уверенность в своей правоте.
— Тебе бы следовало иметь настоящий День Наречения Именем, как у всех молодых! — горестно качая головой, сказала ведьма. — Настоящий праздник, с пиром и танцами. Имя дают обычно на рассвете, а потом все должны радоваться и веселиться, чтобы надолго запомнить этот день. А красться в ночи, чтобы никто ничего не знал, совершенно не годится!
— Ничего, я этот день и так навсегда запомню, — сказала Стрекоза. — А откуда ты знаешь, какое именно слово нужно произнести, Роза? Тебе что, вода нашептывает?
Ведьма резко мотнула своей седой головой.
— Этого я тебе сказать НЕ МОГУ. — Ее «не могу» прозвучало совсем не как «не хочу» или «никогда не скажу», и Стрекоза молча ждала объяснений. — Это ведь и есть та самая сила, про которую я говорила. Ты вдруг просто чувствуешь ее в себе, и все. — Роза остановила веретено и одним глазом посмотрела на облако, висевшее над западным краем земли, а второй ее глаз уставился чуть ли не на север. — Вас там будет как бы двое: ты — взрослая и ты — дитя. И ты просто сбросишь с себя свое детское имя и станешь совсем взрослой. Другие, конечно, могут продолжать звать тебя прежним именем, но на самом деле это будет не твое имя. Да и никогда им не было, как ты теперь уже знаешь. А когда ты сбросишь свое детское имя, то на время становишься как бы безымянной. Ты более не дитя, имени у тебя нет, ты стоишь в воде и ждешь. И вроде как раскрываешь свою душу. Так распахивают настежь дверь навстречу ветру, желая как следует проветрить дом. И тут оно приходит к тебе само. И твой язык сам выговаривает его. Это и есть твое настоящее имя. Ты не можешь его придумать. Ты должна позволить ему прийти к тебе. Но сперва оно должно пройти сквозь меня и сквозь воду и только потом попасть к той, кому предназначается. Вот какова эта сила, и приблизительно так она действует. Собственно, сама я тоже не делаю почти ничего. Но я должна знать, как позволить этому волшебству случиться. В этом-то и заключено мое мастерство.
— Волшебники умеют гораздо больше! — сказала девочка, помолчав.
— Никто не может сделать больше, чем назвать человека его Истинным именем, — спокойно возразила Роза.
Стрекоза так сильно потянулась, что затрещали шейные позвонки, и, собираясь встать, снова спросила:
— Ну так дашь мне имя?
И Роза, хотя и не сразу, но все же согласно кивнула.
Они встретились глубокой ночью на тропинке под горой Ирия, когда до рассвета было еще далеко. Роза зажгла неяркий волшебный огонек, чтобы можно было пробраться к реке и не упасть в какой-нибудь заросший тростниками бочажок — местность была болотистая. В холодной ночи при свете немногочисленных звезд, ибо большую их часть скрывала темная тень горы, ведьма и девочка разделись и вошли в мелкую речку; ноги вязли в мягком иле, скопившемся на дне. Потом ведьма коснулась руки девочки и сказала:
— Дитя, я отнимаю у тебя твое имя! Ты более не дитя, и у тебя нет имени.
Некоторое время вокруг стояла мертвая тишина, затем ведьма прошептала:
— Да будешь ты наречена именем, женщина! Теперь ты — Ириан!
Еще несколько мгновений они стояли в воде совершенно неподвижно, в полной тишине, а потом вдруг вздохнул ночной ветер, коснулся их обнаженных плеч, и они, дрожа от холода, побрели обратно на берег. Там они вытерлись хорошенько и босиком, чувствуя себя бесконечно усталыми, потащились, спотыкаясь о сплетенные корни тростника, к тропинке. И там Стрекоза, уже не скрывая бешеного гнева, прошептала ведьме:
— Как ты могла наречь меня таким именем!
Ведьма ничего ей не ответила.
— Ты все сделала неправильно! Мое Истинное имя совсем не такое! Я думала, что, узнав свое имя, я сразу почувствую и свою сущность. Но то имя, которое дала мне ты, все только испортило! Ты что-то неправильно расслышала, Роза. Ты ведь всего лишь деревенская ведьма, и ты все сделала неправильно! Это ЕГО имя. Отца. Это он может иметь такое имя. Он бы так им гордился! Как гордится своим дурацким имением, своим дурацким дедом!.. А я такого имени не хочу! И не стану его носить. Это же не я! Я по-прежнему не знаю, кто я такая, но я — не Ириан! — И она вдруг умолкла, нечаянно произнеся свое имя вслух.
А ведьма по-прежнему молчала. Они шли рядом по тропинке в полной темноте. Наконец, испуганным голосом, точно пытаясь задобрить девочку, Роза сказала:
— Но оно само пришло ко мне…
— Если ты его когда-нибудь кому-нибудь скажешь, я тебя убью! — пообещала ей Стрекоза.
И тут ведьма вдруг остановилась и прошипела, точно разъяренная кошка:
— СКАЖУ кому-нибудь?
Стрекоза тоже остановилась. И сказала, помолчав:
— Прости. Но у меня такое чувство… словно ты меня предала.
— Я назвала тебе твое Истинное имя! Оно оказалось не таким, как я думала. И мне от этого тоже не по себе. Словно я что-то не закончила, не доделала… Но это твое Истинное имя, Стрекоза! И если оно предаст тебя — что ж, такова, значит, его сущность. — Роза поколебалась и заговорила уже не так горячо и сердито, но более холодно и спокойно: — Если же ты хочешь иметь надо мной власть, чтобы быть способной предать меня, Ириан, то я тебе эту власть дам. Знай: мое Истинное имя — Этаудис!
Снова вздохнул ветерок. Теперь обе дрожали так, что у них явственно стучали зубы. Они стояли рядом, но едва различали очертания друг друга. Стрекоза неуверенно протянула к ведьме руку, и во тьме ее рука встретилась с ее рукой. Они обнялись и долго не размыкали объятий. А потом поспешно двинулись дальше по тропе — ведьма в свою хижину на окраине деревни, а наследница Старой Ирии на холм, в свой запущенный полуразрушенный дом, где собаки, которые ночью выпустили ее со двора безо всякого шума, сейчас встретили ее таким радостным и восторженным лаем, что перебудили всех вокруг на расстоянии по крайней мере полумили, кроме самого хозяина дома, который как уснул пьяным сном у камина, так и валялся там прямо на полу.
Глава 2
Айвори
Берч, настоящий правитель области Ирия, что расположена на западном побережье острова Уэй, владельцем старинного дома и прилегающих к нему земель не являлся, зато владел центральной, самой богатой частью поместья. Его отец, который куда больше интересовался виноградниками и садами, чем бесконечными ссорами с родственниками, оставил Берчу в наследство эти прекрасные цветущие земли. Берч нанял людей, способных управлять всем этим хозяйством — фермами и виноградниками, винными бочками, перевозками и тому подобными делами, — а сам решил просто наслаждаться жизнью благодаря доставшемуся ему богатству. Он к тому же выгодно женился на застенчивой девушке — дочери младшего брата лорда Уэйферта, правителя острова, — и ему доставляла бесконечное удовольствие мысль о том, что у его дочерей такая благородная кровь.
Согласно моде того времени представителям знати полагалось иметь среди своих слуг и настоящего мага с волшебным посохом и серым плащом, получившего образование на Острове Мудрых, и Берч, разумеется, тоже завел у себя в доме такого волшебника с острова Рок. Хотя сперва немного удивился тому, как легко оказалось это сделать, всего лишь заплатив требуемую сумму.
Молодой человек по имени Айвори на самом деле еще не успел получить свой посох и плащ; он объяснял это тем, что будет произведен в волшебники, как только вернется на Рок, а пока тамошние Мастера послали его в широкий мир для приобретения того жизненного опыта, который совершенно необходим настоящему волшебнику и которого не могут ему дать никакие занятия в Школе. Берч отнесся к этому заявлению весьма скептически, но Айвори заверил его, что за годы учения на Роке приобрел знания во всех областях магии и в доказательство создал иллюзию, будто целое стадо оленей пробегает по огромной столовой; потом прекрасные лебеди, махая великолепными крыльями, стаей влетели в столовую сквозь южную стену, а вылетели — сквозь северную. И наконец посреди столовой возник серебряный бассейн, в центре которого бил фонтан, а когда волшебник предложил хозяину дома и членам его семейства отведать напиток, искрившийся в фонтане, и они осторожно наполнили свои кубки, то оказалось, что это какое-то дивное вино. «Это знаменитая «Андрадская лоза»,» — сказал молодой волшебник, скромно улыбаясь. К этому времени он уже успел полностью покорить жену хозяина и его дочерей, да и сам Берч тоже решил, что этот молодой человек вполне достоин столь высокого жалованья, хотя он, Берч, лично предпочитал сухое красное вино, так называемое фанийское, которое делали на его собственных виноградниках и которое, если выпить его достаточно, весьма неплохо кружило голову, тогда как желтоватый напиток в бассейне показался ему просто подслащенной медом водичкой.
Если молодой колдун Айвори и искал жизненного опыта, то ничего особенного, поселившись у Берча в Уэстпуле, он узнать о жизни не смог. Каждый раз, как у Берча бывали гости из устья реки Кембер или из соседних поместий, требовалось показать все то же стадо оленей, лебедей и фонтан с золотистым вином. Айвори, впрочем, выдумал еще несколько очень симпатичных трюков-фейерверков, которые хорошо было устраивать теплым весенним вечером в саду. Но когда управляющий садами приходил к хозяину и спрашивал, не может ли его волшебник применить какое-нибудь заклятие, чтобы в этом году увеличить урожай груш или же с помощью своих чар приостановить развитие черной гнили, которой страдают виноградники на южном холме, Берч говорил: «Волшебник с Рока не может опускаться до таких мелочей. Ступайте к деревенскому колдуну и скажите ему, чтобы отрабатывал свой хлеб!» А когда младшая из дочерей Берча серьезно занемогла и непрерывно кашляла, ее мать не осмелилась беспокоить «мудрого Айвори» по столь незначительному поводу, а послала за целительницей Розой из Старой Ирии и попросила ее прийти к ним — хотя только через черный ход! — и сварить какое-нибудь снадобье или спеть исцеляющую песнь, чтобы девочка наконец выздоровела.
Айвори же и не заметил, что у хозяина больна дочь, что груши плохо плодоносят, что гниль губит виноградники. Он продолжал заниматься своими делами, как и должен образованный и искусный волшебник: целыми днями скакал верхом на хорошенькой вороной кобыле, которую предоставил ему Берч для необходимых разъездов, ибо он ясно дал хозяину понять, что прибыл сюда с Рока не для того, чтобы пешком месить пыль и грязь на деревенских дорогах.
Во время своих прогулок верхом он не раз проезжал мимо старого дома на холме, окруженного огромными дубами. Однажды он даже свернул было на дорогу, ведущую на холм, но целая стая тощих собак с оскаленными мордами, яростно лая и рыча, бросилась ему наперерез. Его кобыла, видно, очень боялась собак, она тут же встала на дыбы и уже готова была понести, так что Айвори поспешил прочь и после этого случая старался держаться подальше от старого дома на холме. Но все-таки в настоящей красоте он кое-что понимал, и ему очень нравился этот дом, точно уснувший в полдневной тиши раннего лета под пятнистой тенью дубовой листвы.
Айвори спросил у Берча, что это за дом, и тот ответил:
— Да это Ирия! То есть, я хотел сказать, Старая Ирия. По праву этот дом тоже принадлежит мне. Но после целого века междуусобиц и сражений мой дед, чтобы прекратить бесконечные ссоры, решил поступиться и этим домом, и прилегающими к нему землями. Хотя хозяин Старой Ирии до сих пор со мной из-за этого в ссоре. Впрочем, он чаще всего так пьян, что лыка не вяжет. Я, правда, его уже несколько лет не видел. У него, по-моему, еще дочь была.
— Ее зовут Стрекоза, и она все там сама делает, я ее сама в прошлом году один раз видела! Она высокая и очень красивая. Она похожа на большое цветущее дерево! — выпалила вдруг младшая дочь Берча, Роза, которая была занята тем, что неустанно и весьма пристально наблюдала за всем вокруг и этими наблюдениями заполняла свою жизнь — все те четырнадцать лет, которые были отведены ей злосчастной судьбой. Сказав это, девочка закашлялась и умолкла. Ее мать бросила печальный и искательный взгляд на волшебника: ведь должен же он слышать, как ужасно кашляет дочка его хозяина? Волшебник улыбнулся юной Розе, и у матери радостно встрепенулось сердце. Конечно же, он не стал бы улыбаться так, если бы этот кашель означал что-то серьезное!
— В общем, эта старая развалюха к нам никакого отношения не имеет, — буркнул Берч с явным неудовольствием, и тактичный Айвори спрашивать больше не стал. Но ему захотелось увидеть ту девушку, что прекрасна, как «большое цветущее дерево». Он стал регулярно прогуливаться верхом мимо Старой Ирии. Несколько раз он заезжал и в деревню у подножия холма, пытался там задавать всякие вопросы,
но в деревне толком и остановиться-то негде было, и никто на его вопросы отвечать не желал. Какая-то ведьма с бельмом на глазу только раз на него взглянула и тут же исчезла у себя в хижине. А подниматься наверх, к самому дому, он не решался, опасаясь этих безумных собак, а также возможной встречи с хозяином-пьяницей. Однако все же попробовать ему хотелось: во-первых, ему безумно наскучила однообразная жизнь в Уэстпуле, а во-вторых, он всегда любил риск. И однажды он все же стал подниматься к старому дому, несмотря на то что собаки, совершенно озверев, стали уже бросаться на лошадь, клацая зубами. Кобыла шарахалась, лягалась и все пыталась подняться на дыбы, так что он с трудом удерживал ее заклятиями и силой собственных рук. Наконец собаки добрались и до его ног, и он уже готов был позволить вороной кобыле делать, что ей заблагорассудится, когда кто-то вдруг стал разгонять рычащих псов, осыпая их проклятиями и ударами плетки. Когда Айвори наконец удалось заставить перепуганную кобылу стоять смирно, он увидел перед собой девушку, действительно прекрасную, как «большое цветущее дерево». Она была очень высокая, вся взмокшая от усилий, с крупными, но красивыми руками и ногами, с крупным носом и ртом, с огромными глазищами и с целой копной пышных спутанных и насквозь пропыленных волос. И она пронзительно кричала на повизгивавших собак:
— Назад! Назад в дом, сукины дети! Ах вы, падальщики проклятые!
Айвори прижал руку к правому бедру, ближе к колену, где его штаны были порваны собачьими зубами и на них расплывалось кровавое пятно.
— Она ранена? — спросила высокая девушка. — Ах, чертово отродье! — Она погладила и осторожно ощупала правую ногу кобылы; все руки ее были покрыты кровью и лошадиным потом. — Ну, ну, — ласково приговаривала она, — ты смелая девочка, отважное сердце! — Кобыла опустила голову и вся так и вздрагивала от неожиданной ласки и облегчения. — С какой стати ты сюда поперся да еще и держал кобылу посреди собачьей своры? — рассерженно накинулась на Айвори девушка. Теперь она стояла на коленях у самых лошадиных копыт и смотрела на него снизу вверх. А он смотрел на нее сверху вниз, продолжая сидеть в седле, и все-таки чувствовал себя рядом с ней чуть ли не карликом.
Его ответа она ждать не стала.
— Я отведу ее наверх, — сказала она, поспешно вставая, и взялась за поводья. Айвори понял, что ему предлагается с лошади слезть. Он спешился и спросил:
— А что, очень плохо? — Но сумел разглядеть на лошадиной ноге лишь ярко-красную кровавую пену.
— Ну, идем, идем, любовь моя, — сказала женщина, обращаясь явно не к нему. Кобыла доверчиво пошла за нею. Они направлялись по каменистой тропинке куда-то на дальнюю сторону холма, где, как оказалось, стояла старая конюшня со стенами из грубого камня. Лошадей в конюшне не было ни одной, зато там гнездилось множество ласточек, которые без конца шныряли под крышей и щебетали, быстро обмениваясь новостями.
— Подержи-ка ее, чтобы стояла спокойно, — велела Айвори девушка, сунула ему поводья и вышла, оставив его в этой заброшенной конюшне одного. Впрочем, она вскоре вернулась, таща тяжелое ведро с водой, и принялась обмывать кобыле ногу. — Сними с нее седло! — снова приказала она ему, и в ее тоне явно слышалось нетерпение и презрение. Но Айвори повиновался; эта грубая великанша немного раздражала его, но все же вызывала жгучее любопытство. Она больше уже не казалась ему похожей на цветущее дерево, однако и в самом деле была красива, но какой-то особой, свирепой, великанской красотой. Кобыла полностью ей подчинялась. Когда она говорила, например: «Подними-ка ногу!» — кобыла тут же ее приказание исполняла. Девушка вытерла ее всю с ног до головы насухо, заботливо накинула ей на спину попону и вывела на солнышко. — Она поправится, — сказала девушка Айвори. — Рана, правда, довольно глубокая, но если ты будешь четыре-пять раз в день промывать ее теплой соленой водой, она скоро затянется. Мне очень жаль, что так получилось. — Эти слова она сказала явно от всего сердца, хотя и немного ворчливым тоном, словно так и не могла понять, как это он мог допустить, чтобы на его кобылу напали собаки. И наконец она впервые посмотрела прямо на него. Глаза у нее оказались рыжевато-карими, очень ясными, похожими на винный топаз или янтарь. Странные глаза. И девушка эта была с ним, довольно высоким мужчиной, одного роста.
— Мне тоже очень жаль, — сказал он почти весело, чтобы она не подумала, что он сердится.
— Эта кобыла принадлежит хозяину Уэстпула. Значит, ты его волшебник?
Он поклонился.
— Айвори из великого порта Хавнор к вашим услугам. Могу я…
Она не дала ему договорить:
— Я думала, ты с Рока.
— Ну да, в общем, — подтвердил он, стараясь сохранять достоинство.
Она смотрела на него своими странными глазами, и он вдруг подумал, что по этим глазам ничего прочесть невозможно, точно по глазам животного, овцы, например. А из нее так и сыпались вопросы:
— Ты там жил? Учился? И ты знаешь Верховного Мага?
— Да, конечно, — сказал он с улыбкой. Потом впервые поморщился от боли и прижал руку к бедру.
— Ты что, тоже ранен?
— Немножко, ничего страшного, — сказал он. И в самом деле, рана уже перестала кровоточить, что его даже немного огорчило.
Девушка снова заглянула ему в глаза.
— А как… как там вообще… на Роке?
Айвори ответил не сразу; он, чуть-чуть прихрамывая, подошел к старинной каменной подставке для посадки на лошадь и уселся на нее, вытянув ногу и поглаживая больное место. Потом внимательно посмотрел на эту странную девицу и наконец промолвил:
— Много времени потребуется, чтобы рассказать, что представляет собой остров Рок. Но я с удовольствием расскажу тебе о нем.
— Этот человек — волшебник или почти волшебник, — сказала Стрекозе ведьма Роза. — Причем волшебник с Рока! Ты не должна его ни о чем спрашивать! — Роза была не просто рассержена: она была еще и напугана.
— Да он совсем не против, — заверила ее Стрекоза. — Вот только он редко когда отвечает по-настоящему.
— Ну естественно!
— Почему это «естественно»?
— Потому что он — волшебник! А ты — женщина, и к тому же невежественная, ничему не обученная, не имеющая никаких магических знаний!
— Ты тоже могла бы меня многому научить! Только ты ни за что этого не сделаешь!
И тут Роза одним щелчком уничтожила все, чему она когда-либо учила Стрекозу.
— Ах так? Ну и ладно. Вот я и буду у него учиться и вопросы ему задавать буду! — заявила Стрекоза.
— Волшебники женщин не учат! Он тебе просто голову морочит.
— Но ведь вы же с Брумом обмениваетесь всякими рецептами и даже заклятиями, верно?
— Брум — обыкновенный деревенский колдун. А этот человек — настоящий волшебник. Он изучал Истинные Искусства на острове Рок!
— Он рассказывал мне, как попадают в эту Школу, — мечтательно проговорила Стрекоза. — Сперва ты поднимаешься на Холм Рок и проходишь через весь город, который называется Твил. И там есть одна такая дверца, которая выходит прямо на улицу… Только она всегда заперта. И выглядит, как самая обычная дверь…
Ведьма слушала, как завороженная, не в силах сопротивляться волшебству этих тайных откровений и страстному желанию девушки.
— Но стоит постучаться, и сразу выйдет человек, с виду самый обыкновенный, но только он устраивает всем, кто желает войти внутрь, испытание. Нужно знать и произнести вслух некое слово, пароль, и если ты его произнесешь, Привратник тебя впустит. Но если ты этого слова не знаешь, то никогда не сможешь туда попасть. А если все-таки попадешь, если Привратник позволит тебе войти, то сразу поймешь, что изнутри эта дверца выглядит совсем иначе — она сделана из рога и украшена дивной резьбой: на ней вырезано само Древо Жизни; а рама дверцы сделана из зуба дракона, да-да, из одного-единственного его зуба! И дракон этот жил очень давно, задолго до Эррет-Акбе, задолго до Морреда, задолго до того, как в Земноморье вообще появились люди. Там, оказывается, сперва жили только драконы. А этот зуб был найден на горе Онн, что находится на острове Хавнор, в самом сердце нашего мира — так говорит Айвори. А листья Древа Жизни, изображенного на этой дверце, вырезаны так искусно и так тонки, что солнце просвечивает сквозь них, однако сама дверь так крепка, что если Привратник запирает ее, ни одно заклятие не в силах ее отпереть. А если тебе удается войти, то сам Привратник ведет тебя из зала в зал, и в конце концов ты совсем перестаешь соображать, где находишься, и тут вдруг ты выходишь во двор и видишь над собой небо. Это знаменитый Двор Фонтана, самое сердце Большого Дома. И именно там тебя должен встретить Верховный Маг, если он в это время находится на острове…
— А дальше? — прошептала ведьма.
— А дальше я не знаю. Он мне пока что ничего больше не рассказывал, — сказала Стрекоза и, вздохнув, вернулась в теплый весенний день, на бесконечно знакомую тропу, ведущую к дому Розы, и увидела семь своих молочных овец, пасущихся на холме Ирия, и бронзовые от молодой листвы дубы вокруг старого дома. — Уж больно он осторожен, когда об этих Мастерах рассказывает!
Роза понимающе кивнула.
— Зато он подробно рассказывал мне о некоторых учениках.
— Ну, в этом-то, по-моему, ничего опасного нет.
— Не знаю… — сказала Стрекоза. — Но это так чудесно — слушать рассказы о Большом Доме! Хотя я думала, что тамошние… люди должны быть… ну, не знаю!.. Они, конечно, в основном еще мальчишками туда попадают… Но я думала, что они все должны быть… — Она посмотрела вдаль, на пасшихся на склоне холма овец; лицо у нее было какое-то встревоженное. — Знаешь, некоторые из них на самом-то деле глупые и плохие, — сказала она очень тихо, — и попадают в Школу только потому, что богаты. И учатся там только для того, чтобы стать еще богаче. Или — чтобы обрести власть.
— Ну да, конечно, — сказала Роза, — они ведь именно за этим туда и поступают!
— Но ведь волшебство — это совсем другая власть, ты ведь и сама мне говорила… Это ведь не та власть, которая заставляет других работать на тебя или платить тебе…
— Разве?
— Совсем не такая!
— Если словом можно исцелить, то словом можно и ранить, — молвила ведьма. — Если рука может убить, то рука может и на ноги поставить. Это телега, как известно, едет только в одну сторону.
— Но на Роке они специально учатся, как правильно использовать свою магическую силу — не для того, чтобы вредить другим, не для игры и не для наживы.
— Все на свете в той или иной степени служит для игры и для наживы, я бы так сказала. Люди должны как-то жить. Но много ли я знаю? Делаю, что умею, вот и все. Но никаких Великих Искусств я не знаю; и никакими опасными умениями, вроде умения вызывать мертвых, не владею. — И Роза сделала жест, отгоняющий беду, ибо произнесла опасные слова.
— Все на свете опасно, — сказала Стрекоза, глядя теперь как бы сквозь этот холм с овцами и деревьями на нем — в какие-то неведомые глубины, в бесцветную бескрайнюю пустоту, в чем-то похожую на ясное небо перед восходом солнца.
Роза наблюдала за ней. Она понимала, что не знает ни кто такая Ириан, ни кем она может оказаться. Большая, сильная, неуклюжая, невежественная, невинная, сердитая молодая женщина — да, такую Ириан она видела перед собой. Но что там у нее в душе? Еще с тех пор, как Ириан, или Стрекоза, была совсем ребенком, Роза видела в ней нечто могущественное и непостижимое. А когда девушка смотрела вот так, словно отвернувшись от окружающего ее мира, казалось, что в эти мгновения она находится в ином времени, в ином царстве и там, похоже, становится чем-то большим и безусловно гораздо более сложным, чем Роза способна постичь с помощью своего разума и своих знаний. И в таких случаях Роза немного боялась Ириан. И за нее тоже боялась.
— Ты осторожнее, — мрачно сказала она девушке. — Ты права: все на свете опасно, а более всего — связываться с волшебниками.
Стрекоза всегда любила Розу и уважала ее, и она, конечно же, никогда бы не пропустила такое предостережение мимо ушей. Но Айвори она никак не могла воспринимать как человека опасного. Она его часто не понимала, однако мысль о том, что его следует опасаться, ей даже в голову не приходила. Она пыталась вести себя с ним уважительно, но это оказалось совершенно невозможно. Она считала, что он умен и весьма привлекателен, но не особенно много о нем думала, разве что в том отношении, что он еще многое мог бы ей рассказать о Роке и волшебниках. А он, понимая, ЧТО именно ей интересно, рассказывал ей об этом понемногу да и не всегда то, что она хотела бы узнать. Однако он всегда был с ней терпелив, и она была ему благодарна за это терпение, вполне отдавая себе отчет в своем невежестве и в том, что соображает гораздо медленнее, чем он. Порой он улыбался, слыша ее наивные вопросы, но ни разу не фыркнул презрительно, ни разу не упрекнул. Как и Роза, Айвори любил отвечать вопросом на вопрос; однако в ответах Розы всегда содержалось немало такого, что она, Стрекоза, и так давно уже знала, а вот ответы Айвори были порой настолько неожиданными, что она даже представить себе не могла, что подобные вещи бывают на свете, и некоторые из них оказывались удивительно ей неприятны, ибо шли вразрез со всеми ее представлениями о добре и справедливости, о том, как должна быть устроена жизнь.
День за днем в старой конюшне усадьбы Ирия, где они постоянно назначали друг другу свидания, она задавала ему все больше и больше вопросов, а он все больше и больше рассказывал ей, хотя на те или иные вопросы отвечал не всегда охотно и далеко не всегда полно; ей казалось, что он, словно щитом, прикрывает от нее своих учителей, Мастеров с острова Рок, пытаясь во что бы то ни стало сохранить в ее душе светлый образ этого волшебного острова. И все же однажды он поддался ее настойчивым просьбам и заговорил совершенно свободно.
— Там есть очень хорошие люди! — сказал он совершенно искренне. — Великие и мудрые. Таким, безусловно, был Верховный Маг. Но он покинул Рок. А остальные Мастера… Некоторые держатся от всего в стороне, занимаясь только своими таинственными исследованиями, разыскивая новые пути и новые имена, но, в общем-то, используют свои знания впустую. Другие скрывают свое невероятное честолюбие под серым плащом мудрости. Рок более уже не является тем местом, где сосредоточена вся власть в Земноморье. Теперь вся власть у нас — в королевском дворце, в Хавноре. А Рок живет за счет своего великого прошлого, защищенный тысячью магических заклятий от любых событий сегодняшнего дня. А что там, за этими волшебными стенами? Ссоры, честолюбивые устремления, боязнь всего нового, боязнь молодых, которые бросают вызов могущественным старикам! И больше, пожалуй, ничего. Большой Дом пуст, и Верховный Маг никогда туда не вернется!
— Откуда тебе знать? — прошептала она.
Он сурово на нее глянул:
— Его унес дракон!
— Ты это видел? Видел? — Стрекоза даже кулаки стиснула, настолько ярко представила она себе этот полет, и не расслышала его ответа.
И далеко не сразу сумела вернуться к солнечному свету и знакомой конюшне, к своим мыслям и неразрешимым загадкам.
— Но даже если он умер, — промолвила она, — наверняка ведь среди Мастеров есть и такие, кто по-настоящему мудр?
Айвори долго молчал, а когда наконец поднял на нее глаза и заговорил, то слова точно не шли у него с языка, а на губах блуждала печальная усмешка.
— Вся тайна, вся мудрость Мастеров, если ее вытащить и как следует рассмотреть при свете дня, ничего особенного из себя не представляет, знаешь ли. Так, кое-какие умелые трюки… чудесные иллюзии. Но люди этого знать не желают. Они желают верить в эти иллюзии, в эти таинственные превращения. И разве можно винить их? Ведь в жизни так мало прекрасного, стоящего внимания.
Словно желая подкрепить примером собственные слова, Айвори подобрал кусочек кирпича, которым была вымощена старая дорожка, и подбросил его вверх, произнося при этом какие-то слова, и заставил его превратиться в бабочку, которая принялась кружить над ними, трепеща голубыми крылышками. Он протянул палец, и бабочка села на него. А потом он тряхнул рукой, и бабочка упала на землю кусочком кирпича.
— В моей жизни очень мало стоящего, — сказала Стрекоза, задумчиво глядя на вымощенную кирпичом дорожку. — Я и умею немного: хозяйство вести да правду говорить, если меня спрашивают. Но если я стану теперь думать, что даже на Роке все только ложь и пустые фокусы, то, наверное, возненавижу этих мудрецов за то, что они меня так долго обманывали, за то, что они так долго обманывали нас всех. Нет, не может там все быть ложью! Во всяком случае, Верховный Маг действительно уходил в глубины подземного лабиринта и вернулся оттуда с Кольцом Мира. И он действительно побывал в стране мертвых вместе с молодым королем и победил того мага-паука, а потом вернулся в наш мир. Мы знаем все это со слов самого короля. Ведь даже сюда приходят бродячие музыканты и поют об этих подвигах песни, наигрывая на своих арфах. А как-то раз к нам приходил один сказитель и тоже поведал нам немало историй.
Айвори кивнул.
— Но ты забываешь, что Верховный Маг утратил все свое могущество в стране мертвых, — сказал он. — Возможно, из-за этого и все волшебство на земле постепенно ослабело.
— Не знаю. Я не уверена: ведь заклятия нашей ведьмы Розы действуют так же хорошо, как и прежде, — упрямо возразила Стрекоза.
Он только улыбнулся в ответ, но она видела, что подобное сравнение представляется ему просто нелепым. Какая-то деревенская ведьма и Верховный Маг! Стрекоза только вздохнула. И вдруг у нее вырвалось:
— Ах, если б только я не была женщиной!
Он снова улыбнулся.
— Ты очень красивая женщина, — сказал он. Сказал очень просто, ничуть ей не льстя, как пытался делать это вначале, до того, как она успела дать ему понять, что ей отвратительна подобная лесть. — С какой же стати тебе становиться мужчиной?
— Чтобы иметь возможность отправиться на Рок! Все увидеть, всему научиться! Почему, ну почему туда могут поехать только мужчины?
— Таково правило, установленное первым Верховным Магом Земноморья много столетий назад, — сказал Айвори. — Хотя… мне эти мысли тоже в голову приходили.
— Правда?
— И очень часто. Поскольку день за днем я видел вокруг себя только мальчиков и мужчин — как в Большом Доме, так и во всей Школе. И знал, что местным женщинам запрещено ступать даже на поля вокруг Холма Рок. Они, кстати, защищены от женщин особыми заклятиями. Раз в несколько лет, правда, какой-нибудь особенно знатной даме разрешается ненадолго зайти в один из внешних дворов Большого Дома… А почему это так? Неужели все женщины на свете лишены способности воспринимать магические науки и искусства? Или же Мастера просто боятся их, боятся стать «испорченными», утратить свою волшебную силу? Нет, скорее они боятся изменить тот «священный» Устав, которому они так строго следуют… нарушить «чистоту» своего братства…
— Женщины умеют хранить целомудрие не хуже мужчин! — пылко заявила Стрекоза. Она понимала, что ведет себя несдержанно (а ведь Айвори всегда вежлив с нею и всегда готов ей уступить!), но она совершенно не умела вести себя иначе, не умела скрывать свои чувства.
— Естественно! — И улыбка Айвори засияла еще ярче. — Но ведьмы ведь далеко не всегда целомудренны, верно?.. Может быть, Мастера боятся именно этого? Возможно, целибат отнюдь не является таким уж необходимым, как о том говорится в Уставе Рока? Возможно, это отнюдь не способ сохранения магической силы, а способ охранить эту силу ото всех остальных? Оставив за пределами своей «чистой» обители женщин и всех тех, кто не желает мириться с тем, что для того, чтобы стать волшебником, нужно обязательно превратиться в евнуха… Кто знает? Волшебница! Чаровница! Женщина-маг! Появись такие, изменились бы все правила на свете!
Стрекоза чувствовала, как далеко вперед он умчался в своих размышлениях на эту тему; видно, она давно не давала ему покоя, и он все играл с этими мыслями, с помощью слов превращая их в нечто осязаемое, как только что превратил кусок кирпича в бабочку. Конечно, Стрекоза не могла соревноваться с ним в этой игре мысли, но следила за его рассуждениями с любопытством и восхищением.
— А ты, между прочим, могла бы отправиться на Рок! — заметил он, и глаза его засверкали от возбуждения, озорства, мальчишеской смелости. Заметив, что она молчит и смотрит на него умоляюще-недоверчиво, он подтвердил: — Да, могла бы. Хоть ты и женщина, но есть способы, с помощью которых можно изменить твое обличье. У тебя сердце и мужество мужчины, мужская воля, и ты вполне могла бы войти в Большой Дом, я в этом уверен!
— И что бы я там делала?
— То же, что и все остальные ученики. Жила бы одна в келье с каменными стенами и училась быть мудрой! Это, возможно, было бы не совсем то, что видится тебе в мечтах, но и многие свои заблуждения ты бы тоже там постигла.
— Я не смогу! Они же все равно узнают! И я не сумею даже внутрь войти. Ты же сам говорил, что там есть какой-то особый Привратник. А я не знаю, какой пароль нужно произнести…
— А, пароль! Но я ведь могу тебе его сказать.
— Можешь? Это разрешается?
— Мне все равно, разрешается это или нет! — Он сказал это с таким мрачным видом, что она удивилась. — Сам Верховный Маг говорил: «Правила создаются для того, чтобы их нарушали». А в данном случае правила создает несправедливость, а храбрость и мужество их нарушают. Если у тебя мужества хватает, так и у меня его хватит!
Некоторое время она молча смотрела на него — говорить она не могла, — потом встала и, постояв несколько секунд неподвижно, вышла из конюшни и двинулась по тропе, которая примерно на середине склона сворачивала и начинала огибать холм. Одна из собак, ее любимица, крупная, безобразная гончая с тяжелой головой, последовала за ней. Она остановилась только в том месте над рекой с болотистыми берегами, где десять лет назад Роза нарекла ее Истинным именем. Собака, усевшись у ее ног, преданно смотрела ей в лицо. В голове у Стрекозы стоял гул и была полная мешанина, но одна мысль билась там, ясная и настойчивая: я могла бы поехать на Рок и выяснить, наконец, кто я!
Поверх зарослей тростника, ивовых деревьев и дальних холмов она смотрела на запад. Весь западный край неба был абсолютно чистым и пустым. Она стояла неподвижно, и душа ее, казалось, взлетает в небеса и устремляется прочь от нее, на запад…
Сзади послышалось мягкое шлепанье копыт вороной кобылы по тропе. И Стрекоза, придя наконец в себя, окликнула Айвори и побежала ему навстречу.
— Я поеду! — крикнула она на бегу.
* * *
Вообще-то он не собирался пускаться в подобные приключения, но чем больше он думал о такой возможности, тем более привлекательной ему казалась его затея. Перспектива провести всю долгую серую зиму в Уэстпуле его совершенно не привлекала, и у него точно камень с души свалился, когда забрезжила возможность отсюда сбежать. Здесь для него не было ничего интересного, за исключением этой девушки по прозвищу Стрекоза, которая теперь полностью занимала его мысли. Он чувствовал в ней некую могущественную, но абсолютно невинную силу, и эта сила подчинила его себе, он старался угождать Стрекозе, надеясь в итоге все-таки вынудить ее сделать то, к чему он стремился сам. Это была игра, в которую, как ему казалось, сыграть стоило. Если она решится бежать с ним, можно считать, что он выиграл. Ну а что касается самой дурацкой идеи, что Стрекозе удастся пройти в Школу в обличье мужчины, то идея эта страшно ему нравилась. Было бы здорово ТАК подшутить надо всеми этими благочестивыми и важными Мастерами! Бросить такой камень в их квакающее болото!.. Только вряд ли это удастся. Но если он все же сумеет протащить эту женщину в Большой Дом — хотя бы на несколько минут, — то какая это будет сладкая месть!
Итак, теперь нужно только раздобыть денег. Девушка думает, конечно же, что ему, великому волшебнику, достаточно щелкнуть пальцами, и они тут же перенесутся через море на волшебном корабле, летящем на всех парусах. Но когда он сказал ей, что им придется заплатить за проезд, она просто ответила:
— Это ничего. У меня же есть «сырные» деньги!
Просто потрясающе она иногда умела ответить! Иногда грубоватая простота и искренность ее ответов даже пугала его, но он не желал этого признавать. Она довольно часто снилась ему, но в этих снах никогда ничего от него не требовала, зато он прямо-таки льнул к ней, еще более остро чувствуя в ее душе некую свирепую и сладостно-разрушительную силу, проваливался в ее объятия, совершенно уничтожавшие его собственное «я», и всегда в этих снах она была неким великолепным и совершенно непостижимым существом, а он — никем и ничем и просыпался после таких снов потрясенный и пристыженный. При свете дня, когда видны были ее большие грязные руки, когда она разговаривала с ним, как обыкновенная деревенская простушка, он снова обретал превосходство над нею. Ему хотелось только, чтобы еще кто-нибудь послушал, как смешно она говорит. Например, кое-кто из его старых друзей тоже нашел бы ее манеру говорить весьма забавной и посмеялся бы вместе с ним. «У меня же есть «сырные» деньги!» — все повторял он про себя, когда ехал верхом в Уэстпул, и смеялся.
— Надо же — «сырные»! — сказал он вслух, и вороная кобыла дернула от удивления ухом.
Итак, Айвори сообщил Берчу, что получил известие от своего учителя с Рока (он даже назвал его: Мастер Ловкая Рука) и теперь ему нужно незамедлительно отправляться туда. Он, конечно же, не может сказать, какова цель его поездки, однако дело это не потребует много времени. Так что две недели туда, две — обратно, и, самое позднее, он вернется в конце осени. Однако он вынужден просить господина Берча выдать ему авансом часть причитающейся платы, чтобы заплатить за проезд, поскольку волшебнику с острова Рок негоже рассчитывать на то, что люди сами пожелают дать ему все, что требуется. Лучше просто заплатить за проезд, проявив скромность и достоинство, как это делают все волшебники. Поскольку Берч со всеми его доводами согласился, Айвори вскоре получил от него увесистый кошель с деньгами. Это были первые настоящие деньги, которые он за последние годы держал в руках: десять пластинок из слоновой кости, на которых с одной стороны было вырезано изображение знаменитой Выдры Шелитха, а на другой красовалась Руна Мира в честь короля Лебаннена. «Привет, мои маленькие! — шепнул он им, когда остался один. — Надеюсь, вы с «сырными» деньгами отлично поладите!»
Он очень мало рассказывал Стрекозе о своих планах, главным образом потому, что особых планов и не строил, надеясь на удачу и собственную сообразительность, которые редко его подводили. Впрочем, девушка вопросов почти не задавала.
— А что, я весь путь должна буду проделать в обличье мужчины? — Казалось, это чуть ли не единственный вопрос, который ее интересует.
— Да, — отвечал он. — Но ты просто переоденешься мужчиной. Я не стану пользоваться заклятием подобия, пока мы не прибудем на Рок, так что на меня ты похожа не будешь.
— А я думала, что это будет заклятие превращения, — сказала она чуть разочарованно.
— Это было бы неразумно, — объяснил Айвори, старательно подражая суховато-торжественному тону Мастера Метаморфоза. — Но если будет необходимо, я это сделаю, разумеется. Скоро ты и сама увидишь, что волшебники очень скупо пользуются Великими Заклятиями. И не без причины.
— Я знаю, из-за Равновесия, — кивнула она, как всегда восприняв то, что он ей рассказывал об этом, со свойственной ей простотой и наивностью.
— И еще, возможно, из-за того, что эти искусства уже не имеют той силы, какой обладали когда-то, — сказал Айвори. Он и сам не знал, почему пытается ослабить ее веру в могущество волшебства; возможно, потому, что любое ослабление ее силы, ее целостности было бы на руку ему самому. Ему давно уже хотелось просто затащить ее в постель, и эта странная игра ему сперва очень нравилась, но в итоге обернулась чем-то вроде поединка, которого он никак не ожидал и которому никак не мог положить конец. Теперь он стремился уже не развлечься с ней, а победить ее. Нельзя же было позволить какой-то деревенской девчонке одержать над ним победу! Нет, он должен доказать и ей, и самому себе, что те его сны не имеют в действительности ни малейшего смысла!
Довольно скоро, впрочем, Айвори потерял терпение, настолько она была к нему, как к мужчине, равнодушна, и воспользовался самым обычным приворотным заклятием, какими обычно пользуются колдуны. Ему было немного стыдно произносить подобное заклятие, но он знал, что действует оно весьма эффективно. Он навел на Стрекозу чары, когда она плела для своей коровы поводок с петлей на шее. Однако чары его подействовали на нее совсем не так, как он ожидал: она отнюдь не растаяла и не проявила готовности немедленно ему отдаться, как это всегда бывало с девушками в Хавноре и Твиле. Напротив, Стрекоза становилась все более молчаливой и сердитой. Она даже перестала задавать свои бесконечные вопросы о Школе Волшебников и часто не отвечала ему, когда он первым с ней заговаривал. Когда же как-то раз он очень осторожно приблизился к ней и нежно взял ее за руку, она так врезала ему по башке, что его потом еще долго пошатывало, а она молча встала и вышла из конюшни, и ее любимая собака — отвратительного вида гончая! — тут же последовала за нею. И Айвори показалось, что эта псина специально оглянулась и насмешливо на него посмотрела.
Стрекоза направлялась по тропе к старому дому, и когда в ушах у него перестало звенеть, он крадучись пошел за нею, надеясь, что чары все-таки действуют и с ее стороны это была просто неуклюжая попытка пригласить его в постель. Но, приблизившись к дому, Айвори услышал звуки бьющейся посуды, и какой-то мужчина, должно быть, ее отец, тот самый пьяница, пошатываясь, вышел на крыльцо; выглядел он испуганным и смущенным, а вслед ему неслись сердитые вопли Стрекозы: «Пошел вон из дома, пьянчуга несчастный! Проклятый предатель! Дурак! Бесстыжий развратник!»
— Она у меня стакан отняла! — поскуливая, как щенок, пожаловался незнакомцу хозяин Старой Ирии. Собаки скакали вокруг него, как бешеные. — И разбила!
Айвори повернулся и пошел прочь. И не возвращался два дня. На третий он все-таки решился проехать мимо Старой Ирии, и Стрекоза тут же сама сбежала ему навстречу по тропинке.
— Прости меня, Айвори! — сказала она, глядя на него снизу вверх своими странными глазами, похожими на золотистый топаз. — Не знаю, что на меня тогда и нашло. Я просто ужасно рассердилась! Не на тебя, конечно. Ты уж меня прости.
И он милостиво простил ее. Но больше никогда не пытался наводить на нее любовные чары.
«А скоро, — думал он теперь, — они мне и не понадобятся. Я буду иметь над ней полную власть! И я хорошо знаю, как эту власть обрести. Она сама отдаст ее мне прямо в руки. Ее сила и воля, конечно, невероятно велики, но, к счастью, она глупа, а я умен и хитер».
Берч как раз собирался отправить вниз, в Кембермаут, повозку с шестью бочками отличного фанийского вина десятилетней выдержки, которое заказал ему один тамошний виноторговец, и с удовольствием разрешил Айвори ехать с ними вместе в качестве дополнительной охраны, потому что вино было очень дорогое, а на дорогах все еще бесчинствовали разбойники, хотя молодой король Лебаннен довольно быстро наводил в Земноморье порядок. Так что Айвори покинул Уэстпул на большой крытой повозке, которую тащили четыре могучих тяжеловоза. Повозка медленно ползла вниз по дороге, и Айвори, сидя на краю, беззаботно болтал в воздухе ногами, когда вдруг — уже где-то возле Джакасского холма — из придорожной канавы поднялась одетая в лохмотья фигура, и оборванец попросил его подвезти.
— Что-то ты мне, парень, совсем не знаком, — с сомнением в голосе заявил возница, уже поднимая свой кнут, чтобы отогнать бродягу, но тут с другой стороны воза к ним подошел Айвори.
— Да ладно, старина, пусть едет с нами, — сказал молодой волшебник. — Он нам ничего плохого не сделает — я-то ведь тут.
— Ну так сам и следи за ним хорошенько, господин мой, — смирился возница.
— Ладно, — сказал Айвори и подмигнул Стрекозе, ибо то была, конечно, она, совершенно неузнаваемая, вся перепачканная грязью, в старой драной куртке и мужских штанах. На голове у нее красовалась жуткого вида шляпа, под которой она спрятала свои роскошные волосы. Стрекоза подмигивать ему в ответ не стала. Она старательно играла свою роль, даже когда они сидели рядышком, болтая ногами, на задке телеги и их отделяли от возницы шесть огромных бочек с вином. Погруженные в летнюю дремоту холмы и поля медленно проплывали и проплывали мимо. Айвори стало скучно, и он попытался было поддразнить свою спутницу, но она только головой покачала. Возможно, она все же немного опасалась их безумной затеи, но наверняка сказать что-либо о ее настроении было невозможно. Всю дорогу Стрекоза была погружена в это торжественное и тяжкое молчание, и Айвори думал, что если меж ними что и получится, то она наверняка ему быстро наскучит. Но сама эта мысль вдруг до такой степени его возбудила, что желание стало почти невыносимым. Он оглянулся, собираясь уже начать с нею соответствующий разговор, но как только он ее увидел, всякие «крамольные» мысли тут же испарились как бы сами собой, такой огромной и могучей она вдруг ему показалась.
На этой дороге им не попалось ни одной гостиницы, хотя она тянулась через весь западный край, некогда называвшийся Ирия. Когда солнце склонилось к западным равнинам, они остановились в самом простом крестьянском доме, где им смогли предложить сносную конюшню для лошадей, запирающийся сарай для повозки и сеновал в конюшне для путников. На сеновале было темно, душно. Никакого желания Айвори больше не испытывал, хотя девушка лежала от него на расстоянии вытянутой руки. Она так старательно весь день изображала мужчину, что даже его умудрилась наполовину убедить, что это так и есть. Возможно, ей в итоге и старого Привратника убедить удастся! — думал Айвори. И, улыбнувшись при этой мысли, заснул.
Они тащились и весь следующий день, два раза попали под грозовой дождь и к вечеру прибыли наконец в Кембермаут, процветающий портовый город, обнесенный стеной. Предоставив вознице самому выполнять поручение хозяина, они расстались с ним и отыскали подходящую гостиницу. Стрекоза помалкивала, глядя по сторонам с таким выражением лица, которое можно было воспринимать либо как страх, смешанный с восторгом, либо как сильнейшее неодобрение, вызванное обыкновенным невежеством.
— Очень милый маленький городок! — заметил Айвори. — И все-таки единственная настоящая столица в мире — это Хавнор!
Однако все его попытки разговорить ее оказались тщетными; она промолвила лишь:
— На Рок ведь не так часто корабли отправляются, верно? Ты как думаешь, много времени нам понадобится, чтобы отыскать подходящий корабль?
— Нет, быстро найдем, если у меня в руке посох волшебника будет, — ответил Айвори.
Она перестала смотреть по сторонам и некоторое время шла, опустив голову и погрузившись в глубокую задумчивость. Он украдкой наблюдал за нею. В движении она была просто прекрасна — смелая, грациозная, с гордой осанкой.
— Ты хочешь сказать, что они обязаны взять на борт любого волшебника? Но ведь ты же пока еще не волшебник.
— Это простая формальность. Я давно уже числюсь старшим колдуном, и нам позволено брать в руки посох, когда мы отправляемся куда-нибудь по делам нашего острова. А я именно этим сейчас и занимаюсь.
— Ты же МЕНЯ туда везешь!
— Я везу туда ЕЩЕ ОДНОГО УЧЕНИКА, — наставительно произнес он. — Причем весьма одаренного!
Больше Стрекоза вопросов не задавала. Она никогда с ним не спорила; это была одна из существенных ее добродетелей.
А вечером в гостинице, стоявшей у самого причала, она за ужином вдруг спросила с неожиданной застенчивостью:
— А что, я и правда такая одаренная?
— На мой взгляд, да, — честно ответил он.
Она задумалась — разговор с ней часто получался каким-то замедленным — и наконец, точно очнувшись, сказала:
— Роза всегда говорила, что во мне есть какая-то сила. Только она не знала, какая именно. И я… я понимаю, что это так и есть, но тоже не знаю, какова она, эта моя сила.
— Вот ты и едешь на Рок, чтобы это узнать, — сказал Айвори, поднимая стакан с вином. Она чуть помедлила, потом тоже подняла стакан и улыбнулась ему. И улыбка эта была такой нежной и счастливой, что у него вдруг вырвалось: — И пусть то, что ты там обретешь, полностью соответствует всем твоим надеждам!
— Если эта моя мечта сбудется, то только благодаря тебе, — отвечала она. И в этот миг он искренне любил ее и готов был отречься ото всех своих дурных мыслей и воспринимать эту девушку только как товарища по дерзкому и опасному приключению.
Им пришлось поселиться в одной комнате, ибо гостиница была переполнена, но в этот вечер мысли Айвори были исключительно целомудренны, он даже немного посмеивался над собой за это.
Наутро он сорвал в саду при гостинице соломинку и с помощью заклинания придал ей форму отличного посоха с медным набалдашником, точно соответствовавшего ему высотой.
— А из какого он дерева? — спросила Стрекоза, совершенно восхищенная этим превращением, а когда Айвори со смехом ответил ей: «Из розмарина!» — тоже рассмеялась.
Они шли от причала к причалу, спрашивая, не идет ли на юг какое-нибудь судно, которое могло бы взять на борт волшебника и его ученика и довезти их до Острова Мудрых, и довольно скоро они такой корабль отыскали. Это было тяжелое грузовое судно, направлявшееся в Уотхорт; хозяин судна согласился отвезти волшебника задаром, а его ученика — за полцены. Но даже и полцены составляли почти половину «сырных» денег Стрекозы. Зато им была предоставлена каюта — настоящая роскошь на таком грузовом судне, как эта «Морская выдра».
Пока они вели переговоры с хозяином судна, на причал выехала знакомая повозка и принялась выгружать шесть не менее знакомых огромных бочек с вином.
— Это наши, из Ирии, — заметил Айвори, и владелец судна понимающе кивнул и сказал:
— Мне их в город Хорт велено отвезти.
— Из Ирии… — пробормотала Стрекоза и оглянулась, словно прощаясь с остающейся за бортом землей. Это был единственный раз, когда она оглянулась назад.
Служивший на этом судне заклинатель ветров явился перед самым отплытием; это был никакой не волшебник, а самый обыкновенный человек, исхлестанный морскими ветрами и в потрепанном морском плаще с капюшоном. Здороваясь с ним, Айвори хвастливо продемонстрировал свой посох, и колдун, смерив его взглядом, заметил:
— Ну что ж, погоду на судне должен заклинать кто-то один. Если это буду не я, то я пошел.
— Да нет, я здесь просто пассажир, господин мой, — поспешил успокоить его Айвори. Я с радостью предоставлю тебе возможность управляться с ветрами.
Колдун быстро глянул на Стрекозу, которая стояла, выпрямившись и словно одеревенев, и сперва ничего не ответил, но потом все же буркнул:
— Ладно, — и это было последнее слово, которое Айвори от него услышал.
В пути, однако, колдун не раз разговаривал со Стрекозой, что несколько тревожило Айвори. Ее невежество и доверчивость могли сослужить им обоим дурную службу. Когда же он спросил девушку, о чем это они разговаривают, она ответила спокойно:
— О том, что с нами будет.
Он, онемев от изумления, вопросительно посмотрел на нее.
— Со всеми нами. С жителями Уэя и Фелкуэя, Хавнора и Уотхорта, а также Рока. Со всеми жителями всех островов, — пояснила Стрекоза. — Он говорит, что прошлой осенью перед своей коронацией король Лебаннен специально послал на остров Гонт за старым Верховным Магом, желая, чтобы именно он совершил этот обряд, но Маг не явился. И пришлось королю самому себя короновать. И многие теперь утверждают, что все это было не по правилам и что трон Лебаннен занимает тоже не по праву. А другие говорят, что наш король теперь и есть новый Верховный Маг. Но ведь король Лебаннен — не волшебник, он всего лишь король, верно? А еще говорят, что скоро вновь наступят Темные Времена, и в мире будет править зло, а не добро и справедливость, и что волшебство опять станут использовать в дурных целях.
Айвори, помолчав, спросил:
— И что же, он сам до всего этого додумался, этот старый заклинатель ветров?
— Наверное, так многие думают сейчас, — ответила Стрекоза со свойственным ей мрачноватым простодушием.
Свое дело, впрочем, этот заклинатель ветров знал отлично, и «Морская выдра» стрелой летела на юг. Несколько раз они попадали в мимолетные летние шквалы, и море часто бывало неспокойным, но ни разу не случилось настоящего шторма или опасной бури. Они причаливали, оставляя один груз и взяв на борт новый, в самых различных портах — на северном побережье острова О, на острове Илиен, на островах Ленг и Камери, а потом в порту О, что находится на самом юге одноименного острова, — и наконец из порта О повернули на запад, чтобы отвезти пассажиров на Рок. И Айвори, глядя на запад, чувствовал холодок под ложечкой, ибо слишком хорошо понимал, КАК охраняется остров Рок и как трудно бывает порой попасть туда. Он знал, что ни сам он, ни этот заклинатель ветров ничего не смогут сделать, чтобы отвернуть волшебный ветер Рока, если его направят им навстречу. И тогда Стрекоза, конечно же, спросит: почему этот ветер не дает судну подойти к острову, если на нем плывет ученик Школы?
Айвори был даже рад, видя, что и старому колдуну тоже не по себе и тот постоянно начеку — то стоит у руля вместе с рулевым, то торчит на верхушке мачты вместе с впередсмотрящим, то бросается спускать паруса при малейшем намеке на западный ветер. Однако ветер, к счастью, постоянно дул с севера. Этот ветер часто приносил проливные дожди, грозы с громом и молнией, и Айвори уходил в каюту, а Стрекоза оставалась на палубе. Она боялась моря, она и прежде не раз говорила ему об этом. Плавать она не умела и как-то раз сказала задумчиво:
— Должно быть, утонуть — это просто ужасно! Когда не можешь вздохнуть… — и вся передернулась при одной лишь мысли об этом. Это был единственный случай, когда она обозначила свой страх перед чем-то. Впрочем, низенькую тесную каюту она тоже не любила и старалась как можно больше находиться на палубе, а в теплые ночи даже спала там. Айвори даже не пытался уговорить ее ночевать в каюте. Он давно уже понял, что заставить ее что-либо сделать совершенно невозможно, да и бессмысленно, ибо все равно ни к чему хорошему это не приведет.
Чтобы ее заполучить, он должен стать ее ХОЗЯИНОМ. И он станет им непременно, если только они сумеют добраться до Рока!
Когда Айвори снова поднялся на палубу, он увидел, что небо после очередного дождя почти совсем расчистилось, а на западном краю неба облака совершенно рассеялись, так что на фоне золотистого закатного неба отчетливо была видна округлая темная вершина Холма Рок.
Айвори смотрел на нее с какой-то странной смесью ненависти и восхищения.
— А это, парень, знаменитый Холм Рок, — сказал старый колдун Стрекозе, которая вместе с ним стояла у поручней. — Сейчас мы как раз входим в гавань города Твила. Здесь никогда никаких ветров не бывает, кроме тех, какие тамошние Мастера сами захотят.
Когда они наконец бросили якорь, уже совсем стемнело, и Айвори сказал хозяину судна:
— Мы, пожалуй, сегодня здесь переночуем.
Стрекоза тем временем сидела в их крошечной каюте, терпеливо его дожидаясь; вид у нее был торжественный, глаза блестели от возбуждения.
— На берег сойдем завтра утром, — сообщил он ей, и она только кивнула, как всегда соглашаясь с его решением.
А потом вдруг спросила:
— Я выгляжу как надо?
Он сел на низенькую койку и внимательно посмотрел на нее, сидевшую напротив, на точно такой же низенькой койке. Они сидели чуть наискосок, потому что между койками не хватало места для колен. Еще в порту О Стрекоза, по его совету, купила себе приличную рубашку и штаны, чтобы выглядеть достойным кандидатом в ученики Школы. Лицо у нее загорело на морском ветру и наконец-то было отмыто дочиста. Свои густые волосы она заплела в косу, а косу скрутила в тугой пучок и спрятала под шапку. Руки она тоже отмыла дочиста, и теперь они спокойно лежали у нее на коленях — сильные, с красивыми длинными пальцами, почти мужские руки.
— На мужчину ты, в общем, совсем не похожа, — сказал он ей. На лице Стрекозы отразилось отчаяние. — Но это только в моих глазах, — поспешил он ее успокоить. — Потому что в моих глазах ты никогда не будешь похожа на мужчину! Но не бойся. Другим ты, конечно же, покажешься настоящим мужчиной.
Она кивнула, но в глазах ее стыла тревога.
— Первое испытание самое главное, Стрекоза, — сказал Айвори. Каждую ночь, лежа в одиночестве в каюте, он репетировал этот разговор. — Если ты его пройдешь, сумеешь миновать ту дверь, то проникнуть в Большой Дом не составит труда.
— Я и сама все время об этом думаю, — призналась она и торопливо прибавила: — А нельзя ли мне просто сказать им, кто я? Ты ведь будешь рядом и сможешь за меня поручиться, сказать… что, хоть я и женщина, у меня есть некоторые способности… А уж я бы поклялась соблюдать любые обеты! Я бы и целомудрие соблюдала, и жила бы отдельно от других, если надо…
Но он только головой покачал:
— Нет, нет, нет! Это совершенно безнадежно, бессмысленно и, наконец, смертельно опасно!
— Даже если ты…
— Даже если я приведу тысячу доводов в твою защиту! Они и слушать меня не станут. Устав Рока запрещает обучать женщин каким бы то ни было магическим искусствам, а также — Языку Созидания. Так было всегда. Нет, слушать меня они не станут. А значит, нужно им показать, что мы оба чего-то стоим! И мы им покажем! Мы их проучим! Смелее, Стрекоза. Ты не должна падать духом, ты не должна думать: «Ой, а может, если я попрошу их меня впустить, они мне не откажут?» Откажут. Откажут непременно! А обнаружив, что ты, женщина, хотела их обмануть, они тебя еще и накажут. И меня заодно. — И он произнес про себя: «Минуй нас!»
Стрекоза долго смотрела на него своими непонятными глазами и наконец спросила:
— Что я должна сделать?
— Ты доверяешь мне, Стрекоза?
— Да.
— Будешь ли ты доверять мне полностью и дальше? Знай, что тот риск, на который я иду ради тебя, куда больше того риска, которому подвергаешься ты?
— Я знаю. Я буду доверять тебе.
— Тогда ты должна сказать мне то слово, которое произнесешь Мастеру Привратнику.
Она удивленно уставилась на него.
— Но я думала, это ты сперва назовешь мне… этот пароль?
— Этим паролем служит Истинное имя того, кто приходит к дверям Школы.
Он дал ей время, чтобы осознать услышанное, а потом продолжал тихо и вкрадчиво:
— А для того, чтобы на тебя подействовало мое заклятие подобия, чтобы Мастера Рока увидели в тебе только мужчину и ничто другое — чтобы сделать все как полагается, я тоже должен знать твое Имя. — Он снова помолчал. Пока он говорил, ему казалось, что говорит он сущую правду, и голос его звучал мягко и задушевно: — Я давным-давно мог бы узнать его, — сказал он. — Но я предпочел не пользоваться магическим искусством. Я хотел, чтобы ты, испытывая ко мне полное доверие, сама назвала бы свое Истинное имя, когда я тебя об этом спрошу.
Стрекоза молчала, уставившись на свои сомкнутые руки, спокойно лежавшие на коленях. В слабом красноватом свете висевшего в каюте фонаря ее длинные ресницы отбрасывали на щеки изящные зубчатые тени. Через некоторое время она вскинула глаза и посмотрела Айвори прямо в лицо.
— Мое имя Ириан, — просто сказала она.
Он молча улыбнулся. Но она на его улыбку не ответила.
На самом деле Айвори совершенно растерялся. Если бы он знал, что это будет так легко, то давно мог бы уже узнать ее подлинное имя и обрести над нею полную власть. Он мог бы заставить ее делать все, чего хочет он, еще много-много дней назад, и для этого нужно было всего лишь нагородить ей с три короба насчет этого побега, не отказываясь ни от своего жалованья у Берча, ни от своей ненадежной респектабельности, не пускаясь ни в какие путешествия и, вообще, не делая ни шагу в направлении острова Рок! Ведь не было на свете таких чар, с помощью которых он мог бы настолько изменить ее облик, чтобы обмануть Мастера Привратника — хотя бы на мгновение! И все его намерения унизить Мастеров так же, как они унизили его, выеденного яйца не стоят. Одержимый одним желанием — обмануть эту девушку, — он угодил в ловушку, которую сам же и приготовил. Он с горечью признавал теперь, что все это время верил в собственную ложь и в итоге окончательно запутался в сетях, которые сам столь искусно сплел. Однажды на Роке он уже поставил себя в глупое положение, неужели и теперь он хочет повторить то же самое? В нем кипел отчаянный гнев на самого себя. Ничем хорошим эта затея не кончится, в этом он был теперь уверен.
— В чем дело? — спросила Стрекоза. Нежность, которую он услышал в ее глубоком, чуть хрипловатом голосе, совершенно лишила его мужества, и он закрыл лицо руками, пытаясь удержать постыдные слезы.
Она положила руку ему на колено. Впервые за все это время она к нему прикоснулась! И он с трудом сдерживался, чтобы не сбросить со своего колена эту теплую тяжелую руку, прикосновения которой так жаждал, зря потратив столько времени на это ожидание.
Ему захотелось сделать ей больно, одним ударом выбить из нее эту ужасную, невыносимую доброту, но когда он наконец снова обрел дар речи, то сказал лишь:
— Все это время я хотел лишь одного: стать твоим любовником.
— Правда?
— А ты что, думала, я один из тамошних евнухов? Думала, что я позволил им меня кастрировать с помощью всяких заклинаний, чтобы блюсти святую чистоту? Как ты думаешь, почему у меня нет волшебного посоха? Почему я не продолжаю занятия в Школе? Неужели ты верила всему, что я тебе говорил?
— Да, — сказала она. — Верила. Мне очень жаль. — Руку с его колена она почему-то так и не убрала. И, помолчав, прибавила: — Если хочешь, мы можем лечь в постель.
Он вздрогнул, выпрямился и некоторое время сидел совершенно неподвижно.
— Кто же ты все-таки такая? — промолвил он наконец.
— Не знаю. Я ведь именно поэтому и хотела попасть на Рок. Чтобы выяснить.
Он стряхнул ее руку с колена и, сгорбившись, встал; они оба не могли выпрямиться во весь рост в этой низенькой каюте. Он то и дело сжимал кулаки, тщетно пытаясь успокоиться, и старался держаться как можно дальше от нее, даже повернулся к ней спиной.
— Ты там ничего не узнаешь! — снова с яростью заговорил он. — Все это сплошная ложь, обман. Старики просто играют, забавляются с волшебными словами. Когда-то я в их игры играть не пожелал и ушел. А знаешь, что я сделал, когда еще в Школе учился? — Он повернулся к ней, оскалив рот в торжествующей усмешке. — Я завел себе девушку! Обыкновенную девушку из города. И она приходила ко мне. В мою келью. В мою маленькую монаше-скую келью с каменными стенами, где я должен был соблюдать обет целомудрия! В этой комнатке было окошко, выходившее на неприметную улицу на задах Школы. И никаких заклятий не требовалось. Да там заклятие и применить-то невозможно, слишком много вокруг всякой магии. Эта девушка хотела приходить ко мне и приходила, а я выбрасывал из окошка веревочную лестницу, и она по ней взбиралась. И мы с ней как раз занимались любовью, когда в келью вошли наши «мудрые старцы»! Ну я им тогда показал! И, между прочим, если бы мне удалось протащить в Школу тебя, я бы снова им показал, на что способен! Теперь наступила моя очередь преподать им урок!
— Ну что ж, — сказала Стрекоза. — Но я все-таки попробую.
Он удивленно на нее уставился.
— Ведь причины у меня совсем иные, чем у тебя, — продолжала она. — И кроме того, мы проделали такой долгий путь… И ты узнал мое настоящее имя.
Это была правда. Он знал ее Истинное имя: Ириан. Оно было похоже на пылающие угли и, точно угли, жгло ему душу. И разум его не в состоянии был его постигнуть. Ему не хватало знаний, чтобы воспользоваться своим теперешним преимуществом. Отчего-то язык отказывался ему повиноваться, когда он пытался произнести это имя…
Она смотрела на него; резковатые черты ее крупного лица были смягчены тусклым светом фонаря.
— Если ты притащил меня сюда только для того, чтобы заняться со мной любовью, Айвори, — сказала она, — то этим мы можем заняться прямо сейчас. Если ты сам, конечно, еще этого хочешь.
Совершенно онемев от изумления, он лишь отрицательно покачал головой. И понадобилось немало времени, прежде чем он наконец смог рассмеяться и пробормотать:
— Мне кажется, что… эту возможность… я давно упустил…
Она смотрела на него без сожаления, без упрека, без стыда.
— Ириан, — произнес он вслух, и теперь ее имя скользнуло с его пересохших губ легко, сладкое и прохладное, точно родниковая вода. — Слушай, Ириан: вот что тебе нужно сделать, чтобы проникнуть в Большой Дом…
Глава 3
Азвер
Айвори оставил Стрекозу на углу улицы, обычной узенькой и довольно грязной улицы, которая, извиваясь между безликими стенами, вела прямо к неприметной деревянной двери. Он воспользовался заклятием подобия, и она сейчас выглядела как настоящий мужчина, хотя мужчиной себя совершенно не чувствовала. Они с Айвори обнялись на прощанье, ведь, в конце концов, они так долго были друзьями и сообщниками, и он так много для нее сделал.
— Смелей! — сказал он ей и слегка ее подтолкнул. И она, не оглядываясь, пошла вверх по улочке и остановилась перед той дверцей. А когда все-таки оглянулась, его уже не было.
Она постучалась.
И через некоторое время услышала, как в замке поворачивается ключ. Дверь открылась. На пороге стоял не молодой, но и не очень старый мужчина.
— Чем могу служить? — спросил он без улыбки, но голос у него звучал ласково.
— Можно мне войти в Большой Дом, господин мой?
— А ты знаешь путь туда? — Его миндалевидные глаза смотрели очень внимательно, и все же казалось, что он смотрит на нее как бы из дали лет, сквозь дымку времен.
— Да, господин мой. Вот через эту дверь.
— А ты знаешь, чье имя тебе нужно назвать, прежде чем я впущу тебя?
— Да, господин мой. Мое собственное. Мое имя Ириан.
— Правда?
Этот вопрос поставил ее в тупик. Некоторое время она молчала, потом нерешительно промолвила:
— Но именно это имя дала мне ведьма Роза! Она из нашей деревни и дала мне это имя весной в водах реки, что течет под холмом Ирия. Это на острове Уэй. — И это была чистая правда.
Привратник долго смотрел на нее; ей показалось — целую вечность.
— Значит, таково и есть твое имя… — задумчиво проговорил он. — Но, возможно, не все твое имя целиком. Я думаю, у тебя есть еще одно, а?
— Не знаю, господин мой. Мне оно не известно.
И снова повисло затяжное молчание. Потом Ириан робко спросила:
— Может быть, мне удастся узнать его здесь, господин мой?
И Привратник слегка склонил голову в знак согласия. Едва заметная улыбка обозначила полукружия морщин у него на щеках вокруг рта, и он отступил в сторону, пропуская ее.
— Входи же, дочь моя.
И она перешагнула порог Большого Дома.
И тут же чары, наложенные на нее Айвори, исчезли, разорвались, как тонкая паутина, и она снова стала самой собой.
Ириан последовала за Привратником по выложенной каменными плитами дорожке и только в самом ее конце вспомнила, что рассказывал ей Айвори, и оглянулась, успев увидеть, как солнечный свет просвечивает сквозь Дерево с тысячью листьями, вырезанное на волшебной дверце и заключенное в желтоватую костяную раму.
Молодой человек в сером плаще, спешивший им навстречу по дорожке, внезапно остановился и, подойдя к ним вплотную, изумленно уставился на Ириан, потом быстро кивнул в знак приветствия и пошел дальше. Она оглянулась и увидела, что он тоже оглянулся и смотрит на нее.
Какой-то шар, наполненный зеленоватым пламенем, быстро плыл над дорожкой им навстречу примерно на уровне глаз. Шар явно следовал за этим молодым человеком. Привратник махнул рукой, и шар облетел его стороной, а Ириан в ужасе отшатнулась и присела, но все равно успела почувствовать, как этот холодный зеленый огонь затрещал у нее в волосах. Мастер Привратник оглянулся на нее, и улыбка его стала шире. Он ничего ей не сказал, но она тем не менее отчего-то была уверена, что в случае чего он о ней непременно позаботится. Она решительно выпрямилась и снова пошла за ним.
Наконец Привратник остановился перед какой-то дубовой дверью. Стучаться он не стал, а просто начертал на двери какой-то знак набалдашником своего посоха. Наверное, это магическая Руна, подумала Ириан. Посох у него был очень легкий, из какого-то странного сероватого дерева. Дверь отворилась, и звучный голос из-за нее пригласил:
— Входи!
— Подожди здесь немного, пожалуйста, Ириан, — сказал Привратник и вошел в комнату, дверь, впрочем, оставив распахнутой настежь, так что Ириан были хорошо видны книжные полки, множество книг и стол, на которой также грудой были навалены книги, стояли чернильницы, лежали исписанные листы бумаги. За столом сидели два или три мальчика и седовласый плотный человек, к которому и подошел Привратник. Она увидела, как изменилось выражение лица этого седовласого, как его изумленный взгляд на мгновение остановился на ней, и он стал тихо и настойчиво расспрашивать Привратника о чем-то.
Потом оба подошли к ней.
— Это Мастер Метаморфоз с острова Рок; а это Ириан с острова Уэй, — представил их друг другу Привратник.
Метаморфоз буквально не сводил с девушки глаз, хотя для этого ему пришлось задрать голову — Ириан была гораздо выше него ростом. Потом он некоторое время вопросительно смотрел на Привратника и наконец промолвил, снова уставившись на нее:
— Прости нас, молодая госпожа, что мы будем обсуждать тебя в твоем же присутствии, но мы вынуждены это делать. — И он повернулся к Привратнику: — Ты и сам знаешь, я бы никогда не поставил под сомнение твое решение, но Устав говорит ясно, а потому я вынужден спросить: что заставило тебя нарушить Устав и впустить сюда эту женщину?
— Она попросила об этом, — отвечал Привратник.
— Но ведь… — Метаморфоз не закончил фразу.
— Когда, скажи, в последний раз женщина просила впустить ее в Большой Дом?
— Но всем женщинам известно, что Устав запрещает им входить сюда!
— Ты это знала, Ириан? — спросил Привратник, и она честно ответила:
— Да, господин мой.
— И какая же необходимость привела тебя сюда? — спросил ее Метаморфоз сурово, однако с нескрываемым любопытством.
— Я хочу здесь учиться. Мастер Айвори сказал, что я вполне могу сойти за мужчину. Хотя я считала, что следует сразу сказать, кто я… Но я буду точно так же, как и мужчины, хранить обет безбрачия, господин мой!
Две длинные полукруглые морщины опять появились на щеках Мастера Привратника; они как бы замыкали другое полукружие — полукружие улыбки, которая медленно расплывалась у него на губах. Лицо Метаморфоза оставалось по-прежнему суровым, однако и он мигнул от неожиданности, услышав этот бесхитростный ответ, потом подумал немного и сказал:
— Я уверен… да… Это определенно было бы куда лучше. А о каком это Мастере Айвори ты говоришь?
— Айвори, наш бывший ученик, — сказал Привратник. — Он из порта Хавнор. Три года назад я впустил его сюда, а в прошлом году выпустил. Ты, может, даже помнишь…
— Ах, Айвори! Тот парень, что учился у Ловкой Руки? Так он тоже здесь? — сердито спросил Метаморфоз, обращаясь к Ириан. Она выпрямилась и молчала, точно воды в рот набрала.
— Здесь, но не в Школе, — с улыбкой ответил за нее Привратник.
— Так он обманул тебя, милая моя! Обвел вокруг пальца, да и нас пытался провести! — воскликнул Метаморфоз.
— Нет, он просто помог мне попасть сюда. И объяснил, что нужно сказать Привратнику, — сказала Ириан. — И я здесь не для того, чтобы кого-то обманывать! Мне просто необходимо кое-что узнать, а это я могу сделать только здесь.
— Я и раньше часто удивлялся, почему я впустил этого мальчишку, этого Айвори, — задумчиво промолвил Привратник. — Теперь я начинаю понимать, почему…
Услышав эти слова, Метаморфоз как-то странно посмотрел на него и довольно мрачным тоном спросил:
— Слушай, что у тебя на уме?
— Мне кажется, Ириан с острова Уэй явилась к нам, чтобы узнать не только то, что ей знать действительно необходимо, но также и для того, чтобы мы узнали то, что нам знать необходимо. — Тон у Привратника тоже почему-то стал теперь мрачным и торжественным; и он больше не улыбался. — И, по-моему, это следовало бы хорошенько обсудить всем нам, Девятерым.
Метаморфоз слушал его с видом глубочайшего изумления, но ни одного вопроса не задал и сказал лишь:
— Но только без учеников.
Привратник согласно кивнул.
— Но девушка могла бы остановиться и в городе! — Метаморфоз явно испытывал некоторое облегчение и снова стал наступать.
— А мы будем обсуждать ее судьбу у нее за спиной? — спросил Привратник.
— Неужели ты хочешь привести ее в Зал Совета? — Метаморфоз был потрясен.
— Между прочим, Верховный Маг приводил туда юного Аррена.
— Но ведь… Но ведь Аррен — это король Лебаннен!
— А кто такая Ириан?
Метаморфоз некоторое время молчал, а потом промолвил, тихо и с безусловным уважением:
— Друг мой, скажи, что именно ты хочешь узнать или понять? И кто она такая, что ты так просишь за нее?
— А кто мы такие, — ответил ему Привратник, — чтобы отказывать ей, не зная даже, кто такая она?
«Какая-то женщина», — сказал Мастер Заклинатель.
Ириан прождала несколько часов в комнатке у Мастера Привратника; комнатка была низенькая, но светлая и почти пустая. У окна было устроено удобное сиденье, а само окно с частым переплетом выходило на огороды Большого Дома — очень красивые, ухоженные огороды с длинными грядами, на которых росли различные овощи, зелень и травы; дальше виднелись ягодные кустарники, окруженными круговыми подпорками, а еще дальше — фруктовые деревья. Ириан видела, как в огород вышли трое — очень смуглый мужчина плотного сложения и двое мальчиков — и принялись пропалывать одну из гряд с овощами. У нее даже на душе полегчало, пока она наблюдала за их аккуратной и сосредоточенной работой. Жаль, что она не может помочь им! Это ожидание и странная незнакомая обстановка действовали на нее подавляюще. Один раз к ней зашел Привратник и принес ей кувшин воды и тарелку с холодным мясом, хлебом и мелкими луковицами, и она поела, потому что он велел ей поесть, но с трудом заставляла себя жевать и глотать. Огородники ушли, и теперь из окна смотреть стало не на что, разве что на кочаны капусты да на шнырявших по огороду воробьев. Иногда высоко в небесах она замечала парящего ястреба да слышала, как ветерок мягко шелестит в кронах высоких деревьев, росших на некотором отдалении, за огородом и садом.
Наконец Привратник вернулся и сказал:
— Идем, Ириан, сейчас ты познакомишься с Мастерами Рока. — И сердце у нее тут же помчалось вскачь. Они долго шли по лабиринту коридоров и наконец оказались в помещении с потемневшими старинными стенами, в одной из которых был целый ряд высоких островерхих окон. В комнате стояли несколько мужчин, и, когда Ириан вошла в комнату, все они обернулись и дружно уставились на нее.
— Это Ириан с острова Уэй, господа мои! — провозгласил Привратник. Волшебники хранили молчание. Он жестом пригласил ее пройти в комнату и сказал: — Значит, так, с Мастером Метаморфозом ты уже знакома, а это… — и он назвал ей имена всех остальных, однако она не сумела ни понять, ни запомнить все эти имена, точнее прозвища, обозначавшие некие особые умения; разве что Мастер Травник оказался тем самым полным человеком, которого она видела в огороде и сочла обыкновенным садовником. И еще она запомнила, что самый молодой из Мастеров, высокий человек с очень красивым лицом, которое, казалось, было высечено из темного камня, — это Мастер Заклинатель. Это как раз он и сказал, когда Привратник кончил представлять ей своих собратьев: «Какая-то женщина!»
И Мастер Привратник утвердительно кивнул, глядя, как всегда, ласково.
— И ты только из-за нее собрал всех Девятерых?
— Только из-за нее, — снова подтвердил Привратник.
— Драконы давно уже летают над Внутренним морем, на острове Рок до сих пор нет Верховного Мага, а на троне в Хавноре — по-настоящему коронованного короля! У нас хватает и настоящей работы, — голос у этого Заклинателя тоже был, как камень: тяжелый и холодный. — Когда мы все это будем делать?
Привратник промолчал, и повисла напряженная тишина. Ее нарушил хрупкий ясноглазый волшебник в красной рубахе под серым плащом:
— Ты привел эту женщину в Школу в качестве ученицы, Мастер Привратник?
— А если и так, то всем вам предстоит либо одобрить мой поступок, либо осудить его, — ответил тот.
— Ну а все же? — снова спросил человек в красной рубахе и слегка улыбнулся.
— Слушай, Мастер Ловкая Рука, — сказал ему Привратник, — эта девушка сама попросилась войти; она хочет здесь учиться, и я не вижу причины ей отказывать.
— Да для этого сколько угодно причин! — воскликнул Заклинатель.
Кто-то из волшебников глубоким чистым голосом поддержал его:
— Это противоречит даже не какому-то нашему решению, а Уставу острова Рок, которому все мы поклялись следовать!
— Сомневаюсь, чтобы Мастер Привратник так легко решился нарушить Устав, не имея на то веских оснований, — сказал кто-то, кого Ириан до сих пор не замечала, хотя это был крупный мужчина, седоволосый и ужасно худой, даже какой-то костлявый, с лицом, словно высеченным из серого гранита. В отличие от остальных, он посмотрел прямо на нее и представился: — Меня зовут Курремкармеррук. Я здешний Мастер Ономатет и довольно хорошо знаком с именами, включая мое собственное. Кто нарек тебя таким именем, Ириан?
— Ведьма Роза из нашей деревни, господин мой, — отвечала она, держась очень прямо, хотя голос ее от волнения прозвучал пискляво и едва слышно.
— Как ты думаешь, не ошиблась ли она в выборе имени? — спросил у Ономатета Мастер Привратник.
Курремкармеррук покачал головой:
— Нет. Однако…
Мастер Заклинатель, все это время стоявший к ним спиной и изучавший камин, в котором не было огня, вдруг резко обернулся.
— Те имена, которыми ведьмы нарекают друг друга, нас здесь совершенно не должны интересовать! — сказал он. — Если у тебя есть какой-то интерес к этой женщине, Привратник, то его следует удовлетворить ЗА этими стенами, ЗА той дверью, которую ты поклялся охранять. Для нее нет здесь места и никогда не будет! Женщина способна только принести смуту и разлад и еще больше ослабить нас. Я более не стану говорить в ее присутствии. Единственным ответом на сознательно сделанную ошибку является молчание.
— Молчания, по-моему, недостаточно, господин мой, — возразил еще один волшебник, до сих пор рта не открывавший. С точки зрения Ириан, выглядел он очень странно: бледная, чуть розоватая кожа, длинные волосы, то ли светлые, то ли седые, и узкие глаза цвета льда. И речь его тоже была немного странной: какой-то скованной и как будто не совсем правильной. — Молчание в данном случае — это ответ на все сразу и ни на что конкретно, — прибавил он.
Заклинатель поднял свое благородное темное лицо и посмотрел через всю комнату на белокожего волшебника, но ничего не ответил. Не говоря ни слова, не сделав ни единого жеста, он повернулся и вышел из комнаты. Когда он медленно проходил мимо Ириан, та вдруг вздрогнула и отшатнулась: ей показалось, что перед ней разверзлась могила и оттуда пахнуло зимним холодом, сыростью, тьмой и смертью. У нее перехватило дыхание. Когда ей наконец удалось снова нормально вздохнуть, она заметила, что Заклинатель и тот бледный белокожий человек внимательно за ней наблюдают.
А тот волшебник, голос которого был похож на звон большого колокола, глянув на Ириан, заговорил с ней строго, но вполне доброжелательно:
— Насколько я понимаю, тот человек, что привез тебя сюда, хотел причинить нам зло, но сама ты этого не хотела. И все же, находясь здесь, Ириан, ты причиняешь зло — и нам, и самой себе. Все, что делается не по правилам и оказывается не там, где ему положено, способствует свершению зла. Даже невольно пропетая нота, как бы правильно она ни была пропета, портит мелодию, если не является ее частью. Женщинам полагается учиться у женщин. Ведьмы постигают свое мастерство, учась у других ведьм и обмениваясь знаниями с колдунами. Но не с волшебниками! Мы учим своих учеников такому языку, который не предназначен для женских уст. Я знаю, юные души часто восстают против здешних правил, называя их несправедливыми, навязанными, однако это Истинные законы Рока, и они основаны не на том, чего мы хотим, а на том, что есть на самом деле. Справедливость и несправедливость, глупость и мудрость — все на свете должно подчиняться этим законам, иначе жизнь твоя будет потрачена зря и тебя ждет печальный конец.
Метаморфоз и худой остролицый старичок, стоявший с ним рядом, согласно кивали. А Мастер Ловкая Рука сказал девушке:
— Ты прости меня, Ириан. Айвори был моим учеником. И если я плохо учил его, то сделал еще хуже, отослав его прочь. Я думал, что в нем ничего особенного нет и поэтому он безвреден, но я ошибся. Он солгал тебе и обманом заставил тебя пробраться сюда. Но тебе самой нечего стыдиться. Вся вина лежит на нем и на мне.
— А я и не стыжусь, — сказала Ириан. И посмотрела на них. Она чувствовала, что должна поблагодарить их всех за любезность, но не находила нужных слов, да они и не желали срываться с ее губ. Поэтому она сдержанно поклонилась каждому, повернулась и быстро пошла прочь.
Привратник нагнал ее, когда она в растерянности остановилась у пересечения нескольких коридоров, не зная, который выбрать.
— Вот сюда, — подсказал он, стараясь шагать с нею рядом и не отставать. Через некоторое время он снова сказал: — А теперь сюда, — и так они довольно скоро добрались до входной двери. Но эта дверь была вовсе не из рога и не из слоновой кости, а из сплошного дуба, не украшенная никакой резьбой, черная, массивная, с железной задвижкой, несколько истончившейся от времени. — Это садовая дверь, — пояснил Мастер Привратник, отодвигая задвижку. — Или «Дверь Медры», как ее обычно здесь называют. Я охраняю обе двери. — Он распахнул дверь, и небо за нею оказалось таким ярким, что у Ириан потемнело в глазах. Когда же она немного привыкла к солнечному свету, то увидела тропинку, ведущую от двери через огороды, сады и поля куда-то вдаль, к тем высоким деревьям, шум которых она слышала в привратницкой. Округлая вершина Холма Рок виднелась теперь значительно правее. А у самого начала тропы, почти у двери, стоял, словно поджидая их, тот самый волшебник с бесцветными волосами и узкими светлыми глазами.
— А, это ты, Мастер Путеводитель, — сказал Привратник, совершенно не удивленный его появлением.
— Куда ты отсылаешь эту даму? — спросил Мастер Путеводитель, по-прежнему как-то странно произнося слова.
— Никуда, — сказал Привратник. — Я выпускаю ее. Как впустил, так и выпускаю — по ее собственному желанию.
— Хочешь пойти со мной? — спросил Путеводитель у Ириан.
Она посмотрела на него, потом на Привратника и ничего не ответила.
— Я живу не в Большом Доме. Я вообще ни в каком доме не живу, — продолжал Путеводитель. — Я живу вон там. В Роще. Ага!.. — воскликнул он вдруг, резко оборачиваясь. Тот седовласый волшебник со странным именем Курремкармеррук, он же Мастер Ономатет, стоял прямо перед ними на той же тропинке. Однако его там точно не было, пока Путеводитель не сказал свое «ага», и Ириан, совершенно ошалев, переводила взгляд с одного на другого.
— Это только мой образ, мой посланник, если угодно, имеющий мое обличье, — пояснил ей старик. — Я тоже не живу в Большом Доме. Я живу довольно далеко… — и он махнул рукой куда-то на север. — Но ты можешь, если захочешь, посетить меня, когда решишь все свои вопросы с Мастером Путеводителем. Мне бы хотелось побольше узнать о твоем Истинном имени. — Он кивнул двум другим волшебникам и исчез. На том месте, где он только что стоял, тяжело, с монотонным гудением кружил мохнатый шмель.
Ириан долго молчала, глядя в землю, потом откашлялась и сказала, не поднимая глаз:
— А это правда, что я приношу вред, находясь здесь?
— Не знаю, — сказал Мастер Привратник.
— В Роще ты в любом случае никакого вреда никому принести не сможешь, — сказал Мастер Путеводитель. — Пойдем же со мной, не бойся. Там есть один старый дом, можно сказать, хижина. Очень ветхий домишко и грязноватый, но, я думаю, это для тебя не так уж и важно, верно? Поживи там немного. И, может быть, кое-что сама увидишь и узнаешь. — И Мастер Путеводитель двинулся прямо по тропинке между грядами с кудрявой петрушкой и густо разросшимися бобами. Ириан посмотрела на Привратника: тот слегка ей улыбнулся, и она, решившись, последовала за бледнолицым волшебником.
Они прошли примерно с полмили. Справа от них высилась громада Холма Рок; его округлая вершина была освещена закатным солнцем. А за спиной у них горбатились островерхими крышами серые здания Школы, расположенной почти у подножия Холма. Те высокие деревья, которые Ириан видела из окошка комнаты Мастера Привратника, теперь вздымались в небо прямо перед ними, и она уже различала среди деревьев знакомые дубы и ивы, каштаны и ясени, а также какие-то высоченные темно-зеленые хвойные деревья. Из самой чащи, куда не проникали солнечные лучи, выбегал ручей; берега его заросли сочной зеленой травой, и в ней виднелось множество протоптанных овцами и коровами тропок — в тех местах, где животные спускались к ручью на водопой или переходили его вброд.
— Вон он, тот домишко, — сказал волшебник и показал ей на низенькую, поросшую мхом крышу, почти совсем незаметную в густой тени деревьев. — Если хочешь, можешь переночевать там сегодня, а? — Он просил ее остаться, он ей совсем НЕ ПРИКАЗЫВАЛ. И она лишь молча кивнула в ответ. — Хорошо, тогда я принесу поесть, — сказал он и быстро пошел куда-то, все ускоряя шаг, и вскоре совсем пропал из виду в полосатой тени под деревьями, хотя и не так внезапно, как этот Мастер Ономатет тогда на тропинке. Ириан долго смотрела ему вслед, а потом побрела сквозь густую траву к маленькому домику, точно прижавшемуся к лесу.
Похоже, он был построен очень давно и его не раз перестраивали и ремонтировали, но каждый раз этого хватало ненадолго. И, похоже, в нем давно уже никто не жил — во всяком случае, если судить по ощущению застоя и одиночества, которое здесь царило. Однако в доме было сухо, воздух был свежий, и казалось, что те, кто здесь когда-то жил, были очень спокойными и мирными людьми. Что же касается ветхих стен, мышей, пыли, паутины и покосившейся мебели, то все это было вполне Ириан знакомо. Она отыскала старый веник, быстренько вымела весь мусор и мышиный помет и накрыла дощатую лежанку своим дорожным одеялом. Потом, отыскав в кладовке с покосившейся дверью треснувший кувшин, принесла воды из ручья; ручей, чистый и спокойный, бежал буквально в десяти шагах от порога. Она делала все это уверенно, но словно во сне, а когда переделала все привычные дела, то села на траву, прислонившись спиной к стене дома, еще хранившей тепло солнечных лучей, и задремала.
Когда она проснулась, рядом с ней сидел Мастер Путеводитель, а между ними на траве стояла корзина.
— Есть хочешь? Поешь, — предложил он.
— Я потом поем, господин мой. Спасибо, — сказала Ириан.
— А я проголодался, — сказал волшебник. Он вытащил из корзины сваренное вкрутую яйцо, очистил его и съел.
— Люди называют эту хижину Домом Выдры, — сказал он. — Дом этот очень старый. Такой же старый, как Большой Дом. Здесь у нас все очень старое. Да и сами мы тоже старые… здешние Мастера.
— Ну, ты-то не очень! — искренне возразила Ириан. На вид она бы дала Мастеру Путеводителю лет тридцать-сорок, хотя и не была полностью в этом уверена. Ее смущало то, что волосы у него седые; а может, они вовсе и не были седыми, просто она не привыкла видеть людей с такими светлыми, даже бесцветными волосами.
— Видишь ли, я прибыл сюда издалека, а мили могут порой превратиться в года. Я ведь карг, с островов Карего. Знаешь такое название?
— А, так ты из этих Седых Людей! — воскликнула Ириан и принялась откровенно его разглядывать. Все истории, которые рассказывала ей Дейзи о Седых Людях, живших далеко на Востоке и приплывавших оттуда, чтобы захватывать чужие земли с невиданной жестокостью, нанизывая на копья даже невинных младенцев, сразу же ожили в ее памяти. Вспомнила она и легенду о том, как Эррет-Акбе потерял Кольцо Мира, и «Королевскую сказку», в которой рассказывалось, как Верховный Маг, по прозвищу Ястреб-перепелятник, отправился в страну Седых Людей и вернул оттуда это кольцо…
— Седые? — переспросил Мастер Путеводитель.
— Ну да, беловолосые, у них волосы словно инеем покрыты, — пояснила Ириан и, смутившись, опустила глаза.
— А, понятно… — Он помолчал и сказал: — В общем, ты права: Мастер Заклинатель, например, совсем не стар… — И она заметила, что он искоса глянул на нее своими узкими глазами цвета льда.
Она ничего не ответила.
— По-моему, ты его испугалась.
Она молча кивнула.
И он, выждав несколько минут, снова заговорил:
— Не бойся. В тени этих деревьев нет места злу. Здесь царят истина и справедливость.
— Когда он проходил мимо меня, — прошептала Ириан, — мне показалось, что я гляжу в разверстую могилу…
— Понятно, — кивнул Путеводитель и принялся собирать в кучку кусочки яичной скорлупы, потом выложил из них, как из мозаики, белый кружок и старательно его замкнул. — Да, так и есть, — сказал он, внимательно глядя на этот кружок, потом выскреб в земле ямку, аккуратно собрал в нее все кусочки скорлупы, засыпал их землей и тщательно отряхнул руки. И снова Ириан обратила внимание, что он быстро и незаметно на нее поглядывает.
— Ты ведь была ведьмой, да, Ириан? — спросил он вдруг.
— Нет.
— Но ты, безусловно, обладаешь кое-какими знаниями!
— Нет. Ничем я не обладаю. Роза ни за что не соглашалась меня учить, сколько я ни просила. Она сказала, что не осмеливается, потому что во мне заключена какая-то сила, только она не знает, какая именно.
— Твоя Роза — мудрый цветок, — без улыбки заметил волшебник.
— Но я-то чувствую, что непременно должна это узнать! Что мне нужно что-то такое сделать в жизни, кем-то стать! Вот почему я так хотела попасть сюда, на Остров Мудрых. Чтобы все это выяснить.
Теперь она уже немного привыкла к странному лицу своего собеседника и начинала различать, как может меняться выражение его прозрачных светлых глаз. Сейчас, например, ей казалось, что он выглядит печальным. Да и его манера говорить перестала ее удивлять; говорил он, пожалуй, немного резковато, быстро, сухо, но вполне миролюбиво.
— Люди на этом острове совсем не всегда так уж мудры, ты, наверное, уже и сама это поняла, — сказал он. — По-настоящему мудр, возможно, только Привратник. — Теперь Мастер Путеводитель смотрел прямо на Ириан, и его глаза, казалось, стараются удержать ее взгляд, приковывают к себе. — Но там, в лесу, под деревьями — там иная, старинная мудрость. И она никогда не устаревает. Я не могу научить тебя понимать ее. Я могу только отвести тебя в Имманентную Рощу, чтобы ты училась сама. — Он помолчал с минуту, встал и спросил: — Хочешь?
— Хочу, — неуверенно сказала Ириан.
— Дом-то ничего?
— Ничего…
— Тогда до завтра, — сказал Мастер Путеводитель и быстро пошел прочь.
Так и случилось, что больше полумесяца тем жарким летом Ириан прожила в Имманентной Роще, в Доме Выдры, где все было исполнено мира и покоя. Ела она то, что приносил ей в корзине Мастер Путеводитель — яйца, сыр, зелень, фрукты, копченую баранину, — и каждый день ходила с ним в Рощу, где тропинки среди высоких деревьев никогда не начинались в том же месте, что и вчера, а исчезали и возникали совершенно произвольно и часто уводили гораздо дальше тех пределов, которые с виду казались опушкой небольшого леска. Они бродили по этим тропам почти всегда в полном молчании да и вообще разговаривали очень мало, только во время отдыха. Этот Мастер Путеводитель был человеком очень спокойным, хотя в нем явно жила некая затаенная страсть или ярость. Но своей страстной натуры он никогда при ней не проявлял, и его присутствие было для нее легким и приятным — таким же приятным, как присутствие самих этих деревьев, редких здешних птиц и четвероногих обитателей. В полном соответствии со своим предупреждением, Путеводитель и не пытался ее обучать, а когда она начинала сама расспрашивать его о Роще, он рассказывал ей, что Роща, как и Холм Рок, существовала всегда, с того самого момента, когда Сегой поднял острова Земноморья со дна морского, и что вся магия мира заключена в корнях этих деревьев, и что корни эти переплетаются с корнями всех лесов, какие только существуют или могут существовать на свете. «Порой эту Рощу можно видеть в одном месте, а порой — совсем в другом, — сказал он также. — Но так было всегда».
Она никогда не видела, где живет он сам. Ей представлялось, что теплыми летними ночами он ночует там, где ему больше понравится, но его она об этом не спрашивала. Зато спрашивала, откуда он берет ту еду, которую приносит ей, и он ответил, что то, чем Школа не может сама себя обеспечить, ей поставляют окрестные фермеры, которые уверены, что Мастера с лихвой расплачиваются с ними за это, охраняя их стада, их поля и сады, да и весь их остров. Это показалось Ириан вполне разумным. На острове Уэй поговорка «волшебник, у которого даже миски каши не найдется», означала нечто небывалое, неслыханное. Но сама-то она волшебницей не была, а потому, желая отработать свою «миску каши», изо всех сил старалась отремонтировать Дом Выдры, взяв нужные инструменты взаймы у одного из крестьян, а гвозди и все остальное купив в городе Твиле. Деньги у нее были — примерно половина «сырных» денег осталась неистраченной.
Мастер Путеводитель никогда не приходил к ней слишком рано, обычно ближе к полудню, так что все утро у нее было свободным. Она привыкла к одиночеству, но все же немного скучала по Розе, Дейзи и Кони, а также по своим курам, коровам, овцам, шумливым глупым собакам и даже по той работе, которую ей приходилось делать в доме, пытаясь поддержать Старую Ирию и не дать ей окончательно развалиться. Ну и для того, конечно, чтобы было что подать на стол. Так что она по привычке и здесь старалась все утро занять неторопливой работой, пока не замечала вышедшего из чащи волшебника, светловолосая голова которого так и сверкала в солнечных лучах.
Но когда они уходили в Рощу, она даже не думала о том, чтобы как-то отработать свое проживание в Доме Выдры, или что-то узнать особенное, или чему-то научиться. Просто БЫТЬ там уже было ей вполне достаточно; ей казалось даже, что это вообще все, что ей нужно в жизни.
Когда Ириан спросила Путеводителя, приходят ли сюда ученики из Большого Дома, он ответил: «Иногда». А еще он обронил как-то: «Мои слова — ничто. Слушай листья!» И она, бродя по Роще, прислушивалась к шепоту листьев, когда налетевший ветерок шелестел ими или шумел в вершинах деревьев; она следила за игрой теней и думала о корнях этих немыслимых деревьев, о том, как они уходят в темные глубины земли и сплетаются там с корнями мирозданья… Она была совершенно счастлива. И все же постоянно — хотя и без малейшего неудовольствия или желания приблизить этот миг — чувствовала, что чего-то ждет. И это молчаливое ожидание становилось наиболее сильным и очевидным, когда она выходила из своего лесного убежища и видела вокруг простор и чистое небо над ним.
Однажды, когда они зашли очень далеко и деревья — какие-то темные вечнозеленые хвойные деревья, названий которых она не знала, — стали особенно высоки, почти смыкаясь у них над головой, она услыхала странный зов, далекий, почти неслышный. Может, ей показалось? Может, где-то просто горн пропел или кто-то крикнул протяжно? Она застыла, прислушиваясь и невольно обратясь лицом к западу. Волшебник, продолжавший идти по тропе, обернулся, только когда понял, что Ириан давно рядом нет.
— Я слышала… — начала было она, но так и не сумела сказать, что же именно она слышала.
Путеводитель тоже прислушался. А потом они двинулись дальше в молчании, которое, словно благодаря этому далекому неведомому зову, стало еще более глубоким, каким-то всеобъемлющим.
Ириан никогда не ходила в Рощу без Мастера Путеводителя, и прошло немало дней, прежде чем он оставил ее там одну. Однажды жарким полуднем, когда они вышли на поляну среди дубов, он вдруг сказал: «Я потом сюда вернусь, ладно?» — и быстро ушел, почти сразу исчезнув среди пятнистых движущихся теней.
До этого у нее не возникало ни малейшего желания исследовать Рощу в одиночку. Мир и покой, царившие там, призывали к неподвижности и сосредоточенному наблюдению, и она знала к тому же,
как обманчивы здешние тропинки. А также Мастер Путеводитель давно уже сказал ей, что «Роща гораздо больше изнутри, чем снаружи», и она не раз имела возможность в этом убедиться. Так что после его ухода Ириан уселась на траву под раскидистым дубом и стала следить за игрой теней на земле, буквально усыпанной спелыми желудями. Она ни разу не встречала в лесу диких свиней, но следы их видела неоднократно. В какое-то мгновение она почуяла резкий лисий запах, но самой лисы видно не было. Мысли Ириан текли спокойно и легко, как тот поток воздуха, что шевелил листву у нее над головой в теплом летнем мареве.
Ей часто казалось, что она полностью свободна от всяких мыслей и наполнена лишь самим этим лесом, но в тот день к ней почему-то пришли воспоминания, и были они очень живыми и яркими. Она вспоминала Айвори и думала о том, что, наверное, никогда больше его не увидит. Интересно, нашел ли он судно, которое согласилось бы отвезти его в Хавнор? Он говорил, что никогда больше не вернется в Уэстпул и единственное место, где он хотел бы жить, это порт Хавнор, королевская столица Земноморья, а после жизни в доме Берча он мечтает лишь о том, чтобы остров Уэй погрузился в морскую пучину так же глубоко, как некогда остров Солеа. А Ириан с любовью вспоминала Уэй, его проселочные дороги и поля, Старую Ирию и деревню у подножия холма, речку с болотистыми берегами, родной дом… Она вспоминала, как Дейзи хозяйничала на кухне и зимними вечерами пела баллады, отбивая ритм деревянными подошвами своих башмаков. Она вспоминала, как старый Кони, вооруженный своим острым, как бритва, ножом, показывал ей, как нужно подрезать лозу «до самого жизненного корня», и как Роза, ведьма и целительница, шепчет заклинания, желая облегчить боль в сломанной ручке ребенка. Я знала по-настоящему мудрых людей, думала она. А вот об отце ей думать не хотелось, однако движение листьев и теней на земле как бы направило ее мысль именно в этом направлении, и она вновь увидела отца пьяным, выкрикивающим что-то бессмысленное. Она снова почувствовала, как к ней прикасаются его дрожащие руки, и заметила, что по лицу отца катятся бессильные слезы стыда. И горькая печаль поднялась и пронизала все ее существо, а потом растворилась без следа, как растворяется боль, когда хорошенько распрямишь затекшие руки. Отец всегда значил для нее гораздо меньше, чем мать, которую она никогда даже не видела.
Ириан сладко потянулась, чувствуя, как хорошо и легко ее телу, окутанному летним теплом и лесными ароматами, и мысли ее вновь вернулись к Айвори. У нее никогда в жизни не было мужчины, которого она бы любила, которого желала бы. Когда молодой волшебник, служивший у Берча, впервые проехал мимо ее дома — он тогда показался ей удивительно хрупким и страшно высокомерным, — она стала мечтать о том, что, может быть, сумеет полюбить его. Однако этого не произошло, и Айвори не пробуждал в ней никаких «безумных желаний», так что она решила: этот волшебник защищен какими-то чарами. Роза к этому времени уже объяснила ей, как действуют подобные чары: «…чтобы ничего такого никогда даже в голову не приходило ни тебе, ни им — ясно? — потому что, по их словам, ЭТО лишает магической силы». Но Айвори, бедный Айвори оказался как раз совершенно незащищенным от ее, Ириан, «чар»! А вот она сама, видно, была заколдована, ибо, несмотря на то что молодой волшебник был хорош собой и с нею очень мил, она так никогда и не почувствовала к нему ничего большего, чем простое расположение; ее единственным страстным желанием было узнать то, чему он мог тогда ее научить.
«Кто же я такая? — думала она в лесной тиши. Действительно — не пела ни одна птица, ветерок улегся, листья повисли неподвижно… — А что, если я на самом деле заколдована? Или, может быть, я бесплодна? Не могу ни родить, ни любить мужчин? Может, во мне чего-то не хватает? Может, я вообще не женщина?» — спрашивала она себя, разглядывая свои сильные обнаженные руки и нежные округлости грудей, видневшихся в вырезе рубахи.
Она подняла глаза и увидела «седого» волшебника, который как раз вышел из темного прохода между огромными дубами — точно из храма! — и направлялся к ней через поляну.
Мастер Путеводитель остановился перед нею, и она почувствовала, как вспыхнуло у нее лицо, как горят щеки и шея, как кружится голова и звенит в ушах. Она искала любые слова, чтобы хоть как-то отвлечь его внимание, чтобы он перестал так смотреть на нее, но не могла вымолвить ни слова. Волшебник сел с нею рядом, и она потупилась, делая вид, что рассматривает скелетик прошлогоднего полуистлевшего листка, случайно попавшегося ей на глаза.
«Чего я хочу?» — спрашивала она себя, и ответ являлся ей не в виде слов; ей отвечали как бы разом и ее тело, и ее душа: огня! Огня, гораздо более мощного, чем пламя желания. И полета в небесном просторе, исполненного обжигающего восторга…
Точно от толчка, Ириан вдруг вернулась в реальность; все так же тих был застывший воздух под деревьями; все так же «седой» волшебник сидел с нею рядом, низко опустив голову, и она подумала, что он выглядит странно хрупким и маленьким, а еще — очень печальным, так что бояться его нечего. Да он и не замышляет ничего дурного…
Волшебник осторожно посмотрел на нее через плечо.
— Ириан, — спросил он, — ты слышишь, что говорят тебе листья?
Легкий ветерок опять поднялся и шелестел в листве; и листья дубов действительно словно что-то шептали друг другу.
— Чуть-чуть, — сказала она.
— А ты различаешь слова?
— Нет…
Она ничего не стала у него спрашивать, и он больше ничего ей не сказал. Вскоре он поднялся, и она, как всегда, последовала за ним по тропе, которая, тоже как всегда, рано или поздно выводила их на поляну возле речки Твилберн, где стоял Дом Выдры. Когда они вышли туда, день уже клонился к вечеру, и в том месте, где ручей выбегал из леса, миновав все препятствия на своем пути, Путеводитель подошел к воде и опустился на колени, чтобы напиться. Ириан проделала то же самое. Потом, усевшись на прохладной траве, волшебник заговорил:
— Мой народ, карги, поклоняется Богам-близнецам. И король у нас тоже считается божеством. Но и до появления тех богов, которым поклоняются, и после этого — всегда! — существовали реки и ручьи, пещеры и скалы, холмы и деревья. Земля. Темные земные недра.
— Древние Силы Земли, — сказала Ириан.
Он кивнул.
— На наших островах женщины хорошо знали, что такое Древние Силы, и поклонялись им. Здесь тоже некоторые их знают, например, некоторые ведьмы. И это знание считается здесь вредным и опасным… да?
Когда он добавлял свое коротенькое вопросительное «да?» или «нет?» к тому, что, казалось, было утверждением, то всегда заставал Ириан врасплох. Она промолчала.
— Темное всегда кажется опасным, — сказал Путеводитель, — да?
Ириан глубоко вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза.
— СВЕТ ЛИШЬ ВО ТЬМЕ, — промолвила она.
— Да, верно… — откликнулся он и отвернулся, чтобы она ничего не смогла прочесть по его глазам.
— Мне, видимо, следует уйти отсюда, — сказала она. — Я могу бродить в Роще, но не могу жить там. Это… место не для меня. Да и Мастер Регент говорил, что я приношу вред уже тем, что живу здесь.
— Мы все приносим чему-либо вред уже самим своим существованием.
И он сделал то, что делал очень часто: сложил некий узор из того, что было под рукой. Расчистил перед собой кусочек речного песчаного берега и выложил на нем орнамент из черенка дубового листа, стебля травы и нескольких камешков. Потом некоторое время изучал получившийся рисунок, что-то в нем то ли меняя, то ли исправляя, и сказал наконец:
— А теперь давай поговорим о наносимом нами вреде, — и снова надолго замолчал, но все же продолжил: — Как ты, должно быть, знаешь, с берегов смерти нашего лорда Ястреба вместе с молодым королем Лебанненом принес один дракон. Потом этот же дракон отнес Ястреба на остров Гонт, на родину Верховного Мага, ибо тот истратил в стране мертвых всю свою магическую силу и перестал быть волшебником. И вскоре после этого Мастера Рока собрались вместе, чтобы выбрать нового Верховного Мага. Собрались, как всегда, здесь, в Роще. Но все же это происходило не так, как всегда.
Дело в том, что еще до того, как прилетел тот дракон, из царства смерти вернулся и наш Мастер Заклинатель. Он мог бывать там, ибо делать это позволяло ему его искусство. И он сказал, что видел там, за каменной стеной, нашего лорда Ястреба и молодого короля и что они никогда не вернутся. Он сказал также, что именно лорд Ястреб велел ему вернуться к нам и рассказать об этом. Так что мы уже оплакали нашего Верховного Мага, когда прилетел дракон Калессин и принес его живым.
Мастер Заклинатель был среди нас, когда мы стояли на Холме Рок и смотрели, как Верховный Маг преклоняет колена перед королем Лебанненом, как он вновь садится на спину дракона, как дракон уносит нашего друга прочь… И тут вдруг Мастер Заклинатель упал на землю.
Он лежал, как мертвый, тело его было совершенно холодным, сердце не билось, но он дышал, хотя и очень слабо. Мастер Травник использовал все свое искусство, но так и не смог ничего сделать. «Он мертв, — сказал Травник. — Он еще будет дышать, но он уже мертв». Так что пришлось нам оплакивать и его уход. А потом, поскольку нами владел страх, и все мои… узоры говорили о неких опасных переменах, мы снова собрались вместе, чтобы выбрать нового руководителя Школы, нового Верховного Мага. И на том совете мы посадили на место Мастера Заклинателя нашего молодого короля Лебаннена. Нам это показалось справедливым, и один лишь Мастер Метаморфоз сперва был против, но потом согласился и он.
Итак, мы собрались, расселись, но выбрать так никого и не сумели. Мы говорили о том о сем, но ни одно имя не приходило нам на ум. И тогда я… — Он немного помолчал. — В общем, ко мне пришло то, что у нас в стране называют «эдуевану», второе дыхание. Слова САМИ звучали у меня в ушах, мне оставалось только произносить их. И я сказал: ХАМА ГОНДУН! И Курремкармеррук громко перевел на ардический: «Женщина с Гонта!» Но тут я как бы очнулся и снова стал самим собой; слова перестали звучать у меня в ушах, и я не сумел объяснить, что эти слова означают. И мы разошлись в полном недоумении, так и не выбрав Верховного Мага.
Перед обрядом коронации молодой король и наш Мастер Ветродуй отправились на Гонт и долго искали там лорда Ястреба, надеясь, что он сможет объяснить им, что значит это «Женщина с Гонта». Да… Только они так с ним и не встретились. Зато встретились с Тенар Кольца, моей соотечественницей, и она уверенно сказала, что не является той женщиной, которую они ищут. А никакой другой они там и не нашли, и Лебаннен решил, что этому пророчеству еще только предстоит сбыться. А потом, вернувшись в Хавнор, он сам возложил королевскую корону себе на голову.
Мастер Травник, как и я, считал Мастера Заклинателя мертвым. Мы полагали, что то слабое дыхание, что вылетало еще из его уст, связано с какими-то его чарами, действие которых продолжается, но сути этих чар мы не понимали; было ясно лишь, что они похожи на то волшебство, которое ведомо змеям и позволяет их сердцу биться еще долго после того, как они умрут. Хотя всем нам казалось ужасным — хоронить человека, который еще дышит… К тому же он был совершенно холодным, кровь не текла в его жилах, и душа покинула его тело. Это было еще ужаснее, и мы все же совершили необходимые приготовления к похоронам. А потом, когда Заклинатель уже лежал возле вырытой могилы, глаза его вдруг открылись. Он встал и заговорил! И вот что он сказал: «Я вновь призвал себя к жизни, чтобы сделать то, что должно быть сделано». — Голос Мастера Путеводителя стал тише, он как будто немного охрип. И вдруг одним движением ладони он смахнул тот узор из камешков и травинок, который выкладывал на песке. — В общем, когда в Школу после коронации вернулся Мастер Ветродуй, нас снова стало Девять. Однако мы разделились. Мастер Заклинатель требовал, чтобы мы снова собрались и выбрали Верховного Мага. А король, сказал он еще, вообще не имеет права присутствовать на собрании Девяти Мудрых. И эта «Женщина с Гонта», кто бы она ни была, тоже не сможет занять место Верховного Мага да и вообще среди Мудрецов Рока. А? И мастера Ветродуй, Регент, Метаморфоз и Ловкая Рука сказали, что он прав. Они утверждали, что если король Лебаннен, согласно пророчеству, вернулся из царства смерти и занял трон в Хавноре, то и Верховный Маг вполне может быть тем человеком, который сумел вернуться из царства смерти.
— Но ведь… — начала было Ириан и умолкла.
Путеводитель помолчал немного и пояснил:
— Знаешь, это искусство, которым владеют Заклинатели, это умение призывать к себе чужие души с помощью заклятий, на самом деле ужасно. И делать это всегда очень опасно. Хотя здесь, — и он поднял глаза на темно-зеленую листву деревьев, — подобные заклятия не действуют. И никакой перенос человека ОТТУДА в наш мир, через СТЕНУ невозможен. Когда ты здесь, никакой стены просто не существует…
У него было суровое лицо воина, но когда он смотрел на эти прекрасные огромные деревья, лицо его смягчалось, а взгляд становился печальным, даже тоскливым.
— Итак, — продолжал он, — теперь Заклинатель считает, что мы должны собраться из-за тебя. Но я в Большой Дом не пойду. И не позволю призывать себя заклятиями.
— А он сюда не придет?
— Я думаю, в Рощу он не пойдет. Да и на Холм Рок не станет подниматься. Ибо и здесь, и на вершине Холма любая ложь становится явной. Там ты такой, какой есть.
Она не совсем поняла, что он имеет в виду, но спрашивать не стала, потому что мысли ее были заняты совсем другим.
— Ты говоришь, что он выставляет меня главной причиной вашего собрания и вашего спора? — спросила она.
— Да. Для того, чтобы отослать прочь одну-единственную женщину, требуется девять волшебников, а? — Мастер Путеводитель усмехнулся. Он очень редко улыбался, а когда улыбался, то мимолетная улыбка эта получалась какой-то свирепой. — По его словам, мы должны встретиться, чтобы соблюсти Устав острова Рок. И, таким образом, выбрать Верховного Мага.
— Если я уйду… — Она заметила, что он качает головой. — Я могла бы пойти к Мастеру Ономатету…
— Здесь тебе куда безопаснее.
Мысль о том, что она приносит несчастье, очень тревожила Ириан. Но ей пока что и в голову не приходило, что ей самой грозит реальная опасность. Она считала это просто невероятным.
— Ничего со мной не случится, — сказала она. — Значит, вас трое: Ономатет, ты и… и Мастер Привратник? И вы…
— …и мы не желаем, чтобы Торион становился Верховным Магом. Только нас четверо: с нами еще Мастер Травник, хотя он больше любит копаться в земле, а не спорить с другими волшебниками.
Он видел, что Ириан смотрит на него в полном изумлении.
— Я не случайно произнес его Истинное имя, — пояснил он. — Торион, Мастер Заклинатель, сам всюду произносит вслух свое Имя. Он ведь умер, а?
Ириан знала, что король Лебаннен тоже открыто пользуется своим Истинным именем, потому что тоже вернулся назад из царства смерти. И все же мысль о том, что и Заклинатель имеет право так поступать, не давала ей покоя.
— А что же ваши… ученики? — спросила она.
— Они тоже разделились.
Она подумала о Школе, где пробыла совсем недолго. Отсюда, из Рощи, Школа представлялась ей чем-то вроде окруженной каменными стенами тюрьмы. Эти стены отгораживали тех, что внутри, ото всех остальных, ото всего внешнего мира, и знаменитая Школа становилась больше похожей на загон для птицы, на клетку… Как может человек сохранить душевное здоровье в таком месте?
Мастер Путеводитель выложил из четырех камешков небольшую кривую на песке и сказал:
— Жаль, что Ястреб ушел от нас. Жаль, что я не могу прочесть всего того, что пишут на земле тени деревьев. Я слышу в шепоте листьев, что грядут перемены. Деревья повторяют это снова и снова… Все переменится, кроме них. — Он снова посмотрел на кроны деревьев тем же тоскливым, ласковым и одновременно пытливым взглядом. Солнце почти уже село, и он встал, пожелал Ириан спокойной ночи и пошел прочь. И почти сразу скрылся из виду, нырнув в гущу деревьев.
Она еще немного посидела на берегу Твилберн, встревоженная его рассказом и собственными мыслями и чувствами, которые внезапно пробудились в Роще. А также ей казалось очень странным, почему что-то тревожит ее, если она в Роще? Она встала, прошла в дом, приготовила себе ужин — копченое мясо, хлеб и зеленый лук с молодыми головками — и стала есть, абсолютно не чувствуя вкуса еды. Потом снова побрела, по-прежнему испытывая странное беспокойство, на берег реки и спустилась к воде. Вода показалась ей очень теплой. В сгустившихся сумерках сквозь молочно-белую дымку, что стелилась над рекой, видны были только самые крупные звезды. Ириан скинула сандалии и вошла в воду, которая была весьма прохладной, и все же в ней словно струилась живая кровь — так ощущалось вобранное за день солнечное тепло. Она выскользнула из одежды — собственно, на ней были только мужские штаны да рубашка — и обнаженная бросилась в реку, всем телом чувствуя ее сильное течение. В Ирии она никогда не купалась в реке и ненавидела море с его серыми холодными волнами, но сегодня купание в этой речке с быстрой водой доставляло ей истинное наслаждение. Она качалась в воде, руками ощупывая скользкие подводные камни и свое собственное гладкое тело; ее ноги щекотали речные травы. Все беспокойство, все тревоги словно вымывала из нее эта быстро бегущая вода, и она радостно отдалась на волю течения, глядя в небо, на горящие белым неярким огнем далекие звезды.
Вдруг ее сковал смертный холод. Вода показалась ледяной. Все внутри сжалось в тугой комок, хотя ноги и руки все еще были расслаблены и не желали слушаться. Посмотрев вверх, Ириан увидела на берегу черный силуэт мужчины.
Она тут же встала на ноги, поднявшись из воды по пояс совершенно нагая.
— Убирайся! — крикнула она. — Убирайся отсюда, предатель! Ах ты, грязный развратник! Вот погоди, я тебе кишки выпущу! — Она рванулась к берегу, путаясь в зарослях прибрежных трав, но на берегу никого не оказалось. Она стояла, чувствуя, что вся горит, что ее буквально трясет от ярости. Она метнулась назад по берегу, отыскала свою одежду и быстро натянула ее, по-прежнему громко ругаясь вслух: — Ты — трус, а не волшебник! Предатель проклятый! Сукин сын!..
— Это ты, Ириан? — послышался от опушки леса голос Путеводителя.
— Он только что стоял здесь, этот проклятый Торион! — крикнула она, бросившись ему навстречу. — Ах, грязная душонка! Я разделась и купалась в реке, а он стоял там и подсматривал!
— Это был не он сам — всего лишь… его подобие, его образ. Он бесплотен и не мог причинить тебе вреда, Ириан.
— Подобие? Образ? Но у него были совершенно зрячие глаза! Разве подобие способно видеть? А может быть, он… — И она вдруг умолкла, не найдя нужного слова. Ее подташнивало. Она вся дрожала и сглатывала холодную слюну, которая то и дело скапливалась у нее во рту.
Путеводитель подошел к ней и взял ее руки в свои. Руки у него были теплые, а она чувствовала в душе и теле такой мертвящий холод, что подошла и прижалась к нему, чтобы впитать исходившее от него живительное тепло. Они стояли так довольно долго, хотя лицо она от него отвернула; но руки их были сомкнуты, а тела тесно прижаты друг к другу. Наконец она оторвалась от него, выпрямилась, отбросила назад мокрые волосы и сказала:
— Спасибо тебе. Мне было так холодно!
— Я знаю.
— Но мне никогда не бывает холодно! Это все он!
— Я же говорю тебе, Ириан: сам он не может прийти сюда. И пока ты здесь, он не может причинить тебе никакого вреда.
— Он НИГДЕ не может причинить мне вреда! — заявила она, чувствуя, как по жилам ее вновь разливается уже знакомый внутренний огонь, и прибавила грозно: — А если попробует, я его уничтожу!
— Ах… — только вздохнул Путеводитель.
Ириан посмотрела ему в лицо, залитое лунным светом, и вдруг потребовала:
— Назови мне свое имя! Не обязательно Истинное. Пусть это будет хотя бы такое имя… каким тебя могла бы называть я. Когда думаю о тебе.
Некоторое время он молчал, потом промолвил:
— На острове Карего-Ат когда-то меня звали Азвер. На ардическом это значит «боевое знамя».
— Азвер, — повторила она и сказала: — Спасибо тебе, Азвер.
Ириан долго лежала без сна в своем маленьком домике и чувствовала, как воздух становится неподвижным, а потолок будто опускается и давит на нее, а потом вдруг уснула сразу и крепко. И проснулась так же внезапно, едва начало светлеть небо на востоке. Она встала и подошла к двери: больше всего на свете она любила такое вот светлое небо перед восходом солнца. А потом, когда на востоке уже вовсю разливалась заря, она наконец отвела глаза от небес и сразу увидела Азвера, который, завернувшись в свой серый плащ, крепко спал на земле у ее порога. Ириан тут же бесшумно скользнула обратно в дом и через несколько минут заметила, как он возвращается в свой лес, двигаясь неуверенно, почесываясь и протирая глаза, как человек, который только что проснулся.
Ириан принялась было за работу: она обчищала внутреннюю стену домика, собираясь заново ее штукатурить, но стоило первым утренним лучам заглянуть в окошко, как к ней кто-то постучался, хотя дверь была открыта. На крыльце стоял тот самый человек, которого она в первый раз приняла за садовника, Мастер Травник. Вблизи он казался очень солидным и, пожалуй, чересчур флегматичным; чем-то он напоминал вола с темной шкурой. За спиной у него виднелся старый Мастер Ономатет, очень худой и мрачный.
Она растерянно пробормотала какие-то слова приветствия. Они пугали ее, эти Мудрецы с острова Рок. Кроме того, их присутствие здесь означало, что мирным временам пришел конец; конец пришел ее молчаливым прогулкам с Мастером Путеводителем по безмолвному летнему лесу. Впрочем, она поняла это еще прошлой ночью. Поняла, но не хотела принимать.
— Путеводитель послал за нами, — сказал Мастер Травник. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Заметив пучок какой-то сорной травы у нее под окошком, он вдруг обрадовался: — О, да это бархатцы! Видно, кто-то из Хавнора посадил их здесь. А я и не знал, что у нас на острове бархатцы растут. — Он внимательно изучил растение и сунул несколько созревших семян в мешочек на поясе.
Ириан украдкой поглядывала на Ономатета, стараясь понять, не является ли он так называемым подобием или все же пришел к ней «во плоти». Ничто в нем не говорило о его нематериальности, но ей все же казалось, что самого его здесь нет, и когда он вышел на яркий солнечный свет, совершенно не отбрасывая тени, она поняла, что была права.
— Далеко ли отсюда до того места, где вы живете, господин мой? — спросила она его.
Ономатет кивнул.
— Да, я оставил свое тело на полпути, — сказал он и поднял голову: к ним от опушки леса шел Мастер Путеводитель, теперь уже окончательно проснувшийся.
Он поздоровался со всеми и спросил:
— А Привратник придет?
— Он сказал, что ему лучше остаться и сторожить двери, — ответил Травник. Он аккуратно завязал свою мягкую сумку со множеством кармашков, в один из которых спрятал семена бархатцев, и обвел взглядом лица остальных. — Но я не знаю, сумеет ли он накрыть крышкой весь муравейник.
— А что, собственно, происходит? — спросил Курремкармеррук. — Я все это время читал о драконах и никакого внимания не обращал на муравьев. Но вдруг обнаружил, что все ученики, которые занимались у меня, покинули Башню.
— Их призвали, — сухо пояснил Травник.
— Ну и что? — еще более сухо, даже с вызовом, спросил Ономатет.
— Я могу высказать тебе лишь свое собственное мнение… — Травник говорил неуверенно, словно нехотя.
— Ну давай, высказывай, — потребовал старый волшебник.
Но Травник еще некоторое время колебался и наконец промолвил:
— Эта женщина не входит в наш Совет.
— Зато она входит в мой, — заметил Азвер.
— Она появилась здесь именно сейчас, — сказал Ономатет, — а сейчас никто не появляется здесь случайно. Да и в любом случае — все, что знает каждый из нас, и то, как он представляет себе сложившуюся ситуацию, является лишь его собственным видением событий. За каждым из имен, как известно, толпятся и другие имена, дорогой мой целитель.
Темноглазый Травник согласно кивнул и с явным облегчением сказал:
— Ну что ж, вот и прекрасно! — как бы принимая мнение своих друзей и объединяя его с собственным. — Торион очень много времени проводит в обществе других Мастеров, а также — в обществе старших учеников. Какие-то бесконечные тайные встречи, тайные собрания, тайные организации… Школа полна слухов, все о чем-то шепчутся. Многие ученики, особенно младшие, напуганы всем этим, и некоторые из них уже спрашивали у меня или у Привратника, могут ли они уйти из Школы и навсегда покинуть Рок. И мы их отпустили. Но в порту нет ни одного корабля. Ни одно судно не вошло в гавань Твила после того, как ты прибыла сюда, госпожа моя, а тот корабль на следующий же день отбыл на остров Уотхорт! Мастер Ветродуй поддерживает волшебный ветер Рока и никому не дает войти в гавань. И даже если сюда вздумает прибыть сам король, то и он сейчас не сможет подойти к острову.
— Пока ветер не переменится, да? — заметил Путеводитель.
— Торион говорит, что Лебаннен — не настоящий король, поскольку не был коронован Верховным Магом Земноморья, — продолжал Травник.
— Чепуха! — прервал его старый Ономатет. — На самом деле первый Верховный Маг появился в Земноморье гораздо позже королей. И островом Рок тоже прежде всегда был королевским владением.
— Понятно, — сказал Мастер Путеводитель. — Домоправителю всегда трудно расставаться с ключами от дома, когда туда возращается настоящий хозяин, а?
— Кольцо Мира вновь стало целым, — снова заговорил Мастер Травник; в его обычно таком спокойном голосе слышалась тревога. — Пророчество осуществилось: сын Морреда коронован, и все-таки нет у нас ни мира, ни покоя, ни справедливости. Где мы свернули на ложный путь? Отчего не можем обрести равновесие?
— А каковы намерения Ториона? — спросил Ономатет.
— Он хочет заставить Лебаннена приехать сюда, — сказал Травник. — Молодежь ведет разговоры о «настоящей коронации», и эту вторую коронацию они намерены провести здесь. И осуществит ее Верховный Маг Земноморья — Торион.
— Минуй нас! — вырвалось у Ириан, и она сделала жест, который, согласно поверью, мешает дурному слову превратиться в деяние. Ни один из волшебников даже не усмехнулся, а Мастер Травник с некоторым опозданием сделал тот же охранительный жест.
— Как же ему удалось до такой степени прибрать всех к рукам? — удивился Ономатет. — Травник, ты ведь, кажется, был здесь, когда Ястреб и Торион получили вызов от Ириотха? А ведь магические способности Ириотха были, по-моему, не менее значительны, чем у Ториона, и он очень умело использовал их, чтобы полностью контролировать других людей. Так чт́о, Торион теперь тоже этим занимается с помощью своих ужасных заклятий?
— Не знаю, — сказал Травник. — Могу лишь сказать, что когда в Большом Доме я оказываюсь с ним рядом, я чувствую свое полное бессилие, я чувствую, что ничего уже поделать нельзя, что все равно ничего не изменится, что ничего нового из всех наших стараний не произрастет… Что какие бы лекарственные средства я ни использовал, болезнь все равно закончится смертью. — Он обвел друзей своими печальными карими глазами больного вола. — И я думаю, это правда. Нет никакой иной возможности восстановить Равновесие, кроме соблюдения полной неподвижности. Мы зашли слишком далеко. И то, что сделали Верховный Маг и Лебаннен, зайдя во плоти в царство смерти и вернувшись в мир живых, было неправильно. Они нарушили закон, который нельзя нарушать. И, возможно, Торион вернулся именно для того, чтобы восстановить этот закон.
— Так что же, отослать их назад в царство смерти? — сказал Ономатет, а Путеводитель прибавил:
— И кто скажет, каков этот закон?
— Но ведь стена-то существует! — воскликнул Травник.
— Эта стена не имеет таких глубоких корней, как мои деревья в Роще, — возразил Путеводитель.
— Я думаю, во многом ты прав, Травник: мы действительно нарушили Равновесие, — твердо и жестко сказал Курремкармеррук. — И теперь не понять, когда, в каком месте Пути мы свернули не туда и зашли слишком далеко? И что именно позабыли, к чему повернулись спиной, что просмотрели?
Ириан понимала далеко не все и молча переводила взгляд с одного волшебника на другого.
— Когда Равновесие нарушено, не стоит все же сохранять полную неподвижность, ибо это может еще больше усугубить положение, — сказал Мастер Путеводитель. — Пока все не восстановилось… — И он сделал быстрый жест, обозначающий обратное движение — точно приподнимая что-то обеими ладонями, а потом опуская.
— Что может быть отвратительнее, чем самого себя вернуть из царства смерти с помощью магии? — спросил Ономатет.
— Торион был лучшим среди нас — смелое сердце, благородная душа! — Травник говорил чуть ли не с гневом. — Ястреб любил его. Да и все мы его любили…
— Но он попал в ловушку к собственной совести, — промолвил Ономатет, — которая твердила ему, что только он один способен все устроить правильно, как надо. И ради этого он решил отказаться от смерти и вернуть себя к жизни. А теперь он отказывается и от жизни.
— Но кто выступит против него? — спросил Путеводитель. — Я могу лишь скрываться в своих лесах.
— А я — в своей Башне, — сказал Ономатет. — А Травник и Привратник — точно заложники в Большом Доме. Внутри тех самых стен, которые мы создавали, чтобы оградить себя ото всякого зла!.. А может, чтобы оградить мир от того зла, которое зрело среди нас?
— Нас все-таки четверо, — заметил Путеводитель.
— А их пятеро! — сказал Травник.
— Неужели дошло уже до того, — ужаснулся Ономатет, — что мы стоим на опушке леса, выращенного Сегоем, и говорим о том, как нам уничтожить друг друга?!
— Да, — сказал Путеводитель, — увы, это так. То, что продолжается слишком долго, не претерпевая никаких изменений, обычно само себя изживает и разрушает. Этот лес вечен, потому что он умирает, давая жизнь новым деревьям. И я не позволю мертвой руке Ториона коснуться меня. Или короля, который принес нам надежду. Пророчество было произнесено моими устами, хотя воля моя в этом и не участвовала. Я сказал тогда: «Женщина с Гонта». И я не допущу, чтобы эти слова оказались позабыты!
— Раз так, не стоит ли нам отправиться на Гонт? — спросил Травник, которого не оставила равнодушным страстная речь Азвера. — Там все-таки Ястреб.
— Там еще и Тенар Кольца, — подхватил Азвер.
— И, может быть, там наша надежда, — сказал Ономатет.
Они постояли в молчании и неуверенности, пытаясь сохранить в своих душах только что родившуюся слабую надежду.
Ириан тоже молчала, однако теперь она испытывала, скорее, чувство стыда и собственной бесполезности и незначительности. Эти храбрые и мудрые люди стремились спасти то, что им дорого, но не знали, как это сделать, а она ничем не могла им помочь, ничего не могла им посоветовать, даже просто поучаствовать в обсуждении предстоящих действий и то не могла! Она тихонько отошла от них — они, впрочем, этого даже не заметили — и спустилась к реке в том месте, где Твилберн выбегает из леса, журча по россыпи некрупных камней. Вода в утреннем свете так и сверкала, напевая какую-то веселую песенку. Ириан хотелось плакать, хотя она никогда плакать не любила. Она стояла и смотрела на воду, и стыд в ее душе постепенно сменялся гневом.
Она решительно вернулась туда, где продолжали что-то обсуждать трое волшебников, и окликнула одного из них:
— Послушай, Азвер!
Он, изумленный, обернулся и сделал шаг по направлению к ней.
— Почему ради меня ты нарушил Устав Рока? Разве это было справедливо? Хотя бы по отношению ко мне — ведь я никогда не смогу стать здесь тем, чем являетесь вы?
Азвер нахмурился.
— Привратник пропустил тебя потому, что ты попросила, — сказал он. — А я привел тебя в Рощу, потому что листья деревьев назвали мне твое имя еще до того, как ты появилась на острове. ИРИАН, шептали они, ИРИАН. Почему ты прибыла сюда именно в этот момент, я не знаю, но это явно не случайно. И Заклинатель тоже это понимает.
— Может быть, я прибыла сюда, чтобы его уничтожить?
Азвер посмотрел на нее и ничего не сказал.
— А может быть, я явилась, чтобы уничтожить сам остров Рок?
И тут его бледные глаза сверкнули:
— Попробуй!
Мощная дрожь сотрясла все тело Ириан, но глаз от Азвера она не отвела. Она чувствовала, что стала сейчас гораздо крупнее обычного человека, гораздо больше, чем была сама; она стала немыслимо, невероятно огромной; она могла протянуть палец и раздавить этого человечка, который стоял перед нею совершенно беззащитный в своей хрупкой и недолговечной оболочке… Ириан очень сильно и глубоко вздохнула и сама на несколько шагов отступила от Азвера.
Ощущение огромной, невероятной силы потихоньку покидало ее. Она чуть повернула голову и с изумлением увидела собственную смуглую руку, закатанный рукав, буйную весеннюю траву, зеленевшую под ее сандалиями. Она посмотрела на Мастера Путеводителя, и он показался ей все таким же хрупким и маленьким. Она жалела этого человека, глубоко его уважала, и ей хотелось предостеречь его от опасности, которая ему грозила, но она не могла произнести ни слова. Резко повернувшись, она вернулась на то же место у реки, присела на корточки у весело поющей между камнями воды и закрыла лицо руками, словно отгородившись от Азвера и от всего этого мира.
Голоса магов журчали в отдалении, точно река, но река говорила одно, а они — совсем другое, хотя ни то, ни другое действительности не соответствовало.
Глава 4
Ириан
Теперь в лице Азвера было нечто такое, что Травник спросил:
— В чем дело?
— Я и сам еще не понял… — ответил Путеводитель задумчиво. — Возможно, нам не следует покидать Рок.
— Так мы и не сможем его покинуть, — сказал Травник, — если Ветродуй замкнет ветры и направит их против нас…
— Ну, с меня достаточно; я возвращаюсь в Башню, — сказал вдруг Курремкармеррук. — Я не желаю, чтобы меня выбросили на помойку, точно старый башмак! Впрочем, сегодня вечером мы с вами снова встретимся здесь. — И он исчез.
— А я бы с удовольствием сейчас прогулялся по Роще, послушал, что говорят деревья! — сказал Травник Азверу и тяжело вздохнул.
— Вот и ступай, Дейяла. А я останусь здесь. — Травник ушел. Азвер присел на грубую скамью, сделанную Ириан у передней стены дома, и пристально посмотрел на девушку, сидевшую с поджатыми коленями на берегу реки. С луга, отделявшего их от Большого Дома, доносилось тихое блеяние овец. Утреннее солнце припекало все жарче.
Это отец когда-то назвал его Азвером, что значит «боевое знамя», а потом он уехал на запад, оставив и отца, и все, что так хорошо знал. А свое Истинное имя он узнал от деревьев в Имманентной Роще и позже стал здесь Мастером Путеводителем. Весь последний год рисунок теней и ветвей в Роще, а также переплетение корней безмолвно твердили ему об одном: грядут страшные перемены, грозящие крушением этого мира. И теперь эта беда уже нависла над ними, он это чувствовал.
Но за Ириан он в ответе. И она, как это и должно быть, находится под его защитой — он понял это, как только ее увидел. И хотя она только что заявила, что якобы может уничтожить Рок, он должен служить ей. И до сих пор он охотно ей служил. Она бродила с ним по лесу, высокая, немного неуклюжая, но совершенно бесстрашная. Он вспомнил, как она отводила в сторону колючие ветви кустарников своими большими осторожными руками, как внимательно ее глаза, золотисто-коричневые, точно вода в тенистых местах реки Твилберн, смотрели на все вокруг; как она прислушивалась к голосу леса, замирая в полной неподвижности. Ему хотелось защищать ее, но он понимал, что сделать этого не в состоянии. Он мог дать ей только немного тепла, когда ей было холодно. А больше ему нечего было дать ей. И она непременно пойдет туда, куда должна пойти. Она не знает, что такое опасность. У нее нет иной мудрости, кроме собственной невинности, и нет иного оружия, кроме собственного гнева. «Кто ты, Ириан?» — прошептал он, глядя на нее, свернувшуюся в комок, точно зверь, запертый в своей мучительной бессловесности.
Травник, к середине дня вернувшийся из леса, немного посидел рядом с Азвером, не говоря ни слова, и пошел в Большой Дом, пообещав вернуться утром вместе с Мастером Привратником и попросить всех остальных Мастеров также прийти в Рощу. «Но ОН не придет», — сказал Дейяла-Травник, и Азвер-Путеводитель понимающе кивнул.
Весь день Азвер провел поблизости от Дома Выдры, сторожа Ириан. В итоге ему удалось даже заставить ее поесть немного с ним вместе. Ели они в доме, но сразу после трапезы Ириан снова вернулась на прежнее место и замерла там в полной неподвижности. И Азвер тоже чувствовал, как им овладевает какое-то странное сонное оцепенение, которое он никак не мог стряхнуть с себя. Он вспомнил глаза Мастера Заклинателя и мгновенно всем телом ощутил леденящий пронзительный холод, хотя сидел на самом солнцепеке и день был жаркий. «Так нами правит мертвец!» — подумал он, и эта мысль не давала ему более покоя.
Он испытал благодарное чувство, когда увидел Курремкармеррука, неторопливо идущего к нему с севера по берегу Твилберн. Старый волшебник брел по мелководью босиком, в одной руке держа башмаки, а в другой — высокий посох, и сердито ворчал себе под нос, спотыкаясь или оскальзываясь на мокрых камнях.
— На обратном пути я лучше верхом поеду! — заявил он громко. — Или повозку найму. А может, куплю себе мула. Стар я стал, Азвер!
— Поднимайся сюда, к дому! — крикнул ему Путеводитель и поставил на стол воду и еду.
— Где эта девушка?
— Спит, по-моему. Вон там, — и Азвер мотнул головой в ту сторону, где, свернувшись клубком, на зеленой траве у речного переката лежала Ириан.
Дневная жара начинала спадать, и по траве от Рощи протянулись длинные тени, хотя сам Дом Выдры все еще был залит солнечным светом. Курремкармеррук уселся на скамью, прислонившись спиной к стене дома, а Азвер устроился на пороге.
— Ну что ж, похоже, мы подошли к самому концу, — сказал старый волшебник, прервав глубокое молчание.
Азвер молча кивнул в знак согласия.
— Что привело тебя на Рок, Азвер? — спросил Ономатет. — Я давно хотел спросить тебя об этом. Ведь твои родные острова так далеко отсюда. Да и волшебников у вас, как будто, не водится.
— Да, действительно, их там нет. Но у нас есть то, из чего соткана вся магия — вода, камни, деревья, слова…
— Но ведь это не слова Созидания?
— Нет. Там и драконов нет.
— И никогда не было?
— Не знаю, о них говорится только в старинных сказках с самого восточного из наших островов, с пустынного острова Гур-ат-Гур. В этих сказках повествуется о тех временах, когда и наших богов еще не было. И людей тоже, ибо люди до того, как стали людьми, были драконами.
— А вот это уже интересно, — прервал его старый волшебник и сел поудобнее. — Я, кажется, говорил тебе, что читаю книги о драконах? Тебе, наверное, известны слухи о том, что драконы летают над Внутренним морем и добираются до восточных берегов Гонта, так вот: это, без сомнения, Калессин! Когда он нес Геда домой, его полет над островами Внутреннего моря был тысячекратно умножен моряками, которые старались как можно лучше украсить эту и без того красивую историю. Но, с другой стороны, один из наших юных учеников поклялся мне, что и он, и все жители его деревни видели этой весной драконов, круживших над западными склонами горы Онн. Вот я и решил перечитать некоторые старинные книги и узнать, когда драконы перестали летать к востоку от острова Пендор, и в одном из древних пельнийских свитков наткнулся на такую же историю, как ты мне только что рассказал, или же на нечто подобное. О том, что люди и драконы были одним народом, однако поссорились, и в результате одни из них направились на запад, а другие — на восток, превратившись впоследствии в два различных народа и забыв, что некогда были едины.
— Карги всегда плавали очень далеко на восток, — сказал Азвер. — А ты, между прочим, знаешь, как по-каргадски будет «военачальник»?
— Эдран, — быстро сказал Ономатет и засмеялся. — Это значит «дракон». Я знаю ваши галеры с драконом на носу… — Он помолчал немного и прибавил: — Я мог бы попытаться поискать еще и иные значения понятия «на краю смерти», но мне кажется, Азвер, что мы УЖЕ на этом краю! И нашего врага нам не победить.
— Да, у него есть кое-какие преимущества, — сухо признал Азвер.
— И не только. Но если все же допустить, хотя вряд ли это возможно, что мы его победить способны… Если суметь отправить его назад, в царство смерти, а самим остаться здесь… Скажи, что нам делать после этого? Что с нами будет?
Азвер долго молчал, потом промолвил:
— Не знаю.
— А листья и тени в Роще ничего тебе не говорят?
— Они говорят о переменах, — сказал Путеводитель. — О больших переменах!
Он резко вскинул глаза: овцы, столпившиеся у перелаза, вдруг бросились в разные стороны, явно испугавшись кого-то, идущего по тропе от Большого Дома. Как раз в эту минуту подоспел Мастер Травник.
— Сюда направляется целая толпа, — задыхаясь, сообщил он. — Передовой отряд Ториона. В основном старшие ученики. Они намерены схватить эту девушку и выслать ее с острова. — Травник запыхался и хватал воздух ртом. — Привратник пытался поговорить с ними, когда я уходил, и, по-моему, ему…
— А вот и он сам, — сказал Азвер, и Привратник действительно оказался вдруг с ними рядом; его гладкое желтовато-смуглое лицо было, как всегда, спокойным.
— Я предупредил их, — сказал Привратник, — что если они нынче выйдут из Школы через Ворота Медры, то никогда уже не смогут вернуться обратно. И сразу же некоторые из них предложили вообще никуда не ходить, но Ветродуй и Регент всячески побуждали их осуществить задуманное. Между прочим, они скоро меня догонят.
До них уже доносились голоса идущих по тропе.
Азвер, не раздумывая более, бросился к лежавшей на берегу реки Ириан. Остальные последовали за ним. Ириан вскочила; вид у нее был какой-то ошалелый. А волшебники окружили ее и как-то все ощетинились, увидев, что настоящий отряд, состоящий, по крайней мере, из трех десятков человек, миновал маленький домик и направляется к ним. Это действительно были
главным образом старшие ученики, среди которых пятеро или шестеро уже получили посох волшебника. Вел их Мастер Ветродуй. На его худом, морщинистом лице были написаны крайнее напряжение и усталость, однако он вполне бодро и в высшей степени вежливо приветствовал четверых магов.
Они тоже учтиво поздоровались с ним, и слово взял Азвер:
— Мы предлагали собраться в Роще, Мастер Ветродуй. Идемте туда и там, под сенью деревьев, подождем остальных членов Девятки.
— Нет, сперва мы должны разрешить ту проблему, которая нас разделила, — сказал Ветродуй.
— Это неразрешимая проблема, — заметил Ономатет.
— Но ваша женщина своим присутствием в Роще нарушает Устав Рока! — возмутился Ветродуй. — Она ДОЛЖНА уйти! У причала ее ждет судно, и попутный ветер, смею вас заверить, будет им обеспечен до самого Уэя.
— Уж в этом-то я ни минуты не сомневался, господин мой, — сказал Азвер. — Однако я очень сомневаюсь, что она согласится уехать.
— Но неужели и ты, Мастер Путеводитель, отрицаешь теперь правильность нашего Устава и отказываешься от нашего братства, которое всегда было таким крепким и единодушно стремилось к поддержанию порядка в мире? Неужели именно ты первым из всех Мастеров сойдешь с Пути?
— Путь — это не твердь, чтобы с него сходить, — молвил Азвер. — Путь живет в нас, как дыхание, как огонь костра…
Ему явно было трудно подобрать нужные слова на чужом, ардическом языке, и он перешел на язык каргов, не замечая, что далеко не все присутствующие его понимают.
— Пути неведома смерть! — заключил он свой страстный монолог и подошел еще ближе к Ириан, чувствуя исходивший от нее жар. Она молча смотрела на тех, кто ее окружал, и была в эти минуты похожа на крупного зверя, который совершенно не понимает человеческой речи.
— Лорд Торион вернулся из царства смерти, чтобы спасти нас! — звенящим голосом воскликнул Ветродуй. — И, когда он станет Верховным Магом, Рок наконец обретет прежнее могущество. Да и король получит королевскую корону из его рук, как это полагается по закону, и будет править под его руководством, как правил Морред. И ведьмы перестанут топтать священную землю в Роще, и драконы не будут больше угрожать островам Внутреннего моря. И наконец воцарятся порядок и мир!
Никто из четырех магов, по-прежнему окружавших Ириан, ему не ответил. И в затянувшейся тишине прозвучал чей-то молодой голос:
— Да что там говорить! Давайте схватим эту ведьму, и все!
— Нет… — начал было Азвер и больше не смог произнести ни слова, лишь поднял свой ивовый посох, но и посох лишился своей силы, превратившись в обыкновенный кусок дерева.
Из них четверых только Мастер Привратник еще способен оказался двигаться и говорить. Он сделал шаг вперед, переводя взгляд с одного ученика на другого, и спросил:
— Вы доверяли мне, называя мне свои имена, так скажите: верите ли вы мне сейчас?
— Господин мой, — ответил ему один из молодых волшебников, юноша с тонким смуглым лицом, уже получивший свой дубовый посох, — мы и сейчас тебе полностью доверяем, а потому и просим тебя: позволь нам увести эту ведьму из Рощи, и все будет по-прежнему.
Ответить Привратник не успел, ибо вперед вышла Ириан.
— Во-первых, я не ведьма, — сказала она, и высокий голос ее зазвенел металлом. — Я не владею никакими магическими искусствами и умениями. И у меня нет ваших знаний. Я пришла сюда, чтобы получить их, чтобы учиться!
— Мы здесь женщин не учим, — сказал Ветродуй. — И тебе прекрасно это известно!
— Ничего мне не известно! — страстно воскликнула Ириан. И сделала еще шаг вперед, остановившись прямо перед ним. — Скажи, например, кто я?
— Знай свое место, женщина! — Глаза Ветродуя смотрели на нее с холодной яростью.
— Мое место? — медленно проговорила Ириан. — Я думаю, что мое место сейчас на Холме. Там, где все предстает в своем истинном обличье. А потому будь добр, передай этому вашему МЕРТВЕЦУ, что я желаю с ним встретиться на вершине Холма Рок!
Ветродуй стоял перед ней, как вкопанный, и молчал. Среди учеников Школы послышался грозный ропот, некоторые даже сделали пару шагов по направлению к Ириан, но Азвер быстро встал между ними и Ириан; казалось, ее слова стряхнули с него тот странный паралич, что сковал его душу и тело.
— Вы слышали? Скажите Ториону, что мы будем ждать его на Холме, — сказал он. — Пусть приходит, мы будем ждать его там. Следуйте за мной! — велел он Ириан и своим друзьям.
И все они двинулись в Рощу. Прямо перед ними вдруг открылась широкая тропа, ведущая вглубь, но когда некоторые из молодых людей попытались было устремиться туда же, тропа исчезла и деревья сомкнули свои ряды.
— Вернитесь! — крикнул ученикам Мастер Ветродуй.
Они неуверенно повернули назад. Низкое солнце все еще ярко освещало дальние поля и крышу Большого Дома, но в лесу уже сгущались сумерки и плясали темные загадочные тени.
— Колдовство! — заявили ученики. — Святотатство, отступничество!
— Лучше идемте прочь, — велел им Мастер Ветродуй; лицо его было по-прежнему суровым и решительным, но взгляд умных проницательных глаз был тревожен. Он быстро пошел обратно, и молодым людям ничего не оставалось, как последовать за ним, споря и огрызаясь от растерянности и злости.
Они не успели еще отойти далеко от реки, когда Ириан вдруг остановилась, спустилась к воде и присела на корточки у огромных вылезших наружу корней старой ивы. Четверо магов остались на тропе.
— Когда она говорила, дыхание ее стало иным, — сказал Азвер.
Ономатет молча кивнул.
— Значит, мы должны следовать за ней? — спросил Травник.
На этот раз молча кивнул Привратник. И слабо улыбнулся, прибавив:
— Похоже на то.
— Ну что ж, прекрасно! — заявил Травник; на его исполненном вечного терпения лице была написана тревога, однако он более ничего не прибавил, а отошел на несколько шагов от тропы и опустился на колени, разглядывая какое-то крошечное растение или клочок мха.
Казалось, время в Роще вообще не движется, однако день все же подходил к концу, это чувствовалось в глубоких вздохах слабого ветерка, в шелесте листьев, в доносящемся с опушки призывном пении птицы, когда вторая отвечает ей откуда-то из чащи, готовясь лететь к родному гнезду… Ириан наконец медленно выпрямилась и, по-прежнему не говоря ни слова и глядя себе под ноги, вышла на тропу и присоединилась к своим спутникам. Теперь впереди шла она, а четверо мужчин следовали за нею.
Они вышли из леса на тихое, открытое к западу поле, освещенное последними лучами заката. Когда они перешли на другой берег реки Твилберн и побрели через поля к Холму Рок, на западе все еще горела широкая яркая полоса, а округлая темная вершина Холма четко выделялась на фоне светлого неба.
— Они идут! — сказал Мастер Привратник. Действительно, от Большого Дома через сады и огороды вверх по тропе двигалась большая группа людей — пятеро Мастеров и множество учеников Школы. Впереди шел сам Торион-Заклинатель, казавшийся очень высоким в своем сером плаще. В руках он держал посох из какого-то белого, точно кость, дерева, и над его посохом разливалось слабое мерцание волшебного огня.
Там, где обе тропы встретились и соединились, превратившись в ту единственную извилистую тропку, что вела на вершину Холма, Торион остановился, поджидая остальных. Ириан быстро прошла вперед и встала прямо перед ним, глядя ему в глаза.
— Ириан с острова Уэй, — медленно проговорил Мастер Заклинатель своим глубоким чистым голосом, — дабы в этом мире вновь могли установиться порядок и Равновесие, заклинаю тебя: немедленно покинь этот остров! Прости, но мы не можем дать тебе то, что ты просишь. Если же ты станешь упорствовать и попытаешься здесь остаться, то ни о каком прощении с нашей стороны речи уже не будет, а тебе придется на собственном горьком опыте познать, что полагается за нарушение закона.
Ириан стояла молча. Она была почти такой же высокой, как Торион, и держалась так же прямо. Выдержав паузу, она произнесла всего несколько слов — каким-то странным, пронзительным и одновременно хрипловатым голосом:
— Поднимемся на вершину, Торион!
И, оставив его у скрещения троп, стала подниматься на вершину Холма — в сущности, до вершины оставалось всего несколько шагов. На вершине она обернулась и посмотрела на Заклинателя.
— Что мешает тебе подняться сюда, Торион? — спросила она.
Сгущались сумерки. На западе теперь виднелась лишь поблекшая красноватая полоска, а восточный край неба черной тенью навис над морем.
Заклинатель поднял голову и тоже посмотрел на Ириан, а потом медленно воздел руки с зажатым в них белым посохом и начал произносить слова заклинания, слова того Древнего Языка, который изучают все волшебники мира, ибо это язык их профессии — Язык Созидания:
— О, Ириан! Истинным именем твоим призываю тебя и обязываю подчиняться мне!..
Казалось, она колеблется и вот-вот уступит ему, сойдет с вершины, однако она громко воскликнула:
— Мое имя — не только Ириан!
Услышав это, Заклинатель бросился к ней, широко раскинув руки, словно хотел схватить ее и удержать. Теперь они оба уже стояли на вершине, и тем, кто был внизу, показалось, что Ириан каким-то немыслимым образом возвышается над Заклинателем, становясь высокой, точно башня. А потом меж ними в сгустившихся сумерках полыхнуло яркое пламя, блеснула золотисто-красная чешуя дракона, раскрылись огромные крылья… и все исчезло. На вершине опять стояли просто высокая женщина и высокий мужчина, медленно склонявшийся перед нею, склонявшийся до самой земли и потом на эту землю упавший…
Первым обрел способность двигаться и говорить Мастер Травник, который бросился к ним и опустился перед Торионом на колени.
— Господин мой, — окликнул он его, — друг мой!
Но под серым плащом волшебника руки его нащупали лишь груду одежды, кучку старых сухих костей и обломки белого посоха.
— Так-то оно лучше, Торион, — пробормотал Травник, но он плакал.
Старый Ономатет вышел вперед и спросил у высокой женщины, что по-прежнему молча стояла на вершине Холма:
— Кто ты?
— Своего второго имени я пока не знаю, — отвечала она ему на том языке, который должны знать волшебники и который является родным для драконов, — на Языке Созидания. И, ничего более не прибавив, она повернулась, словно собираясь подняться еще выше, НАД вершиной Холма.
— Ириан, — окликнул ее тогда Азвер-Путеводитель, — скажи: ты к нам еще вернешься?
Она резко остановилась и позволила ему подойти к ней совсем близко.
— Вернусь, если ТЫ позовешь меня, — сказала она и в прощальном жесте коснулась его руки. И он, охнув, затаил дыхание.
— Куда ты теперь направишься? — спросил он.
— К тем, кто наречет меня Истинным именем — но в огне, а не в воде! Туда, где мой народ!
— Значит, на запад… — прошептал Азвер.
— На самый далекий запад, — поправила его она.
И, отвернувшись от него и ото всех остальных, пошла навстречу темнеющим небесам. И чем дальше, казалось, она от них отступает, тем лучше видели они бока ящера, покрытые золотистой чешуей, точно кольчугой, шипастый, свивающийся в кольца хвост, когтистые лапы, яркое пламя, вырывавшееся из пасти… Уже почти оторвавшись от земли, Ириан еще несколько мгновений помедлила, неторопливо поворачивая свою продолговатую драконью голову, и оглядела весь остров Рок, долее всего задержав свой взгляд на Имманентной Роще, во тьме казавшейся всего лишь темным пятном. Затем со звоном, точно встряхнули сразу несколько листов бронзы, раскрылись огромные крылья, и дракон взмыл в небо, сделал круг над Холмом и полетел прочь.
Завиток пламени, облачко дыма — вот и все, что осталось в вечернем небе.
Азвер-Путеводитель стоял неподвижно, зажав левой рукой правую, обожженную прощальным прикосновением Ириан, и смотрел вниз, на стоявших в молчании у подножия Холма людей, которые не сводили глаз с небес, где только что исчез дракон.
— Ну что ж, друзья мои, — промолвил он, — как нам быть теперь?
Ему сумел ответить только Мастер Привратник:
— Я думаю, для начала нам следует пойти в Большой Дом и настежь распахнуть его двери.
Краткое описание Земноморья
Народы и языки
Ардические земли
Основные занятия жителей ардических островов Архипелага — это земледелие, скотоводство, рыболовство, торговля, а также практически все те искусства и ремесла, которые свойственны доиндустриальному обществу. Население здесь развивается стабильно и уровня перенаселенности не достигало никогда, ибо люди понимают, что жизненное пространство на островах ограничено. Настоящего голода здесь тоже не знают, да и бедность крайне редко бывает действительно устрашающей.
Маленькими островами или отдельными деревнями обычно управляют более или менее демократичные Совет или Собрание, возглавляемые выборным лицом; причем это может быть как мужчина, так и женщина. Это же лицо представляет интересы того или иного острова или селения и в случае важных торговых сделок. Что же касается Дальних Пределов, то там чаще всего и не знают иной формы правления, кроме всенародного (островного, городского или деревенского) Собрания. На островах Внутреннего моря, правда, довольно рано установилась власть определенной правящей касты, и большей частью крупных островов и городов до сих пор управляют, по крайней мере номинально, знатные лорды, передающие пост правителя, а в целом Архипелагом с давних пор правят короли. В столицах и крупных городах, однако, управление зачастую осуществляется почти исключительно Советом горожан, а также купеческими и ремесленными гильдиями. Это поистине великие гильдии, поскольку сеть их покрывает все Внутренние Земли, и ни одна из них практически не подчиняется никаким правителям, кроме самого короля Земноморья. Королевская столица — порт Хавнор.
Формы допустимых общественных свобод, а также формы вассальной (или на некоторых островах рабской) зависимости отражают признанную обществом Земноморья и довольно эффективную форму власти, которой обладают несколько десятков человек, но далеко не весь народ, и так или иначе воздействуют на все социальные институты, а потому, хотя повседневная жизнь народов Архипелага и кажется почти такой же, какой была и у других народов мира в доиндустриальную эпоху, она имеет все же и свои неповторимые характерные особенности. Одна из них, например, это отсутствие какой бы то ни было религии, возведенной в ранг социального института. А вот различные предрассудки и суеверия распространены здесь столь же широко, как и повсюду. Однако у ардических народов никогда не существовало богов, каких-либо культов и вообще формального почитания чего бы то ни было. Ритуальные действа осуществляются только в связи с традиционными жертвоприношениями на тех островах, где издавна поклоняются Древним Силам Земли; или еще во время великих праздников, отмечаемых повсеместно, — например, праздника Весеннего Равноденствия или праздника Долгого Танца; заключаются же эти действа в основном в исполнении или пересказе популярных эпических песен и легенд, а также порой в представлениях, устраиваемых магами и волшебниками.
Обитатели всех островов Архипелага и Пределов говорят на ардическом языке и обладают сходной культурой с небольшими местными вариациями. Даже небольшой народ из дальнего юго-западного Предела, всю свою жизнь проводящий на больших плотах, сохраняет старинную традицию великих ежегодных празднеств; впрочем, культура этого народа все же значительно отличается от культуры Архипелага, поскольку люди, живущие на плотах, не занимаются ни сельским хозяйством, ни торговлей, практически не имеют связей с обитателями островов и почти ничего не знают об их жизни.
Большая часть жителей Земноморья — люди смуглые, с медно-коричневой или даже темно-коричневой кожей; у них прямые черные волосы и темные глаза. Преобладающий тип сложения таков: небольшой рост, довольно хрупкий костяк, но мускулатура хорошо развита, тело и конечности пропорциональны. В целом это люди весьма стройные и красивые. Жители Восточного и Южного Пределов несколько выше ростом, шире в плечах и более темнокожие. У многих южан кожа действительно темно-коричневая. У мужчин с островов Архипелага растительность на лице обычно весьма незначительная или же ее нет совсем.
У жителей северных островов Осскил, Рогм и Борт более светлый цвет кожи; среди них также часто встречаются русоволосые или даже совсем блондины со светлыми глазами; и тамошние мужчины гораздо чаще, чем на других островах, имеют густые бороды. Язык и культура обитателей северных островов Архипелага, пожалуй, ближе каргадским языку и культуре, чем ардическим. Возможно, их далекими предками и были древние карги, которые, заселив четыре крупных восточных острова, направили свои суда на запад и на северо-запад; случилось это примерно две тысячи лет назад. На четырех крупнейших каргадских островах, расположенных к северо-востоку от основного Архипелага, светлый цвет кожи является преобладающим — иногда они выглядят почти как альбиносы! — а цвет волос варьируется от темных до почти абсолютно белых; глаза тоже бывают и очень темными, и очень светлыми — голубыми или зелеными.
Впрочем, случаев смешения этих двух основных типов обитателей Земноморья за весь период истории было, видимо, не так уж и много, если опять же не считать остров Осскил и соседние с ним острова. Но острова Северного Предела — территория вообще довольно изолированная и весьма слабо населенная. С другой стороны, известно, что карги всегда сторонились жителей Архипелага и враждовали с ними — во всяком случае, в течение двух или трех последних тысячелетий.
Климат на четырех главных каргадских островах весьма засушливый, но земли плодородны и при правильном поливе дают неплохие урожаи. Общество каргов является весьма замкнутым, самодостаточным и всегда испытывало крайне малое влияние, да и то скорее негативное, со стороны куда более многочисленных соседей с южных и западных островов.
Врожденные магические способности у каргов, видимо, проявляются крайне редко. Возможно, это связано с тем, что магию здесь всегда отвергали и всякое ее проявление активно подавлялось как правителями, так и простыми людьми. Так что в каргадском обществе магия не играет сколько-нибудь значительной роли — за исключением тех случаев, когда она воспринимается как непосредственное зло, которого нужно остерегаться. Эта неспособность или нежелание заниматься магией ставит каргов в менее выгодное положение по сравнению с жителями Архипелага почти в любой жизненной ситуации; этим же, возможно, объясняется и то, почему карги предпочитают обычной торговле и прочим формам взаимообмена пиратские налеты на наиболее близкие к ним острова Южного Предела и Гонтийского моря.
Драконы
Героический эпос, песни и легенды указывают на то, что драконы в Земноморье существовали задолго до появления там всех прочих живых существ. В старинных ардических «кеннингах», или поговорках, часто употребляются такие эвфемизмы слова «дракон», как Перворожденный, Старейший, Старший. (Между прочим, слово «первенец», которое на острове Осскил звучит как «акхад», а на Каргадских островах как «гадда», является производным от слова «хаатх», что на Языке Созидания значит «дракон».)
Разрозненные сказки и легенды с Гонта и из Пределов, отрывки священной истории Каргадских земель и таинственной колдовской премудрости острова Пальн, на которую долгое время не желали обращать внимания Мудрецы Рока, — все это содержит многочисленные намеки на то, что некогда драконы и люди были единым народом, но постепенно этот древний народ разделился, образовав два совершенно различных вида живых существ, несопоставимых ни по своим привычкам, ни по внешнему виду, ни по устремлениям. Возможно, продолжительное проживание в столь значительно удаленных друг от друга землях привело и к значительным видовым различиям. Пельнийский фольклор и каргадские легенды утверждают, впрочем, что это разделение было произведено осознанно, в соответствии с соглашением, известным как «верв надан» или «Ведурнан», что и означает «Разделение».
Больше всего легенд об этом сохранилось на острове Гур-ат-Гур, самом восточном из Каргадских островов, где драконы постепенно дегенерировали и превратились в животных, лишенных высшего разума. И все же именно на Гур-ат-Гур люди сохраняют наиболее живую убежденность в исходном родстве людей и драконов. Этим историям о далеком прошлом вторят истории об относительно недавних событиях, во время которых драконы принимали человечье обличье, а люди — обличье драконов; здесь утверждается, что это были существа изначально двойственной природы, то есть являющиеся одновременно и людьми, и драконами.
И тем не менее Разделение произошло, и с начала исторической эпохи люди расселились в основном на центральных островах Архипелага и на восточных, Каргадских островах, а драконы — на самых дальних западных островах. Впоследствии люди не раз ломали голову над тем, почему драконы выбрали своими владениями пустынное море, ведь драконы — это «существа из ветра и огня», которые ненавидят воду и мгновенно тонут, стоит им случайно погрузиться в волны морские. Однако у них нет ни малейшей необходимости ни нырять в море, ни касаться земли; они живут, паря на своих могучих крыльях в безбрежном воздушном океане, купаясь в свете солнца и звезд. Единственное, для чего дракон может использовать землю, — это его гнездо. Обычно драконы выбирают для гнезда какой-нибудь скалистый остров, самка откладывает там яйца и выводит детенышей. Для таких целей более всего подходят как раз маленькие бесплодные островки на самой дальней периферии Западного Предела.
«Создание Эа» не содержит достаточно ясных сведений об исходном единстве и последующем разделении драконов и людей, но, возможно, это связано с тем, что поэма, предположительно написанная на Языке Созидания, была создана в период, предшествовавший Разделению. Наиболее ярким свидетельством того, что люди и драконы имеют общие корни, является в этой знаменитой поэме старинное ардическое слово, понимаемое обычно как «народ/люди» или как «человеческие существа». Это слово «алатх», этимология которого связана с рунами Истинной Речи «атл» и «хтха», значение которых примерно таково: «существа, способные говорить слова» или «те, кто произносит слова», но «произносить слова», как известно, умеют и люди, и драконы. Порой в «Создании Эа» встречается также слово «альхератх», что означает «существа, произносящие Истинные слова», то есть те, кто пользуется Истинной Речью. Это слово также может обозначать людей — волшебников или магов — или драконов; или же и тех, и других. В таинственных колдовских преданиях острова Пальн об этом говорится прямо, и слово «альхератх» используется там для обозначения как волшебников, так и драконов.
Драконы владеют Истинной Речью от рождения; Гед, например, считал, что дракон и его речь суть одно и то же. И если люди и обладали некогда врожденным знанием Истинной Речи, то постепенно они это качество утратили, как утратили и часть своей природы — ее «драконью» часть.
Языки
Древний Язык, или Истинная Речь, или Язык Созидания, с помощью которого, согласно преданиям, в начале времен Сегой создал острова Земноморья — язык, видимо, бесконечный с точки зрения лексики, ибо в его функции входит наименование всего на свете.
Это язык, скорее, именно драконов, а не людей, как уже было сказано выше. Существуют, правда, некоторые исключения. Отдельные, чрезвычайно одаренные волшебники, или же люди, находящиеся в родстве с драконами, обладают неким врожденным знанием Древнего Языка. Но подавляющее большинство людей должны этому языку специально учиться. В ардических землях принято, чтобы те, кто практикует магические искусства, узнавали слова Истинной Речи от своих учителей-волшебников. Колдуны и ведьмы обычно способны запомнить лишь несколько слов Древнего Языка, волшебники же знают их довольно много, а некоторые могут говорить на Древнем Языке почти так же хорошо, как драконы, для которых этот язык является родным.
Все магические заклинания содержат по крайней мере одно слово Истинной Речи, хотя, например, деревенская ведьма или колдун могут и не знать точного значения этого слова. Великие же Заклятия целиком составляются на Древнем Языке, и смысл их постигается окончательно лишь по мере их произнесения вслух.
Ардический язык Архипелага, его диалект «осскили» (на нем говорят на острове Осскил), а также каргадский язык и его диалекты являются производными от Древнего Языка; это как бы его очень дальние родственники. Но ни один из этих современных языков не пригоден для составления магических заклятий.
Обитатели Архипелага говорят на ардическом языке. Существует практически столько же диалектов этого языка, сколько в Архипелаге островов; впрочем, эти диалекты не настолько сильно отличаются друг от друга, чтобы обитатели одного острова не понимали обитателей другого.
Только «осскили», диалект острова Осскил и двух других соседних с ним островов, имеет, пожалуй, большее сходство с каргадским языком, чем с ардическим. Каргадский язык, кстати, особенно сильно отличается от Древнего Языка как по лексическому составу, так и по синтаксическим особенностям. А потому большая часть тех, кто говорит по-каргадски (как и большая часть говорящих на ардическом языке), не сознают, что эти языки имеют один и тот же праязык. Разумеется, ученым Архипелага об этом известно, но большая часть каргов — и среди них даже многие известные ученые! — этого признавать не желают. В их восприятии ардический язык как бы навсегда смешался с Языком Созидания, на котором волшебники произносят свои заклинания, а волшебников на Каргадских островах не любят и боятся, поэтому там презирают и язык Архипелага, считая всех, говорящих на нем, злобными колдунами.
Письменность
Ардическая письменность, по всей вероятности, была создана так называемыми Мастерами Рун, первыми великими волшебниками Архипелага, для того чтобы помочь сохранить Древний Язык. У драконов письменности вообще нет.
В Земноморье же существуют два совершенно различных вида письменности: Истинные Руны и руническое письмо.
С помощью Истинных Рун записывают слова Древнего Языка. Эти Руны являются не просто символами; они способны материализовать любой предмет или, скажем, условие; с их помощью можно предотвратить или вызвать то или иное событие. Написать такую Руну — значит, уже совершить деяние, и сила воздействия таких деяний на окружающий мир зависит от обстоятельств. В основном Истинные Руны встречаются только в древних фольклорных текстах и летописях, и пользуются ими только волшебники, прошедшие специальное обучение. Но отдельные Руны — например, та, которую обычно изображают на притолоке, чтобы защитить дом от пожара, — используются достаточно широко, в том числе и людьми, не имеющими к магии никакого отношения.
Значительно позже было создано так называемое руническое письмо, абсолютно лишенное каких бы то ни было магических свойств. Это письменность современного ардического языка, и воздействует она на окружающую действительность не больше, чем любая другая.
Говорят, что именно Сегой первым написал Истинные Руны — огнем на ветру — и они современницы Языка Созидания. Но скорее всего это не так, поскольку драконы Рунами не пользуются, а если и различают их, то в этом не признаются.
Каждая Истинная Руна имеет основное, самое главное значение и значения дополнительные (обычно их несколько). В этих вспомогательных значениях, кстати, можно с большей или меньшей точностью разобраться с помощью ардического языка. Но лучше все же говорить, что Руны — это не слова, а магические заклинания или заключенные в форму символа деяния. И все же лишь в общем контексте Истинной Речи и лишь в том случае, когда этой речью в устной или письменной форме пользуется настоящий волшебник, имеющий намерение совершить некое действие, усиленное голосом и жестом — то есть при произнесении заклинаний, — отдельные слова этого языка или отдельные Руны действительно полностью реализуют заключенное в них могущество.
Заклятия записываются исключительно с помощью Истинных Рун, хотя иногда возможны — при более «легких» формах магии — некоторые вкрапления ардической письменности. Если человек говорит на Языке Созидания или пишет с помощью Истинных Рун — это полная гарантия истинности того, что он говорит или пишет. Но только если это — человек! Люди не могут лгать, используя Древний Язык, а вот драконы вполне могут. Во всяком случае, так утверждают сами драконы, и если они лгут, то разве это не доказательство того, что сказанное выше — чистая правда?
Произнесенное вслух название одной из Истинных Рун может оказаться именно тем словом, которое обозначает данная руна в Языке Созидания, а может — и одним из вспомогательных его значений, как бы переведенным на ардический язык. Названия таких популярных в народе Рун, как Пирр (ее используют для предохранения жилища от пожара и урагана, а себя — от безумия), Сифл (пожелание успеха) или Симн (пожелание удачи в работе), произносятся безо всяких специальных обрядов и самыми обычными людьми. Однако же те, кто практикует магические искусства и ремесла, даже эти всем известные названия Рун произносят с большой осторожностью, ибо и эти Руны на самом деле являются словами Языка Созидания и могут оказать непреднамеренное или совершенно неожиданное воздействие на то или иное событие.
Так называемые Шестьсот Рун Ардического Языка — это отнюдь не ардические руны, которые используются в обычной письменности, а Истинные Руны, которым в современном разговорном языке были приданы некие «безопасные», т. е. неактивные, значения. А истинное их значение следует запоминать молча, как и все значения Рун Древнего Языка. Целеустремленный студент, готовящийся стать волшебником, непременно пойдет дальше и выучит «Добавочные Руны», «Руны Эа» и многие другие, ибо если Язык Созидания бесконечен, то бесконечны и его Руны.
Обычно в ардических землях для таких целей, как управление островом или селением, написание деловых или личных посланий, запись исторических сведений, лэ или песен, используется письменность, которую правильно было бы называть именно ардическими рунами. Большая часть жителей Архипелага способна выучить от нескольких сотен до нескольких тысяч таких знаков за время своего обучения в школе. Но, повторяю, ардический язык, как в своей письменной, так и в устной форме, совершенно бесполезен для составления заклинаний.
Литература и исторические источники
Не менее полутора тысяч лет назад руническая письменность ардического языка достигла такого уровня развития, что позволяла вести летописи, записывать сведения о тех или иных исторических событиях, а также различные фольклорные произведения, ранее существовавшие, естественно, только в устной форме. Именно в это время появились письменные варианты «Создания Эа», «Зимней песни», рассказов о «деяниях героев», различные лэ и т. п. Все это стали тщательно записывать и хранить. Подобные произведения, впрочем, и поныне существуют в обеих формах — устной и письменной. Многочисленные письменные копии древних текстов служат как бы гарантией их сохранности от любителей чрезмерно свободной интерпретации канонического сюжета или же от полного его забвения. Однако старинные песни и предания и поныне составляют значительную часть образования любого жителя Земноморья; многие из них люди еще в детстве заучивают наизусть, а потом пересказывают или читают их вслух уже своим детям, и, таким образом, эти фольклорные произведения передаются как бы от одного живого голоса другому.
Старый ардический язык довольно сильно отличается от современного как по словарному составу, так и по произношению, хотя упомянутое выше механическое заучивание древних текстов наизусть или регулярное чтение их вслух, безусловно, сохраняет значимость архаического языка (и, возможно, даже несколько сдерживает чересчур вольное развитие современной речи!). Что же касается ардических рун, то они, подобно китайским иероглифам, могут приспособить и впитать в себя самый широкий спектр лексических и фонетических оттенков того или иного слова или выражения.
Сказания о героических деяниях, лэ, песни и популярные баллады по-прежнему создаются как произведения, предназначенные прежде всего для устного исполнения профессиональными певцами и сказителями. Новые же сочинения, представляющие какой-то интерес для всего общества, записывают на больших листах бумаги печатными буквами или же объединяют в виде некоей обширной компиляции.
Вне зависимости от того, исполняют ли их профессиональные чтецы и артисты или же человек читает их молча, про себя, все старинные поэмы и песни ценны прежде всего своим содержанием, а не чисто литературными, формальными достоинствами. Хотя и форма этих произведений иногда бывает поистине совершенной (а порой — и совершенно жалкой!). Вольная метрика, аллитерации, стилизация, устойчивые эпитеты и выражения, структура, основанная на повторениях, — вот основные поэтические приемы, используемые в этих произведениях. Содержание включает мифический, эпический и исторический нарратив, географические описания, практические выводы относительно природы, сельского хозяйства, морской премудрости и прочих умений и ремесел, а также множество назидательных историй, притч и анекдотов, философской, фантастической и духовной поэзии и любовных песен. Эпические сказания о подвигах героев и разнообразные лэ обычно исполняют нараспев; баллады поют, причем часто под аккомпанемент ударных инструментов. Профессиональные сказители и певцы могут исполнять свои произведения также под аккомпанемент арфы, виолы, различных барабанов и других инструментов. В песнях обычно значительно меньше нарративного содержания, и многие из них ценятся в народе главным образом благодаря красоте самой мелодии.
Книги по истории, а также книги, в которых приведены формулы различных магических заклинаний, существуют только в письменной форме, причем используется смешанная письменность — ардические руны и Истинные, — и только в единственном экземпляре. Рукописная копия такой книги, хранимая с особой осторожностью, обычно представляет собой некую компиляцию, составленную одним или несколькими известными волшебниками.
Часто выдвигается обязательное требование: ни одно написанное в такой книге слово НИКОГДА не должно произноситься вслух!
Диалект «осскили» также в качестве письменности использует ардические руны, поскольку жители Осскила ведут активный торговый обмен с теми островами, где говорят на ардическом языке.
А вот карги весьма упорно сопротивляются введению каких бы то ни было видов письменности, считая все руны на свете чем-то колдовским и злокозненным. Они ведут свои записи и расчеты с помощью весьма сложной системы переплетения нитей разного цвета и плотности, являясь при этом замечательными математиками (карги используют двенадцатеричную систему счета). Лишь с тех пор, как к власти пришли Боги-короли, карги стали изредка пользоваться некоторыми видами символического письма, но очень неохотно. Чиновники и торговцы Каргадской Империи довольно умело адаптировали ардические руны, приспособив их к своему родному языку в целях развития экономических и дипломатических отношений с ардическими землями, но священнослужители Каргада ардическую письменность презирают; и многие весьма образованные карги до сих пор пишут каждую ардическую руну с особым дополнительным значком — как бы прокалывая ее копьем, дабы уничтожить всякое колдовство, которое в ней скрывается.
История
Примечание относительно датировки: многие острова имеют свою собственную систему летосчисления. Наиболее распространенной на Архипелаге является система, описанная впервые в «Истории Хавнора», где год воцарения Морреда считается первым годом истории Земноморья. Согласно этой системе, события, о которых повествуется в данной книге, относятся к 1058 году.
Начало начал
Сведения о древней истории Земноморья следует искать в эпических поэмах и героических песнях, передававшихся из уст в уста в течение многих веков задолго до того, как они были наконец записаны.
Старейшая из этих поэм — «Создание Эа»; это произведение считается поистине священным и существует на ардическом языке по меньшей мере две тысячи лет, хотя первоначальная версия поэмы могла возникнуть и на тысячу лет раньше. Поэма содержит тридцать одну строфу и повествует о том, как Сегой в самом начале времен поднял острова Земноморья со дна морского и создал на них все живое, каждому предмету и живому существу дав имя на Языке Созидания — на том самом языке, на котором якобы и была впервые исполнена эта поэма.
Море, понятно, куда старше островов, и об этом говорится во многих героических песнях.
…И до того,
Как светлый Эа возник и поднял
Остальные острова Сегой,
Дул ветер утренней зари, и волны
Катились тихо в дымке голубой…
Одновременно с самим этим миром возникли, видимо, и Древние Силы Земли, которые и до сих пор проявляют порой свое неколебимое могущество, особенно ощутимое на Холме Рок, в Имманентной Роще, в Гробницах Атуана, в замке Терренон и в некоторых других местах.
Вполне возможно, и сам Сегой — это тоже одна из Древних Сил Земли. Вполне возможно также, что «Сегой» — это Истинное имя самой Земли. Кое-кто считает даже, что драконы, или же НЕКОТОРЫЕ драконы и НЕКОТОРЫЕ люди, суть проявления Сегоя. Доподлинно известно лишь, что слово «сегой» — древнейшее уважительное обращение, образованное от старинного ардического глагола «сеоге», что значит «создавать, придавать форму, вдыхать жизнь во что-либо». От того же корня образовано и существительное «эссеге» — «созидательная сила, дыхание, поэзия».
«Создание Эа» — это основа основ того образования, которое дают детям на островах Архипелага. К шести-семи годам ребенок обычно уже несколько раз слышал эту поэму и начал сам учить ее наизусть. Взрослый человек, не знающий «Создание Эа» наизусть, а потому не способный хотя бы пересказать ее своим детям, считается абсолютно невежественным. Эту поэму учат обычно в течение зимы и весны и каждый год обязательно рассказывают или поют целиком во время Долгого Танца — праздника летнего солнцестояния.
Цитатой из этой поэмы начинается «Волшебник Земноморья»:
В молчании — слово,
А свет — лишь во тьме,
И жизнь после смерти
Проносится быстро,
Как ястреб, что мчится
По сини небесной,
Пустынной, бескрайней.
А начало ее первой строфы процитировано мною в «Техану»:
Разрушив — создашь.
То конец ли, начало?
Одно из другого…
Кто знает наверно?
Одно лишь мы знаем:
Есть дверь меж мирами,
В нее мы уходим,
Навек расставаясь.
Но есть существа,
Что приходят обратно…
Среди них Старейший —
Привратник Сегой…
В «Техану» вы встретите и последние строки первой строфы:
…из пены светлый
Остров Эа поднялся.
История архипелага
Короли Энлада
Два наиболее ранних исторических трактата — это «Подвиг Энлада» и «Сказания о подвигах Молодого Короля»; последний также часто носит название «Подвиг Морреда».
«Подвиг Энлада», который, по большому счету, представляет собой просто цикл мифов, повествует о тех королях Земноморья, что правили до воцарения Морреда, и о самых первых годах правления самого Морреда. Столицей Земноморья в те времена был город Берила на острове Энлад.
Первые короли и королевы Энлада, среди которых особенно известны такие имена, как Лар Ашал, Дохун, Энашен, Тиман и Тагтар, постоянно усиливали свою власть и могущество, пока наконец не провозгласили себя правителями всего Земноморья, хотя на самом деле границы их владений на юге заканчивались островом Илиен, а на востоке не доходили и до острова Фелкуэй; острова Пальн и Семел на западе и остров Осскил на севере вообще им не подчинялись, но энладские правители упорно настаивали на своем и постоянно посылали своих разведчиков и прочих верных им людей на острова Внутреннего моря и даже в Пределы. Те старинные карты Земноморья, что ныне хранятся в архивах хавнорского дворца, были созданы в Бериле примерно двенадцать веков назад.
Надо отметить, что все первые энладские короли и королевы имели некоторое представление о Языке Созидания и о магии, а некоторые из них явно и сами были волшебниками или же имели волшебников в числе самых близких своих советников. Однако магия в «Подвиге Энлада» представляется как сила довольно странная, неустойчивая, на которую нельзя положиться. Морред был первым — и человеком, и королем, — кого открыто называли магом или волшебником.
Морред
«Сказания о подвигах Молодого Короля» исполняются ежегодно во время праздника зимнего солнцестояния, когда солнце снова поворачивает к югу. В этой поэме или, скорее, историческом трактате повествуется о короле Морреде, которого называли также Королем-Магом, Белым Чародеем и Молодым Королем. Морред происходил из боковой ветви энладских правителей и трон унаследовал от кого-то из дальних родственников, а не от отца. Его прямыми предками были волшебники, служившие у королей советниками.
Поэма начинается с широко известной и самой любимой на Архипелаге истории любви Морреда и прекрасной Эльфарран. Молодой Король правил третий год, когда, отправившись на юг, посетил самый большой остров Архипелага, Хавнор, дабы прекратить наконец распри, без конца возникавшие между тамошними
городами-государствами. Возвращаясь назад на своем «длинном безвесельном судне», он приблизился к острову Солеа и там, «в садах весенних», увидел Эльфарран (она же Островитянка и Хозяйка Солеа). Далее свой путь Морред продолжать не стал, а остался с Эльфарран, поклялся ей в вечной любви и в подтверждение своей клятвы подарил ей серебряный браслет, или наручень — драгоценную семейную реликвию, на которой была выгравирована одна-единственная, но очень могущественная Истинная Руна, Руна Мира.
Морред и Эльфарран поженились. В поэме годы их правления Земноморьем описаны, как короткий «золотой век». Именно тогда были заложены основы всей теперешней культуры и этики, а также — основы государственного управления.
Однако еще до того, как Эльфарран вышла за Морреда, некий маг, имя которого нигде не приводится (его везде называют или Врагом Морреда, или Хозяином Волшебной Палочки), всячески демонстрировал ей свои пылкие чувства и мечтал на ней жениться. Он так и не простил Эльфарран того, что она предпочла другого, и решил во что бы то ни стало завладеть ею. Этому магу действительно удалось всего за несколько лет достигнуть поистине невероятного могущества. После свадьбы Морреда и Эльфарран не прошло и пяти лет, когда Враг вновь заявил о себе и весьма грозно, пообещав:
Коли моей не станет Эльфарран,
Я уничтожу мир, построенный Сегоем!
Сотру с лица земли и этот остров,
Пусть волны белогривые его поглотят!
Этот маг действительно обладал великой силой: он способен был поднимать на море огромные волны, останавливать приливы и отливы, а голосом своим мог зачаровать население целого острова, и под воздействием его чар люди превращались в послушных рабов, так что ему довольно легко удалось настроить подданных Морреда против него. Крича, что король их предал, жители Энлада стали крушить собственные дома и жечь урожай в полях; моряки топили свои корабли, а воины Морреда сражались друг с другом, устраивая кровавые и бессмысленные смертельные поединки.
Морред предпринимал отчаянные попытки вызволить свой народ из-под власти чародея и как-то собраться с силами, а Эльфарран с годовалым первенцем вернулась на свой родной остров Солеа, зная, что там ее магические силы окрепнут. Однако Враг Морреда последовал за нею на Солеа, намереваясь взять красавицу в плен и сделать своей рабыней. Эльфарран укрылась от него близ Источников Энса, где особенно сильны были Древние Силы Земли, и она, обладая определенными знаниями, сумела не только противостоять Врагу, но и заставила его убраться с острова. «И воды сладкие Земли нахлынули и смыли в море проклятого Врага», — говорится в поэме. Но, покидая остров, «проклятый Враг» сумел взять в плен любимого брата Эльфарран, Салана, который плыл на Солеа с Энлада, чтобы помочь ей. Превратив Салана в своего «геббета», или зомби, Враг послал его к Морреду с письмом, в котором говорилось, что Эльфарран вместе с младенцем бежала на маленький островок в островной системе Челюсти Энлада.
Поверив посланнику, Морред попался в ловушку, и ему с трудом удалось спасти собственную жизнь. Он бежал, и Враг преследовал его по всему острову — с восточного берега до западного, оставляя на своем пути сплошные руины. Но на равнинах Энлада Морред встретил друзей, которые оставались ему верны — это в основном были моряки, которые привели свои суда к берегам острова, чтобы помочь королю, — и он наконец смог повернуться к противнику лицом и дать ему бой. Но Враг не пожелал встретиться с Морредом в честном поединке, а выслал сражаться с ним его же собственных воинов, зачарованных страшным заклятием. Смотреть на них не было сил: Враг так заколдовал несчастных, что тела их извивались в страшных судорогах, и они «живые, казалось, умерли от жажды и на жаре, в пустыне, почернели». И Морред, желая пощадить своих воинов, отступил.
Но, стоило ему покинуть поле боя, как начался дождь, и он прочел Истинное имя своего противника, написанное в пыли дождевыми каплями.
Теперь, зная это имя, Морред смог не только противостоять чарам Врага, но и изгнать его с Энлада. Он гнал его по бурному зимнему морю, «скакал верхом на ветре западном, дожди несущем, на облаках он плыл тяжелых». В итоге поединок все-таки состоялся, и каждый из соперников стоил другого, и оба пропали где-то за морем Эа. Как стало известно позднее, оба погибли.
Но перед смертью в бессильной ярости Враг успел поднять гигантскую волну, которая с невероятной скоростью понеслась по морю и накрыла весь остров Солеа. Эльфарран, узнав о мчавшейся к острову волне заранее (как узнала заранее и о смерти Морреда), призвала своих подданных немедленно погрузиться на корабли и в лодки и отплыть подальше от острова, а сама, как говорится в поэме, «взяв в руки маленькую арфу» и ожидая неминуемой смерти, ибо эту волну смог бы остановить только Морред, сочинила песню «Плач о Белом Чародее» и пела ее, пока остров не скрылся в морской пучине. Эльфарран, разумеется, утонула, но колыбель из ивы, сделанная в форме лодки, легко поплыла по волнам, унося ее маленького сына Серриадха навстречу спасению. А когда ребенка нашли, на ручке у него был тот браслет с начертанной на нем Руной Мира, который Морред подарил когда-то своей жене, — этот браслет называют еще «кольцом Эльфарран», так он мал.
На картах Архипелага остров Солеа обозначается с тех пор белым пятном или знаком водоворота.
После Морреда правили еще семь королей и королев; все они были уроженцами Энлада, и при них королевство процветало, постоянно расширяя свои границы.
Короли Хавнора
Через полтора века после гибели Морреда, король Акамбар, правитель города Шелитха, что на острове Уэй, перевез свой двор в порт Хавнор и сделал этот город столицей всего королевства. Занимая в Земноморье центральное положение, более выгодное, чем у Энлада, Хавнор был лучше приспособлен как для бурно развивавшейся торговли, так и для содержания большого военного флота, ибо то и дело приходилось посылать боевые корабли на защиту ардических земель от набегов воинственных каргов.
История четырнадцати королей Хавнора (на самом деле в 150–400 гг. там правили шесть королей и восемь королев) изложена в знаменитом «Хавнорском лэ». Если проследить всю генеалогию королевского рода как по мужской, так и по женской линии, а также учитывать перекрестные браки с представителями различных знатных родов Архипелага, то Королевский Дом включает в себя пять княжеств: Дом Энлада, старейший, ведущий свою родословную непосредственно от Морреда и Серриадха; Дом Шелитха; Дом Эа; Дом Хавнора и, наконец, Дом Илиена. Князь острова Илиен — Гемаль, Морем Рожденный — был первым в своем роду, кому удалось занять королевский трон. Внучкой Гемаля была королева Геру; а ее сын, Махарион (правивший в 430–452 гг.) стал последним настоящим королем Земноморья, и после него наступили так называемые Темные Времена.
Пока Земноморьем правили короли Хавнора, острова Архипелага процветали; это было время великих открытий и укрепления государственной власти. Но в последние сто лет их правления стали все учащаться яростные стычки с каргами на востоке и нападения драконов на западе.
Короли, князья и простые островитяне, озабоченные защитой своих земель, все больше полагались на могущественных волшебников, ибо только они способны были на какое-то время отогнать драконов и заставить суда каргов убраться восвояси. Уже в «Хавнорском лэ» и в «Подвигах Повелителей Драконов» по мере развития сюжета имена и подвиги этих волшебников как бы постепенно замещают имена королей.
В этот период великий ученый и маг Атх составил «Книгу Имен», в которой объединил весьма разрозненные тогда магические знания, особое внимание уделив словам Истинной Речи. Его «Книга Имен» стала фундаментом ономатики как важнейшей составляющей магического искусства. Впоследствии Атх оставил эту книгу у своего друга на острове Поди, а сам по просьбе короля отправился на запад, чтобы защитить тамошние земли от целого выводка драконов, безнаказанно истреблявших скот, устраивавших пожары и погромы. Атху, однако, пришлось сразиться там не с молодыми драконами, а с великим драконом Ормом, и рассказы об этом поединке весьма отличаются друг от друга. Но точно известно, что, хотя после этого поединка драконы на некоторое время действительно прекратили свои налеты на западные острова, великий Орм остался жив, а вот Атх погиб. Его знаменитая «Книга Имен» вот уже много веков хранится в Одинокой Башне на острове Рок.
Говорят, что питаются драконы солнечным светом или огнем, а убивают, только придя в ярость или защищая свое потомство (иногда, впрочем, и просто ради развлечения!), но добычу свою никогда не съедают. С незапамятных времен, задолго до того, как на трон взошла королева Геру, драконы использовали только самые дальние островки Западного Предела — которые, возможно, были для них как раз восточной границей их собственного королевства. Они устраивали там брачные танцы и выводили потомство. Обитатели же более крупных островов Западного Предела даже и видели-то драконов крайне редко. По природе своей раздражительные и отважные, драконы, возможно, ощущали некоторую угрозу со стороны Внутренних островов: острова эти процветали, там явно выросло население, развивались науки и ремесла, из-за чего тамошние суда стали постоянно бороздить воды Западного Предела. В общем, какова бы ни была настоящая причина этого, а в те годы драконы стали все чаще совершать неожиданные и беспорядочные налеты на стада коров и овец и нападать на жителей одиноких западных островков.
Легенда о «Ведурнане», или «Разделении», известная на острове Гур-ат-Гур, гласит:
Люди выбрали ярмо,
А драконы — крылья.
Люди — чтобы владеть,
Драконы — чтобы лететь.
То есть после Разделения люди выбрали собственное благополучие и власть на земле, а драконы предпочли не владеть ничем. Но как среди людей есть абсолютные аскеты, так и среди драконов есть необычайно жадные, большие любители всяких блестящих побрякушек — золота, драгоценных камней и т. п. Одним из таких драконов был Йевод, который любил иногда появляться среди людей в человечьем обличье и который превратил некогда богатый остров Пендор в гнездилище драконов, пока Гед не отогнал его далеко на запад. Однако драконы-мародеры, описанные в лэ «Ведурнан» и различных героических песнях, были, похоже, движимы не столько алчностью, сколько гневом, ибо считали, что их самым бессовестным образом обманули и предали люди.
Эпические поэмы и лэ, в которых повествуется о нападениях драконов и о бесстрашных вылазках против них волшебников Земноморья, изображают драконов абсолютно безжалостными, похожими на диких зверей, ужасными и непредсказуемыми, но все же наделенными разумом. Драконы порой оказываются значительно хитрее волшебников, ибо они, пользуясь Истинной Речью, все же способны лгать. Некоторые из них явно наслаждаются «поединками умов», как бы «расщепляя» аргументы волшебника «своим раздвоенным языком». Как и люди, все драконы, за исключением самых великих, скрывают свои Истинные имена. В лэ «Странствия Хазы» драконы предстают как немыслимо могучие, но наделенные тонким разумом и глубокими чувствами существа, гнев которых на вторгшиеся в их воды корабли даже оправдывается тем, что драконам очень дорога их уединенная обитель. Они так обращаются к главному герою:
Плыви назад, к родному дому,
На восток, о, Хаза!
Пусть крылья звонкие драконов
Владеют ветром Запада.
Оставь нам океан воздушный,
Неведомый, не знающий пределов.
Махарион и Эррет-Акбе
Королева Геру по прозвищу Орлица унаследовала трон от своего отца, Денгемала из княжеского рода Илиен. Ее супруг Айман был из того же рода, что и Морред. Закончив свое правление и просидев на троне тридцать лет, Геру передала королевскую корону своему сыну Махариону.
Советником Махариона, его придворным магом и неразлучным дружком был человек простой, как говорится, «безотцовщина»: сын деревенской колдуньи из внутренних районов огромного острова Хавнор. Звали его Эррет-Акбе. Это самый любимый фольклорный герой народов Архипелага. Его история изложена в героической поэме «Подвиг Эррет-Акбе», которую всегда исполняют июньской ночью во время праздника Долгий Танец.
Магический талант Эррет-Акбе стал очевиден всем, когда он был еще ребенком, и его отослали во дворец, чтобы тамошние волшебники дали ему соответствующие знания. И он так понравился королеве, что она выбрала его в компаньоны своему сыну, Махариону.
Махарион и Эррет-Акбе стали побратимами. Они десять лет вместе сражались с каргами, которые совершали уже не отдельные набеги на своих соседей, а устроили настоящее нашествие, имевшее целью захватить богатые Внутренние острова и обратить их жителей в рабство. Острова Венвей, Торхевен, Ториклы, Спиви, Перрегаль и отчасти Гонт уже давно находились под властью каргов. Целое поколение выросло в страхе перед ними. В Шелитхе на острове Уэй Эррет-Акбе придумал знаменитое заклинание против каргов, которые высадились с «тысячи кораблей» близ Уэймарша и упорно продвигались к центру острова. Призвав на помощь Древние Силы Земли и с помощью Великого Заклятия, называемого в народе «водяной премудростью» (возможно, это было то же самое заклятие, каким воспользовалась Эльфарран на острове Солеа, чтобы защитить его от Врага), Эррет-Акбе превратил воды Источников Шелитха — священных родников, прудов и фонтанов в садах правителей острова Уэй — в бурный поток, который буквально смыл захватчиков, вышвырнув их на самый берег моря, где на них обрушились воины Махариона. Ни один корабль каргов не вернулся на остров Карего-Ат из того похода.
Следующим соперником Эррет-Акбе оказался некий маг по прозвищу Повелитель Огня, и могущество этого волшебника было столь велико, что он сумел, например, удлинить день на пять часов, но так и не смог, хотя клятвенно обещал это, остановить солнце в зените и навсегда изгнать с островов ночную тьму. Чтобы сразиться с Эррет-Акбе, этот Повелитель Огня принял обличье дракона, но все же был побежден — правда, во время поединка он сжег все леса и города острова Илиен.
Возможно, на самом деле этот Повелитель Огня был просто драконом в человечьем обличье, ибо вскоре после его гибели Орм, Великий Дракон, который победил Атха, повел полчища своих сородичей грабить и разорять западные острова Архипелага — видимо, в порядке возмездия за гибель Повелителя Огня. Яростные атаки драконов вызывали у жителей островов настоящий ужас, и сотни кораблей пустились в путь, увозя беженцев с Пальна и Семела на острова Внутреннего моря. И все же не драконы были самой страшной бедой. Карги наносили куда больший ущерб, и Махарион правильно рассудил: самая большая опасность грозит его землям с востока. Он отправился со своим войском на запад, воевать с драконами, а Эррет-Акбе послал на восток, чтобы тот попытался установить мир с королем Каргада.
Для этого Геру, королева-мать, передала Эррет-Акбе тот самый браслет-наручень, который Морред некогда подарил Эльфарран; а сама Геру получила браслет в подарок от своего супруга Аймала в день свадьбы. Браслет бережно хранили и передавали из поколения в поколение все потомки Серриадха; он составлял главную драгоценность этого рода, ибо на нем был вырезан символ, которого больше нигде не встретишь: Связующая Руна, или Руна Мира, которая, по преданиям, должна была служить гарантией мира и справедливости в Земноморье. «Пусть король Каргада наденет это в знак мира!» — сказала Эррет-Акбе на прощанье королева-мать. И он, унося с собой самый щедрый на свете подарок и горя искренним желанием поскорее заключить с каргами мир, один отправился в столицу каргов, на остров Карего-Ат.
Там он был принят королем Торегом, который после сокрушительного разгрома своего флота близ острова Уэй был готов заключить с ардическими островами перемирие и вывести свои войска с оккупированных земель при условии, что король Махарион не обрушит на его страну никаких репрессий.
Однако каргадским королевством уже тогда, по сути дела, управляли жрецы и жрицы, служившие Богам-Близнецам. Верховный жрец Интатин яростно сопротивлялся заключению какого бы то ни было перемирия с западными островами и вызвал Эррет-Акбе на поединок. Поскольку карги не практикуют магические искусства в том смысле, как это понимают ардические народы, Интатин обманом завлек Эррет-Акбе в такое место, где Древние Силы Земли оказались способны свести на нет все его невероятное волшебное могущество. Героическая поэма «Подвиг Эррет-Акбе» повествует о том, как боролись Эррет-Акбе и Интатин, пока в душу первого
…не проникла слабость,
Древней тьмою порожденная.
И подземелий тишина
Давить ему на разум стала,
И долго он лежал без сил,
Забыв о славе и о жизни,
К груди лишь прижимая
Кольца сломленного частицу,
На которой одна осталась
Половинка Руны Мира…
Дочь «мудрого короля Торега» спасла Эррет-Акбе, выведя его из транса и освободив от пут сковывающего заклятия. Она помогла ему восстановить силы, и он подарил ей сохранившуюся у него половинку сломанного Кольца Мира. (И эта половинка Кольца переходила из рук в руки в течение более чем пяти столетий, и потомки этой женщины бережно хранили ее, и наконец она попала к наследникам последнего правителя Карего-Ат, брату и сестре, которых еще детьми сослали на необитаемый островок в Восточном Пределе. Но дети умудрились выжить, и впоследствии дочь правителя, успевшая уже стать старухой, отдала половинку Кольца волшебнику Геду.) Жрец Интатин тоже сохранил вторую половинку сломанного Кольца, и она «ушла во тьму» — то есть в Великую сокровищницу Гробниц Атуана. (Там Гед ее и нашел, и, соединив две половинки, а вместе с ними и утраченную Руну Мира, вместе с Тенар доставил Кольцо в Хавнор.)
Каргадская версия этой истории считается священной и звучит только из уст жрецов. Согласно ей, Интатин одержал над Эррет-Акбе победу, ибо тот «утратил свой волшебный посох, могущество волшебных амулетов», а потом «уполз» в Хавнор, сломленный физически и морально. Однако в ту пору посох еще не служил волшебникам символом магического могущества, так что у Эррет-Акбе посоха с собой не было; и он никак не мог быть человеком сломленным, ибо впоследствии успешно сражался с драконом Ормом; напротив, он был и остался весьма могущественным волшебником.
Король Махарион искал мира, но так и не обрел его. Пока Эррет-Акбе находился на острове Карего-Ат (что, возможно, заняло несколько лет), грабительские налеты драконов все учащались. Острова Внутреннего моря страдали от наплыва беженцев, переселявшихся из западных земель, а также из-за нарушенных торговых и морских связей, поскольку драконы теперь стали попросту сжигать корабли, если обнаруживали их в море западнее острова Хоск, а торговые суда грабили даже во Внутреннем море. И тогда Махарион собрал всех своих воинов и волшебников и объявил драконам беспощадную войну. Четыре раза начинал он сражение с ними, однако мечи и стрелы были бессильны против закованных в броню и изрыгающих пламя крылатых чудовищ. Остров Пальн превратился в выжженную долину, да и все селения на западном берегу Хавнора были сожжены дотла. Королевским волшебникам удалось, правда, с помощью связующих заклятий поймать и убить нескольких драконов, круживших над Пельнийским морем, но это лишь еще больше разозлило остальных. Не успел Эррет-Акбе вернуться в Хавнор, как в небе над столицей появился Великий Дракон Орм, угрожая сжечь башни королевского дворца.
И тогда Эррет-Акбе вышел в залив на своем судне, паруса которого «до дыр истрепаны восточными ветрами были». После возвращения на родину он не успел даже «ни названого брата обнять, ни поздороваться с родными». Отойдя подальше от берега, он принял обличье дракона и полетел на битву с Ормом. Их поединок состоялся над горой Онн, и «зарево пожаров во тьме полночной» хорошо было видно из королевского дворца. Потом они полетели на север, и Эррет-Акбе упорно преследовал врага. Но над морем близ острова Таон дракон Орм вдруг резко повернул назад, и на этот раз ему удалось так сильно ранить Эррет-Акбе, что тот был вынужден спуститься на землю и принять свое собственное обличье. Так он оказался на острове Эа, самом первом из островов Земноморья, поднятых Сегоем из морской пучины. Но дракон преследовал волшебника, и на священной земле Эа они вновь сошлись, Эррет-Акбе и Орм, но сражаться более не стали, а заговорили как равные и решили навсегда покончить с враждой, разделяющей их народы.
Но, к сожалению, королевские волшебники, пришедшие в ярость после атаки дракона Орма на королевский дворец и к тому же подогретые своей победой в Пельнийском море, успели уже послать боевые корабли к самым дальним островам Западного Предела, где среди валунов и скал драконы устраивали гнезда и растили свое потомство. Воины перебили множество молодых драконов. Они также «сокрушали яйца исполинские» тяжелыми молотами, и когда Орм узнал об этом, то вновь воспылал гневом и «огненной стрелой понесся к Хавнору». (Слово «дракон» и в ардическом, и в каргадском языках обычно мужского рода, но на самом деле установить половую принадлежность того или иного дракона практически невозможно, тем более если имеешь дело со старейшим и самым крупным из них; это, собственно, одна из тайн драконьего племени.)
Эррет-Акбе, не успев еще оправиться от тяжких ранений, все же устремился вслед за разъяренным Ормом и отогнал его от Хавнора. Он преследовал дракона над островами Архипелага и Пределов, не давая ему приземлиться и стараясь все время держать его над морем, пока, совершенно обессиленные, они не пронеслись над островами Драконьи Бега и не сели на Селидоре, самом дальнем острове Западного Предела. И там, на последнем берегу Земноморья, они сошлись в смертельном поединке и бились «когтями и огнем, мечом и словом», пока:
…Потоками не потекла их кровь
И на песке смешалась.
И покраснел песок от крови,
И прервалось дыхание обоих.
У кромки шумного прибоя
Они лежали, сплетясь телами.
И в царство смерти дракон
И человек шагнули вместе.
Как гласит легенда, узнав об этом, король Махарион отправился на Селидор, чтобы «у моря плакать». Он привез в Хавнор меч Эррет-Акбе и поместил его на самую высокую башню своего дворца.
После гибели Орма драконы продолжали угрожать западным островам, особенно когда их провоцировали пресловутые «охотники на драконов», однако нападать на густонаселенные острова Земноморья и мирные корабли они практически перестали. В этот период только дракон Йевод с острова Пендор время от времени совершал грабительские налеты на Внутренние острова. Но к тому времени, когда Калессин по прозвищу Старейший принес Геда и Лебаннена на остров Рок, драконов над Внутренним морем не видели уже несколько столетий.
Махарион пережил Эррет-Акбе всего на несколько лет, так и не установив мира в своем королевстве и сильно тревожась о его судьбе. Было широко распространено мнение, что, с тех пор как утрачено Кольцо Мира, настоящего мира в Земноморье и быть не может. Как и настоящего короля. Смертельно раненный в битве с мятежным лордом Гехисом из Хавенса, Махарион успел произнести свое знаменитое пророчество: «Тот унаследует мой трон, кто живым пройдет по темному царству смерти и выйдет к дальнему берегу дня».
Темные времена, «Братство Руки», Школа Волшебников
После смерти Махариона в 452 г. королевский трон оспаривали сразу несколько претендентов; успеха не имел ни один, но буквально за несколько лет их распри разрушили всю государственную систему управления. Острова Архипелага превратились в поля сражений для наследных феодальных князей и князьков, для правителей городов и для воинственных пиратских вожаков. Цель у всех, впрочем, была одна: умножить свое богатство и расширить или хотя бы защитить границы своих владений. Торговля и морское сообщение между островами хирели под гнетом пиратства, крупные и мелкие города, точно улитки в раковину, заползали внутрь высоких крепостных стен; искусства и ремесла, рыболовство и сельское хозяйство страдали от постоянных войн и бандитских налетов; рабство, которого при королях не было практически ни на одном из островов Архипелага, стало весьма распространенным, а магия превратилась в расхожий инструмент для плетения интриг и в грозное оружие пиратов. Волшебники нанимались в услужение к могущественным военачальникам и пиратским вожакам; они, собственно, и сами зачастую стремились стать правителями. Из-за безответственности таких волшебников, из-за их неправильного, извращенного подхода к магическим искусствам и магия, и сами волшебники стали пользоваться дурной славой.
В этот период от драконов особой угрозы не исходило, а карги были поглощены собственными внутренними распрями, и все же распад общества на островах Архипелага с каждым годом ощущался все острее. Моральные и интеллектуальные основы островной культуры всегда были теснейшим образом связаны со знанием основных законов «Созидания», мифов и героического эпоса Земноморья и с обучением всему этому молодого поколения. Да и культура любого народа зиждется на бережном отношении к наукам и искусствам, умениям и ремеслам, а также — на правильном отношении к магии и правильном ее использовании.
«Братство Руки» (или «Союз Руки»), вольное сообщество, основной заботой которого стали проблемы магической этики и обучения магическим искусствам, было создано на острове Рок примерно через сто пятьдесят лет после смерти Махариона. Воспринимая «Союз Руки» как угрозу своей гегемонии, воинствующие маги-правители острова Уотхорт напали на остров Рок и перебили там почти всех взрослых мужчин. Однако братство уже успело дать побеги и распространиться практически по всем островам Внутреннего моря. Под названием «Женщины Руки» (поскольку после упомянутого побоища на Роке почти не осталось мужчин) это сообщество просуществовало несколько веков, создав тонкую, но весьма жизнеспособную информационную сеть, благодаря которой осуществляло связь между островами, защиту членов общества и обучение молодых.
Примерно в 650 г. сестры Элеаль и Яхан с острова Рок, а также Медра-Искатель и некоторые другие члены братства основали на Роке Школу, которая должна была стать центром сбора и распространения магических знаний. В этой Школе можно было не только оттачивать собственное мастерство и обучать других, но и осуществлять этический контроль над практической магией. Благодаря братству и его представителям на других островах, репутация Школы и ее влияние быстро росли. Однажды королевский маг Тариэль из Хавнора, справедливо воспринимая Школу как угрозу неконтролируемой власти магов, явился на Рок с огромным флотом, желая уничтожить тамошних волшебников. Однако был уничтожен сам, а его боевые корабли разбиты в щепы. Эта первая победа имела громкий результат: Школа Волшебников на острове Рок стала считаться абсолютно неуязвимой.
Благодаря все возраставшему влиянию Школы, магия постепенно сформировалась в последовательную систему знаний, и волшебники при ее использовании все чаще руководствовались моральными и политическими целями. Ученики Школы, закончив ее, отправлялись на другие острова Архипелага, чтобы с помощью своих знаний противостоять беззаконию, царившему в Земноморье, набегам пиратов и бесконечным междоусобицам владетельных князей. Они предотвращали разбойничьи налеты и грабежи, налагали штрафы и помогали заключать экономические и военные соглашения, укрепляли границы и защищали как отдельных людей, так и целые деревни и города, особое внимание уделяя столицам и крупным портам. Мудрецы Рока, стремясь восстановить в Земноморье покой и порядок, в первое время специально посылали молодых волшебников присутствовать в качестве «подкрепления» при заключении мирных договоров; а впоследствии волшебников все чаще стали просить непосредственно участвовать в заключении таких договоров и в контроле над их соблюдением в дальнейшем. Королевский трон в Хавноре по-прежнему пустовал, и Школа Рока, взяв на себя управление островами Архипелага, более двухсот лет весьма эффективно исполняла эту роль.
Власть Верховного Мага Земноморья во многих аспектах соответствовала в этот период власти короля. Честолюбие, самонадеянность и предрассудки, владевшие сознанием Халькеля, первого Верховного Мага, особенно ярко проявились, когда он создал специально для себя этот столь авторитетный титул. И все же благодаря постоянному общению в Школе с коллегами и учениками, чувству ответственности, самоконтролю, а также бдительности других членов братства волшебников, ни сам Халькель, ни другие чародеи, сменившие его на посту Верховного Мага, никогда не пытались с помощью магии сколько-нибудь серьезно ослабить других или возвеличить себя.
Однако в Темные Времена магия обрела весьма дурную репутацию, и репутация эта продолжала «липнуть» к тем, кто обладал хотя бы какой-то волшебной силой, особенно к ведьмам и колдунам. В магические способности женщин вообще практически перестали верить, считая их к тому же зловредными, особенно если та или иная женщина обладала какими-то знаниями о Древних Силах Земли.
В Земноморье многие родники, пещеры, холмы, отдельные камни, скалы и рощи всегда считались местами концентрации магических сил Земли и почитались как священные. Хотя местные жители, чаще всего, таких мест боялись и старательно их избегали, некоторые из них стали широко известны.
Знание таких мест и связь с заключенными там силами стала сутью религиозных представлений каргов. Что же касается островов Архипелага, то там знания о Древних Силах Земли по-прежнему являлись частью общих сведений о магии, однако весьма интересовали многих волшебников, составляя предмет их глубоких раздумий и чрезвычайного почтения. На всех островах магические искусства и умения, которыми пользовались главным образом ведьмы — например, акушерство, целительство, случка животных, лозоходство, рудокопательство, выплавка металла, забота об урожае, приготовление приворотного зелья и тому подобные вещи, — часто опирались на знания именно Древних Сил Земли. Однако образованные волшебники с острова Рок в итоге почему-то переставали доверять старинной практике и не взывали более к «силам Матери-земли». Только маги острова Пальн по-прежнему сочетали обе практические магии в своем таинственном, эзотерическом и, по слухам, весьма опасном учении.
Безусловно, любые знания могут быть извращены и использованы во имя зла, если владеющий этими знаниями человек одержим лишь стремлением к собственным честолюбивым целям (как это произошло, например, с хозяином Камня Терренон на острове Осскил). Древние Силы Земли, обладая некоей внутренней сакральностью, совершенно не знали этики, не подчинялись никому и вообще были практически неуправляемы. В течение Темного Времени, однако, некая отрицательная этика была им придана искусственно: они были феминизированы и демонизированы — в ардических землях волшебниками, а на Каргадских островах культами высших жрецов и жриц, а также Богов-королей. К VIII веку на островах Внутреннего моря лишь некоторые деревенские ведьмы еще помнили старинные ритуалы и совершали жертвоприношения на старых «святых местах», причем за это их повсеместно презирали и всячески оскорбляли. Волшебники же от таких мест старались держаться как можно дальше. На острове Рок, который сам по себе является средоточием Древних Сил Земли, самые яркие проявления их могущества — это Холм Рок и Имманентная Роща; однако тамошние волшебники об этих силах стараются даже не упоминать. Только Мастера Путеводители, которые большую часть своей жизни проводят в Имманентной Роще, служат неким связующим звеном между творимой человеком магией и куда более древней священной сущностью самой Земли, напоминая при этом магам и волшебникам, что их могущество им не принадлежит, что они получили его лишь во временное пользование.
История каргадских земель
История четырех Каргадских островов связана в основном с местными войнами, захватом пригодных для проживания территорий и расселением тамошних племен, при котором образовались города-государства и множество крошечных королевств, которые тысячелетиями составляли основу каргадского общества.
Для этого общества были прежде всего характерны рабовладение, строгая кастовая система и «разделение труда» по жесткому гендерному принципу, чего практически не было на Архипелаге.
Религия всегда была объединяющим элементом даже для самых воинственных каргадских племен. На четырех островах существовали сотни так называемых Мест Перемирия, где не разрешалось вести никаких споров или военных действий. Основа каргадской религии — личное и публичное поклонение Древним Силам Земли, тем хтоническим силам, которые, как считают карги, проявляются порой в виде духов определенных священных мест. В этих местах (а также у домашних алтарей) им оказывают всяческие почести и совершают жертвоприношения в виде цветов, масел, различных кушаний, резной посуды, крови животных (а иногда и человеческой!); там же устраивают ритуальные танцы и соревнования, поют священные песни и просто почтительно молчат. Сперва поклонение Древним Силам Земли было здесь делом обыденным, повседневным. Особых ритуалов, а также института жречества не существовало. Любой взрослый человек имел право отправлять тот или иной обряд и учить его отправлению детей. Эта древняя практика, надо сказать, сохранилась — неофициально и даже тайно — и после возникновения новой религии, уже закрепленной как общественный институт и выражавшейся в поклонении Богам-Близнецам и Богу-королю.
Изо всех бесчисленных священных рощ, пещер, гор, холмов, ручьев и скал на Каргадских островах самым священным местом всегда считалась пещера со стоящими вертикально огромными камнями у ее входа. Эта пещера, именуемая Гробницами Атуана и расположенная в пустыне на острове Атуан, с незапамятных времен влечет к себе пилигримов; правители Атуана даже устроили там специальный приют для тех, кто приходит поклониться Древним Богам.
Шесть или семь столетий назад на Каргадских островах начала распространяться вера в некоего небесного бога, служившая развитием идеи о Богах-Близнецах, Атва и Вулуа. Эти божества исходно были героями-демиургами и подробно описаны в героической саге, сложенной в пустынях острова Гур-ат-Гур. Небесный Отец, он же Король-бог, прибавился к пантеону как его глава; тогда же образовалась каста жрецов, отправлявших необходимые обряды. Не подавляя веру в Древние Силы Земли, жрецы Богов-Близнецов и Небесного Отца стали постепенно превращать новую религию в свою профессию, полностью взяв на себя руководство обрядами и празднествами, строя все более дорогостоящие храмы и контролируя даже такие общественные церемонии, как заключение брака, похороны и возведение королевских чиновников в более высокий ранг.
Иерархические и централизаторские тенденции этой религии сперва были весьма выгодны для удовлетворения честолюбивых устремлений правителей королевства Гупун на острове Карего-Ат. С помощью армии и сложных дипломатических маневров Дом Гупуна всего за сто лет сумел завоевать или поглотить большую часть других каргадских королевств и княжеств — их там было более двухсот!
Когда (в 440 г. по ардическому летосчислению) Эррет-Акбе прибыл на Каргадские острова, чтобы заключить мир между ними и островами Архипелага, и привез с собой Кольцо Мира как символ самых искренних побуждений своего короля, то в первую очередь он направился в город Гупун, уже тогда считавшийся столицей Каргадской Империи, и вел переговоры с королем Торегом, тогдашним правителем этой империи.
Однако и Торег, и его предшественники уже несколько десятилетий пребывали в весьма конфликтных отношениях с Верховным Жрецом Богов-Близнецов и его сторонниками, обитавшими в Авабатхе, Священном Городе, находившемся в пятидесяти милях от Гупуна. Жрецы Богов-Близнецов стремились отнять власть у короля и превратить Авабатх в религиозный и политический центр страны. Визит Эррет-Акбе, похоже, совпал с конечной передвижкой власти от королей к жрецам. Король Торег принял его со всеми подобающими почестями, однако Верховный Жрец, Интатин, вызвал посланца Архипелага на поединок и приложил все силы, чтобы победить его хотя бы обманом. И ему это почти удалось, когда он заманил Эррет-Акбе в подземелье, где Древние Силы Земли оказали на него столь убийственное воздействие, что он чуть не умер. Кольцо же, которому предстояло соединить два королевства, Интатин сломал пополам и одну половинку похитил.
После этого поединка королевский престол в Гупуне существовал еще долго, но сам король стал уже совершенно бессилен, хотя и пользовался номинальным почетом. Управление Четырьмя Островами отныне осуществлялось из Авабатха, а Верховный жрец Богов-Близнецов превратился, по сути дела, в Жреца-короля.
В 840 г. один из таких жрецов-королей отравил своего ближайшего помощника (и соперника!) и объявил себя земной инкарнацией Небесного Отца, т. е. Богом-королем, которому отныне и следовало поклоняться. Поклонение Богам-Близнецам, впрочем, также продолжалось, ибо отражало всеобщее поклонение Древним Силам Земли, однако религиозная и светская власть полностью перешла к Богу-королю, избираемому (частенько с применением более или менее скрытого насилия) и обожествляемому жрецами Авабатха. Четыре каргадских острова были объявлены Небесной Империей, а Бог-король приобрел официальный титул: всемогущий Император Каргада.
Последними наследниками королевского рода Гупун были родные брат и сестра, Энзар и Антиль. Стремясь на них и завершить линию каргадских королей, но не желая рисковать и совершать святотатство, проливая королевскую кровь, Бог-король приказал схватить этих детей и увезти их на далекий необитаемый островок. Но в кармашек своего нарядного платьица маленькая принцесса Антиль успела спрятать половинку сломанного Кольца Мира, которое некогда привез в Каргад Эррет-Акбе. Эта половинка Кольца передавалась в их роду из поколения в поколение по женской линии, начиная от дочери короля Торега, и в итоге досталась Антиль, которая, будучи уже старухой, подарила ее молодому волшебнику Геду, когда его лодку выбросило в шторм на берег их пустынного островка. Позднее, с помощью Верховной Жрицы Гробниц Атуана, Ары-Тенар, Гед сумел воссоединить половинки сломанного Кольца и восстановить Руну Мира. Они с Тенар привезли исцеленное Кольцо в Хавнор, и оно дождалось там истинного наследника Морреда и Серриадха, короля Лебаннена.
Магия
Среди ардических народов Архипелага способность к магии часто бывает врожденной, как, например, хороший музыкальный слух, хотя встречается эта способность не так уж и часто. У большинства людей она отсутствует совершенно, зато у некоторых — их примерно один процент — это настоящий талант, который можно и нужно развивать. И у очень незначительного числа людей талант этот проявляется сам, без какого бы то ни было вмешательства и обучения.
Магический дар усиливается главным образом за счет использования Истинной Речи, или Языка Созидания, в котором название каждой вещи есть суть этой вещи.
Этот Древний Язык, родной язык драконов, люди тоже вполне могут изучать и успешно это делают. Некоторые люди от рождения уже знают несколько слов Истинной Речи, хотя, разумеется, никто их этому не учил. Суть магических знаний, собственно, и состоит в изучении Древнего Языка.
Подлинное имя человека — это одно из слов Истинной Речи. Основная составляющая таланта и мастерства ведьмы, колдуна или даже волшебника — это умение узнавать Истинные имена. Именно поэтому на них и возложено отправление такого ответственнейшего обряда, как обряд имяположения. Умение узнавать имена может пробудиться только в определенных условиях; подлинное имя человек получает только в правильно выбранном возрасте (обычно это ранняя юность) и в правильно выбранном месте (обязательно у воды — на берегу ручья, пруда или реки).
Поскольку имя человека — это его сущность в самом общем и абсолютном смысле этого слова, то любой, кто узнает это имя, обретает вполне реальную власть над его жизнью и смертью. Чаще всего Истинного имени человека не знает никто, кроме него самого и того, кто ему это имя дал, и оба всю жизнь хранят это знание в тайне. Умение дать человеку Истинное имя и обязанность хранить его в тайне существуют нераздельно. Истинное имя может иногда выдать врагу предатель, но никогда его не выдаст тот, кто это имя узнал и дал другому.
Некоторые могущественные волшебники, получившие к тому же соответствующее образование, могут довольно легко узнать Истинное имя человека; они могут даже заставить этого человека самого назвать им свое имя. Но, поскольку среди таких людей может оказаться предатель или же знания об Истинном имени человека будут неправильно использованы, умение это считается очень опасным. Обычно люди — а также драконы — тщательно хранят тайну своего Истинного имени; волшебники же скрывают и защищают свои имена с помощью заклятий. Как известно, Морред был не в силах сразиться со своим Врагом, пока не прочел его Истинное имя, написанное дождевыми каплями в пыли. А волшебник Гед сумел подчинить себе дракона Йевода, узнав — благодаря как своим невероятным способностям, так и полученным в Школе Рока знаниям, — его Истинное имя, которое дракон этот в течение многих столетий скрывал под множеством других, фальшивых имен.
Магия была дикой и неуправляемой, пока в Земноморье не стал править великий Морред, который, будучи одновременно и магом, и королем, смог ввести ряд необходимых интеллектуальных и моральных ограничений, а также составить перечень дисциплин, необходимых для обучения магическим искусствам
и умениям, собрав у себя при дворе волшебников для совместной работы во имя всеобщего блага и для изучения этических и научных основ магического ремесла. Примеру Морреда следовал и Махарион. А вот в Темные Времена при отсутствии какого бы то ни было контроля над волшебниками и широко распространенном использовании магии в целях наживы и магия, и сами волшебники в значительной степени утратили свою, некогда весьма высокую, репутацию.
Школа на острове Рок
Школа эта была основана примерно в 690 г. В Девятку, то есть в число главных ее Мастеров, первоначально входили следующие:
Мастер Ветродуй, учивший управлять погодой;
Мастер Ловкая Рука, учивший творить иллюзии;
Мастер Травник, великий знаток растений и целительского искусства;
Мастер Метаморфоз, учивший умению трансформировать любые тела и предметы;
Мастер Заклинатель, знаток Великих Заклятий, способных призывать души живых и мертвых людей;
Мастер Ономатет, знаток Истинной Речи, заставлявший своих учеников затверживать наизусть длинные списки имен;
Мастер Путеводитель, почти постоянно живший в Имманентной Роще и обладавший таинственными знаниями о том, что говорят деревья и тени; великий мастер угадывать истинные значения и намерения;
Мастер Искатель, учивший умению отыскивать и возвращать людей и предметы;
Мастер Привратник, стороживший двери в Большой Дом и отвечавший за входящих в Школу и выходящих оттуда.
Но вскоре первый Верховный Маг Земноморья Халькель отменил титул Мастера Искателя и в Девятке заменил его на Мастера Регента, главной задачей которого было изучение и преподавание ученикам Школы народной премудрости, заключенной в фольклорных произведениях — эпосе, героических песнях, лэ и т. п. Регент учил исполнению всех этих произведений, а также — песенным заклинаниям.
Халькель положил конец исходно вольному и грубо описательному использованию таких слов, как «ведьма», «колдун», «волшебник», и установил строжайшую иерархию, согласно которой ведовство было предоставлено исключительно женщинам. Вся магия, которой имели право пользоваться женщины, стала называться «низшим ремеслом», даже если ведьмы пользовались некоторыми знаниями и приемами «высшего искусства» — занимались целительством, исполняли священные песни и учили этим песням других, умели изменять форму или обличье и т. п. Ведьмы должны были учиться только у других ведьм или у колдунов; им было запрещено переступать порог Школы, и Халькель всячески предостерегал волшебников от передачи ведьмам каких бы то ни было магических знаний. Под особым запретом было обучение женщин Древнему Языку, и, хотя это предписание повсеместно нарушалось, оно все же с течением времени привело к непоправимой утрате женщинами, практикующими магические ремесла, важнейших знаний и умений.
Колдовством занимались мужчины — в этом, собственно, и заключалось его единственное реальное отличие от ведовства. Колдуны обучали друг друга и обладали определенными познаниями в области Древнего Языка. Колдовство включало как «низшие ремесла» (искательство, починка бытовых предметов, лозоходство, лечение домашних животных и т. п.), так и некоторые «высшие искусства» (исцеление людей, исполнение священных песен, заклинание погоды). Ученик, проявивший талант колдуна и посланный учиться на Рок, сперва непременно должен был изучать основы высших искусств и получить диплом колдуна, а уже потом, если преуспевал в магических науках, мог продолжить свое обучение и совершенствоваться в различных умениях и искусствах, прежде всего в ономастике, в знании Великих Заклятий и умении понимать язык деревьев в Имманентной Роще. И только потом становился волшебником.
Волшебник, по определению Халькеля, должен был получить свой посох, символ магических знаний и навыков, из рук Учителя, который непременно сам является волшебником и взял на себя ответственность за обучение данного ученика. Обычно именно Верховный Маг вручал выпускнику Школы его посох, производя его таким образом в волшебники. Подобная система передачи магических знаний имела место и в других местах — прежде всего на острове Пальн, — но в итоге Мастера Школы стали с большим подозрением относиться к тем ученикам, которые уже учились где-то в другом месте.
Понятие «маг» так и осталось довольно неопределенным; в Земноморье это почти то же самое, что волшебник.
Титул Верховного Мага и его обязанности также придумал Халькель. Верховный Маг был десятым Мастером Школы, никогда не называвшимся среди Девяти. Воплощая в себе жизненную, этическую и интеллектуальную силу, Верховный Маг всегда обладал и значительной политической властью. В целом эта власть использовалась благоприятно. Воспринимая Школу как сильную централизующую и нормализующую составляющую в обществе Архипелага, Верховный Маг во все концы света посылал учеников Школы, колдунов и волшебников, способных, соблюдая этические ценности магии, на практике защищать людей от засухи, от смертоносных эпидемий, от пиратов и драконов и от неосторожного или злонамеренного использования магических искусств.
С тех пор как был коронован король Лебаннен и восстановлен Верховный суд и народные советы в столице и крупных городах Земноморья, остров Рок оставался без Верховного Мага. Похоже, эта должность, практически не связанная более ни с управлением Школой, ни с управлением остальными островами, перестала соответствовать запросам времени, и бывший Верховный Маг Гед, которого многие считают величайшим из Верховных Магов, может, вполне вероятно, оказаться и последним из них.
Волшебство и целибат
Школу Рок создавали как мужчины-волшебники, так и женщины-волшебницы; и в течение нескольких первых десятилетий мужчины учились там вместе с женщинами. Однако в Темные Времена женщины, ведовство, связь с Древними Силами Земли и т. п. стали вдруг считаться нечистыми, и тут же широко распространилось мнение, что мужчины-волшебники должны готовиться к работе только с «высшей магией» и старательно избегать «низшей», «земляной» премудрости и… женщин. Волшебник, не желавший надевать на себя стальные оковы целомудрия, никогда не получил бы права практиковать высшие магические искусства и не смог бы подняться выше обыкновенного колдуна. И волшебники стали избегать женщин, отказываясь как учить их, так и учиться у них. Ведьмы же, по-прежнему занимавшиеся практической магией, и не думали отказываться от радостей плотской любви, получив у соблюдающих целибат волшебников Рока прозвища «порочных соблазнительниц» и «грязных развратниц» — в общем, носительниц зла и порока.
Когда в 730 г. первый Верховный Маг Земноморья, Халькель с острова Уэй, решил навсегда изгнать женщин из Школы, то из Девяти Мастеров против этого высказались только двое — Мастер Путеводитель и Мастер Привратник; но они, разумеется, оказались в меньшинстве. Более трех веков ни одна женщина не преподавала и не училась в Школе Рока! В течение трех столетий магическое искусство считалось в высшей степени уважаемым, а сами волшебники всегда обладали достаточно высоким общественным статусом и властью, тогда как ведовство стало считаться чуть ли не проявлением невежества и суеверий, и женщины, которые им занимались, жили в основном бедно, ибо крестьяне платили им сущие гроши.
Представление о том, что волшебник непременно должен соблюдать обет безбрачия, в течение всего этого времени даже сомнениям не подвергалось и, пожалуй, превратилось в некий довлеющий психологический фактор, однако без подобного крена в убеждениях было не обойтись. Всем известно, что магические способности и сексуальная активность зависят от конкретного человека, от его конкретных занятий и от конкретных обстоятельств. И опять же нет ни малейших сомнений в том, что такой великий маг, как Морред, был прекрасным мужем и отцом.
Лет пятьсот, а может и больше, честолюбивые мужи, желавшие пользоваться не только Великими Заклятиями, но и властью, связывали себя узами абсолютного целомудрия, еще и усиленного магией. В Школе на острове Рок ученики жили под воздействием «очищающего заклятия» с той минуты, как переступали порог Большого Дома, а получив посох волшебника, они соблюдали целибат до конца жизни.
Среди колдунов очень немногие строго соблюдают обет безбрачия; напротив, многие из них женятся и имеют кучу детей. Ведьмы порой соблюдают отдельные «посты», якобы способствующие их очищению и усилению их магической силы, но в целом ведьмы ведут весьма активную сексуальную жизнь и имеют при этом гораздо больше свобод, чем большая часть деревенских жительниц, и гораздо меньше возможностей нарваться на оскорбление. Многие из ведьм заключают некий союз (его называют «ведьминским») с другой ведьмой или даже с обыкновенной женщиной. А замуж ведьмы выходят не так уж часто, и если выходят, то предпочитают выбирать себе в мужья колдунов.
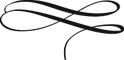
НА ИНЫХ ВЕТРАХ
(роман)
На самом далеком западе,
Там, где кончаются земли,
Народ мой танцует, танцует,
Подхваченный ветром иным.
Песня Женщины из Кемея
Деревенский колдун, явившийся к бывшему Верховному Магу Земноморья Ястребу-Перепелятнику, становится вестником грядущих великих событий. Рушится стена, отделяющая мир живых от Темной Страны не нашедших успокоения мертвецов. Чем это грозит миру, не знает никто. Искать ответ предстоит королю Лебаннену и Мастерам Рока, но уже без Ястреба. Самый мудрый и сильный из них, однажды уже спасший Земноморье от гибели, он потерял свое могущество.
Глава 1
Треснувший зеленый кувшин
Паруса, длинные и белые, точно крылья лебедя, несли корабль по заливу от Сторожевых утесов прямо к порту Гонт. Был теплый летний денек, и по тихой воде гавани судно скользнуло за мол так уверенно и легко, что горожане, сидевшие с удочками на конце старого пирса, даже встали, приветствуя корабль и его умелую команду; кроме того, им, конечно, хотелось рассмотреть получше того единственного пассажира, что стоял на носу.
Это был молодой худощавый мужчина в старом черном плаще. Скорее всего какой-то колдун или мелкий торговец — в общем, ничего особенного, решили рыбаки. Они еще немного понаблюдали за суматохой на причале, интересуясь, что за груз привезли на этом судне, но на пассажира глянули мельком, хотя и заметили, что, когда тот сходил на берег, один из моряков сделал у него за спиной особый жест, соединив пальцы левой руки — большой, указательный и мизинец, — что означало: «Чтоб тебе никогда сюда не вернуться!»
Приезжий постоял немного на пирсе, словно колеблясь, потом вскинул на плечо свой жалкий мешок и двинулся куда-то по припортовым улицам. Это были деловые шумные улицы, и почти все они вели на Рыбный рынок, где народ так и кишел. Кричали торговцы, ссорились и спорили с ними покупатели, блестели на солнце скользкие от рыбьей чешуи и внутренностей камни мостовой. Если у приезжего и был какой-то конкретный адрес, то направление в этой толчее он скоро потерял, петляя среди повозок, прилавков и груд сваленной прямо на землю рыбы, холодно глядевшей на него мертвыми глазами.
Какая-то высокая старуха, только что закончившая доказывать «подлой торговке», что сельдь у нее несвежая, вдруг внимательно посмотрела на приезжего, и тот, заметив это, поступил не слишком мудро, спросив у нее:
— Будьте добры, скажите, пожалуйста, как мне попасть в Ре Альби?
— Что?! Да чтоб тебе в свиной луже искупаться! — вдруг завопила старуха и быстро зашагала прочь, оставив приезжего, который прямо-таки остолбенел от неожиданности, растерянно стоять у прилавка. Однако торговка, увидев в создавшейся ситуации удачный шанс для себя и пытаясь восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, громко вскричала:
— Тебе что в Ре Альби надо? В Ре Альби, да? Так бы и сказал. А там тебе может быть нужно только одно — дом Старого Мага! Это я точно говорю! Значит, так: вон там свернешь за угол и пойдешь вверх по улице Молодых Угрей до сторожевой башни, а потом…
Стоило приезжему выбраться с рынка, как довольно широкая улица сама привела его на холм, а затем мимо массивной сторожевой башни прямо к городским воротам. Ворота сторожили два каменных дракона почти в натуральную величину; зубы у каждого были длиной с руку, а каменные глаза слепо таращились на город и залив. Лениво развалившийся на земле у ворот стражник пояснил, что нужно подняться на вершину холма, а потом повернуть налево, и дорога сама приведет в Ре Альби.
— Потом иди все время прямо; минуешь деревню, а там и дом Старого Мага недалеко, — прибавил стражник.
Приезжий стал неторопливо подниматься в гору; подъем оказался довольно крутым, а вокруг виднелись еще более крутые склоны холмов и далекая вершина горы Гонт, нависавшая надо всем островом, точно гигантское облако.
Путь был неблизкий, а день стоял жаркий, и приезжий вскоре скинул свой черный плащ и закатал рукава рубахи. Он как-то не подумал, выходя из города, купить себе еды на дорогу и запастись водой, а может, просто постеснялся, он вообще был человеком застенчивым, не привычным к большим городам, да и с незнакомцами сходился трудно.
Прошагав несколько миль, он нагнал какую-то телегу, которую давно уже заприметил, — на большом расстоянии она показалась ему сперва просто черным пятном в густом облаке белой пыли. Телега, поскрипывая и постанывая, катилась по дороге, влекомая парой некрупных быков, которые выглядели такими старыми, морщинистыми и утратившими всякую надежду на лучшее будущее, что стали похожи на черепах. Приезжий поравнялся с телегой, однако возница ничего ему не сказал, только подмигнул.
— А нет ли тут поблизости какого-нибудь ручейка или родника? — спросил его путник.
Возница медленно покачал головой, долго молчал и наконец сказал:
— Нет. — Еще помолчал и прибавил: — Там — нет.
И телега загрохотала дальше по дороге. Путник, которого мучила жажда, чувствовал, что не в состоянии обогнать этих несчастных, едва тащившихся волов.
Он очень устал и не сразу заметил, что возница молча протягивает ему большой глиняный кувшин в плетеной корзинке. Он взял кувшин — тот был довольно-таки тяжел — и досыта напился. Причем кувшин стал лишь чуточку легче, когда он с благодарностью вернул его хозяину.
— Садись, коли хочешь, — обронил возница и снова умолк.
— Спасибо. Я и пешком дойду. А скажи, далеко ли еще до Ре Альби?
Колеса скрипнули. Волы тяжко вздохнули — сперва один, потом второй. Их запыленные бока под жарким солнцем источали сладковатый запах пота.
— Десять миль, — сказал наконец возница. Потом подумал и поправился: — А может, двенадцать. — Он еще помолчал и окончательно решил: — Да, никак не меньше.
— Тогда я, пожалуй, вперед пойду, — сказал приезжий.
Утолив жажду, он вполне был готов сейчас обогнать старых волов, и телега действительно довольно сильно отстала, когда он снова услышал голос возницы:
— Старому Магу идешь, значит… — Если это и был вопрос, то в ответе возница явно не нуждался, и путешественник зашагал дальше.
Когда дорога резко пошла вверх, ее по-прежнему загораживало от солнца плечо огромной горы, но когда путник повернул налево, к деревушке, решив, что это и есть Ре Альби, солнце буквально ослепило его, хотя уже клонилось к западу; внизу он увидел море — оно было стального цвета и казалось абсолютно застывшим.
Дома в деревушке вразнобой стояли вокруг маленькой пыльной площади, посреди которой был устроен фонтан — жалкая струйка воды, едва поднимавшаяся в воздух. К фонтану путник и направился, снова всласть напился из пригоршни, то и дело набирая воду в подставленные ладони, а потом подставил под струю и голову, с наслаждением впитывая холодную воду волосами и кожей головы, позволяя ей стекать по шее и течь по спине. Подсыхая после этого «купания», он некоторое время посидел на каменной чаше фонтана, заметив, что за ним внимательно и молча наблюдают трое грязноватых малышей — два мальчика и девочка.
— И никакой это не целитель! — заявил наконец один из мальчишек.
Путник тщательно пригладил влажные волосы руками.
— Вот глупые, он же к Старому Магу идет! — презрительно заметила девочка.
— Йеррагхх! — Выкрикнув это странное слово, мальчик состроил какую-то ужасную гримасу, одной рукой растянув себе рот, а другой, словно когтем, стал скрести воздух.
— Надо бы присмотреть за ним, Стоуни, — сказал ему второй мальчик, а девочка крикнула путнику:
— Эй, хочешь, я тебя к Старому Магу провожу?
— Спасибо, — сказал он и устало поднялся.
— Видишь, никакого посоха у него нет! — тут же сказал один мальчишка другому, а второй отозвался:
— А никто и не говорил, что он у него есть!
И оба, лениво развалившись в тени, стали смотреть, как незнакомец следом за девочкой выходит на тропу, ведущую на север меж каменистых пастбищ, круто спускавшихся вниз по склону горы.
Море под солнцем нестерпимо блестело, в глазах у путника все плыло, морская даль и постоянно дувший сильный ветер вызывали головокружение. Девочка, шедшая впереди, казалась ему крошечной подскакивающей тенью. Он остановился.
— Ну, пошли же! — сказала девочка недовольно, но тоже остановилась. Путник подошел к ней поближе и снова остановился. — Вон, — показала она, — уже и дом видно! — И он увидел на краю утеса деревянный дом, до которого оставалось совсем немного. — А я их не боюсь! — сообщила ему девочка, но он не совсем ее понял. — Я сколько раз для них куриные яйца по гнездам собирала, чтобы отец Стоуни потом эти яйца на рынок отнес. А старая госпожа меня персиками угощает! Правда, Стоуни всегда говорит, что я их ворую, но я никогда у них ничего не ворую! Ну, пошли же! Не бойся, ее там нет. И никого из них тоже.
Она снова показала ему пальцем на дом.
— Там что же, никого нет? — спросил приезжий.
— Только сам старик. Старый Ястреб. Он всегда там.
Путешественник поблагодарил ее и двинулся дальше один, а девочка осталась на тропе и смотрела ему вслед, пока он не повернул за угол дома.
Две козы, пасшиеся на огороженном лужке перед домом, так и уставились на незнакомца своими желтыми глазищами. В высокой мягкой траве рассыпались куры и целый выводок полувзрослых цыплят, которые копались в земле среди грушевых и сливовых деревьев и тихонько переговаривались между собой. Какой-то мужчина стоял на маленькой приставной лестнице, прислоненной к стволу одного из плодовых деревьев; голова его скрывалась в листве, и путнику были видны лишь его голые смуглые лодыжки.
Путешественник поздоровался, ответа не получил и снова произнес слова приветствия, но уже несколько громче.
Листья на дереве зашуршали, и человек ловко спрыгнул на землю, прижимая к груди целую пригоршню спелых слив. Первым делом он отогнал парочку назойливых пчел, соблазненных сливовым ароматом, потом подошел к незнакомцу. Он был невысокого роста, но держался очень прямо и был еще строен; седые волосы он зачесал назад и стянул на затылке в пучок, открыв красивое лицо, носившее, впрочем, следы нелегких и Долгих прожитых лет и старые шрамы — четыре белых рубца, спускавшихся от левой скулы к подбородку. На вид ему можно было дать лет семьдесят, но взгляд его был ясен, и смотрел он прямо на незнакомца внимательно и дружелюбно.
— Вот, совсем созрели, — сказал он и протянул незнакомцу пригоршню маленьких желтых слив, — хотя к завтрашнему дню они будут еще вкуснее.
— Лорд Ястреб, — начал было путник, вдруг от волнения охрипнув, — господин мой, ты Верховный Маг Земноморья…
Старик коротко кивнул, как бы признавая все эти титулы и предлагая не перечислять их, и предложил:
— Давай-ка пойдем в тень.
Незваный гость послушно последовал за ним и сделал все, что ему было велено: сел на деревянную скамью в тени кривого дерева, росшего у самого дома, принял от хозяина сливы, теперь тщательно вымытые и сложенные в хорошенькую плетеную корзиночку, и стал их есть одну за другой. Тогда хозяин дома спросил его, голоден ли он, и путник честно признался, что весь день ничего не ел. Оставив его сидеть на скамье, хозяин сходил в дом и принес хлеб, сыр и половинку отличной луковицы. Гость съел все, даже лук, и запил еду целой кружкой холодной родниковой воды, которую тоже принес ему хозяин. Сам же Ястреб ел только сливы — за компанию с гостем.
— Ты выглядишь усталым. Издалека пришел? — спросил он путника.
— Вообще-то я с Рока…
По лицу старика трудно было что-либо прочитать. Он лишь промолвил:
— Вот как? Никогда бы не подумал.
— А родом я с острова Таон, господин мой. Это уже потом я перебрался на Рок. А там лорд Путеводитель сказал мне, что я должен попасть на Гонт. И поговорить с тобой.
— Почему?
Потрясающий все-таки был у него взгляд!
— Потому что ты ЖИВЫМ ПРОШЕЛ ПО ТЕМНОМУ ЦАРСТВУ СМЕРТИ… — И без того хриплый голос незнакомца превратился в шепот.
Старик подхватил:
— …И ВЫШЕЛ НАДАЛЬНИЙ БЕРЕГ ДНЯ. Так? Да, но это пророчество касалось скорее нашего короля Лебаннена.
— Ты тоже был с ним, господин мой!
— Был. И видел, как он победил в жестоком поединке и выиграл свое королевство. Но я-то свое «королевство» там оставил! Так что не называй меня больше всякими пышными титулами. Зови меня просто Ястреб или Ястреб-перепелятник — как тебе больше понравится. А как мне тебя называть?
Гость прошептал:
— Олдер.
Еда, родниковая вода и отдых в тени явно принесли ему облегчение и прояснили мысли, но выглядел он по-прежнему каким-то изможденным. Печальная усталость таилась в его глазах.
Тон старика до сих пор был, пожалуй, немного суховат, хотя держался хозяин вполне спокойно и дружелюбно. Но, посмотрев на гостя повнимательнее, он вдруг совсем миролюбиво предложил:
— Знаешь что, давай-ка на некоторое время отложим все разговоры. Ты проплыл почти тысячу миль по морю, потом целых пятнадцать миль тащился по жаре в гору. А мне еще нужно полить бобы, лук и другие овощи, поскольку мои жена и дочь оставили весь огород на меня. Так что ты пока отдохни немножко. Если хочешь, можем поговорить вечером, по холодку. Или утром, когда солнце еще не такое жаркое. Или в течение дня — времени здесь хватает.
Когда старик часа через полтора вернулся, его гость, улегшись прямо на прохладную траву под персиковыми деревьями, крепко спал.
Старик, когда-то носивший титул Верховного Мага Земноморья, постоял над ним, держа в одной руке ведро, а в другой — мотыгу, внимательно посмотрел спящему в лицо и едва слышно прошептал:
— Олдер значит «ольха». Что же за беда привела тебя сюда, Олдер?
На какой-то миг ему показалось, что, если бы он захотел узнать Истинное имя этого человека, он мог бы узнать его, лишь подумав об этом, как в прежние времена, когда был магом.
Но теперь он этого не мог. И, думай не думай, все равно ничего не узнаешь, потому что магом он больше не был.
И ничего не знал об этом Олдере. Что ж, придется подождать, пока тот сам ему все расскажет.
«Не буди лихо, пока оно тихо», — пробормотал старик про себя и отправился поливать бобы.
Как только солнце скрылось за невысокой каменной оградой на вершине ближайшего к дому холма, тень и прохлада разбудили спящего. Он сел, весь дрожа, потом испуганно вскочил, но двигался все еще довольно неуклюже; вид у него был ошалелый, в волосах запутались семена трав. Увидев, что старик набирает у колодца воду и таскает ведра в сад, он бросился ему помогать.
— Еще ведра три-четыре — и довольно, — сказал ему бывший Верховный Маг, аккуратно поливая грядку, на которой рядком росли молодые кочаны капусты. Аромат влажной земли был удивительно приятен в сухом теплом воздухе. Закатные лучи неровными золотистыми полосами ложились на склон горы.
Полив огород, они уселись на длинную скамью возле порога и стали смотреть, как садится солнце. Ястреб принес из дома бутылку вина и два низких толстостенных стакана из зеленоватого стекла.
— Это вино делал сын моей жены, — сказал он. — У него там, в Срединной долине, ферма. «Дубовая» называется. Хороший был урожай семь лет назад! — Вино было кремнисто-красноватого оттенка, и Олдер сразу почувствовал, как внутри разливается приятное тепло. Солнце в своей спокойной ясности садилось за море. Ветер улегся. Птички на ветвях садовых деревьев изредка переговаривались нежными голосами, устраиваясь на ночь.
Попав на Рок, Олдер был изумлен, когда Мастер Путеводитель сказал ему, что Верховный Маг, этот человек из песен и легенд, который привел короля Лебаннена домой из царства смерти, а потом улетел на спине дракона на остров Гонт, все еще жив. И, по словам Мастера Путеводителя, не только жив, но и преспокойно живет на своем родном острове!
— Я скажу тебе то, о чем знают немногие, — сказал тогда Путеводитель, — потому что, мне кажется, тебе это знать необходимо. И я думаю, ты сохранишь это в тайне.
— Значит, он все еще Верховный Маг Земноморья? — радостно воскликнул Олдер, ибо это было неразрешимой загадкой для всех: почему Мастера Школы, являющейся центром всех магических наук и искусств, за все годы правления короля Лебаннена так и не нашли другого волшебника, способного заменить Ястреба на посту Верховного Мага?
— Нет, — ответил Олдеру Мастер Путеводитель. — Он вообще больше уже не маг.
И поведал о том, как и почему Ястреб утратил свое могущество. С тех пор у Олдера было достаточно времени, чтобы все это обдумать. Однако здесь, в присутствии самого Ястреба, которому доводилось беседовать с драконами, который вернул в Хавнор Кольцо Рун, живым пересек царство смерти и, по сути дела, правил всеми островами Архипелага до воцарения Лебаннена, Олдеру разом вспомнились все потрясающие истории о подвигах Мага, все героические песни, посвященные ему, и он, даже видя Ястреба старым и бесконечно довольным своим замечательным садом и огородом, даже зная, что этот знаменитый волшебник теперь лишился своего могущества, все равно чувствовал вокруг него некий ореол, создаваемый, по всей вероятности, силой его души, которой довелось столько перечувствовать и столько испытать. И в этом ореоле Ястреб по-прежнему представлялся ему великим магом. Однако его несколько смущала одна вещь: у Ястреба была жена!
Жена, дочь, пасынок… Ведь у магов и волшебников не бывает семьи! Обычный колдун, вроде самого Олдера, мог жениться или не жениться, но настоящие волшебники, обладавшие истинным могуществом, всегда хранили обет безбрачия. Олдер вполне мог вообразить себе этого человека верхом на драконе, это было совсем нетрудно, но представлять его в роли обыкновенного мужа и отца было невыносимо. С этим он справиться никак не мог, хотя и очень старался. А потому спросил:
— А твоя… жена, господин мой?.. Она, значит, живет у своего сына?
Ястреб посмотрел на него — точно издалека вернулся — и вновь уставился в морскую даль.
— Нет, — сказал он, помолчав. — Она сейчас в Хавноре. У короля.
И еще через некоторое время, словно наконец вернувшись из неведомых далеких краев, прибавил:
— Они с дочерью отправились сразу после Долгого Танца. Лебаннен специально прислал за ними корабль; ему очень нужен их совет. И, возможно, его волнует примерно то же, что и тебя привело ко мне. Посмотрим… Видишь ли, сегодня я что-то устал, и мне совсем не хочется обсуждать всякие сложные вопросы. Да и сам ты выглядишь усталым. Так что, может, по тарелке супа да по стаканчику вина — и на боковую, а? А утром поговорим как следует.
— С удовольствием, господин мой, — отвечал Олдер. — Вот только спать я боюсь. Именно этого-то я и боюсь больше всего на свете!
Ястреб некоторое время молчал, вникая в смысл этих слов, потом уточнил:
— Ты боишься спать?
— Нет, скорее я боюсь своих снов.
— Ах так?! — Ястреб остро глянул на него своими темными глазами из-под густых полуседых бровей и заметил: — Но, по-моему, ты очень неплохо вздремнул вон там, на травке, а?
— О да! И мне снились самые приятные сны с тех пор, как я покинул остров Рок. И я очень тебе за это благодарен, господин мой! Может быть, это повторится и ночью. Но, к сожалению, обычно мне снятся такие страшные сны, что я громко кричу, просыпаюсь сам и мешаю спать тем, кто находится со мною рядом. Так что, с твоего позволения, я лучше переночую на улице.
Ястреб кивнул и сказал:
— Хорошо. Ночь будет теплая.
А ночь действительно была хороша! Прохладный легкий ветерок дул с юга, в небесах белели теплые летние звезды, и только один край неба казался черным — там, где его закрывало плечо огромной горы. Олдер расстелил на траве тюфяк и овечью шкуру, которые дал ему хозяин, точно в том же месте, где спал днем.
А Ястреб улегся спать в маленьком алькове у западной стены дома. Здесь он спал еще мальчишкой, когда хозяином этого дома был волшебник Огион, а сам он был учеником Огиона. Последние же пятнадцать лет здесь спала Техану, став его дочерью. Но сейчас Тенар и Техану не было дома, и Ястреб, ложась в супружескую постель, стоявшую в дальнем углу комнаты, особенно остро ощущал отсутствие Тенар и свое одиночество и решил пока перебраться спать в альков. Ему нравилась узкая лежанка, приделанная прямо к бревенчатой стене дома, под окном. Здесь он всегда спал хорошо. Но только не в эту ночь.
Уже миновала полночь, когда его разбудили какие-то крики, доносившиеся снаружи. Он вскочил с постели и осторожно подошел к двери, но это был всего лишь Олдер, сражавшийся с ночными кошмарами, да из курятника доносились слабые протесты разбуженных криками Олдера кур. Вдруг Олдер, крикнув еще что-то хрипло и невнятно, проснулся и сел. На лице его были написаны ужас и отчаяние. Увидев, что Ястреб стоит на крыльце, он стал просить у него прощения за невольно причиненное беспокойство, а потом заявил, что больше спать не ляжет и просто посидит, любуясь звездным небом. Ястреб ничего не сказал, вернулся в дом и снова попытался уснуть. Олдер больше его своими криками не будил, однако на этот раз ему самому приснился весьма дурной сон.
Ему снилось, что он стоит у сложенной из камня стены на вершине какого-то холма с пологими склонами, поросшими серой сухой травой и уходящими куда-то в непроницаемую тьму, хотя вокруг царят серые сумерки. Он понимал, что когда-то уже бывал здесь, что и раньше стоял на склоне этого холма, но не мог вспомнить, когда это было и что это за место. Он заметил, что кто-то стоит по ту сторону стены чуть ниже, но совсем недалеко от него. Лица этого человека ему было не различить, но он ясно видел, что тот очень высок и закутан в плащ. Он чувствовал, что хорошо знает этого человека. И вдруг тот заговорил с ним, называя его Истинным именем: Гед.
«Ты тоже скоро окажешься здесь, Гед», — сказал он.
Похолодев до костей, Ястреб сел на постели, изо всех сил вглядываясь во тьму и стараясь различить знакомые предметы, воспроизвести столь хорошо знакомую ему действительность, способную укутать душу, точно теплым одеялом. Он выглянул в окно и посмотрел на звезды. И снова сердце его пронизал холод: то были не земные звезды, такие любимые, такие знакомые — Возничий, Сокол, Танцоры, Сердце Лебедя!.. В окно к нему заглядывали сейчас совсем другие звезды — маленькие застывшие звезды той пустынной сумеречной страны, которые никогда не двигались по темному небосклону. Когда-то он знал названия и этих звезд… Когда-то — когда знали имена самых разных вещей на свете…
«Минуй нас!» — громко сказал он и особым образом сложил пальцы, отгоняя беду. Этот жест был знаком ему с детства. И взор его невольно скользнул к распахнутой двери дома, к темному углу за открытой створкой, где, как он думал, он увидит сейчас знакомый сгусток тьмы, принявший форму человеческого тела, как бы обретший плоть и уже встающий во весь рост…
Знакомый с детства «магический» жест, хотя в нем и не было никакого волшебства, окончательно прогнал всякий сон. Тени, прятавшиеся за дверью, оказались, разумеется, всего лишь тенями. И звезды за окном были знакомыми звездами Земноморья, уже бледневшими в преддверии зари.
Ястреб сел, накинув на плечи одеяло из овечьих шкур, и стал смотреть на звезды, которые постепенно меркли, как бы сползая по небосклону к его западному краю. Потом в небе стала разгораться заря, заиграли, все время меняясь, краски наступающего дня, но в душе Ястреба по-прежнему жила печаль. Он и сам не знал, почему она вдруг снова возникла, эта боль, тоска по чему-то дорогому и утраченному навеки. Он давно привык к ощущению огромной утраты, с которым жил уже столько лет. Некогда он обладал поистине непревзойденным могуществом и все потерял в одночасье! Да, когда-то это его печалило, но теперешняя печаль была гораздо сильнее и, похоже, не являлась его собственной печалью. Он чувствовал печаль в самом сердце вещей, чувствовал тоску даже в наступлении рассвета. Откуда она взялась? Почему так и прилипла к нему, явившись во сне? Но печаль не уходила, даже когда он встал и разжег в очаге огонь.
Тогда Гед пошел полюбоваться своими персиковыми деревьями, заглянул в курятник насчет свежих яиц на завтрак и вернулся в дом. Вскоре к дому подошел и Олдер. Он пришел по той тропе, что тянулась на север по верхнему уступу, и сказал, что на рассвете решил прогуляться и посмотреть окрестности. Выглядел он совершенно измученным, и Ястреба снова поразила та боль, что жила в его глазах, ибо она как бы перекликалась с его собственными ощущениями перепелятника, оставленными тем страшным сном.
Они выпили по чашке теплого ячменного напитка, точнее, жидкой каши, какую обычно едят по утрам крестьяне, съели по сваренному вкрутую яйцу и по персику. Они трапезничали в доме, у очага, ибо утренний воздух в тени горы был слишком холоден, чтобы устроиться завтракать на улице. Затем Ястреб покормил кур, насыпал зерна голубям, выпустил на пастбище коз, а после этого снова уселся с гостем на скамью у крыльца. Солнце еще не выглянуло из-за горы, но воздух уже достаточно прогрелся.
— Так, Олдер, а теперь расскажи: что привело тебя ко мне? Только сперва, раз уж ты добирался сюда через Рок, то скажи: все ли в порядке в Большом Доме?
— Я в него не входил, господин мой.
— Ага… — Тон был самый нейтральный, но быстрый взгляд — пронзительный.
— Я был только в Имманентной Роще.
— Ага. — Нейтральный тон, нейтральный взгляд.
— И Мастер Путеводитель сказал мне: «Пере дай моему повелителю, что я по-прежнему очень люблю его и глубоко уважаю. А еще передай ему, что я бы очень хотел побродить с ним вместе по Роще, как когда-то».
Ястреб печально улыбнулся, помолчал и сказал:
— Ну что ж… Однако вряд ли он послал тебя ко мне, чтобы ты передал мне только это. Рассказывай.
— Я постараюсь быть кратким…
— Послушай, парень, у нас целый день впереди. И к тому же я люблю, чтобы мне все рассказывали подробно и с самого начата.
И Олдер рассказал ему свою историю с самого начала.
Он был сыном ведьмы и родился в городке Элини на острове Таон, славящемся как остров арфистов.
Таон находится в южной части моря Эа, недалеко от тех мест, где некогда высился остров Солеа, пока волны морские не поглотили его. Все острова моря Эа — очень древние острова, самое сердце Земноморья, и все они некогда имели свои столицы, своих королей и своих волшебников; остров Хавнор в те времена был не цветущим королевством, а полем брани для враждующих племен, ну а остров Гонт считался и вовсе диким краем, где медведей больше, чем людей. Те люди, что родились на островах Эа, Эбеа, Энлад или Таон, даже если они появились на свет в семье канавокопателя или ведьмы, имели право считать себя потомками древних магов или тех знаменитых воинов, которые погибли, защищая королеву Эльфарран. Уроженцы этих островов буквально с детства обладали изысканными манерами, хоть и бывали порой чересчур высокомерными, а также их отличали любовь к музыке и поэзии, великодушие и нерасчетливость, что порой не слишком нравилось тем, кто крепко держится за землю. «Воздушные змеи с оборвавшейся бечевкой» — примерно так говорили хавнорские богачи о жителях этих островов. Они, впрочем, никогда бы не решились сказать так в присутствии короля Лебаннена, который был потомком одного из древнейших родов острова Энлад.
Самые лучшие арфы в Земноморье делали на острове Таон. На этом острове также издавна существовали специальные музыкальные школы; множество знаменитых певцов, исполнителей лэ и героических песен были либо уроженцами Таона, либо учились там. Но в городке Элини, расположенном высоко в горах, никакой музыкальной школы, разумеется, не было; главным средоточием «цивилизации» там считалась рыночная площадь, да и мать Олдера была женщиной небогатой, хотя они, конечно, не голодали. У его матери было огромное родимое пятно, красное, протянувшееся от правой брови по щеке и шее до самого плеча, захватив и ухо. Многие женщины и мужчины, имевшие подобные «знаки», а точнее, уродства, становились ведьмами или колдунами, поскольку считалось, что «у них имеется особая отметина». Мать Олдера, ведьма Блэкберри, что значит «черная смородина», выучив несколько заклинаний, вполне справлялась со своими «ведьмиными» обязанностями. Честно говоря, никакого магического таланта у нее не было, зато вид был вполне подходящий, а для ведьмы это почти так же ценно, как и настоящий талант. В общем, на хлеб она зарабатывала, понемножку учила сына своему ремеслу и даже в итоге скопила достаточно денег, чтобы отдать Олдера в ученики одному колдуну, который впоследствии нарек его Истинным именем.
О своем отце Олдер ничего рассказать не мог, ибо не знал о нем ровным счетом ничего. Блэкберри никогда о нем даже не упоминала. Хотя ведьмы крайне редко соблюдают обет безбрачия, они реже оставляют у себя одного и того же мужчину более чем на одну-две ночи подряд, а уж замуж выходят и того реже. Гораздо чаще две ведьмы объединяются и живут всю жизнь вместе; в народе это называют «ведьминым браком» или говорят, что ведьмы дают друг другу особую «женскую клятву». В таких случаях ребенок, родившийся у одной из ведьм, имеет как бы двух матерей, но ни одного отца. Так что отсутствие отца в семье Олдера было как бы само собой разумеющимся, и Ястреб даже спрашивать ничего об этом не стал. Однако он довольно подробно расспрашивал Олдера о том, чему его учил колдун.
Колдун Ганнет, что значит «морская олуша», научил Олдера тем нескольким словам Истинной Речи, которые знал сам, и некоторым заклятиям, с помощью которых можно было, скажем, найти потерянную вещь или создать не слишком сложную иллюзию. Олдер признался Ястребу, что никаких особых способностей ни в том, ни в другом не проявил. И все же, видимо, этот Ганнет достаточно сильно заинтересовался мальчиком, пытаясь понять, в чем же его истинное призвание. Олдер оказался отличным латальщиком, он мог починить любую сломанную вещь — сломанную арфу, переломившееся лезвие ножа, треснувшую ось колеса, расколовшийся глиняный горшок или разбившуюся вдребезги миску. Все это он мог вновь сделать целым. Он умел так соединить отдельные фрагменты предмета, что не оставалось ни слабины, ни трещинки, ни следа. В итоге Ганнет послал Олдера собирать различные соединительные заклятия, которые можно было узнать в основном у таонских ведьм. Со многими из них Олдер даже поработал вместе какое-то время, учась латать и соединять части разбитых и сломанных предметов.
— Да-да, я хорошо знаком с этим умением, — сказал Ястреб. — Это, в общем-то, разновидность целительства. И, между прочим, не такой уж малый дар. Да и ремесло латальщика не из простых.
— Мне оно доставляло истинную радость! — воскликнул Олдер, и на лице его промелькнуло даже некое подобие улыбки. — Мне так нравилось придумывать самому нужные заклинания, стараясь при этом непременно использовать какое-нибудь из слов Истинной Речи… Ведь как бы оживить сосуд, который опустел и высох из-за небольшой трещинки, или починить рассыпавшуюся на отдельные дощечки бочку — это такое удовольствие! Когда видишь, что, например, такой бочонок вновь оживает, становится пузатыми, как ему и подобает, прочно стоит на донце, ожидая, когда его наполнят вином!.. Ох, это так здорово! Был у нас один арфист из Меони, большой музыкант; когда он играл, точно штормовой ветер поднимался на вершине холма, точно буря бушевала в морском просторе! Он очень жестоко порой обращался со своей арфой, рвал струны, оттягивал их во время страстной своей игры так, что в самый напряженный момент, когда мелодия словно взмывала ввысь, струны не выдерживали и лопались. И этот музыкант нанял меня, чтобы я всегда был рядом, когда он играет, и, если что случится с инструментом, мог быстро починить его, пока не успела еще отзвучать последняя нота, чтобы он мог продолжать играть.
Ястреб кивнул, ему было приятно слушать, с каким жаром этот парень рассказывает о своей профессии.
— А разбившуюся стеклянную посуду ты чинил? — спросил он.
— Приходилось. Только это очень долгое и довольно нудное занятие, — отвечал Олдер. — Больно много там всегда крошечных осколков и кристалликов.
— Но ведь штопать огромную дыру в вязаном носке куда скучнее, — заметил Ястреб, и они некоторое время со знанием дела обсуждали тонкости работы латальщика. Затем Олдер вернулся к рассказу о своей жизни.
Итак, сперва он просто чинил всякие вещи, а потом назвался колдуном, но репутацией у местных жителей пользовался весьма скромной — в соответствии со своим скромным талантом. Да и доходы у него были небольшие. И вот однажды, Олдеру тогда было уже под тридцать, они с тем арфистом отправились в столицу острова, город Меони, где арфист должен был играть на свадьбе. И в том доме, где они остановились, Олдер познакомился с одной молодой женщиной. По ее словам, у ведьм она никогда не училась, однако обладала тем же даром, что и Олдер. И очень хотела стать его ученицей. Оказалось, что талант к латанью у нее действительно есть, и куда больший, чем у него самого! Не зная ни одного слова Истинной Речи, она могла движением пальца восстановить вдребезги разбитый кувшин или перетершийся канат, помогая себе всего лишь какой-то песенкой, каким-то практически бессловесным, едва слышным мурлыканьем. А еще она умела лечить сломанные кости как у людей, так и у зверей; Олдер заниматься подобным целительством никогда не осмеливался.
В общем, не столько он учил ее, сколько они учили друг друга, причем часто оказывалось, что еще вчера
они даже не подозревали о некоторых своих уменьях. Потом эта женщина вернулась вместе с Олдером в Элини и поселилась у его матери, ведьмы Блэкберри, которая научила ее всяким полезным штукам, чтобы производить на заказчиков более сильное впечатление, хотя настоящего ведовства во всех этих фокусах практически не было. Звали эту молодую женщину Лили. Они с Олдером часто работали вместе, и во всех окрестных селениях слава их как искусных латальщиков росла и упрочалась.
— А потом я ее полюбил! — сказал Олдер. Стоило ему заговорить о ней, и голос его зазвучал более уверенно и мелодично. — Она была такая красивая! Волосы темно-каштановые, но порой в них будто золотисто-красные искры вспыхивали…
Он не мог скрыть от нее свою любовь, да и не стал этого делать, и она ответила на его чувство, сказав, что ей все равно, ведьма она теперь или нет, ибо они рождены, чтобы быть вместе — в работе и в жизни, что она тоже любит его и согласна выйти за него замуж.
Они поженились и жили очень-очень счастливо первые полтора года.
— Все было хорошо, пока не подошло время родов, — сказал Олдер. — Мы слишком поздно спохватились. Повивальные бабки пытались вызвать схватки разными травами и заклинаниями, но ребенок словно не желал отделяться от матери и выходить на свет. Так и не родился. И ее забрал с собой.
Олдер помолчал и прибавил:
— Мы были так счастливы!
— Я понимаю, — откликнулся Ястреб.
— И печаль моя оказалась столь же велика, сколь велико было счастье.
Старик молча кивнул.
— Но я смог вынести это горе, — сказал Олдер. — Известно ведь, как оно бывает: кажется, нет смысла жить дальше, а все-таки живешь…
— Это верно.
— Но среди зимы, через два месяца после ее смерти, мне явился один сон… И в том сне была она…
— Расскажи, что тебе снилось.
— Я стоял на каком-то холме. Через вершину холма и дальше по его склону тянулась каменная изгородь, невысокая, такими обычно разделяют овечьи пастбища. Лили стояла по ту сторону этой изгороди и чуть ниже меня. И там было темнее…
Ястреб понимающе кивнул, и лицо его посуровело; теперь оно казалось высеченным из камня.
— Она звала меня! — продолжал рассказывать свой сон Олдер. — Я слышал ее голос. Она называла меня по имени, и я пошел к ней. Я понимал, что она мертва, я знал это даже во сне, но шел к ней с такой радостью! Мне никак не удавалось как следует разглядеть ее лицо, и я шел к ней, чтобы хоть посмотреть на нее, чтобы хоть недолго побыть с нею… И она протянула ко мне руки над этой изгородью… Изгородь была невысокая, примерно мне по грудь. Я тогда подумал, что, может, наш ребенок при ней, но она его, наверное, с собой не взяла. И все тянулась ко мне, и я тоже протянул к ней руки, и наши руки соприкоснулись…
— Соприкоснулись?
— Да. Мне очень хотелось быть с ней рядом, но я никак не мог перебраться через эту каменную стену. Ноги мои идти не желали, руки не слушались. Тогда я попытался перетащить Лили к себе, и она тоже очень хотела ко мне перебраться. В какой-то момент мне показалось даже, что она сможет это сделать, но проклятая стена по-прежнему была между нами! Мы оба не могли ее преодолеть. И тогда Лили перегнулась через эту стену и поцеловала меня в губы. И отчетливо произнесла мое имя. И попросила: «Освободи меня!»
Я подумал тогда, что если и я назову ее Истинным именем, то, может быть, мне все-таки удастся перетащить ее к себе, и я сказал: «Пойдем со мной, Мевре!» Но она ответила: «Это уже не мое имя, Хара! Это больше уже не мое имя!» И она сама выпустила мои руки, хотя я пытался ее удержать, а она все кричала: «Отпусти меня, Хара!» И уходила куда-то вниз, во тьму. У подножия этого холма все тонуло во тьме. А я все звал ее по имени, выкрикивал все ее прозвища, все те ласковые слова, которыми когда-то ее называл, но она все равно уходила от меня… И вдруг я проснулся.
Ястреб долго и очень внимательно смотрел на своего гостя.
— Ты назвал мне свое имя, Хара, — заметил он.
Олдер выглядел немного растерянным и несколько раз глубоко вздохнул, словно приходя в себя и сбрасывая груз тяжких воспоминаний, но на Геда он посмотрел ясными глазами и с каким-то отчаянным мужеством.
— А кому еще мог бы я с большей уверенностью доверить его? — спросил он.
Ястреб сурово поблагодарил его:
— Что ж, я постараюсь отплатить тебе за доверие. Скажи, ты знаешь, что это за место?.. Эта стена знакома тебе?
В первый раз я этого не знал. Теперь знаю. И знаю, что ты бывал по ту сторону этой стены.
— Да. Я бывал на этом холме. И перебирался через стену благодаря магическому искусству, которым тогда владел. И силе, которая тогда у меня была. Я бывал и внизу, в городах мертвых, я говорил с теми, кого знал живыми, и порой они мне отвечали… Но ты, Хара, — первый человек из тех, кого я когда-либо знал, о ком слышал в Школе среди Мастеров или читал в древних книгах, что хранятся на Роке, на Пальне или на Энладских островах, который смог коснуться своей возлюбленной ЧЕРЕЗ СТЕНУ и поцеловать ее!
Олдер сидел, опустив голову и крепко переплетя пальцы лежавших на коленях рук.
— Расскажи, каково было ее прикосновение? Были ли по-человечески теплы ее руки или она была просто сгустком ледяного воздуха, тенью, похожей на живую женщину? Была ли она живой? Прости, что я задаю такие вопросы, но…
— Я бы рад был ответить на них, господин мой! На острове Рок Мастер Заклинатель спрашивал у меня то же самое. Но я не могу ответить правдиво. Я так сильно тосковал по ней, так страстно желал ее… И мне так сильно хотелось… чтобы она была такой, какой была при жизни!.. Нет, я не знаю. Во сне не все видишь достаточно ясно.
— Во сне — да. Но я никогда не слышал, чтобы хоть один человек подходил к той стене и КАСАЛСЯ ее во сне. Это такое место, подходы к которому может искать только волшебник, да и то если вынужден это делать, если его научили это делать, если он обладает достаточными для этого силами. Но без определенных знаний и сил лишь умирающие могут…
И Ястреб запнулся, вспомнив тот сон, что приснился ему прошлой ночью.
— А я считал, что это сон, — сказал Олдер. — Он встревожил меня, но был мне так дорог! Точно в пашне моего сердца провели борозду, чтобы я думал о своей любимой и не забывал ее! Было больно, но мне дорога эта боль, и я стараюсь удержать ее в себе. И потом я хотел, чтобы мне снова стало больно. Мечтал, чтобы этот сон повторился.
— Вот как?
— Да. И он повторился.
Невидящими глазами Олдер смотрел в голубую даль, где небеса соединялись с морем. Далеко-далеко в туманной дымке едва виднелись невысокие, залитые солнцем холмы острова Камебер. Яркий солнечный луч, прорвавшись сквозь туманную пелену, вдруг ярко осветил северное плечо горы.
— Это случилось на девятый день после первого сна, — снова заговорил Олдер. — Заснув, я снова оказался на том же холме, только значительно выше, почти на самой его вершине. Было хорошо видно, как ниже того места, где я стоял, каменная стена пересекает склон холма, и я бросился туда, выкрикивая имя любимой, уверенный, что увижу ее. Там действительно кто-то был! Но когда я подошел ближе, то увидел, что это не Лили, а какой-то мужчина. Он склонился над стеной так, словно чинил ее, и я спросил: «А где же она? Где моя Лили?» Он мне не ответил и даже головы не поднял. И тут я увидел, что он делает. Он совсем не чинил стену, а, наоборот, разбирал ее, выковыривая пальцами довольно крупный камень. Но камень стоял мертво, и он сказал: «Помоги мне, Хара!» И тут я увидел, что это мой учитель Ганнет, который нарек меня моим Истинным именем и который умер целых пять лет назад! Но он все стоял там и все пытался выковырять какой-нибудь камень, все нажимал на них своими пальцами, а потом опять громко произнес мое имя и сказал: «Помоги мне, выпусти меня на свободу!» И вдруг выпрямился, потянулся ко мне через стену, как в прошлом сне Лили, и схватил меня за руку. Но его рука обжигала! Был ли то огонь или мертвящий холод, не знаю, но прикосновение его было таким болезненным, что я вырвался. Боль и ужас, которые я при этом испытал, заставили меня проснуться. И сон мой прервался. Рассказывая об этом, Олдер протянул руку, показывая темные пятна и на тыльной стороне ладони, и на самой ладони, похожие на след от ожога, а может, на обыкновенные синяки.
— Так я научился не позволять им касаться меня, — прошептал он.
Гед посмотрел на его губы и заметил там похожее темное пятно.
— Ты подвергался смертельной опасности, Хара, — тоже очень тихо сказал он.
— Было и еще кое-что…
И Олдер заставил себя прервать молчание и продолжить свой рассказ.
На следующую ночь стоило ему уснуть, и он снова оказался на том же сумеречном холме. Каменная стена на этот раз виделась ему иначе: она резко уходила вниз от вершины вдоль всего склона. Он подошел к стене, надеясь, что Лили уже там.
— Мне было все равно… Даже если бы она не смогла перебраться через стену, даже если бы я не смог перебраться к ней, я мог бы видеть ее, говорить с нею! — вырвалось у него. Но даже если Лили и была там, он не смог отыскать ее среди множества других людей, ибо на этот раз за стеной была целая толпа призрачных существ. Это были люди-тени, и некоторые из них были видны более отчетливо, а некоторые совсем неясно. Кое-кого он вроде бы знал когда-то, другие же были ему совершенно не знакомы, но все они тянулись к нему, пытались его коснуться и громко выкрикивали его имя. «Хара! Позволь нам пойти с тобой! Хара, выпусти нас на свободу!» — кричали они. — Это так ужасно, когда слышишь, как твое Истинное имя выкрикивают совершенно не знакомые тебе люди! — сказал Олдер. — Но еще страшнее, когда этим именем тебя зовут мертвые…
Он пробовал повернуть назад, отойти от стены, снова подняться на вершину холма, на, как это часто бывает во сне, его вдруг охватила ужасная слабость, ноги совершенно его не держали. Он рухнул на колени, чтобы мертвые силой не подтянули его к себе, и стал звать на помощь, хотя там, разумеется, не было никого, кто мог бы ему помочь. И в ужасе проснулся.
С тех пор каждую ночь, если ему удавалось заснуть достаточно глубоко, ему снился этот сон. И каждый раз он оказывался на том же холме среди сухих серых трав, а мертвецы внизу, которых раз от раза становилось все больше, кричали, звали его, просили о помощи…
— Я просыпался, — сказал он Ястребу, — и каждый раз оказывался в своей собственной спальне. А совсем не на том холме в стране мертвых. Но я твердо знал, что они там ждут меня, что если я засну, то снова окажусь у этой стены. Но должен же я спать! Я старался почаще просыпаться, пробовал спать при свете дня, но это не помогало. Я всегда сразу попадал ТУДА, и они всегда ждали меня. И я не могу теперь подняться вверх по склону холма. Стоит мне пошевелиться, и я сразу спускаюсь еще ниже, еще ближе к этой стене. Иногда я, правда, могу повернуться к ней спиной, но в таких случаях мне сразу начинает казаться, что среди их голосов я слышу и голос Лили, она плачет, она зовет меня, и я оборачиваюсь, начинаю ее искать, а они все тянутся ко мне…
Олдер посмотрел на свои плотно сцепленные пальцы.
— Что же мне делать? — спросил он. Ястреб не ответил.
Оба долго молчали, потом Олдер сказал:
— Тот арфист, о котором я рассказывал, был моим хорошим другом. Через некоторое время он заметил, что со мной неладно, и, когда я рассказал ему, что не могу спать, потому что боюсь своих снов о мертвецах, он уговорил меня сесть на корабль и доплыть до острова Эа, чтобы посоветоваться там с одним волшебником в сером плаще. — Было ясно, что Олдер имеет в виду волшебника, получившего образование в Школе на острове Рок. — И, едва услышав мой рассказ, тот волшебник велел мне незамедлительно отправляться на Рок.
— Как его имя?
— Берил. Он служит князю Эа, который также является правителем острова Таон.
Ястреб понимающе кивнул.
— Он ничем не мог помочь мне, — продолжал Олдер. — Однако помог мне сесть на корабль; его слово для шкипера оказалось на вес золота. Так что я снова поплыл по морю. Это было долгое путешествие. Сперва мы плыли вокруг всего острова Хавнор, потом на юг по Внутреннему морю, и я надеялся, что, может быть, на море, далеко от моего родного острова, я смогу забыть свой сон, оставить его позади. Тот волшебник с острова Эа называл тот холм из моего сна «сухая земля», и я считал, что, уплывая все дальше в море, удаляюсь и от этой «сухой земли», но каждую ночь снова оказывался на склоне проклятого холма! А иногда и не один раз за ночь. Дважды, трижды — столько раз, сколько я засыпал снова. Стоило моим глазам закрыться, и я видел каменную стену, уходящую во тьму, слышал зовущие меня голоса… В отличие от людей, которые страдают от боли и могут обрести покой только во сне, для меня мучителем является именно сон, приносящий боль и тоску. И страх перед мертвецами, толпящимися у стены и ждущими меня…
Моряки, по словам Олдера, вскоре стали избегать его — по ночам он громко кричал и будил их, а днем был так задумчив и печален, что казалось, на нем лежит некое проклятие или же его преследуют злые духи.
— И на Роке ты никакого облегчения не обрел? — спросил Ястреб.
— Только в Роще, — признался Олдер. Все его лицо осветилось, когда он произнес слово «Роща».
И у Ястреба на мгновение тоже вспыхнули глаза.
— Мастер Путеводитель отвел меня туда, и под этими деревьями я наконец смог спокойно уснуть. Даже ночью! А днем, если солнечные лучи падали прямо на меня — как вчера здесь, когда я уснул на траве возле дома, — если я чувствовал всем телом солнечное тепло, если свет солнца просвечивал сквозь мои веки красным, меня не страшили даже сны. Там, в Роще, я вообще никакого страха не чувствовал. Там я снова полюбил красавицу-ночь.
— Расскажи мне подробнее, что было, когда ты прибыл на Рок.
И Олдер, хотя и был придавлен многодневной тоской, страхом и вынужденной бессонницей, принялся рассказывать. Обладая серебряным языком своего родного острова, он говорил о Роке так живо и так поэтично, что, даже если он что и упустил в своем рассказе, опасаясь говорить слишком долго или невольно рассказать Верховному Магу то, что тот уже и так знает, Ястребу ничего не стоило довообразить себе любые детали, ибо он хорошо помнил, как сам впервые попал на Остров Мудрых в возрасте пятнадцати лет.
Когда Олдер сошел с корабля в гавани Твила, один из моряков начертал руну Запертой Двери на верхней планке сходней, чтобы помешать этому пассажиру когда-либо снова ступить на борт судна. Олдер заметил это, но решил, что у команды корабля есть все основания опасаться его. Он чувствовал себя проклятым, осененным неким дурным знамением, зачарованным и поглощенным мертвящей тьмой. Все это заставляло его сторониться людей, а в незнакомых городах и селениях держаться еще более застенчиво, чем обычно. К тому же Твил был не просто незнакомый, но и очень СТРАННЫЙ город.
— Ты прав, — сказал Ястреб. — От улиц Твила порой начинает кружиться голова.
— Это точно, господин мой!.. Вы уж простите, что я так путано рассказываю, но мой язык подчиняется сердцу, а не…
— Не обращай на меня внимания. Я могу снова стать «лордом Козопасом», если тебе так будет проще. Продолжай.
Те, у кого Олдер спрашивал дорогу, указывали ее ему неправильно, а может, он сам неправильно понимал их разъяснения, поэтому и прослонялся по холмистому крошечному Твилу страшно долго и при этом, как ни странно, все время видел где-то невдалеке здание Школы, но никак не мог найти вход туда, пока в полном отчаянии не остановился у какой-то простенькой двери в абсолютно голой стене, выходившей на небольшую скучную площадь. Олдер некоторое время тупо смотрел на эту стену и вдруг узнал ее: это была та самая стена, за которую он так хотел попасть! Он постучался, и ему открыл какой-то человек со спокойным лицом и очень спокойными глазами. Олдер был уже готов сказать ему, что его послал сюда волшебник Верил с острова Эа, который даже специально письмо написал Мастеру Заклинателю, но не успел и рта открыть, как Мастер Привратник, пристально посмотрев на него, тихо промолвил:
— Ты не можешь привести их в этот дом, дружок.
Олдер не спросил, кого это «их». Он и так все понимал. В прошлую ночь он практически не сомкнул глаз, пытаясь заснуть и тут же в ужасе просыпаясь, а когда задремывал уже при свете дня, то сразу видел, как та сухая серая трава расползается по залитой солнцем палубе и каменная стена возникает прямо над волнами моря… Даже когда он бодрствовал, этот сон преследовал его, и страна мертвых все время была с ним, вокруг него, хотя и как бы окутанная слабой дымкой, и он мог слышать сквозь шум ветра и волн голоса тех, что выкрикивали его имя. И уже не знал, спит он или сходит с ума от горя, страха и усталости.
— А вы не пускайте их сюда! — сказал он Привратнику. — Но молю тебя, господин мой: впусти меня, сжалься! Позволь мне одному войти!
— Хорошо. Подожди здесь, — ласково сказал ему Привратник. — Вон скамья. — И он, указав ему на каменную скамью, закрыл дверь.
Олдер сел и стал ждать. Это он еще помнил. И помнил, что несколько мальчишек-подростков с любопытством посмотрели на него и скрылись за той самой дверью, за которую он войти не мог. Но что было с ним дальше, он уже мог вспомнить только кусками.
Привратник вернулся в сопровождении довольно молодого волшебника с посохом и в сером плаще. Затем Олдер каким-то неведомым образом оказался в незнакомой комнате, которая, как он догадался, была одной из комнат Большого Дома. Через некоторое время туда пришел Мастер Заклинатель и попытался с ним побеседовать. Но к этому времени Олдер был уже не в состоянии разговаривать. Пребывая между сном и бодрствованием, между залитой солнцем комнатой и окутанным сумеречным светом холмом, слыша одновременно голос Мастера Заклинателя и голоса, зовущие его из-за стены, Олдер совершенно лишился способности думать, он даже пальцем пошевелить не мог здесь, в мире живых. Но в том сумеречном мире, где звучали голоса мертвых, ему, казалось, двигаться гораздо легче и легче сделать несколько шагов вниз, к стене, где тянущиеся к нему руки наконец схватят его, завладеют им, удержат его в той стране навсегда… «Если я буду одним из них, — думал он, — они, наверное, оставят меня в покое?»
Потом, вспоминал Олдер, та залитая солнцем комната тоже куда-то исчезла, и он действительно оказался на холме, покрытом серой мертвой травой. Однако на этот раз рядом с ним стоял Мастер Заклинатель — крупный, широкоплечий и очень смуглый, с огромным тисовым посохом. В сумеречном свете посох его слабо мерцал.
Мертвые, толпившиеся у стены, звать Олдера перестали и исчезли. Из темноты еще доносилось шуршание шагов и сдавленные рыдания — это мертвецы уходили прочь.
Мастер Заклинатель подошел к стене и положил на нее руки ладонями вниз.
Было видно, что камни в стене в нескольких местах расшатались, а некоторые даже выпали и лежали на сухой траве. Олдер чувствовал, что должен поднять эти камни и вставить на место, но почему-то так и не сделал этого.
Заклинатель повернулся к нему и спросил:
— Кто привел тебя сюда?
— Моя жена, Мевре.
— Призови ее.
Олдер от изумления онемел. Когда же он наконец открыл рот, то произнес не подлинное имя своей жены, а ее обычное имя, то, которым он называл ее при жизни. Он громко позвал ее: «Лили!» — но здесь звук этого имени нисколько не напоминал ему белую прекрасную лилию, и это имя камешком упало в серую пыль.
Вокруг была тишина. В черных небесах светили маленькие и неподвижные звезды. Олдер никогда раньше не смотрел на тамошнее небо, а теперь вдруг посмотрел. И не узнал звезд!
— Мевре!.. — произнес Заклинатель глубоким, густым голосом и прибавил еще несколько слов на Языке Созидания.
Олдер задохнулся; ему показалось, что из него выпустили весь воздух; он едва держался на ногах. Но на длинном пологом склоне, уходящем вниз в густую тьму, ничто даже не шевельнулось.
Однако через некоторое время там появилось какое-то светлое пятно и стало медленно подниматься вверх по склону, приближаясь к ним. Олдер весь задрожал от страха и желания поскорее увидеть жену и прошептал:
— О, моя дорогая! Любовь моя!
Но это оказалась вовсе не Лили. Приблизившееся к ним существо было довольно маленьким и по виду напоминало ребенка лет двенадцати, но определить, мальчик это или девочка, было невозможно. «Ребенок» не обращал на них с Заклинателем никакого внимания и даже не думал заглядывать за стену. Он устроился под стеной, и когда Олдер подошел поближе, то увидел, что «ребенок» расшатывает камни и вытаскивает их из стены один за другим.
Заклинатель что-то все время бормотал на Языке Созидания, но неведомое создание лишь один раз равнодушно посмотрело на него и продолжало весьма ловко выковыривать камни из стены своими тонкими пальцами, которые с виду казались совершенно бессильными.
Это было так ужасно, что у Олдера закружилась голова. Больше всего ему хотелось отвернуться и уйти прочь. И потом он не смог припомнить ничего, кроме этого, когда проснулся в залитой солнцем комнате, в удобной постели, но охваченный болезненной слабостью и страшно холодный.
Пока он был болен, за ним ухаживала какая-то милая улыбчивая женщина и смуглый пожилой мужчина плотного телосложения, которого привел Мастер Привратник. Олдер сперва принял его за обыкновенного колдуна-целителя и, лишь увидев в его руках волшебный посох из оливы, понял, что это, должно быть, знаменитый Мастер Травник из Школы.
Уже одно его присутствие приносило Олдеру успокоение, а иногда он даже был способен подарить ему нормальный сон. Травник сварил какой-то особый чай и велел Олдеру выпить; потом поджег какую-то траву, и та медленно тлела, распространяя запах лесной земли, если, скажем, накопать ее где-нибудь у корней сосны. Потом Травник уселся рядом с больным и тихо запел какую-то длинную монотонную песню.
— Но я же не должен спать! — запротестовал было Олдер, чувствуя, как сон накрывает его, точно огромная темная волна. Целитель взял своей теплой рукой пальцы Олдера, и тот почувствовал, как в душу его входит покой. Он незаметно соскользнул в сон, не испытывая ни малейшего страха. Пока целитель держал его руку в своей или касался его плеча, он словно удерживал Олдера в этом мире, далеко от темного холма и страшной каменной стены.
Проснувшись, Олдер немного поел, и вскоре опять пришел Мастер Травник и подал ему чашку с тепловатым и довольно безвкусным чаем. Потом стал жечь травы, пахнущие землей, петь свою колыбельную и взял Олдера за руку; и тот смог спокойно уснуть.
В Школе у Мастера Травника тоже было немало обязанностей, так что он мог приходить к Олдеру лишь на несколько часов, ночью, однако всего за три часа ночи Олдер настолько пришел в себя и отдохнул, что к нему вернулся аппетит и он даже смог гулять понемногу в дневное время. Теперь мысли его прояснились, и он вполне разумно и последовательно отвечал на вопросы других людей. На четвертое утро сразу трое Мастеров — Травник, Привратник и Заклинатель — вошли в его комнату.
Заклинателю Олдер поклонился со страхом в сердце, почти с недоверием. Мастер Травник тоже был великим магом, но его искусство было земным и не так уж сильно отличалось от мастерства самого Олдера, да и понимали они друг друга гораздо лучше. Кроме того, великая доброта исходила от рук Травника. А Мастер Заклинатель имел дело не с существами из плоти и крови, а с душами, мыслями и волей как живых, так и мертвых людей, с какими-то непонятными духами. И все его искусство казалось Олдеру таинственным и опасным, исполненным риска и затаенной угрозы. Да и тогда, на границе миров, у той стены он стоял рядом с Олдером не во плоти. И больше всего напоминал тень. Стоило ему подойти ближе, как к Олдеру вернулось мучительное ощущение постоянного страха перед темной страной мертвых.
Сперва все трое магов молчали. Если у них и было нечто общее, так это невероятная способность подолгу молчать.
Пришлось Олдеру заговорить первым, ибо ему хотелось открыть Великим Мудрецам то, что так тяготило его.
— Если я сделал что-то дурное и из-за этого попал в страну мертвых и потревожил душу своей жены и чьи-то еще души, то я, как смогу, постараюсь залатать ту брешь, которую невольно проделал, — сказал он. — Я непременно постараюсь! Вот только я не знаю, что именно я сотворил…
— И кто ты такой сейчас, — прибавил Заклинатель.
Олдер онемел.
— В общем-то, немногие из нас знают, кто они такие на самом деле, — спокойно сказал Привратник. — Нам ведь дано лишь ВЗГЛЯНУТЬ на этот мир, не больше.
— Расскажи, как ты впервые оказался у каменной стены, — велел Заклинатель.
И Олдер рассказал.
Маги слушали молча и, после того как он закончил свой рассказ, еще долго не произносили ни слова. Затем Заклинатель спросил:
— А ты задумывался над тем, что это значит — перебраться на ту сторону стены?
— Да, но я понял только, что тогда не смог бы вернуться.
— Лишь маги могут живыми посещать страну, лежащую за стеной, и возвращаться обратно. И лишь при крайней необходимости. Мастер Травник, например, даже пройдя со страждущим весь путь до самой стены, не следует за ним, если этот человек окажется за стеной.
Мастер Заклинатель был так высок, широкоплеч, темноволос и смугл, что Олдеру казался похожим на медведя.
— Мое искусство заклинать души дает мне силу призывать мертвых из-за стены, — продолжал Заклинатель. — Правда, лишь на несколько мгновений и если в том есть особая нужда. И теперь меня мучает вопрос: какая нужда способна оправдать столь значительную брешь в ткани мирозданья, нарушившую Закон и Равновесие? Я никогда еще не произносил самого страшного Великого Заклятия и никогда еще не пересекал той заповедной черты. Наш Верховный Маг, лорд Ястреб, вместе с королем Лебанненом сделал это, чтобы исцелить ту страшную рану, которую нанес миру волшебник по имени Коб.
— И когда наш Верховный Маг не вернулся, — подхватил Мастер Травник, — Торион, который был тогда нашим Мастером Заклинателем, отправился в ту безжизненную страну, чтобы отыскать его. Торион тоже сумел вернуться оттуда, но совершенно иным…
— Нет нужды сейчас говорить об этом! — резко заметил Мастер Заклинатель.
— А может быть, как раз есть! — возразил Травник. — Может быть, Олдеру необходимо знать это. Торион, по-моему, слишком верил в собственное могущество. Да и оставался там слишком долго. Он считал, что сможет призвать назад, к жизни, и собственную душу, но назад вернулось только его мастерство, его волшебное могущество, его честолюбие — но все это настоящей жизни не дает. Но мы верили ему, потому что любили его. А он нас неторопливо уничтожал. Пока Ириан не уничтожила его самого.
Далеко от острова Рок, на острове Гонт, слушавший Олдера Ястреб прервал вдруг его рассказ:
— Как?.. Какое имя ты только что произнес?
— Ириан, — повторил Олдер.
— Тебе это имя известно?
— Нет, господин мой.
— Мне тоже. — И, помолчав, Ястреб заговорил тихо и словно бы неохотно: — Дело в том, что я встретил Ториона в мертвой стране, куда он рискнул отправиться, чтобы найти меня. Велика была моя печаль, когда я увидел его там, и я сказал ему, что он может вернуться назад, перебравшись через стену. И указал ему путь. — Лицо Ястреба потемнело, посуровело. — Это был дурной совет. Все дурно, что говорится между живыми и мертвыми. Но ведь и я тоже очень любил Ториона! Они посидели молча. Ястреб вдруг резко поднялся, потянулся и принялся растирать плечи и бедра. Оба немного походили, чтобы размяться. Олдер напился воды из колодца, а Ястреб подобрал садовую лопату и приделал к ней новый черенок, отшкурив до блеска верхнюю его часть и чуть затесав нижнюю, чтобы точно вошла в гнездо. Наконец они вернулись на прежнее место, и Ястреб сказал:
— Ну, Олдер, продолжай свой рассказ.
И Олдер заговорил снова.
Мастера довольно долго молчали, после того как Травник заговорил о Торионе. И Олдер, воспользовавшись этой паузой, набрался смелости и спросил о том, что не давало ему покоя: как смогли те, что умерли, прийти к стене и как сами маги приходят туда.
Заклинатель ответил ему очень кратко:
— Это путешествие души.
Старый Травник отвечал менее уверенно:
— Мы ведь посещаем ту стену не во плоти. Ведь и тело того, кто умер, остается здесь, верно? И если даже волшебник отправляется туда в своих видениях, то его спящее тело все равно остается здесь, остается живым, поэтому такого путешественника мы называем… Это ведь не он сам совершает путешествие в царство смерти, а только его душа, дух… — вновь повторил он.
— Но моя жена взяла меня за руку, — сказал Олдер, но не признался им, что она еще и поцеловала его в губы, — и я чувствовал ее прикосновение!
— Это тебе так казалось, — отрезал Мастер Заклинатель.
— Нет, если тела их действительно соприкасались, если возникла какая-то связь, то возможно, что и другие мертвые получили возможность подходить к нему, звать его или касаться, не так ли?
— Именно поэтому он и должен был им сопротивляться! — сердито сказал Заклинатель, быстро глянув на Олдера своими маленькими и какими-то свирепыми глазками.
Олдер почувствовал в его словах упрек, несправедливый к тому же, и ответил:
— Но я пытался им противостоять, господин мой! Я все время пытаюсь это делать. Но их так много!.. И она там, среди них… И они страдают, господин мой! Они зовут меня!
— Они не могут страдать, — уверенно заявил Заклинатель. — Смерть прекращает все страдания.
— Но ведь возможно, что тень боли тоже причиняет боль, — заметил Травник. — В той стране, как известно, есть горы, и они не зря называются Горами Горя.
Привратник, который до сих пор практически не проронил ни слова, вдруг сказал, как всегда спокойно и негромко:
— Вы забыли, что Олдер — профессиональный латальщик. Он латает бреши, а не пробивает их. Я не думаю, что он способен разрушить стену. Или сам разорвать эту связь с миром мертвых.
— Если он сумел ее создать, сумеет и разрушить, — обронил Мастер Заклинатель.
— А разве это он ее создал?
— Я не владею таким великим искусством, господин мой! — сказал Олдер, до такой степени испуганный их словами, что собственные у него прозвучали, пожалуй, даже сердито.
— В таком случае мне придется спуститься туда самому, — сказал Заклинатель.
— Нет, друг мой, ни за что! — возразил Привратник, и старый Травник тоже сказал:
— Ты — в последнюю очередь из всех нас!
— Но ведь это мое дело, мое искусство! — возмутился Заклинатель.
— И наше.
— Но кто же тогда пойдет туда?
— Похоже, — сказал Привратник, — нашим провожатым будет Олдер. Явившись к нам за помощью, он, возможно, сумеет помочь и нам. Давайте все вместе отправимся с ним в его сновидения, но границу пересекать не станем.
Итак, ночью, уже после полуночи, когда наконец Олдер, перепуганный и взволнованный, позволил сну сморить его, они все оказались в сумеречной стране — Олдер, Мастер Травник, тепло которого Олдер чувствовал даже в этом пронизывающем холоде, Мастер Привратник, чье серебристое одеяние все время меняло свой вид и переливалось, как лунный свет, и массивный, похожий на огромного медведя Мастер Заклинатель, представлявшийся Олдеру воплощением каких-то темных сил.
На этот раз они стояли не на том холме, склоны которого уходили во тьму, а на ближайшем и во все глаза смотрели на вершину соседнего холма, где каменная стена была наиболее низкой, едва по колено. Над стеной небо с редкими мелкими звездами казалось абсолютно черным.
Вокруг все застыло в полной неподвижности.
Будет, наверное, трудно попасть отсюда на ту вершину, думал Олдер, ведь придется сперва спускаться, а потом подниматься. Раньше стена всегда была ниже того места, где он стоял.
Но если на этот раз он сможет дойти туда вместе с волшебниками, то вдруг там окажется и Лили, как в самый первый раз? Вдруг ему снова удастся взять ее за руку? Тогда эти маги сумеют, наверное, отвести их обоих назад, к свету? Если же нет, то он сам перешагнет через стену там, где она такая низкая, и пойдет к Лили…
Олдер уже спустился с одного холма и начал подниматься на другой, и это оказалось совсем легко, и он уже почти добрался до цели, как вдруг его окликнули:
— Хара!
Глубокий голос Заклинателя петлей охватил его шею, ему показалось, что Мастер даже нарочно дернул за этот тугой «поводок». Олдер споткнулся, попытался сделать еще шаг и вдруг оказался почти у самой стены. Он упал на колени и потянулся к ней руками, плача и крича: «Спасите меня!» Но к кому он взывал? К магам или к мертвецам за стеной?
А потом он почувствовал у себя на плечах чьи-то живые руки, сильные и теплые, и снова оказался в своей комнате, и Травник действительно крепко держал его за плечи, и вокруг его рук ярко разливался волшебный белый свет. И еще оказалось, что теперь в комнате рядом с Олдером четыре человека, а не три!
Старый Травник сидел рядом с ним, крепко сжимая его руки и стараясь как-то его успокоить. Олдера била дрожь; тело его корчилось в судорогах, он задыхался от рыданий. «Я не могу этого сделать!» — все повторял он в отчаянии, но по-прежнему не понимал, кому он это говорит: магам или мертвым?
Когда страх и боль начали понемногу отступать, он почувствовал себя смертельно усталым и почти безо всякого интереса посмотрел на четвертого волшебника. Глаза у того были цвета льда и совершенно прозрачные, а волосы и кожа — почти белые. Откуда-нибудь с далекого Севера, с Энваса или Бересвека, подумал Олдер.
— Что это вы делаете, друзья мои? — спросил он у магов.
— Рискуем, Азвер, — откликнулся старый Травник.
— Беда на самой границе, Путеводитель! — сказал Заклинатель.
И Олдер почувствовал, с каким огромным уважением относятся к этому светлоглазому человеку все остальные и какое огромное облегчение они испытывают от того, что он здесь. Они быстро объяснили ему, в чем дело, и он спросил:
— Если он пойдет со мной, вы его отпустите? — И повернулся к Олдеру: — В Имманентной Роще тебе не нужно будет ничего бояться. Там ты будешь спать спокойно. А значит, и нам не нужно будет бояться твоих снов.
Маги согласно кивали головами. И Мастер Путеводитель, не прибавив более ни слова, кивнул им на прощание и исчез. Да его, собственно, там и не было.
Не было там его самого! Это было лишь его «послание», его двойник. Впервые в жизни видел Олдер столь яркое проявление волшебного могущества! И, вполне возможно, был бы потрясен, если бы у него еще остались силы чему-то удивляться и чего-то пугаться.
А потом они пошли куда-то с Мастером Привратником по ночным улицам Твила, мимо стен Школы, через поля, раскинувшиеся у подножия высокого округлого холма, вдоль берега речки, которая что-то тихонько и мелодично напевала в темноте. Впереди темнел какой-то лес; над вершинами высоких деревьев, точно драгоценные камни в коронах, светились звезды.
Мастер Путеводитель вышел им навстречу. Он выглядел в точности так же, как тогда в комнате. Они с Привратником поговорили о чем-то с минуту, а потом Олдер последовал за Мастером Путеводителем в Рощу.
— Знаешь, господин мой, эти деревья кажутся такими темными, — сказал Олдер Ястребу, — однако под ними даже глубокой ночью совсем не так темно, словно там есть какой-то источник света, какое-то свечение исходит от них…
Ястреб молча кивнул и слегка улыбнулся.
— И знаешь, как только я вошел под сень этих деревьев, — продолжал Олдер, — то сразу понял: здесь я смогу спать! У меня возникло такое ощущение, будто все это время я проспал и мне все время снился один и тот же дурной сон, но теперь я наконец проснулся по-настоящему, а значит, потом смогу по-настоящему и заснуть. И Мастер Путеводитель отвел меня в одно замечательное место — там, среди корней громадного дерева, вся земля была устлана опавшими листьями, и он сказал мне, что я могу лечь на эту мягкую подстилку и спать, сколько захочу. И я лег, и заснул, и не могу передать словами, сколь сладок был этот сон!
После полудня солнце стало припекать, и Ястреб пригласил своего гостя в дом. Пока он ставил на стол блюда с едой — хлеб, сыр и вяленое мясо, — Олдер огляделся. Дом состоял, собственно, из одной продолговатой комнаты с небольшим альковом у западного окна, однако помещение было просторное, хотя и темноватое, и полное воздуха. Стены в доме были прочными, половицы — крепкими и широкими; под потолком виднелись могучие балки. Внутри было очень чисто; пол вымыт до блеска, очаг аккуратно выложен камнем.
— Какой благородный дом! — с восхищением промолвил Олдер.
— И очень старый. Его называют домом Старого Мага. Но не в мою честь, конечно, и не в честь моего Учителя, Айхала, который здесь жил, а в честь его Учителя, Гелета, который вместе с Айхалом остановил страшное землетрясение. Это очень хороший дом!
Потом Олдер еще немного поспал в саду, и солнечные лучи просвечивали сквозь шелестящую листву плодовых деревьев. Ястреб тоже передохнул, но недолго; когда Олдер проснулся, под сливовым деревом уже стояла внушительных размеров корзина, полная маленьких золотистых слив. Самого же Ястреба Олдер обнаружил высоко на козьем пастбище: он чинил изгородь в самом дальнем углу. Олдер хотел ему помочь, но делать ему было уже практически нечего. А козы уже давно ушли вниз.
— И ведь ни одной молочной нет! — проворчал Ястреб, когда они вернулись домой. — Делать этим козам больше нечего, кроме как изгородь портить! И зачем я их только держу?.. Самое первое заклятие, которое я узнал — еще в раннем детстве, — способно было заставить коз тут же бежать домой, где бы они ни шлялись. Меня тетка научила. А теперь мне от этого заклинания не больше толку, чем от любовной песенки: не слушаются они меня. Пожалуй, схожу-ка я да посмотрю, не забрались ли они в огород к вдове. Ты-то небось не знаешь таких слов, которыми этих чертовых коз собрать можно?
Две коричневые козы действительно уже вторглись в огород у самого крайнего деревенского дома и подбирались к капустным грядам. Олдер машинально повторил то заклинание, которое только что сказал ему Ястреб:
— Нот хирт малк ман, хиолк хан мерт хан!
Козы чуть встревожились, потом презрительно посмотрели на него и чуть-чуть отошли от грядок. Крики и удары палкой заставили их убраться из чужого огорода, а на тропинке Ястребу удалось подманить их сливами, которые он вытащил из кармана. Обещая, предлагая, соблазняя, он медленно уводил проказниц на пастбище.
— Странные они все-таки существа, — сказал он, запирая ворота загона, — с ними никогда не знаешь, как себя вести!
А Олдер подумал, что так и не понял пока, как ему себя вести со своим хозяином, но вслух этого не сказал.
Когда они снова уселись в тени, Ястреб пояснил:
— Знаешь, Мастер Путеводитель — не северянин, он с Каргадских островов, как моя жена. Он был воином на Карего-Ат. Единственный известный мне человек, который когда-либо являлся из тех краев на Рок. У каргов ведь нет ни магов, ни волшебников. Они никому из них не доверяют, всех считают «злобными колдунами» и не признают ни магии, ни колдовства. Зато они гораздо больше знают о Древних Силах Земли, чем мы. Но Азвер, то есть Мастер Путеводитель, будучи еще совсем юным, услышал какие-то легенды об Имманентной Роще, и ему, не знаю уж почему, пришло в голову, что средоточие всех земных сил находится именно там. Так что он оставил своих богов, выучил новый язык и прибыл на Рок. Встал на пороге Школы и говорит: «Научите меня жить в этом вашем лесу!» Ну, мы и научили его. Учили до тех пор, пока он сам нас учить не начал… Короче, он стал нашим Мастером Путеводителем. Он человек отнюдь не мягкий, но доверять ему можно всецело.
— Я никогда не испытывал перед ним страха, — сказал Олдер. — Быть с ним рядом — одно удовольствие! Он много раз брал меня с собой, когда гулял по лесу.
Оба, хозяин и гость, некоторое время молчали, думая о полянах и похожих на своды храмов кронах могучих деревьев в Роще. И о том, как сквозь листву этих древних деревьев просвечивает солнечный или звездный свет и листья отбрасывают на землю узорчатые тени…
— Это ведь самое сердце нашего мира, верно? — промолвил Олдер.
А Ястреб посмотрел куда-то вверх, на восток, на склоны горы Гонт, тоже покрытые густыми лесами, и сказал:
— Я собираюсь побродить там, в этих лесах, как придет осень.
И Олдер не совсем понял, какие леса он имел в виду. Ястреб еще немного помолчал и спросил:
— А какой совет дал тебе Путеводитель, когда отсылал тебя ко мне, на Гонт?
— Он сказал, господин мой, что ты знаешь больше о… той стране. Больше, чем любой человек на свете. И, стало быть, скорее сможешь понять, что означает мое общение с мертвыми во сне и почему они так просят освободить их.
— А он не говорил, что, по его мнению, с тобой могло случиться?
— Говорил. Он сказал, что, может быть, моя жена и я просто не умели расставаться; умели только встречаться и соединяться. Что происшедшее не было делом моих рук. Но, возможно, виноваты все же мы оба, потому что тянулись друг к другу, точно капельки ртути на полу. Только Мастер Заклинатель с этим мнением не согласился. Он считает, что только великий волшебник способен до такой степени изменить существующий миропорядок. Ведь мой старый учитель Ганнет тоже сумел коснуться меня через стену, и Мастер Заклинатель сказал, что, возможно, именно в нем заключена огромная магическая сила, которая скрывалась или просто была незаметна при жизни, но теперь вышла наружу.
Ястреб задумался.
— Когда я жил на Роке, — сказал он, — я бы, возможно, воспринял это именно так, как воспринимает это сейчас Заклинатель. Там я не знал более могущественной силы, чем магия, Высшие Искусства… И даже Древние Силы Земли, думал я тогда… Но неважно. Если тот Мастер Заклинатель, о котором ты говоришь и с которым ты встречался, тот самый человек, который когда-то прибыл в Школу совсем еще ребенком, то я хорошо его знаю. Это мой старый друг Ветч с острова Иффиш направил его к нам учиться. И он больше никогда не покидал остров Рок. Между ним и Азвером Путеводителем очень большая разница. Азвер успел повзрослеть на родине; он, будучи сыном воина, и сам какое-то время был воином; он достаточно долго жил среди обыкновенных мужчин и женщин и хорошо знает жизнь. Те явления повседневности, от которых стены Школы успешно отгораживают ее обитателей, он знает не понаслышке: он испытал их на себе. Он знает, например, что мужчины и женщины влюбляются, женятся, заводят детей… Прожив пятнадцать лет вне стен Школы, я склонен думать, что Азвер мыслит более правильно, точнее — он на правильном пути к решению этой проблемы, ибо связь между тобой и твоей женой сильнее, чем то, что
разделяет жизнь и смерть.
Олдер колебался. Но все же не выдержал и сказал:
— Я тоже так думал! Но ведь… это же бесстыдство — так думать. Да, мы любили друг друга так, что я не могу выразить это словами, но была ли наша любовь сильнее всех прочих любовей? Была ли она сильнее, чем любовь Морреда и Эльфарран?
— Возможно, она была не менее сильной.
— Но разве это возможно?
Ястреб посмотрел на него, точно чему-то радуясь, что-то приветствуя, и ответил так ласково, что Олдер почувствовал себя польщенным:
— Видишь ли, — сказал он, — самая страстная любовь приходит обычно весною жизни, прекрасная, цветущая, однако она обычно ведет к несчастью или даже смерти. И поскольку эта любовь умирает в самом расцвете своей красы, именно ее воспевают поэты и музыканты, именно о ней слагают легенды: это любовь, которой удалось избежать старости. Такой была и любовь Молодого Короля и Эльфарран. Такой была и твоя собственная любовь, Хара. Нет, она не была сильнее, чем любовь Морреда. Но была ли любовь Морреда сильнее, чем твоя?
Олдер, задумавшись, не ответил.
— В абсолютных вещах не бывает понятия «больше» или «меньше», — продолжал Ястреб. — Все или ничего — так говорит истинный влюбленный, и это так и есть. Моя любовь никогда не умрет, говорит он. Он утверждает вечность. И имеет на это право. Разве может умереть его любовь, когда это для него сама жизнь? Да и что мы знаем о вечности? Мы способны лишь мельком ее увидеть — когда испытываем чувства, подобные страстной любви.
Ястреб говорил негромко, но слова его обжигали, в них чувствовалась огромная энергия. Он умолк, откинулся назад и сказал, чуть усмехнувшись:
— Каждый деревенский парнишка-недотепа поет о любви. Каждая девчушка на свете грезит о ней. Но Мастера острова Рок почти не знакомы с нею. Кроме, пожалуй, Путеводителя, который, возможно, знал когда-то раньше, что такое страстная любовь. Я, например, узнал ее очень поздно. Но не слишком поздно! — Он посмотрел на Олдера; в глазах его по-прежнему горел огонь и некий вызов. — А у тебя такая любовь была, — завершил он свой монолог.
— Да… — Олдер глубоко вздохнул и сказал задумчиво: — Возможно, они и сейчас вместе там, в той темной стране, Морред и Эльфарран.
— Нет, — сказал Ястреб со спокойной уверенностью.
— Но если такая связь между людьми действительно возможна, то что же может ее разорвать?
— Там влюбленных нет.
— Но тогда кто же все эти люди? Что они делают там? Я знаю, господин мой, ты был там, по ту сторону стены, и ходил среди них, разговаривал с ними. Расскажи мне об этом!
— Непременно, — сказал Ястреб и умолк. — Я не люблю говорить об этом. Я даже думать об этом не люблю, — пояснил он. Потер виски, помрачнел, но все же заговорил снова: — Ты же сам видел… видел эти звезды, маленькие, злые звезды, которые никогда не движутся. И там нет луны. И нет зари… Там, правда, есть дороги, если спуститься дальше вниз. Дороги и города. На холме вроде бы растет трава, но это мертвая трава, а дальше — только пыль и камни. Там не растет ничего. Там только темные города. И тысячи тысяч мертвецов стоят вдоль улиц или бредут по дорогам, не имеющим конца… Они не разговаривают. И не прикасаются друг к другу. Они никогда не прикасаются друг к другу! — Он говорил каким-то тихим, бесцветным голосом. — Там Морред прошел бы мимо Эльфарран и головы бы в ее сторону не повернул! Да и она бы на него не посмотрела… Там воссоединение невозможно, Хара. Там нет связей. Там даже мать не прижимает к груди свое дитя!
— Но ведь моя жена пришла ко мне! — возразил Олдер. — И она называла меня по имени, она поцеловала меня… в губы!
— Да, я понимаю. И поскольку твоя любовь была не больше любви любого другого смертного, и поскольку ни ты, ни она не являетесь могущественными волшебниками, сила которых способна изменить законы жизни и смерти, то во всем этом кроется нечто совсем иное. Что-то происходит в мире, что-то меняется! И хотя мы узнали об этом через тебя и это происходит именно с тобой, ты всего лишь инструмент, и не в тебе причина происходящего. Но инструмент — в чьих руках?
Ястреб встал и быстрыми шагами прошелся к началу тропы, бегущей по краю утеса, а потом вернулся к Олдеру; он был исполнен, даже почти переполнен какой-то невероятной энергией и напряжен, точно ястреб, готовый камнем упасть вниз на свою жертву.
— Разве твоя жена не сказала тебе, когда ты назвал ее Истинным именем: «ЭТО БОЛЬШЕ УЖЕ НЕ МОЕ ИМЯ»?..
— Да, сказала, — прошептал Олдер.
— Но как это получается? Мы, кто имеет Истинные имена, сохраняем их, когда умираем, забывается лишь наше обычное, повседневное имя… Это тайна, которую предстоит изучить и раскрыть, вот что я тебе скажу, но с другой стороны, насколько мы понимаем, Истинное имя — это одно из слов Истинной Речи. Именно поэтому лишь особым образом одаренный человек способен узнать имя ребенка и наречь его этим именем. И это имя связывает существо — живое или мертвое. Все искусство Заклинателя заключено в этом… И все же, когда Мастер Заклинатель призвал твою жену ее Истинным именем, она к нему не пришла. Ты позвал ее простым именем, даже прозвищем, Лили, и она к тебе явилась. Неужели она пришла к тебе как к человеку, который единственно и знал ее по-настоящему?
Он остро и внимательно вглядывался в лицо Олдера, так, словно видел куда больше, чем просто сидящего с ним рядом человека. Через некоторое время Ястреб заговорил снова:
— Когда умирал мой Учитель Айхал, моя жена была здесь, с ним рядом; и он, умирая, сказал ей: ВСЕ ПЕРЕМЕНИЛОСЬ. Он смотрел поверх той стены. Но вот с какой стороны — я не знаю. И с той поры действительно переменилось очень многое — появился король на троне Морреда, и на Роке не стало больше Верховного Мага. Но было и нечто гораздо большее, гораздо более важное. Я видел, как ребенок призвал дракона Калессина, Старейшего, и Калессин прилетел к этой девочке и называл ее дочерью, как называю ее и я. Что это означает? Почему драконы появились в небесах над западными островами? Король послал за нами, снарядил корабль в порт Гонт, прося мою дочь Техану приехать к нему на совет по поводу драконов. Люди боятся, что старое соглашение нарушено, что драконы прилетят и будут сжигать поля и города, как они делали это до тех пор, пока Эррет-Акбе не сразился с Орм Эмбаром. И теперь на границе жизни и смерти одна из душ отказывается от связи с собственным именем… Я этого не понимаю! Мне понятно только то, что происходят перемены. Вселенские перемены!
В голосе его не было страха, только яростное возбуждение.
Олдер не мог разделить его чувств. Он потерял слишком многое и был слишком измучен и истощен борьбой с теми силами, которые не мог ни понять, ни подчинить себе. Однако сердце его не осталось равнодушным к отваге Ястреба.
— Пусть же эти перемены будут к лучшему, господин мой! — промолвил он.
— Да будет так, — заключил старик. — Но они должны свершиться.
Когда к вечеру жара немного спала, Ястреб сказал, что ему нужно сходить в деревню. Он взял с собой корзину слив, в середину которой аккуратно пристроил еще и корзиночку с яйцами.
Олдер отправился с ним вместе, и по дороге они разговаривали. Когда Олдер понял, что Ястреб меняет сливы и яйца, а также кое-какие другие продукты из своего маленького хозяйства на ячмень и пшеничную муку, что тот хворост, который он сжигал в очаге, ему пришлось терпеливо собирать в лесу на склонах горы, что если его козы не дают молока, то ему приходится перебиваться прошлогодними запасами сыра, то он был просто поражен: как это может быть, чтобы Верховный Маг Земноморья жил только за счет того, что сумеет добыть или вырастить сам? Неужели его соотечественники совершенно его не уважают? Когда он пришел с ним в деревню, то увидел, как женщины захлопывают двери своих домов, завидев старика. Торговец, купивший у него яйца и сливы, отсчитал деньги и выложил их на деревянную столешницу, не промолвив ни слова; лицо у него было сердитое, он смотрел в пол. Ястреб же заговорил с ним вполне миролюбиво и вежливо, пожелал ему доброго дня, но ответа так и не дождался.
— Господин мой, — спросил Олдер, когда они шли домой, — неужели они не знают, кто ты такой?
— Нет, — сказал бывший Верховный Маг Земноморья и насмешливо, искоса глянул на него. — Ида.
— Но… — Олдер просто слов не находил от возмущения.
— Они знают, что у меня нет никакой магической силы, но все же во мне есть нечто таинственное. Для них. Они знают, что я живу с иностранкой, с каргадской женщиной. Они знают, что девушка, которую мы называем своей дочерью, не то ведьма, не то еще что-то похуже, потому что ее лицо и рука почти дочерна сожжены огнем, а также потому, что она сама сожгла лорда Ре Альби, или столкнула его с утеса, или умертвила, его своим дурным глазом — у них много разных историй. Они, впрочем, уважают тот дом, в котором мы живем, потому что это дом Айхала и Гелета, а мертвые волшебники — это хорошие волшебники… Ты, Олдер, человек городской, да еще и с острова, принадлежавшего королевству Морреда. А деревушка на острове Гонт — это совсем другое дело.
— Но почему же ты остаешься здесь, господин мой? Конечно же, наш король оказал бы тебе все подобающие почести…
— Почести мне не нужны, — сказал старик и так сверкнул на него глазами, что Олдер мгновенно умолк.
Когда они подошли к дому, построенному на краю утеса, Ястреб снова заговорил:
— Вот мое единственное гнездо, настоящее неприступное гнездо, как у орла!
За ужином они выпили по стакану красного вина, а потом и еще по одному — сидя на крыльце и глядя, как садится солнце. Говорили они мало. Страх перед наступающей ночью, перед тем сном, начинал прокрадываться в душу Олдера.
— Я ведь не целитель, — сказал его хозяин, — но, возможно, и я смогу сделать то, что делал Мастер Травник, чтобы ты мог спать.
Олдер вопросительно посмотрел на него.
— Я все время думал об этом, и мне кажется, что это, возможно, вовсе не заклинание удерживало тебя вдали от того холма, а простое прикосновение живой руки. Если хочешь, мы можем попробовать. — Олдер запротестовал было, но Ястреб сказал: — Я ведь все равно большую часть ночи не сплю.
Так что его гость лег в ту ночь на низкую кровать в дальнем углу просторной комнаты, а сам Ястреб сел с ним рядом, присматривая за огнем в камине и погрузившись в легкую дремоту.
Он тоже наблюдал за Олдером и видел, что тот в конце концов уснул; и вскоре после этого Олдер начал вздрагивать и ворочаться. Ястреб протянул руку и положил ее Олдеру на плечо, поскольку молодой человек лежал, как бы чуть от него отвернувшись. Спящий слегка шевельнулся, вздохнул, расслабился и снова крепко заснул.
Ястребу было очень приятно, что он оказался способен сделать хотя бы такую мелочь. Не хуже, чем волшебник, с незлым ехидством отметил он про себя.
Спать ему совсем не хотелось; он по-прежнему чувствовал напряжение. Он думал о том, что рассказал ему Олдер, и о том, что они обсуждали днем. Он видел, как Олдер, стоя среди капустных грядок, произносил слова призывающего коз заклятия, на которое козы ответили высокомерным презрением. А ведь это довольно могущественное заклятие! Он вспоминал, как когда-то, произнося этом заклятии имена ястреба-перепелятника, болотного ястреба, серого орла, призывал их к себе с небес, и они падали, шумя крыльями, и обматывали его запястье могучими когтями, и внимательно смотрели ему в глаза своими исполненными гнева золотистыми круглыми глазами… Ничего этого больше нет. Он может хвастаться, взывая этот дом своим «орлиным гнездом», но у то больше нет крыльев!
Зато крылья есть у Техану. У нее есть для полета крылья дракона!
Огонь в очаге догорел. Старик поплотнее закутался в свою овчину и прислонился головой к стене, по-прежнему не убирая руки с безвольно расслабленного теплого плеча Олдера. Ему нравился этот человек, ему было жаль его.
Надо бы не забыть и непременно попросить его починить завтра зеленый кувшин.
Проснулся Гед внезапно и даже привстал со своего кресла, но уже через минуту, овладев собой, вновь положил руку Олдеру на плечо и легонько его стиснул, прошептав:
— Хара! Пойдем прочь, Хара! — Олдер вздрогнул, потом тело его расслабилось, он снова вздохнул, повернулся на живот, еще больше уткнувшись лицом в подушку, и затих.
Ястреб сидел, не снимая своей руки с плеча спящего. Как это он сам-то оказался там, у каменной стены? Он ведь больше не имел волшебной силы, чтобы проникать в эту страну. И больше не знал пути туда. Как и прошлой ночью, сон Олдера или его странствующая душа потянули его за собой на границу темной страны…
Теперь Ястреб уже окончательно проснулся. Он сидел, не сводя глаз с серого прямоугольника окна, в которое смотрели яркие звезды.
Та трава под стеной… Она не росла там, дальше по склону-, где этот склон постепенно уходил в сумеречную сухую страну. Он тогда сказал Олдеру, что там, внизу, была только пыль, только камень. Мертвые русла рек, где никогда не бежала никакая вода. Ни одного живого существа. Ни птицы, ни полевой мыши, ни поблескивания крыльев и гудения мелких насекомых, солнечных созданий. Только мертвые со своими пустыми глазами и молчаливыми лицами.
Но разве птицы не умирают?
Мышь, комар, коза — бело-коричневая пряморогая бесстыдная коза Сиппи со своими желтыми глазищами, любимица Техану, которая умерла прошлой зимой в преклонном возрасте. Где она, эта Сиппи?
Не в той сухой пустыне, не в той темной стране. Она умерла, но она не там. Она там, откуда вышла, — в своей родной стихии, в земле. В земле, на свету, на ветру, где слышатся шлепки волн о скалы и где с небес смотрит желтый глаз солнца.
Но тогда почему, почему же?..
Он смотрел, как Олдер чинит кувшин. Пузатый и темно-зеленый, кувшин этот был самым любимым у Тенар; она притащила его на себе много лет назад от самой Дубовой фермы. А тут на днях он возьми, да и выскользни у Ястреба из рук, когда тот снимал его с полки. Он подобрал с пола два больших куска и все мелкие осколки, имея смутное намерение попытаться как-то склеить их, чтобы хоть вид кувшину вернуть прежний, чтобы можно было его хоть на полку поставить, если уж пользоваться им больше нельзя будет. Каждый раз, когда он видел черепки кувшина, сложенные в корзинку, то приходил в ярость от собственной неловкости.
И теперь он, восхищенный, очарованный, следил за руками Олдера. Тонкие, гибкие, сильные, ловкие и неторопливые, они старательно восстанавливали форму кувшина, поглаживая и подбирая каждый отколовшийся кусочек, настойчиво заставляя встать на свое место и лаская. Большими пальцами латальщик подправлял и направлял самые маленькие кусочки, ставя их на место, воссоединяя их, вдыхая в них уверенность в целостности всего кувшина. Работая, он бормотал себе под нос какую-то лишенную мелодии присказку из двух-трех слов. То были слова Истинной Речи. Гед знал их когда-то, но не помнил, что именно они означают. Лицо Олдера было абсолютно безмятежным, вся тревога и печаль покинули его: это было лицо человека, настолько погруженного в любимую работу, что сквозь него просвечивало безвременное спокойствие.
Наконец руки Олдера отделились от кувшина; пальцы раскрылись, точно бутон распускающегося цветка, — кувшин стоял на дубовом столе совершенно целый!
Олдер смотрел на него с нескрываемым удовлетворением.
Когда Гед благодарил его, он сказал:
— Это было совсем нетрудно. Линии отлома были очень чистыми. Кувшин делал хороший гончар, да и глина у него была отличная. Это с грубыми поделками повозиться приходится, если разобьются.
— А знаешь, у меня возникла одна мысль насчет того, как тебе попытаться обрести нормальный сон, — сказал ему Гед.
Олдер проснулся еще на рассвете и сразу встал, чтобы его хозяин мог бы прилечь и как следует поспать до позднего утра; но было совершенно очевидно, что подобное «расписание» долго Ястреб выдерживать не в силах.
— Пойдем-ка со мной, — сказал ему старик, и они пошли куда-то в глубь острова по тропе, огибавшей козье пастбище и вьющейся меж холмов, маленьких, наполовину обработанных полей и выступами заходивших на эти поля рощ. Гонт производил на Олдера впечатление дикого края, нищего, малонаселенного, и эта заросшая мохнатым лесом гора словно все время хмурилась и нависала над ними.
— Мне показалось, — сказал Ястреб на ходу, — что если и мне удается так же хорошо, как Мастеру Травнику, удерживать тебя вдали от этого холма и этой стены, всего лишь прикасаясь к тебе рукой, то, может быть, и другие существа способны помочь тебе. Если только ты не имеешь ничего против животных.
— Животных?
— Видишь ли, — начал было Ястреб, но умолк, прерванный появлением какого-то странного существа, ползущего вниз по тропе им навстречу. Существо было замотано в бесчисленные юбки и шали, из головы у него во все стороны торчали перья, а ноги были обуты в высокие кожаные сапоги. Выкрикивало оно тоже нечто невразумительное: «О Учительяс, Учительяс!»
— Ну, здравствуй, Вереск. Тише, тише, — сказал Ястреб. Женщина остановилась, раскачиваясь всем телом, перья на голове у нее так и трепетали, на лице сияла улыбка во весь рот.
— Она небось знала, ты приходишь! — громовым голосом возвестила она. — Она сделала своими пальцами клюв ястреба, вот так, видишь, правда-правда, и велела мне идти, идти, своей рукой велела! Она знала, что ты идешь!
— И я действительно иду.
— Нас проведать?
— Да, проведать вас. Познакомься, Вереск, это Учитель Олдер.
— Учительолд, — прошептала она, вдруг успокоившись и словно включив Олдера в свое сознание. А потом как-то съежилась, ушла в себя, потупилась.
Никаких кожаных сапог у нее на ногах не было. Ее босые ноги до колен были покрыты гладкой коричневой подсыхающей глиной. Многочисленные грязные и рваные юбки были подхвачены на талии ремнем.
— Ты на лягушек охотилась, Вереск? — Она охотно закивала.
— Я пойду Тетушке скажу! — Она, начав произносить эти слова чуть ли не шепотом, закончила оглушительным ревом и покатилась назад, туда, откуда явилась.
— Она добрая душа, — сказал Ястреб. — Она всегда моей жене помогала. А теперь живет у нашей старой ведьмы и помогает ей. Ты ведь не против того, чтобы войти в дом ведьмы, а?
— Никогда в жизни, господин мой.
— А многие боятся. И знатные люди, и бедняки, и волшебники, и колдуны.
— Лили, моя жена, была ведьмой.
Ястреб понимающе кивнул и некоторое время шел молча, а потом спросил:
— А откуда она узнала о своем даре, Олдер?
Он у нее был врожденный. Еще совсем малышкой она могла заставить сломанную ветку дерева снова прирасти к стволу, а другие ребятишки приносили ей свои сломанные игрушки, чтобы она их починила. Но когда отец заставал ее за этим, то всегда бил по рукам. Ее семья была очень уважаемой в наших краях. Очень уважаемой! И они не желали иметь ничего общего с ведьмами. Ибо если бы она продолжала якшаться с ведьмами, то никогда бы не вышла замуж за приличного человека. Так что она все свои занятия и уроки держала в тайне. И ведьмы ее родного города тоже не желали иметь с ней ничего общего, даже когда она просила их чему-нибудь научить ее, потому что они боялись ее отца. А потом за ней стал ухаживать один богатый человек, она ведь была красива, как я уже говорил, господин мой. Куда красивее, чем я могу описать словами. И ее отец сказал, что она вскоре должна будет выйти замуж. И в ту же ночь она убежала из дома. Она жила одна, несколько лет скиталась, бродяжничала. Иногда ее пускали к себе ведьмы, но в том, что касается ее мастерства, она держалась сама по себе.
— Но ведь Таон — не такой большой остров.
— Ее отец ни за что не стал бы ее искать. Он сказал, что его дочь не может быть какой-то ведьмой-латальщицей.
И снова Ястреб склонил голову в знак согласия.
— Значит, она прослышала о тебе и сама к тебе пришла?
— Но она научила меня куда большему, чем я мог ее научить! — искренне признался Олдер. — У нее ведь действительно большой талант был.
— Верю.
К этому времени они подошли к маленькому домику, притулившемуся в лощине и скрытому типичным для жилища ведьмы переплетением веток и веников. С козой на крыше и с целой стаей черно-белых кур во дворе, которые с кудахтаньем кинулись прочь. Ленивая маленькая пастушья собака встала и задумалась, стоит ли ей залаять, но, явно передумав, завиляла хвостом.
Ястреб подошел к низенькой двери и, сильно пригнувшись, заглянул внутрь.
— Ну, здравствуй, Тетушка! — сказал он. — Я к тебе гостя привел. Олдера, колдуна с острова Таон. Он латальщик. Й настоящий мастер, должен тебе сказать! Я только что любовался тем, как он приводит в порядок зеленый кувшин Тенар, который я, неуклюжий старый дурак, уронил на днях и разбил вдребезги.
Он вошел в хижину, и Олдер последовал за ним. В кресле у порога сидела старая женщина, вся обложенная подушками. Отсюда ей был виден залитый солнцем двор. Перья торчали из ее курчавых седых волос. Пестренькая несушка устроилась у нее на коленях. Она улыбнулась Ястребу с чарующей лаской и вежливо кивнула второму посетителю. Курица проснулась, сказала «ко-о» и удалилась.
— Это Тетушка Мох, — сказал Ястреб, — ведьма, владеющая многими талантами и умениями, величайшим из которых является доброта.
Так, подумал Олдер, Верховный Маг Земноморья мог бы представить другому волшебнику какую-нибудь знатную даму или известную чаровницу. Он поклонился. Старушка тоже кивнула ему и засмеялась.
А потом сделала некое круговое движение левой рукой, вопросительно глядя на Ястреба.
— Тенар? Техану? — переспросил он. — Они все еще в Хавноре, у короля, насколько мне известно. Пусть немного развлекутся, посмотрят нашу прекрасную столицу, ее дворцы.
— А я сделала нам короны! — выкрикнула Вереск, роясь в весьма дурно пахнувшей темной груде каких-то неведомых вещей у дальней стены дома. — Как у королей и королев. Видите? — Она поправила куриные перья, что торчали во все стороны из ее густых спутанных волос. Тетушка Мох, только сейчас осознав, что и у нее на голове красуется подобный странноватый убор, попыталась, хотя и тщетно, вынуть перья из своих волос и поморщилась.
— Короны ваши слишком тяжелы, — сказал Ястреб, нежными движениями выбирая перья из тонких спутавшихся волос старушки.
— А кто королева, Учительяс? — крикнула Вереск. — Кто королева? Баннен — король, а королева-то кто?
— У короля Лебаннена нет королевы, Вереск.
— А почему нет? Должна быть. Почему нет?
— Возможно, он ее как раз ищет.
— Он женится на Техану! — радостно взвизгнула женщина. — Точно!
Олдер увидел, как переменилось лицо Ястреба: замкнулось и будто окаменело.
— Сомневаюсь, — только и сказал он, держа в руках перья, которые выбрал из волос Тетушки Мох, и нежно их поглаживая. — Я ведь к тебе, как всегда, за одолжением, Тетушка Мох, — сказал он.
Она протянула свою здоровую руку и с такой нежностью коснулась руки Ястреба, что Олдер был тронут до глубины души.
— Я хочу попросить у тебя взаймы одного из твоих щенков.
Тетушка Мох посмотрела на него с нескрываем мой печалью. Вереск, суетившаяся возле нее, на минутку задумалась, а потом заорала:
— Щеночки! Тетушка Мох, щеночки! Так ведь их уже ни одного не осталось!
Старушка кивнула с печальным видом, продолжая поглаживать руку Ястреба.
— А что, они кому-нибудь понадобились?
— Самый крупный выбрался из дома и, наверное, убежал в лес, а там его съел какой-нибудь зверь, потому что больше он так и не вернулся, а потом этот старый Рэмблз… Явился и говорит, что ему нужны пастушьи собаки, что он возьмет обоих щенков и всему их обучит, и Тетушка их ему отдала, потому что они охотились на цыпляток, которых высидела Белоснежка, а еще все грызли, прямо-таки весь дом сгрызли, честное слово!
— Ну что ж, Вереск, пусть Рэмблз потрудится как следует, пока их чему-нибудь обучит, — сказал с усмешкой Ястреб. — Я очень рад, что он их взял. Однако жаль, что я сам не успел, потому что мне хотелось взять одного на денек-другой. Они ведь у тебя на постели спали, верно, Мох?
Старушка кивнула, по-прежнему очень печальная. Потом, вдруг немного просветлев лицом, склонила голову набок и мяукнула.
Ястреб непонимающе уставился на нее, но Вереск догадалась сразу.
— Ой! А котята-то! — вскричала она. — У Малышки Грей четверо родилось, а старый Черныш успел убить одного, прежде чем мы его остановили, но два или три еще живы, они с Тетушкой спят и с Бидди, особенно теперь, когда маленьких собачек забрали. Киски, киски! Где вы, киски? Кис-кис-кис! — И после довольно-таки длительных копаний, поисков в куче вещей, призывных мяуканий и прочих действий Вереск вынырнула откуда-то с сереньким котенком, который мяукал и старался вырваться. — Вот и один! — возвестила она и кинула его Ястребу, который довольно неуклюже поймал котенка на лету, и тот немедленно его цапнул.
— Ну-ну, успокойся, — приговаривал Ястреб. Очень тихое, но весьма грозное ворчание раздалось из-под его ладони, и котенок снова попытался его укусить. Тетушка Мох похлопала себя по колену, и Ястреб отдал ей котенка. Она погладила малыша своей тяжелой медлительной рукой, и котенок тут же вытянулся, подставил ей животик, потянулся и замурлыкал.
— Можно мне взять его на некоторое время? Старая ведьма приподняла руку над котенком и совершенно королевским жестом повела ею в воздухе:
— С превеликой радостью. Он твой!
— Понимаешь, у этого вот Мастера Олдера весьма тревожные сны, и я подумал, что, может быть, если рядом с ним ночью будет какой-то зверек, это поможет ему снять тревогу.
Тетушка Мох с мрачным видом кивнула и, глянув на Олдера, подсунула ладонь под котенка, приподняла малыша и протянула ему. Олдер взял его довольно робко, но котенок не заворчал и кусаться не стал, а вскарабкался по его руке и плечу и прильнул к шее, прямо к ямке под затылком, прикрытой зачесанными назад и довольно длинными волосами.
На обратном пути котенок забрался Олдеру под рубашку, и Ястреб пояснил:
— Однажды, когда я еще только начинал заниматься искусством магии, меня попросили вылечить одного мальчика от красной лихорадки. Я понимал, что мальчик умирает, но никак не мог смириться с этим и отпустить его. И попытался за ним последовать. Вернуть его назад. Через ту каменную стену… И упал возле его постели, и лежал, словно мертвый. И там была одна ведьма, которая догадалась, в чем дело, и она велела перенести меня в мой дом и уложить там на постель. А у меня дома жил один зверек, с которым мы подружились, когда я еще совсем мальчишкой жил на Роке. Это был совсем дикий зверек, который пришел ко мне по собственной воле и остался со мной. Отак. Ты отаков-то когда-нибудь видел?
Олдер колебался и ответил не сразу:
— Я знаю о них только из легенд. И героического сказания, в котором говорится, как… один великий волшебник прибыл ко двору правителя Терренона на острове Осскил. И отак пытался предупредить его о том, что за ним гонится оборотень. А потом волшебник с оборотнем сразился и победил его, но тот маленький зверек, отак, погиб, попавшись этому чудовищу в лапы.
Ястреб довольно долго молчат, шагая по тропе.
— Да, — промолвил он наконец. — Все верно. Но мой отак спас мне жизнь, когда я, охваченный собственными безумными устремлениями, оказался за каменной стеной; то есть тело мое осталось лежать здесь, а душа отправилась в неведомые странствия. Отак пришел и стал вылизывать меня — в точности как они вылизывают своих детенышей, как кошки вылизывают котят; он вылизывал меня своим сухим язычком терпеливо, усердно, каждым своим прикосновением возвращая меня назад, к жизни. И дар, который я получил от моего отака, — это не только жизнь, но и знание, столь же великое, как и все то, что я когда-либо узнал на Роке… Но ты же видишь, я все больше забываю то, что знал когда-то…
…Я сказал «знание», но это скорее тайна, — продолжал Ястреб. — Какова разница между нами и животными? Умение говорить? Все животные обладают той или иной формой речи, умением сказать «приходи» или «осторожнее!», да и многое другое; но они не умеют рассказывать истории, не умеют говорить лживые слова. Тогда как мы все это умеем…
Но драконы умеют говорить и пользуются Истинной Речью, Языком Созидания, на котором лгать невозможно, на котором рассказать историю уже означает создать ее в реальной действительности, выпустить в жизнь! И все же мы называем драконов животными!
Так что, возможно, разница не в языке, не в умении говорить. Может быть, она вот в чем: животные не совершают ни добрых, ни злых поступков. Они поступают так, как должны поступать. Мы можем называть их действия вредными или полезными, однако понятия «добро» и «зло» принадлежат нам, которые способны выбирать, как именно нам поступить и что сделать. Драконы опасны, это так. Они могут нанести страшный вред, и это тоже верно. Но они не являются носителями зла. Они недостижимы для нашей морали, если угодно, — как и любое другое животное, впрочем. Они выше этой морали. Или ниже ее. В этом отношении они не имеют с нами ничего общего.
Мы должны снова и снова делать свой выбор. А животным нужно только существовать. Мы под вечным ярмом, они же свободны. Так что, когда ты живешь рядом с животным, то познаешь немножко свободы…
Прошлой ночью я все думал о том, почему ведьмы так часто заводят себе какого-нибудь четвероногого дружка. У моей тетки-ведьмы была старая собака, которая никогда не лаяла. Тетка называла его Гобефор, что означает «идущий впереди». А у Верховного Мага Неммерля, когда я впервые увидел его на Роке, был ручной ворон, который ходил за ним повсюду. И еще я вспомнил одну молодую женщину, которую знал когда-то; она носила на руке в виде браслета маленького дракончика харрекки… И, конечно же, я вспомнил о моем отаке. И мне пришло в голову вот что: если тебе для того, чтобы удержаться по эту сторону стены, нужно тепло живого прикосновения, то почему бы рядом с тобой не быть какому-нибудь животному? Поскольку животные ведь видят жизнь, а не смерть. Возможно, какой-нибудь пес или кот в этом отношении не хуже настоящего Мастера из Школы Рока…
Так и оказалось. Котенок, явно довольный тем, что его забрали из дома, наполненного собаками и злобными взрослыми котами и петухами, а также от этой доброй, но совершенно непредсказуемой женщины по имени Вереск, изо всех сил старался показать, какой он надежный и благовоспитанный и как хорошо умеет ловить мышей. Он с удовольствием ездил на плече Олдера, спрятавшись под его волосами, когда ему было это позволено, и с мурлыканьем устраивался спать у него на груди, как только Олдер ложился в кровать. И Олдер крепко спал безо всяких страшных снов и просыпался от того, что котенок, сидя у него на груди, с чрезвычайно добродетельным видом вылизывал ему уши.
Когда, однако, Ястреб попытался определить, какого котенок пола, тот заворчал и стал царапаться.
— Ну хорошо, — сказал Ястреб, поспешив убрать руки подальше от острых коготков. — Пусть будет по-твоему. В общем, Олдер, это либо кот, либо кошка, в этом я совершенно уверен.
— Я все равно не стану давать ему имени, — сказал Олдер. — Они уходят, будто гаснет пламя свечи, и если такому малышу дать имя, то горевать о нем будешь во много раз больше.
В тот день по предложению Олдера они отправились чинить изгородь и брели вокруг обнесенного изгородью козьего пастбища — Ястреб вдоль внутренней стороны изгороди, а Олдер вдоль внешней. Как только один из них обнаруживал, что столбики подгнили или ослабли крепления, Олдер проводил рукой по изгороди, что-то подправляя, что-то затыкая внутрь, что-то оглаживая или укрепляя, почти бессловесная и почти неслышимая песенка постоянно журчала где-то у него в горле, а лицо его становилось расслабленно-спокойным и очень внимательным.
Как-то раз, наблюдая за ним, Ястреб прошептал:
— И я когда-то принимал этот дар просто так! — Олдер, поглощенный работой, не спросил его, что он имеет в виду.
— Ну вот, — сказал он наконец, — теперь будет держаться. — И они двинулись дальше, преследуемые по пятам двумя весьма любопытными козами, которые бодали и били копытами в те самые, только починенные места в изгороди, словно желая проверить их на прочность.
— Я вот все думаю… — сказал Ястреб. — По-моему, тебе следовало бы поехать в Хавнор.
Олдер встревоженно на него посмотрел.
— Ах, — молвил он, — а я думал, что если теперь мне можно уже быть подальше от… от того места… я мог бы поехать домой, на остров Таон. — Он и сам, казалось, перестал верить в то, что говорит, еще не успев договорить до конца.
— Ты мог бы, но я не уверен, что это было бы достаточно мудро.
Олдер неохотно пробормотал:
— Слишком многого от котенка просить нельзя: ведь не может же он защитить от целого нашествия мертвецов!
— Это верно.
— Но я… что мне делать в Хавноре? — И он с неожиданной надеждой спросил: — А ты поедешь со мной?
Ястреб покачал головой:
— Я останусь здесь.
— Лорд Путеводитель…
— Послал тебя ко мне. А я посылаю тебя к тем, кому следует выслушать твою историю и выяснить, что все это значит… Уверяю тебя, Олдер, в глубине души Путеводитель считает, что я остался прежним. Он считает, что я просто скрываюсь здесь, в лесах Гонта, и непременно выйду на сцену, как только нужда станет особенно сильна. — Старик, опустив глаза, осмотрел свою пропотевшую залатанную одежонку, насквозь пропылившиеся башмаки и засмеялся. — Выйду на сцену во всем своем великолепии! — прибавил он. «Бе-е», — засмеялась у него за спиной коричневая коза. — Но тем не менее, Олдер, Путеводитель был глубоко прав, послав тебя сюда, поскольку она-то была бы здесь, если б не уехала в Хавнор.
— Леди Тенар?
— ХАМА ГОНДУН — так назвал ее сам Путеводитель, — промолвил Ястреб, глядя Олдеру прямо в глаза. — Женщина с Гонта. Техану.
Глава 2
Дворцы
Когда Олдер спустился к причалам, тот корабль, на котором он прибыл на Гонт, все еще был там и на него грузили лес; однако он понимал, что эти моряки ему уж точно не будут рады, и направился к стоявшему по соседству маленькому обшарпанному суденышку под названием «Красотка Роза».
Ястреб снабдил его пропуском за подписью самого короля и с королевской печатью — Руной Мира. «Он послал его мне на тот случай, если я вдруг передумаю, — сказал с усмешкой старик. — Так пусть этот пропуск хоть тебе послужит». Шкипер, после того как ему прочитали документ, стал услужливо извиняться за беспорядок и за то, что путешествие, видимо, получится долгим: «Красотка Роза» действительно направлялась в Хавнор, однако она собиралась совершить каботажное плавание, заходя по дороге чуть ли не в каждый порт, чтобы продать или купить там небольшие партии товаров, так что ей вполне мог потребоваться целый месяц, чтобы добраться до юго-восточной оконечности Великого Острова и до его столицы.
Но Олдер сказал, что его это вполне устраивает. Ибо если он и опасался самого путешествия, то прибытие на землю страшило его гораздо больше.
С новолуния до середины лунного месяца путешествие по морю оказалось для него одним из самых спокойных периодов жизни. Серый котенок оказался путешественником весьма мужественным и целыми днями деловито ловил на судне мышей, а ночью, как верный страж, всегда сворачивался клубком у Олдера на груди или рядом с его подушкой. И Олдер не переставал удивляться тому, как этот крошечный теплый живой комочек умудряется отгородить его от той каменной стены и от голосов, чей зов слышится из-за нее. Однако совсем забыть о них он так и не мог. Они были там, с ним рядом, скрытые лишь полупрозрачной пеленой, и во тьме, и при ярком солнечном свете. Когда теплыми летними ночами Олдер спал на палубе, то часто открывал глаза и смотрел, как движутся звезды в такт покачивавшемуся на волнах кораблю и каждая следует своим собственным курсом через небосвод на запад. Но память о тех неподвижных звездах по-прежнему не давала ему покоя. Впрочем, за две недели плавания вдоль берегов островов Камебер и Барниск, где судно повернуло наконец к Хавнору, он тоже успел как бы повернуться спиной к преследующим его призракам.
Несколько дней он наблюдал, как котенок охотится на молодую крысу почти такого же размера, что и он сам. Глядя, как малыш, стараясь изо всех сил, горделиво тянет через палубу крепежный канат, один из моряков прозвал его Буксирчиком. Олдер не возражал.
Проплыв по проливам Эбавнора, они вошли наконец в гавань Хавнора, и перед ними, по ту сторону залитого солнцем залива, прямо из воды выросли белые башни столицы, окутанные туманной дымкой. Олдер не мог оторвать глаз от самой высокой из башен, на вершине которой серебристо светился меч Эррет-Акбе.
В эти мгновения ему больше всего хотелось остаться на борту судна, никогда не сходить на берег и смотреть на этот великий город лишь издали; и не передавать знатным людям во дворце письмо, написанное Ястребом королю, ибо он понимал, что в посланники совершенно не годится. И почему столь тяжкую ношу взвалили именно на его плечи? Разве возможно, чтобы какой-то деревенский колдун, который понятия не имеет о высших материях и искусствах, был призван совершать далекие путешествия с острова на остров, от Верховного Мага к королю, из страны живых в царство мертвых?
Он и Ястребу говорил нечто подобное. «Это ведь куда выше моих возможностей», — сказал он тогда. И старый маг долго смотрел на него, а потом, назвав его Истинным именем, промолвил: «Мир действительно велик и странен, Хара, однако же он не более велик и странен, чем наши души. Подумай об этом».
За городом стеной стояли темные грозовые тучи, проливавшие дождь где-то над внутренними районами острова. И на этом черно-лиловом фоне башни дворца горели белым пламенем, а чайки метались над морем, точно гонимые ветром белые искры этого огня.
«Красотка Роза» причалила к пристани, и моряки спустили сходни и тепло попрощались с Олдером. На этот раз они желали ему всего наилучшего. Он закинул на плечо дорожный мешок, взял в руку корзинку для кур, в которой терпеливо переносил очередное перемещение в пространстве котенок Буксирчик, и сошел на берег.
Улиц оказалось слишком много, и все были забиты народом, но путь ко дворцу Олдер нашел сразу и, не сумев придумать ничего лучше, сразу отправился туда и сказал, что привез письмо для короля от Верховного Мага Ястреба.
Однако это ему пришлось повторить еще много-много раз.
От одного стражника к другому по бесчисленным лестницам и приемным, из кабинета одного придворного в кабинет другого, по роскошным коврам, мимо увешанных гобеленами стен, по полам, выложенным мраморной плиткой и драгоценными породами дерева, под украшенными лепниной потолками и резными балками шел Олдер, без конца повторяя, точно заклинание: «Я прибыл от Верховного Мага Ястреба с письмом к королю, которое передам ему только в собственные руки». Целая толпа подозрительных придворных тащилась уже за ним следом, страшно мешая, затрудняя и без того слишком медлительное путешествие по залам и коридорам дворца.
И вдруг все исчезли. И какая-то дверь сама собой открылась перед Олдером и тут же закрылась за ним.
Он оказался в тихой просторной комнате, широкое окно которой поверх городских крыш смотрело на северо-запад. Грозовая туча рассеялась, и светло-серая округлая вершина горы Онн высилась над столицей и всеми прочими горами и холмами.
В дальней стене открылась другая дверь, и в комнату вошел молодой мужчина, примерно ровесник Олдера, одетый в черное. Двигался он легко; красивое мужественное лицо его было точно отлито из бронзы. Он подошел прямо к Олдеру и сказал:
— Здравствуй, Мастер Олдер, я — Лебаннен. И протянул правую руку, чтобы, по обычаю Энладских островов, коснуться ею руки Олдера. Олдер машинально ответил на знакомое с детства приветствие и подумал вдруг, что следовало бы не обмениваться рукопожатием, а преклонить колена или, по крайней мере, низко поклониться, однако момент для этого был уже упущен. И он застыл, совершенно онемев от смущения.
— Значит, ты от лорда Ястреба? Как он там? Здоров ли?
— Да, господин мой. И он посылает тебе… — Олдер принялся судорожно рыться в карманах куртки в поисках письма, которое намеревался подать королю, опустившись перед ним на колени в тронном зале, где король будет восседать на троне Морреда, — …вот это письмо, господин мой.
Глаза, следившие за его действиями, смотрели живо, но взгляд оставался вежливо-спокойным, и были глаза эти почти столь же непроницаемы и остры, как и у Ястреба, только, пожалуй, в них чувствовалось больше чувства, души. Король с изысканным поклоном взял письмо, поданное ему Олдером, и благодарно заявил:
— Любой человек, принесший мне от моего Учителя хотя бы слово, навсегда обретает мою сердечную благодарность и становится желанным гостем в моем доме. Надеюсь, ты меня извинишь? Я бы хотел это прочесть.
Олдер наконец заставил себя поклониться, и король отошел с письмом в руке к окну.
Он прочитал его дважды с начала и до конца, потом аккуратно свернул и спрятал. Лицо его, однако, по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. Он подошел к двери и что-то сказал тем, кто, видимо, ждал его распоряжений по ту ее сторону. Затем снова повернулся к Олдеру и сказал:
— Прошу тебя, присядь, и я сяду с тобою рядом. Сейчас нам принесут перекусить. Я знаю, ты ведь с самого утра по дворцу бродишь. Если бы у капитана дворцовой стражи хватило ума послать мне соответствующее донесение, я легко мог бы избавить тебя от многочасового лазания по лестницам и посещения бесчисленных кабинетов моих придворных. А ты что же, жил у моего Учителя? В его доме на утесе?
— Да.
— Как я тебе завидую! А вот мне там никогда жить не доводилось. Я его не видел с тех пор, как мы расстались на острове Рок, — ровно полжизни. Он не позволяет мне навещать его. И сам не пожелал прибыть даже на мою коронацию. — Лебаннен улыбнулся так, словно все сказанное не имеет для него ни малейшего значения. — Но именно он подарил мне мое королевство! — прибавил он с гордостью и грустью.
Потом встал и кивком предложил Олдеру занять место за небольшим столиком. Столешница была изысканно инкрустирована сложным орнаментом из слоновой кости и серебра: листья и цветы ясеня переплетались с тонкими шпагами, отчасти скрывая их.
— Удачным ли было твое путешествие? — спросил король и задал еще несколько подобных светских вопросов, пока слуга расставлял на столике тарелочки с закуской — холодным мясом, копченой форелью, салатом и сыром. Лебаннен, подавая Олдеру пример, ел с отменным аппетитом, то и дело подливая в
тончайшие хрустальные бокалы вино, цвет которого напоминал Олдеру золотистый топаз. Через некоторое время король поднял свой бокал и сказал: — За моего Учителя и дорогого друга!
— Да, за него, — прошептал Олдер и выпил до дна.
Лебаннен также много расспрашивал его об острове Таон, который посетил несколько лет назад. Олдер помнил то возбуждение и восторг, которые царили на острове, когда король прибыл в Меони. Потом Лебаннен вспомнил, что у него во дворце есть несколько музыкантов с Таона, арфистов и певцов, и спросил, не знакомы ли Олдеру их имена. Действительно, некоторые имена оказались ему хорошо знакомы. В общем, король очень хорошо умел сделать так, чтобы в его обществе гость чувствовал себя легко и непринужденно. Ну и, конечно же, Олдеру очень помогли в этом отношении вкусная еда и замечательное вино.
Когда оба насытились, король вновь наполнил бокалы и сказал:
— Между прочим, письмо Ястреба в основном касается тебя. Ты это знал? — Свой вопрос он задал почти таким же легким светским тоном, как и прежде, и Олдер даже несколько растерялся.
— Нет, — ответил он.
— А представляешь ли ты, о чем в этом письме может идти речь?
— Возможно, о моих снах. — Это Олдер сказал очень тихо, потупившись.
Король некоторое время испытующе смотрел на него. В его пристальном взгляде не было ничего обидного, и все же Олдеру казалось, что его выворачивают наизнанку. Затем Лебаннен вынул письмо Ястреба и протянул его Олдеру.
— Но, господин мой, я ведь почти не умею читать!
Лебаннен совсем не удивился — среди колдунов лишь некоторые умеют читать, — но явно пожалел, что так неуклюже поставил гостя в неловкое положение. Его золотисто-бронзовые щеки залил темный румянец, и он сказал:
— Прости меня, пожалуйста, Олдер! Можно, я прочту тебе, что он тут пишет?
— Пожалуйста, господин мой, прошу вас! — Смущение короля на мгновение заставило Олдера почувствовать себя как бы его ровней, и он впервые за все это время заговорил тепло и естественно.
Лебаннен пропустил слова приветствия и несколько первых строчек, а затем стал читать вслух:
— «…и Олдер с острова Таон, податель сего письма, является тем самым человеком, которого мертвецы зовут во сне — и отнюдь не по его воле — в свою страну, ту самую, которую когда-то нам с тобой довелось вместе пересечь. Он расскажет тебе о своих страданиях, которые уже стали прошлым, и о тех переменах, которые происходят непрестанно, хотя кажется, что вокруг ничто не меняется. Мы с тобой закрыли дверь, отпертую Кобом. Но теперь, возможно, расшаталась сама стена. Олдер уже побывал на Роке, но только Азвер сумел как следует услышать его. Надеюсь, что и господин мой король услышит его и поступит так, как подскажет ему его мудрость и как того потребует необходимость. Надеюсь также, что Олдер передаст мое неизбывное уважение, любовь и покорность тебе, господин мой и мой король, а также — леди Тенар и моей дорогой Техану». — Лебаннен закончил читать письмо и сказал: — А далее следует подпись в виде руны Когтя. — Он посмотрел Олдеру прямо в лицо, тот глаз не отвел. И король попросил: — Расскажи мне, что тебе снится.
И Олдер в очередной раз рассказал, что с ним произошло.
Он рассказывал об этом поспешно и не слишком складно. Когда он рассказывал свою историю Ястребу, то хоть и испытывал перед ним страх, смешанный с восхищением, все же видел, что бывший Верховный Маг выглядит, одевается и живет, как все простые люди, как любой крестьянин или колдун вроде самого Олдера. Именно эта простота и победила в душе Олдера страх, заставила преодолеть возникшую первоначально скованность. Но каким бы добрым и вежливым ни казался король Лебаннен, он все же выглядел, как настоящий король, и вел себя тоже, как настоящий король. Он действительно был настоящим королем, и для Олдера расстояние между ними было поистине непреодолимо. Так что он спешил как можно меньше обременять своего слушателя подробностями и с облегчением вздохнул, завершив рассказ.
Лебаннен тут же задал ему несколько вопросов. Сколько раз Лили и Ганнет прикасались к Олдеру? Один или несколько? Было ли прикосновение Лили тоже обжигающим?
Олдер показал ему свою руку: под слоем месячного загара отметины на коже стали почти незаметны.
— Мне кажется, все те люди у стены хотели бы ко мне прикоснуться, — сказал он. — Если бы я, конечно, подошел поближе.
— А ты старался держаться от них подальше?
— Да.
— И все они были совершенно тебе не знакомы?
— Нет. Иногда мне казалось, что кого-то я узнаю.
— Но сам ты никогда не мог найти среди них даже свою жену?
— Их там такое множество, господин мой! Порой мне казалось, что я вижу ее в толпе. Но как следует разглядеть ее лицо я не мог.
Вопросы Лебаннена вновь как бы приблизили его к границе темной страны, и он чувствовал, что в его душе опять начинает клубиться страх. Ему вдруг подумалось, что стены дворца могут растаять, исчезнут и это вечернее небо, и плывущая в вышине вершина горы — точно это не реальность, а всего лишь декорация, и, стоит раздернуть занавес, и он, Олдер, снова окажется там, на холме, покрытом серой травой, возле каменной стены…
— Олдер!
Он вздрогнул и посмотрел на Лебаннена. Голова кружилась, комната казалась освещенной слишком ярко, однако лицо короля он воспринимал ясно: живое лицо с четкими и суровыми чертами.
— Так ты останешься здесь, во дворце?
Это было приглашение, но Олдер лишь молча кивнул, в данный момент воспринимая слова короля как приказ.
— Вот и хорошо. Я обо всем позабочусь. Завтра же ты собственноручно передашь послание моего дорогого Учителя госпоже Техану. И я уверен: наша Белая Дама тоже непременно захочет побеседовать с тобой.
Олдер поклонился. Лебаннен на него уже не смотрел.
— Господин мой…
Лебаннен тут же повернулся к нему.
— Можно мне взять с собой своего кота?
Король воспринял эту просьбу совершенно серьезно; ни тени улыбки не промелькнуло на его устах.
— Разумеется.
— Господин мой, мне до глубины души жаль, что я принес вести, которые тебя так тревожат!
— Каждое слово от того человека, который тебя послал, — это милость как для меня, так и для того, кто это слово мне передал. И, по мне, куда лучше получать дурные вести от хорошего и честного человека, чем хорошие, но лживые — от льстеца! — И Олдер, услышав в этих страстных словах Лебаннена знакомый акцент своей родины, даже немного повеселел.
Король вышел, и тут же в комнату заглянул какой-то человек и предложил:
— Я провожу вас в ваши покои, господин мой, если вам будет угодно. — Он держался с достоинством, был уже немолод и отлично одет. Олдер послушно последовал за ним, не представляя, знатен он или же это просто слуга, а потому и не решаясь спросить у него о котенке. Прежде чем войти в ту комнату, где он разговаривал с королем, он оставил корзинку с котенком за дверью — по настоянию многочисленных придворных и стражников, которые посматривали на нее с подозрением, а увидев в ней кота, стали весьма неодобрительно качать головой. Олдеру раз десять или пятнадцать подряд пришлось объяснять, что он взял котенка с собой, потому что ему негде было его оставить. Теперь та приемная, где он оставил корзинку, была далеко-далеко, они ни разу не прошли мимо нее, петляя по бесконечным коридорам, и сам он, конечно же, отыскать ее не сумеет…
Наконец они остановились. Провожатый поклонился и вышел, оставив Олдера в небольшой и очень красивой комнате с гобеленами на стенах и ковром на полу. У окна, смотревшего прямо на гавань, стояло удобное кресло с подушками, украшенными дивной вышивкой. На столе Олдер увидел блюдо со свежими фруктами и кувшин с водой. В комнате была и его корзинка с крышкой!
Он открыл ее. Котенок не спеша вылез оттуда и лениво потянулся, точно всю жизнь прожил во дворцах, понюхал пальцы Олдера, приветствуя хозяина, и двинулся в обход, осматривая каждую вещь. Обнаружив закрытый занавесом альков с широкой удобной кроватью, он тут же вспрыгнул на кровать. В дверь осторожно постучали, и вошел молодой человек с большим плоским ящиком в руках. Человек поклонился Олдеру и застенчиво сообщил:
— А это песочек, господин мой. — Он поставил ящик в дальний угол алькова, снова поклонился и вышел.
— Ну что ж, — сказал Олдер Буксирчику, садясь на кровать. Он, в общем-то, не привык еще беседовать с котенком. Пока что их отношения сводились к молчаливым доверительным прикосновениям. Но сейчас поговорить хоть с кем-нибудь было ему просто необходимо! — Вот я и познакомился с нашим королем!
А королю пришлось переговорить с огромным количеством людей, прежде чем он смог наконец сесть на свою кровать. И главными среди них были послы Верховного Правителя Кар гада. Они, собственно, уже собирались уезжать, закончив свою миссию к полному своему удовлетворению, хотя самого Лебаннена итог их встречи не удовлетворил совершенно.
Он заранее готовился к визиту этих послов. Это была кульминация, которой предшествовала многолетняя увертюра, долгое ожидание, бесконечная переписка и переговоры. В течение первых десяти лет своего правления Лебаннен не достиг ровным счетом никаких перемен во взаимоотношениях с каргами. Прежде Король-Бог, восседавший на троне в Авабатхе, отвергал любые предложения о переговорах, о заключении мирных и торговых сделок и неизменно отсылал посланников Лебаннена назад, даже не выслушав их и упорно заявляя, что боги не вступают в переговоры со смертными, испорченными колдовством, и уж в последнюю очередь они, боги, стали бы говорить с самими «проклятыми колдунами». Однако провозглашение Королем-Богом божественной Империи Каргад отнюдь не повлекло за собой очередной атаки огромного каргадского флота на западные острова, и тысячи кораблей с кровожадными воинами, украшенными перьями, на борту остались в каргадских гаванях. Даже налеты каргадских пиратов, столько веков опустошавших восточные острова Архипелага, постепенно почти прекратились, ибо пираты превратились в контрабандистов и торговцев, которых больше интересовала возможность выменять любые товары, иногда и незаконно вывозимые с Карего-Ат, на железо, сталь и бронзу, ибо Каргадские острова всегда были бедны полезными ископаемыми, особенно рудами металлов.
Именно контрабандисты и принесли впервые весть об укреплении власти Верховного Правителя Каргада.
На большом и бедном острове Гур-ат-Гур, самом восточном из всех Каргадских островов, некий военачальник Тхол заявил, что является прямым потомком короля Торега из Гупуна, а также бога Вулуа, одного из Богов-Близнецов, и провозгласил себя Верховным Правителем. Затем он завоевал остров Атнини и, используя флот и сухопутные войска обоих островов, Гур-ат-Гура и Атнини, захватил власть и над богатым центральным островом Карего-Ат. Пока его воины с боями брали Авабатх, столицу и главный город острова, жители Авабатха подняли мятеж. Люди перерезали всех высших жрецов, изгнали из храмов всех священнослужителей, а из дворца — всех прислужников Короля-Бога и распахнули перед Тхолом двери города. Они радостно приветствовали Тхола как Верховного Правителя и сами возвели его на трон Торега, устроив пышное шествие со знаменами и танцами.
А Король-Бог бежал с остатками своих сторонников в одно из каргадских Святых Мест — в Гробницы Атуана. И там в пустыне, в храме Короля-Бога, близ разрушенной землетрясением святыни Безымянных, один из жрецов-евнухов перерезал Королю-Богу горло.
Итак, Тхол провозгласил себя Верховным Правителем четырех Каргадских островов, и Лебаннен, как только до него дошли вести об этом, направил туда своих послов, приветствуя нового короля и заверяя его в самых дружеских чувствах со стороны народов Архипелага.
Затем последовали пять лет трудных и изнурительных дипломатических переговоров. Тхол правил жестко, зачастую проявляя настоящую дикарскую свирепость, ибо его неустойчивому трону вечно грозила опасность. После крушения теократического правления Короля-Бога власть Тхола на островах, в сущности, зависела от случая, ибо здесь любой авторитет был под вопросом. Менее значительные царьки и правители не унимались и то и дело начинали тоже претендовать на королевский трон; их приходилось покупать, угрозами доводить до полной покорности или попросту убивать. Сектанты все время норовили вылезти из своих нор, разнообразных святилищ и пещер, завопить: «Горе Всемогущему!» — и предсказать землетрясения, цунами или страшную эпидемию. Управляя мятежной и раздробленной империей, Тхол вряд ли мог возлагать какие-то надежды на положительное отношение к нему жителей благополучных островов Архипелага.
И он воспринимал как совершенно пустые все разговоры короля Лебаннена о дружбе, о сохранении Кольца Мира. Да разве сами карги не имеют права владеть этим Кольцом? Это верно, когда-то в древности Кольцо Мира было сделано на одном из далеких западных островов, но верно также и то, что много веков назад король Торег из Гупуна принял это кольцо в дар от Эррет-Акбе в знак дружбы между каргадскими и ардическими землями. А потом Кольцо Мира исчезло, а между Каргадом и островами Архипелага постоянно велись войны, и никакой дружбы между ними не существовало. Но затем этот маг по кличке Ястреб отыскал Кольцо в Гробницах Атуана и выкрал его, а вместе с ним выкрал и Верховную Жрицу Гробниц, которую вместе с Кольцом увез в Хавнор. Ну и довольно с него, Тхола, разговоров о том, что жителям западных островов можно доверять!
Посылая своих эмиссаров, Лебаннен терпеливо и вежливо доводил до сведения Тхола, что Кольцо Мира было, если уж с чего-то начинать, подарком Морреда Эльфарран, драгоценной реликвией, оставшейся после смерти самых любимых народом короля и королевы Архипелага. А также — вещью в высшей степени священной, ибо на нем была начертана Связующая Руна, могущественное благословляющее заклятие. Примерно четыре столетия назад Эррет-Акбе действительно отвез Кольцо на Каргадские острова как залог нерушимого мира. Однако жрецы Авабатха нарушили договор и сломали Кольцо. И всего лет сорок назад знаменитый волшебник Ястреб с острова Рок и Тенар с острова Атуан исцелили Кольцо. Как же теперь не говорить о мире?
Таково было основное содержание его бесконечных посланий Верховному Правителю Тхолу.
И примерно месяц назад, летом, вскоре после Долгого Танца, целая флотилия кораблей вошла в проливы мимо острова Фелкуэй, поднялась по узким фьордам Эбавнора и между скалами, точно ворота охранявшими вход в гавань Хавнора, направилась к причалам. Это были длинноносые корабли, выкрашенные красной краской и с красными парусами; на борту у них были украшенные перьями воины и эмиссары Верховного Правителя Каргада в немыслимо пышных одеяниях. Также там были замечены и каргадские женщины, с головы до ног закутанные в покрывала.
«Пусть же дочь Тхола, Верховного Правителя Каргада, восседающего ныне на троне великого Торега и являющегося прямым потомком великого Вулуа, носит на своей руке Кольцо Мира, подобно королеве Эльфарран с острова Солеа, и пусть это станет знаком вечного мира между западными и восточными островами!» Так гласило послание Тхола королю Лебаннену. Послание было написано крупными ардическими рунами на пергаментном свитке, но, прежде чем вручить его королю Лебаннену, посланник Тхола прочел его вслух — чтобы слышали все! — во время приема, устроенного в честь столь представительной делегации в королевском дворце Хавнора, где присутствовал практически весь двор. Возможно, именно потому, что посол не столько читал послание, сколько выкрикивал по памяти каждое его слово, послание это прозвучало как ультиматум.
Сама же принцесса Каргада не сказала ни слова. Она стояла, окруженная десятком своих горничных или рабынь, сопровождавших ее во время путешествия в Хавнор, и придворные дамы, торопливо сменяя одна другую, выражали ей свое почтение и предлагали разнообразные услуги. Принцесса скрывалась под покрывалом, как то и полагалось знатным женщинам с острова Гур-ат-Гур. Это легкое покрывало красного цвета с изящной вышивкой золотом спадало с полей странноватого головного убора, весьма напоминавшего шляпу, и сама принцесса в нем была похожа на красный столб — безликая, неподвижная, молчаливая.
— Верховный Правитель Тхол оказывает нам великую честь, — сказал Лебаннен своим чистым, спокойным голосом. Он немного помолчал и обратился непосредственно к закутанной в покрывало принцессе: — Добро пожаловать в Хавнор, принцесса! — Принцесса не шелохнулась. Лебаннен, словно не заметив этого, велел: — Пусть досточтимую принцессу устроят в Речном Дворце — так, как того пожелает она сама.
Речной Дворец представлял собой прекрасное небольшое здание на северной окраине столицы, встроенное прямо в старинную городскую стену и украшенное просторными балконами-террасами, нависавшими над небольшой речкой Серренен. Дворец был построен еще королевой Геру, и потому его часто называли Домом Королевы. Когда Лебаннен взошел на трон, он приказал отремонтировать здание, сменить мебель и занавеси, а затем привел в порядок дворец Махариона, который стали называть Новым Дворцом и в котором теперь обитал сам Лебаннен. Речным Дворцом он пользовался только во время летних празднеств, а также иногда удалялся туда на несколько дней, чтобы отдохнуть от шумной дворцовой жизни.
И вот сейчас легкий шепоток пролетел по толпе придворных. Как? В Дом Королевы?
Обменявшись формальными любезностями с каргадскими эмиссарами, Лебаннен покинул зал и направился в свои покои, где смог наконец остаться в одиночестве настолько, насколько это позволено королю, — при нем был только его старый слуга Оук, которого Лебаннен знал с рождения.
Король Земноморья с гневом швырнул позолоченный свиток на стол и воскликнул:
— Сыр в мышеловке! — Его трясло от гнева. Выхватив из ножен кинжал, который он всегда носил с собой, он что было сил рубанул по свитку. — Партия разыграна отлично: у нее на руке Кольцо Мира, а у меня на шее — удавка!
Оук смотрел на него в недоумении. Даже в детстве принц Энлада Аррен никогда не терял самообладания! Мог, конечно, порой уронить одну-две слезинки да разок горько всхлипнуть, но не больше. Он был слишком хорошо воспитан и прошел отличную выучку, чтобы давать волю своему гневу или обиде. Став королем — причем заслужив свое королевство тем, что пересек царство мертвых! — он мог быть порой излишне суров, но никогда, как казалось Оуку, гордость и самообладание не позволяли ему показывать другим свой гнев.
— Нет, я не дам себя использовать! — прорычал Лебаннен и снова рубанул кинжалом по свитку. Лицо его потемнело от гнева, глаза стали словно незрячими, так что перепуганный старый слуга даже отшатнулся от него.
Лебаннен, впрочем, отлично это заметил. Он всегда успевал все замечать!
Он тут же сунул кинжал в ножны и сказал уже куда спокойнее:
— Клянусь моим именем, Оук, я уничтожу Тхола и все его королевство, но не позволю превратить меня в скамеечку для ног при его троне! — Потом он наконец перевел дыхание и сел, позволив Оуку снять с его плеч тяжелый, богато расшитый золотом королевский плащ.
Оук ни словом, ни вздохом никому не обмолвился об этой сцене, однако же во дворце мгновенно поползли слухи о том, что именно король намерен сделать с этой каргадской принцессой, а может, уже и сделал.
Он ведь так и не сказал, принимает ли он предложение взять принцессу в жены! Тогда как все сходились во мнении, что она была предложена ему именно в этом качестве. Слова по поводу Кольца Эльфарран весьма слабо скрывали истинный смысл этого предложения, или сделки, или даже угрозы. Однако Лебаннен не ответил: не сказал ни «да», ни «нет». Пока что его ответ Правителю Каргада (бесчисленное множество раз повторенный придворными) заключался в том, что принцессу рады видеть в Хавноре в качестве гостьи, что все здесь будет устроено для нее так, как она сама пожелает, и что жить ей следует в Речном Дворце: в Доме Королевы. Разумеется, это было неспроста! Но, с другой стороны, почему же не в Новом Дворце? Зачем отсылать ее на противоположный конец города?
С момента коронации Лебаннена дамы из знатных семейств и принцессы из старинных княжеских родов Энлада и Эа, а также из Шелитха приезжали с визитами в королевский дворец — просто погостить или войти в число придворных Лебаннена. Всех их принимали и развлекали поистине по-королевски, и сам король с удовольствием танцевал у них на свадьбе, когда они, одна за другой, выходили за представителей столь же знатных родов или же за людей менее знатных, но достаточно богатых. Было хорошо известно, что король любит женское общество и женские советы, что он охотно станет флиртовать с хорошенькой девушкой и пригласит себе в советчицы умную женщину, которая, впрочем, тоже сможет его и поддразнить, и утешить. Но никогда даже и намека не было на то, что король намерен на ком-то из них жениться. И ни одну из этих дам никогда не селили в Речном Дворце!
У короля должна быть королева, неустанно повторяли его советники.
«Послушай, Аррен, тебе действительно пора жениться», — сказала ему мать, когда он в последний раз видел ее живой.
«Неужели у истинного наследника Морреда будет собственного наследника?» — удивлялся простой народ.
И всем им разными словами и способами он отвечал одно: дайте мне время. Королевство лежит в руинах, его нужно восстанавливать. Дайте мне возможность построить такой дом, который будет достоин моей королевы, и такое королевство, которым сможет легко управлять мой сын. И поскольку Лебаннена действительно очень любили, поскольку все верили в него, поскольку он все еще был достаточно молод, ему всегда удавалось уйти из рук самых ловких и целеустремленных девиц и в очередной раз мрачно заявить, что еще не пора.
Интересно, а что там, под этими неподвижными красными покрывалами? Кто там, внутри этого закрытого шатра? Придворные дамы, приписанные к свите принцессы, терялись в догадках. Хорошенькая ли она? Или безобразная? Правда ли, что она высокая и худая? А может, она — приземистая коротышка, белая как молоко и вся в оспинах? Или одноглазая? Волосы у нее, конечно, этого противного желтого цвета, как у всех каргов! А может, черные? Говорят, ей уже сорок пять! Хотя кто-то сказал, что всего десять и она просто болтливая дурочка. Ходили слухи и о том, что принцесса — невероятная красавица.
Постепенно слухи приобрели как бы одно направление. Она молода, хотя уже и не ребенок; волосы у нее не желтые, но и не черные; она довольно хорошенькая, по мнению некоторых придворных дам; несколько грубовата, говорили другие. Но все дружно утверждали, что принцесса ни слова не знает из ардического языка и учить его не желает. Обычно она прячется за спинами своих служанок, а будучи вынужденной покинуть свои покои, тут же скрывается под красным покрывалом, скорее напоминающим шатер. Стало известно, что король нанес ей визит вежливости, но она ему даже не поклонилась и опять не сказала ни слова; она даже никакого приветственного жеста не сделала! Просто стояла и молчала, «как каминная труба из красного кирпича», по словам старой леди Йесы, возмущенной поведением принцессы до глубины души.
Лебаннен попытался говорить с принцессой через переводчиков, людей, которые когда-то служили его посланниками на Каргадских островах, а также с помощью посла Каргада, который очень хорошо знал ардический. С огромным трудом ему удалось передать ей свои комплименты и вопросы относительно ее собственных пожеланий и добиться какого-то ответа. Переводчики поговорили также со служанками принцессы, у которых покрывала были гораздо короче и не такие непроницаемые. Затем служанки собрались вокруг своей госпожи, по-прежнему похожей на неподвижно застывший красный столб, долго шептались и бормотали и наконец сообщили переводчикам, а те — королю, что принцесса всем довольна и ей ничего не требуется.
Принцесса Каргада прожила в Речном Дворце уже недели две, когда в Хавнор с Гонта прибыли Тенар и Техану. Лебаннен специально отправил за ними корабль с письмом, в котором умолял их приехать, хотя тогда кар гадская принцесса еще не прибыла во дворец и никаких сложностей ни с ней, ни с королем Тхолом еще не возникло. В самый же первый раз, как только Лебаннен остался с Тенар наедине, он с отчаянием воскликнул:
— И что же мне с нею делать? Как поступить?
— Расскажи-ка мне обо всем подробно, — спокойно попросила Тенар, глядя на него, впрочем, с некоторым удивлением.
За эти годы Лебаннен не так уж много раз виделся с Тенар, хотя они переписывались. Она постарела, и ему было трудно привыкнуть к ее седым волосам. И она казалась ему меньше ростом, чем он ее помнил. И все же в ее обществе он сразу почувствовал себя таким, каким был пятнадцать лет назад. И он знал, что может сказать ей все, что угодно, и она все непременно поймет.
— Целых пять лет я налаживал торговлю с Каргадом, стараясь поддерживать с Тхолом мир, ибо он прежде всего военачальник и прежде всего думает о войне, а я не хочу, чтобы мое королевство грабили, как это было при правлении Махариона, драконы с запада, а пиратствующие правители — с востока. Я правлю под Знаком Мира! Все, в общем, шло довольно неплохо, пока не случилось вот это. Пока он не прислал эту девицу и не заявил, что если мы хотим мира, то должны надеть ей на руку Кольцо Эльфарран. Твое Кольцо, Тенар! Твое и Геда!
Помолчав, Тенар возразила:
— Но она все же, в конце концов, его дочь.
— Что значит дочь для короля варваров? Всего лишь товар! Товар, с помощью которого можно заключить удачную сделку. Ты же прекрасно это понимаешь! Ты же родилась там!
Не похоже это было на него — так говорить, — он и сам это понимал. Он опустился на колени, поймал руку Тенар и прижал к глазам в знак раскаяния.
— Тенар, прости меня! Вся эта история раздражает меня донельзя. И я совершенно не представляю, что мне делать с этой девицей!
— Ну, поскольку ты ничего с ней и не делаешь, можешь пока подрейфовать на просторе… воспользоваться свободным временем и все обдумать. А может, у этой принцессы есть какие-то свои соображения на сей счет?
— Откуда у нее какие-то соображения? Она же все время прячется в своем красном мешке! И не желает не только разговаривать, но даже выглянуть наружу. Да она отлично сыграла бы роль крепежного шеста для солдатской палатки! — Лебаннен попытался рассмеяться собственной шутке. Его беспокоило собственное отвращение к этой незнакомой девушке, и он пытался как-то его погасить. — Дело в том, что все это произошло как раз тогда, когда пришли весьма тревожные вести с запада. Я ведь из-за них и просил вас с Техану приехать. Я не собирался забивать вам голову всей этой чепухой насчет женитьбы.
— Это совсем не чепуха, — сказала Тенар, но Лебаннен решительно сменил осточертевшую ему тему и заговорил о драконах, поскольку вести с запада были действительно очень тревожные.
Какое-то время Лебаннен вообще не вспоминал каргадскую принцессу — по крайней мере, большую часть времени он был занят совсем другими делами. Однако он прекрасно понимал, что не в его привычках игнорировать одно дело государственной важности за счет другого. И через несколько дней после разговора с Тенар он попросил ее посетить принцессу и попытаться вызвать ее на разговор. В конце концов, заключил он свою просьбу, они ведь говорят на одном языке.
— Я попробую, — сказала Тенар. — Я никогда не говорила прежде с жителями острова Гур-ат-Гур. На Атуане их считали варварами.
Это был упрек, и Лебаннен отлично все понял. Однако Тенар, разумеется, сделала то, о чем он ее просил, и вскоре сообщила, что они с принцессой отлично поняли друг друга, но девушка даже не представляла себе, что в мире могут существовать какие-то еще языки, кроме ее родного, и считала, что все здесь — придворные, дамы, слуги — просто злые безумцы, которые нарочно дразнят ее, болтая по-звериному и делая вид, что не знают человеческой речи. Насколько поняла Тенар, принцесса выросла в пустыне, в родовом поместье Тхола на острове Гур-ат-Гур, и лишь очень недолго прожила в императорском дворце в Авабатхе, а потом ее отослали в Хавнор.
— Она очень напугана, — сказала Тенар.
— И поэтому скрывается под своим колпаком? Да кем она, собственно, меня считает?
— А кем ей тебя считать? Она ведь тебя совершенно не знает.
Лебаннен нахмурился.
— Сколько ей лет?
— Совсем молоденькая. Но уже не девчонка.
— Я не могу жениться на ней, — сказал он с неожиданной решимостью. — Я отошлю ее назад.
— Возвращенная назад невеста будет обесчещена. И Тхол, вполне возможно, просто убьет Дочь, чтобы смыть позорное пятно со своего рода. И наверняка посчитает, что ты намеренно сделал это, желая обесчестить его самого.
Лебаннен глянул на Тенар с такой яростью, что она поспешила предупредить очередной взрыв гнева и сухо заметила:
— Варварские обычаи, ничего не поделаешь.
Лебаннен, размахивая руками, несколько раз пробежался по комнате и только потом заговорил:
— Ну что ж. Но я никогда не назову эту девицу королевой и не возведу ее на трон Морреда! Скажи, можно ли научить ее говорить по-ардически? Может она выучить хотя бы несколько слов? Или ее вообще ничему научить невозможно? Я велю передать Тхолу, что король ардического государства не может взять в жены женщину, которая не говорит на его языке. И мне все равно, приятно ему это будет слышать или нет. Ничего, хорошая оплеуха ему не повредит! К тому же это даст мне некоторую отсрочку.
— И ты попросишь ее выучить ардический язык?
— Как я могу попросить ее о чем-нибудь, если она все мои слова воспринимает как бред сумасшедшего? И какой, собственно, прок от моих визитов к ней? Я думал, что, может, ты все объяснишь ей, Тенар… Ты же видишь, какой обман пытается совершить Тхол, используя собственную дочь для того, чтобы завладеть Кольцом Мира — тем Кольцом, которое нам принесла ты! — чтобы устроить мне ловушку! Нет, тут я не способен притворяться! Я очень хотел бы оттянуть время, чтобы пока хоть как-то сохранить мир с Каргадом. И больше ничего. Но даже и это обман, а обман — это всегда зло. В общем, скажи этой девушке то, что сочтешь нужным. А я с ней не желаю иметь ничего общего.
И Лебаннен вышел, горя праведным гневом, который, медленно остывая, превращался в неприятное мучительное чувство, весьма напоминавшее стыд.
Когда каргадские эмиссары объявили, что собираются уезжать, Лебаннен подготовил, тщательнейшим образом подбирая каждое слово, ответное послание Правителю Тхолу. Он выразил свое восхищение той великой честью, которая была ему оказана в связи с пребыванием принцессы в Хавноре, и сообщил, что с удовольствием вместе со своими придворными будет учить ее манерам, обычаям и языку своего королевства. Однако он ни словом не обмолвился ни о Кольце, ни о возможностях брака с принцессой.
На следующий день после своей беседы с молодым колдуном с острова Таон, которого терзали страшные сны, Лебаннен в последний раз увиделся с каргадскими послами и передал им свое письмо к Верховному Правителю. Сперва, правда, он прочел письмо вслух, чтобы слышали все присутствующие, — в точности так же, как каргадские эмиссары читали вслух письмо Тхола к нему, Лебаннену.
Посол выслушал его весьма благосклонно.
— Верховный Правитель будет очень доволен, — сказал он.
И весь вечер, обмениваясь любезностями с каргами и демонстрируя им те дары, которые он посылает Тхолу, Лебаннен ломал голову над тем, действительно ли так легко была воспринята его явная уклончивость, и в итоге пришел к единственно возможному выводу: карги прекрасно понимают, что теперь ему от этой принцессы не отделаться, и про себя воскликнул: НИКОГДА она не будет моей женой!
Он спросил, проедут ли гости мимо Речного Дворца, чтобы попрощаться с принцессой, но на него посмотрели с таким непроницаемо-тупым изумлением, словно он спросил, не собираются ли они сказать «до свидания» посылке, которую вручили по назначению. Лебаннен почувствовал, как в душе его снова закипает гнев. Видимо, это отразилось и на его лице, потому что посол глянул на него испуганно, и на устах его появилась осторожная, умильная улыбка. Лебаннен взял себя в руки, улыбнулся и пожелал эмиссарам доброго пути и попутного ветра до самых Каргадских островов. А после прощального ужина он прямо из столовой прошел в свои покои.
Ритуалы и церемонии страшно ограничивали его свободу и занимали большую часть времени. Будучи королем, он вообще большую часть своей жизни вынужден был проводить на публике. Но поскольку он взошел на трон, до того пустовавший веками, и оказался во дворце, где не существовало, в сущности, никакого жесткого протокола, то ему удалось кое-что устроить по своему вкусу. Во всяком случае, он сразу отменил абсолютно все церемонии в королевской, то есть своей собственной, спальне. Ночи теперь принадлежали ему одному. Лебаннен пожелал доброй ночи Оуку, который непременно желал спать у него в прихожей, захлопнул за собой дверь и сел на постель. Он чувствовал себя очень одиноким, устал и был страшно сердит.
На шее, на тонкой золотой цепочке, у него висел маленький мешочек из золотой парчи, в котором хранился некий камешек — простой кусочек черной скальной породы с острыми краями. Лебаннен вытащил камешек, посмотрел на него, стиснул в ладони и долго сидел так, задумавшись.
Он старался не думать о каргадской принцессе и о том, что связано с ее появлением в Хавноре. Куда интереснее было думать о том колдуне, Олдере, и его снах. Но единственное, о чем мог думать Лебаннен, это болезненная зависть к этому Олдеру: ведь он побывал на Гонте, он довольно долго жил у Геда, разговаривал с ним!
Вот почему он чувствовал себя таким одиноким! Человек, которого он считал и называл своим Учителем, человек, которого он любил больше всех на свете, не хотел его видеть, не позволял ему приехать на Гонт, не подпускал его к себе и сам не желал к нему приехать!
Неужели Гед думает, что из-за того, что он утратил в царстве мертвых свое волшебное могущество, Лебаннен будет меньше его ценить? Что он будет его презирать, став королем?
Да, ему, Лебаннену, действительно дана сила властвовать над умами и сердцами людей, и подобная мысль иному могла бы показаться и не такой уж невероятной, однако Гед, конечно же, должен знать его лучше. По крайней мере, должен лучше думать о нем…
А может, поскольку Гед был его настоящим Учителем и наставником, ему невыносимо теперь быть просто одним из его подданных? Ведь и в самом деле, человеку немолодому, когда-то великому волшебнику, такое вынести трудно. Слишком уж резкой была перемена в статусах их обоих.
Но Лебаннен ясно помнил, как Гед, едва живой, все же нашел в себе силы и преклонил перед ним колена на вершине Холма Рок в тени крыльев огромного дракона. На глазах у всех Мастеров, среди которых он был наипервейшим. А поднявшись с колен, он поцеловал Лебаннена и велел ему править хорошо и справедливо. И называл его при этом «господин мой» и «дорогой мой друг»…
— Он подарил мне мое королевство, — сказал Лебаннен Олдеру. — Вот именно тогда, на Холме, он его мне и подарил. Целиком и по собственной воле.
И именно поэтому, наверное, Гед ни за что не желал приезжать в Хавнор и не позволял Лебаннену приехать к нему на Гонт даже за советом. Он отдал все свое могущество целиком, добровольно, не требуя платы, и, похоже, теперь не желал более ни во что вмешиваться, не желал отбрасывать свою тень, затмевая исходящий от молодого короля свет.
«Он покончил с делами», — сказал тогда Мастер Путеводитель.
Однако история, приключившаяся с Олдером, настолько, видимо, потрясла Геда, что он прислал его в Хавнор и в письме даже попросил Лебаннена в случае необходимости действовать по обстоятельствам.
Это действительно очень странно — и сама история Олдера, и слова Геда о том, что та стена, возможно, собирается рухнуть. Что бы это могло значить? И почему сны какого-то деревенского колдуна Гед воспринимает так серьезно?
Правда, Лебаннен и сам не раз видел во сне краешек той мертвой, иссушенной земли — хотя сны эти почти прекратились после того, как они с Верховным Магом Гедом добрались до острова Селидор, самого западного из всех островов Земноморья, и он последовал за Гедом в ту темную страну. Они тогда перебрались через каменную стену и стали спускаться вниз по склону холма к едва видимым городам, где тени мертвых стояли в дверях домов или бродили бесцельно по улицам, освещаемым лишь светом недвижимых звезд. Вместе с Гедом они прошли тогда всю эту страну насквозь, а потом снова пустились в еще более утомительное странствие — по темной долине, где даже трава не росла, где были только камни да пыль, — к подножию гор, которые назывались Горами Горя…
Лебаннен раскрыл ладонь, посмотрел на маленький черный камешек и снова сжал пальцы.
А из той долины, образованной руслом сухой реки, они, совершив то, зачем и явились в эту страну, вынуждены были уходить совсем другой дорогой — подниматься по отвесным склонам гор, ибо иного пути назад для них не было. И они прошли по пути, запретному для мертвых. Они карабкались, ползли по острым скалам, и скалы эти ранили и обжигали им руки, а потом Гед не смог идти дальше, и Лебаннен нес его на руках, пока мог. Потом полз и тащил его за собой — до самого конца, до того безнадежного утеса, повисшего над бездной ночи. И вдруг выбрался вместе с ним к свету солнца, к шуму моря, волны которого разбивались о берег жизни…
Давно уже он так живо и с такими подробностями не вспоминал их страшное путешествие. Но черный осколок камня с Гор Горя всегда носил на груди, у самого сердца.
И он понял вдруг, что память о той стране, о ее тьме, о ее мертвой пыли всегда жила в его душе прямо под тонким слоем ярких и разнообразных проявлений повседневной жизни, хотя он всегда старался от этой памяти отвернуться, ибо ему невыносимо было сознание того, что в конце концов ему все-таки придется туда вернуться — навсегда! И когда он вернется туда, никого уже не будет рядом, и он тоже станет одним из тех, что стоят с пустыми глазами, неспособные вымолвить ни слова, в тени домов этих городов-призраков… Никогда больше не видеть солнца, не пить родниковой воды, не касаться теплой живой руки ближнего…
Лебаннен резко встал, стряхивая с себя мертвящее оцепенение. Что за страшные мысли приходят порой в голову! Он спрятал камешек в парчовый мешочек, разделся, приготовился ко сну, погасил свет и лег. И сразу же снова увидел все это: сумеречную серую страну, пыль, острые камни… Страна мертвых простиралась далеко-далеко, до самых черных остроконечных вершин, но там, где он сейчас оказался, можно было идти только вниз, все время вниз, в непроницаемую тьму. «А что там, в той стороне?»— спросил он у Геда, когда они поднимались по склонам Гор Горя, и тот ответил, что не знает этого, что, возможно, путь в том направлении и вовсе не имеет конца…
Лебаннен проснулся и сел, рассерженный и встревоженный столь навязчивыми мыслями о стране мертвых. Потом нашел глазами окно и стал смотреть туда. Окно выходило на север. Ему всегда нравился вид из этого окна — не на Хавнор, а на холмы предгорий и высокую седовласую вершину Онн. А за горой Онн невидимый, затерявшийся в просторах моря Эа, лежал его родной Энлад.
Лебаннен видел ясное ночное небо, летнее созвездие Сердце Лебедя, ярко светившее среди других созвездий, поменьше. Небо его королевства. Королевства света, королевства жизни, где звезды расцветают, точно белые цветы, на востоке и закрывают лепестки, гася свой яркий свет, на западе. Нет, не станет он больше думать о том, другом королевстве, где звезды всегда остаются неподвижными, где в руках мужчины не хватает сил, где невозможно выбрать для себя единственно верный путь, потому что ни один путь там никуда не ведет!
Он еще долго лежал без сна и смотрел на звезды, а потом решительно отогнал болезненные воспоминания о стране мертвых и о Геде. И стал думать о Тенар, о звуке ее голоса, о том, как она ласково берет его за руку. Придворные всегда так церемонны, так осторожны, так боятся ненароком коснуться короля. А она — нет. Она никогда не боялась и, смеясь, брала его за руку. И вообще вела себя с ним куда смелее, чем его собственная мать.
Мать его звали Роза. Она была наследницей старинного княжеского рода Энлада и умерла от лихорадки два года назад, когда он плыл на корабле в Берилу, столицу Энлада, намереваясь затем посетить и другие острова моря Эа. Он узнал о ее смерти, когда прибыл в Берилу и вошел в свой дом, погруженный в траур.
Теперь его мать тоже там, в той темной стране. И если он явится туда и пройдет мимо нее по улице, она на него даже не взглянет, не заговорит с ним…
Лебаннен сжал кулаки. Потом встал, поправил простыни на постели, взбил подушки, снова лег и попытался расслабиться, отвлечься, думать о таких вещах, которые могут помешать ему снова мысленно вернуться ТУДА. И он стал вспоминать о том, какой была его мать при жизни, о ее нежном голосе и дивных темных очах под арками черных бровей, о ее изящных руках.
Потом он вдруг подумал о том, почему попросил Тенар приехать к нему. Он, конечно же, пригласил ее не только для того, чтобы спросить у нее совета. Тенар всегда была ему как мать, и он жаждал этой ее чистой материнской любви, жаждал сам дарить ей свою почтительную сыновнюю любовь. Такую любовь, которая ничего не принимает в расчет, но и не ставит никаких условий. Глаза у Тенар были светлые, серые, не черные очи, как у матери Лебаннена, но она всегда смотрела так, будто видела его насквозь, и с такой проницательной нежностью, что ее просто невозможно было бы провести. Да он никогда и не пытался.
Лебаннен знал, что поступил правильно, став королем. Он знал, что хорошо исполняет свои обязанности. Но только с матерью или с Тенар он по-настоящему осознавал, что еще умеет сомневаться в себе и что на самом деле ему очень непросто быть королем.
Тенар знала Лебаннена с тех пор, когда он был совсем еще мальчишкой; она узнала его задолго до коронации, полюбила сразу и любила его всегда — ради него самого, ради Геда, ради себя самой. Он стал для нее таким сыном, который никогда не сможет разбить матери сердце.
Однако теперь он явно огорчал Тенар, несправедливо относясь к этой бедной девочке с острова Гур-ат-Гур и продолжая на нее сердиться.
Тенар присутствовала на церемонии прощания короля с эмиссарами из Авабатха — Лебаннен попросил ее об этом, и она рада была удовлетворить его просьбу. Она, правда, думала, что эти высокопоставленные карги будут ее сторониться или, по крайней мере, посматривать на нее косо, с
явным неодобрением: ну как же — жрица-отступница, которая помогла «этому проклятому колдуну и вору» выкрасть из Сокровищницы Гробниц Атуана кольцо Эррет-Акбе, а потом предательски бежала с ним в Хавнор. Это ведь отчасти и ее рук дело, что в Земноморье вновь появился настоящий король. Так что гости с Каргадских островов вполне могли все это поставить ей в упрек.
Между прочим, правитель Тхол, который родом с Гур-ат-Гура, восстановил те древние храмы, что посвящены Богам-Близнецам и Безымянным, а она, Тенар, вместе с Гедом некогда эти храмы осквернила и разрушила. Ее предательство, таким образом, носило не только политический, но и религиозный характер.
Однако все это случилось очень давно, больше сорока лет назад, и с тех пор стало почти легендой. К тому же государственные мужи помнят обычно только то, что им хочется помнить. Посол даже специально испросил у нее аудиенции — столь почитаемой особой она ему казалась при дворе Лебаннена — и приветствовал ее изысканно, осторожно и чрезвычайно почтительно, причем, как ей показалось, почтение его было вполне искренним. Он называл ее Госпожа Ара, Поглощенная, Единственная Вечно Возрождающаяся и т. п. Ее уже много лет никто так не называл, и все эти имена звучали для нее немного странно, однако она испытывала острое и печальное наслаждение, слыша родной язык и обнаружив, что вполне способна его понимать и говорить на нем.
Так что Тенар не без удовольствия пришла попрощаться с послом и его свитой и попросила заверить Верховного Правителя Каргада, что у его дочери все хорошо и она выглядит поистине очаровательно. Тенар в последний раз с любовью смотрела на этих высоких, грубо сколоченных мужчин со светлыми волосами, заплетенными в косы, в украшенных перьями головных уборах и парадных серебряных доспехах, тоже украшенных перьями. Пока она жила в стране каргов, ей довелось видеть крайне мало мужчин: в Священном Месте, среди Гробниц Атуана, она видела только женщин да евнухов.
Когда прощальная церемония была окончена, Тенар вышла во дворцовый парк. Летняя ночь была теплой и какой-то тревожной; цветущие садовые кустарники шуршали под ночным ветерком. Звуки большого города, доносившиеся из-за высоких дворцовых стен, напоминали шелест тихих волн, набегающих на берег. Парочка молодых придворных в обнимку прогуливалась под тенистыми деревьями, и Тенар, чтобы их не тревожить, быстро прошла в противоположный конец сада, где некоторое время посидела у фонтанов и пышных кустов роз.
А Лебаннен вышел из зала, опять хмурясь, опять чем-то недовольный. Да что с ним такое творится?! Насколько знала Тенар, он никогда прежде не восставал против тех формальных обязанностей, которые должен выполнять, будучи королем. И он, конечно же, не мог не понимать, что король рано или поздно должен жениться и что у королей обычно выбор не так уж велик. Он не мог не понимать, что народ хочет иметь и королеву, и наследников трона. Но до сих пор он абсолютно ничего не предпринимал в этом направлении. Придворные дамы и служанки были просто счастливы, когда им удавалось посплетничать с Тенар насчет многочисленных возлюбленных короля; причем ни одна из этих женщин ровным счетом ничего не потеряла, когда всем стало известно, что она какое-то время была королевской любовницей. Лебаннен все подобные делишки улаживал в высшей степени успешно, но не мог же он ожидать, что так будет продолжаться вечно? И почему, интересно, его до такой степени злит предложение короля Тхола? Ведь это вполне приемлемое решение многих проблем.
А может, все же не вполне приемлемое? Особенно в том, что касается самой принцессы.
Тенар действительно собиралась научить эту девушку хотя бы нескольким предложениям ардического языка. А потом подыскать среди придворных дам таких, которые сумеют доброжелательно обучить ее придворным манерам и этикету — сама-то она этому ее научить, безусловно, не могла. Впрочем, ей куда милей была пресловутая «невоспитанность» каргадской принцессы, чем изысканная светскость и неискренность придворных.
Она негодовала, видя полную неспособность Лебаннена поставить себя на место этой несчастной девочки. Неужели он не может представить, каково ей приходится? Выросла на женской половине дворца-крепости военачальника, в безлюдной пустыне, где, возможно, других мужчин, кроме отца, дядьев да нескольких священнослужителей, ни разу в жизни не видела, а потом вдруг ее вырвали из этой монотонной, неизменной и неподвижной жизни какие-то незнакомые люди, заставили пуститься в долгое и страшное путешествие по морю и бросили среди людей, о которых она знала одно: это не имеющие никакой веры кровожадные чудовища, они живут «на краю света» и все являются «проклятыми колдунами», то есть способны превращаться во что угодно — в животных, в птиц… Боги! И за одного из них ей предстояло выйти замуж!
Сама Тенар оказалась способна оставить родину и отправиться жить среди «этих чудовищ с запада», потому что рядом с нею был Гед, которого она полюбила и которому всецело доверяла. Но даже и при этом условии все оказалось далеко не так просто, и мужество не раз изменяло ей. Несмотря на все оказанное ей жителями Хавнора гостеприимство и почтение, несмотря на то, что толпы людей на улицах выкрикивали похвалы в ее адрес и всяческие поздравления, осыпая ее цветами и ласково-уважительными прозвищами — Белая Дама, Носительница Мира, Тенар Кольца, — она тогда тоже предпочитала прятаться в своей комнате и чувствовала себя глубоко несчастной, никому не нужной и совершенно одинокой. Никто вокруг не говорил на ее родном языке, и она не знала и не понимала большей части тех вещей, которые всем этим людям были так хорошо знакомы. Как только всеобщее ликование по поводу возвращения Кольца Мира и бесконечное празднование подошло к концу, она стала умолять Геда увезти ее из Хавнора туда, куда он ей обещал, и он свое обещание сдержал: ускользнул незаметно из дворца с нею вместе на Гонт. Там она поселилась в доме старого Огиона как верный страж, служанка и ученица и стала набираться опыта и ума. Учиться быть жительницей Архипелага пришлось долго, пока наконец она сама не увидела тот путь, по которому хотела бы пойти как взрослая и самостоятельная женщина.
Она была моложе этой принцессы — когда прибыла в Хавнор с Кольцом Мира. Но все же была уже не такой беспомощной и хорошо знала, что такое власть над людьми, хотя ее власть в качестве Единственной была скорее номинальной, связанной с отправлением различных обрядов и церемоний. По-настоящему она взяла в руки собственную судьбу, когда порвала с суровыми законами, в рамках которых выросла, и отвоевала свободу для своего узника и для себя самой. Но эта принцесса, дочь военачальника, царька, могла «властвовать» только у себя на женской половине дома. Когда отец ее стал правителем всей страны, ее начали называть принцессой, ей дарили роскошные одежды, у нее в услужении стало больше рабынь и евнухов, а в ушах и на пальцах — больше драгоценностей, но потом все равно ей предстояло и самой быть «подаренной» бы кому-нибудь в качестве платы за выгодную сделку, и ее слово при заключении этой сделки никакого веса бы не имело. Внешний мир открывался ей только в узкие окна на женской половине дворца или же сквозь бесчисленные слои покрывал.
Думая о ней, Тенар говорила про себя, что ей самой еще здорово повезло: она родилась не на таком отсталом и варварском острове, как Гур-ат-Гур, и никогда не носила дурацких покрывал «фейяг». Однако она хорошо представляла себе, что значит расти в тисках железных традиций, и намерена была сделать все, что в ее силах, чтобы помочь принцессе. Но оставаться в Хавноре надолго она все же не собиралась.
Быстрым шагом прохаживаясь по саду и любуясь мерцавшими в лунном свете фонтанами, Тенар прикидывала, когда сможет отправиться домой.
Она не возражала против правил придворной жизни, прекрасно понимая, что под этой лощеной светскостью кипит настоящее рагу из амбиций, соперничества, страстей, тайных сговоров и соучастии в преступлениях. Она и сама выросла, невольно участвуя в бесконечных ритуальных действах, видя неприкрытое лицемерие и тайные политические игры, и ничто из этого ее не пугало: скорее все это ей было безразлично. Она просто скучала по дому и стремилась вновь оказаться на ставшем ей родным Гонте, рядом с Гедом, в их домике на утесе.
Она приехала в порт Хавнор, потому что Лебаннен послал за ними — за ней и за Техану. И за Гедом. Но Гед поехать не пожелал. А Техану ни за что без нее не поехала бы. Вот это действительно пугало Тенар и очень ее тревожило. Неужели девочка так и не сможет от нее оторваться? Ведь Лебаннену был нужен именно совет Техану, а не ее, Тенар. Но названая дочь льнула к ней и чувствовала себя настолько же неуютно в королевском дворце Хавнора, как и та девушка с острова Гур-ат-Гур, и точно так же все время молчала и пряталась.
Так что теперь, видно, ей, Тенар, придется играть роль няньки, наставницы и компаньонки для обеих. Для двух насмерть перепуганных девчонок, которые не знают, как совладать с собственной силой. Ну, а ей самой ни силы, ни власти не нужно; ей нужна свобода, чтобы можно было немедленно отправиться домой, куда она стремилась всем сердцем, и помочь Геду возделывать их сад.
Как же ей хотелось, чтобы и у них возле дома могли расти такие же белые розы, как в этом саду! В ночном воздухе их аромат просто околдовывал. Но у них, возле водопада, место чересчур ветреное, да и солнце летом жжет совершенно безжалостно. Да и от коз нигде спасения не найдешь…
Нагулявшись и немного придя в себя, Тенар вернулась во дворец и направилась по восточному крылу в предоставленные им с Техану покои. Техану спала — было уже за полночь. Крошечный огонек — не больше крупной жемчужины — светился на дне маленького изящного светильника из белого алебастра. Просторная комната с высокими потолками была уютной, полной ночных теней. Тенар задула огонек в светильнике, легла в постель и вскоре начала погружаться в сон.
Ей снилось, что она идет по узкому каменному коридору со сводчатым потолком и несет этот алебастровый светильник. Бледный кружок света падает от него на пол, освещая ей путь. Она, минуя какую-то незнакомую комнату, попадает в другой, более широкий коридор, который приводит ее в помещение, где множество людей с крыльями, как у птиц. У некоторых из них птичьи головы — каких-то хищников вроде ястреба. И все эти люди стоят или сидят на корточках без движения, не глядя ни на нее, ни вообще на что бы то ни было конкретно, и глаза у них тоже птичьи — круглые, обведенные бело-красным ободком. Приглядевшись повнимательнее, она видит, что крылья у них похожи на огромные черные плащи и безжизненно висят за спиной. Летать они явно не способны. И люди эти так печальны, смотрят так безнадежно, а воздух в комнате такой затхлый и противный, что она резко поворачивается, чтобы убежать прочь, но не может даже пошевелиться.
Тенар проснулась, все еще сражаясь с этим оцепенением. Вокруг качались теплые тени, за окном светили звезды. До нее доносился аромат роз, негромкий шум большого города, дыхание спящей Техану…
Она села, чтобы окончательно стряхнуть с себя кошмарный сон. Это ведь была Расписная Комната из Лабиринта! Там, под Гробницами, она впервые встретила Геда. И было это сорок лет назад. Только во сне рисунки, что были сделаны когда-то на стенах той комнаты, вдруг ожили. Хотя, конечно же, это была не жизнь. Это было бесконечное, безвременное, бессмысленное существование тех, кто умер без надежды на возрождение; тех, что были отринуты Безымянными; неверных, людей с запада, «проклятых колдунов»…
После того как умрешь, непременно нужно возродиться. Таково было твердое знание, с которым она была воспитана. Когда, еще совсем ребенком, ее взяли к себе жрицы Гробниц и стали воспитывать из нее Ару, Поглощенную, она сразу узнала, только она, единственная из всех людей, уже не раз возрождалась и будет возрождаться и проживать одну жизнь за другой. Иногда она этому верила, но не всегда; а когда стала Единственной, когда ей начали оказывать должное уважение как Верховной Жрице Гробниц, верить перестала совсем. Но она верила в то, во что верят все обитатели Каргадских островов: когда человек умирает, он обязательно возрождается, только в новом теле, в новом обличье. Светильник, который только что погас, вновь вспыхивал где-то в тот же самый момент — младенцем во чреве женщины, или зародышем в крошечной икринке гольяна, или в несомом ветром семечке дикой травы, — каждая душа возвращалась, чтобы БЫТЬ СНОВА, чтобы, забыв о старой жизни, освеженной вступить в новую жизнь, в жизнь после жизни, в вечность.
Однако та жизнь после жизни, о которой ей рассказывал Гед, та страна, куда, по его словам, уходят люди после смерти, та безликая и никогда не меняющаяся страна, покрытая холодной пылью и населенная тенями, — разве это жизнь? Такая «жизнь» казалась Тенар просто ужасной, пугающей.
Вопросы, не имевшие ответа, теснились у нее в голове: все это произойдет и с ней, потому что она больше уже не может считать Каргад своей родиной, потому что она предала Святые Места… Неужели поэтому она будет так наказана? Должна будет отправиться в ту безжизненную темную страну? Неужели и Гед должен уйти туда? Неужели там они будут равнодушно смотреть друг на друга, не любя, ни о чем не жалея? Это же невозможно! Но если он должен будет отправиться туда, а она возродится снова, то их расставание станет вечным!
Нет, нельзя думать об этом! И совершенно ясно, почему ей приснилась та Расписная Комната. Она часто снилась ей в те годы, когда Тенар оставила позади все, что было связано с ее прошлым, с Гробницами Атуана. А теперь вот она поговорила с каргадскими посланниками на родном языке и снова все вспомнила. И все-таки тревога не утихала в ее душе. Она не хотела, чтобы возвращались кошмары ее юности. Боги, хоть бы поскорее вернуться домой, лежать по ночам рядом с Гедом, слушать сонное дыхание Техану!.. Гед спал всегда очень тихо и лежал совершенно неподвижно, как каменный; но в горле Техану огонь все-таки навсегда оставил свой след, и дыхание у нее всегда было хрипловатым, затрудненным. Тенар привыкла прислушиваться к ее дыханию ночь за ночью, год за годом. Это была жизнь, это была вернувшаяся жизнь, это был самый дорогой ее сердцу звук — чуть хрипловатое дыхание ее приемной дочери.
И сейчас, тоже слушая дыхание Техану, она наконец уснула. И во сне видела — если ей вообще что-то снилось — только потоки воздуха где-то в поднебесье и расцвеченное полосами утренней зари небо.
Олдер проснулся очень рано. Котенок всю ночь вел себя беспокойно, а потому и сам он спал плохо и был даже рад наконец встать, подойти к окну, усесться там поудобнее и с сонным видом смотреть, как над заливом разгорается заря, как выходят в море рыбачьи суденышки с повисшими от серого тумана парусами, как пробуждается навстречу дню весь город. К тому времени, как Олдер окончательно проснулся и начал подумывать о том, что стоило бы, наверное, пройти по лабиринту дворцовых залов и коридоров и выяснить, что ему делать дальше, в дверь его комнаты постучали. Вошел слуга, который принес на подносе свежие фрукты, свежий хлеб и кувшин молока, а также небольшой кусочек мяса — для котенка.
— Я еще зайду, как только пять протрубят. К королю пойдем! — торжественно сообщил он. А потом обычным тоном рассказал Олдеру, как удобнее пройти в сад, если он захочет прогуляться.
Олдер знал, конечно, что от полуночи до полудня проходит шесть часов, а от полудня до полуночи еще шесть, но он никогда не слышал, чтобы часы ТРУБИЛИ, и ему было очень интересно, что этот слуга имел в виду.
Вскоре он все узнал. Оказалось, что в Хавноре время отмечают так: четыре трубача выходят на самый верхний балкон дворца — выше его только башня, на которой красуется меч героя, — и в четвертый, а также в пятый час до полудня, ровно в полдень, а затем в первый, второй и третий час после полудня дуют в свои трубы. При этом один стоит лицом к западу, второй — к северу, третий — к востоку, четвертый — к югу. Так что придворные во дворце, купцы и шкиперы в порту, а также все жители Хавнора могут как-то приноровить свои дела и встречи к этим указателям времени. Об этой интересной традиции Олдеру рассказал какой-то мальчик, с которым он познакомился, гуляя в саду. Мальчик был маленький, худенький, в длинной рубахе, которая была ему слишком велика, но разговор вел, как взрослый. Он также объяснил Олдеру, что трубачи точно знают, когда им дуть в свои трубы, потому что в башне есть большие песочные часы, а еще — Маятник Атха, свисающий почти до полу с самой высокой точки потолка, и если этот маятник запустить одновременно с началом того или иного часа суток, то он будет качаться ровно до начала следующего часа. Мальчик сказал Олдеру, что трубачи исполняют на своих трубах различные отрывки из песни «Плач по Эррет-Акбе», которую король Махарион написал, вернувшись с Селидора, и для каждого часа исполняется какая-то одна из частей плача, а в полдень они играют всю мелодию целиком. И если тебе нужно быть в каком-то месте в точно назначенный час, то следует поглядывать на верхний балкон башни, потому что трубачи всегда выходят на него чуть раньше, и если светит солнце, их серебряные трубы так и сверкают в солнечных лучах. Мальчик сообщил, что его зовут Роди и он приехал сюда с отцом, правителем города Метама, что на острове Арк. Этот год он проведет в Хавноре и уже поступил в школу при королевском дворце; ему девять лет, и он очень скучает по матери и сестре.
Олдер вернулся к себе как раз вовремя: слуга уже поджидал его. На этот раз Олдер волновался гораздо меньше. Видимо, беседа с мальчиком напомнила ему о том, что дети правителей — это всего лишь дети, а сами правители — всего лишь люди и бояться ему следует совсем не людей.
Провожатый долго вел его по дворцовым коридорам и наконец остановился перед дверями, за которыми был виден продолговатый и просторный светлый зал с окнами, расположенными вдоль одной из длинных стен и смотревшими прямо на башни Хавнора и на его фантастические мосты, арками повисшие над каналами или над узкими улицами города, словно перепрыгнув с крыши на крышу, с балкона на балкон. Стоя на пороге, Олдер нерешительно поглядывал на окна, но не был уверен, что ему уже можно войти. У противоположного конца комнаты он увидел группу людей и среди них короля.
Король, видимо, Олдера ждал. Заметив его в дверях, он сам подошел к нему, приветливо с ним поздоровался и по очереди представил ему всех присутствующих.
Олдер сразу выделил среди них одну женщину — лет пятидесяти, маленькую, очень светлокожую, с седеющими волосами и большими серыми глазами. Это Тенар, сказал ему, улыбаясь, король. Тенар Кольца. Тенар посмотрела Олдеру прямо в глаза и тихим голосом поздоровалась с ним.
Молодого мужчину — он показался Олдеру примерно ровесником короля, — одетого в бархатный камзол и тончайшую сорочку, Лебаннен представил как «шкипера Тослу». На перевязи у шкипера Тослы сверкали драгоценные камни, а в мочке уха красовалась серьга с огромным рубином. Лицо Тослы, темное, как древесина старого дуба, было живым и одновременно суровым.
Человек средних лет, одетый просто и смотревший на Олдера очень спокойно, оказался принцем Сеге из старинного Дома Хавнора. Олдеру сразу показалось, что этому человеку можно доверять.
У одного мужчины лет сорока был в руках деревянный посох, и Олдер сразу признал в нем волшебника с острова Рок. У волшебника было худое, какое-то изможденное лицо, красивые руки с тонкими пальцами и несколько отчужденная, хотя и довольно приятная, манера держаться. Мастер Оникс — так представил его король.
А еще одну женщину Олдер сперва принял за служанку, потому что она была одета чуть ли не по-деревенски и скромно стояла в сторонке, даже как будто специально отвернувшись от остальных, и смотрела в окно. Ему бросились в глаза ее прекрасные волосы, которые темным блестящим водопадом спадали ей на плечи и струились по спине. Заметив взгляд Олдера, Лебаннен подвел эту женщину к нему и сказал: «А это Техану с острова Гонт», — и в голосе его зазвенела бронза, словно он кому-то бросал вызов.
Техану подняла голову и посмотрела Олдеру прямо в глаза. Она была молода; левая сторона ее лица была прелестна — нежнейшая кожа цвета спелого персика, огромный темный блестящий глаз под изогнувшейся дугой бровью, — но правая сторона оказалась совершенно изуродованной и представляла собой один сплошной корявый и страшный шрам, а глаза не было видно вообще. И правая рука ее тоже походила на воронью лапку с одним сломанным когтем.
Здороваясь с Олдером, она, как и все жители Энладских островов, а также все присутствовавшие в этом зале, протянула ему руку, но то была ее левая рука. Он приложил свою ладонь к ладони Техану и почувствовал, как горяча ее ладонь, точно у девушки сильный жар. Она снова посмотрела на него — теперь удивленно. Удивление было написано в ее единственном, поистине прекрасном глазу. Но за удивлением в этом ярком, блестящем глазу таилась странная свирепость, неведомый мрак. Потом Техану снова потупилась и чуть отступила назад, словно ей не хотелось стоять среди всех этих людей, не хотелось вообще быть здесь.
— Мастер Олдер привез тебе с Гонта привет от твоего отца, — сказал король, видя, что сам гонец безмолвствует.
Но Техану даже головы не подняла. Блестящая черная волна волос почти полностью скрывала изуродованную половину ее лица.
— Госпожа моя, — начал Олдер, чувствуя, что в горле у него совершенно пересохло и голос звучит хрипло, — Ястреб также просил меня задать тебе два вопроса… — Он умолк, чтобы облизнуть пересохшие вдруг губы, и вдруг его охватила паника: ему показалось, что он совершенно забыл, что именно должен у нее спросить. Все спокойно ждали, когда он заговорит снова, и в этой выжидающей тишине голос Техану прозвучал еще более хрипло, чем у Олдера:
— Задай их.
— Он велел сперва спросить: «КТО ОНИ ТАКИЕ, ТЕ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В СУХУЮ СТРАНУ?» А потом, когда я уже уезжал, он сказал: «Спроси у моей дочери вот еще что: СМОЖЕТ ЛИ ДРАКОН ПЕРЕЛЕТЕТЬ ЧЕРЕЗ КАМЕННУЮ СТЕНУ?»
Техану кивнула в знак того, что поняла его вопросы, и еще немного отступила назад, словно желая унести эти загадки с собой, подальше ото всех.
— Сухая земля, — промолвил задумчиво король, — и драконы?
Он живо смотрел то на Олдера, то на Техану.
— Ну что ж, — предложил он всем, стряхнув с себя раздумья, — пойдемте сядем и поговорим как следует.
— Может быть, мы могли бы поговорить в саду? — спросила маленькая сероглазая женщина по имени Тенар, и король сразу же с этим предложением согласился. Олдер слышал, как Тенар говорила королю на ходу: — Ей немного тяжеловато весь день находиться в доме. Ей хочется неба! — И Олдер догадался, что она имела в виду Техану.
Садовники принесли кресла и расставили их в тени огромной старой ивы на берегу пруда. Техану сразу прошла к воде и стала глядеть в ее зеленую глубину, где лениво кружили крупные серебристые карпы. Ей явно хотелось подумать над вопросами отца, а не вести глубокомысленные беседы, хотя и оттуда, где она сейчас стояла, ей было все отлично слышно.
Когда все удобно устроились в креслах, король велел Олдеру вновь поведать свою историю. Собравшиеся слушали его в полном молчании, но молчание это было исполнено сочувствия, и Олдер оказался вполне способен рассказывать без особого напряжения и не спеша. Когда он умолк, все тоже некоторое время молчали, потом волшебник Оникс спросил его:
— Тебе вчера ночью снились сны?
И Олдер ответил, что ТАКИХ снов ему не снилось, а других он не запомнил, если они и были.
— А мне вчера снился Мастер Заклинатель, который был моим Учителем в Школе, — сказал Мастер Оникс. — О нем еще говорят, что он «умер дважды», потому что ему удалось вернуться из той страны, что лежит за каменной стеной.
— А мне снились души тех людей, которые не обрели второго рождения, — очень тихо промолвила Тенар.
— Всю ночь, — сказал принц Сеге, — мне мерещилось, что я слышу голоса тех, кого знал еще в детстве; эти люди звали меня, окликали по имени — все как обычно. Но когда я прислушался, оказалось, что это всего лишь сторожа на улицах города или пьяные моряки.
— А мне сны никогда не снятся, — сказал шкипер Тосла.
— Мне, правда, та страна сегодня не снилась, — сказал король, — но я ее вспоминал. И никак не мог отогнать эти воспоминания.
Он посмотрел на молчавшую Техану, но та не сводила глаз с зеленоватой воды в пруду и не промолвила ни слова.
Все снова погрузились в молчание, и Олдер не выдержал:
— Если я разношу какую-то заразу, вы должны просто отослать меня прочь! — воскликнул он.
Волшебник Оникс тут же возразил — не то чтобы властно, но очень решительно:
— Если Рок послал тебя на Гонт, а Гонт послал тебя в Хавнор, то тебе следует находиться именно в Хавноре!
— Когда умных голов слишком много, мысли порой получаются слишком легкие, — язвительно заметил Тосла.
— Давайте на время отставим сны в сторону, — решительно предложил Лебаннен. — Нашему гостю, по-моему, нужно понять, что именно беспокоит нас и беспокоило задолго до того, как он сюда явился. Ведь ради этого я и просил приехать в Хавнор Тенар и Техану, ради этого заставил Тослу прервать его странствия. Может быть, ты и расскажешь Олдеру обо всем, Тосла?
Темнокожий шкипер кивнул, и рубин у него в ухе сверкнул, точно капля свежей крови.
— Все дело в драконах! — сразу заявил он. — Ты, может, знаешь, Олдер, что в Западном Пределе они вот уже несколько лет совершают налеты на острова Улли и Усидеро, сжигая порой целые деревни. Они летают низко, чуть ли не цепляясь когтями за крыши домов и до смерти пугая людей. А в Торингейтс они прилетали уже дважды и всегда во время сбора урожая. Там они сожгли все зерно, подожгли множество стогов сена и немало тростниковых крыш в селениях. На людей они прямо не нападали, но многие тамошние жители погибли в огне. Не нападали они и на дома лордов в поисках сокровищ, как делали это в Темные Времена. Нет, они нападали только на дома и поля крестьян! Примерно такие же вести принесли купцы, побывавшие на далеком острове Симой, расположенном на юго-западной окраине Земноморья. Этот остров живет продажей зерна, так драконы выжгли там все поля как раз перед самой уборкой!
— А прошлой зимой два дракона поселились на вершине вулкана горы Анданден на острове Семел, — подсказал кто-то.
— Ах! — вырвалось у Оникса, и в ответ на вопросительный взгляд короля он объяснил: — Волшебник Сеппель с Пальна рассказывал мне, что эта гора считалась у драконов священной; когда-то они специально прилетали туда, чтобы испить огня из недр земных.
— В общем, они вернулись, — продолжал Тосла. — И теперь то и дело истребляют стада коров и овец, которые составляют главное богатство западных островов. Причем они даже не наносят животным физического ущерба; они просто пугают их настолько, что те срываются с привязи, перепрыгивают через изгородь и убегают. А потом гибнут или дичают. Люди говорят, что налеты совершают в основном молодые драконы, черные и тощие, которые, собственно, и пламя-то еще изрыгать не научились.
А на Пальне драконы теперь проживают постоянно — в гористой северной части острова, в диком краю, где нет никаких крестьянских хозяйств. Раньше охотники специально отправлялись туда, чтобы поохотиться на горных коз и баранов или поймать сокола, чтобы потом приручить его. Но охотников драконы оттуда прогнали; теперь к этим горам никто даже близко не подходит. Твой пальнийский приятель, Оникс, верно знает об этом?
Оникс кивнул.
— Он говорит, что драконы летают над этими горами стаями, как дикие гуси, — сказал он.
— Между прочим, Пальн и Семел от Хавнора отделяет только море, — заметил принц Сеге.
А Олдер подумал о том, что от Семела до Таона меньше ста миль.
— Наш Тосла плавал к островам Драконьи Бега на своем судне «Крачка», — сказал король, — и он…
— Сумел увидеть лишь очертания самых восточных из этих островов! — прервал его Тосла с недоброй усмешкой. — На меня там обрушилась целая стая этих чудовищ! Они гнали меня, как волки загоняют коров или овец. Они камнем падали вниз, цеплялись за паруса, грозили огнем, так что я в полной скорости бросился удирать. Так что ничего нового я не узнал.
Оникс снова согласно кивнул.
— Никому, кроме Повелителя Драконов, никогда не удавалось доплыть до Драконьих Бегов, — сказал он.
— Мне удавалось! — воскликнул король и улыбнулся широкой мальчишеской улыбкой. — Но я был вместе с Повелителем Драконов… И теперь я все время вспоминаю то путешествие. Когда мы с Верховным Магом были в Западном Пределе и искали там Коба-некроманта, то, проплывая мимо острова Джесседж, который находится совсем в стороне, даже дальше, чем остров Симли, мы видели много выжженных полей. А на островах Драконьи Бега мы видели, как драконы дрались и убивали друг друга, точно вдруг заболели бешенством!..
Все снова помолчали. Потом принц Сеге спросил:
— А не может ли быть, что некоторые из тех драконов, которых вы тогда видели, так и не излечились от своего безумия?
— С тех пор прошло более пятнадцати лет, — сказал Оникс. — Впрочем, драконы живут очень долго. Может быть, для них время течет иначе, чем для нас…
Олдер заметил, что, говоря это, волшебник поглядывает на Техану, которая по-прежнему стояла отдельно ото всех на берегу пруда.
— И все же на людей они нападают лишь в последние год-два, — задумчиво сказал принц Сеге.
— Как будто они этого не делали раньше! — возразил Тосла. — Если дракон захочет уничтожить какую-нибудь крестьянскую семью или даже целую деревню, то кто его остановит? Да они всегда на людей охотились! Урожай в поле, собранное в стога сено, крестьянский дом, скотина… Им все равно. Они одно твердят: убирайтесь! Вон с нашего запада!
— Но почему они требуют этого? И почему опять опустошают наши земли, изрыгая пламя? — воскликнул волшебник. — Они ведь способны и поговорить с людьми! Язык Созидания — это их родной язык, и Морред, Эррет-Акбе и наш Верховный Маг говорили с драконами.
— Те, которых мы видели на Драконьих Бегах, — сказал король, — утратили эту способность. Страшная брешь, которую Коб проделал в ткани мироздания, утягивала из драконов их силу и разум. Как, впрочем, и из людей. Только великий дракон Орм Эмбар сохранил способность говорить. Он тогда прилетел к нам, поговорил с Верховным Магом и велел ему отправляться на Селидор… — Лебаннен помолчал, взгляд его стал туманным, мысли были где-то далеко-далеко… — Но даже и у Орм Эмбара была в итоге отнята речь еще до того, как он погиб. — В глазах Лебаннена вспыхнул какой-то странный свет, он отвернулся и горестно воскликнул: — Это ведь ради нас умер великий Орм Эмбар! Это он открыл нам путь в темную страну!
Долгое время все молчали. Затянувшееся молчание нарушил тихий голос Тенар:
— Как-то раз Ястреб сказал мне… погодите-ка, дайте вспомнить как следует, как именно он это сказал: дракон и речь дракона — это одно и то же, единое существо, примерно так. И он еще сказал, что драконы НЕ УЧАТ Истинную Речь, она для них родная. Дракон — это и ЕСТЬ сама Истинная Речь, ее сущность — так он говорил.
— Как сущность крачки — полет. А сущность рыбы — движение в воде, — подхватил Оникс. — Да, это верно.
Техану теперь внимательно слушала, по-прежнему неподвижно стоя на берегу пруда, и все вдруг посмотрели на нее. И особенно ищущим, настойчивым был взгляд ее матери. Техану смутилась и отвернулась.
— Как можно заставить дракона говорить с тобой? — промолвил король, слегка пожав плечами, точно в шутку, однако за его словами опять последовало долгое молчание. — Ну что ж, — снова заговорил Лебаннен, — надеюсь все же, что мы можем научиться разговаривать с драконами. Мастер Оникс, раз уж речь у нас зашла о возможности с ними договориться, не расскажешь ли ты нам о той девушке, которая хотела учиться в Школе Мудрецов? Никто, кроме меня, этой истории еще не слышал.
— Девушка в Школе? — воскликнул Тосла насмешливо. — Да уж, поистине и на Роке многое изменилось!
— Это верно, — подтвердил волшебник, холодно и остро глянув на моряка. — Все произошло лет восемь назад. Эта девушка приехала с острова Уэй, переодевшись в мужское платье и желая изучать магические искусства в нашей Школе. Разумеется, ее жалкий маскарад никого обмануть не мог, но Мастер Привратник все же позволил ей войти. И вообще — он как-то сразу встал на ее сторону. В то время во главе Школы был Мастер Заклинатель, тот самый… — и Оникс на минуту запнулся, — …тот самый, что прошлой ночью приснился мне во сне, о чем я уже упоминал.
— Расскажи нам немного о нем, Мастер Оникс, — попросил король. — Это ведь был Торион, правда? И он вернулся из царства смерти?
— Да. Это был он. Когда Верховный Маг отправился в свое путешествие и слишком долго не возвращался, мы, не получая от него вестей, стали опасаться, что он умер. И Мастер Заклинатель решил проверить с помощью своего искусства, не пересек ли Ястреб границу, что проходит у каменной стены. Но Торион так долго оставался в темной стране, что Мастера стали опасаться и за его жизнь. В конце концов он все-таки очнулся и сказал, что видел Верховного Мага среди мертвых, что он возвращаться не собирается, однако очень просил его, Ториона, вернуться и управлять делами Школы. И тут вдруг дракон принес на Холм не только Верховного Мага Ястреба, но и тебя, господин мой Лебаннен! И оба вы были живы!.. А затем произошло вот что: как только Верховный Маг, усевшись дракону на спину, улетел на остров Гонт, Мастер Заклинатель упал замертво и лежал как мертвый много дней, и даже Мастер Травник, несмотря на все свое искусство, решил все же, что он окончательно умер. Однако, когда мы уже готовились предать Ториона земле, он шевельнулся, открыл глаза, сел и заговорил! Он рассказал, что вернулся к жизни, чтобы, по его словам, «сделать то, что непременно должно быть сделано». Итак, поскольку у нас еще был старый Верховный Маг, мы не могли выбрать нового Верховного Мага, так что Торион Заклинатель стал править Школой. — Оникс помолчал. — И когда явилась та девушка, Торион потребовал, чтобы она немедленно убиралась из Школы и с острова Рок, хотя ее и пропустил сам Мастер Привратник. Торион не желал ни говорить с нею, ни видеть ее. И тогда Мастер Путеводитель увел ее в Рощу. Там она какое-то время жила, бродила с ним вместе по тропам, слушала деревья… В общем. Путеводитель, Привратник, Травник и Курремкармеррук, наш Мастер Ономатет, полагали, что есть некая серьезная причина, заставившая ее явиться на Рок, что она то ли вестница, то ли даже вершительница некоего великого события, даже если она сама об этом и не ведает, и потому они всячески ее защищали и оберегали. Другие же мастера приняли сторону Ториона, который сказал, что женщины всегда несут с собой разлад и споры, а потому и эту женщину следует немедленно с Рока изгнать. Я был тогда еще учеником, и всем нам, ученикам, было тяжело видеть, как наши Учителя ссорятся, да еще так бездарно и сварливо.
— Да, к тому же из-за девушки! — вставил насмешник Тосла.
На сей раз Оникс бросил на него прямо-таки ледяной взгляд.
— Я прошу тишины! — потребовал он и продолжил свой рассказ: — Короче говоря, Торион послал нас, целый отряд старших учеников, чтобы мы силой заставили эту женщину покинуть остров, она вызвала его на поединок и предложила встретиться в тот же вечер на Холме Рок. Он пришел и, назвав ее Истинным именем, велел повиноваться ему. «Ириан!» — воскликнул он. Но она ответила: «Я не только Ириан!» — и, произнося эти слова, прямо на глазах стала превращаться… в дракона! А потом прикоснулась к Ториону, и тело его рассыпалось в прах. Затем она поднялась на самую вершину холма, и мы, глядя на нее, не понимали, то ли мы видим женщину, объятую пламенем, то ли крылатое чудовище. Но вскоре мы ясно увидели огромного дракона, который, сверкая своей красно-золотистой чешуей, изрыгал пламя. А потом расправил крылья и полетел на запад.
Голос Оникса стал едва слышен, на лице явственно отразилась смесь ужаса и восхищения. Все молчали.
Волшебник помолчал, откашлялся и продолжил:
— Но, прежде чем она стала подниматься на холм, Мастер Ономатет спросил ее: «Кто ты?» — и она сказала, что не знает ДРУГОГО своего имени. Тогда к ней обратился Мастер Путеводитель и спросил, куда она теперь направится и вернется ли назад. Она сказала, что полетит на самый далекий запад, ибо хочет узнать свое подлинное имя у СВОЕГО НАРОДА, но если он, Путеводитель, позовет ее, она непременно к нему вернется.
В наступившей после этих слов Оникса тишине вдруг послышался хриплый слабый голосок — точно металлом слегка поскребли по металлу. Олдер слов не разобрал, но все же они почему-то показались ему знакомыми, как если бы он случайно забыл их, но вот-вот вспомнит и скажет, что они означают.
Это говорила Техану. Она подошла к волшебнику и остановилась совсем рядом с ним, напряженная, точно туго натянутая тетива лука. Это ее голос звучал, точно скрежет металла.
Потрясенный до глубины души тем, что сказала Техану, волшебник вскочил на ноги, отступил от нее на шаг и наконец, взяв себя в руки, промолвил, глядя на девушку:
— Да, это были ее слова: МОЙ НАРОД, С САМОГО ДАЛЬНЕГО ЗАПАДА!
— Позовите же ее! О, позовите ее! — прошептала Техану, протягивая к волшебнику руки. И снова он невольно от нее отшатнулся.
Тенар встала и свистящим шепотом спросила у дочери:
— В чем дело? Что случилось, Техану?
Техану обвела всех взглядом, и Олдеру показалось, что под этим взглядом он превращается в нечто бесплотное, как дух, и девушка эта видит его насквозь.
— Позовите ее сюда! — повторила Техану и требовательно посмотрела на короля. — Можете вы позвать ее сюда?
— Это не в моей власти, Техану, — ласково ответил Лебаннен. — Возможно, Мастер Путеводитель с Рока сможет… или ты сама…
Техану яростно замотала головой.
— Нет, нет, нет, нет, — шептала она. — Я не такая, как она! У меня же нет крыльев!
Лебаннен вопросительно посмотрел на Тенар в поисках подсказки, но Тенар не сводила глаз с дочери, и в глазах ее было отчаяние.
Техану резко отвернулась от нее и посмотрела на короля.
— Прости меня, господин мой, — сказала она своим слабым хриплым голосом, — но мне нужно побыть одной. И подумать над тем, что сказал мой отец. Я непременно постараюсь ответить на его вопросы. Но я должна побыть одна. Пожалуйста!
Лебаннен поклонился ей и опять посмотрел на Тенар. Та подошла к дочери, обняла ее, и они медленно побрели прочь по залитой солнцем аллее мимо прудов и фонтанов.
А четверо мужчин снова уселись в кресла и некоторое время хранили полное молчание.
Наконец Лебаннен сказал:
— Ты был прав, Оникс! — И пояснил, повернувшись к остальным: — Мастер Оникс рассказал мне эту историю о женщине-драконе Ириан, когда я кое-что рассказал ему о Техану. О том, что еще совсем ребенком Техану сумела призвать на помощь дракона Калессина и разговаривала с ним на Языке Созидания. И Калессин тогда называл ее дочерью!
— Нет, все это действительно очень странно! — воскликнул Оникс. Он был потрясен и испуган и не скрывал этого. — До чего же странные настали времена! Женщина превращается в дракона, невежественная деревенская девчонка, никогда ничему не учившаяся, говорит с драконами на Языке Созидания!..
Олдер, глядя на волшебника, удивлялся: почему же он, Олдер, не испытывает ни капли страха? Может быть, потому что у него маловато знаний? И он просто не понимает, чего именно нужно бояться?
— Но ведь об этом существует немало старинных историй, — сказал Тосла. — Разве вы на Роке никогда их не слышали? Возможно, ваши стены просто не пропускают их внутрь, а? Это, конечно, всего лишь сказки, и их рассказывают самые простые люди… Даже и не сказки, а скорее песни. Например, есть у моряков песня, которая называется «Девушка из Белило», в ней говорится о том, как один моряк в каждом порту заводил себе возлюбленную и многих хорошеньких девушек заставил проливать слезы, пока одна из этих девушек не взлетела в небеса на бронзовых крыльях и не догнала корабль. Увидев своего бывшего возлюбленного на палубе, она схватила его и съела.
Оникс посмотрел на Тослу с глубочайшим отвращением. Но Лебаннен улыбнулся и сказал:
— Ну да, Женщина из Кемея… Старый Учитель нашего Верховного Мага, Айхал, которого все звали Огионом, рассказывал о ней Тенар. С виду она была обыкновенной деревенской старухой и жила, как все. Но Огион догадался, какова ее сущность, и она пригласила его в дом и угостила ухой. Это она сказала ему, что люди и драконы некогда были единым народом. А сама она, по ее словам, и дракон, и женщина одновременно. И только Огион, будучи великим магом, сумел увидеть ее как дракона.
— Так и ты видел Ириан, Оникс, — тихо сказал Лебаннен.
С трудом выговаривая слова, словно они не шли у него с языка, и обращаясь исключительно к королю. Оникс сказал:
— После того как Ириан улетела с Рока, Мастер Ономатет показал нам, ученикам, некоторые места в старинных мудрых книгах, которые всегда оставались недостаточно ясны магам, но которые можно было бы понять, если представить, что некоторые существа являются одновременно и людьми, и драконами. И еще там говорилось о какой-то ссоре между этими существами. А может, между людьми и драконами… Ни одно из таких мест и до сих пор как следует не расшифровано.
— Я надеялся, что Техану, возможно, сумеет как-то прояснить сложившуюся ситуацию, — сказал Лебаннен.
Голос его звучал так ровно и спокойно, что Олдер не понял — то ли он все еще надеется на это, то ли всякая надежда уже умерла в его душе. И тут он заметил, что какой-то человек спешит к ним по аллее мимо фонтанов. Это был седовласый воин из числа королевских гвардейцев, и Лебаннен, узнав его, двинулся ему навстречу. Они о чем-то поговорили с минуту почти шепотом, и гвардеец быстрыми шагами пошел прочь, а король вернулся к своим собеседникам.
— Есть новости, — сказал он, и в голосе его вновь металлом зазвенел вызов. — Над западной частью Хавнора летала целая стая драконов. Они подожгли леса, и из берегового гарнизона сообщают, что люди бегут в Южный порт и всем рассказывают, что горит город Резбел.
Той ночью самое быстрое судно королевского флота уже мчалось, имея на борту короля и его соратников, вдоль берегов острова Хавнор. Судно буквально летело по волнам благодаря волшебному ветру, поднятому Мастером Ониксом, и вскоре, уже на заре, вошло в устье реки Онневы, укрытое могучим плечом горы Онн. Отряд короля
сошел на берег, и для него с корабля выгрузили одиннадцать лошадей из королевской конюшни, великолепных, сильных животных со стройными ногами. Лошади редко встречались тогда на островах Земноморья; достаточно много их было только на Хавноре и Семеле. Техану, например, хорошо знала ослов, но лошадей до сих пор ни разу не видела. Она провела большую часть ночи рядом с этими прекрасными животными, помогая конюхам удерживать и успокаивать их. Это были кони хороших кровей, отлично ухоженные и обученные, но к путешествиям по морю они пока не привыкли. Когда пришло время садиться на них верхом — на песчаном берегу реки Онневы — Оникс так испугался, что конюхам пришлось подсаживать его в седло и всячески подбадривать. Зато Техану взлетела в седло одновременно с королем и сидела на коне так, словно ездила верхом всю жизнь. Повод она подцепила своей изуродованной рукой и, похоже, не собиралась им пользоваться, объясняясь со своей кобылой каким-то иным, неведомым способом.
Маленький отряд сразу двинулся на запад, в предгорья, к лесу Фалиерн, все время сохраняя довольно приличную скорость. Это был самый быстрый способ добраться до места, по мнению Лебаннена, ибо, если плыть вдоль южной оконечности Хавнора или пробираться по берегу на лошадях, это отняло бы гораздо больше времени. А Оникс, будучи волшебником, должен был позаботиться о том, чтобы погода благоприятствовала путешествию. Он также должен был избавить путешественников от неожиданных встреч и препятствий и защитить их от любых возможных бед — кроме, разумеется, пламени, изрыгаемого драконами. Если бы они действительно столкнулись с драконами, то оказались бы совершенно беззащитными. Единственная надежда была на Техану.
Накануне, устроив совет со своими помощниками и офицерами охраны, Лебаннен быстро пришел к выводу, что нет никакой возможности ни воевать с драконами, ни защитить от них поля и селения: стрелы против них совершенно бесполезны, щиты не спасают. Он знал, что лишь величайшим магам дано порой победить дракона, но у него на службе такого мага не было, и он не знал, остался ли на свете хоть один такой маг. Однако он, король, обязан был защитить свой народ! И он не видел иного способа, кроме попытки переговоров.
Его личный слуга был потрясен, когда Лебаннен сам отправился к Тенар и Техану, а не послал кого-то за ними. Слуга считал, что король вправе приказать любому явиться к нему. «Только не тогда, когда король собирается умолять этого человека о помощи», — сказал слуге Лебаннен.
Когда изумленная горничная впустила его в покои Тенар, он смиренно спросил, нельзя ли ему переговорить с Белой Дамой, а также с Женщиной с Гонта. Впрочем, под такими именами Тенар и Техану были известны всем — и во дворце, и во всей столице. То, что обе позволяли всем открыто называть их Истинными именами, как это делал и сам король, было такой редкостью, таким отклонением от правил и обычаев, от норм собственной безопасности и понятий о добродетели, что, даже зная их имена, люди произносили их вслух неохотно, предпочитая обходиться эвфемизмами.
Разумеется, обе женщины Лебаннена тут же усадили и стали расспрашивать о причине столь внезапного появления. Он быстро пересказал все последние новости и обратился к Техану:
— Возможно, только ты, Техану, единственная во всем королевстве, можешь мне помочь, если сумеешь призвать к себе этих драконов, как когда-то призвала Калессина, имея над ними какую-то власть. Если ты сможешь поговорить с ними, то спроси: почему они воюют с моим народом? Сможешь?
Молодая женщина, услышав его слова, вздрогнула и отвернулась, точно ища защиты у матери.
Однако Тенар не стала ни обнимать, ни защищать ее. Она стояла неподвижно и молчала. А потом сказала:
— Техану, когда-то давно я сказала тебе: когда к тебе обращается король, ты должна отвечать. Тогда ты, правда, была еще ребенком и меня все-таки не послушалась. Но теперь ты уже не ребенок.
Техану испуганно отступила от них, опустила голову, точно провинившийся ребенок, и едва слышно ответила своим хрипловатым голосом:
— Но я не могу их позвать. Я их не знаю.
— А Калессина ты позвать можешь? — спросил Лебаннен.
Техану покачала головой.
— Калессин слишком далеко, — прошептала она. — Я не знаю где.
— Но ведь ты — дочь Калессина! — сказала Тенар. — Неужели ты не можешь просто поговорить с этими драконами?
С несчастным видом Техану прошептала:
— Не знаю…
— И все же, Техану, если есть хоть малейший шанс, что они станут тебя слушать, — сказал Лебаннен, — то я умоляю тебя: попытайся использовать этот шанс! Пойми, я не в силах сражаться с ними. И я не знаю их языка, чтобы с ними поговорить и узнать, чего они хотят от нас, эти существа, способные уничтожить меня одним своим вздохом, одним взглядом. Пожалуйста, если сможешь, поговори с ними! Ради меня, ради нас всех. Техану долго молчала. Потом так тихо, что Лебаннен едва расслышал ее, промолвила:
— Хорошо.
— Тогда готовься к путешествию. Мы отплываем в четвертом часу вечера. Мои люди доставят тебя на корабль. Спасибо тебе! И тебе тоже спасибо, Тенар! — Лебаннен на мгновение сжал ее руку в своей, но лишь на мгновение: перед отъездом у него было еще много забот.
Когда он примчался на пристань, хрупкая фигурка в плаще с капюшоном уже виднелась у сходней. Последняя лошадь, которую предстояло ввести на палубу, храпела и упиралась, боясь воды и незнакомой обстановки, а Техану, похоже, вела с конюхом какие-то переговоры. Потом она просто взяла лошадь под уздцы, что-то ей шепнула и преспокойно поднялась с ней на палубу.
Корабль — это ведь маленький и густо населенный дом, так что Лебаннен, уже после полуночи выйдя на палубу, случайно услышал, как на корме тихо переговариваются двое конюхов.
— Верная у девочки рука, — сказал один, а второй, судя по голосу, более молодой, подтвердил:
— Да уж, это точно. Да только смотреть на нее страшно, правда?
— Ну, если лошади против нее ничего не имеют, — возразил первый, — то и ладно. Тебе-то зачем на нее смотреть?
И второй прошептал:
— Не знаю. Но все смотрю и смотрю!
А когда они уже ехали верхом от песчаных берегов Онневы, поднимаясь в гору, при первой же возможности Тосла нагнал Лебаннена и поехал с ним рядом.
— Значит, она вроде как нашим переводчиком будет, верно? — спросил он.
— Если сможет.
— Что ж, в таком случае она куда смелее, чем я думал. Если с ней в первый раз случилось такое, то ведь может случиться и снова.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ее же чуть до смерти не сожгли!
— Да, только это был не дракон.
— А кто же?
— Люди. Ее родители.
— Ох, да разве такое возможно? — поморщился изумленный Тосла.
— Бродяги, воры, что с них взять. А ей тогда было лет пять. И никому не известно, что она там натворила, только кончилось все это тем, что родители избили ее до полусмерти и сунули в еще горевший костер на стоянке. А потом спокойно ушли, думая, что она либо уже мертва, либо скоро умрет и все сочтут это просто несчастным случаем. Так и сбежали! А деревенские жители ее нашли, и Тенар взяла ее к себе.
Тосла почесал за ухом.
— Какая милая история о человеческой доброте! Так, значит, она и Верховному Магу тоже не родная дочь? Но в таком случае объясни: что это все твердят, что она, мол, драконий приплод?
Когда-то Лебаннен немало колесил по морям вместе с Тослой, дрался с ним бок о бок во время осады Сорры и знал его как храброго, сообразительного и хладнокровного человека. И когда грубость Тослы заставляла его краснеть, он обвинял только собственную тонкокожесть. Но сейчас он рассердился.
— Не знаю, что ты имеешь в виду, — сухо и спокойно сказал он, — но сам я знаю только, что великий дракон Калессин называл ее дочерью.
— Угу. Между прочим, этот твой Оникс, этот замечательный волшебник с Рока, быстренько ушел в кусты, заявив, что в таких переговорах будет совершенно бесполезен. А ведь он точно умеет говорить на Древнем Языке! Верно?
— Да. Умеет. И запросто может с помощью нескольких слов превратить тебя в прах. И если он еще до сих пор этого не сделал, то только из уважения ко мне, но отнюдь не к тебе.
Тосла уныло кивнул:
— Это-то я знаю!
Они ехали верхом весь день, и так быстро, как могли выдержать лошади. Уже совсем в сумерках они добрались до маленького городка, спрятавшегося среди холмов, где лошадей можно было накормить и разместить на отдых. Сами наездники едва живые повалились на чрезвычайно неудобные кровати. Те из них, кто совершенно не привык к езде верхом, обнаружили, что едва могут передвигать ноги. Выяснилось, что здешние жители о драконах и слыхом не слыхивали. Больше всего их поразило появление целого отряда богатых незнакомцев на лошадях, которые потребовали всего лишь овес да постели и заплатили за это серебряными и золотыми монетами.
Задолго до рассвета всадники вновь двинулись в путь. От песчаных отмелей Онневы до Резбела было почти сто миль. За этот второй день они рассчитывали добраться до нижнего перевала в Фалиернских горах и спуститься по западным склонам в долину. Йенай, один из самых надежных офицеров Лебаннена, ехал впереди, на довольно значительном расстоянии от остального отряда; Тосла составлял арьергард; сам Лебаннен вел основную группу. Он трясся в седле, то и дело задремывая, погруженный в предрассветный покой, как в тихую воду, когда его разбудил громкий конский топот несущегося навстречу ездока. Это был Йенай, который возбужденно куда-то указывал. И Лебаннен тут же туда посмотрел.
Они как раз выехали из леса, и с вершины очередного холма перед ними открывался прекрасный вид на далекий еще перевал, который в неярком утреннем свете был виден довольно отчетливо. Горы по обе стороны от прохода высились могучими черными стенами на красно-золотистом фоне разгорающейся зари.
Однако Йенай показывал королю на запад.
— Это ближе, чем Резбел, — говорил он. — Отсюда миль пятнадцать, наверное.
Кобылка Техану хоть и была самой маленькой, но шла удивительно резво и была совершенно уверена, что именно она и должна вести за собой всех остальных. Если бы Техану ее не сдерживала, лошадка, наверное, перекусала бы всех остальных коней. Она все время отталкивала кого-то, пробираясь вперед, наконец оказалась все же впереди всего отряда и тут же успокоилась. Поэтому Техану мгновенно оказалась рядом, стоило Лебаннену натянуть поводья своего жеребца, и стала смотреть в ту же сторону, что и он.
— Лес горит, — сказал он ей.
Ему была видна только изуродованная половина ее лица, и он не был уверен, что она видит достаточно хорошо. Но она видела все и сама; ее изуродованная, похожая на коготь рука, державшая поводья, дрожала. «Она боится пожара — еще бы, ее так страшно обожгли в детстве», — подумал Лебаннен.
До чего же он был труслив и жесток, когда — о безумец! — упрашивал эту девочку: «Иди, поговори с драконами! Спаси мою шкуру!» И что теперь? Вот он притащил ее — прямо к лесному пожару!
— Хорошо. Мы сейчас поворачиваем обратно, — сказал он ей.
Техану подняла здоровую руку, показывая: «Смотри! Смотри!»
Ему показалось, что это просто искра от пожара, горящий пепел, взлетевший над черным шрамом перевала. Потом искра превратилась в подобие огненного орла, парящего в небесах… Это был дракон, и он летел прямо на них!
Техану, привстав в стременах, испустила пронзительный гортанный крик, похожий на крик морской птицы или ястреба, но это было человеческое слово, одно лишь слово: «МЕДЕУ!»
Огромный ящер подлетел ближе; он мчался на чудовищной скорости, хотя его длинные тонкие крылья шевелились почти лениво. Вблизи он утратил весь свой фантастический блеск; чешуя его уже не сверкала так в отблесках пожара, и теперь он казался абсолютно черным, черным с бронзовым отливом, и все равно был невероятно красив и ужасен в свете разливавшейся по небу зари.
— Смотрите за лошадьми! — предупредила Техану своим надтреснутым голосом, и в ту же минуту серый жеребец Лебаннена, увидев перед собой дракона, начал яростно биться, вставать на дыбы и откидывать голову. Лебаннен вполне способен был с ним справиться, но из задних рядов вдруг донеслось испуганное ржание, и он услышал топот копыт и окрики конюхов. Волшебник Оникс тут же спешился, бегом бросился к Лебаннену и встал возле него, держась за его стремя. Кое-кто остался в седле, остальные успели спешиться, но все, оцепенев, стояли и смотрели, как к ним подлетает дракон.
Техану опять что было сил выкрикнула слово «медеу». Дракон резко сменил направление полета, сбросил скорость и, подлетев еще ближе, как бы завис в воздухе, паря над отрядом на высоте примерно пятидесяти футов.
— МЕДЕУ! — снова позвала Техану, и в ответ услышала что-то вроде протяжного эха: «МЕ-ДЕ-УУУ!»
— Что это значит? — спросил Лебаннен, наклоняясь к Ониксу.
— Сестра, брат, — прошептал волшебник. Техану соскочила с лошади, бросив поводья Йенаю, и быстро пошла вперед по пологому склону точно к тому месту, над которым парил дракон. Его длинные крылья били по воздуху быстрыми, почти незаметными рывками, точно крылья парящего ястреба, вот только крылья эти были пятьдесят футов в длину от плеч и погромыхивали так, словно в воздухе кто-то бил в литавры или неведомое дитя играло огромной бронзовой погремушкой. И чем ближе подходила к дракону Техану, тем явственнее был виден тонкий завиток пламени, выползавший из разинутой длинной пасти с огромными зубами.
Она подняла руку. Не красивую, тонкую и смуглую руку, а другую, изуродованную, обожженную, похожую на коготь. Но страшные шрамы на плече и предплечье не позволяли ей как следует поднять руку, и она приподняла ее лишь примерно на уровень подбородка.
Дракон опустился ниже, вытянул шею и легко коснулся ее руки своей гладкой, сверкающей, чешуйчатой мордой. «В точности как собака, когда она приветствует своего хозяина, — подумал Лебаннен, — как сокол, когда садится хозяину на запястье; как король, когда он склоняет голову перед своей королевой».
Техану что-то сказала, дракон что-то ей ответил; оба говорили очень коротко, отрывисто, и голоса их походили на дрожащий звон цимбал. Снова обмен несколькими словами и снова пауза. Но вот заговорил дракон. Оникс весь превратился в слух. Еще один короткий диалог. Облачко дыма вырвалось из драконьих ноздрей; Техану неловко, но повелительно махнула своей изуродованной, скрюченной рукой и отчетливо произнесла два слова.
«Приведи ее!» — перевел шепотом волшебник.
Дракон тяжело взмахнул крыльями, опустил свою длинную голову и что-то прошипел, потом снова что-то сказал, потом подпрыгнул в воздух и сразу оказался где-то высоко над Техану, надо всеми, развернулся, описал над ними еще один круг и стрелой понесся к западу.
— Он называл ее Дочерью Старейшего, — прошептал волшебник Лебаннену.
Техану стояла неподвижно и смотрела вслед улетавшему дракону. Потом обернулась и улыбнулась Лебаннену. Она казалась ему такой маленькой и хрупкой на фоне этого огромного холма, поросшего лесом, что он птицей слетел с коня и бросился к ней. Он думал, что она совершенно обессилена, перепугана до смерти, и уже протянул ей руку, чтобы поддержать ее, помочь идти, но она по-прежнему улыбалась, и ее лицо, разделенное на две половины — ужасную и прекрасную, — сияло розовым светом разливавшейся по небу зари.
— Они больше не будут нападать. Они обещали ждать там, в горах, — сказала она спокойно.
И с изумлением огляделась, словно не понимала, где она и как сюда попала. А когда Лебаннен взял ее за руку, она ему это позволила, хотя прежде она никому не позволяла себя касаться. Отблеск огня и победоносная улыбка по-прежнему освещали ее лицо, и шла она удивительно легко.
Конюхи отвели коней попастись на мокрой от росы траве, а Оникс, Тосла и Йенай собрались вокруг Техану и Лебаннена, хотя и держались от девушки на почтительном расстоянии.
— Госпожа моя Техану, мне никогда еще не приходилось видеть поступок такой смелости! — восхищенно сказал Оникс.
— Признаюсь, мне тоже, — поддержал его Тосла.
— Мне было очень страшно! — призналась Техану своим хриплым, невыразительным голосом. — Но я называла его братом, а он называл меня сестрой…
— Я не все понял из того, о чем вы говорили, — сказал ей волшебник. — Я ведь не так уж и хорошо владею Языком Созидания. Может быть, ты расскажешь нам, что все же произошло между вами?
Техану говорила медленно и по-прежнему не сводила глаз с западного края неба, где скрылся улетевший дракон. Тускло-красный отблеск далекого огня все больше бледнел по мере того, как все ярче разливалась заря.
— Я спросила у него: «Почему вы выжигаете земли, принадлежащие королю Земноморья?» И он ответил: «Настала пора нам вернуть себе наши земли!» И я спросила: «А что, это Старейший просил вас захватить их? И уничтожить на них все живое с помощью огня?» И тогда он сказал, что Старейший, то есть Калессин, улетел с Орм Ириан на самый далекий запад, где драконы любят кружить в потоках иного ветра. И еще он сказал, что молодые драконы, которые остались парить в этих небесах, на здешних ветрах, утверждают, что все люди — клятвопреступники и воры, что они похитили законную собственность драконов. И еще они уверены, что Калессин никогда не вернется, а потому не желают больше ждать и намерены прогнать людей со всех западных островов. Но недавно вернулась Орм Ириан; она сейчас на острове Пальн. И я сказала, чтобы он попросил ее прилететь сюда. И он обещал, что передаст ей мои слова и что она непременно прилетит к дочери Калессина.
Глава 3
Совет драконов
Из окна своей комнаты во дворце Тенар видела, как корабль уносит в ночь Техану и Лебаннена. Она не пошла провожать Техану на пристань. Это ей далось нелегко, очень нелегко — отказаться от этого путешествия, не поехать вместе с дочерью. А ведь Техану просила, умоляла ее — это она-то, никогда ни о чем не просившая! Техану никогда не плакала, она не могла плакать, но в голосе ее явственно слышались рыдания, когда она говорила:
— Но я же не могу, НЕ МОГУ ехать одна! Поедем со мной, мама! Прошу тебя!
— Любовь моя, сердце мое, если бы я могла избавить тебя от этого ужаса, я бы, конечно, поехала с тобой! Но неужели ты не «понимаешь, что сейчас я ничего изменить не в силах? Я уже сделала для тебя все, что могла, звездочка ты моя огненная. Король прав: только ты, ты одна можешь помочь ему.
— Но если бы ты была там, если бы я знала, что ты рядом…
— Я буду рядом. Я всегда рядом с тобой. Да и что я буду делать в отряде? Служить вам помехой? Вы должны как можно быстрее добраться туда; это будет трудное путешествие, и я бы только задерживала вас. Вы стали бы за меня опасаться, останавливаться. Нет, на этот раз я вам не нужна. Я в данном случае совершенно бесполезна, и ты должна это понять. Ты должна поехать одна, Техану.
И она, отвернувшись от своей дорогой девочки, принялась собирать Техану в дорогу, приготовила ей простое удобное платье, грубые башмаки, хороший теплый плащ. Если она и плакала, занимаясь сборами дочери, то ей она не позволила увидеть ни единой своей слезинки.
Техану же так и застыла на месте, ошеломленная, парализованная страхом. Когда Тенар велела ей переодеться, она послушно переоделась. Но когда королевский офицер Йенай постучался и спросил, можно ли ему уже проводить госпожу Техану к причалу, она не двинулась с места и молча смотрела на него с видом перепуганного зверька.
— Ступай, — сказала Тенар и обняла ее, ласково погладив изуродованную щеку Техану. — Ты ведь дочь Калессина в не меньшей степени, чем моя.
Девушка некоторое время еще цеплялась за нее, еще обнимала ее за шею, но потом решительно отстранилась, молча повернулась и пошла следом за Йенаем к двери.
И Тенар почувствовала пронизывающий холод ночи всем своим телом, к которому только что прижималась Техану.
Она подошла к окну. Огни на причале, мелькающие фигуры людей, стук копыт — это лошадей сводили по узким, крутым улицам к пристани. У пирса виднелись высокие мачты корабля; этот корабль она хорошо знала: «Дельфин». Она продолжала смотреть из окна и видела, как Техану поднялась на борт судна, ведя в поводу лошадь, которая то и дело взбрыкивала. И еще она увидела Лебаннена, который шел за ними следом. Она видела, как отдают швартовы, как стукается бортами о причал корабль, который на веслах выводят на простор залива, а затем на воде точно расцвел белый цветок — это подняли паруса. Свет кормового фонаря был виден еще долго; он дрожал на темной воде, постепенно дробясь на все более мелкие пятнышки, а потом исчез совсем.
Тенар прошлась по комнате, складывая вещи, которые сбросила с себя Техану, — шелковую рубаху, юбку, легкие сандалии. На минутку она прижала их к щеке и убрала в сундук.
А потом долго лежала без сна на широкой постели, и перед глазами у нее стояло одно и то же видение: пустынная дорога, по которой Техану идет совершенно одна, и падающий с неба страшный черный узел, превращающийся в сеть, в извивающуюся, свивающуюся в кольца сеть — это стая драконов, окруженных языками пламени, — и драконы устремляются прямо к Техану, и вот уже вспыхивают ее волосы, горит ее одежда… Нет! Нет! Этого не будет! Тенар заставила себя не думать об этом, открыла глаза, но стоило ей их закрыть, и она снова увидела пустынную дорогу и Техану, идущую по ней в одиночестве, и черный клубок драконов в небесах, объятый пламенем, подлетающий все ближе и ближе…
Когда мрак ночи сменился предрассветными сумерками, Тенар наконец заснула, совершенно измученная, и ей снилось, что она находится в доме Старого Мага у водопада, что она вернулась наконец домой и до смерти рада этому. Ей снилось, что она берет веник из-за двери, чтобы подмести дубовый пол, ибо Гед явно не слишком много времени уделял уборке, и вдруг видит в дальней стене дома дверь, которой там раньше не было. Она открывает эту дверь и обнаруживает за ней маленькую, низенькую пристройку из камня с побеленными стенами. И в этой комнатке на четвереньках стоит Гед, нет, не стоит, а как-то странно, скрючившись, сидит, и руки его безжизненно лежат у него на коленях, а голова у него не человеческая, а птичья, маленькая темная голова стервятника с хищно изогнутым клювом. И Гед говорит ей тихим, хриплым голосом: «Тенар, у меня же нет крыльев!» И при этих словах в душе ее поднимается такой гнев и такой ужас, что она… Тенар проснулась, задыхаясь и хватая ртом воздух, и увидела солнечный луч, скользивший по стене спальни, и вспомнила, что находится в королевском дворце, и услышала нежное чистое пение труб, сообщавших о наступлении четвертого утреннего часа.
Принесли завтрак. Она немножко поела, беседуя с Берри, пожилой горничной, которую она предпочла целому полку других горничных и благородных придворных дам, представленных ей Лебанненом. Берри была женщина умная, опытная, хорошо знавшая свое дело и к тому же деревенская, родом из внутренних земель острова Хавнор, и с ней Тенар сошлась куда лучше, чем с чопорными придворными дамами. Дамы, разумеется, были хорошо воспитаны и обращались с Тенар вежливо и учтиво, однако понятия не имели, как им разговаривать с особой, которая то ли бывшая каргадская жрица, то ли просто жена обыкновенного крестьянина с Гонта. Тенар видела, что им гораздо проще быть ласковыми с Техану, которая упорно хранила застенчивое молчание. Ее они, по крайней мере, могли жалеть. Тенар им жалеть было не за что.
А вот Берри могла ее пожалеть и жалела. И в то утро она очень хорошо утешила Тенар, сказав:
— Не волнуйся. Наш король непременно привезет девочку назад живой и здоровой. Неужели ты думаешь, что он потащил бы ее в такое опасное путешествие, если б знал, что не сможет уберечь от любой беды? Да никогда в жизни! Только не он! — Все это, конечно, было вранье, но Берри так страстно утешала Тенар и так верила в истинность своих слов, что она просто вынуждена была с нею согласиться. Но это, к сожалению, не принесло ей душевного спокойствия.
Ей необходимо было чем-то заняться, ибо отсутствие Техану чувствовалось повсюду, и Тенар решила сходить к этой каргадской принцессе и посмотреть, не хочет ли та выучить пару-другую ардических слов или, по крайней мере, сказать Тенар, как ее зовут.
На Каргадских островах люди не хранят свои подлинные имена в тайне, как жители ардических земель. Как и здешние прозвища или «домашние» имена, имена каргов зачастую были обыкновенными значимыми словами: Роза, Ольха, Слава, Надежда. Иногда имя ребенку выбирали, согласно традиции, в честь какого-нибудь далекого предка. Но люди на Каргадских островах открыто называли свое имя и гордились тем, что оно, например, старинное или, скажем, передается из поколения в поколение по женской или мужской линии. Сама Тенар, правда, была слишком рано разлучена с родителями и так и не узнала, почему они назвали ее Тенар, но думала, что скорее всего так звали одну из ее бабушек или прабабушек. Это имя было у нее вскоре отнято, и жрицы стали называть ее только Ара, Поглощенная или Возродившаяся, и она вспомнила свое настоящее имя только тогда, когда его вернул ей Гед. Для него, как и для нее, оно было ее Истинным именем, хотя и не являлось словом Истинной Речи и не способно было обеспечить кому-то власть над нею. Так что она никогда его не скрывала.
И теперь она терялась в догадках: почему же принцесса скрывает свое имя? Прислужницы называли ее только Принцесса, или Госпожа, или Хозяйка, а послы — Принцесса, дочь Тхола, Хозяйка Гур-ат-Гура и тому подобное. Если у этой бедной девочки есть только титулы, то пора ей иметь и настоящее имя!
Тенар понимала, что не пристало гостье короля идти одной по улицам Хавнора, однако Берри и без нее забот хватало, так что она попросила дать ей в сопровождающие кого-нибудь из слуг, и провожать ее отправился очаровательный мальчик лет пятнадцати, видимо, паж, который так заботился о ней, особенно на перекрестках, словно она была дряхлой старухой, выжившей из ума и трясущейся от старости. Тенар всегда нравилось гулять по Хавнору. Она давно обнаружила — и примирилась с этим, — что по улицам без Техану ходить куда проще. Люди, стоило им взглянуть на Техану, обычно тут же отворачивались, и Техану шла по улице вся зажатая, сплошное воплощение страдающей гордости, ненавидя и тех, кто глазел на нее, и тех, кто от нее отворачивался. И Тенар всегда страдала вместе с нею, а может, и больше, чем она.
Но на этот раз она могла никуда не торопиться, спокойно разглядывать витрины магазинов, рыночные прилавки, лица людей и их одежду. В порту Хавнор всегда было полно приезжих со всех островов Архипелага. Тенар с удовольствием отклонилась от основного маршрута и позволила своему юному провожатому показать ей улицу, где расписные мостики, перекинутые с одной крыши на другую, создавали ощущение какого-то волшебного воздушного сводчатого потолка; с мостиков во множестве свешивались какие-то вьющиеся растения, покрытые красными цветами, и во все стороны торчали длинные шесты с птичьими клетками, и птицы в этих воздушных зарослях чувствовали себя, как в саду, да и все это в целом казалось дивным садом, повисшим между небом и землей.
«Ах, как жаль, что Техану не может этого видеть!» — думала Тенар. Но о самой Техану или о том, где та сейчас находится, она старалась не думать.
Речной Дворец, как и Новый Дворец, были построены королевой Геру пять столетий назад. Речной Дворец лежал в руинах, когда Лебаннен взошел на трон; и он тщательнейшим образом отстроил его заново. Теперь это было прелестное тихое местечко, комнаты изысканно обставлены, но просторны и не загромождены мебелью; на темных, отполированных до блеска полах никаких ковров. Ряды узких застекленных дверей легко позволяли той или иной комнате превратиться в веранду, одной стороной выходящую на поросший ивами берег реки, и достаточно было сделать шаг, чтобы оказаться на широком деревянном балконе, нависшем над самой водой. Придворные дамы рассказали Тенар, что это самое любимое место короля, он порой незаметно ускользает сюда, чтобы провести здесь ночь в одиночестве или с очередной возлюбленной. А потому, намекали дамы, неспроста, видно, Лебаннен поселил принцессу именно в Речном Дворце! Что же касается самой Тенар, то она была уверена, что Лебаннен просто не захотел оставаться с принцессой под одной крышей и поселил ее в первое же пришедшее ему на ум место, которое вполне соответствовало бы ее статусу. Хотя кто знает, может быть, придворные дамы и правы?
Стражники в сияющих доспехах, разумеется, тут же узнали Тенар и пропустили ее. Лакеи, объявив принцессе о ее приходе, прихватили с собой мальчика-пажа и отправились грызть орехи и сплетничать, что, похоже, составляло их основное занятие. Приветствовать гостью вышли придворные дамы. Дамы скучали здесь и были рады любому гостю, который мог им поведать хоть какие-то новости о походе короля против драконов. Тенар пришлось испить эту чашу до дна, и только тогда наконец дамы отпустили ее и проводили в покои принцессы.
Во время двух предшествующих кратких визитов ее сперва заставляли, правда некоторое время, ждать в приемной, а потом служанки с закутанными в покрывала лицами провожали ее в будуар принцессы — единственную темную комнату во всем этом просторном доме, полном воздуха и света. И принцесса всегда стояла посреди этой темной комнаты в своей нелепой шляпе с широкими полями, с которых до самого пола свисало красное покрывало, и выглядела так, словно ее прибили к этому месту гвоздями. В такие минуты она действительно своей неподвижностью напоминала кирпичную каминную трубу, как справедливо заметила леди Йеса.
Но на этот раз все было по-другому. Как только Тенар вошла в приемную, где-то далеко раздался пронзительный визг и топот ног, словно кричавшие люди разбегались в разные стороны. Потом в дверь буквально влетела принцесса и с диким криком, широко раскинув руки, бросилась к Тенар и крепко ее обняла. Тенар была маленького роста, и принцесса, девушка высокая и сильная, да еще и чем-то перепуганная, чуть не сбила ее с ног, однако успела подхватить и буквально удержала на весу своими сильными руками.
— О, госпожа Ара, госпожа Ара! Спасите, спасите меня! — кричала принцесса.
— А что случилось?
Принцесса разрыдалась — то ли от неведомого ужаса, то ли от облегчения, то ли от того и другого сразу. Тенар из ее нечленораздельных и горестных жалоб и просьб удалось понять лишь отдельные слова насчет дракона и жертвы.
— Никаких драконов рядом с Хавнором нет, — строго сказала она, высвобождаясь из объятий принцессы. — И никого здесь в жертву не приносят. И вообще, о чем идет речь? Что тебе такого наговорили?
— Эти женщины сказали, что сюда летят драконы и что в жертву им принесут королевскую дочь, а вовсе не козу, потому что они колдуны, и я очень испугалась! — Выпалив все это, принцесса вытерла слезы, сжала кулаки и изо всех сил постаралась взять себя в руки. Она была действительно охвачена ужасом, неподдельным и неуправляемым. Тенар стало жаль ее. Однако она не позволила себе проявить эту жалость. Этой девочке пора научиться вести себя достойно в любой ситуации!
— Твои служанки невежественны и плохо знают здешний язык, так что просто ничего не поняли и черт знает что тебе наговорили! — сердито сказала Тенар. — Между прочим, сама ты и вовсе не знаешь ни слова по-ардически. А если б знала, то сразу поняла бы, что бояться нечего. Разве ты видела, чтобы кто-нибудь еще здесь метался от страха с воплями и слезами?
Принцесса не сводила с Тенар глаз. На сей раз на ней не было ни дурацкой шляпы, ни покрывал, она была одета в легкий воздушный наряд, ибо день был жаркий, и Тенар впервые видела перед собой не какой-то неясный силуэт под бесчисленными красными покрывалами. Принцесса была удивительно хороша собой, хотя глаза ее и опухли от слез, а лицо было покрыто красными пятнами. Рыжевато-каштановые волосы, карие с рыжими искорками глаза, округлые плечи и руки, полные красивые груди, тонкая гибкая талия — короче, прелестная юная женщина в самом расцвете своей красоты и силы.
— Но ведь никого из этих людей и не собираются приносить в жертву, — промолвила она наконец нерешительно. — Только меня!
— Никаких жертв! — отрезала Тенар.
— Но тогда зачем же сюда летят драконы? Тенар тяжело вздохнула, набралась терпения и сказала:
— Знаешь, девочка, нам с тобой нужно обсудить множество самых различных вещей. И если ты станешь воспринимать меня как своего друга…
— А я и воспринимаю! — воскликнула принцесса и что было сил стиснула правую руку Тенар. — Ты и есть мой друг, у меня никаких других друзей нет, и я готова пролить ради тебя свою кровь!
И, как бы смешно это ни звучало, Тенар знала: она говорит чистую правду.
Она постаралась столь же крепко пожать девушке руку и сказала:
— Хорошо. Значит, мы с тобой друзья. Назови же мне свое имя.
Принцесса широко распахнутыми глазами смотрела на нее. Из носа у нее все еще немного подтекало, верхняя губа была прикушена, а нижняя дрожала. Судорожно, как ребенок, вздохнув, она произнесла:
— Сесеракх.
— Вот и отлично, Сесеракх. А меня зовут не Ара, а Тенар.
— Тенар, — повторила девушка и еще крепче сжала ее руку.
— А теперь, — Тенар говорила очень медленно и спокойно, пытаясь полностью овладеть обстановкой, — вели подать мне напиться. Я пришла издалека, и меня мучает жажда. И давай-ка присядем. Я немного передохну, а потом мы обо всем поговорим.
— Я сейчас! — крикнула принцесса и в несколько прыжков оказалась за дверью. Точно молодая львица на охоте, подумала Тенар. Где-то во внутренних помещениях послышались окрики и плач, затопали бегущие ноги, потом появилась одна из служанок принцессы, дрожащими руками поправила свое покрывало и что-то забормотала на таком дремучем северном диалекте, что Тенар понять ее оказалась не в силах.
— Говори на здешнем языке! — донесся откуда-то из дальней комнаты голос принцессы, и служанка жалобно пискнула на ардическом:
— Сидеть, пить, госпожа?
Вскоре принесли два кресла и установили их ровно посреди темноватой и душной комнаты — одно напротив другого. Следом явилась Сесеракх и встала возле одного из кресел.
— Знаешь, дорогая, я бы предпочла выйти на воздух и посидеть где-нибудь в тени, у воды, — сказала Тенар. — Если, конечно, это доставит удовольствие и тебе, госпожа моя.
Принцесса снова что-то рявкнула, женщины заметались, кресла перенесли на просторный балкон, и Тенар с принцессой наконец уселись там рядышком.
— Так безусловно лучше, — удовлетворенно сказала Тенар. Ей все еще казалось немного странным, что она говорит по-каргадски. Это не доставляло ей ни малейших трудностей или неудобств, однако она чувствовала себя актрисой, хорошо играющей свою роль.
— Неужели ты любишь воду? — спросила принцесса. Ее лицо уже успело приобрести свой естественный цвет — цвет густых сливок; глаза тоже больше не были припухшими и оказались не карими, а золотисто-голубыми или, точнее, голубыми с золотистыми крапинками.
— Да, очень. А ты нет?
— Я ее ненавижу! Там, где я жила, воды не было.
— Ты жила в пустыне? Я тоже. До шестнадцати лет. А потом я пересекла море и приплыла на западные острова. Я очень люблю всякую воду — море, реки, ручьи.
— Ой, море! — Сесеракх даже поежилась и закрыла лицо руками. — До чего же я его ненавижу! На корабле меня все время выворачивало наизнанку. Без конца! День за днем, день за днем. Нет, я даже видеть никогда не желаю это море! — Она быстро глянула сквозь ветви ив на спокойную мелкую реку под ними. — Ну, эта вот река еще ничего, — с некоторым недоверием сказала она.
Служанка принесла поднос, на котором стоял кувшин с холодным питьем и чашки. И Тенар наконец-то напилась вдоволь.
— Принцесса, — сказала она, — мне нужно о многом рассказать тебе. Во-первых, драконы по-прежнему находятся отсюда довольно далеко, на Дальнем западе. Во-вторых, король Лебаннен и моя дочь Техану отправились с ними на переговоры.
— На ПЕРЕГОВОРЫ? С драконами?!
— Да. — Тенар хотела было объяснить поподробнее, но передумала и сказала: — А теперь расскажи мне, пожалуйста, о драконах с Гур-ат-Гура.
Еще девочкой на Атуане Тенар слышала о том, что на острове Гур-ат-Гур есть драконы. Драконы угрожали тамошним жителям в горах, а разбойники — в пустыне. Гур-ат-Гур был остров бедный и очень далекий, и оттуда ничего хорошего никогда не привозили, разве что опалы, бирюзу и кедровые бревна.
Сесеракх глубоко и горько вздохнула и понурилась. На глазах у нее опять показались слезы.
— Это я просто о доме вспомнила, — попыталась оправдаться она и сказала это так по-детски искренне, что и у Тенар на глаза тоже навернулись слезы. — Ну, драконы вообще-то живут высоко в горах. В двух или трех днях пути от Месретха. Там кругом одни скалы, и никто этих драконов не тревожит, и они тоже никого не тревожат. Но раз в год они спускаются со своих вершин, сползают на животе по какой-то особой тропе. Тропа эта совершенно мягкая, потому что покрыта толстым слоем пыли — они ведь сползают по ней с начала времен. Эта тропа так и называется: Путь Драконов. — Принцесса видела, что Тенар слушает с величайшим вниманием, а потому вдохновенно продолжала: — Пересекать Путь Драконов запрещено. Это табу. На эту тропу человеку даже ступить нельзя! Ее нужно обходить как можно дальше, с южной стороны от того места, где совершаются жертвоприношения. Драконы начинают сползать вниз в конце весны. На четвертый день пятого месяца года они все собираются возле жертвенных камней. Никто из них никогда не опаздывает. И все жители Месретха и окрестных деревень тоже собираются там и ждут их. А когда они все наконец спустятся по Пути Драконов, жрецы приступают к жертвоприношениям. И это… А у вас на Атуане разве не совершаются весенние жертвоприношения? Тенар покачала головой.
— Я ведь поэтому так и испугалась, — сказала Сесеракх. — Понимаешь, в жертву ведь могут и людей приносить! А если дела идут совсем плохо, то жрецы приносят в жертву королевскую дочь. В иных случаях это бывает обыкновенная девушка, но жрецы давно уже этого не делали. Во всяком случае, в последний раз это случилось, когда я была еще совсем маленькая. С тех пор как мой отец победил всех остальных правителей, жрецы приносили в жертву только одну козу и одну овцу. Они собирали кровь жертвенных животных в чаши, а жир бросали в священный костер и взывали к драконам. И все драконы собирались, пили кровь и глотали огонь костра. — Сесеракх даже на мгновение зажмурилась. Тенар тоже. — А потом драконы возвращались к себе, в горы, а мы — в Месретх.
— А эти драконы были очень большие? Сесеракх раскинула руки примерно на метр в каждую сторону.
— Вот такие. Иногда и больше, — сказала она.
— А они умеют летать? Или говорить?
— Ой, нет! У них даже и не крылья, а просто такие… отростки. И они издают что-то вроде шипения, а говорить не умеют, как и все прочие животные. Хотя, конечно, драконы — животные священные. У нас дракон — это знак жизни, потому что огонь — это сама жизнь, а драконы глотают огонь и плюются огнем. И они священны, потому что приходят на весеннее жертвоприношение. Даже если никто из людей не придет, драконы все равно обязательно соберутся в этом месте! А мы приходим туда, потому что так делают драконы. Жрецы всегда разъясняют нам это перед тем, как совершить жертвоприношение.
Тенар некоторое время обдумывала услышанное, потом сказала:
— Здесь, на западе, драконы гораздо крупнее. Они просто огромные и умеют хорошо летать. Может быть, это действительно животные, но они умеют говорить! И тоже в какой-то степени считаются священными. И они очень опасны!
— Ну да, — подхватила принцесса, — я тоже думаю, что драконы, хоть они и животные, гораздо больше похожи на нас, людей, чем эти проклятые колдуны!
Она произнесла «проклятые колдуны» скороговоркой, как одно слово и без какого-либо конкретного ударения в той или иной его части. Тенар помнила эти слова с раннего детства. Этими словами обозначали Темный народ, людей с ардических островов Архипелага.
— Это почему же? — спросила Тенар принцессу.
— Потому что драконы могут возрождаться! Как и все животные. Как и мы. — Сесеракх смотрела на Тенар с искренним удивлением. — А я думала, что раз ты была жрицей в самом Святом Месте, в Гробницах, то должна знать об этом куда больше, чем я!
— Нет, у нас там никаких драконов не было, — сказала Тенар. — И мне ничего о них не рассказывали, и я совсем ничего о них не знала.
Пожалуйста, дорогая, расскажи мне то, чему учили тебя.
— Ну… надо сперва постараться припомнить все по порядку… Это ведь зимняя история, но, я думаю, ее вполне можно рассказать и летом: все равно ведь здесь, у вас, все неправильно! — Сесеракх вздохнула. — Итак, в самом начале, как ты знаешь, все мы были одним народом — все люди и все животные. И делали одно и то же. А потом мы научились умирать и возрождаться в разных обличьях — иногда в образе одного живого существа, иногда — совсем другого. Но особого значения это не имело, потому что, так или иначе, все равно умрешь, возродишься и сможешь стать кем угодно.
Тенар кивнула. Пока что эта история была ей хорошо знакома.
— Но лучше всего возрождаться, как возрождаются люди и драконы, — продолжала Сесеракх, — потому что драконы — существа священные. Вот все и стараются не нарушать запретов и обязательно соблюдать предписания жрецов, благодаря которым у человека больше шансов возродиться в человечьем обличье или уж, по крайней мере, в обличье дракона. Если, как ты говоришь, драконы здесь огромные и умеют говорить, то, по-моему, если возродишься в таком обличье, это нужно воспринимать даже как некое вознаграждение. Потому что стать одним из наших драконов не такая уж большая радость, во всяком случае, мне всегда так казалось.
Но самое главное — это то, что ПРОКЛЯТЫЕ КОЛДУНЫ в итоге обнаружили Ведурнан. Это такая вещь… Я, в общем-то, и не знаю толком, что это такое. Ведурнан говорил людям, что если они согласятся никогда не умирать и никогда не возрождаться, то смогут научиться творить всякое волшебство. И эти люди выбрали именно такую судьбу, выбрали Ведурнан. И отправились на запад. И Ведурнан и волшебство сделали их темными. И с тех пор они живут здесь, на западных островах. Все здешние люди — это потомки тех, кто выбрал Ведурнан. Они могут творить свое ПРОКЛЯТОЕ колдовство, но умереть они не могут. И возродиться тоже. Умирают только их тела. А остальное остается в темном месте и никогда больше не возрождается. И они похожи на птиц. Но летать не могут.
— Да-да… — прошептала Тенар.
— Неужели вы ничего не знали об этом на своем Атуане?
— Нет.
Тенар мысленно вспоминала историю, которую Женщина с острова Кемей некогда рассказала Огиону. О том, что в самом начале времен люди и драконы были единым народом, а потом разделились, и драконы выбрали дикую жизнь и свободу, а люди — богатство, власть и оседлость. Произошло Великое Разделение. А может, это та же самая история?
Но перед ее мысленным взором стоял иной образ: Гед, сидящий на корточках в каменной комнатке, и голова у него птичья — маленькая, черная, с хищным клювом…
— Ведурнан — это ведь не Кольцо, о котором тут все твердят, правда? Все говорят, что я буду должна носить его.
Тенар с огромным трудом вернулась к действительности, оторвавшись от воспоминаний о Расписной Комнате и своем вчерашнем сне, и переспросила:
— Кольцо?
— Ну да, Кольцо Уртакби.
— Эррет-Акбе. Это Кольцо Мира, Сесеракх. И ты будешь носить его только в том случае, если станешь здешней королевой, женой короля Лебаннена. Между прочим, ты стала бы счастливейшей из женщин, выйдя за него замуж!
Выражение лица Сесеракх невозможно было истолковать как-то однозначно. Оно не было сердитым или язвительным. Скорее оно было безнадежным, но каким-то забавно безнадежным и очень терпеливым — в общем, лицо женщины лет на двадцать-тридцать старше.
— Никакого особого счастья в этом нет, дорогая Тенар, — с горечью промолвила она. — И удачи тоже. Я знаю, что должна выйти за него замуж. И погибнуть.
— Это почему же ты погибнешь, выйдя за него замуж?
— Если я выйду за него замуж, то должна буду, конечно же, назвать ему свое имя. А он, всего лишь произнеся мое имя вслух, украдет мою душу. Именно так всегда поступают проклятые колдуны! И именно поэтому сами они всегда свои имена скрывают! Но если он украдет мою душу, я не смогу умереть. Я буду вынуждена жить вечно, но лишенная тела — точно птица, которая не может летать, — и никогда не смогу возродиться!
— Так ты поэтому скрывала свое имя?
— Но я же назвала его тебе, дорогая Тенар!
— Да, конечно, и это драгоценнейший дар для меня, милая принцесса! — пылко заверила ее Тенар. — Но ты можешь сказать свое имя здесь любому, кому захочешь. Никто здесь не может украсть твою душу, поверь. И Лебаннену ты можешь вполне доверять. Он никогда… никогда не сделает тебе ничего дурного.
Однако девушка заметила ее запинку.
— Но он очень этого хотел бы! — запальчиво возразила она. — Ах, Тенар, дорогой мой друг, я знаю, кто я такая! В том большом городе Авабатхе, где живет мой отец, я была всего лишь глупой, невежественной женщиной, которую привезли в столицу из пустыни. Этакой «фейягат». Столичные дамы фыркали, переглядывались и толкали друг дружку локтями, стоило им меня увидеть. Ох уж эти шлюхи с обнаженными лицами! А здесь еще хуже. Я не могу понять, что за бессмыслицу бормочут эти люди и почему они не говорят нормально! И все, все здесь совсем не такое, как у нас! Я не знаю даже, что за еду мне предлагают. А питье! Должно быть, это какое-то колдовское питье — от него у меня кружится голова. Я не знаю здешних запретов и правил, и здесь нет ни одного жреца, у которого я могла бы спросить, как себя вести. Вокруг меня только женщины-колдуньи, все черные и с обнаженными лицами! И потом, я заметила, как король смотрел на меня. Знаешь, когда ты «фейягат», то всегда можешь это почувствовать по лицам других! Я же видела его лицо. Да, он очень хорош собой, он похож на воина, но он черный, он колдун, и он меня ненавидит! И не говори, что это не так, потому что я знаю: ненавидит! И, наверное, как только он узнает мое имя, то сразу отошлет мою душу в то страшное место!
Помолчав, любуясь тонкими ветвями ив, качающимися над спокойно текущей рекой, и чувствуя в душе усталость и печаль, Тенар сказала:
— В такой ситуации, милая принцесса, тебе нужно прежде всего научиться заставлять других любить тебя. И в первую очередь — короля. Ничего другого тебе не остается.
Сесеракх безнадежно пожала плечами и промолчала.
— Очень помогло бы, например, если бы ты понимала его язык, — продолжала Тенар.
— Багабба-багабба! Это же не язык, а тарабарщина какая-то!
— Это просто совсем другой язык. Наш язык для них тоже звучит как тарабарщина. Ну, хватит горевать, принцесса! Подумай лучше, как ты можешь ему понравиться. Неужели ты способна сказать ему только это «багабба-багабба»? Вот смотри, — и Тенар вытянула одну руку, указала на нее другой рукой и сказала «рука» сперва на каргадском языке, а потом на ардическом.
Сесеракх старательно повторила оба слова. После нескольких вполне успешных попыток выучить названия частей тела она, вдруг осознав великие возможности перевода с одного языка на другой, приободрилась, села прямо и с любопытством спросила:
— А как на этом колдовском языке будет «король»?
— Агни. Это слово из Древнего Языка. Я узнала его от своего мужа.
И, уже сказав это, Тенар поняла, что глупо на данном этапе примешивать к процессу обучения еще и какой-то неведомый третий язык. Однако принцесса, казалось, не обратила на слова «Древний Язык» никакого внимания. Ее потрясло другое.
— У тебя есть муж? — Сесеракх уставилась на Тенар своими светящимися глазами львицы и громко рассмеялась. — О, как это замечательно! А я-то думала, что ты жрица! Ой, пожалуйста, Тенар, дорогая, расскажи мне о нем! Он воин? А он красивый? А ты его любишь?
Когда король уехал охотиться на драконов, Олдер совсем растерялся. Он просто не знал, куда ему деть себя, что делать, и чувствовал себя абсолютно бесполезным, неоправданно долго живущим в роскоши, в королевском дворце и к тому же виновным в беспокойстве, которое причинил всем своими историями. Он был не в состоянии целый день сидеть у себя в комнате и уходил в город, однако великолепие и бурная деловая жизнь столицы действовали на него угнетающе, и он, не имея ни денег, ни конкретной цели, мог только одно: бродить и бродить без конца по улицам, пока держат ноги. И каждый раз, возвращаясь во дворец Махариона, удивлялся, что стражники с суровыми лицами спокойно пропускают его. Лучше всего он чувствовал себя во дворцовом парке. Ему очень хотелось снова встретить там мальчика Роди, но тот не появлялся, и, возможно, это было даже к лучшему. Олдер считал, что с людьми ему разговаривать вообще не стоит, ибо те руки, что так стремились дотянуться до него из царства смерти, вполне могли дотянуться и до них.
На третий день после отъезда Лебаннена Олдер спустился в сад, чтобы погулять среди прудов и фонтанов. День был очень жаркий, а вечер тихий и душный. Олдер взял с собой Буксирчика и позволил котенку побегать и половить насекомых, а сам сел на скамью под раскидистой ивой и стал смотреть на воду, в которой мелькала порой серебристая чешуя жирных карпов. Он ощущал себя очень одиноким и несчастным, чувствовал, как слабеет та защитная стена, что отделяет его от тянущихся к нему рук мертвых, от их голосов. Да и пребывание здесь в конце концов не принесло ему никакого облегчения. Может быть, ему стоит просто нырнуть в тот сон и навсегда в нем исчезнуть? Спуститься вниз по склону холма и раствориться во тьме? Никто на свете о нем не пожалеет, зато его смерть избавит многих от этой странной «болезни», которую он принес с собой. А у живых и без него забот хватит. Особенно теперь, когда, возможно, предстоит война с драконами. К тому же в темной стране он может снова встретить Лили…
Если он тоже будет мертв, то они не смогут даже коснуться друг друга. Все волшебники утверждают, что им этого даже и не захочется. Они говорят также, что мертвые забывают, что значит быть живым. Но ведь Лили тогда коснулась его! Она его поцеловала! Что, если они все-таки — пусть ненадолго — вспомнят, что такое жизнь, увидят друг друга, даже если и не смогут друг друга коснуться?..
— Олдер!
Он медленно поднял глаза и увидел рядом женщину. Маленькую седую женщину. Тенар. В ее глазах он прочел самое искреннее сочувствие и грусть, но никак не мог понять, чем она так расстроена. Потом вспомнил: ее дочь, та девушка с обожженным лицом, уехала вместе с королем. Возможно, оттуда пришли дурные вести. А что, если все они погибли?
— Ты не болен, Олдер? — участливо спросила его Тенар.
Он покачал головой. Говорить ему было тяжело. Ах, как легко было бы в той, другой стране! Не нужно ни с кем говорить. Не нужно встречаться ни с кем глазами. Не нужно ни о чем беспокоиться…
Тенар тоже присела на скамью.
— Тебя явно что-то тревожит, — сказала она. Он только рукой махнул — да нет, все в порядке, не обращай внимания.
— Ты ведь какое-то время жил на Гонте, у моего мужа Ястреба. Как он там? О себе-то заботится?
— Да, — с трудом вымолвил Олдер. И тут же заставил себя ответить получше: — Он был для меня самым лучшим, самым гостеприимным хозяином!
— Рада это слышать, — кивнула она. — Я вообще-то о нем беспокоюсь. Он умеет вести дом и все хозяйство не хуже меня, и все же я очень не люблю оставлять его одного… Прошу тебя, скажи, чем он занимался, пока ты был там?
Он рассказал ей, что Ястреб собрал сливы и продал их в деревне, что они вместе чинили ограду, что Ястреб помогал ему спать, а потом придумал эту штуку с котенком…
Тенар слушала внимательно, серьезно, словно все эти мелочи были невероятно важны, не менее важны, чем те странные события, о которых они говорили здесь три дня назад, — о мертвых, взывающих к живому, о девушке, превратившейся в дракона, о драконах, сжигающих западные острова.
Но Олдер действительно не смог бы сказать, что, в конце концов, имеет для него больший вес: дела великие, но непонятные и странные или самые обычные, повседневные дела.
— Мне бы так хотелось сейчас уехать домой! — сказала Тенар.
— Мне тоже, только вряд ли это было бы хорошо. Я думаю, мне лучше никогда домой не возвращаться. — Олдер и сам не знал, зачем сказал это, но, слыша собственный голос, решил, что сказанные им слова в высшей степени справедливы.
Тенар с минуту смотрела на него своими спокойными серыми глазами, словно желая что-то спросить, но так ничего и не спросила.
— А еще мне хочется, чтобы и моя дочь вернулась домой со мною вместе, — сказала она. — Но, видно, зря я на это надеюсь. Я понимаю, она должна идти дальше. Но не знаю — куда!
— А ты не могла бы объяснить мне, что это за дар, которым она обладает? И что она за женщина такая, что сам король послал за нею и взял ее с собой на переговоры с драконами?
— Ох, если б я сама это знала! — воскликнула Тенар голосом, полным любви, печали и затаенной горечи. — Тогда бы я, конечно же, рассказала тебе об этом. Она ведь не родная дочь мне, как ты, наверно, уже догадался или узнал. Она попала ко мне совсем малышкой. Мы тогда буквально вытащили ее из огня, да только спасти ее удалось с превеликим трудом… И следы все-таки остались. Когда мы с Ястребом стали жить вместе, Техану стала и его дочерью тоже. А потом именно она спасла нам жизнь, спасла нас обоих от страшных мучений, призвав на помощь дракона Калессина, которого еще называют Старейшим. И этот дракон называл ее дочерью! Так что Техану — дитя многих и никого конкретно. Кто она такая на самом деле, я, возможно, не узнаю никогда. Но мне все равно. Больше всего сейчас мне хочется, чтобы она была здесь, рядом со мной, в безопасности!
Олдеру очень хотелось подбодрить ее, успокоить, однако и его собственная душа сейчас слишком сильно нуждалась в поддержке.
— Расскажи мне немного о твоей жене, Олдер, — попросила вдруг Тенар.
— Я не могу, — сказал он в той тишине, что так легко лежала меж ними. — Я бы непременно рассказал, если б мог, госпожа Тенар! У меня сегодня так тяжело на душе, меня терзает такой страх, что я пытаюсь думать о Лили, но вижу только ту темную пустыню, склон того холма, уходящий во тьму, и не могу разглядеть ее среди других теней. Все воспоминания о ней, которые были для меня все равно что воздух и вода, ушли в эту сухую землю! У меня ничего не осталось.
— Ох, прости, — прошептала она, и оба снова некоторое время сидели в полной тишине и молчании. Сумерки сгущались. По-прежнему было очень тепло, не чувствовалось ни малейшего ветерка. Горевшие во дворце огни просвечивали сквозь резные ставни на окнах и поникшие ветви плакучих ив.
— Что-то происходит, — сказала Тенар. — Я чувствую: в мире происходят великие перемены. И, возможно, скоро не останется ничего из того, что мы помнили и знали.
Олдер посмотрел в темнеющие небеса, на фоне которых отчетливо выделялись башни дворца; белый мрамор и алебастр, казалось, впитали в себя дневной свет и те последние закатные лучи, которые еще просачивались из-за западного горизонта. Олдер отыскал глазами меч, вознесенный на вершину самой высокой башни, и увидел, как его острие слабо светится серебром.
— Смотри! — воскликнул он. На самом конце этого острия сияла звезда — точно бриллиант или капля воды. И пока они, не отрываясь, смотрели на это чудо, звезда потихоньку отделилась от меча и, поднявшись чуть выше, повисла прямо над ним.
Вдруг они услышали, что во дворце поднялся переполох, а за стенами его звучат громкие голоса, звуки горна, кто-то громким голосом отдает приказы.
— Они вернулись! — Тенар вскочила. Воздух наполнился тревожным возбуждением. Олдер тоже вскочил, и они бросились во дворец, но Олдер, прежде чем сунуть котенка за пазуху, все же еще раз взглянул на тот меч, теперь похожий на слабо мерцающий лучик света, и на звезду, что плыла, ярко сияя, прямо над ним.
Действительно, «Дельфин» на всех парусах влетел в гавань. Несмотря на душную летнюю ночь и полный штиль, волшебный ветер туго надувал его паруса. Никто во дворце не ожидал, что король вернется так скоро, однако же все было готово к его появлению в любой момент; нигде не наблюдалось ни малейшего беспорядка. На пристань мгновенно высыпали придворные, свободные от службы гвардейцы и простые горожане. Все были рады приветствовать своего короля, а песенники и арфисты уже готовились слушать историю о том, как он бился с драконами и победил их, чтобы потом сочинять об этом песни и баллады.
Однако встречавших постигло разочарование: король и сопровождавшие его лица направились прямиком во дворец, а гвардейцы и моряки с корабля повторяли одно и то же: «Они поднялись прямо в горы от песчаных отмелей Онневы, а через два дня вернулись. Волшебник Оникс даже специально послал к нам почтового голубя с приказом короля спуститься к выходу из залива, хотя сперва предполагалось, что мы встретимся с ними в Южном порту. Когда мы подошли к условленному месту в устье реки, они уже поджидали нас. И были целехоньки! Мы видели, как горят леса над южным Фалиерном, и очень беспокоились».
Тенар тоже была среди собравшихся на пристани, и Техану бросилась к ней и крепко ее обняла. Но, когда они уже поднимались по улице ко дворцу, а вокруг мелькали огни и слышались радостные крики, Тенар по-прежнему думала: «Все переменилось. И она переменилась. Она никогда не вернется домой!»
Лебаннен шел, окруженный стражей. Напряженный и энергичный, он выглядел весьма воинственно и весь будто светился. «Эррет-Акбе! — кричали из окон люди, видя его. — Сын Морреда!» На ступенях королевского крыльца он обернулся — лицом сразу ко всей толпе, — и его звучный голос перекрыл крики и прочий шум.
— Слушайте меня, жители Хавнора! Эта Женщина с Гонта выступила в нашу защиту, призвав к себе самого главного из драконов, нападающих на побережье Хавнора! Они условились о перемирии, и вскоре один из драконов прилетит к нам, в столицу. Да, во дворец Махариона прилетит дракон! Но не для того, чтобы его разрушить, а для того, чтобы договориться с людьми. Пришло время, когда люди и драконы должны встретиться и спокойно поговорить. Предупреждаю вас: когда увидите летящего сюда дракона, не бойтесь и не стремитесь с ним сразиться. Не убегайте, не прячьтесь, а приветствуйте его в знак мира. Приветствуйте его так, как приветствовали бы великого правителя, который с миром прибыл к нам из далекой страны. И ничего не бойтесь! Ибо мы хорошо защищены мечом Эррет-Акбе, Кольцом Эльфарран и именем Морреда. И я своим собственным именем клянусь, что до конца своей жизни буду защищать и свою столицу, и свое королевство!
Люди слушали Лебаннена затаив дыхание. Когда же он повернулся и легкими широкими прыжками стал подниматься по лестнице, разразились приветственными криками и радостными восклицаниями.
— Я подумал, что лучше все же как-то предупредить их, — сказал он самым обычным голосом, обращаясь к Техану, и та молча кивнула. Он советовался с ней, как с другом, как с боевым товарищем, и она вела себя с ним соответственно. Тенар и находившиеся поблизости придворные не могли не заметить этого.
Лебаннен приказал собрать завтра, в четыре часа утра, полный Королевский Совет, и все разошлись, а он ненадолго задержал Тенар и сказал вслед удалявшейся Техану:
— Это она нас защищает!
— Одна?
— Не бойся за нее. Она дочь дракона и сестра драконов. Ей доступны такие дали, куда нам путь заказан. Не бойся за нее, Тенар!
И она склонила голову, принимая его заверения.
— Благодарю тебя, что привез ее ко мне невредимой, — сказала она. — Пусть хоть ненадолго.
Они были в эти минуты одни в том коридоре, что вел в западные покои дворца. Тенар подняла на короля глаза и сказала:
— Я поговорила о драконах с принцессой.
— С принцессой? — непонимающе переспросил он.
— У нее есть имя. Я не могу назвать его тебе, пока она верит, что ты способен им воспользоваться, чтобы уничтожить ее душу.
Лебаннен нахмурился, но промолчал.
— Дело в том, — продолжала Тенар, — что на острове Гур-ат-Гур издавна живут драконы. Довольно маленькие, по словам принцессы, и бескрылые. И говорить они тоже не умеют. Но они там считаются существами священными. Этаким живым символом смерти и непременного возрождения. Принцесса, кстати, напомнила мне, что мой народ после смерти не уходит в ту страну, о которой рассказывает Олдер. Нет, мы уходим совсем не туда! И эта принцесса, и я, и драконы — все мы после смерти вновь обретем жизнь!
Лицо Лебаннена было исполнено самого пристального внимания.
— Гед задавал эти вопросы Техану, — очень тихо сказал он. — Неужели это ответ?
— Я рассказываю только то, о чем принцесса напомнила мне. И сегодня же непременно поговорю об этом с Техану.
Лебаннен снова нахмурился, явно размышляя. Потом его лицо прояснилось, он наклонился, поцеловал Тенар в щеку, пожелал ей спокойной ночи и быстрыми шагами пошел прочь. А она еще долго смотрела ему вслед.
Тронный зал был старейшим залом дворца еще при Махарионе. А во времена Гемаля, Морем Рожденного, принца Дома Илиен, впоследствии ставшего королем Хавнора, это был самый главный зал дворца. Потомками Гемаля были и королева Геру, и ее сын Махарион. В одном из многочисленных хавнорских лэ есть такие строки:
Сотня воинов и сотня женщин
За стол садились в Тронном зале
Гемаля, что рожден был морем.
И сыновья родов древнейших
Изысканно вели беседу.
Нет в мире воинов храбрее!
И в мире нет прекрасней женщин!
Этот зал являлся как бы центром всего дворца, и вокруг него более ста лет наследники Гемаля размещали другие залы, соединяя их переходами, и дворец все разрастался, пока Геру и Махарион не построили самую высокую башню, Алебастровую, или Башню Королевы, которая потом стала называться Башней Меча.
Всем этим башням было уже много веков, однако жители Хавнора упорно называли все это вместе Новым Дворцом, — собственно, «Новым» дворец стали называть со дня смерти Махариона. На самом деле, когда начал править Лебаннен, дворец был очень стар и наполовину разрушен. Он перестроил его практически полностью, не жалея средств. Купцы с Внутренних островов, ошалев от радости, что у них наконец появился настоящий король и настоящие законы, способные защитить их, сами стали платить королю необычайно высокую торговую пошлину, а кроме того, предлагали дешево или бесплатно самые различные строительные материалы для дворца. И в течение нескольких первых лет даже ни разу не пожаловались на слишком высокие налоги и на то, что, мол, дети их останутся нищими. Все это оказалось очень кстати, и Лебаннен сумел сделать Новый Дворец действительно новым и прекрасным. Однако Тронный зал — сменив в нем лишь сгнившие балки и покрыв слоем свежей штукатурки старинные каменные стены, а также вставив стекла в узкие, расположенные почти под потолком окна, — он оставил во всей его невзрачной и мрачноватой неприкосновенности.
Во времена краткого правления представителей различных лжединастий, а также в Темные Годы, когда страной правили тираны и узурпаторы, выдержав все катаклизмы, королевский трон так и остался стоять на возвышении в дальнем конце длинного зала. Трон был деревянный, с высокой спинкой; некогда он был обит золотом, но теперь, разумеется, золота не осталось и в помине; вынули даже мелкие золотые гвозди, оставив в дереве дырочки; впрочем, кое-где гвозди все же застряли в древесине, особенно там, где золотую обшивку пришлось отдирать, что называется, «с мясом». Шелковые подушки и занавеси были украдены или сожраны молью, мышами и плесенью. И невозможно было даже представить себе, как выглядел этот трон когда-то. Неизменным осталось только место, где он стоял, да резьба на спинке — летящая цапля с веточкой ясеня в клюве, символ Дома Энлада.
Первые короли этого Дома прибыли с Энлада на Хавнор восемьсот лет назад. Там, где высится трон Морреда, говорили они, и есть наше королевство.
Лебаннен велел вычистить трон, заменить все сгнившие деревянные детали, покрыть дерево несколькими слоями олифы и отполировать, и трон снова засиял, точно темный атлас. Однако Лебаннен оставил его некрашеным, не стал обивать золотом и класть на него шелковые подушки — оставил его, можно сказать, голым. Кое-кто из богатых людей, приходивших полюбоваться заново отстроенным дворцом, был недоволен видом Тронного зала и самого трона. «Как в амбаре! — презрительно восклицали они. — Неужели это трон великого Морреда? Больше похоже на любимое кресло старого фермера!» А Лебаннен на это отвечал: «Что за королевство без амбаров! Ведь крестьяне со своими амбарами его и кормят!» Другие, правда, утверждали, что он говорил не так: «Неужели все мое королевство — лишь пустячная игрушка из золота и бархата? Или все же оно покоится на прочном фундаменте из бревен и камня?» А третьи считали, что Лебаннен и вовсе не стал отвечать на замечания недовольных, разве что сказал, что «ему так нравится». И продолжал своими королевскими ягодицами усаживаться на жесткий, не покрытый ни коврами, ни подушками трон. Так что критикам его все равно не дано было сказать в этом споре последнее слово.
Вот в этот-то строгий зал с балками под потолком в конце лета, ранним холодным утром, окутанным морскими туманами, вереницей вошли члены Королевского Совета: девяносто один человек, мужчины и женщины. Их должно было быть сто, но в полном составе им никогда не удавалось собраться. Все эти люди были выбраны королем. Одни из них представляли знатные княжеские дома Внутренних островов, давно присягнувшие королю и короне; другие стремились выразить интересы отдельных островков и городов. Некоторых король ввел в Совет потому, что надеялся увидеть их в роли полезных и надежных помощников. В Совет входили также представители купечества, судовладельцы, хозяева фабрик, не так давно появившихся в Хавноре и других крупных портовых городах моря Эа и Внутреннего моря. Все это были люди известные, поистине великолепные в своей умышленной тяжеловесности и темных одеждах из тяжелого шелка. Были в Совете представлены и мастера из различных ремесленных гильдий, а также хитрые торговцы, умеющие заключить любую сделку. В толпе выделялась светлоглазая женщина с загрубелыми тяжелыми руками — она возглавляла женщин-рудокопов Осскила. Пришли на Совет и волшебники с Рока в таких же, как у Мастера Оникса, серых плащах и с деревянными посохами. Прибыл также волшебник с острова Пельн по имени Мастер Сеппель; у этого волшебника никакого посоха не было, но люди старались держаться от него подальше, хотя вид у Сеппеля был самый дружелюбный. Были там и знатные дамы, старые и молодые, из королевских фьефов и княжеств, разодетые в шелка с острова Лорбанери и жемчуга с Песочных островов. Две женщины представляли самые дальние острова Восточного Предела — одна из них была с острова Иффиш, а другая с острова Корп. Обе они были плотные, коренастые, исполненные чувства собственного достоинства. Были на Совете также поэты и ученые из старинных университетов Энладских островов, а также некоторые капитаны сухопутных войск и королевского флота.
Всех этих советников, как уже говорилось, выбрал сам король. Каждые два-три года он непременно собирал их и просил еще послужить ему, а кого-то отсылал домой с благодарностями и почестями и заменял другими избранниками. Все законы, все налоги, все судебные дела он непременно обсуждал на Совете, прислушиваясь к словам людей, и окончательное решение принимал лишь с согласия большинства. Существовали, конечно, и такие, кто заявлял, что Совет ничего не значит, что советники — это всего лишь королевские марионетки, но на самом деле все обстояло иначе. Король действительно мог настоять на своем, особенно если приводил веские аргументы. Однако он избегал таких ситуаций, часто вообще не высказывал свое мнение и всегда давал возможность Совету самому принять то или иное решение. И многие члены Совета давно уже поняли, что если имеется достаточно доказательств правоты того или иного суждения, то вполне можно не только перетянуть на свою сторону других, но даже и убедить самого короля. Так что дебаты внутри различных подразделений и особых отделов Королевского Совета зачастую бывали жаркими, а во время сессий, когда весь Совет заседал целиком, королю не раз выдвигались весьма серьезные возражения, и в результате голосования он проигрывал. Впрочем, Лебаннен был хорошим дипломатом, а вот политиком — довольно равнодушным.
И потому находил, что Совет отлично ему служит. Кроме того, наиболее знатные и могущественные семейства королевства давно уже стали относиться к Совету с должным уважением. А вот простой народ на советников особого внимания не обращал. Эти люди все свои надежды, все свое внимание сосредоточили на личности самого короля. Были сложены тысячи лэ и баллад о «сыне Морреда», о «принце, верхом на драконе пересекшем царство смерти», о «герое Сорры, держащем в руках Меч Серриадха», о «ветви священной рябины» и о «высоком Ясене Энлада» — в общем, о всенародно обожаемом короле, который правил Земноморьем под Знаком Мира. И, согласитесь, трудновато складывать песни о советниках, которые спорят по поводу портовых налогов.
Итак, не воспеваемые в народе, советники цепочкой тянулись в Тронный зал и занимали свои места на покрытых коврами скамьях, стоявших лицом к голому деревянному трону. Все встали, когда в зал вошел король. И вместе с ним вошла та самая Женщина с Гонта. Ее большая часть присутствующих видела и раньше, так что ее появление не вызвало в зале ни малейшего шума. За королем и Техану следовал какой-то хрупкий человек в черных, порыжевших от времени одеждах. «Выглядит как деревенский колдун», — заметил купец из Кемери судовладельцу с острова Уэй, и тот добродушно откликнулся: «Точно!» Короля Лебаннена любили почти все члены Совета или уж, по крайней мере, симпатизировали ему; ведь, в конце концов, именно он дал им власть, и немалую, и даже если они не чувствовали себя обязанными быть ему за это благодарными, то суждения его они безусловно уважали.
Пожилая леди Эбеа, запаздывая, вбежала в зал, и принц Сеге, который в этот день председательствовал, велел всем садиться, а потом сказал:
— Послушайте, уважаемые члены Совета, что нам расскажет наш король! — И в зале наступила полная тишина.
Лебаннен рассказал — и для многих это было буквально откровением — о нападении драконов на Западный Хавнор и о том, как ему вместе с Женщиной с Гонта, Техану, удалось вступить с ними в переговоры.
Некоторое время он специально держал аудиторию в напряжении, пространно рассказывая о более ранних нападениях драконов на острова Западного Предела, а заодно поведав собравшимся историю, которую рассказывал Оникс о той девушке, что превратилась в дракона на вершине Холма Рок. Он также напомнил советникам, что Техану считается как дочерью Тенар и Ястреба, бывшего Верховного Мага, так и дочерью дракона Калессина, на спине которого сам король был доставлен с далекого острова Селидор.
Затем наконец Лебаннен рассказал и о том, что произошло близ перевала в Фалиернских горах три дня назад, на рассвете.
А закончил он следующими словами:
— И дракон пообещал передать послание Техану Орм Ириан, которая находится сейчас на острове Пальн. Теперь ей еще придется преодолеть довольно большое расстояние до нашего острова — не менее трех сотен морских миль. Но, как известно, драконы способны преодолевать большие расстояния куда быстрее любого судна, даже подгоняемого волшебным ветром, так что мы можем ожидать появления Орм Ириан даже в самое ближайшее время.
Принц Сеге первым задал Лебаннену вопрос, зная, что вопрос этот будет ему приятен:
— А что ты надеялся выиграть, господин мой, вступая в переговоры с драконами?
Ответ прозвучал незамедлительно:
— Гораздо больше, чем мы когда-либо могли бы выиграть, пытаясь с ними сражаться! Это трудно выразить словами, но это чистая правда: против гнева драконов нет защиты, и если они действительно намерены напасть на нас, то мы погибли. По мнению мудрецов, лишь одно место, возможно, сумеет выдержать их натиск: остров Рок. Но на самом Роке вряд ли есть хотя бы один человек, способный противостоять разгневанному дракону. А потому мы должны непременно выяснить причину их гнева и, устранив ее, заключить с ними мир.
— Но ведь это животные! — сказал старый правитель острова Фелкуэй. — Они лишены разума! Люди не могут договориться с животными и заключить с ними мир.
— Но разве у нас нет меча Эррет-Акбе, которым был убит Великий Дракон?! — вскричал кто-то из самых молодых членов Совета.
Ему тут же возразили:
— А кто убил самого Эррет-Акбе?
Дебаты в Совете всегда проходили шумно и беспорядочно, хотя принц Сеге придерживался строгих правил и не позволял никому прерывать выступающего или же говорить дольше, чем сыплется песок в двухминутных песочных часах. Болтуны и нытики тут же умолкали, стоило принцу Сеге ударить об пол своим посохом с серебряным наконечником и предложить выступить следующему докладчику. Так что, в общем, каждый говорил или кричал весьма недолго, однако сказано было много — и того, что действительно должно было быть сказано, и того, чего говорить не нужно было совсем. Спорили главным образом из-за того, стоит ли вступать в войну с драконами и стремиться их победить.
— Да отряд лучников с любого боевого корабля перестреляет их над морем, как стаю уток! — горячился багровый купец из Уотхорта.
— Неужели мы должны пресмыкаться перед какими-то безмозглыми чудищами? Неужели у нас совсем не осталось героев? — высокомерно вопрошала королева Отокне.
На эти слова весьма резко ответил волшебник Оникс:
— Безмозглые? Драконы говорят на Языке Созидания, знание которого является основой всех магических искусств и умений! Да. Они кажутся нам чудовищами, но они не более чудовищны, чем мы, люди. Между прочим, люди — это тоже всего лишь говорящие животные!
Ониксу возразил шкипер, старый морской волк, совершивший немало дальних странствий:
— В таком случае разве не вы, мудрецы и волшебники, должны были бы с ними разговаривать? Раз уж вы знаете их язык и, возможно, разделяете их могущество? Наш король только что рассказывал, что какая-то юная, нигде не учившаяся волшебству девушка взяла да и договорилась с драконом. Разве не могли бы Мастера с острова Рок поговорить с этими драконами или принять их обличье и сразиться с ними? На равных, а?
И тут встал волшебник с острова Пальн. Он был невысок и говорил тихим голосом:
— Принять чье-то обличье — это означает СТАТЬ этим существом, капитан, — сказал он вежливо. — Маг действительно может порой выглядеть как настоящий дракон. Однако Истинное Превращение — искусство очень рискованное. Особенно сейчас. Ибо даже одна маленькая перемена среди множества других перемен сравнима со слабым дыханием, которое пробуждает страшный ветер… Среди нас сейчас есть такой человек, которому никакой магии не нужно, чтобы разговаривать с драконами от нашего имени. И он умеет разговаривать с ними гораздо лучше, чем кто-либо другой. Если, конечно, пожелает говорить с ними от нашего имени, — прибавил он, помолчав.
И тут со своей скамьи, стоявшей возле тронного возвышения, поднялась Техану и громко сказала:
— Я буду говорить с ними! — И снова села.
После этих слов все споры прекратились и некоторое время стояла полная тишина, но вскоре все началось сначала.
Король слушал молча. Ему хотелось узнать, какие настроения преобладают у его подданных.
Нежными голосами пропели серебряные трубы, сыграв свою мелодию целых четыре раза, и это означало, что уже наступил час шестой, полдень. Король встал, и принц Сеге объявил перерыв до начала первого часа пополудни.
Завтрак, состоявший из свежего сыра, фруктов, зелени и овощей, был подан в одной из комнат в башне королевы Геру. Сюда Лебаннен пригласил Техану и Тенар, Олдера и Оникса, который, с разрешения короля, привел с собой также пельнийского волшебника Сеппеля. Все с аппетитом ели и разговаривали очень мало и тихо. В окна был виден залив и его дальний, северный, берег, тонувший в голубоватой дымке — то ли в остатках утреннего тумана, то ли в дыму лесных пожаров на западе острова.
Олдер по-прежнему недоумевал по поводу того, почему король включает его в круг самых близких людей и даже пригласил на Совет. Какое он-то имеет отношение к драконам? Он бы не смог не только сражаться с ними, но и просто беседовать. Сама мысль о столь могучих существах пугала его. Временами хвастливые и вызывающие крики членов Совета напоминали Олдеру лай собак. Он однажды видел, как одна молодая собака, стоя на берегу, все лаяла на океан, все сердилась, все пыталась укусить набегавшую волну и тут же отскакивала, поджав хвост, стоило волне намочить ей лапы.
Однако ему было очень приятно побыть в обществе Тенар. Рядом с ней ему всегда становилось легче, и он к тому же очень полюбил ее за доброту и мужество. К своему удивлению, он обнаружил, что почти так же легко ему и в обществе Техану.
Ее уродство заставляло его порой думать, что у нее два лица и он просто не может увидеть их оба одновременно — либо одно, либо другое. Но Олдер уже привык к необычной внешности девушки, и это его совершенно не смущало. Ведь лицо его матери тоже было наполовину закрыто уродливым темно-красным родимым пятном, и лицо Техану напоминало ему об этом.
Теперь она казалась уже не такой беспокойной и встревоженной, как прежде. Сидела тихонько и пару раз даже заговорила с Олдером, который оказался ее соседом. В голосе ее слышалось какое-то застенчивое дружелюбие. Олдер чувствовал, что Техану, как и он, попала сюда не случайно, что состоялся некий ВЫБОР и она теперь должна следовать тем путем, которого пока что и сама не знает. Возможно, и ей, и ему уготован один и тот же путь? На некоторое время, во всяком случае. Мысль об этом придала Олдеру мужества. Понимая лишь одно — что ему предстоит закончить нечто давно уже начатое, — он инстинктивно чувствовал, что, чем бы это задание ни оказалось, его лучше будет выполнить вместе с Техану. Возможно также, их тянуло друг к другу просто по причине одиночества.
Однако в разговорах с ним Техану столь глубоких проблем не касалась.
— Мой отец, кажется, подарил тебе котенка? — спросила она, когда они вышли из-за стола. — Он его у Тетушки Мох взял?
Одер кивнул, и она спросила:
— Серого?
— Да.
— Это самый лучший котенок!
— Да, хорошая кошка, — согласился Олдер. — Все толстеет тут.
И Техану застенчиво поправила его:
— Я думаю, это «он».
Олдер и сам не заметил, что улыбается.
— Верно. Это мой маленький дружок. Один моряк на корабле прозвал его Буксирчиком.
— Буксирчик… — повторила Техану с удовлетворением.
— Техану! — Король подошел к ним и сел рядом с девушкой у окна. — Я тебя во время заседания не стал спрашивать и не стал просить, чтобы ты ответила при всех на те вопросы, которые лорд Ястреб задал тебе. Там это было неудобно, пожалуй. А здесь тебе удобно на них ответить?
Олдер с любопытством посмотрел на Техану. Она заговорила не сразу. Подумала немного, потом разок глянула на мать, которая, впрочем, никакого знака ей не подала, и наконец сказала:
— Хорошо, я отвечу тебе здесь, господин мой.
— Но нельзя ли также пригласить и принцессу с острова Гур-ат-Гур?
Король поперхнулся, но все же любезно предложил:
— Послать мне за ней?
— Нет, не нужно. Я сама потом к ней схожу. Мне, в сущности, не так уж много нужно ей сказать. Итак, мой отец спросил: «Кто после смерти уходит в темную страну?» Мы с мамой много говорили об этом. И мы думаем, что туда уходят люди. А вот уходят ли туда животные? Разве там летают птицы? Разве растут там деревья и трава? Олдер, ты же все это сам видел!
Застигнутый ее вопросом врасплох, он мог сказать лишь:
— Там… там есть трава по обе стороны стены, но она кажется мертвой. А дальше — я не знаю.
Техану посмотрела на короля.
— Ты прошел через всю эту страну, господин мой.
— Я не видел ни зверя, ни птицы и ни одного растения.
И Олдер поддержал его:
— Да, и мне лорд Ястреб говорил, что там только пыль да камни.
— Я думаю, что ни одно живое существо не попадает туда после смерти, кроме людей, — сказала Техану. — Но и не все люди попадают туда. — И она снова посмотрела на мать и на этот раз глаз от ее лица не отвела.
И Тенар заговорила:
— Карги в этом отношении похожи на зверей. — Голос ее был сух и бесцветен. — Они умирают, чтобы возродиться вновь.
— Это предрассудки! — воскликнул Оникс. — Прости меня, леди Тенар, но ведь и ты сама… — Он запнулся.
— Я больше не верю в то, что являюсь той, кем они меня считали — Арой, Поглощенной, Вечно Возрождающейся Жрицей, той Единственной, кому дана возможность бесконечного возрождения, а потому бессмертной. Я верю в то, что после смерти, как и любое смертное существо, воссоединюсь с величайшей сущностью нашего мира. Как эта трава, как эти деревья, как животные в этих лесах. Люди ведь тоже всего лишь животные, просто они умеют говорить. Ты ведь и сам сказал это сегодня утром, господин мой.
— Но мы можем говорить и на Языке Созидания, — запротестовал волшебник. — Изучая слова, с помощью которых Сегой создал наш мир, Истинную Речь нашей жизни, мы учим свои души побеждать смерть.
— Значит, страна, где нет ничего, кроме пыли и теней, это и есть ваши завоевания? — Теперь в голосе Тенар звучала насмешка, глаза ее сверкнули.
Оникс не нашелся что ответить. На лице его было написано возмущение. Пришлось вмешаться королю.
— Лорд Ястреб задал и второй вопрос, — сказал он. — «Может ли дракон перелететь через ту каменную стену?» — И он посмотрел на Техану.
— Ответ на второй вопрос есть в ответе на первый, — сказала она. — Если драконы — всего лишь животные, умеющие говорить, то животные в темную страну после смерти не попадают. Видел ли хоть один из магов в той сухой стране дракона? Или, может быть, ты его там видел, господин мой? — Она посмотрела на Оникса, затем перевела взгляд на Лебаннена. Оникс, не задумываясь, выпалил:
— Нет!
Король был потрясен.
— Как это мне самому никогда такой простой мысли и в голову не пришло? — пробормотал он. — Нет, мы не видели там ни зверей, ни драконов. По-моему, их там нет.
— Господин мой, — вдруг очень громко сказал Олдер, — посмотри! Вон там, совсем близко, дракон! — И он, повернувшись лицом к окну, показал в небеса.
Все тут же повернулись к нему и… в небе над заливом увидели дракона, летевшего с запада. Его длинные, как лопасти ветряной мельницы, крылья медленно поднимались и опускались, отливая красным и золотым. За драконом в легком жарком мареве летел завиток дыма.
— Так-так, — промолвил король. — И какие же апартаменты мне приготовить для этого гостя?
Он смотрел на дракона восхищенными глазами, точно зачарованный. Однако, заметив, что дракон развернулся и теперь летит прямо к Башне Меча, Лебаннен бросился вон из комнаты, вниз по лестнице, расталкивая изумленных стражников, и успел-таки выбежать на просторную террасу перед белой башней до того, как дракон приземлился.
Собственно, терраса эта была крышей большого парадного зала и представляла собой довольно большой прямоугольник, покрытый мраморной плиткой и огражденный низенькой балюстрадой; Башня Меча возвышалась прямо над этой террасой и рядом — Башня Королевы. Дракон загрохотал когтями по мраморному полу, с громким металлическим шелестом сворачивая свои длинные крылья, и король вышел ему навстречу. В тех местах, где дракон тормозил, его огромные когти оставили в мраморе глубокие борозды.
Длинная морда, покрытая золотистой чешуей, покачиваясь, поворачивалась по кругу, точно у птицы. Дракон смотрел прямо на короля.
Король же, опустив глаза и не желая встретиться с ним взглядом, четко произнес:
— Добро пожаловать, Орм Ириан! Я — Лебаннен.
— АГНИ ЛЕБАННЕН! — оглушительно прошипел или просвистел дракон, приветствуя его; так когда-то, очень давно, приветствовал его и дракон Орм Эмбар на самом далеком западном берегу Земноморья еще до того, как он стал королем.
Следом за Лебанненом на террасу выбежали и тут же остановились Оникс и Техану, а также несколько гвардейцев. Один стражник уже выхватил меч, и Лебаннен заметил, что из окна Башни Королевы высунулся другой стражник с луком и тяжелой стрелой, нацеленной дракону прямо в грудь.
— Сложите свое оружие! — вскричал он таким голосом, что эхо прозвенело по всему дворцу, и стража повиновалась с такой поспешностью, что тот стражник, с мечом, чуть не выронил свой клинок. Впрочем, лучник опустил свой лук весьма неохотно, с трудом заставляя себя оставить своего короля совсем беззащитным.
— МЕДЕУ! — прошептала Техану, подходя к Лебаннену и становясь с ним рядом; она-то глаз не сводила с дракона. Огромная голова чудовища снова качнулась, повернулась, и невероятных размеров янтарный глаз в сияющей
глазнице, покрытой морщинистой чешуей, уставился на Техану.
А потом дракон заговорил.
Оникс, понимая Истинную Речь, шепотом переводил королю, что сказал дракон и что ему ответила девушка.
— Дочь Калессина, моя сестра! — сказал дракон. — Ты не можешь летать?
— Да, я не могу перемениться, сестра, — ответила Техану.
— Так, может быть, мне?..
— Ненадолго. Если захочешь.
И те, что были на террасе, и те, что смотрели из окон башен, увидели одну из самых странных вещей, какую только могли увидеть люди, сколько бы они ни прожили в мире волшебников и всяких чудес: дракон, огромное чудовище, покрытое чешуей, с огромным шипастым хвостом, занимавшим практически всю террасу, с украшенной красными рогами головой, которая раза в три превосходила своими размерами стоявшего рядом короля, вдруг склонил голову и задрожал; при этом крылья его зазвенели, точно цимбалы, и не дым, а лишь туман облаком вылетел из его глубоких ноздрей, собравшись в некую определенную форму и окутав всего дракона, так что и сам он стал полупрозрачным, точно помутневшее от старости стекло, а потом исчез. Полдневное солнце изливало свои жаркие лучи на изборожденный когтями дракона мраморный пол, но дракона там больше не было. Там стояла женщина! И стояла она шагах в десяти от Техану и короля. И в точности там, где должно было бы быть сердце дракона.
Женщина была молода, высока ростом и довольно крепкого сложения, очень смуглая, темноволосая, одетая в женскую крестьянскую рубаху и мужские штаны, босая. Она стояла неподвижно, словно растерявшись, и, опустив голову, рассматривала свое тело. Потом подняла руку и осмотрела ее.
— Какая маленькая! — промолвила она на обычном ардическом языке и, рассмеявшись, весело глянула на Техану: — Похоже знаешь на что? Так бывает, когда берешь в руки башмачки, которые были у тебя в далеком детстве, — сказала она.
И обе женщины двинулись навстречу друг другу, торжественно, точно воины в полном боевом облачении, приветствующие друг друга, или корабли, встречающиеся в морском просторе. Потом обнялись. Некрепко, но долго не размыкали объятий. А потом обе повернулись лицом к королю.
— Леди Ириан, — промолвил он и поклонился.
Ириан, казалось, была в некотором замешательстве, потом неуклюже, по-деревенски, сделала книксен. Когда она наконец подняла глаза, Лебаннен увидел, что глаза у нее цвета янтаря. Он заглянул в них и тут же отвернулся.
— В этом обличье я не причиню тебе никакого вреда, — сказала она, широко улыбаясь и показывая ровные белые зубы, — господин мой король, — прибавила она, словно стараясь быть вежливой.
Лебаннен снова поклонился ей. На самом деле в замешательстве был именно он. Он вопросительно посмотрел на Техану, потом на Тенар, которая как раз вышла на террасу вместе с Олдером. Но все молчали.
Глаза Ириан скользнули по Мастеру Ониксу, который стоял в своем сером плаще за спиной у короля, и лицо ее снова просветлело.
— Господин мой, — спросила она, — ты ведь с острова Рок? Да? А знаешь ли ты лорда Путеводителя?
Оникс то ли поклонился ей, то ли просто кивнул. Он тоже избегал смотреть ей в глаза.
— Здоров ли он? Гуляет ли по-прежнему среди своих деревьев?
И снова волшебник молча кивнул ей.
— А как там Мастер Привратник, и Мастер Травник, и Курремкармеррук? Они стали моими друзьями, они с самого начала были на моей стороне, они готовы были меня защищать! Если ты когда-нибудь вернешься на Рок, то передай им, пожалуйста, мой привет, мою любовь и мое уважение.
— Непременно передам, — пообещал волшебник.
— Здесь моя мать, — тихонько сказала Техану, — Тенар с острова Атуан.
— Тенар с острова Гонт, — поправил ее Лебаннен, и в голосе его уверенностью зазвенел металл.
С нескрываемым любопытством и восхищением глядя на Тенар, Ириан сказала:
— Так это ты вместе с Верховным Магом вернула Кольцо Мира из далекой страны Седых Людей?
— Да, — сказала Тенар, так же прямо глядя Ириан в глаза, как и Техану.
Высоко над ними, на балконе, опоясывавшем Башню Меча, почти у самой ее вершины, произошло вдруг некоторое замешательство: трубачи вышли на балкон, чтобы протрубить наступление очередного часа, но замешкались, все четверо сгрудившись на южной стороне балкона, глядя вниз, на террасу, и тщетно надеясь разглядеть там дракона. Лица людей виднелись в каждом окне, шум голосов с улиц доносился сюда, точно гул близкого прибоя.
— Когда они протрубят первый час, — сказал Лебаннен, — Совет соберется снова. Члены Совета, должно быть, видели, как ты прибыла сюда, госпожа моя, или, по крайней мере, слышали. Так что, если не возражаешь, мы пройдем прямо к ним и позволим им полюбоваться тобой. И если ты захочешь что-то сказать им, то обещаю тебе: они будут слушать очень внимательно.
— Отлично, — сказала Ириан и вдруг застыла. На какое-то мгновение в ней чувствовалась задумчивая пассивность рептилии, но стоило ей сделать шаг, и это впечатление сразу исчезло. Теперь она казалась просто очень высокой молодой женщиной, решительно и довольно неуклюже шедшей впереди всех.
— У меня такое ощущение, — говорила она с улыбкой, обращаясь к Техану, — словно я вот-вот взлечу, точно искорка: во мне ведь совсем не осталось веса!
Четверо трубачей на башне, обернувшись лицом к западу, северу, востоку и югу, протрубили одну музыкальную фразу из знаменитого плача, сочиненного пятьсот лет назад.
И на какое-то мгновение перед Лебанненом возникло лицо Эррет-Акбе — он был таким тогда, на берегу острова Селидор: темные, исполненные печали глаза, смертельная бледность. Весь израненный, он стоял рядом с останками дракона, убитого им в страшном поединке и убившего его самого. Лебаннену казалось очень странным то, что он именно сейчас вспомнил об этой давней встрече, и все же в этом была некая закономерность, ибо сейчас все, живые и мертвые, люди и драконы, собрались вместе, чтобы присутствовать на некоем великом событии, смысл которого Лебаннен постигнуть пока не мог.
На лестнице он подождал, пока его догонят Ириан и Техану, и, поднимаясь наверх с ними вместе, сказал:
— Леди Ириан, я бы хотел задать тебе множество вопросов, но есть среди них один, самый главный, и ответа на этот единственный вопрос мой народ и боится, и более всего желает знать его: собирается ли твой народ воевать с людьми, и если собирается, то по какой причине?
Ириан медленно склонила голову в знак согласия:
— Я расскажу членам твоего Совета все, что знаю.
Они прошли в Тронный зал через специальную, скрытую занавесями дверцу, находившуюся за троном. В зале царил жуткий беспорядок и стоял такой шум, что, когда принц Сеге решительно постучал своим посохом об пол, этого сухого стука почти никто не услышал. А потом вдруг на аудиторию словно обрушилась тишина: все умолкли и обернулись, чтобы посмотреть на короля, вошедшего в зал вместе с женщиной-драконом.
Лебаннен на трон не сел, а остался стоять перед ним; Ириан встала рядом, по левую руку от него.
— Слушайте короля! — провозгласил Сеге в мертвой тишине.
— Друзья мои и советники! — начал король. — Этот день еще долго будет воспеваться в сказаниях и песнях! Дочери ваших сыновей и сыновья ваших дочерей будут говорить: «Я внук или внучка того, кто присутствовал в тот день на Совете Драконов!» Так что отдайте честь той, чье присутствие здесь — великая честь для всех нас! Слушайте Орм Ириан!
Некоторые из тех, кто был на Совете Драконов, утверждали потом, что, когда они смотрели прямо на Ириан, она казалась им всего лишь обыкновенной женщиной высокого роста, но если посмотреть на нее чуть искоса, то уголком глаза можно было заметить, что вокруг нее колышется некое золотистое марево, имеющее вполне определенные очертания, и рядом с этим туманным силуэтом совсем крошечными казались и король, и его трон. Многие из присутствовавших, зная, что человек не должен смотреть дракону в глаза, старались смотреть в сторону, но не выдерживали и все же украдкой поглядывали на Ириан. А женщины — так просто откровенно рассматривали ее, и некоторые из них находили ее простоватой, Другие же — прекрасной, а третьи жалели «бедняжку», которой «пришлось явиться в королевский дворец босиком». А отдельные члены Совета, видимо, чего-то так и не поняв, все удивлялись: что это за женщина такая и когда же наконец прилетит дракон?
Во время выступления Ириан в зале стояла мертвая тишина. Голос у нее был достаточно звонкий, чисто женский, и его хорошо было слышно даже в самых дальних уголках зала. Ириан говорила медленно, очень четко выговаривая слова и очень разумно строя фразы, но почему-то казалось, что она не просто говорит, а переводит свои мысли в уме на ардическии язык с какого-то иного языка.
— Раньше меня звали Ириан, — начала она, — Ириан из домена Старая Ирия, что на острове Уэй. Теперь же мое настоящее имя — Орм Ириан. Калессин, наш Старейший, называет меня дочерью. Я сестра Орм Эмбара, которого хорошо знает ваш король Лебаннен, и внучка великого дракона Орма, который убил Эррет-Акбе и сам был смертельно им ранен. Я здесь потому, что меня призвала моя сестра Техану.
Когда Орм Эмбар погиб на острове Селидор, уничтожив при этом смертное тело волшебника Коба, Калессин, прилетев туда с самого дальнего запада, отнес Лебаннена и Верховного Мага на остров Рок. Затем, вернувшись на Драконьи Бега, Старейший созвал наш народ, которого проклятый Коб лишил способности говорить и который из-за этого пребывал в страшнейшем замешательстве, и сказал: «Вы позволили злу одержать над вами верх и превратить вас в своих помощников. Однако вы были тогда лишены разума, но теперь вы вновь обрели способность мыслить здраво и говорить. Однако, пока дуют восточные ветры, вы никогда уже не сможете быть такими, какими были когда-то, — свободными и от добра, и от зла!»
И еще Калессин сказал так: «Когда-то давно мы сделали свой выбор. И выбрали свободу. А люди выбрали ярмо. Мы выбрали огонь и ветер, а они — воду и землю. Мы выбрали запад, они — восток. Но среди нас всегда находятся такие, кто завидует благополучию людей и их богатству, а среди людей всегда находится кто-то, завидующий нашей свободе. Вот в чем причина того, что зло сумело подчинить нас себе и войти в наши души. И оно снова сумеет одержать над нами верх, если мы не сделаем окончательный выбор — не решим раз и навсегда быть свободными! Вскоре я собираюсь на самый далекий запад — покружить в порывах иного ветра, подумать. Если хотите, я отведу вас туда. Или же подожду вас там, если вы решитесь последовать за мной».
И тогда некоторые драконы сказали: «Люди, с давних пор завидуя нам, украли у нас половину нашего царства! Ту, что лежит за западными границами их законной территории, и отгородили эти земли волшебными стенами, чтобы сделать их недоступными для нас. Давайте же теперь отгоним их далеко на восток и отберем у них наши острова! Люди и драконы не могут делить один и тот же ветер!»
И Калессин ответил им так: «Когда-то мы и люди были единым народом. И в знак этого в каждом поколении людей рождаются такие существа, которые одновременно являются и людьми, и драконами. И в каждом поколении драконов — а это куда более долгий срок, ибо жизнь человеческая значительно короче нашей, — рождается один такой, который одновременно является и драконом, и человеком. Один из них живет сейчас на Внутренних островах. Но есть и еще один. И эти двое — вестники будущего; именно они несут нам возможность выбора. Но более на свете уже не будет таких существ — ни у драконов, ни у людей. Ибо равновесие меняется! Выбирайте же. Отправляйтесь со мной, чтобы летать на иных ветрах по ту сторону этого мира, или же оставайтесь здесь и наденьте на себя вечное ярмо представлений о добре и зле. Или же превращайтесь в животных, в жалких, малорослых, лишенных способности говорить тварей!»
А под конец Калессин сказал еще так: «Последней, кто сделает свой выбор, будет Техану. После нее возможности выбирать уже не будет. И не будет пути на самый далекий запад. И только Лес останется, как это было всегда, в центре нашего мира».
Слушая Ириан, члены Королевского Совета застыли, как каменные изваяния. Да и сама Ириан напоминала говорящую статую, ибо стояла неподвижно и, произнося свою речь, глядела в одном направлении, словно не видя этих людей.
— С тех пор прошло несколько лет, — продолжала она. — Калессин улетел на самый далекий запад, и некоторые драконы последовали за ним, другие же нет. Когда мне наконец удалось воссоединиться со своим народом, я тоже последовала за Калессином. Но мне приходится все время и возвращаться обратно, и так будет до тех пор пока здешние ветры способны нести меня.
Вы знаете, что нрав у представителей моего народа тяжелый. Те драконы, что остались здесь, на ветрах этого мира, стали летать стаями и поодиночке к островам, населенным людьми, снова заявляя: «Они украли половину нашего царства! И теперь мы отнимем у них все западные острова! Мы навсегда прогоним людей на восток, чтобы они больше не могли насаждать среди драконов свои понятия — ни о добре, ни о зле. Мы не сунем шею в их проклятое ярмо!»
Однако они стараются не убивать жителей западных островов, потому что еще помнят, как были безумны и убивали друг друга. Они ненавидят вас, это правда, но убивать людей не начнут, пока вы сами не попытаетесь убить кого-то из них.
Одна из этих стай явилась сейчас на остров Хавнор, который мы называем Золотым Холмом. Тот дракон, который прилетел раньше всех и разговаривал с Техану, — это мой брат Аммауд. Аммауд сказал мне, что драконы по-прежнему намерены отогнать вас далеко на восток, но сам он, как и я, воплощает волю Калессина, стремясь освободить весь мой народ от того ярма, которое вы, люди, носите вечно. Если он, я и другие дети Калессина сможем предотвратить то зло, которое угрожает и вам, и нам, то мы сделаем это во что бы то ни стало. Но у драконов нет ни короля, ни правителя, они никому не подчиняются, они летают, где хотят, и, может быть, пока что будут вести себя так, как их просили я и мой брат, заклиная их именем Калессина, но долго это не продлится. Ведь драконы ничего не боятся — кроме, может быть, того вашего колдовства, которое связано со смертью.
Эти последние слова Ириан тяжело прозвенели в той тишине, что стояла в огромном зале.
Ириан умолкла, и слово взял король. Он поблагодарил ее и сказал:
— То, что ты выступила на нашем Совете, огромная честь для нас! Благодарю тебя за твой удивительно правдивый рассказ и клянусь собственным именем, что и мы будем говорить здесь только правду. Но я умоляю тебя, дочь Калессина, который принес меня с берегов смерти на родину, скажи нам еще раз: чего именно боятся драконы? Я всегда считал, они не боятся ничего ни в нашем мире, ни за его пределами.
— Мы боимся ваших заклинаний, связанных со смертью и бессмертием, — отвечала Ириан.
— Так все же со смертью или с бессмертием? — никак не мог понять Лебаннен. — Я ведь не волшебник. Пусть лучше вместо меня с тобой говорит Мастер Оникс, если ты, дочь великого Калессина, позволишь, конечно.
Оникс встал. Ириан посмотрела на него холодно и равнодушно и склонила голову в знак согласия.
— Леди Ириан, — начал волшебник, — мы не пользуемся заклятиями, якобы дающими бессмертие! Один лишь Коб пытался стать бессмертным с помощью созданных им заклятий и полностью извратил все наше магическое искусство. — Оникс говорил медленно и с очевидной осторожностью, тщательно подбирая каждое слово и как бы сперва мысленно пробуя его на вкус. — Наш Верховный Маг Ястреб и наш король Лебаннен с помощью Орм Эмбара уничтожили Коба и то зло, которое он сотворил. И наш Верховный Маг отдал всю свою силу, чтобы исцелить мир и восстановить Великое Равновесие. И ни один волшебник в последнее время даже не пытался… — Оникс вдруг запнулся и умолк.
Ириан смотрела прямо на него. Он опустил глаза.
— А тот волшебник, которого уничтожила я, — медленно промолвила она, — тот Заклинатель с Рока по имени Торион — что же в таком случае пытался сделать он?
Оникс, потрясенный, молчал.
— Он сумел вернуться назад из царства смерти, — продолжала Ириан, — но не живым, как Верховный Маг и ваш король, а мертвым! И все же он вернулся, перебрался через стену и стал править Школой — и все это благодаря своей магии, вашей магии, Мастера Рока! Как же может мой народ верить вашим словам? Это ведь вы нарушили Великое Равновесие! Но можете ли вы восстановить его?
Оникс казался просто уничтоженным. Он посмотрел на короля и смиренно пробормотал:
— Господин мой, я не думаю, что это подходящее место для обсуждения подобных проблем… пока мы сами еще окончательно не поняли, что, собственно, должны сделать…
— О да, остров Рок хранит свои тайны! — заметила Ириан спокойно и презрительно.
— Но ведь на Роке… — начала было Техану, Даже забыв встать, однако ее слабый голос тут же прервался, хотя принц Сеге и король одновременно посмотрели на нее и жестами предложили продолжить.
Техану встала и некоторое время молчала, словно нарочно оборотившись своей изуродованной щекой к членам Совета, которые так и застыли в ужасе на своих скамьях, «точно камни с глазами», по выражению Тенар.
— На острове Рок есть Имманентная Роща, — сказала Техану. — Скажи, сестра, разве не ее имел в виду Калессин, когда говорил о Лесе, который является центром нашего мира? — И она, повернувшись к Ириан и откинув назад густые волосы, показала наконец присутствующим все свое лицо целиком, явно забыв о том, что они на нее смотрят во все глаза. — Может быть, нам следует отправиться именно туда, ибо оттуда начинается все на свете?
Ириан улыбнулась:
— Хорошо. Я с удовольствием туда отправлюсь, — сказала она.
И обе сестры посмотрели на короля.
— Прежде чем я пошлю тебя на Рок или сам отправлюсь с тобой, Ириан, — медленно проговорил Лёбаннен, — я должен знать, ЧТО поставлено на карту. Мастер Оникс, мне очень жаль, что столь мрачные и важные для судьбы Земноморья проблемы мы вынуждены обсуждать так открыто. Однако же я доверяю своим советникам и надеюсь, что они поддержат меня, если я сумею найти верный курс. А вам, мои дорогие советники, следует усвоить одно: нашим островам нет необходимости бояться Западного Народа, ибо перемирие, по крайней мере пока, сохраняет свою силу.
— Да, это так, — подтвердила Ириан.
— Ты можешь сказать, надолго ли?
— Ну… полгода? — предположила она беспечно, словно речь шла об одном-двух днях.
— Хорошо. В таком случае и мы станем соблюдать перемирие в течение полугода и надеяться на то, что временное перемирие это сменится заключением долгосрочного мира. Прав ли я, леди Ириан, говоря следующее: заключая мир с нами, твои братья и сестры хотят быть уверены, что наши волшебники не поставят их под угрозу своими… научными опытами, которые способны изменить извечные законы жизни и смерти?
— Что они не поставят под угрозу жизнь всех нас, — поправила его Ириан. — Да, именно этого мы и опасаемся.
Лёбаннен обдумал ее ответ и вдруг заговорил легким светским тоном, любезно улыбаясь при этом:
— Ну что ж, в таком случае, я полагаю, и мне следует отправиться вместе с вами на Рок! — Он повернулся к залу. — Итак, уважаемые члены Совета, поскольку перемирие объявлено, нам остается только стремиться к заключению постоянного мира. И я, чтобы достигнуть этой цели, готов отправиться куда угодно, выполнить любую работу, ибо я правлю в Земноморье под Знаком Мира. Если же вы видите какую-либо помеху для нашего путешествия на Рок, то говорите об этом открыто здесь и сейчас. Вполне возможно, равновесие сил в пределах Архипелага, как и все великое Равновесие, находится сейчас под вопросом. Но учтите: в это путешествие следует отправляться немедленно, ибо близится осень, а до острова Рок путь неблизкий.
«Камни с глазами» ответили королю не сразу, пока, наконец, не вмешался принц Сеге.
— Отправляйся же туда поскорее, господин мой король! — сказал он. — Отправляйся, и да пребудет с тобой наша надежда и наше доверие! И пусть лишь попутный ветер наполняет твои паруса! — По рядам членов Совета прошелестело невнятное: да, да, верно, слушайте, принц Сеге говорит именно то, что нужно.
А принц Сеге уже предложил перейти к обсуждению второго вопроса или же сразу к дебатам. Но никто в зале так и не сказал ни слова. И ему пришлось объявить заседание Совета закрытым.
Выходя вместе с ним из Тронного зала, Лебаннен сказал:
— Спасибо тебе, Сеге! — И старый принц ответил:
— Ах, Лебаннен, что же еще мог сказать я — жалкий смертный, стоявший между королем и драконом?
Глава 4
«Дельфин»
Множество дел нужно было завершить, множество сделать приготовлений, прежде чем король смог покинуть свою столицу. Важным был также вопрос, кому следует плыть вместе с ним на Рок. Разумеется, Ириан и Техану, но Техану непременно хотела, чтобы с нею поехала ее мать, Тенар, а Оникс сказал, что и Олдер в любом случае должен поехать туда, а также пальнийский волшебник Сеппель, ибо, как известно, вся пальнийская премудрость связана именно с проблемой жизни и смерти и возможностью перехода из одного мира в другой. Король назначил капитаном своего знаменитого судна «Дельфин» шкипера Тослу, с которым и раньше немало путешествовал вместе. Управлять королевством во время своего отсутствия он поручил принцу Сеге, что принцу тоже было не впервой, а в помощники ему назначил нескольких избранных членов Совета.
Итак, все как будто уже было решено, но за два дня до отплытия к Лебаннену пришла Тенар и сказала:
— Ириан говорит, что ты намерен обсуждать с Драконами вопросы войны и мира, а также многие другие жизненно важные вопросы, касающиеся равновесия во всем Земноморье. Мне кажется, жителям Каргадских островов тоже неплохо было бы принять участие в этих переговорах.
— Ну так ты и будешь их представительницей.
— Нет. Я давно уже не подданная Верховного Правителя Каргада. Единственный человек здесь, который действительно может представлять каргов на этих переговорах, это дочь Верховного Правителя.
Лебаннен даже отшатнулся от нее. Он отвернулся, стараясь подавить гнев, а потом с трудом выдавил:
— Но она же совершенно не в состоянии вынести столь длительное путешествие, ты и сама это прекрасно знаешь.
— Ничего подобного я не знаю.
— К тому же она на редкость невежественна и, по-моему, довольно глупа.
— Неправда, она умная, практичная и смелая девушка. И прекрасно понимает, чего требует от нее статус принцессы Каргада. Править государством ее, конечно, не учили, но разве она может научиться этому, будучи заперта в Речном Дворце и общаясь только со служанками и тупоголовыми придворными дамами?
— Во-первых, она не знает нашего языка, а во-вторых…
— Она уже учит наш язык. А кроме того, я буду рядом и смогу что-то ей перевести при необходимости.
Лебаннен немного помолчал и осторожно сказал:
— Я, конечно, понимаю твою озабоченность относительно участия каргов в этих переговорах и постараюсь что-нибудь придумать. Но принцессе в этой экспедиции не место.
— Техану и Ириан тоже считают, что она должна поехать с нами. Да и Мастер Оникс говорит, что и приезд Олдера, и приезд каргадской принцессы сейчас — это отнюдь не случайность.
Лебаннен еще немного отступил от Тенар и, выслушав ее, возразил с каким-то вымученным терпением:
— Я не могу разрешить этого. Невежество и неопытность принцессы могут привести к тому, что она превратится в серьезную обузу для всех. И я не могу подвергать ее жизнь такой опасности. Взаимоотношения с ее отцом…
— Между прочим, будучи столь «невежественной», как ты говоришь, именно она, по сути дела, сумела первой ответить на вопросы Геда. Ты просто относишься к ней с тем же неуважением, что и ее отец! Ты говоришь о ней, как о неодушевленном предмете, как о безмозглой дурочке! — Тенар даже побледнела от гнева. — А если ты так боишься подвергать ее риску, то сперва спроси: не хочет ли она сама рискнуть?
Лебаннен молчал. А потом заговорил с тем же деревянным спокойствием и терпением в голосе, стараясь не смотреть Тенар в глаза:
— Хорошо, если ты, Техану и Орм Ириан полагаете, что эта особа должна отправиться с нами на Рок, и Оникс тоже с вами согласен, то я готов подчиниться вашему решению, хоть и считаю его ошибочным. Пожалуйста, передай принцессе, что если она хочет плыть с нами, то я разрешаю ей присоединиться к экспедиции.
— Это ей сказать должен ты!
Лебаннен не ответил. Он некоторое время постоял, по-прежнему не глядя на Тенар, и, не говоря ни слова, вышел из комнаты.
Хотя он на Тенар и не смотрел, но все же успел заметить, какой она выглядит постаревшей и измученной. У нее даже руки дрожали, и ему стало жаль ее до слез и безумно стыдно за свое упрямство. Хорошо еще, что разговаривали они наедине! Однако мысли о Тенар были не более чем искорками света в той огромной тьме гнева, которая им владела: гнева на Тенар, на принцессу, на всех и каждого, кто возложил обязанность заботиться о ней именно на него. Выйдя из комнаты, Лебаннен рывком распахнул ворот рубахи, словно тот душил его.
Его дворецкий, человек медлительный и спокойный, совсем не ожидал, что король вернется так скоро и именно через эту дверь, и даже вскочил, изумленно уставившись на Лебаннена, но тот, бросив на него ледяной взгляд, сказал:
— Немедленно вели послать за принцессой; я желаю встретиться с нею здесь нынче в полдень.
— За какой принцессой?
— А что, у нас во дворце есть еще принцессы? Или ты не знаешь, что у нас гостит дочь Верховного Правителя Каргада?
Потрясенный слуга, заикаясь, пролепетал извинения, но Лебаннен прервал его:
— Нет. Лучше я поеду в Речной Дворец сам. — И он широкими шагами двинулся дальше, не обращая на спешившего за ним слугу с его надоедливыми вопросами о том, какую лошадь приготовить и кого назначить в сопровождение королю, а также что сказать людям, явившимся во дворец с различными петициями и ожидавшими в Большом Зале, ибо встреча короля с ними явно откладывалась. Но сейчас Лебаннен воспринимал все эти повседневные обязанности и ритуалы, в которых непременно должен был участвовать сам король, как некие силки, сети, которые утягивали его на дно, как зыбучие пески, в которые он случайно попал и которые не давали ему дышать!..
Когда к нему подвели его любимого жеребца, он так резко вскочил в седло, что конь, уловив его настроение, тут же попятился и встал на дыбы. Конюхи и адъютанты в ужасе шарахнулись в стороны. Это зрелище, однако, неожиданно вызвало у Лебаннена чувство глубокого удовлетворения, и он решительно направил коня прямо к воротам, даже не посмотрев, успела ли сесть на коней его свита, и гнал жеребца галопом по городским улицам, оставив сопровождавших его людей далеко позади. В голове у него крутилась, правда, мысль о том, что все-таки следовало пропустить вперед того молодого офицера, который должен был кричать: «Дорогу королю!» — но был также оставлен позади и теперь не осмеливался не только обогнать Лебаннена, но и поравняться с ним.
Близился полдень; улицы и площади Хавнора были раскалены солнцем и почти безлюдны. Заслышав грохот копыт, люди шарахались в стороны, прятались в дверях маленьких темных лавок и уже оттуда с изумлением узнавали своего короля и приветствовали его. Женщины высовывались в окна, обмахиваясь платками и веерами, а заодно и сплетничая прямо через улицу, и тоже смотрели, как мчался Лебаннен. Они махали ему, а одна даже бросила королю цветок. Копыта его жеребца прозвенели по каменным плитам широкой, насквозь пропеченной солнцем площади, которая была абсолютно пустынна, если не считать собаки с пушистым хвостом, трусившей куда-то на трех лапах и совершенно равнодушной к присутствию королевской особы, и Лебаннен свернул в узкий проезд, по которому выехал прямо на вымощенную плиткой набережную Серренен. Теперь он поехал немного медленней, стараясь держаться в тени раскидистых ив, что росли у старой городской стены.
Эта скачка несколько подняла ему настроение. Жара и тишина улиц прекрасного старого города, ощущение живой насыщенной жизни, кипевшей за стенами и закрытыми ставнями домов, улыбка той женщины, что бросила ему цветок, тщеславное чувство удовлетворения от того, что он далеко обогнал охранников и глашатаев, и, наконец, запах и прохлада реки, а потом и того тенистого двора, где он знавал дни и ночи истинного блаженства и покоя, — все это утишило гнев в душе Лебаннена, осталось лишь странное ощущение некоторой опустошенности.
Его свита еще только въезжала во двор, а он уже соскочил с седла и поднимался на крыльцо. Его жеребец стоял спокойно, довольный тем, что наконец оказался в тени. Лебаннен решительно вошел во дворец, вспугнув стайку дремлющих пажей и лакеев. Его приезд был словно брошенный в застывший пруд камень, от которого быстро расходятся, все расширяясь, круги ужаса и паники.
— Сообщите принцессе, что я здесь, — бросил он.
Леди Опал из Старого поместья, что на острове Илиен, исполнявшая обязанности старшей фрейлины принцессы, появилась рядом с ним почти мгновенно. Она изысканно вежливо поздоровалась с королем, предложила ему прохладное питье и фрукты — в общем, вела себя так, словно визит Лебаннена в Речной Дворец отнюдь не был такой уж неожиданностью. Подобное лукавство отчасти льстило ему, отчасти его раздражало. Какие же все они лицемеры! Но, с другой стороны, как, собственно, должна была вести себя леди Опал? Стоять, разинув рот, точно вытащенная на берег рыба (именно так, кстати, и вела себя одна совсем молоденькая фрейлина), только потому, что король наконец, причем совершенно неожиданно, явился с визитом к принцессе?
— О, как жаль, что госпожи Тенар здесь нет! — сказала леди Опал. — С ее помощью было бы гораздо проще общаться с принцессой. Однако же и сама принцесса делает восхитительные успехи в изучении нашего языка!
О проблеме языка Лебаннен совсем позабыл. Он молча выпил предложенный ему прохладительный напиток, леди Опал еще пощебетала немного, прибегая также к помощи других придворных дам, чтобы расшевелить короля, но тот словно воды в рот набрал. Вообще-то Лебаннен уже подумывал о том, что ему, возможно, ничего другого не остается, как беседовать с принцессой в обществе всех ее фрейлин и служанок, что, собственно, полностью соответствовало этикету. Вряд ли он сам сумеет сказать то, что намеревался. Все было напрасно. Он уже готов был встать, извиниться и уехать, но тут в дверях показалась какая-то женщина, с головы до ног плотно укутанная в красное покрывало, и плюхнулась перед ним на колени, пролепетав:
— Пожалуйста! Король? Принцесса? Пожалуйста!
— Принцесса примет тебя в своих апартаментах, господин мой, — перевела леди Опал. И махнула рукой пажу, который повел Лебаннена наверх, через зал, через приемную, через большую темную комнату, которая показалась ему битком набитой женщинами в красных покрывалах, а затем на балкон, который нависал прямо над рекой. И там он снова увидел ту же загадочную фигуру, похожую на красную кирпичную трубу, что и в день самой первой их встречи с принцессой.
Ветерок с реки заставлял ее покрывала слегка шевелиться и трепетать, и сейчас фигура эта казалась Лебаннену уже не такой громоздкой; напротив, под покрывалами даже угадывалось женское тело, причем достаточно изящное, подвижное, но дрожащее от страха, точно ивовая листва над рекой. И еще ему казалось, что принцесса время от времени как бы становится меньше ростом! «Это она приседает передо мной», — догадался Лебаннен. Он тоже учтиво ей поклонился, и оба, выпрямившись, застыли в растерянном молчании.
— Принцесса, — сказал наконец Лебаннен и умолк. От ощущения полной нереальности происходящего у него даже немного кружилась голова. — Я здесь для того, чтобы просить тебя отправиться с нами на остров Рок.
Она ничего не ответила. Но тонкие красные покрывала вдруг раздвинулись, и в образовавшемся овале показались ее руки. Руки были хороши: тонкие длинные пальцы, золотистая кожа. А за ними, как бы в красной тени, просвечивало ее лицо, но как следует рассмотреть его черты было невозможно. Принцесса была почти одного роста с королем, и глаза ее смотрели прямо на него.
— Мой друг Тенар, — сказала она по-ардически, — говорит: король видеть короля. Лицо и лицо. Я говорю: да. Я буду видеть.
Не очень хорошо поняв, что она хотела этим сказать, Лебаннен снова поклонился:
— Это для меня большая честь, госпожа моя.
— Да, — сказала она. — Я удостоила тебя чести. Мда-а… Лебаннен смутился. Это действительно была ее территория.
Принцесса стояла по-прежнему очень прямо и совершенно неподвижно. Чуть трепетала на ветру золотистая кромка ее красного покрывала, а из красной тени на него в упор смотрели огромные глаза.
— Тенар, Техану и Орм Эмбар единодушны в том мнении, — осторожно начал Лебаннен, — что было бы очень хорошо, если бы с нами на острове Рок была и принцесса Каргадских островов. И я приехал просить тебя отправиться с нами.
— Отправиться?
— Ну да, на остров Рок.
— На корабле? — спросила она и вдруг, жалобно всхлипнув, шмыгнула носом. Но тут же взяла себя в руки и твердо ответила: — Я буду отправляться. С вами.
Он просто не знал, что ей на это ответить, и сказал просто:
— Благодарю, госпожа моя.
Она кивнула — один раз, как равный равному.
Он низко поклонился ей. И двинулся к дверям — так, как его еще в детстве учили выходить из покоев отца, князя Энлада, особенно в присутствии чужих людей: не поворачиваясь спиной к присутствующим, а неторопливо пятясь назад.
Она стояла лицом к нему, по-прежнему приподняв большую часть своих покрывал, пока он не достиг двери. Потом опустила руки, покрывала упали, скрыв ее под собой, и Лебаннен успел услышать, как она глубоко вздохнула от облегчения, освободившись наконец от мучительной необходимости совершать над собой такое насилие.
Смелая, мужественная — так говорила про нее Тенар. Он не совсем понимал ее речь, зато хорошо понимал, что ему только что дали урок настоящего мужества. Весь тот гнев, который еще недавно переполнял его душу, заставив его стрелой мчаться сюда, совершенно испарился. При этом Лебаннен отнюдь не чувствовал себя измученным или униженным. Нет, ему просто показали его место, и совершенно справедливо показали — место обыкновенного человека в сравнении с горной вершиной, царящей в чистых воздушных потоках.
Он миновал темную комнату, полную надушенных, закутанных в покрывала и что-то друг другу шепчущих женщин, которые так и шарахались от него, и спустился вниз. Потом немного дружески поболтал с леди Опал и другими дамами, успел сказать несколько ласковых слов той перепуганной двенадцатилетней фрейлине, которая так и стояла с разинутым от изумления ртом, и, настроенный вполне дружелюбно, вышел во двор, где его дожидалась свита. Затем он спокойно сел на своего крупного серого жеребца и медленно поехал назад, во дворец Махариона, погрузившись в глубокие раздумья.
Олдер с фаталистической покорностью отнесся к тому, что ему снова предстоит вернуться на Рок. Жизнь в периоды бодрствования стала казаться ему настолько странной, даже более странной, чем его сны, что у него почти не было сил ни задавать вопросы, ни протестовать. Если судьба велит ему провести остаток своей жизни в странствиях от острова к острову, то, значит, так тому и быть. Олдер понимал, что домой для него теперь пути нет. Ну что ж, по крайней мере, на корабле он будет в обществе госпожи Тенар и госпожи Техану, в присутствии которых у него всегда становилось легче на душе. Да и волшебник Оникс уже продемонстрировал ему свое доброе отношение.
Олдер был человеком застенчивым, а Оникс — в высшей степени сдержанным. К тому же между ними была огромная разница в уровне знаний и в статусе, и преодолеть эту пропасть было непросто. Однако Оникс вел себя уважительно, сам неоднократно подходил к Олдеру и беседовал с ним, выказывая достаточное почтение, и это обстоятельство Олдера особенно озадачивало и заставляло еще больше смущаться. Однако лишь Ониксу он решился задать тот вопрос, который не давал ему покоя.
— Дело в том, — начал он смущенно, — что, как мне кажется, будет неправильно, если возьму с собой этого котенка. Мне ведь придется долго держать его взаперти, а это совершенно неестественно для любого юного существа. И я все думаю: что же с ним теперь будет?
Оникс не стал спрашивать, какого котенка Олдер имеет в виду. Он спросил лишь:
— А котенок по-прежнему помогает тебе не видеть этих ужасных снов?
— Ну да, во всяком случае, очень часто. Оникс задумался.
— Тебе, безусловно, нужна какая-то защита, пока мы не доберемся до Рока. Я уже думал об этом… А кстати, ты не говорил на эту тему с волшебником Сеппелем? Он ведь еще здесь.
— С пальнийским волшебником? — В голосе Олдера послышался страх.
Пальн, самый крупный остров к западу от Хавнора, расположенный в Пальнийском море, пользовался славой места весьма таинственного. Пальнийцы говорили на диалекте ардического языка, но с очень странным акцентом, вплетая в речь немало местных слов. Их правители с давних времен отказывались присягнуть на верность королям Энлада и Хавнора. Их волшебники никогда не совершали путешествий на Рок и не посылали свою молодежь учиться в тамошней Школе. Пальнийская премудрость и магия основывались на знании Древних Сил Земли и повсеместно считались опасными, даже зловредными. Некогда Серый Маг уничтожил почти все население своего острова, призвав себе в советники души мертвых. История об этом непременно изучалась всеми, кто имел отношение к магии. «Живые не должны советоваться с мертвыми!» — таков был основной вывод, сделанный Мудрецами с Рока, и с тех пор не одна дуэль состоялась между волшебниками Рока и Пальна. Во время одного из таких магических поединков — а случилось это двести лет назад — на жителей островов Пальн и Семел обрушилась страшная эпидемия чумы, невольно выпущенной на волю одним из волшебников; тогда обезлюдела половина городов и селений на обоих островах. А пятнадцать лет назад волшебник Коб решил воспользоваться Пальнийской премудростью, чтобы свободно переходить из царства жизни в царство смерти и обратно. Тогда Верховному Магу Ястребу пришлось отдать все свои силы и могущество, чтобы победить Коба и исправить то зло, которое он принес.
Олдер, как и почти все придворные и члены Королевского Совета, избегал встреч с волшебником Сеппелем, хотя и был с ним всегда очень вежлив.
— Я просил короля взять его с нами на Рок, — сказал ему Оникс.
Олдер только глазами захлопал от удивления.
— На Пальне гораздо больше нас знают обо всех этих вещах, — продолжал Оникс. — Да и все наше искусство Истинных Превращений и Заклинаний корнями своими уходит в Пальнийскую премудрость. Торион был настоящим мастером своего дела… А теперешний Мастер Заклинатель, Бранд с острова Венвей, не желает иметь с этой премудростью ничего общего. Однако, оставаясь совсем не использованной или будучи использованной неправильно, премудрость эта способна принести неисправимые несчастья. Возможно, лишь наше собственное незнание, наше невежество приводит к тому, что мы неправильно используем ее. Она ведь восходит к глубокой древности; возможно, в ней содержатся и такие знания, которые мы давно утратили или не имели совсем. Сеппель — очень мудрый человек и настоящий волшебник. Я уверен, что ему нужно плыть с нами. И, мне кажется, он мог бы помочь тебе, если, конечно, ты захочешь ему довериться.
— Если ты ему доверяешь, — сказал Олдер, — то и я буду доверять.
Стоило Олдеру заговорить так, и Оникс сразу вспоминал о знаменитом «серебряном языке Таона». Волшебник улыбнулся своей суховатой улыбкой и сказал:
— Ты прав, Олдер, и я надеюсь, что вскоре ты оценишь Сеппеля столь же высоко, как и я. Или даже выше. Если хочешь, я провожу тебя к нему.
Они вместе вышли из дворца и направились в город. Сеппель жил в старой его части, возле самого порта, на Лодочной улице; там существовало нечто вроде маленькой колонии пальниицев, которые работали на королевских верфях, ибо жители Пальна всегда славились как искусные кораблестроители. Дома здесь были старинные, построенные тесно и густонаселенные; от одной крыши дома к другой были перекинуты мостики, что придавало этим кварталам вид совершенно фантастический, ибо высоко над обычными улицами, вымощенными булыжником или плиткой, раскинулась целая сеть улиц воздушных.
Квартира Сеппеля, до которой еще нужно было преодолеть целых три лестничных пролета, состояла из трех комнат, затемненных и с закрытыми окнами, что спасало от жары, которая в эти последние дни уходящего лета никак не хотела спадать. Сеппель предложил гостям подняться еще на один пролет лестницы и выйти на крышу. Крыша тоже была соединена с соседней мостиком. Здесь, наверху, подумал Олдер, свои вполне оживленные пути и перекрестки. У низеньких парапетов были прикреплены матерчатые навесы, дававшие благодатную тень; ветерок, дувший с залива, также приносил прохладу. И гости вместе с хозяином уселись в тени на полосатые полотняные подушки в том уголке крыши, который, как считалось, принадлежал квартире Сеппеля, и он угостил их холодным, чуть горьковатым чаем.
На вид Сеппелю было около пятидесяти. Он был кругленьким коротышкой с маленькими ручками и ножками, с непокорными курчавыми волосами и, что уж совсем редко встречалось у жителей Архипелага, с гладко выбритым лицом, которое, впрочем, уже успело с утра покрыться густой черной щетиной. Манера держаться у него была очень приятная, и говорил он тихо и ласково, с певучим пальнийским акцентом.
Волшебники довольно долго говорили о чем-то друг с другом, а Олдер слушал, но не особенно прислушивался. Мысли его все время уплывали куда-то в сторону, ибо Оникс и Сеппель говорили о людях и проблемах, которые были Олдеру совершенно незнакомы. Он смотрел вдаль, поверх крыш и разбитых на крышах садов, поверх выгнувшихся дугой резных мостиков, — на север, на гору Онн, огромный бледно-серый купол которой возвышался над подернутыми жарким маревом холмами. И прервал свои мечтания, только услышав, как пальнийский волшебник говорит:
— …и возможно, даже сам Верховный Маг не: мог полностью исцелить ту рану в ткани мироздания!
Рана в ткани мироздания. Да, подумал Олдер, да. Он внимательно посмотрел на Сеппеля, и тот гоже посмотрел на него. И, каким бы ласковым ни было выражение его лица, глаза его смотрели очень остро.
— Возможно, не только наше желание жить вечно заставляет эту рану
оставаться открытой, — снова заговорил Сеппель, — но и желание мертвых умереть совсем.
Странные слова! И снова Олдер почувствовал, что знает, о чем идет речь, даже не понимая смысла сказанных слов. И снова Сеппель быстро и остро глянул на него, словно ожидая какого-то ответа.
Однако Олдер не сказал ни слова. Молчал и Оникс. И тогда Сеппель спросил:
— А когда ты стоишь на самой границе, мастер Олдер, то слышишь, О ЧЕМ они тебя просят?
— Они просят освободить их, — прошептал Олдер едва слышно.
— Освободить! — шепотом повторил Оникс.
И все трое надолго замолчали. Две девочки и мальчик со смехом и криками промчались мимо и исчезли в переплетении мостов и крыш. «На следующей — вниз!» — крикнул кто-то. Дети явно играли во что-то вроде пряток; в такие игры всегда любили играть городские дети, снующие в лабиринте улиц и каналов, лестниц и мостов.
— Возможно, это с самого начала была неудачная сделка, — промолвил Сеппель и, когда Оникс, не понимая, о чем он, вопросительно посмотрел на него, прибавил: — ВЕРВ НАДАН.
Олдер знал, что это слова из Древнего Языка, но значение их было ему неизвестно. Оникс, заметно помрачнев, сказал:
— Ну что ж, я надеюсь, мы сможем добраться до истинного смысла этой сделки, и очень скоро.
— Ну да, на Холме, где все обретает свое истинное лицо, — сказал Сеппель.
— Я рад, что и ты будешь там с нами вместе, — заметил Оникс. — А теперь обрати, пожалуйста, свое внимание на Олдера. Его призывают к самой границе царства смерти каждую ночь, и ему бы нужна хоть какая-то передышка. Я сказал, что ты, возможно, знаешь, как помочь ему.
— Неужели ты согласишься соприкоснуться с пальнийским колдовством? — спросил Сеппель Олдера. В вопросе его явно звучала насмешка, а глаза волшебника ярко сияли и были черны как смоль.
У Олдера тут же пересохли губы.
— Мастер Сеппель, — сказал он, — у нас на острове есть поговорка: тонущий не спрашивает, сколько стоит протянутая ему веревка. Если ты, господин мой, сможешь избавить меня от этого кошмара хотя бы на одну ночь, то заслужишь самую сердечную мою благодарность, хоть благодарность и стоит немного.
Оникс слушал Олдера с легкой, доброжелательной улыбкой.
Сеппель же и не думал улыбаться.
— Благодарность — очень редкое явление в моем ремесле, — сказал он. — Ради благодарности я, пожалуй, готов на многое. Мне кажется, я могу помочь тебе, Мастер Олдер. Но должен признаться: веревка эта очень дорого стоит!
Олдер лишь покорно склонил голову.
— Так, значит, ты приходишь на границу миров во сне и не по собственной воле?
— Так мне представляется.
— Мудрый ответ. — Сеппель посмотрел на него одобрительно. — Кто из нас способен совершенно точно определить собственные побуждения? Но если ты отправляешься туда во сне, я могу просто избавить тебя от этих снов — на некоторое время, конечно. И цену за это спрошу немалую, как и сказал.
Олдер вопросительно посмотрел на него.
— Цена — твое волшебное могущество! Сперва Олдер его совсем не понял. Потом спросил растерянно:
— Мой дар, ты хочешь сказать? Мое ремесло? Сеппель кивнул.
— Но я ведь только латальщик! — удивился Олдер. — Какое же это могущество!
Оникс протестующе взмахнул рукой, но, посмотрев Олдеру в лицо, ничего не сказал.
— Ты ведь за счет этого живешь? — спросил Сеппель.
— Да. И когда-то это составляло смысл моей жизни. Но это в прошлом.
Возможно, твой дар еще вернется к тебе, когда случится то, что должно случиться, — непонятно сказал Сеппель. — Я не могу этого обещать. Но я попытаюсь исправить то, что смогу, и для этого кое-что возьму у тебя. Но сейчас все мы идем во тьме, по неведомой земле… Когда наконец наступит рассвет, мы, может быть, и поймем, где находимся, а может быть, и нет. Ну так что, если я избавлю тебя от твоих снов за ТАКУЮ цену, ты тоже будешь мне благодарен?
— О да! — воскликнул Олдер. — Разве можно сравнивать ту крошечную пользу, которую приносит людям мой дар, со страшным злом, которое может принести мое незнание? Если ты избавишь меня от страха, который владеет мной постоянно, от страха, что я могу сотворить это великое зло, я буду бесконечно благодарить тебя до конца своей жизни.
Сеппель глубоко вздохнул.
— Мне всегда говорили, что у арф Таона очень чистый голос, — сказал он. И посмотрел на Оникса. — Но неужели Рок совсем не возражает? — Этот вопрос он задал уже прежним своим, чуть насмешливым тоном.
Оникс покачал головой, но лицо его опять помрачнело.
— В таком случае, — Сеппель вновь обратился к Олдеру, — мы направимся в пещеру близ Ауруна. Сегодня же ночью.
— Но почему именно туда? — спросил Оникс.
— Потому что Олдеру буду помогать не я, а сама Земля. Аурун — священное место, исполненное могущества. Просто жители Хавнора давно позабыли об этом и пользуются пещерами только для того, чтобы их осквернять.
Прежде чем они последовали за Сеппелем вниз, Оникс отвел Олдера в сторонку и сказал:
— Тебе совершенно не обязательно идти туда, Олдер, и подвергать себя неведомым испытаниям. Я думал, что Сеппелю можно полностью доверять, но теперь я совсем в этом не уверен.
— Ну, а я доверюсь ему, — промолвил Олдер. Он понимал, какие сомнения терзают Оникса, однако он давно уже решил, что пойдет на что угодно, лишь бы избавиться от страха перед возможностью совершить непоправимое. Каждый раз, когда его во сне влекло к той каменной стене, он чувствовал, как НЕЧТО пытается, используя его, проникнуть из мира мертвых в мир живых, но понимал, что ОНО сможет это сделать, только если он, Олдер, будет прислушиваться к голосам мертвых, взывающих к нему. И каждый раз, когда он слышал эти голоса, он становился слабее и ему было все труднее противиться их зову.
Итак, трое мужчин, проделав довольно долгий путь по улицам города, жарким летним днем вышли наконец на простор полей и холмов, которые ступенями спускались к заливу. Здесь были довольно бедные земли: болотистые низины между холмами да узкие полоски пахотной земли на каменистых склонах. Городская стена сухой кладки на южной окраине была очень старой; крупные камни для ее строительства брали, видимо, прямо на склонах ближайших холмов. Вблизи не было видно ни пригородов, ни деревень, лишь вдали виднелось несколько разрозненных крестьянских хозяйств.
Проселочная дорога была просто отвратительной. Извиваясь, она поднималась на ближайший холм и с его вершины резко поворачивала к востоку, к другим, более высоким холмам. Поднявшись на вершину первого холма, путники увидели, что к северу, насколько хватал глаз, раскинулась в золотистой дымке столица, а дорога на самом деле образует здесь перекресток, точнее, целый лабиринт пеших троп самой разнообразной ширины. Они пошли точно на восток, и внезапно перед ними открылась огромная трещина в земле, черный провал шириной футов двадцать, а то и больше. Трещина эта лежала точнехонько поперек их тропы.
Было похоже, что гребень скалы, чуть выступающей из земли в этом месте, был переломлен или вывихнут во время какого-то землетрясения, да так никогда и не сросся как следует. Лучи закатного солнца, освещавшие края трещины, позволяли увидеть каменную поверхность ее внутренних стен, почти вертикально уходивших вниз; но чуть глубже видна была уже только тьма.
К южному склону холма, в долине, притулилась сыромятня, и дубильщики кож явно с давних пор повадились сносить сюда отходы своего производства и сбрасывать их в эту трещину, ничуть не заботясь о последствиях, так что вокруг все было буквально завалено обрывками вонючей полуобработанной кожи и пропитано запахами гниения и мочи. И еще какой-то запах доносился из глубин трещины, стоило заглянуть за ее край. Холодный, острый, землистый, запах этот заставил Олдера отпрянуть назад.
— О, как все это печально! Какой стыд! — громко воскликнул Сеппель, с отвращением глядя на кучи вонючего мусора и видневшуюся вдали крышу сыромятни. Выражение лица у него при этом было, надо сказать, весьма странное. Но уже через несколько минут он заговорил с Олдером как всегда ласково и мягко:
— Эта пещера, или расселина, называется Аурун. На Пальне она известна с давних времен и помечена даже на самых древнейших картах. У нас ее называют также Губы Паор. Когда-то, когда первые люди пришли сюда с запада, пещера говорила с людьми. Но это было очень давно. И люди с тех пор изменились. Она же осталась такой, какой и была. И здесь ты сможешь наконец снять с себя свою неподъемную ношу, если хочешь именно этого.
— Что я должен сделать? — просто спросил Олдер.
И Сеппель подвел его к южному концу огромной трещины, где она сужалась и острыми морщинами уходила прямо в скальную породу. Он велел Олдеру лечь ничком и вглядываться в темные глубины, осторожно вытягиваясь и как бы проникая внутрь пещеры, опускаясь все ниже, все дальше от света дня.
— Держись за землю, прильни к ней, — сказал волшебник. — Это единственное, что может тебе помочь. Даже если она шевельнется, не бойся и держись за нее.
Олдер лег на землю, вглядываясь во тьму в узком каменном колодце пещеры. Он чувствовал, как толкают и колют его в грудь и бедра камни. Потом услышал, как Сеппель запел что-то высоким голосом, и понял лишь, что это Язык Созидания. Он чувствовал тепло солнечных лучей у себя на плечах и чуял трупный запах гнилых кож, доносившийся из трещины и от дубильни. Потом пещера словно глубоко вздохнула, и от резкого запаха земных недр у Олдера перехватило дыхание-, начала кружиться голова, и тьма словно ринулась вверх, ему навстречу, а земля под ним задвигалась, запрыгала, затряслась. И он прильнул к ней, слушая высокий голос поющего и дыша дыханием земли. А потом тьма поднялась до самого верха, охватила его целиком, и солнечный свет померк в его глазах.
Когда Олдер очнулся, солнце висело совсем низко над землей — красный шар, окутанный туманной дымкой, над западным берегом залива. Солнце он видел ясно, видел он и Сеппеля, который сидел с ним рядом на земле и выглядел очень усталым и каким-то печальным. Длинная черная тень тянулась от него по каменистой земле среди других таких же длинных теней, отбрасываемых скалами.
— Ну вот ты и пришел в себя! — услышал Олдер голос Оникса.
И только сейчас осознал, что лежит на спине, а голова его покоится у Оникса на коленях. Какой-то камень больно впился ему в спину, и он сел, извинившись за причиненное беспокойство; голова у него кружилась.
Они пустились в обратный путь сразу, как только Олдер смог стоять на ногах, потому что путь был неблизкий и было ясно, что быстро идти не сможет ни он, ни Сеппель. Уже глубокой ночью они добрались наконец до Лодочной улицы и распрощались с Сеппелем, стоя в полосе света, падавшей из раскрытых дверей соседней таверны. Сеппель все время вопросительно поглядывал на Олдера, а на прощание сказал с несчастным видом:
— Я сделал, как ты просил.
— И я очень тебе за это благодарен, — ответил Олдер и протянул волшебнику свою правую руку, как это принято на Энладских островах. И через мгновение Сеппель неуверенно коснулся его протянутой руки, и они расстались.
Олдер настолько устал, что с трудом переставлял ноги. Он все еще чувствовал во рту и в горле тот острый, пугающий запах земных недр, струившийся из пещеры; казалось, он надышался этих испарений и потому теперь стал таким странно легким, легким до головокружения, каким-то совершенно пустотелым. Когда они вошли во дворец, Оникс заявил, что непременно проводит Олдера до самой спальни, но тот сказал, что прекрасно дойдет и сам, с ним все в порядке и ему просто нужно отдохнуть.
Когда он вошел в свою комнату, Буксирчик радостно прыгнул ему навстречу.
— Ах, милый, теперь ты мне уже не нужен, — сказал Олдер, наклоняясь, чтобы погладить котенка по пушистой серой спинке. Слезы показались у него на глазах, но он решил, что это просто слезы усталости. Он улегся на кровать, и котенок тут же вспрыгнул туда и свернулся, мурлыча, у него на плече.
И Олдер заснул: черным, тупым сном, совершенно лишенным сновидений. Во всяком случае, он ни одного сна вспомнить не мог, и ничей голос не звал его по имени, и не было никакого холма, покрытого сухой травой, и той стены из камня — ничего не было.
Прогуливаясь вечером, накануне того дня, когда они должны были отплыть на юг, по дворцовым садам, Тенар чувствовала беспокойство и странную тяжесть на сердце. Ей не хотелось плыть на Рок, на этот Остров Мудрецов, на этот Остров Волшебников («этих проклятых колдунов!» — казалось, услышала она знакомое каргадское выражение). Что ей там делать? Какая от нее там может быть польза? Ей хотелось домой, на Гонт, к Геду. В свой собственный дом, к своим собственным делам, к своему любимому мужу.
Она сознательно отдалила от себя Лебаннена. Ей казалось, что она его потеряла. Он теперь стал с ней особенно вежливым и любезным: не простил!
До чего же все-таки мужчины боятся женщин, думала Тенар, бродя среди кустов поздних, все еще цветущих роз. Не какой-то одной, а вообще, всех женщин, особенно если они говорят одно и то же, работают вместе, заступаются друг за друга — в таких случаях мужчины всегда видят какой-то заговор, колдовство, ловушки и западни…
Разумеется, они, в какой-то степени, правы. Женщины — они такие! Они, похоже, готовы сыграть роль и следующего поколения или, по крайней мере, определить ее и для этого плетут тонкие сети, которые мужчины воспринимают как ловушки для себя или как кандалы у себя на руках. А когда женщины устанавливают с мужчинами сложные духовные связи, мужчины воспринимают это как рабство. Она, Тенар, и Сесеракх Действительно заключили против Лебаннена некий союз и готовы «предать» его, если он действительно окажется ничем, если он не проявит должной решительности и независимости. Если он состоит всего лишь из воздуха и огня и не имеет ни основательности земли, ни терпения и гибкости водяных струй…
Но не таков был Лебаннен! Как, впрочем, не такой оказалась и Техану. Ее неземная, крылатая душа, жившая в девочке Терру, все еще стремилась к Тенар, все еще цеплялась за нее, однако это будет продолжаться недолго: вскоре — и Тенар это отлично понимала — Техану должна будет ее покинуть. От огня к огню.
Но какова оказалась эта Ириан, с которой вскоре уйдет Техану! Что, казалось бы, общего у столь яркого и столь свирепого существа с каким-то старым человеческим домом, который нуждается в уборке и ремонте, с каким-то старым пьяницей, который нуждается в уходе? Как вообще случилось, что Ириан способна понимать подобные вещи? Какое для нее, дракона, имеет значение то, что человек вынужден всегда выполнять свой долг, вступать в брак, заводить детей, нести свое земное ярмо?
Чувствуя себя одинокой и бесполезной среди существ столь высокой нечеловеческой судьбы, Тенар еще сильнее затосковала о доме. И не просто о доме — о Гонте. Вот почему бы ей, скажем, не вступить в дружеские отношения с Сесеракх? Возможно, та и принцесса, но ведь и сама она, Тенар, когда-то была Верховной жрицей Гробниц Атуана. Зато Сесеракх не собирается никуда улетать на волшебных крыльях, она душой и телом совершенно земная, истинная женщина. И к тому же говорит на родном языке Тенар! Тенар прилежно учила девушку ардическому языку, и ее очень радовали быстрые успехи Сесеракх. Она только теперь осознала, что на самом деле самое большое удовольствие для нее — просто поговорить по-каргадски, просто слушать и произносить слова, в которых для нее заключалось все утраченное детство.
Когда Тенар вышла на ту дорожку, что вела к рыбным прудам под большими ивами, то увидела Олдера. С ним был какой-то маленький мальчик, и они беседовали — тихо, серьезно. Тенар всегда была рада видеть Олдера. Она жалела его за ту боль и страх, которые ему постоянно приходилось выносить, и уважала его за это невероятное терпение. Ей нравилось его честное красивое лицо, его серебристый голос, напоминавший голос арфы, и его речь. Что плохого, если добавить к обычным словам несколько милых сердцу красивых слов? Да и Гед ему доверял.
Остановившись на некотором расстоянии, чтобы не помешать их разговору, она смотрела, как Олдер и мальчик, опустившись на колени, заглядывают куда-то к гущу кустарника. Вскоре из-под кустов вылез серый котенок, который не обратил на них ни малейшего внимания и, сверкая глазами, осторожно переставляя лапки и низко припадая брюшком к земле, продолжил охоту на того мотылька, которого пытался поймать в кустах.
— Ты можешь отпускать его охотиться на всю ночь, если хочешь, — сказал Олдер мальчику. — Он не заблудится и никому ничего плохого не сделает. Он волю очень уважает. Понимаешь, эти огромные сады для него — все равно что весь Хавнор. Или, если хочешь, можешь выпускать его на волю только по утрам. И тогда, если тебе это понравится, он может спать рядом с тобой.
— Мне бы это очень понравилось! — сказал мальчик застенчиво, но решительно.
— В таком случае, ты, наверное, это знаешь, поставь в своей комнате коробку с песком и плошку с чистой водой. Воду нужно часто менять, и ее всегда должно быть достаточно.
— И еще нужно поставить ему плошку с едой!
— Да, конечно; один раз в день обязательно корми его. Только не очень обильно. Он вообще-то немножко обжора.
— А он рыбу в пруду не ловит? — Кот в этот момент находился как раз рядом с одним из прудов с карпами; сидел себе на травке и беспечно озирался; тот мотылек, видно, куда-то улетел.
— Он любит за рыбками наблюдать, но не ловит их.
— И я это тоже очень люблю! — сказал мальчик. Они встали и вместе направились к прудам.
Тенар была тронута до глубины души. Была в Олдере этакая невинность, но не детская, а невинность взрослого мужчины и доброго, хорошего человека. Ему бы следовало иметь своих детей. Он безусловно был бы им хорошим отцом.
Тенар подумала о своих детях и маленьких внуках — хотя старшей дочке Яблочка, Пиппин, скоро двенадцать. Неужели это возможно? Двенадцать лет? Пиппин? Так ведь она уже в этом году или, в крайнем случае, в следующем должна пройти обряд наречения именем! Ох, пора, пора отправляться домой! Пора сходить в гости в Срединную долину, отнести подарок старшей внучке по случаю скорого наречения именем, а малышам — игрушки. Пора убедиться, что Искорка при его беспокойном характере не слишком сильно подрезал грушевые деревья, как это уже бывало. Пора посидеть и спокойно поговорить с Яблочком, ее милой, доброй доченькой… Истинное имя Яблочка было Хайохе, его ей дал еще Огион… Вспомнив об Огионе, Тенар, как всегда, испытала резкий приступ страстной любви и тоски и увидела перед собой знакомый очаг и сидящего у очага Геда. Увидела, как он поворачивает к ней свое смуглое лицо, собираясь задать ей какой-то вопрос, и тут же ответила на этот его вопрос — во весь голос, нарушив тишину королевского сада: — Так скоро, как только смогу!
Ярким летним утром они спустились от дворца к пристани, чтобы погрузиться на борт «Дельфина». Население Хавнора устроило по случаю их отплытия настоящий праздник. Люди так и кишели на улицах и у причалов, все каналы, бухты и проливы были буквально забиты маленькими суденышками, которые здесь называли скорлупками. На мачтах суденышек развевались разноцветные паруса и яркие флажки; флаги и знамена реяли также на башнях больших домов, принадлежащих знати, и на флагштоках мостов — как на земле, так и над крышами. Проходя сквозь ликующую толпу, Тенар думала о том давнишнем дне, когда она впервые приплыла в Хавнор, когда они с Гедом вернули на родину Кольцо Эльфарран с написанной на нем Руной Мира. Тогда Кольцо было у нее на руке, и она подняла руку как можно выше, чтобы солнце ярко засияло на серебре, чтобы все увидели его, и люди увидели его и возликовали. Они, как и теперь, тянули к ней руки, словно хотели ее обнять… Тенар даже улыбнулась, вспомнив об этом, и все еще улыбалась, когда поднялась по сходням на борт корабля и поклонилась Лебаннену.
Он приветствовал ее традиционным шкиперским приветствием:
— Добро пожаловать на борт, госпожа Тенар! — И она ответила, сама не зная, что именно заставило ее произнести эти слова:
— Благодарю тебя, сын Эльфарран! — Лебаннен некоторое время удивленно смотрел на нее, озадаченный подобным обращением, но тут на борт поднялась не отстававшая от матери Техану, и он повторил свое шкиперское приветствие:
— Добро пожаловать на борт, госпожа Техану! — Тенар сразу прошла на нос корабля, помня, что там, возле кабестана, есть местечко, где пассажир вполне может устроиться так, чтобы не мешать работе моряков, но все же видеть все, что творится на палубе и на забитых народом причалах.
Вдруг на главной улице, ведущей в порт, толпа всколыхнулась: прибыла принцесса Каргада. Тенар с удовлетворением отметила, что Лебаннен, а может, его дворецкий устроил для принцессы прямо-таки великолепный прием. Конный эскорт прокладывал путь, кони похрапывали и изящно переступали ногами. Высоченные красные перья — такие перья каргадские воины носят на своих шлемах — качались на крыше закрытой повозки, позолоченной и ярко разукрашенной, в которой принцесса проехала через весь город; таким же плюмажем были украшены и головы четырех серых коней, что тащили повозку. Группа музыкантов, поджидавших у самой воды, тут же взялась за трубы, барабаны и тамбурины. И собравшиеся, поняв, что сейчас им будет предоставлена возможность видеть каргадскую принцессу, приветствовали ее с таким восторгом и так близко обступили карету, что конной и пешей охране пришлось их немного отогнать. Но люди все равно были исполнены восторга и время от времени начинали выкрикивать:
— Да здравствует королева каргов! — хотя кое-кто все же сомневался, что это и есть королева.
— Глянь-ка, глянь-ка! — услышала Тенар. — Они тут все в красное одеты! С ног до головы закутаны. Вот красота, точно самоцветы! Так которая ж она-то?
А более осведомленные кричали:
— Да здравствует принцесса!
Наконец Тенар увидела Сесеракх — разумеется, укутанную в покрывала с ног до головы. Она сразу узнала ее по высокому росту и горделивой осанке; принцесса с достоинством вылезла из повозки и проплыла по направлению к сходням. Две из ее служанок в менее длинных покрывалах семенили за нею следом; за ними шла леди Опал с острова Илиен. Сердце Тенар упало: Лебаннен строго-настрого запретил брать на борт каких бы то ни было служанок или компаньонок принцессы, ибо им предстояла отнюдь не увеселительная прогулка, и те, кто будет на борту «Дельфина», Должны действительно иметь на это полное право. Неужели Сесеракх этого не поняла? Или она настолько не способна обойтись без своих глупых соплеменниц, что собирается нарушить указ короля? Это было бы самым неудачным началом путешествия, огорчилась Тенар.
Но у самых сходен переливающийся золотом красный цилиндр остановился. Из-под покрывал высунулись изящные золотисто-смуглые руки принцессы, сверкающие от обилия золотых колец и браслетов, и она обняла по очереди всех своих прислужниц, явно прощаясь с ними. Она обняла и леди Опал — очень отстраненно и изысканно, как и подобает принцессе прилюдно обнимать знатную даму. Затем леди Опал, точно пастушка овец, погнала служанок назад к повозке, а сама принцесса вновь повернулась лицом к сходням.
И тут возникла некоторая заминка. Тенар видела, как безликая красно-золотая колонна качнулась: принцесса глубоко вздохнула и от страха набрала в грудь столько воздуха, что даже стала чуть-чуть выше ростом.
А потом она медленно, но решительно двинулась по сходням на борт. Как раз наступило время прилива, так что сходни висели высоко и подъем по ним был довольно крут, но принцесса не колеблясь и с неизменным достоинством шла по ним, и вся толпа на берегу замолкла, наблюдая за ней и восхищаясь.
Наконец фигура в красных покрывалах достигла палубы и остановилась прямо перед королем.
— Добро пожаловать на борт, ваше высочество! — звенящим голосом приветствовал ее Лебаннен, и толпа тут же взорвалась ликующими криками:
— Ура! Да здравствует принцесса Каргада! Да здравствует наша королева! Отлично прошла, Красненькая!
Лебаннен что-то сказал принцессе, но остальным из-за царившего вокруг радостного шума слов его было не разобрать. Красная колонна повернулась к толпе на набережной и поклонилась — весьма изящно, хотя и несколько скованно.
Техану, давно поджидавшая Сесеракх, теперь вышла вперед и заговорила с ней, а потом повела ее в каюту, расположенную на корме, где молодая женщина в тяжелых, мягко струящихся красных с золотом покрывалах и скрылась. Толпа на пристани ликовала и с еще большим восторгом продолжала орать:
— Вернись, принцесса! Где ты, Красненькая? Куда ты скрылась, дорогая ты наша госпожа? Где наша королева?
Тенар, выглянув из каюты, посмотрела на Лебаннена. О своих обидах и лежавшей на сердце тяжести она сразу забыла; неудержимый смех рвался наружу, и она, усмехнувшись, подумала: бедный мальчик, что же тебе теперь-то делать? Вон смотри, люди на пристани влюбились в нее с первого взгляда, а ведь они и увидеть ее как следует не могли… Ох, Лебаннен, все мы, женщины, в заговоре против тебя!
«Дельфин» был судном не только удивительно пропорциональным и изящным, но и вполне способен был доставить короля на любой остров Земноморья, и притом с должным комфортом. Это было отличное, крепкое судно, призванное не плыть, а лететь под парусами и быстро доставлять своих пассажиров к месту назначения. Впрочем, особыми удобствами «Дельфин», как и все современные ему корабли, не отличался, да на нем и плавали обычно, помимо короля и его немногочисленной свиты, лишь сами моряки, несколько офицеров и матросы. Путешествие на остров Рок на этот раз оказалось менее комфортабельным, чем обычно, потому что пассажиров было слишком много. Матросы, разумеется, как всегда, спали в своем кубрике в три фута высотой, расположенном в переднем трюме, а вот офицерам пришлось потесниться и кое-как разместиться в общем грязноватом помещении под полубаком. Что же касается пассажиров, то четырех женщин поместили в ту каюту, которая считалась «королевской», а в каюте под нею, обычно занятой шкипером и двумя офицерами, устроились сам король, два волшебника, Олдер и шкипер Тосла. Возможностей для мелких обид и дурного настроения будет хоть отбавляй, сразу подумала Тенар. И одной из весьма существенных проблем оказалось то, что принцессу постоянно укачивало.
Они пересекали Большой Залив при легком попутном ветерке и спокойном море; корабль скользил по воде, точно лебедь по глади садового пруда, но Сесеракх скорчилась на своей койке и плакала от отчаяния, стоило ей выглянуть из-под своих покрывал и увидеть в широкое кормовое окно солнечную, мирную морскую гладь и легкий белый бурун за бортом корабля.
— Теперь так все время и будет — вверх-вниз, вверх-вниз, — причитала она по-каргадски.
— И совсем не все время, — успокаивала ее Тенар. — Море совершенно спокойное. Ты головой-то подумай!
— Дело в моем животе, а вовсе не в голове, — хныкала Сесеракх.
— Никто никогда не страдает морской болезнью при таком спокойном море. Ты просто боишься!
— Мама, — вмешивалась Техану, не понимая, что они говорят, но догадываясь по интонациям, — не ругай ее. Это так унизительно, когда тошнит!
— Ее вовсе не тошнит! — сердилась Тенар, абсолютно уверенная в том, что тошнить принцессу никак не может. — Тебя ведь не тошнит, Сесеракх? Ты просто боишься, что тебя будет тошнить! Ну, возьми же себя в руки! Выйди на палубу. Свежий воздух тебе непременно поможет. Свежий воздух и смелость — вот твои главные помощники.
— Ах, друг мой, дорогая Тенар, — прошептала Сесеракх. — Ты такая смелая, так дай и мне немного смелости!
Тенар даже оторопела.
— Ты должна сама набраться смелости, милая, — сказала она чуть мягче. — Ну, давай попробуем выйти на палубу, детка, хотя бы на минутку! Техану, попытайся хоть ты уговорить ее. Подумай, что с ней будет, если мы действительно попадем в шторм!
Наконец им удалось убедить Сесеракх встать с постели, надеть красный цилиндр из покрывал, без которого она, конечно же, была не в силах появиться мужчинам на глаза, и с огромным трудом вытолкнули ее из каюты. Потом все вместе они уселись под стеной каюты, в тени, на безупречно, до белизны выскобленной палубе и стали смотреть в синий, сверкающий на солнце морской простор.
Сесеракх даже сподобилась раздвинуть свои покрывала и теперь смотрела прямо перед собой куда-то себе в колени, лишь изредка бросая испуганный взгляд на воду, после чего закрывала глаза и снова утыкалась взором в собственные колени.
Тенар и Техану время от времени переговаривались, указывая на проплывающие мимо суда, на птиц, на какой-нибудь островок.
— До чего же хорошо! Я и забыла, до чего хорошо плавать по морю! — воскликнула Тенар.
— Да, мне тоже нравится, особенно если забыть, что кругом вода, — сказала Техану. — Это похоже на полет…
— Эх вы, драконы! — только и промолвила Тенар.
Она сказала это легко, и звучали ее слова вполне безобидно, однако они имели глубокий смысл. Впервые Тенар сказала нечто подобное своей приемной дочери. Она сразу почувствовала, что Техану повернулась так, чтобы видеть ее своим зрячим глазом, и внимательно на нее смотрит. Сердце Тенар тяжко билось в груди.
— Вам подавай воздух и огонь, — прибавила она.
Техану молчала. Но ее здоровая рука, смуглая и тонкая, крепко сжала руку Тенар.
— Я еще не знаю наверняка, кто я такая, мама, — прошептала она.
— А я знаю! — сказала Тенар. И сердце ее забилось еще сильнее и тяжелее, чем прежде.
— Я не такая, как Ириан, — попыталась Техану успокоить мать. Ей хотелось сказать Тенар что-то приятное, дать ей какое-то обещание — наверное, никогда не покидать свою приемную мать, — но в голосе ее звучало такое страстное желание летать, такая мучительная зависть, такая глубинная страсть…
— Подожди, подожди, скоро все окончательно выяснится, — сказала Тенар. Оказалось, ей тоже очень трудно говорить. — И ты узнаешь, что тебе делать… и кто ты такая…
Они говорили так тихо, что принцесса, пожалуй, не смогла бы расслышать, о чем они говорят, даже если б понимала ардический язык. О ней они совсем забыли. Однако Сесеракх, услышав имя Ириан, еще шире раздвинула покрывала, выпростала свои прекрасные руки и, повернувшись к Тенар и Техану, спросила на ардическом:
— Ириан, она есть где? — Глаза принцессы ярко блестели в красноватой полутени последнего покрывала.
— Где-то вон там… — Тенар махнула рукой в сторону носа корабля.
— Она… притворяется смелой, да? Тенар помолчала минутку и ответила:
— Ей не нужно притворяться смелой, Сесеракх. Она и так совершенно бесстрашна.
— Ах… — вздохнула принцесса, оглядывая весь корабль и наконец увидев Ириан, которая стояла на носу рядом с Лебанненом. Король показывал куда-то вперед, яростно жестикулировал, говорил с большим воодушевлением и смеялся. Ириан тоже смеялась. Она была почти того же роста, что и король.
— Гололицая! — сердито пробурчала Сесеракх по-каргадски. А потом прибавила на ардическом — задумчиво и почти неслышно: — Бесстрашная.
И скрылась под своими покрывалами. Больше она не двигалась и вопросов не задавала — застыла, как каменное изваяние.
Длинная береговая линия Хавнора за кормой корабля стала таять в синей дымке. На севере в вышине еще плыла неясно видимая вершина горы Онн, но ее уже заслоняли черные базальтовые скалы острова Омер, которые высились по правому борту, когда «Дельфин» пробирался по узким проливам Эбавнора во Внутреннее море. Солнце ярко светило, дул свежий ветер — наступал еще один отличный ясный денек. Женщины, как всегда, устроились под парусиновым навесом, который моряки натянули позади каюты. Эти женщины явно принесли судну удачу, и моряки старались, как могли, угодить им хотя бы в мелочах — старались от чистого сердца. С волшебниками, которые способны принести кораблю в равной степени и удачу, и неудачу, моряки тоже обращались очень хорошо и тоже устроили для них навес на юте, где им было удобно смотреть вперед. Для женщин моряки даже раздобыли где-то бархатные подушки, попавшие на судно, видимо, заботами короля или его дворецкого. Волшебники же вполне удовлетворились свернутой в несколько раз парусиной.
Олдер видел, что его здесь считают тоже одним из волшебников, но ничего с этим заблуждением поделать не мог, хотя это его весьма смущало: ведь Оникс и Сеппель могли подумать, что он считает себя им равным. Эта мысль тревожила его особенно сильно еще и потому, что теперь он даже и колдуном-то больше не был, ибо дар его бесследно исчез. У него не осталось ни капельки волшебной силы. Он знал это так же точно, как знал бы, например, что утратил зрение или способность двигать руками и ногами. Теперь он бы даже разбитый кувшин починить не смог, разве что с помощью обыкновенного клея. Но для этого, разумеется, особого мастерства не требуется.
Но у него было такое ощущение, что, помимо мастерства латальщика, он потерял и еще что-то очень важное. И теперь из-за этой неведомой утраты — в точности как и после смерти жены — пребывает в какой-то тупой прострации, где нет места радости, где с ним не может случиться ничего нового, где все застыло в оцепенении и ничто никогда не переменится.
Видимо, это ощущение было связано с каким-то более широким аспектом его дара. Олдер все время думал об этом, пытаясь разгадать, какова же была истинная природа его мастерства. «Похоже, что раньше я всегда знал, куда должен идти и в каком направлении находится мой дом, а теперь это знание потерял». Это ощущение, впрочем, не было достаточно конкретным, его невозможно было бы как-то определить или кому-то рассказать о нем, но Олдер понимал, что утратил некое важнейшее качество, от которого зависело все остальное в его жизни. И без него он стал совершенно бесполезен и никому не нужен.
Зато он, по крайней мере, никому не причинял никакого вреда. Сны его стали какими-то мимолетными и совершенно бессмысленными. И он больше не попадал во сне на тот холм с мертвой травой, к той стене, и ничьи голоса больше не звали его во тьму.
Он часто думал о Ястребе. Он мечтал о возможности поговорить с ним! Бывший Верховный Маг отдал все свое могущество людям, но все равно остался самым великим среди прочих великих, думал Олдер, хотя и доживает свой век в бедности и безвестности. Однако бедность и безвестность Ястреб предпочел королевским почестям по собственной воле. А ведь Лебаннен до сих пор мечтает сложить к его ногам самые высокие полномочия и любые почести. Возможно, решил Олдер, богатство и высокое положение в обществе и не нужны человеку, который ТАК и В ТАКОМ МЕСТЕ утратил и былое могущество, и былое благополучие.
Олдер часто замечал, что волшебник Оникс явно жалеет о том, что способствовал заключению его странной сделки с Сеппелем. Оникс и прежде был с Олдером вежлив и учтив, но теперь проявлял к нему какое-то особое внимание и сочувствие. А вот его отношение к волшебнику с острова Пальн стало более прохладным, почти отчужденным. Сам же Олдер никакой неприязни по отношению к Сеппелю не испытывал и не сомневался в искренности его намерений. С Древними Силами Земли шутить не будешь. Их помощи люди просят всегда на свой страх и риск. И всегда риск очень велик. Сеппель же сразу предупредил его, что цена будет высокой. И разъяснил, какова будет эта цена, хотя сам Олдер тогда не очень-то его предостережения понял. Но вины Сеппеля в том нет никакой. Он сам во всем виноват, ибо никогда не ценил свой дар как нечто действительно стоящее.
И Олдер, сидя рядом с двумя волшебниками, чувствовал себя фальшивой монетой, которую положили в один кошелек с двумя настоящими золотыми. Впрочем, это не мешало ему с интересом прислушиваться к разговорам волшебников, а они, полностью ему доверяя, говорили при нем совершенно свободно. Олдеру эти разговоры служили такими прекрасными уроками, о каких он даже и не мечтал, будучи простым колдуном.
Оникс и Сеппель, сидя в полупрозрачной тени, отбрасываемой парусиновым пологом, говорили тоже о сделке, но о куда более значительной, чем та, которую заключил Олдер, желая прекратить свои сновидения. И Олдер много раз слышал, как Оникс произносит те же самые слова Истинной Речи, которые сказал ему тогда Сеппель: ВЕРВ НАДАН. И чем дальше, тем больше Олдер начинал понимать значение этих слов: некий выбор, или разделение одного и другого, или превращение одной вещи в две совершенно различные, Давным-давно, еще до того, как в Земноморье стали править короли Энлада, еще до изобретения ардической письменности и, может быть, даже до возникновения ардического языка, когда существовал только один язык, Язык Созидания, люди, как теперь представлялось Олдеру, сделали некий трагический выбор, отказавшись от великого могущества во имя чего-то другого.
Ему было трудновато разобраться в корнях спора волшебников, и не потому, что они что-то от него скрывали, но потому, что они и сами как бы ощупью искали то, что затерялось в туманном прошлом, в тех немыслимо далеких временах, что предшествуют памяти человечества. Слова Истиной Речи часто по необходимости вплетались в их беседу, а Оникс порой вообще говорил только на этом языке, хотя Сеппель, понимая его отлично, предпочитал все же отвечать на ардическом. Сеппель вообще скупо пользовался словами Древнего Языка. Однажды он даже предостерегающе поднял руку, желая остановить дальнейшие рассуждения Оникса, и, заметив его вопросительный взгляд, мягко пояснил: «Слова заклятий иногда начинают действовать сами собой».
Учитель Олдера, Ганнет, тоже называл слова Древнего Языка «словами заклятий». «Каждое из них есть проявление великого могущества, — говорил он, — ибо каждое слово Истинной Речи заставляет истину существовать в реальной действительности». Ганнет также весьма скупо пользовался «словами заклятий», которые знал; он произносил их только при абсолютной необходимости, а если писал какую-нибудь Истинную Руну, то стирал ее практически сразу, едва успев дописать. Да и большая часть известных Олдеру колдунов вели себя столь же осторожно, то ли стремясь сберечь собственные знания, то ли просто уважая могущество и волшебную силу Языка Созидания. Даже Сеппель, который был настоящим волшебником и обладал куда более обширными знаниями, чем обыкновенные колдуны, предпочитал не пользоваться словами Истинной Речи в повседневных беседах, считая, что если обычные языки вполне допускают ложь, то их можно использовать и для всяких недомолвок, а также в том случае, когда не очень уверен в правильности своих суждений.
Возможно, это было частью того выбора, который люди сделали когда-то давно — отказаться от врожденного знания Древнего Языка, хотя этим языком они некогда владели так же, как и драконы. Интересно, думал Олдер, они поступили так специально, желая иметь свой собственный язык, более подходящий людям и дающий возможность лгать, нести всякую чушь и выдумывать чудеса, которых никогда не было и не будет на свете?
Драконы же говорили только на Древнем Языке. Однако всем было известно, что драконы не только способны, но любят лгать и обманывать. Прежде всего людей, конечно. А правда ли это? Ведь если «слова заклятий» истинны, думал Олдер, то вряд ли даже дракон способен использовать их для того, чтобы солгать!
Сеппель и Оникс дружно умолкли. Это была самая обычная пауза в их бесконечном разговоре: оба, видимо, несколько устали. Заметив, что Оникс даже вроде бы задремал, Олдер тихонько спросил пальнийского волшебника:
— А это правда, что драконы могут лгать, хотя и используют только Истинную Речь?
Сеппель улыбнулся.
— Это — как говорим мы на Пальне — «тот самый вопрос»! Его великий Атх задал дракону Орму тысячу лет назад в руинах Онтуэго. «Может ли дракон солгать?» — спросил волшебник. И Орм ответил: «Нет», — и дохнул на него огнем, оставив от Атха горстку пепла… Но стоит ли нам верить этой истории? Ведь что там было на самом деле, знает один лишь Орм.
«Бесконечны споры магов между собой», — подумал про себя Олдер, но вслух этого не сказал.
Оникс явно решил поспать как следует; голова его откинулась назад, суровое напряженное лицо расслабилось.
И Сеппель сказал еще тише, чем обычно:
— Олдер, я надеюсь, ты не жалеешь о том, что мы сделали в пещере Аурун? Я знаю, наш общий друг считает, что я недостаточно внятно предупредил тебя.
И Олдер, не колеблясь, ответил:
— Я ни о чем не жалею!
Сеппель молча поклонился, а Олдер быстро прибавил:
— Я понимаю, что все вы, волшебники, стараетесь сохранить Великое Равновесие. Но Древние Силы Земли ведут свой собственный отсчет, верно?
— Да. И «справедливость» их такова, что людям трудно ее понять.
— В том-то и дело. Вот и я пытаюсь понять: почему я должен был отказаться от своей профессии, чтобы мне перестали сниться сны о царстве мертвых? Какое отношение одно имеет к другому?
Некоторое время Сеппель молчал, а затем ответил — вопросом на вопрос:
— Но ведь не благодаря своему мастерству ты пришел к той каменной стене?
— Нет, конечно! — уверенно ответил Олдер. — У меня было не больше возможностей пойти туда, чем не пойти.
— Так как же ты все-таки попал туда?
— Жена позвала меня, и душа моя устремилась к ней.
Последовало длительное молчание. Затем волшебник промолвил:
— Другие тоже теряют горячо любимых жен и мужей…
— И я так говорил лорду Ястребу, но он сказал: это верно, но все же связь между двумя истинно любящими друг друга бывает порой столь тесна, что может длиться почти вечно…
— Ни одна связь не может длиться вечно, если люди разделены той каменной стеной!
Олдер посмотрел прямо в проницательные глаза волшебника, ярко горевшие на его добром смуглом лице.
— Но почему это так? — спросил он, помолчав.
— Потому что смерть прерывает всякую связь между людьми и их душами.
— Но тогда почему же эти мертвые никак не могут умереть?
Сеппель, явно застигнутый этим вопросом врасплох, изумленно уставился на Олдера.
— Прости, — сказал Олдер. — Я просто неправильно выразился. Я хотел сказать вот что: я знаю, смерть прерывает связь души и тела, и тело умирает, возвращаясь обратно в землю, а душа должна отправиться в ту темную страну, имея прежнюю телесную оболочку; но как долго душе терпеть это существование? Неужели вечно? Вечно — среди холодных камней, покрытых серой пылью, вечно в сумерках, во тьме, без единого лучика света, без любви, без малейшей радости? Мне невыносимо думать о том, что Лили останется там навечно! Почему она должна оставаться там? Почему она, точнее, ее душа, не
может… — он невольно запнулся, — …быть свободной?
— Потому что там не бывает ветра! — сказал Сеппель. Взгляд у него был очень странный, а голос звучал жестко. — Искусство человека виновато в том, что ветры никогда не дуют в темной стране.
Он внимательно посмотрел на Олдера, но, казалось, видит его не очень хорошо. Лишь постепенно взгляд его прояснился, выражение лица переменилось, и он отвернулся, словно любуясь изящно выгнутым фок-марселем, полным свежего северо-западного ветра. Потом Сеппель опять быстро глянул на Олдера и сказал почти так же мягко и ласково, как всегда:
— Впрочем, об этом ты знаешь не меньше меня, друг мой. Даже больше — ты узнал все это собственной плотью, собственной кровью, и это знание стучит в твоем сердце. А я знаю только на словах. Но это старинные слова!.. Давай-ка лучше сперва доберемся до Рока, и, возможно, тамошние Мудрецы сумеют объяснить нам то, что мы тщетно пытаемся понять. А если этого не смогут разъяснить и они, то, может быть, расскажут драконы. А может быть, именно ты станешь тем человеком, который покажет нам верный путь.
— Ну да, и буду как тот самый слепец, который ведет зрячих к краю пропасти! — воскликнул с горьким смехом Олдер.
— Ах, мы и так уже стоим на самом краю пропасти! И глаза наши закрыты, — промолвил Сеппель.
Лебаннен вскоре понял, что корабль слишком мал, чтобы вместить то невероятное беспокойство, что переполняло его. Женщины целыми днями сидели под своим крошечным навесом, а волшебники — под своим, как утки в рядок, а он мерил шагами палубу, метался вверх и вниз по трапу и постоянно терял терпение из-за того, что палуба слишком узка и мала. Ему казалось, что именно его нетерпение, а вовсе не волшебный ветер заставляет «Дельфина» бежать так быстро. И все же недостаточно быстро! Лебаннен мечтал, чтобы это путешествие закончилось как можно скорее.
— А помнишь тот флот близ Уотхорта? — спросил Тосла, вместе с Лебанненом склоняясь над картой. — Великолепное было зрелище! Тридцать кораблей в ряд!
— Хотелось бы мне, чтобы мы сейчас плыли не на Рок, а на Уотхорт! — вырвалось у Лебаннена.
Да, я тоже никогда Рок не любил, — понимающе кивнул Тосла. — К тамошним берегам порой и на двадцать миль не подойти — ни тебе нормального ветра, ни нормального течения, только тот «бульон», который эти волшебники сварили! И скалы, что торчат из воды к северу от Рока, тоже никогда на одном месте не бывают. А город полон всяких мошенников и трюкачей, которые только и делают, что обличье меняют! — И старый морской волк Тосла сплюнул в воду. — Я бы, пожалуй, предпочел снова встретиться со стариком Гором и его работорговцами, чем с этими Мудрецами!
Лебаннен кивнул, но сам ничего не сказал. В этом-то и была прелесть бесед с Тослой: он запросто говорил вслух то, что Лебаннену, он сам это чувствовал, лучше было вслух не говорить, даже если он полностью разделяет мнение Тослы.
— А кто был тот немой, помнишь? Точнее, безъязыкий? — спросил Тосла. — Тот, что убил Сокола на городской стене?
— Эгре. Пират и работорговец.
— Вот-вот. Он сразу узнал тебя — там, в Сорре. Прямо к тебе направился. Интересно, откуда он тебя знает?
— Однажды я попался ему в руки. И стал его рабом.
Удивить чем-нибудь Тослу было нелегко, но после этих слов моряк уставился на Лебаннена, разинув рот. Он явно ему не верил, но сказать, что не верит, не мог, а потому и молчал. Лебаннен с минуту наслаждался произведенным эффектом, но потом все же сжалился над шкипером.
— Когда Верховный Маг взял меня на охоту за Кобом, мы сперва отправились на юг. И какой-то тип в городе Хорте подло заманил нас прямо в логово работорговцев. Ястреба они тут же свалили ударом по голове, и я бросился бежать, надеясь, что смогу увести их от него. Но оказалось, что охотились они именно за мной — за меня можно было получить куда более высокую цену. В общем, очнулся я в цепях на галере, направлявшейся в Соул. Но Ястреб спас меня еще до исхода ночи. И всех остальных рабов тоже. Оковы упали с нас, точно сухие листья, сорванные ветром. А потом он велел Эгре замолчать и молчать до тех пор, пока не найдет что-нибудь, заслуживающее того, чтобы об этом говорить вслух… Верховный Маг тогда приблизился к нашей галере в виде огромного столба света над черной водой!.. Тогда я впервые понял, Каков он на самом деле. И каково его могущество!
Тосла некоторое время переваривал услышанное.
— Значит, он снял оковы со всех рабов? Но почему же никто не прикончил этого Эгре?
— Возможно, они считали, что теперь пришел их черед, заковали его в кандалы, а потом продали на рынке рабов в Соуле, — пожал плечами Лебаннен.
Тосла снова некоторое время обдумывал подобную возможность, потом спросил:
— Так, значит, ты поэтому так стремился поскорее покончить с работорговлей?
— Это одна из причин.
— М-да-а, как показывает практика, рабство обычно плохо сказывается на характере человека. — Тосла внимательно посмотрел на карту Внутреннего моря, висевшую на стене слева от рулевого, и сказал: — Остров Уэй. Между прочим, оттуда родом эта женщина-дракон.
— Ты, похоже, с нее глаз не спускаешь?
Тосла уже сложил губы дудкой, собираясь присвистнуть, но свистеть не стал — на корабле это уж и вовсе было недопустимо.
— Помнишь, я как-то говорил тебе, что есть акая песня «Девушка из Белило»? Я ее прежде всегда считал чем-то вроде сказки. Пока эту Ириан не увидел.
— Вряд ли она захочет тебя съесть, Тосла, — поддразнил моряка Лебаннен.
— А что, это была бы славная смерть! — Но тон у Тослы был довольно кислый.
Король рассмеялся.
— Смотри, счастье свое не спугни, — сказал Тосла.
— Да я не боюсь.
— Ты с этой Ириан разговариваешь так свободно и легко… А по-моему, это все равно что с вулканом говорить! Но я вот что тебе скажу: интересно было бы все-таки как следует рассмотреть тот подарочек, который тебе карги прислали. Если судить по ступням, посмотреть там есть на что! Вот только как ее из этого дурацкого «шатра» выманить? Ступни-то — просто прелесть, но мне бы хотелось увидеть для начала еще хотя бы щиколотки и чуть-чуть повыше.
Лебаннен почувствовал, что невольно мрачнеет, и отвернулся, чтобы Тосла этого не заметил.
— Если бы мне кто-нибудь прислал такую посылку, — продолжал Тосла мечтательно, — я бы ее непременно сразу открыл!
Лебаннен не смог сдержать легкий жест нетерпения. Это Тосла все-таки заметил — у него вообще глаз был острый. Он усмехнулся и больше не прибавил ни слова.
На палубу вышел помощник капитана, и Лебаннен тут же обратился к нему:
— Облачность, по-моему, сгущается. Будет шторм?
Моряк кивнул:
— Точно. На юго-западе уже погромыхивает. К ночи как раз под грозу попадем.
Море к полудню подернулось рябью, солнечный свет приобрел какой-то красноватый оттенок, ветер порывами налетал то с одной стороны, то с другой. Тенар не раз говорила Лебаннену, что принцесса боится моря и страдает морской болезнью, и он раза два невольно посмотрел в сторону «женской» каюты, где под навесом все эти дни постоянно сидели Тенар с Техану и принцесса. Он думал, что принцесса уже ушла в каюту, но оказалось, что знакомая фигура, закутанная в красные покрывала, все еще там, а внутрь ушли как раз Тенар и Техану. Рядом с принцессой Лебаннен увидел Ириан. Они о чем-то увлеченно беседовали. Интересно, о чем это женщина-дракон родом с острова Уэй может беседовать с выросшей в гареме пугливой особой с острова Гур-ат-Гур? И на каком языке они объясняются друг с другом? Последний вопрос настолько заинтересовал Лебаннена, что он даже подошел к девушкам.
Ириан тут же подняла на него глаза и приветливо улыбнулась. У нее было открытое лицо с крупными выразительными чертами и широкая улыбка. А еще ей, видно, очень нравилось ходить босиком, она была совершенно равнодушна к тому, во что в данный момент одета, и позволяла ветру сколько угодно трепать ее волосы. И тем не менее она производила впечатление обыкновенной деревенской девушки, пусть хорошенькой, темпераментной и умной, но совершенно неотесанной, пока не заглянешь ей в глаза. Глаза у нее были цвета дымчатого янтаря, и когда она смотрела прямо на Лебаннена, как сейчас например, он не мог выдержать ее взгляда и опускал глаза.
Лебаннен давно уже дал всем понять, что на корабле не место придворной куртуазности, всяким поклонам и приседаниям; никто не обязан был немедленно вскакивать, если к нему подходил даже сам король, однако эта принцесса, конечно, тут же вскочила. Ножки у нее, как справедливо заметил Тосла, действительно были прелестны: не слишком малы, с красивым высоким подъемом, сильные, но изящные. Лебаннен смотрел на две босые узкие ступни на выбеленных досках палубы и не мог отвести глаза. А когда наконец поднял голову, то увидел, что принцесса, как и во время их предыдущего разговора, раздвигает свои покрывала, но так, чтобы только он — и никто другой! — смог бы увидеть ее лицо. И Лебаннен был поражен суровой, почти трагической красотой этого лица, скрывавшегося в красноватой тени.
— Все ли… все ли хорошо, принцесса? — спросил он, запинаясь, что случалось с ним крайне редко.
— Мой друг Тенар сказала: дыши ветром, — промолвила она в ответ.
— Да-да, — пробормотал он невпопад.
— А не могут ли наши волшебники что-нибудь сделать для принцессы, господин мой? — обратилась к нему Ириан и встала, распрямив свои длинные ноги. Обе эти женщины были почти одного роста с Лебанненом.
Лебаннен тщетно пытался угадать, какого цвета у принцессы глаза, поскольку в данный момент имел возможность смотреть прямо в них.
Голубые, решил он, но похожи на голубые опалы, потому что меняют цвет, словно в глубине их скрывается множество иных оттенков. Впрочем, может быть, виновато солнце, просвечивавшее сквозь ее красное покрывало?..
— Сделать для принцессы? — рассеянно переспросил он.
— Ну да, ей бы очень хотелось, чтобы морская болезнь не мучила ее так сильно. Она ведь просто ужасно чувствовала себя на пути в Хавнор с Каргадских островов.
— Я бояться ни за что! — заявила принцесса и с вызовом посмотрела прямо на Лебаннена. «Чего это она?» — удивился он и сказал:
— Да, разумеется, я сейчас попрошу Оникса что-нибудь сделать. Я уверен, что он сможет ей помочь хоть немного. — Он поспешно поклонился и пошел разыскивать волшебника.
Оникс и Сеппель обсудили его просьбу и посоветовались с Олдером. Заклятие от морской болезни было скорее из арсенала колдунов-целителей или профессиональных латальщиков, а не могущественных волшебников. Сам Олдер, к сожалению, абсолютно ничем не смог бы помочь принцессе, разве что припомнить слова заклятия, но, увы, он их вспомнить не смог. Да ему и не приходилось никого лечить от морской болезни, он никогда даже и не помышлял о путешествии по морю, пока не начались его беды. Что же касается Сеппеля, то он признался, что и сам всегда страдает от морской болезни — особенно на небольших суденышках или при сильной качке. В итоге Ониксу пришлось отправиться к принцессе под навес и в изысканных выражениях просить у нее прощения, ибо никто из них ничем не мог ей помочь, сам Оникс никогда даже не знал заклятия от морской болезни. Он мог предложить ей — и это Оникс сказал совсем уж извиняющимся тоном — только некий амулет, который один из моряков, слышавший ее просьбу — а моряки ведь все слышат! — буквально насильно сунул ему в руку.
Изящная, с длинными пальцами рука принцессы появилась из-под красного покрывала, и волшебник вложил в ее ладошку странноватый черно-белый амулет: птичью «вилочку», оплетенную сухими морскими водорослями.
— Это «вилочка» буревестника, ибо ему дано оседлать любой штормовой ветер, — пояснил Оникс, весь красный от стыда.
Принцесса качнула невидимой головой, прошептала по-каргадски какие-то слова благодарности, и амулет исчез под покрывалами, а сама она встала и пошла в каюту. А Оникс отправился извиняться перед королем за то, что ничем не сумел помочь принцессе. Корабль уже весьма энергично качало, по морю шла ровная сильная зыбь, и Оникс сказал, желая оправдаться:
— Я бы мог, господин мой, шепнуть словечко ветрам…
Лебаннен хорошо знал, что у волшебников есть два типа представлений о возможности воздействия на погоду с помощью магии: согласно одним — их исповедовал еще Багмен, — можно приказать ветрам служить тебе, как служат пастухам пастушьи собаки, которым то и дело приходится бегать туда-сюда по приказу хозяина; но, согласно относительно недавним воззрениям — возникшим от силы несколько столетий назад на острове Рок, — волшебный ветер, например, следовало вызывать только в случае крайней необходимости, предоставляя возможность естественным ветрам дуть, как им заблагорассудится. Лебаннен знал, что Оникс — преданный сторонник теории Рока.
— Ты уж сам решай, Оникс, — сказал он. — Похоже, нам действительно предстоит нелегкая ночка… Но если буря будет не слишком сильной…
Оникс посмотрел на почерневшее небо, где то и дело вспыхивали зигзаги молний. В сгущавшейся тьме вдоль всего южного горизонта горделиво погромыхивал гром. А за кормой еще догорал последний дрожащий луч заката, освещая высокие волны.
— Ну что ж, посмотрим, — сказал Лебаннен довольно мрачным тоном и пошел вниз, в маленькую перенаселенную каюту.
Он старался там практически не бывать и все время проводить на палубе. На палубе он и спал, если ему вообще удавалось уснуть. Но сегодняшняя ночь явно грозила быть такой, что вряд ли кто-то на борту «Дельфина» будет спать спокойно. Это был не просто сильный ветер, не просто шквал, а целая череда яростных штормовых атак, какие часто случаются в Земноморье в конце лета, обрушиваясь на море с юго-запада. В такие минуты над вздыбленным стеной морем, которое кажется кипящим, без конца сверкают молнии, а гром гремит так, словно вот-вот расколет пополам попавший в бурю корабль. Сумасшедшие порывы ветра заставляют судно нырять, крутиться, совершать немыслимые прыжки — в общем, это была долгая ночь, и весьма, надо сказать, шумная.
Оникс только раз пришел к Лебаннену посоветоваться: не стоит ли ему все же «шепнуть словечко» ветру? Лебаннен вопросительно посмотрел на шкипера, который только пожал плечами. И шкипер, и вся его команда были страшно заняты, но особой озабоченности на корабле не чувствовалось. Что же касается женщин, то Лебаннену сообщили, что они сидят у себя в каюте и играют в какие-то игры. Ириан и принцесса попытались было выйти на палубу, но там даже на ногах трудно было удержаться, и они, поняв, что только мешают команде, снова убрались в каюту. Сообщение о том, что «дамы играют в азартные игры», поступило от поваренка, которого послали в каюту, чтобы узнать, не желают ли дамы чего-нибудь поесть. Они желали! Мало того, они готовы были съесть все, что угодно.
Лебаннена охватило любопытство. Тем более что «женская» каюта буквально сияла огнями, и сияние ламп замечательным образом отражалось в кипящей воде за бортом. Около полуночи он набрался храбрости и все-таки постучался.
Дверь открыла Ириан. После грохота бури и непроглядной темноты освещенная лампами каюта казалась средоточием уюта и спокойствия, хотя раскачивавшиеся лампы отбрасывали на стены уродливые, кривляющиеся тени. Лебаннен вдруг смутился: его со всех сторон окружали женщины, их разноцветные наряды, их нежные лица, их смугло-золотистая и бело-розовая кожа, их прекрасные волосы, черные, седые, каштановые, их выразительные глаза… Глаза принцессы неотрывно смотрели на него; она была настолько потрясена его неожиданным появлением, что даже не сразу подхватила какой-то шарф или покрывало, чтобы прикрыть лицо.
— О, а мы-то думали, это поваренок! — со смехом воскликнула Ириан.
Техану посмотрела на Лебаннена и спросила, как всегда застенчиво и дружелюбно:
— Что-нибудь случилось?
И он понял, что так и стоит на пороге, глядя на них, словно безмолвный посланник безжалостной судьбы.
— Нет… совсем ничего, правда!.. Я просто хотел… узнать: как вы тут? Прошу прощения, я ведь без приглашения к вам ворвался…
— Вряд ли ты виноват в том, что погода так испортилась, — сказала Тенар. — Просто нам было не уснуть, вот мы с принцессой и решили обучить остальных одной весьма азартной каргадской игре.
Лебаннен увидел на столе пятигранные игральные кости, по всей видимости принадлежавшие Тосле.
— Мы играли на острова, — пояснила Ириан. — Но Техану и я все время проигрывали. А эти противные карги уже выиграли Арк и Илиен.
Принцесса вдруг опустила свой шарф, которым все старалась прикрыть лицо, и повернулась к Лебаннену. Решительная, чрезвычайно напряженная, она была похожа на юного фехтовальщика, пожелавшего сразиться с более опытным противником на ответственном поединке. В каюте было тепло, и все женщины были босиком, с обнаженными руками и вообще полуодеты, но Лебаннен не мог отвести глаз от принцессы. Уже одно то, что она решилась открыть перед ним лицо, притягивало его внимание к ней столь же сильно, как магнит притягивает затерявшуюся иголку.
— Прошу прощения, что я так, без спросу, к вам ворвался… — снова, как полный идиот, повторил он и бросился вон, тщательно закрыв за собой дверь. Уже прислонившись к двери с той стороны и с трудом переводя дух, он услышал, как женщины дружно смеются.
Чтобы прийти в себя, Лебаннен немного постоял рядом с рулевым. Глядя в исхлестанную ветром и дождем тьму, временами освещаемую вспышками далеких молний, он по-прежнему видел перед собой черный водопад волос Техану, милое, доброе лицо Тенар и ее насмешливую улыбку, игральные кости на столе, округлые руки принцессы, ее нежную кожу цвета меда, изящный изгиб ее шеи, белеющей на фоне густых каштановых волос… Или золотистых?.. Он не запомнил, какого цвета у нее волосы, он видел только эти прекрасные руки и шею, только ее лицо и глаза, в которых читались открытый вызов и отчаяние. Чего так боится эта девочка? Неужели она думает, что он способен причинить ей зло?
Одна или две звезды вспыхнули высоко в небесах. Буря миновала. Лебаннен пошел в свою каюту, повесил гамак, потому что на койках места не было, и на несколько часов провалился в сон. Проснулся он еще до зари — как всегда, от ощущения странного беспокойства — и поднялся на палубу.
День наступал такой ясный и спокойный, словно никакого шторма не было и в помине. Лебаннен стоял на носу и смотрел, как первые солнечные лучи полосами ложатся на воду, и ему вдруг вспомнились слова:
Радость моя! Лети, будь свободна!
Прежде, чем светлый Эа возник, и прежде,
Чем великий Сегой повелел Земноморью быть,
Утренний ветер уже гулял над морем бескрайним.
Радость моя! Лети, будь свободна!
Это был отрывок из какой-то баллады или колыбельной песни времен его детства. Больше он не смог припомнить ни слова, но мелодия была прекрасна, и он тихонько напевал ее, позволяя ветру тут же уносить звуки, срывавшиеся с его губ.
Из каюты на корме показалась Тенар и, заметив Лебаннена, подошла к нему.
— Доброе утро, дорогой мой! — сказала она, глядя на него с любовью, и он тоже нежно приветствовал ее. Он уже с трудом припоминал теперь, почему тогда так на нее разозлился, и удивлялся, как это вообще могло случиться, что он разозлился на Тенар.
— Ну что, остров Хавнор вчера выиграли, конечно же, «противные карги»? — спросил он.
— Нет, Хавнор можешь оставить себе. Мы вскоре после твоего ухода спать легли. И девочки до сих пор сладко спят. А что, мы до Рока сегодня доберемся?
— Нет, разве что завтра к утру. Но сегодня еще До полудня мы уже должны войти в гавань Твила. Если, конечно, нам разрешат приблизиться к острову.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Рок хорошо защищен от непрошеных гостей.
— Ах да! Гед мне об этом рассказывал… Рассказывал, как он плыл на корабле, собираясь вернуться в Школу, и они послали против него свой ветер. Ветер Рока — так он говорил.
— Против НЕГО?
— Это было очень давно. — Тенар улыбнулась, пытаясь его успокоить. Ей было приятно это неверие Лебаннена в возможность того, что Геду кто-то мог нанести обиду, тем более незаслуженную. — Гед тогда еще совсем мальчишкой был. И вздумал помериться силами с самой Тьмой. Так он сам рассказывал.
— И когда он стал уже взрослым мужчиной, он все еще мерился с нею силами.
— Зато теперь перестал, — спокойно сказала Тенар.
— Нет. Теперь нам всем опять придется помериться с нею силой. — Лицо Лебаннена посуровело. — Хотелось бы мне знать, с кем нам все-таки придется иметь дело! Я уверен, нас ждут великие перемены, нам предстоит выбрать новый путь — как предсказывал Огион, как Гед говорил Олдеру. И я уверен, что Рок — это то самое место, где мы должны встретиться с нашим врагом лицом к лицу. И с ожидающими нас переменами. Но, кроме этого, у меня нет никакой уверенности ни в чем! Я понятия не имею, что нас ждет, с чем нам предстоит столкнуться. Когда Гед взял меня с собой в темную страну, мы, по крайней мере, знали, кто наш враг. Когда я повел свой флот в Сорру, я знал, какое зло хочу уничтожить. Но теперь… Интересно, драконы все-таки наши враги или союзники? Что именно в мире пошло наперекосяк? Что нам необходимо создать или уничтожить? Смогут ли предсказать это Мастера? Да и согласятся ли они встретиться с нами? Или просто повернут свой ветер нам навстречу?
— Опасаясь?..
— Опасаясь дракона, конечно. Того, которого знают. Или же того, которого еще ни разу не видели…
Тенар, слушавшая его очень напряженно, улыбнулась.
— Да уж, хорошенький мешок с подарками ты им везешь! — сказала она. — Колдуна, которого во сне преследуют мертвецы, волшебника с острова Пальн, двух драконов и двух каргов в придачу. Единственные приличные пассажиры на этом корабле — это вы с Ониксом.
Лебаннен даже не улыбнулся.
— Если бы только ОН был с нами… — промолвил он задумчиво.
Тенар положила руку ему на плечо и хотела было что-то сказать, но, видно, передумала.
Лебаннен накрыл своей ладонью ее руку, и они некоторое время стояли молча, рядышком, глядя в безбрежные пляшущие волны.
— Принцесса хотела тебе кое-что рассказать, прежде чем мы приплывем на Рок, — сказала Тенар. — Это одна очень любопытная история с острова Гур-ат-Гур. Они там, в своей пустыне, хорошо помнят всякие древние истории. А эта, по-моему, повествует о таких давних временах, что мне не с чем даже ее сравнить, разве что с легендой о Женщине с Кемея. Там речь идет о драконах… Было бы очень мило с твоей стороны, если бы ты сам пригласил ее на беседу, чтобы ей не пришлось просить об этом тебя.
Чувствуя, с какой любовью и осторожностью она говорит, Лебаннен ощутил легкое раздражение и тут же — укол стыда. Глядя вдаль, он видел, как далеко на юге, почти у самого горизонта, быстро плывет какая-то галера, держа курс на Кемери или Уэй. В солнечных лучах были заметны даже легкие вспышки там, где поднимались и опускались в воду могучие весла. Лебаннен повернулся к Тенар и сказал весело:
— Ну конечно, я с удовольствием с ней побеседую! Спроси у нее, пожалуйста, в полдень ей будет удобно?
— Да, вполне. Спасибо.
Около полудня он послал молодого матроса в каюту на корме спросить, не соблаговолит ли принцесса присоединиться к нему на палубе. Он ждал ее, стоя на носу корабля. Принцесса вышла из каюты сразу же, и, поскольку корабль был всего шагов пятьдесят в длину, Лебаннену было хорошо видно каждое ее движение, пока она шла к нему. Теперь к нему приближался уже не безликий красный цилиндр, а высокая и красивая молодая женщина, одетая в мягкие белые шаровары и длинную рубаху приглушенного красного цвета. Золотой обруч придерживал тончайшую красную вуаль, которой она прикрывала лицо. Вуаль трепетала на морском ветру. Матрос старательно помогал принцессе преодолевать многочисленные препятствия, заботясь, чтобы она не споткнулась, да и палуба была узковата. Принцесса шла босиком, медленно и осторожно ставя красивые узкие ступни и так горделиво подняв прекрасную голову, что от нее невозможно было отвести глаз.
Наконец она подошла к Лебаннену и застыла перед ним как вкопанная.
Лебаннен учтиво поклонился ей и сказал:
— Госпожа моя, ты оказываешь мне неслыханную честь!..
Она склонилась в глубоком реверансе, держа спину удивительно прямо, и спокойно его поблагодарила.
— Надеюсь, прошлой ночью буря не слишком тебя потревожила?
Принцесса коснулась амулета, висевшего у нее на шее, — маленькой птичьей косточки, обвитой черными водорослями, и сказала по-каргадски:
— Керез акатх акатхарва ереви, — сказала она. Он знал, что слово «акатх» значит «колдун» или «колдовство».
Лебаннен понимал, что за ними отовсюду следят глаза — из каюты, из трюмов, с мачт…
— Если хочешь, госпожа моя, мы можем пройти на самый нос, — предложил он принцессе. — Тогда вскоре можно будет увидеть и остров Рок, я надеюсь. — Он точно знал, что никакого Рока они не увидят и сияние Холма в небесах будет заметно не раньше следующего утра. Поддерживая принцессу под локоть, но почти ее не касаясь, он повел ее в носовую часть судна, где между кабестаном, бушпритом и поручнями был маленький треугольник свободного пространства, где они — когда какой-то матрос убрался оттуда вместе с Цепью, которую чинил, — наконец остались более или менее наедине, хотя по-прежнему были видны всем и каждому на корабле. Зато здесь можно было, по крайней мере, повернуться ко всем спиной!
Когда они наконец обрели относительный покой, принцесса повернулась к Лебаннену и откинула с лица вуаль. Он хотел было спросить, чем может ей служить, но это показалось ему совершенно неуместным, и он промолчал.
Зато заговорила принцесса:
— Господин мой, на нашем острове Гур-ат-Гур я считаться «фейягат». А на острове Рок я считаться дочь Правителя Каргада. Для этого я сейчас не есть «фейягат». Я — гололицая! Если тебе угодно.
Не сразу, но все же он сумел ответить:
— Да, конечно. Ты права, госпожа моя. И это… очень здорово!
— Тебе нравится?
— Очень! Да, очень! Я… Спасибо тебе, принцесса!
— Баррезу, — сказала она, по-королевски принимая его благодарность. Ее достоинство и умение держать себя в руках совершенно ошеломили Лебаннена. Ведь лицо этой девочки прямо-таки пылало от стыда, когда она впервые при нем откинула свою вуаль; теперь же в нем не было ни кровинки. Она стояла абсолютно прямо и спокойно, словно собирая силы для дальнейшего разговора.
— Тоже… — сказала она, — также… Мой друг Тенар также.
— Наш друг Тенар! — поправил он с улыбкой.
— Хорошо. Наш друг Тенар. Она говорит, я должна рассказать королю Лебаннену про Ведурнан.
И Лебаннен невольно повторил это слово.
— Давно-давно… нет, давным-давно… были люди-карги, люди-колдуны, люди-драконы, а? Да?.. Все люди — один народ! Все говорить один…один… О, Вулуа мекревт!
— Говорили на одном языке?
— Ха! Да! Был один язык! — В своем страстном стремлении непременно говорить на ардическом, она временами теряла свое невероятное самообладание; ее лицо пылало, глаза сияли. — Но потом люди-драконы сказали: пусть, пусть все уходят, все вещи, все люди! Улетают!.. Но мы, люди, сказали: нет, мы все сохраним! Сохраним все вещи, будем трудиться!.. Так что мы разошлись, ага? Люди-драконы и мы, люди, так? И они создали Ведурнан. Эти пусть уходят, а эти пусть сохраняют. Да? Но чтобы сохранить все вещи, мы должны были отпустить и тот язык. Тот язык людей-драконов.
— Истинную Речь?
— Да! Так что мы, люди, отпустили тот язык Древняя Речь и сохранили все вещи. А люди-драконы отпустили все вещи, но сохранили тот язык. А? Сейнеба? Понимать? Вот это и есть Ведурнан! — Ее прекрасные крупные руки с длинными пальцами яростно жестикулировали; она жадно вглядывалась в его лицо, страстно надеясь, что он ее понял. — Мы идем на восток, на восток, на восток. А люди-драконы идут на запад, на запад, на запад. Мы трудимся, они летают. Некоторые Драконы приходят с нами на восток, но не сохраняют тот язык. Они его забывают и забывают, как летать. Как народ каргов. Народ каргов говорит на языке Каргада, не на языке драконов. Но все хранят верность Ведурнану, на востоке, на западе Сейнеба? Но в…
Не найдя подходящего слова, принцесса соединила руки — «восток» и «запад», — и Лебаннен подсказал:
— В центре? Посредине?
— А? Да! Посредине! — Она даже засмеялась от удовольствия, что слово наконец нашлось. — Посредине — вы! Люди-колдуны! Ага? Вы, посрединные люди. Вы говорите на ардическом языке, но также, нет, тоже говорите на языке Древняя Речь. Вы УЧИТЕ этот язык! Как я учу ардическии, а? Учите, чтобы говорить. И… это-то и есть плохо! Самое плохо! А потом вы говорите… на колдовском языке, который есть Древняя Речь: МЫ НИКОГДА НЕ УМРЕМ. И так оно и случается. И Ведурнан есть нарушен!
Глаза ее были как синий огонь. Она помолчала немного и спросила:
— Сейнеба?
— Да, я понял. Но не уверен, что все понял правильно.
— Вы хранить жизнь! Хранить слишком долго. Вы никогда не отпускаете. Но умереть — это… — Она выбросила руки вперед широким, открытым жестом, словно отталкивая что-то от себя — в небо, за море.
Лебаннен грустно покачал головой.
— Ах… — сказала она. Подумала минутку, но больше слов не нашла и, сдавшись, только развела бессильно руками. — Я должна учить больше ваших слов! — сказала она.
— Госпожа моя, на острове Рок есть Мастер Путеводитель, он живет в Имманентной Роще… — Лебаннен следил за ее лицом, но она явно его не понимала, и он начал снова: — На острове Рок есть один человек, великий маг, и он тоже карг, как и ты. Ему ты сможешь рассказать все то, что рассказала мне, на своем родном языке.
Она слушала очень внимательно, потом кивнула и сказала:
— Это друг Ириан. Я от всего сердца желаю говорить с другом Ириан. — И все ее лицо осветилось.
Лебаннен был тронут.
— Мне очень жаль, что тебе было у нас так одиноко, принцесса, — сказал он.
Она смотрела на него; глаза ее весело сияли, но она не сказала ни слова.
— Я надеюсь, что со временем… когда ты выучишь наш язык…
— Я учусь быстро! — заявила она. И он не понял — это утверждение или предсказание.
Они смотрели друг другу прямо в глаза.
Принцесса вновь вспомнила, что ей подобает держаться по-королевски, и заговорила иным, официальным тоном, как в самом начале:
— Я благодарна тебе, господин мой, что ты меня слушал. — Она чуть склонила голову набок и прикрыла глаза рукой — традиционный знак Уважения у каргов. Затем последовал глубокий реверанс, и она что-то тихо промолвила по-каргадски.
— Пожалуйста, — попросил он, — повтори то, что ты сейчас сказала, на ардическом.
Она помолчала, явно колеблясь, подумала и ответила:
— Твои… твои, как это?., а, маленькие короли… Сыновья! Сыновья, твои сыновья пусть будут драконами и повелителями драконов! А? — Она просияла радостной улыбкой, вновь опустила вуаль на лицо, попятилась шага на четыре, повернулась и пошла прочь — стройная, гибкая, ступающая спокойно и уверенно. Лебаннен остался стоять на прежнем месте, и у него было такое ощущение, будто одна из тех ночных молний все-таки попала прямо в него.
Глава 5
Воссоединение
Последняя ночь морского путешествия была тихой, теплой и беззвездной. «Дельфин» легко бежал по чуть колышащимся волнам к югу. Спать было одно удовольствие.
Олдеру снился какой-то маленький зверек, который сам пришел к нему в темноте и коснулся его руки. Он не мог его рассмотреть, а когда протянул руку, чтобы его погладить, зверек исчез. Но вскоре Олдер снова почувствовал, как маленькая бархатистая мордочка касается его руки. Он даже приподнялся немного, чтобы увидеть зверька, однако сон тут же ускользнул, и в душе осталась пронзительная боль утраты.
На нижней койке, прямо под ним, спал Сеппель и видел во сне, что он у себя дома, в Ферао, на острове Пальн, и читает старинную мудрую книгу, написанную в Темные Времена. Ему очень интересно читать ее, он доволен, что работа у него спорится, но тут его прерывают и сообщают, что кто-то хочет его видеть. «Ничего, это на минутку», — говорит он себе и идет разговаривать с пришедшим. Это женщина; волосы у нее темно-каштановые с легким рыжеватым оттенком, на прекрасном лице написана сильная тревога. «Ты Должен послать его ко мне! — говорит она. — Ты ведь пошлешь его, правда?» «Интересно, кого это я должен к ней послать, — думает он. — Впрочем, притворюсь, будто знаю это». И он отвечает женщине: «Это будет нелегко, ты же понимаешь». И при этих словах женщина вдруг вытаскивает из-за спины тяжелый камень. Изумленный, он думает, что она хочет швырнуть в него этим камнем или ударить его по голове, отшатывается и… Сеппель тут же проснулся в знакомой темной каюте и после этого еще долго не мог уснуть и лежал, прислушиваясь к дыханию спящих людей и шепоту волн, трущихся о борта корабля.
А напротив него на другой койке лежал Оникс. Он лежал на спине и смотрел во тьму. Точнее, он думал, что глаза его открыты и он не спит, а на самом деле ему виделось, как множество маленьких тонких шнурков или веревок обвивают его плечи, ноги, руки, голову, туго стягивают их, а концы всех этих веревок уходят куда-то во тьму, распростершуюся над морем и над сушей, надо всем миром. И эти веревки куда-то тянут его. Оникса, да с такой силой, что и сам, и этот корабль вместе со всеми своими пассажирами тоже потихоньку, незаметно подтягиваются к тому месту, где море превращается в обширную песчаную отмель, и вот уже корабль проплывает неслышно прямо по этим пескам, и это очень странно, и Ониксу хочется крикнуть, но он не может ни заговорить, ни что-либо сделать, потому что веревки намертво впились в его губы, стянули челюсти, превратили в узкие щелки глаза…
Лебаннен спустился в каюту уже за полночь и лег, чтобы хоть немного поспать до рассвета. Ему хотелось, чтобы к тому моменту, когда покажется вершина Холма Рок, голова у него была свежая.
Он заснул быстро и крепко, и сны его были мимолетны и переменчивы: высокий зеленый холм над морем… какая-то женщина, которая ему улыбается и, подняв руку, показывает ему, что может заставить солнце подняться… некий истец во дворце правосудия в Хавноре, от которого он, король, к своему ужасу и стыду, узнает, что половина населения королевства умирает от голода в запертых подвалах собственных домов… какой-то ребенок, который громко зовет: «Иди ко мне!» — но он так и не может отыскать это дитя… Во сне Лебаннен крепко сжимал правой рукой тот камешек-амулет, что всегда носил на груди.
В каюте на корме, прямо над спящими мужчинами, спали женщины, и им тоже снились сны. Сесеракх поднималась в горы; это были прекрасные пустынные горы ее любимой родины, но шла она по запретной драконьей тропе. Человек не смел даже ступать на эту тропу, даже пересекать ее. Но пыль на тропе была такой мягкой и теплой под ее босыми ногами, что она продолжала подниматься по драконьей тропе, хотя и понимала, что не должна этого делать. А потом посмотрела вверх и увидела, что горы вокруг совсем иные, незнакомые ей, черные, страшные, отвесные скалы сменяются бездонными пропастями… На такие вершины ей ни за что не взобраться! И все же она должна взобраться на них!..
А Ириан снилось, что она радостно парит на штормовом ветру, а буря злится и швыряет целые пучки молний прямо в ее крылья, заставляя спускаться все ниже и ниже, к самым тучам, и она, чувствуя это, видит вдруг, что это вовсе не тучи, а черные скалы, черная извилистая горная гряда с отвесными кручами. И тут оказывается, что крылья ее окончательно прибиты к телу молниями, и она падает…
Техану видела во сне, что ползет на четвереньках по какому-то туннелю глубоко под землей. Там не хватает воздуха, трудно дышать, да и сам туннель становится все уже, все теснее, и повернуть назад невозможно. Но сверкающие корни деревьев, проросшие сквозь стены туннеля и уходящие куда-то вглубь, дают ей возможность еще немного подтянуться, еще немного проползти вперед, в темноту…
А Тенар снилось детство. Она карабкалась по ступеням Трона Безымянных в священных Гробницах Атуана и была такая маленькая, а ступеньки — такие высокие, и она всползала на них с огромным трудом. Но когда она достигла четвертой ступени, то не стала оборачиваться и ждать, как ей велели жрицы, а поползла дальше — еще одна ступень, еще одна и еще… Ступени были покрыты такой густой пылью, что в ней скрывались всякие следы, и Тенар чувствовала, что добралась уже до таких ступеней, на которые никогда не ступала ничья нога. Она торопилась, зная, что за Незанятым Троном Гед что-то оставил или потерял, что-то очень важное для миллионов людей, и она должна непременно это найти. Вот только она не знала, что это такое. «Камешек, камешек», — твердила она про себя, но за троном, когда она наконец доползла, была только пыль. Засохший совиный помет и пыль.
В своем алькове, в доме Старого Мага над водопадом, на острове Гонт, спал Гед, и ему снилось, что он по-прежнему Верховный Маг Земноморья и разговаривает со своим другом Торионом. Они неторопливо идут по коридору, стены которого расписаны рунами, к той просторной комнате, где всегда собираются Девять Мастеров. «У меня совершенно не осталось волшебного могущества, я истратил всю свою силу, — честно признается он Ториону. — Это продолжалось долгие годы, но теперь…» И Заклинатель говорит ему с улыбкой: «То был всего лишь сон, ты же знаешь». Но Геда почему-то очень тревожат длинные черные крылья у него за спиной, которые волочатся по полу. Он все время пожимает плечами, пытаясь их приподнять, но они висят совершенно безжизненно, точно пустые мешки. «А у тебя крылья есть?»— спрашивает он Ториона, и тот благодушно отвечает: «Да, конечно, — и показывает, как крепко эти крылья привязаны у него к спине и к ногам множеством маленьких тонких веревочек или шнурков. — Вот. Меня отлично запрягли!» — говорит он.
А в Имманентной Роще на острове Рок спал под деревьями Азвер Путеводитель — он спал прямо под открытым небом на поляне, как часто делал летом. На ночлег он устроился ближе к восточной опушке леса, где сквозь листву можно было видеть небо и звезды. Там его сон всегда был легок и прозрачен, и душа легко переходила из состояния задумчивости к состоянию сна и обратно, направляемая перемещением звезд на небосклоне и шорохом листьев, когда они как бы менялись местами в своем нескончаемом танце. Но сегодня ночью в небе не было звезд, и листья висели совершенно неподвижно, и, посмотрев вверх, Азвер увидел абсолютно черное небо, подернутое дымкой, сквозь которую просвечивали звезды — маленькие, яркие и совершенно неподвижные. И он почему-то знал, что и восхода солнца тоже не будет…. И сразу сел, проснувшись, и стал пристально вглядываться в слабый мягкий полусвет, что всегда царил под деревьями в Роще. Сердце его билось медленно и тяжко.
В Большом Доме спящие ученики Школы вертелись во сне и громко вскрикивали: им снилось, что они должны идти сражаться с целой армией неприятеля и бой состоится на какой-то обширной, покрытой серой пылью долине, но воины, с которыми им предстоит сразиться, все сплошь старики, слабые, больные люди или плачущие дети…
Мастерам Рока снилось, что какой-то корабль плывет к ним по морю, нагруженный тяжело и низко осевший в воде. Одному из волшебников снилось, что груз корабля — это черные камни. Другому — что это пылающий огонь. А третьему — что этот корабль нагружен снами или мечтами.
Семеро Мастеров, что спали в Большом Доме, проснулись один за другим в своих каменных кельях, зажгли волшебные огоньки, встали и обнаружили, что Мастер Привратник давно поднялся и ждет у дверей. «Король приедет на рассвете», — сказал он им с улыбкой.
— А вот и Холм Рок! — сказал Тосла, указывая на далекую, светлую и странно неподвижную волну, поднявшуюся на юго-западе над другими, более темными морскими волнами. Лебаннен, стоявший с ним рядом, промолчал. Облака совершенно рассеялись, и рассветное небо вздымалось чистым, бесцветным куполом над бескрайним пространством вод.
Восточный край неба медленно желтел. Лебаннен посмотрел на корму. Две молодые женщины уже проснулись и вышли из каюты на палубу; высокие, босоногие, они стояли у поручней и смотрели на восток.
Вершину округлого зеленого Холма солнце осветило в первую очередь, и они неотрывно смотрели на нее. А когда солнце поднялось уже довольно высоко, они между двумя Сторожевыми утесами вошли наконец в гавань Твила. Все высыпали на палубу, глядя на берег. Но говорили мало.
Уже в гавани ветер совершенно стих. Наступил такой штиль, что в воде залива, как в зеркале, отражались маленький городок на берегу и высокие мощные стены Большого Дома. Корабль медленно скользил по воде к причалам.
Лебаннен быстро посмотрел на шкипера Тослу и на Оникса. Шкипер кивнул, а волшебник медленно поднял широко раскинутые руки и прошептал какое-то заклятие.
Корабль продолжал скользить по глади вод, пока не поравнялся с самым длинным из пирсов. Капитан тут уже отдал приказ, большой парус был мгновенно спущен, и матросы с борта бросили чалку стоявшим на пристани. Теперь уже торжественная тишина была безнадежно нарушена их деловитыми криками.
На пристани оказалось немало встречающих; это были жители города, а также группа юных учеников Школы, среди которых выделялся огромный широкоплечий человек с очень смуглой кожей. Он держал в руках высокий, тяжелый посох.
— Добро пожаловать на Рок, господин мой король Западных Земель! — сказал он торжественно, выходя вперед, как только были спущены и закреплены сходни. — И добро пожаловать всей честной компании!
Молодые люди, пришедшие с ним, и все горожане тут же принялись выкрикивать приветствия королю, и Лебаннен весело отвечал им, спускаясь по сходням. Затем король радостно и почтительно приветствовал Мастера Заклинателя, ибо то был, конечно же, он, и немного поговорил с ним. Те, кто внимательно наблюдали за их беседой, могли заметить, что Мастер Заклинатель то и дело хмуро поглядывает на корабль, особенно на тех женщин, что стоят у поручней, а ответы его явно не нравятся королю.
Вскоре Лебаннен еще раз поклонился Заклинателю и снова вернулся на корабль. К нему сразу же подошла Ириан и сказала:
— Господин мой, ты можешь сказать Мастерам Школы, что я не имею желания входить в их дом — во всяком случае, на этот раз. Я не войду туда, даже если они меня об этом попросят!
Но лицо Лебаннена оставалось исключительно суровым.
— Мастер Путеводитель приглашает тебя к себе, в Рощу, — сказал он.
Ириан, радостно засмеявшись, воскликнула:
— Я знала, что он
меня позовет! И Техану пойдет со мной.
— И моя мать, — прошептала Техану. Лебаннен посмотрел на Тенар; та кивнула.
— Хорошо, — сказал он. — В таком случае остальные разместятся в Большом Доме, если только кто-то из вас, разумеется, не предпочитает иное жилище.
— С твоего разрешения, господин мой, — сказал Сеппель, — я тоже попрошу Мастера Путеводителя приютить меня.
— Но в этом нет никакой необходимости, Сеппель! — резко возразил Оникс. — Ты пойдешь со мною вместе в мой дом!
Пальнийский волшебник только слабо махнул рукой, как бы желая его успокоить.
— Я не хочу обижать твоих соратников, друг мой, — сказал он. — К тому же я всю жизнь страстно мечтал прогуляться по Имманентной Роще. И мне, конечно же, будет там проще и удобнее, чем где бы то ни было еще.
— Возможно, двери Большого Дома по-прежнему закрыты и для меня, как это уже было прежде, — неуверенно сказал Олдер, и желтоватое лицо Оникса залила краска стыда.
Обернутая вуалью головка принцессы поворачивалась от одного говорившего к другому; Сесеракх жадно вслушиваясь в их речь, стараясь понять, что они обсуждают. А потом заговорила сама:
— Прошу, господин мой король! Я желаю быть с моим другом Тенар, хорошо? И с моим другом Техану, хорошо? И с Ириан, хорошо? И еще — поговорить с тем каргом, хорошо?
Лебаннен посмотрел на них, потом быстро оглянулся на Мастера Заклинателя, массивная фигура которого возвышалась у нижнего конца сходней, и рассмеялся. А потом, прямо с палубы обращаясь к волшебнику, сказал своим ясным голосом и в высшей степени любезно:
— Мои спутники слишком долго томились в тесных корабельных каютах, Мастер Заклинатель, и, похоже, очень соскучились по травке под ногами и листве над головой. Если все мы попросим Мастера Путеводителя приютить нас и он согласится, простят ли нам Мастера подобное пренебрежение их драгоценным гостеприимством? Позволь же нам пожить в Роще, а не в Большом Доме хотя бы некоторое время!
Помолчав, Заклинатель медленно и словно нехотя склонил голову в знак согласия.
Лебаннен давно уже заметил рядом с Мастером Заклинателем невысокого плотного человека, который все время как-то странно поглядывал на него, Лебаннена, и чему-то улыбался. Наконец он поднял свой посох из серебристого дерева и торжественно произнес:
— Сир, как-то раз, это, правда, было уже довольно давно, мне довелось сопровождать вас в прогулках по Большому Дому. Я тогда немало наплел вам всяких небылиц, так что…
— Гэмбл! — воскликнул Лебаннен, узнав старого приятеля. Они бросились навстречу друг другу и обнялись, стоя прямо на сходнях, а потом, оживленно беседуя, двинулись дальше по пристани.
Следующим на сходни ступил Оникс; он довольно сдержанно и весьма церемонно поздоровался с Мастером Заклинателем, а потом повернулся к человеку по прозвищу Гэмбл, что, как известно, означает «риск».
— Так, значит, ты теперь у нас Мастер Ветродуй, да? — спросил Оникс, и, когда Гэмбл рассмеялся и ответил утвердительно, Оникс крепко обнял его и сказал: — И отличный Мастер, надо признать! — Извинившись перед Лебанненом, он отвел Гэмбла в сторонку и о чем-то быстро переговорил с ним; лица у обоих при этом были взволнованные и довольно мрачные.
Лебаннен махнул рукой остальным пассажирам, приглашая их сойти на берег. Каждого, кто ступал на причал, он тут же представлял двум Мастерам Рока — Бранду Заклинателю и Гэмблу Ветродую.
На большей части островов Архипелага люди не касаются друг друга ладонями в знак приветствия, как это с давних пор заведено на Энладе и других Энладских островах; они лишь кланяются, держа обе ладони открытыми перед сердцем, словно делая подношение. Но, когда встретились Ириан и Заклинатель, ни один из них не только не поклонился, но и вообще никакого приветственного жеста не сделал. Они просто на мгновение замерли друг напротив друга, опустив руки по швам.
Принцесса же приветствовала встречающих глубоким, изящным реверансом.
Тенар поздоровалась с Заклинателем совершенно спокойно, приветствуя его традиционным жестом, как и он ее.
— А это та самая Женщина с Гонта! Дочь нашего Верховного Мага, Техану, — сказал Лебаннен Заклинателю. Техану едва заметно кивнула и приветствовала волшебника тем же традиционным жестом, что и Тенар. Однако он на приветствие не ответил. Он долго и внимательно смотрел на девушку, потом издал какой-то странный звук, будто поперхнулся, и понуро, словно она ударила его, отступил назад.
— Госпожа Техану, — сказал Гэмбл, быстро выходя вперед и становясь между нею и Заклинателем, — мы рады приветствовать тебя на острове Рок. Добро пожаловать! Да будут славиться вовек твой отец и твоя мать! А также и ты сама. Надеюсь, путешествие твое было приятным?
Техану, удивленно посмотрев на него, смутилась и скорее присела, чем поклонилась, пряча свое лицо, но все же умудрилась прошептать более или менее удовлетворительный ответ.
Лебаннен, лицо которого в эти мгновения более всего напоминало бронзовую маску, спокойно и неторопливо ответил за нее:
— Да, Гэмбл, путешествие наше было очень приятным, хотя конец его все еще представляется мне не совсем понятным. Ну что, не прогуляться ли нам теперь прямиком через город, а? Ты как, Тенар?.. Техану?.. принцесса?.. Орм Ириан? — Он посмотрел на каждую из женщин, произнося ее имя, а имя последней произнес особенно громко и отчетливо.
И двинулся в путь рядом с Тенар, остальные последовали за ними, причем Сесеракх, едва сойдя с корабля на пристань, решительно отбросила с лица свои бесконечные красные покрывала. Гэмбл шел рядом с Ониксом, Олдер — с Сеппелем. Тосла остался на корабле. Последним, кто покинул пристань, был Бранд Заклинатель. Он шел один, позади всех, тяжело ступая.
Тенар не раз расспрашивала Геда о Роще, ей нравилось слушать, как он описывает ее.
— С первого взгляда она кажется самой обыкновенной рощей, — говорил он. — Не очень-то и большой. Поля подступают к самым ее опушкам с севера и с востока, а с юга ее окружают холмы. И еще иногда с запада… Она ведь не стоит на месте. В общем, выглядит она обыкновенно. Но отчего-то притягивает к себе внимание. А порой, если глядеть на нее с вершины Холма, то она кажется настоящим лесом, которому конца-края не видно. Пытаешься определить, где же этот лес кончается, а не можешь. Он простирается далеко на запад… А когда просто идешь по Роще, то она снова становится самой обыкновенной рощей, хотя деревья в ней такие, каких больше нигде не встретишь. Высокие, с бурыми стволами, чем-то похожие на дубы или на каштаны.
— А как они называются?
— АРХАДА, — с улыбкой отвечал Гед. — На Языке Созидания это означает просто «деревья». Их листья осенью желтеют и опадают не все сразу, а лишь некоторые, так что листва там меняется каждый сезон, и в любое время года среди зеленых листьев встречаются и желтые, так что листва там всегда будто просвечена золотом. Даже в сумрачный день эти деревья как будто сами испускают солнечный свет. Да и ночью под ними никогда не бывает совершенно темно. В темноте их листья мерцают и светятся, точно звезды или лунный свет. Там растут и обычные деревья: ивы, дубы, ели и другие тоже, но если зайти поглубже, то там в основном именно «архада» попадаются. Их корни уходят в землю глубже, чем корни самого острова. Некоторые из этих деревьев поистине огромны, но есть и потоньше, а вот упавших от старости деревьев там почти не встречается, как и молодых побегов. Они живут долго, очень долго… — Когда Гед говорил о деревьях, голос его всегда становился тихим и мечтательным. — Можно идти и идти в узорчатой тени, которую отбрасывают на землю их листья, но так и не дойти до конца леса.
— Но разве Рок — такой уж большой остров? — спрашивала Тенар.
И Гед, снисходительно улыбаясь, говорил:
— Тот лес, что растет на склонах горы Гонт, — это тоже продолжение Рощи, того великого Леса. Как и все остальные леса, впрочем.
И теперь эта знаменитая Роща была прямо перед ней! Следуя за Лебанненом, они уже миновали город, пройдя по его извилистым улочкам и собрав по пути целую толпу взрослых и детей, которые вышли посмотреть на своего короля и поприветствовать его. Этот веселый эскорт постепенно отстал, и путники вышли на проселочную дорогу, которая меж изгородей и крестьянских полей вела прямо на вершину Холма Рок, постепенно превращаясь в обычную тропу.
Об этом Холме Гед ей тоже рассказывал. Там, говорил он, любое волшебство обретает особую силу, и там раскрывается истинная сущность всех людей и вещей. «Там, — сказал он однажды Тенар, — наша магическая премудрость и Древние Силы Земли встречаются и сливаются воедино».
Ветер шевелил уже побуревшую траву на Холме. Какой-то юный осленок на совсем еще пряменьких ножках носился галопом по сжатому полю, весело помахивая хвостиком. Стадо коров следовало неторопливо вдоль изгороди, пересекая небольшой ручей. А впереди виднелись деревья — темные, тенистые.
Перебравшись следом за Лебанненом через перелаз и пройдя по маленькому мостику, они оказались на залитом солнцем лугу у самой опушки Рощи. Маленький домик-развалюшка притулился у ручья. И вдруг Ириан, не обращая внимания на своих спутников, со всех ног бросилась к этому домику прямо через луг, по пожухшей траве, и так нежно погладила дверной косяк, как гладят после долгой разлуки любимого коня или собаку.
— Дорогой мой дом! — сказала она. И, повернувшись к подоспевшим спутникам, с улыбкой прибавила: — Я жила здесь, когда меня еще звали Стрекозой.
Она огляделась, осматривая опушку, и снова убежала куда-то с криком: «Азвер!»
На ее крик из тени деревьев вышел какой-то мужчина и остановился на опушке в солнечном пятне. Светлые волосы его сияли, точно посеребренные. Он так и застыл там и, когда Ириан бросилась к нему, поднял руки и раскрыл ей свои объятия. Держа обе его руки в своих, она торопливо говорила, смеясь и плача:
— Не бойся, на этот раз я не обожгу тебя! — Но слез у нее на глазах видно не было. — Я уже научилась сдерживать огонь!
Они стояли так, лицом к лицу, довольно долго, а потом он промолвил ласково и торжественно:
— Добро пожаловать домой, дочь Калессина!
— Со мной приехала моя сестра, Азвер. — И она указала ему на Техану.
Мастер Путеводитель обернулся — у него было светлокожее и довольно жестокое на вид лицо типичного карга — и посмотрел на Техану. Потом подошел к ней и опустился перед ней на колени. — ХАМА ГОНДУН! — сказал он. — Дочь Калессина!
Техану несколько мгновений стояла совершенно неподвижно, потом неуверенно протянула ему руку — свою правую руку, сожженную дочерна, свой «коготь». И он взял эту изуродованную руку и поцеловал ее, почтительно склонив голову.
— Мне была дана великая честь быть твоим провозвестником, Женщина с Гонта, — сказал Азвер с какой-то ликующей нежностью и, поднявшись с колен, повернулся наконец к Лебаннену и низко ему поклонился: — Добро пожаловать, мой король!
— Как же я рад снова видеть тебя, Мастер Путеводитель! Но прости: я ведь привел с собой целую толпу и нарушил твое одиночество.
— Мое одиночество и без того уже было нарушено, — сказал Путеводитель. — И какие-то пять-шесть человек будут только кстати.
Его глаза, светлые, серо-зелено-голубые, ласково смотрели на столь многочисленных гостей, он улыбался, и улыбка эта была удивительно теплой и совершенно неожиданной на его суровом лице.
— Однако, я вижу, здесь есть женщины из моего народа! — сказал он по-каргадски и подошел к Тенар и Сесеракх, стоявших рядышком.
— Да, я — Тенар с острова Атуан… с острова Гонт! — поправилась она. — А рядом со мной — принцесса Каргада. Она с острова Гур-ат-Гур.
Азвер низко поклонился им обеим. Сесеракх, держась очень прямо, сделала реверанс, но потом не выдержала: из ее уст буквально хлынул поток каргадских слов:
— О Верховный Жрец, как я рада, что ты здесь! Если бы не мой друг Тенар, я бы давно сошла с ума, я ведь уже считала, что на свете не осталось никого, кто может говорить по-человечески! Ну, если не считать тех глупых служанок, которых прислали вместе со мной из Авабатха. Но, ты знаешь, я уже учусь говорить на здешнем языке! И еще я учусь быть смелой. Тенар — мой друг и мой учитель. Вот только прошлой ночью я нарушила запрет… Скажи, Верховный Жрец, что я должна сделать, чтобы искупить свою вину? Я ведь ходила по Пути Драконов!
— Ну что ты говоришь? — удивилась Тенар. — Вчера ты ведь была на корабле!
— Мне снился сон! — нетерпеливо объяснила ей Сесеракх, но Тенар продолжала:
— К тому же Мастер Путеводитель — вовсе не жрец, а… здешний колдун…
— Принцесса, — сказал Азвер, — по-моему, все мы сейчас идем по Пути Драконов. Сейчас нарушаются все запреты, так что их вполне можно было бы и отменить. И это происходит отнюдь не только во сне. Но мы еще поговорим об этом — позже, под деревьями. Главное, ничего не бойся. А сейчас позволь мне поздороваться с моими друзьями, хорошо?
Сесеракх величественно кивнула, и Путеводитель отвернулся от нее, чтобы поздороваться наконец с Олдером и Ониксом.
Принцесса внимательно наблюдала за ним. — Он — воин! — с удовлетворением заявила она Тенар по-каргадски. — Не жрец. У жрецов друзей не бывает!
А потом все они как-то незаметно оказались под сенью огромных деревьев.
Тенар огляделась. Над головой вздымались зеленые аркады и стрельчатые своды неведомого храма; полосы света, испещренные узорчатыми тенями, лежали на земле. Здесь были и раскидистые дубы, и огромные ясени, но больше всего — тех самых «просто деревьев из Рощи», широкие листья которых легко колыхались в воздухе, отчасти напоминая листья ясеня или клена; среди зеленых листьев виднелись и желтые, а кое-где и золотисто-коричневые, особенно много было их на земле, у корней деревьев, но в целом листва в Роще, пронизанная лучами утреннего солнца, была зелена, как летом, и полна теней и затаенного света.
Путеводитель вел их по тропе в чащу, и Тенар снова вспомнила Геда, его голос, когда он рассказывал ей об Имманентной Роще. Здесь она чувствовала себя гораздо ближе к нему, чем, скажем, в начале лета в порту Гонт перед тем, как сесть на королевский корабль и плыть в Хавнор. Она знала, что Гед когда-то давно тоже жил здесь вместе с Путеводителем Азвером и немало бродил по этому лесу. Она знала, что эта Роща является для него самым главным, самым священным местом в Земноморье, средоточием мира и покоя. И ей казалось, что она может поднять глаза и увидеть его на противоположном конце хотя бы вон той пронизанной солнцем поляны… И от этого ощущения у нее сразу полегчало на душе.
Ибо тот сон, что приснился ей прошлой ночью, очень ее тревожил, а когда Сесеракх бросилась взволнованно рассказывать о своем сне, в котором она якобы нарушила какой-то вековечный запрет, то это потрясло ее до глубины души. Она ведь тоже во сне нарушила запрет! Преступила заповедную черту и взобралась на Незанятый Трон по трем запретным ступеням, на которые никогда еще не ступала нога человека! Гробницы Атуана были сейчас очень далеко от нее, и по тем ступеням она поднималась когда-то очень давно, и, может быть, то землетрясение вообще не оставило камня на камне ни от Незанятого Трона, ни от самого храма, где у нее еще в раннем детстве было отнято ее имя, но Древние Силы Земли были по-прежнему там. И здесь их присутствие тоже явственно ощущалось. Уж они-то ничуть не переменились, на них ничто не способно было подействовать. Они сами были и тем землетрясением, и обрушившимся храмом, и… землей. Их справедливость не имела ничего общего со справедливостью людей. И Тенар, еще тогда, на тропе, ведущей на вершину Холма Рок, знала, что идет туда, где встречаются все магические силы на свете.
Когда-то она бросила вызов Древним Силам Земли; она убежала из Гробниц, украла хранившееся там сокровище, скрылась на Западных островах. Но ОНИ были повсюду. Здесь, у нее под ногами. В корнях этих деревьев, в корнях этого Холма…
Здесь, в самом центре Земноморья, в этой Роще, встретились сейчас все — силы земные и человеческие, король и принцесса двух государств, великие Мастера волшебных искусств. И драконы.
И еще — жрица-воровка, превратившаяся в крестьянку, а также деревенский колдун с разбитым сердцем и странными снами…
Тенар оглянулась в поисках Олдера. Он шел рядом с Техану, и они тихо о чем-то беседовали. Техану вообще гораздо охотнее разговаривала с Олдером, чем с другими. Его общество она предпочитала даже обществу Ириан. И сейчас она тоже выглядела совершенно спокойной и даже веселой. Тенар немного приободрилась и повеселела, увидев их. Она не стала им мешать, а прошла чуть дальше в узорчатой тени огромных деревьев, позволяя тревоге излиться из души и раствориться в этом зеленом полумраке. Она даже немного огорчилась, когда Путеводитель вскоре остановился. Ей казалось, что она могла идти по этой тропе вечно!
Все собрались вокруг Азвера на заросшей травой поляне, залитой солнцем. До того места, где они стояли, не дотягивались даже самые длинные из теней. Ручей, видимо, какой-то приток речки Твилберн, пробегал совсем рядом с этой просторной поляной; на берегу ручья росли ивы и ясени, а неподалеку виднелась крошечная покосившаяся хижина, сложенная из камня и понизу обложенная дерном. У одной из стен хижины был сделан плетеный навес из ивовых прутьев; земля под навесом была устлана тростниковыми циновками.
— Это мой зимний дворец, — сказал Азвер, указывая на хижину, — а это — летний. — И он указал на плетеный навес.
Оникс и Лебаннен смотрели на все это с некоторым удивлением, а Ириан сказала:
— А я и не знала, что у тебя есть дом!
— А у меня его тогда и не было, — откликнулся Путеводитель. — Но мои кости, увы, стареют.
После того как кое-что было собрано в лесу, а кое-что перенесено с корабля, домик превратился в спальню для женщин, а навес — в спальню для мужчин. Ученики Школы то и дело приносили огромные корзины, полные всяческих яств и припасов, заботливо приготовленных в кухне Большого Дома. А после полудня по приглашению Мастера Путеводителя на встречу с королем и его спутниками пожаловали и сами Мастера Школы.
— Это здесь Мастера собираются, чтобы выбрать нового Верховного Мага? — спросила Тенар Оникса, ибо Гед рассказывал ей и об этой потаенной поляне.
Оникс покачал головой.
— Вряд ли, — сказал он. — Король бы узнал ее, он ведь тоже присутствовал, когда мы собирались в последний раз. Но точно тебе сможет сказать это только сам Путеводитель. Видишь ли, в этом лесу все постоянно меняется… Ты и сама это знаешь. Да и сама Роща, как известно, «не всегда там, где мы ее видим». Как и ее тропы, и ее поляны…
— Но ведь это, должно быть, ужасно! — воскликнула Тенар. — Значит, здесь очень легко заблудиться? Но мне и в голову не приходит бояться!..
Оникс улыбнулся.
— Так уж оно здесь устроено, — сказал он.
Тенар смотрела, как на поляну выходят Мастера. Впереди всех шли огромный, похожий на медведя Мастер Заклинатель и Гэмбл, молодой Мастер Ветродуй. Оникс по очереди назвал ей остальных: Метаморфоз, Регент, Травник, Ловкая Рука — все уже немолодые, седовласые, а Метаморфоз, прямо-таки хрупкий от старости, пользовался своим волшебным посохом как самой обыкновенной палкой, тяжело опираясь на него при ходьбе. Мастер Привратник, гладколицый, с миндалевидными глазами, не казался ей ни молодым, ни старым. А Мастеру Ономатету, который пришел последним, Тенар дала бы не больше сорока. Лицо у Ономатета было спокойное, но довольно замкнутое. Он отдельно от остальных подошел к королю и представился: Курремкармеррук.
И тут Ириан вдруг гневно воскликнула:
— Ничего подобного! Это не твое имя!
Он посмотрел на нее и ровным тоном произнес:
— Мое. Так всегда зовут Мастера Ономатета.
— Значит, МОЙ Курремкармеррук умер? Волшебник кивнул.
— Ах, как горько мне это слышать! — воскликнула она. — Он был моим другом, когда друзей у меня здесь почти не было! — Она отвернулась, словно не желая больше смотреть на нового Ономатета, огорченная и рассерженная, но не в силах пролить ни слезинки. Потом она с любовью приветствовала Мастера Травника и Мастера Привратника, но с остальными Мастерами разговаривать не пожелала.
Тенар видела, что и они недобрыми глазами следят за Ириан из-под своих седых бровей.
Потом они дружно перевели взгляд на Техану и сразу же отвернулись, то и дело все же поглядывая на нее исподтишка. «Интересно, — подумала Тенар, — ЧТО видят эти волшебники, когда смотрят на Ириан и Техану?» И решила, что Мастера видят совсем иначе, чем обыкновенные люди, а потому следует простить Мастера Заклинателя за проявление столь неприкрытого, даже непристойного страха, когда он впервые увидел Техану. А может быть, это был даже и не страх… Может быть, он испытывал священный трепет?
Когда всех наконец представили друг другу, гости расселись в кружок на принесенных из Большого Дома подушках, табуретках, плетеных стульях и просто на траве, и Путеводитель начал разговор:
— Ну что ж, братья мои Мастера, если нашему королю будет угодно выступить первому, то давайте сперва послушаем его.
Лебаннен встал. И Тенар слушала его речь с нескрываемой гордостью: он был так прекрасен, так мудр в свои молодые еще годы! Сперва она понимала не все, что он говорил, улавливая только смысл и страсть, заключенные в его словах.
Потом он коротко и ясно изложил Мастерам то, что, собственно, и привело его на Рок: драконы и сны.
И закончил такими словами:
— Нам казалось, что ночь за ночью все эти события и явления сливаются в единое целое, уверенно готовясь стать неким великим переворотом в нашей судьбе, а может быть, и нашим концом. Нам казалось, что здесь, на Роке, на этом Холме, в Роще, при ваших знаниях и вашем могуществе, мы совместными усилиями могли бы как-то предвидеть судьбу и достойно встретить ее удары, не позволяя ей лишать нас разума и способности чувствовать. Самый мудрый из магов Земноморья предсказывал: грядут великие перемены! И мы должны объединиться, чтобы узнать, что это за перемены, каковы их причины и направленность и как нам повернуть свою жизнь от возможности разрушения к гармонии и миру, под знаком которых я ныне правлю!
Бранд Заклинатель встал, чтобы произнести ответную речь, которую начал традиционными приветствиями гостям и особенно принцессе Каргада. А потом сказал:
— То, что сны людей — и не только их сны! — предупреждают нас о грядущих переменах, безусловно, так и есть. С этим согласны все Мастера и волшебники Рока. И мы подтверждаем: на границе миров жизни и смерти неспокойно! Оттуда нам грозит некая страшная опасность, природу которой нам пока установить не удалось. Но мы сомневаемся в том, что все это может быть понято или взято под контроль кем-то еще, кроме Мастеров Школы. А также должны быть понятны наши глубочайшие сомнения в том, что драконам, жизнь и смерть которых столь сильно отличны от жизни и смерти людей, когда-либо можно будет доверять, что они захотят смирить свой дикий гнев и давнюю зависть и станут служить Добру!
Послушай, господин мой, — прервал его Лебаннен, не давая разгневанной Ириан вставить ни слова, — дракон Орм Эмбар умер ради нас на Селидоре. Дракон Калессин принес Верховного Мага и меня на родину, ему я обязан тем, что теперь сижу на троне в Хавноре. И сейчас здесь, на этой поляне, представлены три главных народа Земноморья: каргадский, ардический и Народ Запада.
И все они когда-то были одним народом, — сказал Ономатет своим ровным голосом, который казался даже бесцветным.
— Но теперь-то они единым народом не являются! — возразил Мастер Заклинатель, произнося каждое слово как бы отдельно от остальных. — Нет, не поймите меня неправильно! Я знаю о том, что было когда-то, но сейчас я говорю суровую правду, господин мой! Я глубоко чту перемирие, которое было заключено с драконами, и, когда минует главная для нас опасность, Мастера Рока, безусловно, помогут Хавнору заключить с ними более длительный мир. Однако драконы не имеют никакого отношения к тем переменам, которые грозят нам. Как, впрочем, не имеет к ним отношения и восточный народ, давно отрекшийся от своих бессмертных душ, забывший Язык Созидания.
— ЭС ЭЙЕМРА! — послышался вдруг свистящий шепот: это был голос Техану. Она встала и смотрела Заклинателю прямо в глаза.
Тот остолбенело молчал.
— Наш язык! — повторила она на ардическом, по-прежнему не сводя с него глаз.
Ириан рассмеялась.
— ЭС ЭЙЕМРА, — подхватила и она.
— Ты не бессмертен! — воскликнула Тенар, обращаясь к Мастеру Заклинателю. Она совершенно не собиралась говорить и даже встать не успела, когда слова брызнули из нее, как искры огня из рассеченной молотом гранитной глыбы. — А мы — да! Мы бессмертны, ибо умираем, чтобы вновь и вновь воссоединяться с неумирающим миром. Это не мы, а ты отказался от бессмертия!
Все замерли. Путеводитель, правда, успел сделать какое-то незаметное движение.
Лицо Азвера было задумчивым, но отнюдь не встревоженным; он изучающе смотрел на странный рисунок, выложенный им из листьев и прутиков на траве, рядом со своими скрещенными ногами. Он поднял голову, обвел собравшихся взглядом и промолвил:
— Я думаю, нам скоро придется туда отправиться…
Все молчали. Потом Лебаннен спросил:
— Куда отправиться, господин мой?
— Во тьму, — только и сказал Путеводитель.
Олдер внимательно слушал этот спор, когда вдруг, почувствовал, что голоса окружающих его людей слабеют, отдаляются, а теплое полдневное солнце позднего лета заволакивает темная мгла. Вокруг он больше не видел ничего, только деревья Рощи — высокие слепые свидетели наступления пустоты, стремящейся захватить все пространство между землей и небом. Самые старые из живых детей земли. «О Сегой, — молил про себя Олдер, — созданный и создавший, позволь мне прийти к тебе!»
Тьма, расползаясь за этими деревьями, скрывала под собой все.
И на фоне этой пустоты он вдруг увидел Холм, тот самый Холм Рок, который был справа от них, когда они поднимались из города к Роще. Он отчетливо видел пыль на дороге, мелкие камешки, тропу, что сворачивала в сторону Рощи.
И, оставив остальных, он решительно стал подниматься прямо на вершину Холма.
Травы там были зелены и высоки. Шуршали пустые коробочки соцветий травы-огневки, качались головки каких-то цветов… Олдер выбрался из густой травы на тропинку и пошел по ней. «Вот теперь наконец я становлюсь самим собой, — думал он. — Ах, Сегой, до чего прекрасен этот мир! Позволь же мне пройти через этот мир — к тебе! Ибо я снова могу делать то, к чему имел предназначение в этой жизни, — я вернул свое мастерство, я опять могу починить сломанное, воссоединить разрозненные части целого…» Остановившись на вершине Холма, на ярком солнце, на ветру, среди колышущихся трав, Олдер видел справа от себя поля, крыши Твила и Большой Дом, а дальше — сверкавший на солнце залив и за ним море. Но стоило ему обернуться, и совсем рядом, буквально у себя за спиной, он увидел деревья бескрайнего леса, уходящего куда-то в голубоватую даль. Когда же он опустил глаза, то увидел, что склон Холма перед ним окутан серыми сумерками, а внизу виднеется каменная стена, за которой лишь непроглядная тьма. У стены толпились знакомые тени, звали его, и он сказал им: «Я приду! Я непременно приду!»
Теплое солнце освещало плечи и руки Олдера. Ветерок шевелил листву у него над головой. Он слышал голоса, но никто его не звал, не выкрикивал громко его имя. На поляне продолжался разговор, но Олдер заметил, что глаза Мастера Путеводителя, сидевшего в густой траве, внимательно следят за ним. Мастер Заклинатель тоже смотрел на него, и он совсем растерялся и потупился. Потом взял себя в руки, собрался с мыслями и стал слушать.
Говорил король. Он пустил в ход все свое умение убеждать, все свои душевные силы, чтобы направить к одной цели всех этих сильных и самолюбивых людей.
— Позвольте мне, — говорил Лебаннен, — рассказать вам, Мастера Рока, историю, которую я узнал от принцессы Каргада на пути сюда. Ты разрешишь мне рассказать эту историю вместо тебя, госпожа моя?
Сесеракх, не прикрывая лица, поднялась, посмотрела прямо на него и с суровым видом кивнула в знак согласия.
— История эта вкратце такова: давным-давно люди и драконы были одним народом и говорили на одном языке. Однако в итоге их жизненные устремления разошлись, и они решили расстаться и дальше следовать разными путями. Это соглашение было названо ВЕДУРНАН.
Оникс резко вскинул голову, а яркие черные глаза Сеппеля даже расширились от изумления.
— ВЕРВ НАДАН! — прошептал он.
— Итак, люди отправились на восток, драконы — на запад, — продолжал Лебаннен. — Люди отказались от знания Древнего Языка, но обрели различные умения и ремесла, а также владение всеми рукотворными вещами. Драконы же отказались от всего этого, однако сохранили для себя Истинную Речь.
— И крылья, — вставила Ириан.
— И крылья, — согласился Лебаннен. Он перехватил взгляд Азвера и предложил: — Может быть, ты, Путеводитель, расскажешь лучше, чем я?
— Деревенские жители Гонта и Гур-ат-Гура помнят то, о чем забывают мудрецы Рока и жрецы Карего, — сказал Азвер. — Когда я был совсем маленьким, мне тоже рассказывали эту историю или, может быть, нечто подобное. Но в ней почти ничего не говорилось о драконах. Они были забыты. Главной темой этой истории было то, как Темный Народ Архипелага нарушил свою клятву. В ней говорилось, что все люди когда-то пообещали отказаться от магии, колдовства и заклятий, говорить только на обычных, человеческих, языках, не давать детям никаких Истинных имен и не пытаться овладеть Высшими Искусствами. Люди поклялись довериться Сегою и силам Матери-земли и наших Богов-Близнецов, но Темный Народ нарушил это обещание. Жители Западных островов стали использовать Язык Созидания как один из инструментов своего колдовского мастерства, записывая заклятия с помощью Истинных Рун. Они старались непременно сохранить те знания о Древнем Языке, которыми владели, и учили этому языку своих последователей. Они составлял с его помощью заклятия, помогая себе своими умелыми руками и лживыми языками, произносившими слова Истинной Речи. Так что карги с тех пор никогда уже не доверяли им и считали их своими заклятыми врагами. Так говорилось в той истории, которую я слышал в детстве. И снова послышался голос Ириан:
— Люди боятся смерти в той же степени, в какой драконы ее НЕ боятся. Люди хотят владеть жизнью, обладать ею, как если бы она была драгоценностью, которую можно запереть в ларце! И прежде ваши маги тоже страстно желали вечной жизни. Это они научились использовать Истинные имена, желая уберечь людей от смерти. Но те, кто не может умереть, никогда не смогут и возродиться!
— Имя и дракон едины, — сказал Курремкармеррук. — Мы, люди, утратили свои Истинные имена, когда было заключено соглашение ВЕРВ НАДАН, но научились вновь обретать их. Имя — это сущность человека. Как может смерть менять его сущность?
Он посмотрел на Заклинателя, но Бранд сидел, тяжело опустив плечи, очень мрачный, внимательно слушая других, но сам не говоря ни слова.
— Расскажи нам об этом подробнее, Мастер Ономатет, прошу тебя! — сказал Лебаннен.
— Я говорю о том, что наполовину является всего лишь моей догадкой. Хотя многое мне удалось узнать — но не из деревенских сказок, а из старинных рукописей, хранящихся в Одинокой Башне. За тысячу лет до первых королей Энлада на Эа и Солеа уже существовали великие правители, первые и самые могущественные из магов, считавшиеся создателями Рун. Это они научились записывать Древний Язык. Они придумали для него письменность, которой драконы так никогда и не постигли. Они научили нас давать каждой душе ее Истинное имя, воплощающее в себе сущность того или иного человека, предмета или явления. И своим могуществом они дарили тех, кто носит Истинное имя, давая им жизнь души после смерти тела.
— Бессмертная жизнь! — послышался тихий голос Сеппеля. Легкая улыбка блеснула на его устах. — В дивной стране, где текут широкие реки, высятся белоснежные вершины гор, где существуют прекрасные города, где нет ни страданий, ни боли, где сущность человеческая продолжает существовать вечно, неизменная, не меняющаяся… Такова мечта, воплощенная в древней мудрости острова Пальн.
— Но где она, — вырвалось вдруг у Мастера Заклинателя, — где эта страна?!
— Там, где дуют ИНЫЕ ветры, — сказала Ириан. — На самом далеком западе. — Она сердито и насмешливо оглядела всех присутствующих по очереди. — Неужели вы думаете, что мы, драконы, летаем только на ветрах ЭТОГО мира? Неужели вы думаете, что наша свобода, за которую мы заплатили столь высокую цену, отказавшись почти от всего, что имели, равна всего лишь той свободе, какой обладают безмозглые чайки? Что наше царство — это несколько голых скал на самом краешке ваших богатых земель? Но мы несем в себе огонь солнца! Мы способны управлять ветрами! Вы, люди, хотели получить землю, хотели владеть ею. Вы хотели научиться делать и хранить разные полезные вещи. И все это вы получили, всему этому научились. Таков был договор ВЕРВ НАДАН. Но вам было мало своей доли! Вам захотелось иметь не только свои, земные, заботы, но и нашу свободу. Вам захотелось иного ветра! И с помощью заклятий и магии своих волшебников — этих самых главных клятвопреступников! — вы выкрали у нас половину нашего царства, отгородив ее стеной от жизни и от солнечного света, чтобы там ваши души могли жить вечно. Воры, предатели!
— Сестра! — попыталась вмешаться Техану. — Это ведь совсем не те люди, которые украли у нас то, о чем ты говоришь. Этим приходится лишь расплачиваться за преступление, совершенное ранее другими, и цена, которую они заплатят, очень высока!
Она, как всегда, говорила хриплым, тихим голосом, почти шепотом, и вокруг воцарилась полная тишина.
— Какова же эта цена? — прозвучал в тишине голос Ономатета.
Техану посмотрела на Ириан, но та молчала и явно колебалась. Потом все же промолвила уже более спокойно:
— «Алчность застилает свет солнца». Так говорит Калессин.
И тут слово опять взял Азвер. И, говоря, все время смотрел на кроны деревьев, словно боясь пропустить малейшее движение листвы.
— Древние хорошо понимали, что границы царства драконов поистине беспредельны. Что драконам дано пересекать… пределы времени и пространства, пределы возможного. И, завидуя их свободе, они последовали путем драконов на самый дальний запад. И там заявили, что им принадлежит и некая часть пространства — царство, где нет времени, где можно было бы, казалось, существовать вечно, но не во плоти, как существуют драконы, а лишь в виде бесплотных духов… В общем, люди построили каменную стену, которую ни одно живое существо пересечь не могло — ни человек, ни дракон. Ибо они страшно боялись гнева драконов. А уже потом магическая способность давать Истинные имена помогла людям создать целую паутину заклятий, которыми они и опутали все западные земли так, чтобы умершие приходили только туда, на самый далекий запад, и жили бы там в обличье духов вечно.
Но когда стена была построена и наложена была сеть заклятий, ветер в огороженном пространстве вдруг дуть перестал. И море куда-то ушло. И пересохли ручьи. И горы, из-за которых вставало солнце, превратились в черные горы вечной ночи. Так что те, кто умирал, приходили в темную, страшную, иссушенную безводьем страну.
— Некогда мне довелось там побывать, — тихо промолвил Лебаннен. — Я не боюсь смерти, но этой страны я боюсь!
Наступила тишина.
— Коб и Торион, — словно нехотя пробормотал Мастер Заклинатель, — пытались разрушить эту стену и вернуть мертвых назад, к жизни.
— Не к жизни, Мастер Заклинатель! — воскликнул Сеппель. — Как и Создатели Рун, они стремились воссоздать не людей, а некие бестелесные бессмертные сущности!
— Однако именно их заклятия нанесли столь серьезный урон темной стране, — задумчиво и грустно сказал Заклинатель, — что даже драконы начали вспоминать, когда именно что-то пошло в нашей общей жизни не так… Ведь из-за этого души умерших теперь приходят к стене и тянутся к живым, стремясь вернуться назад!
Олдер встал.
— Они стремятся не к жизни, — сказал он, — а к смерти. Они хотят вновь соединиться с землей, из которой вышли. Воссоединиться с нею!
Все смотрели только на него, но он вряд ли сознавал это. Лица присутствующих он замечал лишь отчасти, а перед ним была сухая тёмная страна, и трава, которая только что была зелена и залита солнцем, теперь стала серой и мертвой. И хотя живые листья деревьев по-прежнему шелестели у него над головой, низкая каменная стена была совсем рядом, в нескольких шагах от него. Собственно, из всех присутствующих Олдер ясно видел только Техану; даже скорее не видел, а точно знал, что она стоит между ним и той стеной. И теперь он обращался только к ней:
— Они построили эту стену, но уничтожить ее так и не смогли, — сказал он. — Ты мне поможешь, Техану?
— Конечно, Хара, — сказала она.
Какая-то тень метнулась меж ними. Это было нечто огромное, темное и очень сильное. Тень скрыла от него лицо Техану, а сам он оказался в чьих-то цепких руках или лапах. Он забился, пытаясь вырваться и хватая ртом воздух, но вздохнуть полной грудью так и не сумел. Красный свет мелькнул перед ним во тьме, и все померкло.
* * *
Они встретились при свете звезд на опушке леса — король западных островов и один из великих Мастеров острова Рок, представители двух главных сил Земноморья.
— Он будет жить? — спросил Заклинатель, и король ответил:
— Да, наш дорогой Мастер Травник говорит, что он вне опасности.
— Я поступил плохо, неправильно! — воскликнул Заклинатель. — Мне очень жаль, что я это сделал!
— Зачем же ты заклятием призвал его обратно? — спросил король, не упрекая, а просто желая получить ответ.
Заклинатель долго молчал, потом буркнул:
— Потому что я обладал такой властью!
Некоторое время они шли молча по широкой тропе, вьющейся меж огромных деревьев. По обе стороны от тропы было темно, но сама она была хорошо видна под звездным небом.
— Я был не прав, согласен, — снова заговорил Мастер Заклинатель. — Но неправильно и желать кому-то смерти! — Легкая картавость, свойственная уроженцам Восточного Предела, слышалась в его голосе все более отчетливо. Говорил он медленно, и тон у него был, как ни странно, почти умоляющим: — Для очень старых, очень больных, предположим, возможно желать смерти. И все же нам была дарована жизнь — драгоценный дар! — как же не постараться удержать ее, не сберечь?
— Но нам была дарована также и смерть! — возразил король.
Олдер лежал под открытым небом на тюфяке, положенном прямо на траву. Мастер Путеводитель сказал, что так ему и следует лежать — в Роще, под звездами, и старый Мастер Травник с этим согласился. Олдер то и дело засыпал, но успевал заметить, что Техану неподвижно и неотлучно сидит возле него.
А Тенар сидела на пороге низенького каменного дома Азвера и наблюдала за дочерью. Над поляной сияли крупные звезды позднего лета, и самой яркой из них была звезда Техану, или Сердце Лебедя, чека всего небесного колеса.
Из дома неслышно вышла Сесеракх и присела на порожек рядом с Тенар. Она сняла обруч, который обычно удерживал покрывало у нее на голове, и густые рыжевато-каштановые волосы густой волной падали ей на плечи.
— Ах, друг мой, — прошептала она, — что с нами будет? Мертвые идут сюда! Ты их чувствуешь? Это — как прилив. Волна через ту стену. Я думаю, никто их не остановит. Все мертвые люди из могил на всех Западных островах, закопанные в землю давно и недавно…
Тенар чувствовала биение какого-то пульса, какой-то зов — в мыслях и в крови — и понимала теперь, и все они теперь понимали то, что Олдер давно ЗНАЛ. Но она привыкла держаться того, чему всегда верила, даже если это доверие и превратилось всего лишь в призрачную надежду. И она сказала:
— Но это же всего лишь мертвые, Сесеракх. Да, мы построили неправильную стену, и эта стена должна быть разрушена. Но ведь существует и стена Истинная.
Техану тихонько подошла к ним и тоже села — на самую нижнюю ступеньку крыльца.
— С ним все в порядке, он сейчас спит, — прошептала она.
— А ты была с ним… там? — спросила Тенар.
Техану кивнула.
— Мы все были там, у стены.
— Что же все-таки сделал Заклинатель?
— Он призвал его с помощью заклятия. Вернул назад силой.
— К жизни?
— Да. К жизни.
— Уж и не знаю теперь, чего мне больше бояться — смерти или жизни, — сказала Тенар. — Ах, как мне бы хотелось покончить с этими страхами!
Сесеракх лицом и густой волной своих теплых волос на мгновение ласково прижалась к ее плечу.
— Ты храбрая, храбрая, — прошептала она. — А вот я!.. Ох, как же я боюсь моря! И еще — смерти!
Техану молчала. В мягком свете луны, висевшей среди деревьев, Тенар была видна ее тонкая, изящная рука, лежавшая поверх другой — обожженной, искалеченной.
— Я думаю, — тихо промолвила через некоторое время Техану, — что когда я умру, то смогу наконец выдохнуть то дыхание, что дает мне жизнь. И тогда я отдам этому миру все свои долги, все, чего я для него не сделала. Все, чем я могла бы стать, но не стала. И тот главный выбор, который я должна была сделать, но не сделала. Все то, что я утратила, отдала даром, пропустила. Я смогу все это вернуть миру жизни. Точнее, тем жизням, которые еще не прожиты. Пусть этот мир получит обратно жизнь, которую я прожила, любовь, которую я испытала, дыхание, которое вырывалось из моей груди… — Техану посмотрела вверх, на звезды, и вздохнула. — Недолго осталось, — прошептала она. И оглянулась на Тенар. Сесеракх нежно погладила Тенар по голове, тихонько поднялась и, ни слова не говоря, ушла в дом.
— Мама, я думаю, очень скоро…
— Я знаю.
— Я не хочу покидать тебя!
— Ты должна меня покинуть.
— Я знаю.
И они долго еще сидели в мерцающей темноте Имманентной Рощи и молчали.
— Смотри, — прошептала вдруг Техану. Падающая звезда пересекла небосвод, оставляя тающий на глазах световой след.
Пятеро волшебников сидели под звездным небом.
— Смотрите, — сказал один, указывая на светящийся след упавшей звезды.
— Это душа дракона умирает, — сказал Азвер Путеводитель. — Так на Карего-Ат говорят.
— Неужели драконы умирают? — задумчиво спросил Оникс. — Наверное, все же не так, как мы?
— Они и живут не так, как мы. Они переходят из одного мира в другой. Так говорит Орм Ириан. С ветров этого мира на иные ветра.
— Как это пытались сделать и
мы, — сказал Сеппель. — Но потерпели неудачу.
Гэмбл с любопытством посмотрел на него.
— А что, эта история была известна у вас, на Пальне? Та, которую мы узнали сегодня, — о разделении драконов и людей и о создании темной страны за стеной?
— Да, но она немного отличается от того, что мы услышали сегодня. Меня, например, учили, что ВЕРВ НАДАН был первой великой победой искусства магии. И что самая главная цель всякого волшебства — это победа над временем, обретение вечной жизни… Отсюда и все то зло, которое принесла миру пальнийская магическая премудрость.
— Зато вы сохранили знания о Матери-земле, которые мы давно утратили из-за своего глупого презрения, — заметил Оникс. — Как и твой народ, Азвер.
— Что ж, зато у вас хватило здравого смысла построить Большой Дом именно на Роке, — улыбаясь, сказал Мастер Путеводитель.
— Но построили мы его неправильно! — возразил Оникс. — Все, что мы строим, мы строим неправильно.
— Значит, по-твоему, мы должны его разрушить? — спросил Сеппель.
— Нет, — вмешался Гэмбл. — Мы же не драконы! Мы в домах действительно ЖИВЕМ. И нам нужны хоть какие-то стены.
— Но в этих стенах должны быть окна, чтобы в них мог свободно залетать ветер! — сказал Азвер.
— А кто тогда сможет войти через дверь? — спросил Привратник своим вкрадчивым, ласковым голосом.
Возникла пауза. Где-то по ту сторону поляны неумолчно и неутомимо пела цикада; потом умолкла и снова запела.
— Драконы? — предположил Азвер.
Привратник покачал головой.
— Я думаю, что, может быть, то Разделение, которое было начато, а потом предательски прервано, будет наконец завершено, — сказал он. — Драконы обретут свободу и улетят, оставив нас с тем, что мы выбрали сами.
— С нашими представлениями о добре и зле, — сказал Оникс.
— С той радостью, которую дает созидание, умение придать нужную форму, — сказал Сеппель. — И с нашим мастерством.
— И с нашей алчностью, нашей слабостью, нашими страхами, — прибавил Азвер.
Сверчку откликнулся второй, ближе к ручью. Два пронзительных голоса вибрировали и пересекались, то совпадая, то противореча друг другу в избранном ими ритме.
— А я боюсь, — сказал Гэмбл, — причем боюсь настолько, что мне даже говорить об этом страшно, что, когда драконы улетят, вместе с ними уйдет и наше мастерство. Наше искусство. И наша магия.
Молчание остальных как бы подтверждало то, что и они опасаются того же. Однако когда Привратник наконец заговорил, то в его тихом и ласковом голосе звучала твердая уверенность:
— Нет, я думаю, этого не произойдет. Они — это само Созидание, они его современники, но и мы постигли законы Созидания. Мы приручили его, сделали своим с помощью наших знаний. И теперь его невозможно у нас отнять. Чтобы потерять способность созидать, мы должны забыть о ней, отказаться от нее.
— Как это сделал мой народ, — сказал Азвер.
— Неправда, твой народ всегда помнил, что такое земля, что такое вечная жизнь, — сказал Сеппель. — А вот мы забыли.
И снова повисло длительное молчание.
— Мне кажется, я мог бы протянуть руку и коснуться той проклятой стены, — сказал Гэмбл очень тихо, и Сеппель подхватил:
— Да, они близко, они очень близко!
— Как же нам узнать, что следует делать? — спросил Оникс.
— Однажды, когда господин мой Верховный Маг был со мною здесь, в Роще, — снова взял слово Азвер, — он сказал мне, что всю жизнь пытался узнать, как сделать свой единственно правильный выбор, как сделать в жизни именно то, для чего ты и был предназначен…
— Как бы мне хотелось, чтобы он был сейчас здесь! — вырвалось у Оникса.
— Нет, он покончил с делами, — прошептал, улыбаясь, Привратник.
— Но мы-то не покончили! Однако сидим здесь и мирно беседуем, понимая, что оказались на самом краю смертельно опасной пропасти… — Оникс оглядел залитые лунным светом лица волшебников. — И все-таки, чего же хотят от нас мертвые?
— А чего хотят от нас драконы? — спросил Гэмбл. — И зачем эти женщины, которые являются драконами, или эти драконы, которые являются женщинами, явились сюда? И можем ли мы доверять им?
— А что, разве у нас есть выбор? — спросил Привратник.
— По-моему, никакого выбора у нас нет, — отрезал Азвер, — и нам остается только следовать тем путем, который…
— Укажут драконы? — закончил за него Гэмбл.
Но Азвер покачал головой:
— Нет, Олдер.
— Но разве он Мастер Путеводитель? — удивился Гэмбл. — Он же просто деревенский колдун!
— Олдер обладает большой мудростью, — возразил ему Оникс, — только мудрость эта у него в руках, а не в голове. И он всегда следует велению своего сердца. И уж, разумеется, совсем не стремится вести нас куда-то.
— И все же именно он был избран! Из всех нас? — Гэмбл был явно уязвлен.
— Кто же его выбирал? — тихо спросил Сеппель.
— Мертвые, — ответил Мастер Путеводитель.
И они опять надолго замолчали. Вокруг стояла абсолютная тишина, даже цикады перестали петь, и в этой тишине к ним по траве, освещенные серебристо-серым светом звезд, приблизились две высокие, закутанные в плащи фигуры.
— Можно нам с Брандом посидеть с вами немного? — раздался голос Лебаннена. — Сегодня, видно, никому не спится.
А на пороге своего дома сидел в эти минуты Гед и наблюдал за движением звезд над морем. Уже больше часа назад он улегся было в постель, но стоило ему закрыть глаза, и он видел тот холм в темной стране и слышал голоса мертвых, волной поднимавшиеся ему навстречу. Полежав немного, он встал и вышел на крыльцо, откуда были видны звезды, движущиеся по небосводу, и море.
Он устал, ему хотелось спать, глаза закрывались сами собой, но стоило ему слегка задремать, и он мгновенно оказывался у той каменной стены, и сердце его леденело от страха, что он останется там навсегда, не зная пути назад. Наконец, потеряв терпение и устав бояться, он снова встал, принес из дому фонарь, зажег его и пошел по тропе к дому Тетушки Мох. Мох, конечно, тоже могли сниться страшные сны, но она могла и не испугаться: она и так в последние дни жила совсем рядом с той каменной стеной. Но если что-то подобное приснится Вереск, та, конечно же, будет в полной панике, и даже Тетушка Мох не сможет ее успокоить. Ну что ж, в крайнем случае он хотя бы успокоит эту несчастную дурочку и объяснит ей, что это всего лишь сны.
В темноте идти было трудно, фонарь качался, отбрасывая на тропу огромные уродливые тени. Гед шел гораздо медленнее, чем хотел бы, и несколько раз споткнулся и чуть не упал.
Он еще издали увидел свет в домике вдовы, хотя было уже далеко за полночь. Где-то в деревне плакал ребенок, и Гед услышал, как он громко кричит: «Мама, мама, почему люди плачут? О ком плачут люди, мама?» Во многих домах горел свет, там тоже никто не спал. Сегодня ночью, подумал Гед, в Земноморье, пожалуй, никто по-настоящему не спит. Он усмехнулся своим мыслям, потому что ему всегда нравилось затишье перед бурей — эта страшноватая пауза, эти краткие мгновения перед тем, как все в мире вдруг встает с ног на голову.
Проснувшись, Олдер понял, что лежит на земле, чувствуя под собой всю ее глубину. Над ним раскинулось звездное летнее небо; яркие звездочки выглядывали то из-за одного листка, то из-за другого — в зависимости от направления легкого переменчивого ветерка. Но все звезды в этих небесах двигались правильно — с востока на запад, в полном соответствии с законами вращения Земли. Олдер еще немного полюбовался звездами и отпустил их пастись в небесных лугах.
Техану уже ждала его на том холме.
— Что мы должны делать, Хара? — спросила она.
— Нам придется латать прореху в ткани мирозданья, — ответил ей Олдер и улыбнулся, потому что на сердце у него стало теперь совсем легко. — И еще ломать стену.
— А они могут помочь нам? — спросила она, глядя вниз, где уже собрались мертвые, бесчисленные, как стебли сухой травы на склонах холма, или звезды в небесах, или песчинки на морском берегу. Только теперь мертвые молчали; их толпа застыла, точно огромная песчаная отмель в море тьмы. — Нет, — сказал Олдер. — Но, может быть, смогут другие. — Он прошел вниз по склону к стене. В этом месте стена была примерно ему по пояс. Он положил руки на один из камней верхнего, перекрывающего ряда и попытался сдвинуть его с места. Но камень был закреплен прочно или, может быть, обладал большим весом, чем обыкновенные камни. Во всяком случае, Олдер даже сдвинуть с места его не смог. И тут к нему подошла Техану.
— Помоги мне, — сказал он, и она положила руки на этот упрямый камень — одна рука была человеческая, а вторая, обожженная, напоминала коготь. Как следует упершись, они что было силы нажали и вместе попытались сдвинуть камень с места. И камень наконец подался! Они сдвинули его еще немного, и Техану крикнула:
— Толкай! — И они в несколько толчков сбросили камень на землю, и он тяжело загрохотал по скалистому склону за стеной, скатываясь во тьму.
Следующий камень оказался поменьше, и вместе они довольно легко сдвинули его с места и сбросили в пыль по ту сторону стены.
И вдруг по земле, что была у них под ногами, прошла дрожь. Мелкие камешки в стене затряслись, загремели, и тысячи тысяч мертвых, тяжко вздыхая, подошли ближе к пролому в стене.
Мастер Путеводитель вскочил и прислушался. Листья на деревьях, росших вокруг поляны, шумели, точно начиналась буря, деревья раскачивались, склоняя вершины, а ветви их трещали так, словно их треплет ураганный ветер. Но никакого ветра в Роще не было!
— Так. Перемены начинаются, — сказал Путеводитель и пошел прочь от остальных — во тьму, под деревья.
Заклинатель, Привратник и Сеппель молча поднялись и последовали за ним. Последними и не так торопливо уходили с поляны Гэмбл и Оникс.
Лебаннен тоже встал было и уже сделал несколько шагов вслед за ними, но вдруг опомнился и бегом бросился через всю поляну к низенькому каменному домику.
— Ириан! — крикнул он, наклонив голову и всовываясь в низкий дверной проем, за которым было совершенно темно. — Ты возьмешь меня с собой, Ириан?
Ириан вышла из домика; она улыбалась; она вся светилась каким-то яростным светом!
— Хорошо. Но идем, идем скорее! — сказала она и взяла Лебаннена за руку. И рука ее была горяча, точно раскаленные уголья, когда она подняла его с земли на крыльях иного ветра.
Через несколько минут из дома на залитую лунным светом поляну выбежала Сесеракх, следом за ней вышла Тенар. Женщины стояли, озирались, но никого не видели. И все вокруг опять словно застыло; на деревьях не шевелился ни один листок.
— Они все ушли! — прошептала Сесеракх. — Ушли по Пути Драконов! — И она сделала шаг вперед, вглядываясь во тьму. — Что же нам теперь делать, Тенар?
— Ничего. Нам осталось только следить за домом, — ответила Тенар.
— Ах! — прошептала Сесеракх, падая на колени. Она заметила Лебаннена, который, вытянувшись, лежал ничком возле крыльца. — Он ведь не умер, а?.. Я надеюсь?.. О, мой дорогой король, не уходи! Не умирай!
— Он сейчас вместе с ними. А ты останься с ним рядом и постарайся его согреть. Следи за домом, Сесеракх! — сказала ей Тенар и прошла к тому месту, где лежал Олдер. Его невидящие глаза были устремлены к звездам. Тенар села с ним рядом, накрыла своей рукой его руку и стала ждать.
Олдер вряд ли смог бы сдвинуть тот большой камень, на который положил сейчас руки, но вдруг рядом с ним оказался Мастер Заклинатель, который приналег плечом и сказал: «Давай!» Вместе они, хотя и с трудом, все же столкнули и этот камень, и он глухо загрохотал где-то во тьме.
Теперь Олдер увидел и других, и все они старались помочь ему, все толкали камни, раскачивали их, сбрасывали вниз за стену. На мгновение Олдеру показалось, что руки его опять отбрасывают тень: рядом был источник какого-то красноватого света. Орм Ириан! Такой он видел ее впервые. Огромный дракон во всей своей красе, дыша пламенем, попытался вытолкнуть каменную глыбу из самого нижнего ряда. Глыба глубоко ушла в землю, и сперва когти Орм Ириан тщетно скребли по ней, высекая искры, а украшенная огромными острыми шипами спина изгибалась дугой. Но усилия дракона были не напрасны: каменная глыба все-таки вылетела с грохотом из своего гнезда, и в стене образовалась широкая брешь!
По толпе мертвых, стоявших по ту сторону, пролетел едва слышный вопль — точно морская волна набежала на пологий берег и схлынула. Олдеру показалось, что теперь в образовавшийся проем хлынет скопившаяся за стеной тьма, но, подняв глаза, он увидел, что и за стеной теперь не так уж темно. Странный свет горел и двигался в тех небесах, где никогда ничто не двигалось, даже звезды. Огненные искры вспыхивали и гасли далеко над темным западным краем неба.
— Калессин!
Это был голос Техану. Олдер посмотрел на нее. Она не сводила глаз с небес. На землю она не посмотрела ни разу.
И вдруг Техану вскинула руки вверх, и по ним пробежал огонь — по вытянутым пальцам, по плечам, по волосам, по лицу и телу Техану бежали искры, потом снова полыхнул огонь, и два огромных крыла раскрылись у нее за спиной и подняли ее в воздух. Это было совершенно огненное существо, ослепительное, прекрасное. Казалось, она вся сейчас состоит из огня.
Техану что-то громко крикнула ясным, но лишенным привычного звучания голосом и взмыла высоко в небо, где все ярче разливался свет и где неведомый белый ветер словно смел с поверхности небес бессмысленные, ничего не значащие, неподвижные звезды.
И в толпе призрачных мертвых существ тоже творилось нечто невообразимое: то тут, то там кто-то, подобно Техану, взмывал в небеса, превращаясь в дракона и сверкая огнем и чешуей, а потом улетал на крыльях иного ветра.
Но большая часть мертвых приближалась к ним на своих ногах. Они теперь не спешили, не толкались, не плакали, а просто шли с неторопливой уверенностью к образовавшемуся провалу в стене — огромная толпа мужчин, женщин и детей, которые, ни секунды не колеблясь, перешагивали через стену и тут же исчезали, и после них оставалось лишь крошечное облачко пыли — точно прощальный вздох. А небеса над головой все больше и больше светлели.
Олдер внимательно следил за ними, по-прежнему сжимая в руке тот заостренный камень, который вытащил из стены, чтобы, действуя им как рычагом, расшатать более крупную глыбу. Он смотрел, как мертвые уходят на свободу, и не мог оторвать от этого зрелища глаз. Наконец он увидел среди них ЕЕ. Отшвырнув камень в сторону, он шагнул к ней с криком: «Лили!» — и она увидела его, улыбнулась и протянула к нему руки. Он взял ее за руку, и они вместе переступили через стену навстречу солнечному свету.
Лебаннен стоял у разрушенной стены и смотрел, как на востоке разгорается заря. Ибо в темной стране теперь были восток и запад — там, где когда-то вообще не было направлений! Где невозможно было определить свой путь! Да, там теперь были восток и запад, свет и движение. Сама земля, казалось, двигается, дрожит, словно огромный неповоротливый зверь, и от этой дрожи каменная стена чуть дальше того места, где они пробили брешь, вдруг качнулась и рассыпалась. Столбы огня взметнулись над вершинами далеких черных гор, которые люди называли Горами Горя. Это был тот огонь, что горит в самом сердце земли, тот огонь, что питает драконов.
Лебаннен посмотрел в небо, раскинувшееся над этими горами, и увидел драконов, парящих на утреннем ветру. И вспомнил, что когда-то они с Гедом видели, как драконы танцуют в небесах над западными островами…
Три дракона на полной скорости мчались к тому месту, где он стоял, — к вершине холма близ разрушенной каменной стены. Двух он узнал сразу — Орм Ириан и Калессина. У третьего была совершенно золотая, сияющая чешуя и золотистые крылья. Этот летел выше других и не спускался так низко, как они. Орм Ириан покружила вокруг золотистого дракона, словно играя с ним, и они взмыли ввысь, поднимаясь кругами все выше и выше, и, когда первые лучи встающего солнца осветили золотистого дракона и он весь вспыхнул, подобно своему имени, подобно яркой большой звезде, Лебаннен понял наконец, что это Техану.
Огромный Калессин, сделав еще круг, пролетел совсем низко и приземлился среди развалин стены.
— АГНИ ЛЕБАННЕН, — сказал дракон королю.
— Старейший, — поклонился в ответ король.
— АИССАДАН ВЕРВ НАДАННАН, — снова послышался могучий голос, звонкий и шипящий одновременно, словно ударили сразу в несколько десятков цимбал.
Рядом с Лебанненом стоял, крепко упершись в землю, Бранд, Мастер Заклинатель. Он сперва повторил слова дракона на Языке Созидания, а потом перевел сказанное им на ардический язык:
— То, что некогда было разделено, таким и останется.
Мастер Путеводитель стоял рядом с Брандом. Его светлые волосы светились в лучах разгоравшегося солнца. Он тихо сказал:
— То, что было построено, теперь разрушено.
То, что было разрушено, теперь вновь стало целым.
И с тоской посмотрел в небо на двух драконов — золотистого и красновато-бронзового, — которые уже почти скрылись вдали, широкими кругами уходя за бесконечный горизонт, где в ярких солнечных лучах опустевшие города-тени таяли, превращаясь в ничто.
— Скажи, о Старейший, — обратился Мастер Путеводитель к дракону, и огромная голова медленно качнулась в его сторону, — сможет ли она хоть иногда возвращаться обратно — через лес? — Азвер говорил на языке драконов, и узкий желтый глаз Калессина внимательно следил за каждым его движением. Гигантская пасть дракона, очень похожая на пасть любой мелкой ящерки, была закрыта так, что казалось, будто Калессин улыбается. Но в ответ он не произнес ни слова.
А затем, с силой ударив всем своим длинным телом по стене, так, что те камни, что еще стояли, с грохотом посыпались вниз по склону под тяжестью его закованного в железную броню брюха, Калессин резко дернулся, с шумом и грохотом раскрыл крылья, оттолкнулся и полетел низко над землей к тем горам, вершины которых теперь сверкали в облаках светлого дыма и пара, просвеченных солнцем.
— Идемте, друзья, — сказал Сеппель своим тихим, ласковым голосом. — Наше время быть свободными еще не наступило.
Солнечный свет лился с небес. Солнце поднялось уже выше макушек самых высоких деревьев, но поляна все еще хранила следы холодной серой утренней росы. Тенар по-прежнему сидела, положив свою руку на руку Олдера и низко склонив к нему голову. Она смотрела, как холодная росинка ползет по узкому длинному листку, как она повисает крошечной капелькой на самом конце и в этой капельке отражается весь окружающий ее, Тенар, мир.
Кто-то окликнул ее по имени, но она даже головы не подняла.
— Он ушел, — сказала она.
Мастер Путеводитель опустился рядом с ней на колени и нежно погладил Олдера по лицу.
Он еще некоторое время постоял на коленях, помолчал, а потом сказал Тенар по-каргадски:
— Госпожа моя, я видел Техану. Она летела, прекрасная и вся золотая, на крыльях иного ветра!
Тенар быстро и остро глянула на него: он был очень бледен, лицо измученное, но в глазах все же сиял огонь победы.
Она не сразу сумела заставить губы произносить слова, но, справившись с собой, хриплым, почти неслышным голосом спросила:
— А она… исцелилась?
Азвер кивнул.
Тенар погладила Олдера по руке; это были прекрасные руки, которые умели все так хорошо чинить и латать! Слезы выступили у нее на глазах.
— Позволь мне побыть с ним еще немного, — сказала она Азверу и заплакала, закрывая руками лицо. Плакала она горько, тяжело, но почти неслышно.
Азвер оставил ее и подошел к маленькой группке людей у входа в дом. Оникс, Гэмбл и Заклинатель, грузный и чем-то встревоженный, собрались возле каргадской принцессы. А принцесса лежала на земле, обхватив Лебаннена руками, защищая его ото всех на свете и не позволяя никому из волшебников даже прикоснуться к нему. Глаза ее так и сверкали, а в руке она отчаянно сжимала короткий стальной кинжал Лебаннена.
— Я вернулся с ним вместе, — сказал Бранд Азверу, — и хотел остаться с ним, ибо не был уверен, что мы шли правильным путем. Но теперь она меня к нему не подпускает!
— Ганаи! — громко окликнул девушку Азвер. По-каргадски это означало «принцесса».
Глаза Сесеракх снова свирепо сверкнули, и она наконец посмотрела на него.
— А, это ты! Да услышат мою благодарность Атва и Вулуа! Да восславится наша Мать-земля! — воскликнула она. — Господин мой Азвер! Пусть все эти проклятые колдуны немедленно убираются прочь! Убей их! Это они убили моего короля! — И она направила на Азвера свой короткий острый кинжал.
— Нет, принцесса. Лебаннен улетел с драконом Ириан, но вот этот волшебник привел его обратно в наш мир. Дай-ка я его осмотрю. — И Азвер опустился возле короля на колени и немного повернул его к себе. Приложив руку ему к сердцу, он сказал: — Ему просто холодно, принцесса. Путь назад очень труден, и он устал. Обними его. Согрей.
— Я уже пробовала! — в отчаянии воскликнула Сесеракх, кусая губы. Она отшвырнула кинжал и склонилась над бесчувственным телом Лебаннена. — О мой бедный король! — Это она сказала на ардическом, хотя и очень тихо. — Мой дорогой, мой бедный король!
Азвер поднялся и сказал Заклинателю:
— Я думаю, что с ним все будет в порядке, Бранд. Теперь от нее куда больше пользы, чем от нас.
Заклинатель крепко взял его за плечо своей огромной рукой и сказал:
— А теперь спокойно.
— Что? Привратник? — спросил Азвер, бледнея и оглядывая поляну.
— Нет, он вернулся вместе с пальнийцем, — сказал Бранд. — Сядь, Азвер.
Путеводитель подчинился и сел на деревянный чурбачок, который старый Метаморфоз поставил здесь еще вчера, когда они все сидели кружком и спорили. Теперь ему казалось, что это было тысячу лет назад! Старики вечером вернулись в Школу, а потом… началась эта долгая ночь! Ночь, которая приблизила к ним ту каменную стену настолько, что уснуть означало попросту оказаться по ту ее сторону, и поэтому практически никто не спал. Никто, может быть, на всем острове Рок, а может быть, и на всех островах Земноморья… И только Олдер, который вел их… Азвер почувствовал, что его бьет дрожь и страшно кружится голова.
Гэмбл все пытался заставить его пойти в зимний домик и отдохнуть, но он отказывался. Говорил, что должен быть рядом с принцессой, чтобы служить ей переводчиком. И рядом с Тенар, чтобы защитить ее, подумал он, но вслух этого не сказал. Чтобы дать ей возможность выплакать свое горе. А вот Олдер со своим горем покончил. Он передал им и свое горе, и свою радость…
Из Школы явился Травник и засуетился вокруг Азвера, накинул ему на плечи зимний плащ. Азвер сидел, нахохлившись, на своем чурбачке, пребывая словно в каком-то лихорадочном полусне — никого не замечая, но чувствуя неясное раздражение от присутствия столь большого количества людей на его милой тихой поляне, — и смотрел, как солнечный свет, крадучись, прячется в листве деревьев. Его бодрствование, впрочем, было вознаграждено, когда сама принцесса подошла к нему, опустилась возле него на колени, заглянула в лицо с беспокойством и уважением и сказала по-каргадски:
— Лорд Азвер, король желает поговорить с тобой.
Она заботливо помогла ему встать, словно он вдруг превратился в глубокого старика. Он против ее помощи не возражал.
— Спасибо тебе, гаинба, — сказал он.
— Я еще не королева! — возразила она со смехом.
— Ты будешь ею, — заверил ее Путеводитель.
Прилив был высокий, как всегда в полнолуние, и «Дельфину» пришлось подождать, пока сойдет вода, чтобы пройти между Сторожевыми утесами. Тенар смогла высадиться в порту Гонт лишь ближе к полудню, а потом еще долго пришлось подниматься в гору, так что уже близился закат, когда она прошла по улице Ре Альби и свернула на знакомую тропинку, ведущую по краю утеса к дому.
Гед поливал капусту, которая, надо сказать, здорово подросла.
Заметив ее, он выпрямился и смотрел, как она идет к нему, как всегда, взглядом ястреба, чуть насупившись.
— Ага! — только и сказал он.
— Ах, мой дорогой! — воскликнула Тенар и пробежала последние несколько шагов, пока он, шагнув ей навстречу, не подхватил ее.
Ох как она устала! И была страшно рада просто посидеть с Гед ом на крыльце, попивая отличное вино, сделанное Спарком, глядя, как заря ранней осени из красноватой становится золотистой, разливаясь над всем западным краем неба.
— Как же мне все сразу тебе рассказать? — озадаченно спросила она.
— А ты рассказывай задом наперед, — предложил он.
— Хорошо. Я попробую. Они хотели, чтобы я осталась еще, но я заявила им, что мне пора домой. Там еще состоялось заседание Совета, знаешь, Королевского. По поводу помолвки. Будет великолепная свадьба, и нас приглашали, но вряд ли я туда поеду. Ведь по-настоящему-то они уже поженились. Когда были обручены Кольцом Эльфарран. Нашим с тобой кольцом!
Гед посмотрел на нее и улыбнулся — своей широкой и очень доброй улыбкой, которой, как считала Тенар (хотя, может быть, она была и не права) никто, кроме нее, никогда больше на его лице не видел.
— Да? — подбодрил он ее. — А дальше?
— Лебаннен пришел и встал вот так, смотри: слева от меня, а Сесеракх — справа. И все мы стояли перед троном Морреда. И я высоко подняла Кольцо. В точности как когда мы привезли его в Хавнор, помнишь? Еще солнце тогда так ярко светило… Лебаннен взял Кольцо и поцеловал его и снова отдал мне. И я надела его на руку принцессы, и оно легко так наделось, а ведь Сесеракх — женщина довольно крупная! Ох, тебе бы посмотреть на нее, Гед! Какая она красавица, настоящая львица! Лебаннен встретил наконец достойную подругу… Ну и тут все закричали. А потом начались всякие праздники и тому подобное. И я смогла наконец уехать.
— Продолжай.
— Задом наперед?
— Да.
— Хорошо. А перед этим был Рок.
— Рок — это всегда непросто.
— Да уж.
Они помолчали, попивая красное вино.
— Расскажи мне о Путеводителе.
Она улыбнулась.
— Сесеракх называет его Воином. Она говорит, что только настоящий воин может влюбиться в дракона.
— Кто пошел за ним в сухую страну — в ту ночь?
— Он, как и все мы, последовал за Олдером.
— Ага? — сказал Гед с удивлением и явным удовлетворением.
— За Олдером пошли не только Мастера. И Лебаннен, и Ириан…
— И Техану.
Она промолчала.
— Она вышла из дома первой, — снова заговорила Тенар. — А когда вышла я, ее уж не видно было… — Она снова долго молчала. — А потом Азвер видел ее. На заре. Она парила на крыльях иного ветра!
Воцарилось молчание.
— И они все улетели. Больше не осталось драконов ни на Хавноре, ни на западных островах. Оникс сказал: раз темная страна и все, кто там находились, вновь воссоединились с миром света, то и драконы получили обратно свое царство.
— Итак, мы разрушили наш мир, чтобы сделать его целым, — промолвил Гед.
Она кивнула. Они снова долго молчали, потом Тенар сказала очень тихо:
— Путеводитель верит, что Ириан вернется в Рощу, если он позовет ее.
Гед ничего не сказал; они снова помолчали, и вдруг он воскликнул:
— Смотри-ка вон туда, Тенар!
Она посмотрела, куда он показывал, — в затянутую дымкой западную сторону морского простора.
— Если она прилетит, то только оттуда, — сказал Гед. — А если и не прилетит, то мы будем знать, что она там.
Тенар кивнула.
— Я знаю. — Глаза ее были полны слез. — Лебаннен спел мне одну песенку, когда мы плыли на корабле, возвращаясь в Хавнор. — Петь она не могла, она лишь прошептала слова: «О радость моя! Лети, будь свободна!..»
Гед отвернулся и долго смотрел на темный, поросший лесом склон горы.
— Скажи, — спросила Тенар, — а что ты делал, пока меня не было?
— За домом присматривал.
— А в лес ходил?
— Пока еще нет, но собираюсь, — сказал Гед.

ШКАТУЛКА, В КОТОРОЙ БЫЛА ТЬМА
(рассказ)
Рассказ о принце, его мятежном брате и бесконечно повторяющейся битве. А также о ларце с Тьмой, которая изменит привычный ход событий.

По мягкому песку, по самой кромке моря шел, не оставляя следов, маленький мальчик. В ярко-синем, лишенном солнца небе кричали чайки, в несоленом море плескалась и играла форель. Далеко, почти у самой линии горизонта, гигантский морской змей на миг взвился над водой, изогнувшись семью великолепными арками, и тут же снова исчез в море. Мальчик посвистел ему, но змей больше не появился — был занят охотой на китов. Мальчик пошел дальше, не отбрасывая тени, не оставляя следов, по узкой полоске песка, намытого между прибрежными утесами и морем. Впереди показался поросший травой, далеко выдающийся в море мыс. На нем примостилась хижина. Пока мальчик карабкался к ней по крутой тропинке, хижина, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одну об другую свои передние лапы. При этом она была похожа то ли на большую муху, то ли на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали десять минут одиннадцатого.
— Что это у тебя там, Дики? — спросила мальчика его мать и бросила в рагу из кролика веточку петрушки и щепоть перца. Рагу на плите исходило аппетитным паром.
— Коробочка, ма.
— Где ж ты ее нашел?
Еще один член семьи, материн черный кот, тихо скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и, словно лисий воротник, обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив:
— У моря.
Дики кивнул:
— Это правда. Море выкинуло ее на берег.
— А что там внутри?
Кот говорить ничего не стал, только замурлыкал. Ведьма обернулась и глянула в круглое лицо сынишки.
— Что же там внутри? — повторила она.
— Тьма.
— Да? Дай-ка посмотреть.
Она нагнулась, и кот, по-прежнему мурлыча, зажмурился. Осторожно прижимая шкатулочку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку.
— Верно, — подтвердила его мать. — Убери-ка ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда это ключ от нее подевался… А теперь беги и мой руки. Столик, накройся!
И пока малыш возился во дворе с тяжелым насосом, мыл руки и лицо, домик наполнился звоном тарелок, вилок, ножей.
Потом мать прилегла отдохнуть, а мальчик потихоньку взял с полки, где хранились его сокровища, отполированную морем и инкрустированную песком и ракушками шкатулочку и пошел с ней куда-то в дюны, в противоположную от моря сторону. По пятам за ним следовал черный материн кот, терпеливо пробираясь по песку между стеблями колючей травы. Тень была только у него.
На вершине холма принц Рикард обернулся в седле и посмотрел назад, на плюмажи и знамена своего войска, узкой лентой растянувшегося по дороге. Дорога вела от украшенных башнями крепостных стен столицы к морю. Правителем этого королевства был отец Рикарда. Под лишенными солнца синими небесами город в долине мерцал и переливался подобно жемчужине и казался таким же хрупким. Здания и крепостные стены не отбрасывали тени. Снова увидев, сколь прекрасна столица, Рикард твердо решил, что она никогда и никем не будет захвачена! Сердце его запело от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и поторопить воинов, а сам пришпорил своего белого коня, тот заржал и, словно ветер, рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув клювом прямо перед носом у жеребца, — он вечно дразнил его, успевая, однако, каждый раз увернуться, когда разъяренный конь пытался укусить грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом грифон с чудовищным кудахтаньем и ревом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог забавляться без конца. Опасаясь, что зверь переутомится еще до начала битвы, Рикард привязал его, и тот полетел с ним рядом вполне спокойно, то что-то мурлыча по-кошачьи, то щебеча по-птичьи.
Наконец перед Рикардом открылось море; где-то там, среди утесов, скрывался отряд врага под предводительством его родного брата. Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам, море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась; белый конь взлетел над трехметровым обрывом и с топотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади; перед Рикардом длинной стеной стояло вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не все миновали обрыв. Один за другим скатывались они на пляж, и голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала оба отряда сошлись врукопашную. С громким пронзительным воплем грифон взмыл в воздух, выдернув из рук Рикарда поводок, и, словно ястреб, разинув клюв, распростерши крылья, ринулся с небес на высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч. И когда железный клюв грифона, скользнув по его плечу, попытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в грифоново брюхо, вспарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в воздухе пополам и рухнул прямо на человека в сером, выбив его из седла. Чудовищный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятнал песок черной кровью. Высокий человек в сером, шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек грифону голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за запорошившего глаза песка и заливавшей лицо крови, так что заметил Рикарда только тогда, когда меч его уже завис над ним. По-прежнему молча человек в сером обернулся и своим еще дымящимся от крови грифона мечом отразил удар. Потом попытался рубануть по ногам белого коня, но это ему не удалось: конь попятился, заржал и, встав на дыбы, ринулся на врага. Снова меч Рикарда блеснул в воздухе над головой высокого человека, и тот вдруг почувствовал, как руки его наливаются свинцовой усталостью, а легкие с трудом хватают воздух. Рикард пощады не знал. В последний раз высокий человек сделал выпад, и тут же разящий меч брата ударил его прямо в лицо. Он упал совершенно беззвучно. Коричневатые фонтанчики песка, взметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его распростертое тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в самую гущу сраженья.
Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели, их теснили к воде, и наконец последние человек двадцать, рассыпавшись в разные стороны, что было сил бросились к кораблям, навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов, а тяжелораненые подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять на ногах, построились у подножия дюны, на вершине которой стоял Рикард. За его спиной на волнах моря покачивались три черных корабля, весла были спущены на воду.
В полном одиночестве Рикард сел на густую траву, покрывавшую вершину холма, и закрыл руками лицо. Рядом с ним, словно каменное изваяние, застыл белый жеребец. Внизу молча стояло его войско. На песке у воды лежал с окровавленным лицом высокий человек, а рядом — мертвый грифон. Чуть поодаль лежали еще мертвые, их остановившиеся глаза глядели в ясное небо, где никогда не бывало солнца.
Легкий ветерок с шуршанием прошелся меж песчаных холмов. Рикард поднял голову, юное лицо его было мрачно. Он подал знак своим офицерам, вскочил в седло и неспешно пустился в обратный путь, к столице, не оглядываясь и не желая видеть ни того, как пристанут к берегу черные корабли, ни того, как его войско, окончив построение, двинется за ним следом. Когда оживший грифон с пронзительным криком снова ринулся к нему с высоты, он привычно поднял обтянутую перчаткой руку, улыбаясь огромному зверю, который пытался угнездиться на запястье хозяина, хлопая крыльями, как курица, и вопя, словно мартовский кот.
— Эх ты, непослушный! — сказал Рикард. — Ну что раскудахтался? Ступай-ка к своим цыплятам! Тоже мне, наседка.
Чудовище, оскорбившись, взмыло в небеса и понеслось на широких своих крыльях к столице. За принцем, немного отставая, тянулось его войско, но никто не оставлял на песчаной дороге ни единого следа. И позади светло-коричневый песок на берегу снова лежал плотным слоем: на нем не осталось ни единого следочка, ни единого пятнышка. Черные корабли с черными поднятыми парусами уже готовы были к отплытию. На носу первого стоял мрачный высокий человек в сером плаще.
Желая поскорее попасть домой, Рикард свернул и проехал мимо хижины на четырех птичьих ногах, стоящей на мысу. Ведьма махнула ему рукой с порога. Рикард еще раз свернул и, натянув поводья, остановился точно у ворот. Он смотрел на молодую ведьму. Она была очень красива, с черными, как уголь, волосами, развевавшимися на морском ветру. И смотрела прямо на принца в белых доспехах, верхом на белом коне.
— Принц Рикард, — сказала вдруг ведьма, — что-то уж больно часто участвуешь ты в сражении.
Он рассмеялся:
— Что же мне делать? Позволить брату осадить столицу?
— Да, позволь. Все равно ведь никто не может взять столицу штурмом.
— Я знаю. Но отец мой и наш государь сослал брата, и теперь тот не смеет даже ногой ступить на берег нашего королевства. А я — солдат. Я подчиняюсь своему королю. И своему отцу. По его приказу иду я в бой.
Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось, высокий лоб от переносицы вздымался, словно корона, глаза сверкали.
— Подчиняйся, но заставляй и других подчиняться себе. Командуй другими, но слушайся и чужих приказов… Твой брат не пожелал ни подчиняться, ни командовать… Ой, принц, берегись… — Лицо ее снова помолодело, потеплело и стало очень красивым. — Нынче утром море дарит странные подарки, дуют странные ветры, трескаются мои магические кристаллы… Берегись!
Мрачно, но благодарно поклонился он ей, пришпорил коня и скрылся вдали — весь в белом, похожий на чайку над длинной дюной.
Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке: летучие мыши и связки лука под потолком, котелки на плите, коврики на полу, метлы в углу, сушеные мухоморы и волшебные прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами, тоненький серпик месяца, подвешенный к каменной трубе, древние Книги и старинный ее приятель кот… Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком:
— Дики!
С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы.
— Дики!.. Кис-кис-кис!..
Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и унес прочь.
Ведьма щелкнула пальцами. Из двери со свистом вылетела метла и замерла, зависнув невысоко над землей, а сам домишко, словно от волнения, затрясся и закудахтал.
— Заткнись! — рявкнула ведьма; дверь домика тут же послушно закрылась, кудахтанье стихло. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг, то и дело призывая: — Дики!.. Эй, котик! Кис-кис-кис!
Молодой принц, нагнав свое войско, спешился и пошел рядом со всеми. Выйдя за последний поворот, они увидели внизу, в долине, столицу. Неожиданно кто-то потянул принца за плащ.
— Принц Рикард…
Маленький мальчик — совсем малыш, еще не успевший утратить младенческую пухлость и розовощекость, — стоял и чуть-чуть обиженно смотрел на него, держа в руках старенькую, потертую, облепленную песком шкатулочку. Рядом с ним сидел какой-то странный черный кот и во весь рот улыбался.
— Море принесло ее… для нашего принца — правда, правда!.. Пожалуйста, возьми ее! — И мальчик протянул шкатулку Рикарду.
— А что в ней такое?
— Тьма, господин мой.
После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щелку.
— Она просто изнутри выкрашена черным, — сказал он с усмешкой.
— Нет, принц, честное слово, не выкрашена! Открой пошире!
Рикард осторожно приподнял крышечку на палец и снова глянул внутрь. Потом быстро захлопнул шкатулку, потому что малыш испуганно вскрикнул:
— Только смотри, чтобы ветер не унес ее, принц!
— Я передам это нашему королю.
— Но я подарил ее тебе, господин мой…
— Все подарки моря принадлежат королю. И все равно — спасибо, малыш. — Они некоторое время внимательно смотрели друг на друга — маленький пухлощекий мальчик и сильный, стройный, красивый юноша. Потом Рикард повернулся и быстро пошел дальше, а Дики потащился назад, вниз по склону холма, молчаливый, подавленный и безутешный. Еще издалека, откуда-то с юга, услышал он зов матери и попробовал ей ответить, но ветер нарочно унес все слова в другую сторону, да и приятель его, кот, куда-то вдруг запропастился…
Бронзовые ворота распахнулись перед входящим в город войском. Залаяли сторожевые псы, стражники подтянулись и выпрямились, городской люд низко кланялся, когда белый конь Рикарда промчался, стуча копытами, по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц, как всегда, взглянул на большие бронзовые часы на самой высокой из девяти белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали десять минут одиннадцатого.
В Тронном зале принца ждал отец — свирепого вида седовласый человек в железной короне. Он восседал на троне, вцепившись пальцами в железные подлокотники, которые оканчивались головами чудовищных химер. Рикард преклонил колена, низко опустил голову и, даже не взглянув в лицо отцу, сообщил ему об одержанной победе:
— Изгнанник мертв, погибла большая часть его войска, остальные бежали на своих кораблях.
В ответ послышался скрипучий голос короля — будто дверь отворилась на ржавых, давно не смазанных петлях:
— Поздравляю с удачей, принц.
— Я принес тебе подарок моря, о мой король. — По-прежнему не поднимая головы, Рикард протянул отцу деревянную шкатулку.
Глухое рычание донеслось из пасти одной из железных химер.
— Да, это моя шкатулка! — Король так резко выкрикнул это, что Рикард даже на минутку поднял глаза и с изумлением увидел, что у всех химер оскалены пасти, а глаза короля яростно сверкают.
— Потому-то я и принес ее тебе, о мой король.
— Она моя… это я подарил ее морю, я принес ему этот дар! А море выплюнуло его обратно… — Король долго молчал, потом сказал, как бы чуть смягчившись: — Что ж, возьми ее себе, мой принц. Морю она не нужна, мне — тоже. Теперь шкатулка в твоих руках! Храни же ее… закрытой. Храни ее закрытой, принц!
Рикард, по-прежнему не поднимаясь с колен, еще ниже склонил голову, рассыпаясь в благодарностях, потом поднялся и пошел к дверям, так больше ни разу и не посмотрев на короля, своего отца. Когда он
спустился по ярко освещенной парадной лестнице, офицеры и придворные сразу же собрались вокруг, как всегда готовые расспросить его о результатах битвы, пошутить, поболтать и выпить. Но принц прошел мимо, не сказав ни единого слова и ни на кого не посмотрев. В полном одиночестве направился он прямо к себе, бережно прижимая к груди шкатулку.
Очень светлая, лишенная теней и окон комната его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими каменьями, но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи, но и пламя недвижимо застыло над золочеными подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевязь, сел и вздохнул. Из спальни тут же притащился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон и положил тяжелую голову хозяину на колени, ожидая, чтобы тот почесал его покрытый перьями загривок. А еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот — тот самый, ведьмин, с черной лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных — котов, собак, обезьян, белок, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров… У каждого придворного имелась по крайней мере дюжина ручных зверьков; у каждой дамы непременно был собственный ручной единорог. У принца же — только грифон, он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом. Принц почесал грифону загривок, поглядывая на него и ловя ответный взгляд любящих золотистых круглых глаз. Время от времени Рикард посматривал на шкатулку, спокойно стоявшую на столике. Ключа, чтобы запереть ее, у него не было.
Где-то в одной из дальних комнат тихонько играла музыка, нескончаемое монотонное переплетение звуков было подобно журчанию воды в фонтане.
Принц обернулся и посмотрел на каминные часы — их золотой циферблат был отделан синей эмалью. Часы показывали десять минут одиннадцатого: время вставать, снова надевать перевязь, созывать войско и отправляться на битву. На родную землю возвращался изгнанник, одержимый намерением захватить столицу и предъявить свои наследные права на трон. Его черные корабли под черными парусами должно отогнать прочь от берегов королевства. Братья неминуемо должны сразиться, один из них — пасть в бою, а второй — спасти город. Рикард решительно встал, и грифон, разумеется, тоже немедленно вскочил и завилял змеиным хвостом, готовый идти в бой.
— Ну хорошо, пойдем! — сказал ему Рикард, хотя голос его прозвучал невесело и холодно. Он пристегнул меч в разукрашенных жемчугом ножнах, а грифон, посвистывая от нетерпения, потерся клювом о руку принца. Но принц не обратил на своего любимца внимания. Он очень устал, странная печаль, невнятная тоска снедали его… Но отчего он грустил? Ему захотелось вдруг вновь услышать ту музыку, которая больше не была слышна, ему захотелось вновь хоть раз поговорить со своим братом, прежде чем они сойдутся в бою как смертельные враги… Он не знал, чего именно ему хочется. Наследник и защитник королевства, он обязан был подчиняться своему королю. Он надел серебряный шлем и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то, он обернулся и увидел, что шкатулка, открытая, лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным, отсутствующим взглядом, а из шкатулки меж тем, подобно облачку дыма, поднималась темная мгла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку, и Тьма потекла между его пальцами.
Грифон, жалобно свистя, попятился назад.
Высокий, светловолосый, в белых доспехах и серебряном шлеме, стоял принц Рикард посреди сверкающей светом комнаты и, держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда капля за каплей медленно сочится густой полумрак. Теперь все вокруг него было погружено в сумерки. Сначала он стоял неподвижно. Потом медленно поднял шкатулку и перевернул ее донышком вверх точно над своей головой.
Тьма потекла по его лицу. Он огляделся: теперь стихла не только та далекая музыка, но и все вокруг было наполнено странной тишиной. Горели свечи, огоньки их отражались в золотых украшениях и разноцветных камнях, вделанных в стены; радужные зайчики прыгали по полу и потолку. Но в углах комнаты была густая Тьма, Тьма притаилась за каждым креслом, а когда Рикард повернул голову, то по стене метнулась его тень. Он выронил шкатулку и быстро подошел к одному из темных углов — там ярко блестели чьи-то красные огромные глаза… Ну конечно, это грифон! Принц протянул к своему любимцу руку и нежно заговорил с ним. Грифон не пошевелился, но издал странный металлический клекот.
— Ну хватит, выходи! Ты что же, темноты испугался? — сказал ему принц и тут же сам ощутил страх. Тогда он вытащил меч. Все вокруг было недвижимо. Рикард осторожно отступил к двери, и тут чудовищный зверь прыгнул. Принц успел увидеть, как потолок закрыли два огромных черных крыла, услышал, как щелкнул страшный железный клюв, звякнули об пол железные когти; грифон навалился на него всей тушей прежде, чем он успел нанести удар мечом снизу вверх. Он что было сил боролся с грифоном, но железный клюв щелкал уже у самого его горла, а страшные когти терзали ему руки и грудь. Наконец принцу удалось высвободить одну руку с мечом и нанести первый удар. Потом он снова замахнулся и ударил… Вторым ударом он почти отсек грифону голову. Чудовище разжало лапы и рухнуло на пол, извиваясь среди черных теней и ярких световых пятен, отраженных зеркалами, хрусталем и драгоценными каменьями. Через некоторое время грифон перестал биться и застыл.
Рикард со стуком уронил меч на пол. Руки принца были покрыты коркой — его собственной запекшейся кровью. В комнате с трудом можно было что-либо рассмотреть: мощные крылья грифона загасили, сбив на пол, почти все свечи. Горела только одна. Принц ощупью добрался до стула и сел, жадно хватая ртом воздух. А потом сделал то же самое, что и тогда, после сражения, на вершине дюны: опустил низко голову и закрыл руками лицо. Вокруг стояла полная тишина. Последняя свеча слабо мерцала в золотом подсвечнике; свет ее отражался, дробясь, в гранях топазов и аметистов, украшавших стены. Наконец Рикард поднял голову.
Грифон по-прежнему лежал неподвижно. Под ним на полу натекла целая лужа крови, такой же черной, как та собранная в комок Тьма, что была в маленькой шкатулке. Железный клюв чудовища был разинут, открытые глаза напоминали два красных камня.
— Он мертв, — сказал негромкий голосок, и вошел ведьмин кот, осторожно пробираясь среди осколков разбитого вдребезги стеклянного столика. — Теперь уже навсегда. Послушай, принц! — Кот сел и аккуратно обвил хвостом передние лапки.
Рикард стоял неподвижно, с отсутствующим выражением лица, пока какой-то странный звук не вывел его из глубокой задумчивости. То был слабый звон, раздававшийся совсем рядом. Потом вдруг в башне высоко над дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били десять!
За дверью вдруг послышался топот, по коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние гулкие удары колокола, — там словно метались насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы…
— Ты опоздаешь на битву, принц, — сказал кот.
Рикард, пошарив на полу, отыскал в луже крови, в густой тени свой меч, пристегнул его к перевязи, накинул плащ и пошел к двери.
— Сегодня будет настоящий полдень, — сказал кот ему вслед, — и будут сумерки, и наступит ночь. И тогда один из вас вернется домой, в столицу, — ты или твой брат. Но только один из вас, принц.
Рикард на мгновение застыл как вкопанный.
— А светит ли сейчас там, снаружи, солнце?
— Да, сейчас светит.
— Ну, тогда все хорошо! Тогда все это было не напрасно, — с облегчением вздохнув, сказал юноша и, открыв дверь, прошел по залитым солнечным светом залам и коридорам дворца, где царили паника и суматоха. А следом за ним двигалась его черная тень.

ОДЕРЖАВШИЙ ПОБЕДУ
(рассказ)
Жители небольшого прибрежного города неизвестного мира уже много недель ожидают Конец. Торговые площади опустели, дома не строятся, не возделываются поля и некому заботиться о животных. Одни молятся в храмах, другие пьянствуют, третьи шьют праздничные наряды, чтобы встретить в них Конец, остальные — разрушают построенное и избавляются от вещей, чтобы освободить свои души перед Концом. И лишь один человек в этом хаосе умирающего мира решается начать строить…

Он стоял на берегу моря и смотрел вдаль, за пенную гряду облаков на горизонте, где поднимались или скорее угадывались неясные очертания Островов. Там, сказал он морю, там — мое королевство. Ну а море сказало ему в ответ те же слова, которые говорит всем людям. По мере того как из-за спины Лифа на море наползал вечер, пенные облака на горизонте бледнели, ветер стихал, а где-то далеко засветилась уже то ли звезда, то ли огонек, то ли свет его надежды.
Снова был уже поздний вечер, когда он поднимался по улицам родного города к себе домой. Теперь знакомые магазинчики и дома соседей выглядели совсем пустыми, заброшенными; товары и домашняя утварь были вывезены или упакованы: люди готовились к Концу. Большая часть горожан участвовала сейчас в очередной церемонии покаяния в Храме на холме, остальные, из числа «гневных», ушли с Рейджерами в поля. А Лиф пока не решался ни уйти из собственного дома, ни собрать и вынести на двор вещи; его изделия и все в его доме было слишком тяжелым, чтобы с ним так просто было расправиться, слишком прочным, чтобы сломать или сжечь. Только время, долгие века разрушат все это. Когда его изделия складывали в аккуратные штабеля, или роняли с высоты, или даже специально швыряли оземь, надеясь разбить, они все равно образовывали нечто, напоминающее или даже очень похожее на обитаемый город. Так что Лиф и не пытался избавиться от них. Его двор по-прежнему был завален множеством кирпичей — тысячами и тысячами прекрасных кирпичей, сделанных его руками. Печь для обжига была холодна, однако полностью готова к работе, бочки с глиной, сухой известью и известковым раствором, творило, строительный инструмент: лотки, тачки, лопатки, мастерки — все было на месте. Один из парней с улицы Ростовщиков как-то спросил его, усмехаясь:
— Ты никак собираешься кирпичную стену построить да и спрятаться за ней, когда миру Конец придет, а, старик?
Другой его сосед остановился по пути в Храм и некоторое время задумчиво смотрел на бесконечные штабеля, кучи, груды, курганы отлично сформованных, прекрасно обожженных кирпичей золотисто-красного цвета — того, каким бывает солнце на закате, — а потом вздохнул, ибо тяжело даже ему было смотреть на всю эту красоту:
— Вещи, вещи!.. Освободись от вещей, Лиф, освободись от того груза, что тянет тебя вниз! Пойдем с нами — и мы вместе поднимемся над Концом этого мира!
Лиф взял из кучи один кирпич, аккуратно положил его в ряд уже почти готового штабеля и лишь смущенно улыбнулся в ответ.
Когда все наконец разошлись кто куда, сам он не пошел ни в поля — уничтожать посевы и скот, ни в Храм — молиться; он двинулся вниз, на берег моря, на самый краешек этого гибнущего мира, дальше которого была только вода.
Вот и сегодня: когда он вернулся на заваленный кирпичом двор, то не захотел с безумным хохотом предаваться разрушительному отчаянию, подобно его соседям Рейджерам, не захотел облегчать тоску в слезах вместе с теми, кто молился в Храме на холме. В душе своей он ощущал пустоту, а еще ему очень хотелось есть. Лиф был плотным коренастым мужчиной, прочно стоявшим на земле, так что даже яростный морской ветер здесь, на самом краю земли, оказался не в силах сдвинуть его с места.
— Привет, Лиф! — поздоровалась с ним вдова с улицы Ткачей, она попалась ему навстречу почти у самого дома. — Я видела, как ты поднимаешься от моря, а больше никого не видала с тех пор, как солнце село. Здесь вечерами становится так темно и тихо, гораздо тише… — Она так и не договорила, зато спросила: — Ты ужинал? А то я как раз собираюсь доставать жаркое из духовки, нам с малышом никогда в жизни не справиться с таким кусищем мяса до наступления Конца. Будет очень жаль, если такая прекрасная еда пропадет зря.
— Что ж, спасибо тебе большое за приглашение, — сказал Лиф, снова надел свою куртку, и они стали спускаться по улице Каменщиков на улицу Ткачей. Вокруг было темно, ветер с моря продувал крутые улочки насквозь.
В уютном, освещенном лампой домике вдовы Лиф поиграл с ее сынишкой, последним рожденным в городе ребенком. Пухлый малыш как раз пытался вставать. Лиф поставил его на ножки, мальчик засмеялся и упал, а вдова тем временем накрывала на стол: достала хлеб, вытащила из духовки жаркое. Потом они уселись ужинать, и даже малыш старательно трудился с помощью четырех новеньких зубов над горбушкой хлеба.
— Что ж это ты не пошла вместе со всеми на холм или в поля? — спросил Лиф, и вдова ответила так, словно причина у нее была более чем уважительная:
— О, так ведь у меня же маленький!
Лиф осмотрелся: этот уютный домик построил когда-то ее муж, каменщик, один из его заказчиков.
— Хорошо тут у вас, — сказал он. — Я уж, по-моему, с год такого мяса не пробовал.
— Да-да, я понимаю! Домов ведь больше не строят…
— Ни единого! — сказал он. — Ни одной стеночки не поставили, ни одного курятника, даже дырки ни одной не залатали. Ну а твое ремесло как? Ткать-то еще приходится?
— Да, кое-кто непременно хочет встретить Конец во всем новом. Это вот мясо я купила у Рейджера, который всех своих овец разом прирезал. А заплатила ему теми деньгами, что получила за кусок тонкого полотна от княжеской дочери. Ей хочется сшить по случаю Конца новое платье! — Вдова как-то не то насмешливо, не то сочувственно фыркнула и продолжала: — Но теперь не осталось больше ни льна, ни шерсти, так что ни прясть, ни ткать не из чего. Поля сожжены, овец всех прирезали…
— Да, — сказал Лиф, наслаждаясь прекрасно приготовленной бараниной. — Черные времена наступили, хуже не бывает.
— Да и хлеб-то, — продолжала вдова, — теперь откуда возьмешь? А воду? Люди ведь в колодцы отраву подсыпают! Что-то и я заговорила, как те, что плачут да каются в Храме, да? Ешь, пожалуйста, еще, Лиф. Молодой барашек — самое вкусное блюдо на свете, так и муж мой всегда говорил, пока осень не наступала. А уж осенью он начинал говорить, что нет ничего вкуснее жареной свининки. Давай-давай! Отрезай еще кусок, да побольше!..
В ту ночь Лифу приснился сон. Обычно он спал как мертвый, без сновидений — так спят во дворе сделанные им кирпичи. Но на этот раз он плыл и плыл по волнам снов, всю ночь напролет плыл к тем желанным Островам, а когда проснулся, неопределенности как не бывало: все его неясные догадки словно высветило солнцем, которое неизбежно затмевает свет звезд. Теперь ему все стало ясно, он знал, что делать дальше. Но как же он во сне перенесся туда, на Острова? Он ведь не летел над водой, не шел по ее поверхности, не плыл в ее глубине, подобно рыбе; и тем не менее пересек серо-зеленые, волнуемые ветром водяные холмистые просторы и попал на Острова! Он слышал зовущие его голоса, видел огни городов…
Одна мысль занимала его теперь: как человеку перебраться через море? Он вспомнил, как полые стебли травы легко плывут по ручью, и догадался, что можно, наверное, сплести из травы большой матрас, лечь на него и грести руками; однако почти сразу в его пробном изделии стали образовываться дыры, стебли рассыпались, разваливались под напором воды — они были слишком тонкими и непрочными, а связки ивовых прутьев, что горой лежали когда-то во дворе корзинщика, теперь уже были все сожжены. На тех Островах, во сне, он видел то ли тростник, то ли какую-то еще гигантскую траву высотой метров в пятнадцать, с коричневыми толстыми стеблями — пальцами не обхватишь. Стебли тянулись к солнцу, и на них трепетали бесчисленные продолговатые зеленые листья. Вот это да! Если бы ему такие стебли приспособить, так можно бы и за море поплыть. Только у них-то подобных растений нету. Здесь вообще, кроме травы, ничего не растет. Хотя в Храме на холме с давних пор хранилась ручка от ножа, сделанная из твердого коричневого материала, который, по слухам, назывался деревом; только вот деревья эти произрастали где-то далеко, в иных землях. Не плыть же, в самом деле, по бурным морским волнам на ручке от ножа?
Промасленные шкуры тоже неплохо держатся на воде, вот только дубильщики кож уже несколько недель бездельничали — больше шкур для продажи не приносили. Все. С тем, что здесь осталось, ничего не придумаешь. Туманно-белым ветреным утром он перетащил лоток и самую большую тачку на берег моря и опустил их на поверхность тихих вод залива. И они поплыли, по-настоящему поплыли! Правда, чуть-чуть погрузившись в воду. А стоило ему одной рукой слегка нажать на них сверху, как и лоток, и тачка сразу наполнились водой и затонули. Да, это не то, подумал он. Тяжести они не выдержат.
Тогда он снова поднялся на крутой берег, прошел по улицам, у себя во дворе наполнил тачку прекрасно обожженными, но бесполезными теперь кирпичами и покатил ее вниз. В последние годы рождалось совсем мало детей, так что любопытная ребятня вокруг не собиралась. Только двое типов из семейства Рейджеров, все еще не протрезвевшие после вчерашнего чудовищного пира, исподлобья глянули на него, стоя в темном дверном проеме, когда он шел по залитой солнцем улице. Весь тот день он возил на берег кирпичи, готовил раствор, а на следующее утро — хотя сон про Острова так больше и не приснился — начал что-то строить на исхлестанном ветрами и мартовским дождем берегу. Здесь под рукой было достаточно песка для раствора. Он сложил нечто вроде небольшого сосуда, хитро выложенного, с закругленными боками и похожего на рыбу. Кирпичи для этого приходилось класть как бы по спирали, что оказалось довольно сложно. Если на воде может держаться наполненная воздухом тачка, то почему не сможет эта кирпичная рыбка? Она к тому же будет и очень прочной. Но, когда застыл раствор и Лиф, напрягшись, с трудом перевернул свое произведение и столкнул в набегающие волны, кирпичная рыба сразу же стала погружаться все глубже и глубже и зарылась во влажный песок, словно морской моллюск или песчаная муха. Волны заливали ее, отбегали назад и снова набегали, а он все пытался вычерпать из своей «рыбки» воду, пока огромная волна, зеленая с белой шапкой, не налетела на нее и не поволокла за собой. Волна ударила «рыбку» о берег, и на песке в полосе прибоя осталась лишь груда кирпичей. Лиф стоял рядом, мокрый до ушей, вытирая соленую влагу с лица. Ничего там, на западе, нет! Только гигантские морские валы да дождевые облака… Нет! Острова все-таки там! Он точно знал это, он сам видел их — они были покрыты высоченными травами, раз в десять выше человеческого роста. Там золотились поля, по которым волнами проходил морской ветерок; там высились белые прекрасные города, стройные башни смотрели с холмов в морскую даль, слышались голоса пастухов, что пасли стада на сочных пастбищах…
«Все-таки мое ремесло — кирпичи делать да строить, а не с морем сражаться», — решил Лиф, внимательно обдумав свои действия. Теперь они казались ему довольно-таки глупыми, и он торопливо двинулся по мокрой от дождя боковой тропе наверх, за новой тачкой кирпичей.
Теперь, освободившись от власти дурацкой затеи с плаванием по воде, он заметил наконец, что Кожевенная улица совершенно опустела. Дубильня тоже разворочена и пуста. Лавки кожевников зияют разверстыми черными пастями, а окна жилых комнат над лавками темны и слепы. В конце улицы какой-то старый сапожник жег костер, в котором с ужасающей вонью горела целая куча новых, ненадеванных башмаков. Рядом с сапожником терпеливо ожидал оседланный ослик, прядая ушами и фыркая от противного дыма.
Во дворе Лиф снова наполнил тачку кирпичами. На этот раз, когда он покатил ее вниз на берег, откидываясь назад и с трудом осаживая на крутых улицах свой тяжелый груз, скользя и едва сохраняя равновесие на извилистой тропе, спускающейся к морю, где его чуть не сдуло сильным ветром, за ним увязались двое. Потом подошли еще человека два-три с улицы Ростовщиков, потом — еще несколько с тех улиц, что возле рыночной площади, так что, когда Лиф смог наконец выпрямиться и вздохнуть — у самой кромки моря, где черная пенящаяся вода лизала его босые грязные ноги и пот высыхал на разгоряченном лице, — на берегу уже собралась небольшая толпа. Люди стояли вдоль глубокой колеи, продавленной колесом его тяжелой тачки. У них был тот же равнодушно-праздный вид, что и у пьяноватых Рейджеров тогда, утром. Так что Лиф и внимания на них обращать не стал, хотя заметил, что на вершине утеса стоит вдова с улицы Ткачей и смотрит вниз с перепуганным лицом.
Он закатил тачку в море и, когда вода достигла его груди, опрокинул кирпичи в воду, а потом легко выбрался на берег с сильной приливной волной, волоча за собой полную пены морской тачку.
Кое-кому из семейства Рейджеров это уже надоело, и он пошел прочь по берегу. Высокий парень с улицы Ростовщиков, окруженный кучкой таких же, как сам он, лентяев, усмехаясь, спросил Лифа:
— Что ж ты их прямо с утеса не сбросишь, старина?
— Так они тогда только на песок упадут, — пояснил Лиф.
— А, так ты их утопить хочешь! Прекрасно! Знаешь, кое-кто уж решил, что ты что-то из них строить задумал здесь, на берегу! Так парни из тебя самого раствор сделать были готовы. Пусть-ка эти кирпичи в холодной водичке помокнут! А ты молодец, старина!
И тип с улицы Ростовщиков, ухмыляясь, двинулся со своей компанией дальше, а Лиф пошел по тропе вверх за новой порцией.
— Приходи ужинать, Лиф, — встревоженным голосом сказала ему вдова на вершине утеса; сынишку она крепко прижимала к груди — уж больно ветер был сильным.
— Приду, — сказал он. — И буханку хлеба принесу. Осталась парочка про запас — с тех пор, когда хлебопеки еще здесь были. — И он улыбнулся вдове, но та не ответила на его улыбку.
Они пошли рядом, и через некоторое время она спросила:
— Ты выбрасываешь свои кирпичи в море, да, Лиф?
Он громко рассмеялся и ответил:
— Да.
И на лице у нее появилось странное выражение — одновременно печальное и успокоенное. Впрочем, за ужином в своем уютном светлом домике она казалась спокойной и естественной, как всегда. Они с аппетитом ели сыр с черствым хлебом.
Весь следующий день он продолжал возить кирпичи на берег — тачку за тачкой. Если даже Рейджеры и видели это, то наверняка считали, что и он тоже занят — как и они сами, как и все вокруг — разрушением. Прибрежная отмель была довольно пологой, так что до настоящей глубины было еще далеко, и он мог заниматься своим делом почти незаметно для посторонних, так как кирпичи все время находились под водой — он начал укладывать их во время отлива, при низкой воде. Правда, во время прилива работать было очень тяжело, потому что море вокруг кипело, плевало ему прямо в лицо и волны с грохотом обрушивались ему на голову. Однако он продолжал работать. Ближе к вечеру, в сумерках, он принес на берег длинные железные прутья и сделал крепежные скобы, чтобы волны не подмыли и не разрушили его стену, в которой было уже целых два с половиной метра. Даже при отливе никто из «гневных» не смог бы ничего заподозрить. Парочка пожилых горожан, возвращавшихся из Храма с очередного покаяния, встретилась ему, когда он с лязгом и скрипом тащил пустую тачку по камням мостовой; люди мрачно улыбнулись Лифу.
— До чего же хорошо освободиться наконец от власти вещей, — сказал один тихонько, а второй согласно кивнул.
На следующий день — хотя снов про Острова так больше и не было — Лиф продолжал строить. Отмель начала резко уходить вглубь, и теперь он делал так: вставал на ту часть стены, которую только что сложил, и рядом с собой вываливал в море из тачки аккуратно уложенные кирпичи; потом вставал на кучу кирпичей и продолжал работу по горло в воде, задыхаясь, выныривая на поверхность и вновь погружаясь, но стараясь класть кирпичи точно в том направлении, которое заранее определил воткнутыми в дно железными прутами. Потом снова шел по серому пляжу, поднимался по тропе, грохотал по затихшим улицам города, направляясь за очередной порцией строительного материала.
Вдова, встретившись с ним у кирпичного двора, сказала вдруг:
— Разреши мне помогать тебе, хотя бы сбрасывать их с утеса; это ведь по крайней мере раза в два сократит тебе время.
— Груженая тачка слишком тяжела для тебя, — отвечал он.
— Ой, да ничего! — воскликнула она.
— Ну ладно, помогай, если хочешь. Но кирпичи-то, они, черти, тяжелые! Так что ты особенно много не нагружай. Я тебе и тачку поменьше дам. А твой мышонок зато сможет тоже прокатиться.
Итак, вдова начала помогать ему. Стояли красивые дни; серебристый туман по утрам застилал берег моря, рассеиваясь к полудню, когда начинало пригревать весеннее солнце. На прибрежных утесах и в расселинах зацвели травы. Больше на берегу не осталось ничего, что могло бы цвести. Теперь дамба уходила в море уже на много метров, и Лифу пришлось выучиться тому, чего раньше не умел никто, разве что рыбы: теперь он мог плавать как на поверхности воды, так и под водой, не касаясь при этом земной тверди.
Он никогда прежде не слыхивал, чтобы человек плавал в море, однако не слишком над этим задумывался — был занят весь день напролет. Вокруг него крутилась морская пена, всплывали пузырьки воздуха, когда он нырял, и капли воды оставались на коже, когда он выныривал, и приползали туманы, и шел апрельский дождь, и влага небесная сливалась с влагой морской. Порой Лиф чувствовал себя почти счастливым в этом мрачноватом зеленом мире, где невозможно было дышать; он упорно укладывал ставшие под водой странно твердыми и странно легкими кирпичи вдоль намеченного курса, и лишь потребность в воздухе заставляла его выныривать на волнующуюся под сильным ветром поверхность моря, задыхаясь и поднимая тучи брызг.
Он строил с утра до ночи. Ползал по песку, собирая кирпичи, которые его верная помощница сбрасывала ему с обрыва, потом нагружал тачку и тащил ее по дамбе в море; дамба была совершенно прямая, сверху — с полметра воды. Добравшись до ее конца, он сбрасывал кирпичи в море, нырял и начинал кладку; потом возвращался на берег за новой порцией. В город он поднимался только вечером, совершенно измотанный, изъеденный соленой водой до чесотки, голодный, как акула. Он делил с малышом и вдовой ту нехитрую трапезу, которую ей удавалось приготовить. Была уже поздняя весна, стояли долгие теплые тихие вечера, но город казался очень мрачным, темным и каким-то застывшим.
Как-то раз, когда он, несмотря на усталость, все же заметил разительные перемены в городе и заговорил об этом, вдова пояснила:
— Ой, так ведь они же давно все уехали! Мне кажется…
— Все? — Он помолчал. — И куда же они уехали?
Она пожала плечами. И подняла на него свои темные глаза. Они сидели за освещенным столом напротив друг друга в полной тишине. Она долго и задумчиво смотрела на него.
— Куда? — переспросила она. — А куда ведет твоя морская дорога, Лиф?
Он вздрогнул и застыл.
— На Острова, — наконец промолвил он, потом с облегчением рассмеялся и тоже посмотрел ей в глаза.
Она даже не улыбнулась. Только сказала:
— А они там есть? Неужели это правда: там есть Острова?
Потом оглянулась и посмотрела на спящего мальчика. В открытую дверь вливалось тепло позднего весеннего вечера, темным покрывалом окутавшего улицы, по которым больше никто не ходил, где никто больше не жил и не зажигал света в своем доме. Потом женщина наконец снова взглянула на Лифа и сказала:
— Знаешь, Лиф, кирпичей ведь совсем мало осталось. Всего несколько сотен. Тебе, наверное, придется сделать еще. — И она тихонько заплакала.
— О, господи! — сказал Лиф, подумав о том, что его подводная дорога — длиной всего метров в сорок, а в этом море от берега до берега… — Так я поплыву туда! Ну успокойся, не плачь, милая. Неужели ты думаешь, что я могу оставить вас с мышонком одних? После того, как ты столько кирпичей мне на берег перетаскала? Ведь ты так старалась, что чуть ли не на голову мне их высыпала!.. После того, как ты бог знает из каких загадочных трав и ракушек готовила нам еду? После того, как мы с тобой столько раз сидели за этим вот столом, греясь у разожженного тобой огня? Неужели я могу забыть твои ласковые руки, твой смех? И оставлю тебя одну, в слезах? Ну успокойся, не плачь. Дай мне подумать, как нам всем вместе добраться до Островов.
Но он знал, что добраться ему туда не на чем. Во всяком случае, кирпичей ему не хватит. Все, что было в его силах, он уже сделал: сорок метров дамбы, уходящей в море.
— Как ты думаешь, — спросил он после долгого молчания — она за это время успела уже вытереть со стола и перемыть посуду: теперь, когда Рейджеры уехали, вода в их колодце снова, вот уже много дней, была чистой и прозрачной, — как ты думаешь: может быть, это… это… — Ему оказалось очень трудно договорить последнее слово, но она стояла рядом, притихнув, и ждала, так что он все-таки выговорил: — Это и есть Конец?
И сразу стало очень тихо. И в этой единственной освещенной комнате города, и во всех остальных темных комнатах темных домов, и на всех улицах, и на сожженных полях, и на заброшенных землях — замерло все. Замер, казалось, сам воздух. Все замерло и в Храме на холме, и даже на небесах. Повсюду разлилось молчание, нерушимое, всеобъемлющее, не дающее ответа. И только издали доносились живые звуки моря и еще — гораздо ближе — слышалось тихое дыхание спящего ребенка.
— Нет, — сказала женщина. И снова села напротив него, положив руки на стол, тонкие, загорелые до черноты руки с нежными, цвета слоновой кости ладонями. — Нет, — повторила она. — Конец и будет всему концом. А это — все еще ожидание Конца.
— Тогда почему же здесь остались… только мы одни?
— Ах вот что! — удивилась она. — Но ты же все время был занят своими кирпичами, а я — малышом…
— Завтра мы должны уходить, — сказал он, еще немного помолчав. Она только согласно кивнула.
Они поднялись еще до рассвета. Есть в доме было нечего, так что она сложила в сумку кое-какие детские вещички, а он сунул за ремень нож и мастерок, оба надели теплые плащи — он взял плащ, принадлежавший раньше ее мужу, — и, покинув домик, пошли под холодными еще лучами едва проснувшегося солнца по заброшенным улицам вниз, к морю. Он впереди, она следом, на руках она несла спящего ребенка, прикрыв его полой плаща.
Лиф, не сворачивая ни на северную дорогу, ни на южную, прошел прямо, мимо рыночной площади, к утесу и по каменистой тропе стал спускаться на берег. Она не отставала. Оба молчали. У самой кромки воды он обернулся к ней.
— Я буду поддерживать тебя над водой, пока хватит моих сил, — сказал он.
Она кивнула и тихонько ответила:
— Да, мы пойдем по той дороге, которую ты построил, как можно дальше.
Он взял ее за руку и повел прямо в воду. Вода была холодна. Обжигающе холодна. Холодный свет зари играл на пенистых гребнях волн, с шипением лизавших песок. Когда они ступили на дамбу, то почувствовали, какая она на удивление прочная и ровная, так что мальчик, проснувшийся было, снова уснул у женщины на плече, прикрытый полой плаща.
Они шли дальше, а волны все яростнее били в стену из кирпича: начинался прилив. Потом высокие валы стали окатывать их с головы до ног; одежда, волосы — все теперь промокло насквозь. Но вот они достигли конца дамбы, которую он столь упорно строил. Совсем недалеко, почти у них за спиной, виден был песчаный берег; песок в тени утеса казался черным; над утесом высились молчаливые бледные небеса. Вокруг кипели дикие волны, несли на гребнях клочья пены. А впереди — лишь безбрежное, беспокойное море, немыслимая бездна, темная пропасть.
Огромная приливная волна, стремясь к берегу, ударила их с такой силой, что они едва устояли на ногах; ребенок проснулся, разбуженный грубым шлепком моря, и заплакал. Странным был этот слабый жалобный плач в безбрежности холодного, злобно шипящего моря, которое всегда говорит людям одно и то же.
— Нет, я не могу! — заплакала мать, но только крепче сжала руку мужчины и еще теснее прижалась к нему.
Подняв голову, чтобы сделать последний шаг туда, где не было ни границ, ни пределов, он увидел вдруг на западе, на вздымающихся волнах, какой-то темный силуэт, потом — подпрыгивающий в воздухе огонек, мелькание белого паруса, напоминающего грудку ласточки в ярких лучах солнца. Ему показалось, что над морской далью раздаются голоса.
— Что это? — спросил он, но женщина не ответила: склонив голову к ребенку, она пыталась унять его слабый плач, словно бросавший вызов неумолчному шуму моря. Лиф застыл, вглядываясь в безбрежную даль, и снова увидел белизну паруса и танцующий над волнами огонек. Огонек этот, покачиваясь, приближался к ним, навстречу великому свету зари, что разгоралась у них за спиной.
— Подождите! — донеслось до них с той загадочной штуковины, что плыла по серым, с пенными гребнями волнам. — Подождите немного! — Голоса людей сладкой музыкой звучали над морем, и парус уже белым крылом почти склонялся над головой Лифа, и он уже видел лица, видел тянущиеся к нему руки, слышал, как незнакомцы зовут его: — Идите к нам, на судно, не бойтесь! И мы вместе поплывем на Острова…
— Держись, милая, — нежно сказал он женщине, и они сделали последний шаг.

ОРСИНИЯ
(цикл)

Орсиния — это вымышленная страна в центре Европы. Страна средневековых лесов, недоступных городов, горных шоссе. В этой стране порой происходят самые невероятные и необычайные события. Кто же, как не мастер построения сказочных миров, знаменитая американская писательница Урсула Ле Гуин, сможет лучше всех поведать о жизни этой загадочной страны?
МАЛАФРЕНА
Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его;
Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж.
Напрасно вы рано встаете, поздно идите хлеб печали,
тогда как возлюбленному Своему Он дает сон.
Псалом 126
Вряд ли вы найдете на карте это королевство. Однако созданный фантазией Урсулы Ле Гуин мир невероятно реален. Мужчины с горячими сердцами и открытыми душами, сражающиеся за свободу, женщины, умеющие любить и помнящие о своем долге, вечные горы и манящие в неизвестность дороги — все это Малафрена, место, откуда уходят, чтобы найти себя, но куда всегда возвращаются.
Часть I. В провинциях
Глава 1
Пасмурной майской ночью город спал; тихо текла во тьме река. Над безлюдным университетским двором высилась церковь, исполненная, казалось, звона молчавших сейчас колоколов. Некий молодой человек, перемахнув через трехметровые чугунные ворота, спрыгнул на землю и оказался в прямоугольнике церковного двора, который осторожно и быстро пересек и подошел к церковным дверям. Затем достал из кармана пальто скатанный в трубку лист бумаги, развернул его, пошарил в карманах, вытащил гвоздик, наклонился, снял башмак и, приложив лист бумаги и гвоздь как можно выше к дубовой, обитой железом створке двери, поднял башмак, чуть помедлил и, размахнувшись, ударил. Трескучее эхо прокатилось по темному, одетому камнем двору, и юноша застыл, словно удивляясь звучности этого эха. Где-то неподалеку послышались крики и лязг железа по камням мостовой. Юноша поспешно ударил по гвоздю еще раза три и, решив, что забил его достаточно крепко, бросился к воротам, так и держа один башмак в руке. В несколько прыжков он достиг ворот, перебросил через них башмак, перелез сам и хотел было уже спрыгнуть на землю, но зацепился полой за острую «пику». Послышался громкий треск рвущейся материи, и юноша исчез в темноте буквально за мгновение до того, как у ограды появились двое полицейских. Они, разговаривая по-немецки, долго и внимательно вглядывались в темноту церковного двора, затем обсудили высоту ворот, проверили, крепко ли заперт замок, даже потрясли его и двинулись прочь, стуча сапогами по мостовой. Лишь тогда юноша решился выглянуть из своего укрытия и стал шарить по земле в поисках башмака, трясясь от беззвучного смеха, но башмак найти так и не успел: стража возвращалась, и он бросился прочь, а над темными улицами Солария зазвенели колокола кафедрального собора, отбивая полночь.
На следующий день, когда те же колокола били полдень, в университете как раз закончилась лекция, посвященная отступничеству Юлиана,
[5] и уже знакомый нам юноша выходил вместе с приятелями из аудитории, когда его вдруг окликнули:
— Господин Сорде! Итале Сорде!
Шумливые студенты тут же, как один, потеряли дар речи и дружно заторопились, так что через минуту возле человека в форме офицера университетской охраны остался лишь тот, чье имя только что прозвучало.
— Господин Сорде, вас желает видеть господин ректор. Сюда, пожалуйста, господин Сорде.
Пол в кабинете был застлан сильно потертым, но все еще красивым красным персидским ковром. Левую ноздрю ректора, как всегда, украшало красноватое пятно — то ли бородавка, то ли родинка. У окна стоял какой-то незнакомец.
— Господин Сорде, объясните нам, пожалуйста, что это?
Незнакомец протянул Итале большой, примерно метр на метр, лист бумаги: это было разорванное пополам объявление о ярмарке рабочего скота, которая должна была состояться в Соларии 5 июня 1825 года. На чистой оборотной стороне листа крупными печатными буквами было написано:
Суйте голову в петлю!
Мюллер, Халлер и Генц
Веревку вам свили
И тупым послушаньем
Мозги заменили!
Людям ведь невдомек,
Какой страшный урок
Господа эти дать нам решили!
— Это я написал, — признался юноша.
— И это вы… — ректор глянул в сторону незнакомца у окна и почти умоляющим тоном закончил: — …прибили плакат на двери церкви?
— Да. Я. Я там был один. Это вообще полностью моя идея.
— Господи, мальчик мой… — Ректор помолчал, нахмурился и заговорил более решительным тоном: — Но, мальчик мой, если уж святость этого места…
— Я следовал одному историческому примеру. Я ведь студент исторического факультета. — Бледное лицо Сорде вспыхнуло ярким румянцем.
— И до сей поры, надо сказать, были студентом весьма примерным! — вздохнул ректор. — Вот ведь что обиднее всего… Даже если это всего лишь глупая выходка.
— Извините, господин ректор, это не глупая выходка!
При этих словах Итале ректор сморщился, как от боли, и закрыл глаза.
— Вы же видите, намерения у меня были самые серьезные. Да иначе к чему вам было приглашать меня сюда?
— Молодой человек, — промолвил незнакомец, по-прежнему стоявший у окна и как бы не имевший ни бородавки на носу, ни звания, ни имени, — вот вы говорите о серьезных намерениях, а вы подумали о том, что у вас теперь могут быть серьезные неприятности?
Юноша мертвенно побледнел и некоторое время лишь молча смотрел на незнакомца, потом коротко и неуклюже ему поклонился, повернулся к ректору и сказал странным звенящим голосом:
— Просить прощения, господин ректор, я не намерен! Я готов покинуть университет. И вряд ли вы имеете право требовать от меня большего!
— Но я вовсе не прошу вас покидать университет, господин Сорде! Будьте любезны взять себя в руки и выслушать меня. Вам осталось доучиться последний семестр, и мы все же хотели бы, чтобы вы закончили университет без помех. — Ректор улыбнулся, и красновато-фиолетовая бородавка у него на носу смешно задвигалась. — А потому я прошу вас: обещайте, что впредь не будете посещать всякие студенческие сборища и в течение всего оставшегося семестра будете с заката и до восхода солнца находиться у себя дома. Вот, собственно, и все мои требования, господин Сорде. Ну что, даете слово?
Немного подумав, молодой человек ответил:
— Даю.
Когда он ушел, инспектор полиции аккуратно свернул листок со стихами и, улыбаясь, положил ректору на стол.
— Храбрый юноша, — заметил он.
— Мальчишка! Обыкновенный дерзкий мальчишка, уверяю вас.
— У Лютера в Виттенберге было девяносто пять тезисов,
[6] — сказал инспектор, — а у этого, похоже, только один.
Говорили они по-немецки. Ректор, оценив шутку, громко засмеялся.
— Он надеется служить? Стать адвокатом? Сделать карьеру? — продолжал инспектор.
— Нет, вернется в свое родовое поместье. Он ведь единственный наследник. У меня учился еще его отец — я тогда только начинал преподавать в университете. Они из Валь Малафрены — знаете? — это в горах, в самой глуши, оттуда сотни километров до любого крупного города.
Инспектор лишь молча улыбнулся.
Проводив его, ректор снова со вздохом уселся за письменный стол, грустно глядя на портрет, висевший на противоположной стене; взгляд его, сперва довольно туманный, постепенно прояснился. На портрете была изображена красиво одетая дородная дама с очень пухлой нижней губой: великая герцогиня Мария, двоюродная сестра императора Франца Австрийского.
[7] На свитке, который герцогиня держала в руках, сине-красный государственный флаг Орсинии был как бы поделен на четвертушки черным двуглавым имперским орлом. Пятнадцать лет назад на этой стене висел портрет Наполеона Бонапарта. А тридцать лет назад — портрет короля Орсинии, Стефана IV, в момент коронации. Тридцать лет назад, когда нынешний ректор университета успел стать только деканом исторического факультета, он частенько вызывал юных студентов на ковер и песочил их за глупые проделки, а они, мгновенно превращаясь в кротких овечек, лишь смущенно улыбались, но кровь у них при этом не отливала от лица, как только что у Сорде, да и у самого ректора не возникало тогда ни малейших сомнений в своей правоте. А сегодня ему мучительно хотелось извиниться перед этим юным шалопаем, сказать ему: «Прости, мальчик… Ты же понимаешь!..» Ректор снова вздохнул и уставился на лежавшие перед ним бумаги, на которых должен был поставить свою подпись: это были результаты правительственной ревизии данных о студентах. Все
на немецком. Ректор нацепил очки и нехотя стал читать первый листок; лицо его в солнечном сиянии майского дня казалось бесконечно усталым.
А юный Сорде тем временем ушел в парк на берегу реки Мользен и сел на скамью, прятавшуюся за невысокими ивами. Река, залитая солнцем, вилась перед ним дымчато-голубой лентой. Все кругом дышало безмятежностью — мирно журчала вода; ивовая листва, пронизанная солнечными лучами, отбрасывала на песок ажурные тени; голубь, разомлев от тепла, лениво разгребал лапками мелкие камешки в поисках пищи. Сперва поза Итале была довольно напряженной: руки стиснуты, брови насуплены — он явно переживал случившееся; затем он понемногу расслабился, вытянул длинные ноги и раскинул руки по спинке скамьи. Выражение его лица, украшенного густыми бровями, синими глазами и довольно внушительных размеров носом, становилось все более мечтательным. Его взгляд, устремленный на бегущие воды реки, стал уже почти сонным, когда рядом вдруг прогремел, точно выстрел, чей-то крик:
— Да вот же он!
Итале нехотя оглянулся. Так и есть: друзья все-таки его разыскали.
Светловолосый коренастый Френин, хмурясь, говорил:
— Но ты же так ничего и не доказал! И я считаю…
— Что слова — это не поступки? Это, допустим, верно. Во всяком случае, те стихи, которые я прибил…
— Но ведь ты их прибил к церковным дверям! Вот это уже поступок!
— Да сам по себе такой поступок ничего не стоит! А вот как только слова оказались там, то именно они и стали тем действием, тем поступком, который должен был принести определенные результаты…
— Ну, и какие результаты принес твой поступок? — спросил Брелавай, высокий худой темноволосый юноша с ироничным взглядом.
— В собраниях не участвовать. С вечера до утра сидеть под домашним арестом.
— Господи! Теперь-то уж Австрия позаботится о твоем целомудрии! — рассмеялся Брелавай. — А ты видел, какая толпа собралась утром у церкви? Весь университет успел твоими стишками полюбоваться, прежде чем австрияки пронюхали! Боже, как они злились! Я был уверен, что они нас всех скопом в кутузку засадят!
— А откуда они узнали, что это я?
— Все вопросы к старосте, господин Сорде, — сказал Френин. — Das wurde ich auch gerne wissen!
[8]
— Между прочим, ректор ни словом не обмолвился об «Амиктийе» в присутствии этого типа. Как ты думаешь, они нашу «Амиктийю» не прикроют?
— Спроси что-нибудь полегче.
— Послушай, Френин! — рассердился Брелавай — они с Френином целый час в тревоге повсюду искали Итале, устали и проголодались. — Ты же сам вечно твердишь, что мы только говорим, но ничего не делаем! А теперь, когда Итале наконец что-то сделал, ты сразу принялся ныть! Лично мне все равно, прикроют они «Амиктийю» или нет; туда сейчас одни дураки ходят, не удивлюсь, если среди них и шпионы есть. — Он плюхнулся рядом с Итале на скамью.
— Извини, Томас, но я бы все-таки хотел закончить свою мысль, — сказал Френин и тоже сел. — В «Амиктийе» тех, кто действительно серьезно относится к делу, человек пять, верно? Так что теперь, когда Итале оказался под надзором полиции, а все мы — под подозрением, пора решать, для чего, собственно, мы это общество создавали: только для того, чтобы пить вино и орать песни, или все же с какой-то более осмысленной целью? Вот для чего, например, ты, Итале, прибил к дверям церкви свои стихи? Чтобы покорно выслушать выговор ректора, закончить семестр и уехать в свое поместье? Или за этим последует нечто большее? И наши слова наконец ДЕЙСТВИТЕЛЬНО станут поступками?
— Что ты задумал, Дживан?
— Надо ехать в Красной!
— И что мы там, интересно, будем делать? — с сомнением протянул Брелавай.
— А что мы будем делать здесь, в Соларии? Здесь то же самое, что в провинциях, — одни чертовы бюргеры да столь любезные твоему сердцу тупые крестьяне. Нам не под силу бороться с этим средневековьем! Столица — вот единственное подходящее для нас место, если мы действительно имеем серьезные намерения. Господи, да разве Красной — это так уж далеко?
— Действительно, эта река пробегала мимо него всего два дня назад, — сказал Итале, глядя на голубую Мользен, поблескивавшую за деревьями. — Слушай, Дживан, а ведь это неплохая идея! Надо подумать. И еще надо чего-нибудь поесть. Пошли. Эх, Красной, Красной! — воскликнул он, и все засмеялись.
Расстались они уже ближе к вечеру. Итале возвращался домой в прекрасном настроении, предвкушая нечто новое, неведомое. Неужели ему действительно предстоит иная жизнь? Неужели он уедет в столицу и будет вместе с друзьями трудиться там во имя свободы? Непостижимо! Пре — красно! Фантастика! Но как же все это устроить? Наверное, в столице найдутся люди, которые захотят им помочь, как-то приставят к делу? По слухам, там имеются тайные общества, состоящие в переписке с тайными обществами Пьемонта, Ломбардии, Неаполя, Богемии, Польши, Германии; ведь по всей территории Австрийской империи и ее сателлитов, по всей Европе раскинулась подпольная сеть борцов за свободу, и сеть эта похожа на нервную систему человека, спящего беспокойным, лихорадочным сном, полным кошмаров. Ведь даже в сонном Соларии люди называют Матиаса Совенскара, с 1815 года живущего в ссылке в своем родовом поместье, «наш король»! А он и есть король — законный, избранный по воле своего народа, наследный правитель свободной страны! А этого императора и его империю — к черту! Итале стремительно, точно летний вихрь, несся по тенистой улице; лицо его пылало, пальто было распахнуто.
В Соларии он жил у дяди, Анжеле Дрю, и сразу же, едва влетев в дом, еще до ужина, объявил, что отныне находится под домашним арестом с заката и до утренней зари. Дядя только посмеялся. У них в семье было много детей, и они, выделив племяннику комнату, заботились в основном о том, как бы получше его накормить, а в остальном полностью ему доверяли. Их собственные старшие сыновья спокойным нравом отнюдь не отличались, так что порой дядя с тетей даже немного удивлялись тому, что Итале действительно оправдывает оказанное ему доверие, хорошо учится, да и ведет себя вполне прилично.
— Ну, что ты на этот раз натворил? — добродушно спросил дядя.
— Прибил к церковной двери одно дурацкое стихотворение.
— И только? Слушай, а я не рассказывал тебе, как мы однажды ночью протащили в университетское общежитие целую толпу молодых цыганок? Тогда еще на ночь дверей не запирали… — И Анжеле в который раз принялся излагать давно известную историю. — А что за стишки-то? — наконец спросил он.
— Да так… политические.
Анжеле все еще улыбался, однако морщинка на лбу свидетельствовала о том, что он недоволен и разочарован.
— Что значит «политические»?
Итале пришлось не только прочесть стихотворение, но и растолковать его.
— Ясно… — растерянно протянул Анжеле. — Ну вот… ну, я просто не знаю! Теперь ведь и молодежь совсем другая! А все эти пруссаки и швейцарцы! Эти Халлеры и Мюллеры! Пресвятая Дева Мария! Да что нам до них? Ну, знаю я, кто такой фон Генц — важная шишка, глава имперской полиции, — но какое мне до него дело!
— Как это какое дело?! Да ведь такие, как он, тут повсюду хозяйничают! Стоит рот раскрыть — сразу в тюрьму угодишь! — Итале всегда старался избегать политических споров с Анжеле, но сегодня — это, впрочем, бывало и прежде — ему казалось, что он непременно сумеет убедить дядю в своей правоте. Однако тот все больше упрямился и все сильнее тревожился, теперь уже не желая признать даже, что терпеть не может иностранную полицию, которая терроризировала не только студентов университета, но и весь город; и говорить о том, что он тоже считает Матиаса Совенскара королем Орсинии, дядя не пожелал.
— Просто в 13-м году мы приняли не ту сторону, — сказал он. — Надо было присоединиться к Священному союзу
[9] и предоставить Бонапарту возможность повеситься на той веревке, которую он сам же и свил. Ты-то не знаешь, каково это, когда вся Европа охвачена войной! Вокруг только и говорят о войне, о том, что Пруссия проиграла, что русские победили, что армия «где-то там», а продовольствия не хватает, и даже в собственной постели никто не чувствует себя в безопасности. Война обещает огромные доходы, но не гарантирует ни мира, ни стабильности. Мир — это великое благо, парень! Будь ты хоть на несколько лет постарше, ты бы понимал!
— Но если за мир нужно платить собственной свободой…
— О да, разумеется, свобода, права… Не позволяй себя обманывать пустыми словами, мой мальчик! Слово — лишь набор звуков, которые ветер подхватил да унес, а мир послан нам Господом, и это непреложная истина. — Анжеле был совершенно уверен, что убедил Итале: ведь он так доходчиво все объяснил! И юноша в конце концов решил больше не спорить. Правда, за столом Анжеле, как бы в продолжение разговора, произнес гневную тираду в адрес правительства великой герцогини — по поводу новых законов о налогах, — хотя всего час назад он это правительство защищал. Закончил он свою речь на довольно жалобной ноте и виновато улыбнулся; в эти минуты он был очень похож на свою сестру, мать Итале. Юноша смотрел на дядю с любовью, прощая ему все: разве можно винить такого пожилого человека в бестолковости? Ведь дяде уже почти пятьдесят!
Миновала полночь, а Итале все сидел за письменным столом в своей комнатке под самой крышей, вытянув ноги, подперев голову руками и глядя поверх груды книг и бумаг в открытое окно, за которым во тьме шелестели и потрескивали ветви, раскачивавшиеся на сильном ветру. Дом дяди Анжеле стоял почти на самой окраине, и вокруг не было видно ни огонька. Итале вспомнил свою комнату в родном доме на берегу озера Малафрена и подумал о том, что, возможно, поедет в Красной; потом вдруг почему-то вспомнил о гибели Стилихона
[10] и о том, что дымчато-голубая лента реки по-прежнему поблескивает там, за ивами, и мысли его обратились к вечной теме: смысл жизни и ее быстротечность, — а в общем, все это была одна длинная и невыразимая словами цепь странным образом связанных между собой размышлений. По улице простучали тяжелыми сапогами — разумеется, австрийского производства! — двое полицейских зачем-то остановились у их дома, постояли и пошли дальше.
«Ну что ж, раз это необходимо…» — подумал Итале, испытывая даже какую-то радостную признательность, словно некие невысказанные слова подвели итог всем его размышлениям. Он снова прислушался к тихому шелесту листвы. Ночная вылазка в церковный двор и разговор с ректором теперь казались ему чем-то далеким и по-детски бессмысленным. А вот слова Френина о том, что им необходимо ехать в Красной, напротив, представлялись некоей обязательной и неизбежной целью. Собственно, все они давно ожидали этих слов, их просто необходимо было произнести вслух. Нет, Итале не намерен возвращаться в родное поместье и всю оставшуюся жизнь торчать в этой горной глуши! Теперь это уже попросту невозможно! А потому совершенно свободно — хотя и не без сожалений — можно оглянуться на прежнюю жизнь, на то, что до сегодняшнего дня он считал своей судьбой. В той, прежней жизни ему было знакомо все: каждая пядь земли, каждый человек, каждая мелочь в череде повседневных трудов и забот Валь Малафрены — он знал это так же хорошо, как собственные тело и душу. А вот о жизни в столице он не знал ничего.
«Ну что ж, раз это необходимо!» — повторял он со все большей убежденностью, с радостью и тайным страхом. Ночной ветер, свежий, исполненный ароматов влажной земли, касался его лица, вздувал белые занавески; а Соларий продолжал мирно спать под весенними звездами.
Глава 2
Воспоминания Итале о детстве были как бы безвременны — вспоминались лишь определенные места и предметы, но не события, не периоды. Вспоминались комнаты в их доме, широкие доски пола, ступени лестницы, тарелки с синей каймой; «щетка» шерсти над копытом и мохнатые ноги огромного коня, которого привели к кузнецу; руки матери; пятна солнечного света на посыпанной гравием дорожке, круги от дождевых капель на поверхности озера, очертания гор на фоне темного зимнего неба… Среди всех этих воспоминаний лишь одно было отчетливо связано со временем: он стоит в комнате, где горят четыре свечи, и видит на подушке голову — глазницы, как черные колодцы, и блестящий, будто высеченный из металла нос; а на стеганом одеяле — рука, неподвижная, словно это и не рука вовсе, а нечто неодушевленное, мертвое. И чей-то голос непрерывно что-то бормочет. Он понимает, что это комната деда, но самого деда там почему-то нет, зато есть дядя Эмануэль, отбрасывающий на стену огромную тень, и тень эта движется у него за спиной, точно живая. И за спинами всех людей — слуг, священника, матери — тоже шевелятся такие же страшные тени. Тихий голос священника похож на плеск воды, и эта вода слов, точно вода озера, лижет стены дедовой комнаты, поднимается все выше и выше, шумит в ушах, смыкается над головой… Итале чувствует, что задыхается, что ему не хватает воздуха, и вдруг, прерывая этот удушающий ужас, разгоняя полумрак, спины его касается теплая широкая ладонь и слышится тихий голос отца: «И ты здесь, Итале?» Отец выводит его из комнаты, велит бежать в сад и поиграть там немного. Итале рад; оказывается, за пределами той темной комнаты, где горят свечи, еще совсем светло; озеро освещено закатными лучами, а на фоне бронзового неба отчетливо видны очертания горбатой горы Охотник, точно присевшей над заливом Эвальде, и острой вершины Сан-Лоренца. Лауру, младшую сестренку Итале, уже уложили спать, и он, не зная, чем заняться, бродит по двору, стучась в двери мастерских, но все двери заперты. Потом он подбирает у дорожки какой-то красный камешек и шепчет, точно сам себя убеждая: «Меня зовут Итале. Мне семь лет». Однако почему-то твердой уверенности в этом у него не возникает — он чувствует себя одиноким, потерянным, в саду уже сгущаются сумерки, поднимается ветер… Наконец появляется тетя Пернета за что-то ласково ему выговаривает, подталкивает обнимает и тащит домой: спать.
Его дед, Итале Сорде, в семидесятые годы прошлого столетия подолгу жил во Франции, много путешествовал по Германии и Италии. Когда он, сорокалетним, вернулся наконец в Валь Малафрену к жене, кузине графа Гвиде Вальторскара, соседи, в общем, простили ему чрезмерную любовь к чужим странам, но некоторые из них так и сохранили к нему недоверие. Вернувшись, Итале Сорде привел в порядок поместье, перестроил дом и, кажется, угомонился. Обоих сыновей он послал учиться в университет Солария и оба после его окончания снова вернулись в Монтайну — старший стал управлять поместьем, а младший открыл юридическую контору в Партачейке. После 1790 года Итале Сорде из родной провинции не выезжал более ни разу. Со временем его переписка с друзьями за границей существенно уменьшилась, а затем и вовсе прекратилась да и друзья либо умерли, либо позабыли о нем, понимая что он и сам предпочел бы, чтобы о нем не вспоминали. Умер он в 1810 году; его помнили как отличного хозяина, талантливого садовника, благородного и доброго человека.
Все Сорде были нетитулованными землевладельцами-«думи», которым королевской хартией в 1740 году были пожалованы права, равные с дворянами. В восточных провинциях, правда, «думи» по-прежнему держались особняком так и не вписавшись в старинную иерархическую систему. Но в центральных областях и на западе они, как и бюргеры в столице и других крупных городах, были значительно теснее связаны с аристократией благодаря смешанным бракам и достаточно пренебрежительному отношению к условностям и допотопным обычаям; в этих местах «думи» были и более многочисленны, и более влиятельны, хотя чаще всего даже не догадывались о своем реальном могуществе. Над людьми по-прежнему властвовала магия знатных, старинных имен, которых среди «думи» не было; зато у них была собственность.
Итале Сорде владел небольшим, но прекрасно ухоженным поместьем. Его дом, практически выстроенный заново, тремя сторонами своими смотрел на озеро, возвышаясь на выступе одного из отрогов горы Сан-Дживан, густо поросшей дубами и соснами. Если подходить к дому с востока, казалось, что он одиноко парит над бескрайними лесами и мрачноватым простором озера на фоне далеких гор. Но с дороги, ведущей от Партачейки, от перевала, хорошо видны были и окружавшие дом поля, и сады, и раскинувшиеся на холмах виноградники, и дома крестьян и арендаторов, и крыши соседних усадеб. В своем поместье Итале выращивали виноград, груши, яблоки, рожь, овес, ячмень; климат в горах непростой, но здесь перепады температуры были не слишком велики. Когда случались особенно суровые зимы и толстый слой снега укутывал лесистые склоны гор, озеро Малафрена, как, впрочем, и другие озера, цепь которых тянулась до самой юго-западной границы Орсинии, не замерзало. Оно не замерзало уже, наверное, лет сто. Лето в этих местах было долгое, жаркое, с частыми могучими грозами. Важными событиями здесь считались засуха, проливные дожди или необычайный урожай винограда; во всяком случае, ясная погода во время жатвы была куда важнее исторических перемен; и право же, крайне малое отношение ко вкусу вина или сочности травы на горных пастбищах имело то, кто правит в данный момент страной: король Стефан, Наполеон, великий герцог Матиас, император Австрии Франц или великая герцогиня Мария. Здешние землевладельцы и арендаторы отгородились своими горами, точно стеной, ото всего остального мира и лишь ворчали на чересчур настырных сборщиков налогов, как то делали еще их прадеды.
Гвиде Сорде, унаследовавший имение после смерти отца, был типичным представителем немногословных земледельцев горного края: высокий, худощавый, темноволосый, с острым взглядом серых глаз. Его предки, местные крестьяне, сумели разбогатеть и стать «думи» еще в начале XVII века. Жена Гвиде, правда, родилась на равнине, в Соларии, значительно южнее Валь Малафрены, но он считал Элеонору единственным ценным «приобретением» за пределами родных гор и привез ее в свое поместье навсегда.
В 1803 году у Элеоноры и Гвиде родился сын-первенец; еще через три года — дочка. Элеонора сама занималась воспитанием детей, но, когда Итале исполнилось одиннадцать, а Лауре — восемь, Гвиде, бережно относившийся к семейным традициям, решил, что образование детям необходимо более основательное: к Лауре три раза в неделю стал приходить учитель, а Итале отправили в школу при монастыре бенедиктинцев на горе Синвийе. По выходным он обычно приходил домой — от монастыря до поместья было всего километров десять, — а по четвергам, поскольку день тоже был наполовину свободным, спускался по горной тропе в Партачейку, островерхие крыши и крутые улочки которой виднелись из окон монастырской школы. Там он обедал с дядей Эмануэлем и тетей Пернетой в их высоком деревянном доме, со всех сторон окруженном садом. В саду было полно бархатцев, анютиных глазок, флоксов, а из окон дома открывался дивный вид на перевал и глубокое ущелье между горами Синвийя и Сан-Дживан. Если смотреть с севера, то Партачейка, зажатая с обеих сторон горами, казалась каким-то ненастоящим, волшебным городом или миражем, возникшим вдруг в туманном ущелье, из которого абсолютно невозможно попасть на те далекие, залитые солнцем лазурные холмы, что лежат по ту сторону ущелья, и можно ими лишь любоваться, точно заколдованным царством, находящимся по ту сторону Возможного. А когда над городом низко нависали грозовые тучи, далекие заоблачные вершины гор особенно ярко выделялись на фоне небес, золотистые в свете солнца, и казались страной обетованной, где не бывает ни мрака, ни бурь, ни гроз. Болтаясь без цели возле гостиницы «Золотой лев», Итале не раз видел, как отправляется в дальние города или прибывает оттуда почтовый дилижанс — высокий, скрипучий, запыленный, — и ему казалось тогда, что этот город, ворота его родной провинции, таит в себе таинственный отблеск путешествий в неведомые края, и жажда странствий манила его юную душу, как манит она и тех мальчишек, что живут в морских портах.
По субботам Итале, пройдя Партачейку насквозь, поднимался по пологим, заросшим дубняком холмам предгорий, мимо раскинувшихся на склонах виноградников и садов и в итоге выходил прямо к своему дому на берегу озера. По дороге он часто останавливался, чтобы поболтать со старыми приятелями или со старым Броном, лучшим виноделом в Валь Малафрене. Брон был длинноногим, тощим, мрачноватым стариком со вздернутыми плечами, которого Итале всегда с удовольствием расспрашивал обо всех событиях минувшей недели и который в ответ на рассказы мальчика о школьной жизни всегда замечал: «Оно, конечно, так! Дом Итаал, да только от работы уж точно никуда не денешься, а вот награда редко кого находит!»
Когда Итале исполнилось семнадцать, монахи Синвийи благословили его, вручили первый приз за знание латыни и отослали домой, где он стал учиться всему тому, что подобает знать и уметь будущему хозяину поместья: подрезать виноградные лозы, осушать поля, вести счета, охотиться, ездить верхом и править парусной лодкой «Фальконе». Эти занятия, казалось, поглощали все его время, но голове пищи все равно не хватало. Итале стал беспокойным. Он сознавал свою ответственность перед семьей, чувствовал, что на него возлагаются большие надежды. Подобное отношение к своим обязанностям он усвоил от отца, который никогда не говорил о долге, но всегда беспрекословно ему подчинялся. Итале, однако, хотелось найти такую цель в жизни, служению которой стоило бы отдать себя целиком. Он принялся изучать жизнеописания великих людей. Первым героем, восхитившим его, был Эней; сперва легенды о нем рассказывал ему дед, потом он сам прочитал их в толстой потрепанной книге из серии «Школьная библиотека», принадлежавшей прежде его отцу. Хотя книги доставать было нелегко, вскоре Итале познакомился и с другими героями былых времен — Периклом, Сократом, Гектором, Ганнибалом. И, разумеется, с Наполеоном. Детство Итале совпало с воцарением Наполеона в качестве императора Франции, а отрочество — с его ссылкой на остров Эльба. Бессильный, побежденный, униженный, Наполеон даже в последние годы, проведенные на острове Святой Елены, все же высился над миром, над бескрайними просторами европейских стран, надо всеми бесчисленными, жалкими и до смерти перепуганными правителями, точно Прометей, закованный в цепи… В библиотеке деда семнадцатилетний Итале обнаружил изрядное количество французских книг и с помощью сестры, у которой был учитель-француз, начал самостоятельно изучать французский язык и вскоре настолько в этом преуспел, что мог уже читать Вольтера. Лауре, которая попыталась было читать Вольтера с ним вместе, это быстро наскучило, и она вернулась к «Новой Элоизе» Руссо, любимой книге ее матери. Итале был этому даже рад: он еще и сам не знал, чем ему грозит очередное увлечение, а в монастырской школе Вольтера упоминали лишь наряду с нечистым. В дедовской библиотеке он обнаружил также несколько разрозненных номеров французской правительственной газеты «Монитор». Одну, за 1809 год, он прочитал от корки до корки и нашел, что она удивительно похожа на все остальные газеты, какие ему когда-либо попадались на глаза. Однако через некоторое время он случайно наткнулся на газеты, выходившие в начале 90-х годов XVIII века, и не сразу вспомнил, что за события, имевшие место в Париже, в ней описываются (монахи не были сильны в политической истории вчерашнего дня). Итале прочел речи Дантона, Мирабо, Верньо; имен этих он не знал. Правда, имя г-на Робеспьера он как-то раз слышал — оно упоминалось в одном ряду с Вольтером и дьяволом. Он стал последовательно собирать сведения об этом периоде. Ему казалось, что он сам участвует в Революции, когда читает речи, в которых звучит призыв затопить волнами гнева народного обитель зла и насилия; одна из речей заканчивалась словами, которые особенно волновали его: «Vivre libre ou mourir!», «Жить свободными или умереть!» Пожелтевшие газетные листы ломались на сгибах; голова Итале склонялась над сухими столбцами слов, некогда брошенных в лицо собранию Генеральных штатов
[11] теми, кто вот уже тридцать лет как лежали в земле. И руки юноши леденели, точно на холодном ветру, губы пересыхали. Зачастую он не понимал и половины прочитанного, почти ничего не зная о конкретных событиях тех дней, но это было неважно, ибо он понимал самое главное: Революция действительно была!
Напыщенные речи революционных вожаков были исполнены лицемерия и тщеславия; это чувствовалось вполне отчетливо. И все же в них ставился вопрос о Свободе, которая воспринималась как не менее важная человеческая потребность, чем потребность в хлебе и воде! Не в силах унять возбуждение, Итале бегал по небольшой тихой библиотеке, потирая виски и тупо озирая книжные полки. Свобода отнюдь не является такой уж необходимостью, она даже опасна — об этом вот уже десять лет твердили европейские законодатели. Взрослыми людьми, точно детьми, следует руководить ради их же блага, и руководство должно быть поручено тем немногим избранным, которые познали науку управления государством. Что же в таком случае имел в виду этот француз Верньо,
[12] утверждая свой выбор — жить свободными или умереть? Ведь детям такой выбор предлагать нельзя. Значит, его слова предназначены для взрослых людей! Звучат они смело и ново, хотя, может быть, оратору порой не хватает логики — в отличие от тех, кто поддерживает военные альянсы, цензуру, репрессии, казни. Да, это, конечно же, НЕРАЗУМНЫЕ слова!
В тот день Итале опоздал к ужину и выглядел больным. Ел он мало, а после ужина сбежал из дому и в темноте спустился на берег озера, где бродил несколько часов, сражаясь с тем ангелом-вестником, что сегодня днем бросил ему вызов. Для этого поединка он старался использовать все свои знания и умения; в девятнадцать лет он чрезвычайно ценил разум и способность мыслить здраво; и все же противник одержал над ним победу, почти не прилагая усилий. Разве мог Итале противиться тому, чего втайне давно желал и искал? Идеалу истинного человеческого величия, не воплощенного в конкретном лице, но завоеванного братством всех народов земли? Пока хоть одна живая душа несправедливо осуждена томиться в неволе, я тоже не свободен — так думал сей неофит, и при этих мыслях лицо его становилось решительным и суровым, а глаза вдохновенно и счастливо светились. Итак, двадцатый год Итале оказался самым счастливым в его жизни. Порой, если мать невольно вторгалась в его молчаливые раздумья, он отвечал ей невпопад, словно возвращаясь откуда-то издалека, и матери было невдомек, почему синие глаза сына смотрят на нее с таким радостным узнаванием, словно он только что вернулся из дальнего странствия.
Мать гораздо раньше, чем сам Итале, поняла, что ему хочется уехать из дому; он же уяснил это для себя лишь тем летом, когда после работы уплывал на лодке по сверкающей в закатных лучах глади озера к его восточному берегу, где брала начало река Кьясса, стремившаяся по заросшим лесом склонам гор к холмистым долинам предгорий и сливавшаяся там с Мользен. У своих истоков Кьясса напоминала скорее бурный ручей; Итале любил сидеть у воды и смотреть на нее, думая о том, что, должно быть, к концу лета эта вот вода добежит до моря, а он, Итале, так и останется здесь, на берегах спокойного озера Малафрена. Родные пытались убедить Гвиде Сорде, что желание Итале покинуть на время отчий дом вполне естественно для молодого человека, но Гвиде считал это неразумным баловством. Кому-то же нужно управлять имением, а Итале — единственный наследник и должен понимать, что дело и долг превыше всего. Тогда Элеонора, следуя совету своего деверя, попробовала «подъехать» к мужу с другой стороны и предложила послать Итале в университет Солария.
— Ведь, в конце концов, и вы с Эмануэлем учились там благодаря твоему отцу, — заметила она.
— Там Итале не получит ничего из тех знаний, которые ему действительно необходимы, — спокойно возразил Гвиде, однако в голосе его послышался отзвук гнева — так поднявшийся легкий ветерок порой предвещает надвигающуюся грозу. — Пустая трата времени!
Элеонора никогда не стала бы бороться с неколебимым и самоуверенным провинциализмом своего супруга ради себя самой, но ради Итале она пошла и на это.
— Но ему необходимо повидать других людей и хотя бы немного познать мир! Разве он сможет научить чему-то своих крестьян, если будет всего лишь одним из них?
Гвиде нахмурился. Жена использовала против него его же собственное оружие и сделала это весьма искусно; кроме того, он чувствовал уязвимость собственных позиций, ибо не находил достаточно веской причины для своего упорного нежелания отпустить сына, сердился, что члены семьи понять его не хотят, и, сам себя не понимая, обижался на всех, потому что знал: уступить все-таки придется. Это было ясно всем, даже Итале. Но спорить с Гвиде хватило терпения и такта только у Элеоноры.
Итак, в сентябре 1822 года монтайнский дилижанс повез Итале за перевал, в северную долину. Оглядываясь назад, он видел знакомые и вечно менявшиеся очертания гор, высившихся над бесконечными складками предгорий, — крутой восточный склон гордой Сан-Дживан, вершину Синвийи и за ними в голубоватой дымке Охотника, точно готовящегося к прыжку. Когда родные горы скрылись из глаз, Итале достал серебряные дедовы часы и заметил время: двадцать минут десятого. Дорога, ведущая в долину, была залита солнцем; на скошенных полях трещали кузнечики; крестьяне заканчивали уборку урожая; в деревнях было пусто и тихо. Это был тот самый «золотой край», который он видел за грозовыми тучами, нависавшими над Партачейкой. Названия здешних селений он знал только на слух — Вермаре, Чага, Бара. Бара находилась на самой границе провинции Монтайна, а чуть дальше, в Эрреме, Итале пересел в другой дилижанс, направлявшийся в Судану. Он не отрывался от окна, рассматривая местных жителей, их дома, их кур и свиней и стараясь понять, чем все это — свиньи, куры, дома, люди — отличается от тех, других, ему привычных.
Соларий показался ему каким-то сонным. Вокруг паслись тучные стада, дома тонули в густых садах, полных роз, даже широкая река Мользен будто дремала, медленно неся свои сверкающие воды на юг под старым мостом в центре города. Студенты университета, не слишком утруждая себя занятиями, и не думали устраивать средневековые поединки, а предпочитали мирно пить вино в приятной компании и влюбляться в красивых местных девушек, которые отвечали им взаимностью. На второй год своего обучения Итале, отвергнутый ветреной дочерью булочника, гневно решил отказаться от любви и повернулся лицом к политике. Он стал вожаком студенческого общества «Амиктийя», которое правительство страны терпело с большим трудом. Все подобные организации считались в государствах, подобных Германии, практически вне закона; например, университетское студенческое общество в Вильно настолько раздражало Государя Всея Руси, что в 1824 году он его запретил окончательно и отправил в ссылку его руководителей, а студенты с тех пор находились под постоянным надзором полиции. Однако именно это и придавало членству в «Амиктийе» определенную остроту ощущений. Студенты, выпив немалое количество вина, с удовольствием пели запрещенный гимн: «За ночью вслед придет рассвет, твой, о Свобода, день наступит вечный…», добывали и распространяли запрещенные книги, обсуждали революционные события во Франции, Неаполе, Пьемонте, Испании, Греции и возможности установления конституционной монархии, спорили о гражданском равенстве, о всеобщем образовании, о свободе печати — но все эти диспуты велись без какой бы то ни было ясной цели; студенты плохо представляли себе, чего, собственно, хотят добиться. Считалось, что подобные дискуссии запрещены, а раз так, то запрет, разумеется, следовало нарушить! Закончив третий курс, Итале решил, что ему, видимо, действительно пора уже навсегда вернуться домой, но тут случилось непредвиденное: среди ночи он оказался у дверей университетской церкви, да еще в одном башмаке, умирающий от смеха, а потом, на берегу реки, в солнечном свете, услышал слова Френина о том, что им необходимо ехать в Красной.
Глава 3
Эмануэль Сорде откашлялся — уж больно тема разговора была взрывоопасной — и заметил с должной осторожностью:
— На этой неделе в газетах одни загадки! Интересно, состоится ли все же заседание Генеральных штатов?
— Национальной Ассамблеи, вы хотите сказать? Но должно же оно наконец состояться! Ведь после смерти короля Стефана они не собирались ни разу.
— То есть целых тридцать лет?
— Как все-таки странно, не правда ли?
— А знаете, граф, я ведь и сейчас не уверен, что это заседание состоится; да и «Меркурий» ничего о ближайших планах Национального собрания не пишет. Естественно, возникают вполне определенные подозрения…
— Да уж! — Граф Орлант Вальторскар вздохнул. — Жена всегда раньше заставляла меня подписываться на айзнарский «Меркурий». Она считала, что в нем гораздо больше достоверных сведений о нашей действительности, чем во всех других изданиях. Кстати, что с ним стало?
— Он так долго был запрещен, что его владельцы разорились, — ответил графу Итале и с жаром прибавил: — С тех пор у нас нет ни одной свободной газеты!
— Даже если наши штаты все-таки действительно соберутся на ассамблею, — заговорил Гвиде, как всегда уверенно, неторопливо и негромко, — то ничего особенного и не произойдет: поболтают и разойдутся, как в 96-м.
— Поболтают! — Его сын так резко поставил на столик пустой бокал, что чуть не разбил его. — Это ведь в любом случае достаточно важно, чтобы…
Но Эмануэль прервал его:
— Они, вероятно, смогли бы что-то наконец сделать хотя бы в отношении налоговой системы. Вот, например, венгерскому парламенту удалось отобрать у Вены контроль над сбором налогов.
— Ну и что? Налоги ведь от этого не уменьшились! Уж этого-то никогда не случится.
— Зато эти деньги не будут потрачены на содержание иностранной полиции! — возразил Итале.
— А нам-то какое до нее дело — в наших горах?
На длинном холеном лице графа Орланта, покрытом старческим румянцем, отразились глубокое сожаление и растерянность. Ему было жаль всех — императоров, полицейских, сборщиков налогов и несчастных бедняков, попавших в сети материальных тягот; он знал, что от него ожидают не только сочувствия, но не в состоянии был соответствовать этим ожиданиям. Вот мрачный Гвиде, а рядом настороженный Эмануэль и взволнованный Итале… Юноша, будучи более не в силах сдерживать себя, в итоге взорвался: «Придет время, когда!..» — но Гвиде прервал его, точно отклоняя брошенный старшему поколению вызов, и граф вздохнул с облегчением.
— Не пройти ли нам на балкон? — предложил хозяин дома, и они присоединились к дамам, удобно устроившимся на просторном, вымощенном плиткой балконе, обнесенном широкими перилами, который старый Итале велел построить с южной стороны дома, прямо над озером. Был теплый вечер, последний вечер июля. В воде отражалось бледно-голубое небо, и вода тоже казалась абсолютно голубой, лишь в глубокой тени гор она имела темно-коричневый оттенок. На востоке, на том берегу озера, за крутыми склонами гор, все тонуло в туманной дымке. На западе, за горой Сан-Лоренц, небо еще горело закатными красками, так что и воздух, и белые плитки, которыми был вымощен балкон, и белые цветы душистого табака в горшках, и белое платье Лауры, и голубая поверхность озера — все как бы подсвечивалось розовым. Постепенно яркие тона начинали бледнеть, и над головой замерцала в вечерней тишине далекая Вега. Кипарис, росший у внешнего угла балкона, на фоне светящихся воды и неба казался совсем черным, а в воздухе, напоенном ароматами летних сумерек, негромко звучали голоса женщин.
— Боже мой! Какой дивный вечер! — вздохнул граф Орлант. В голосе его явственно слышался местный акцент. Казалось, он удивлен тем, что ему, недостойному, выпало столь высокое счастье — присутствовать на этом вечернем пиршестве красок. Он стоял, глядя на раскинувшееся перед ним озеро, и с безмятежным видом любовался открывавшимся с балкона прекрасным видом. Элеонора и Пернета, как всегда, перебирали скопившиеся за последнюю неделю слухи и сплетни: Элеонора рассказывала своей невестке о событиях в Валь Малафрене, а Пернета — о том, что произошло в Партачейке. Девушки, Пьера Вальторскар и Лаура, тихонько о чем-то беседовали и мгновенно перешли на шепот, стоило мужчинам появиться на балконе.
— …Но он же совсем не умеет танцевать! — донеслись до Итале последние слова Лауры.
— И шея у него вся волосами заросла, точно старый пень — мхом! — лениво усмехнулась в ответ Пьера. Пьере недавно исполнилось шестнадцать. Она была похожа на отца: такое же продолговатое лицо и ясный, безмятежный взгляд. Роста она была небольшого и пока что вся, с головы до ног, даже пальчики на руках, казалась пухленькой, как ребенок, и немножко неуклюжей.
— Хоть бы кто-нибудь новый появился! А то и настоящего бала не получится… — прошептала Лаура.
— Интересно, а ванильное мороженое будет? — вдруг с неожиданным интересом спросила Пьера.
Пернета тем временем, прервав сложный обмен новостями с Элеонорой, спросила мужа:
— Эмануэль, это верно, что Алиция Верачой — троюродная сестра Александра Сорентая?
— Несомненно! Она в Монтайне со всеми в родстве.
— Значит, это его мать в 1816 году вышла замуж за Берчоя из Валь Альтесмы?
— Чья мать?
— Мужа Алиции.
— Но Пернета, дорогая, — вмешалась Элеонора, — вспомни: Дживан Верачой умер в 1820-м, как же его вдова могла вторично выйти замуж в 1816-м?
Эмануэль только языком поцокал и поспешил ретироваться. Пернета не сдавалась:
— Но ведь Роза Берчой — свекровь Алиции, это же ясно!
— Ах, значит, ты имеешь в виду Эдмунда Сорентая, а не Александра! — воскликнула Элеонора. — И это ЕЕ отец умер в 1820 году!..
Эмануэль, брат Гвиде, хоть и был на шесть лет моложе, успел поседеть значительно сильнее; лицо у него было более живым и не таким суровым, как у старшего брата. Он не отличался особым честолюбием, был человеком весьма общительным, а потому предпочел жить в городе, где имел адвокатскую практику, закончив юридический факультет в Соларии. Он уже дважды отказывался от поста городского судьи, так ничем своего отказа и не объяснив, и окружающие по большей части приписывали этот отказ его лености. Он действительно был довольно-таки ленив, весьма ироничен и, подшучивая над самим собой, называл себя «исключительно бесполезной и удачливой личностью». Он всегда считался с мнением брата и во всем с ним советовался, но соглашался с Гвиде неохотно. Богатый адвокатский опыт, постоянная работа с людьми сделали его характер обтекаемым и дипломатичным, тогда как Гвиде, точно кремень с острыми краями, сохранил и прежнюю твердость, и прежнюю неуступчивость. У Эмануэля и Пернеты детей не было: их единственный ребенок родился мертвым. Пернета, женщина живая, несколько суховатая и куда более желчная и ироничная, чем Эмануэль, никогда не комментировала заявления своего мужа насчет его необычайной удачливости и никогда не вмешивалась в воспитание своих племянников, хотя Итале и Лаура были для нее единственным светом в окошке, она обожала их и гордилась ими.
Итале присоединился к дяде, стоящему у перил на том краю балкона, возле которого высился старый кипарис. Лицо юноши пылало, волосы растрепались, галстук съехал набок.
— Ты читал в «Меркурии» о заседании парламента провинции Полана? — спросил он Эмануэля. — Между прочим, я имел в виду как раз автора этой статьи, Стефана Орагона.
— Да-да, припоминаю. Значит, это он будет депутатом, если ассамблея все-таки состоится?
— Да. И такой человек нам сейчас очень нужен: он, как Дантон, способен говорить от имени всего народа.
— Ну а народ-то хочет, чтоб говорили от его имени?
Подобных вопросов члены общества «Амиктийя» друг другу не задавали, и Итале смутился.
— И что ты имеешь в виду под словом «народ»? — продолжал наступать Эмануэль, закрепляя достигнутый успех. — Наш класс землевладельцев вряд ли можно назвать «народом»… Так кто это? Купцы? Крестьяне? Городской сброд? По-моему, у всех классов и групп свои цели и требования…
— Это не совсем так… — задумчиво проговорил Итале. — Просто невежество одних ограничивает возможности других, и последние не могут должным образом и ко всеобщему благу воспользоваться полученным образованием. Но разве можно поставить преграду на пути света? Да и справедливое общество можно построить только на фундаменте всеобщего равенства — это доказано четыре тысячи лет назад и доказывается снова и снова…
— Доказано? — переспросил Эмануэль, и тут уже понесло обоих. Их споры всегда начинались так — Эмануэль действовал спокойно, заставляя Итале защищать собственное мнение, и всегда в итоге Итале полностью терял контроль над собой, утрачивая и природное добродушие, и твердость убеждений. Тогда Эмануэль «перегруппировывал» свои силы, провоцируя у племянника иную форму защиты и пребывая в уверенности, что этим способен уберечь юношу от повторения чужих мыслей, хотя на самом деле втайне и сам мечтал не только слышать, но и произносить вслух любимые слова Итале: наша страна, наши права, наша свобода!
Элеонора попросила Итале принести Пернете шаль, которую та забыла в двуколке. Когда он вернулся, закат уже догорел, легкий ветерок был полон ночных ароматов, небо, горы и озеро тонули в глубокой синеве сумерек, пеленой окутавших землю. Лишь платье Лауры на фоне высаженных по краю балкона декоративных кустарников по-прежнему светилось туманно-белым облаком.
— Ты похожа на жену Лота,
[13] — сказал ей брат.
— На себя посмотри: у тебя сейчас булавка из галстука выпадет! — заметила она в ответ.
— О, да ты никак и булавку в темноте видишь!
— А мне и не нужно ее видеть: с тех пор как ты увлекся Байроном, у тебя галстук вечно не в порядке.
Сестра Итале, Лаура, высокая, худенькая, с красивыми руками — длинные сильные пальцы, гибкие изящные запястья, — страстно любила брата. Но в жизни ею неумолимо правила исключительная душевная прямота. Если Элеонора порой и заставляла сына спуститься с облаков на землю, то вряд ли действительно хотела как-то уязвить его. А вот Лаура, обожавшая Итале и нетерпимая к его недостаткам, всегда делала это сознательно. Ей хотелось, чтобы брат, по ее мнению заслуживавший самой высокой оценки, всегда оставался самим собой вне зависимости от модных течений, мнений и
авторитетов. Будучи по натуре очень мягкой и совершенно лишенной высокомерия, в отношении брата девятнадцатилетняя Лаура не желала идти ни на какие компромиссы и проявляла ту же непреклонность, что и ее отец. Итале ценил мнение сестры о своей персоне выше всех прочих и сейчас шутливо пререкался с нею исключительно потому, что их разговор слушала Пьера Вальторскар. Поспешно поправив галстук, он с независимым видом заявил:
— С чего это ты решила, что я подражаю лорду Байрону? По-моему, лишь его гибель действительно достойна всеобщего восхищения. Он, несомненно, умер героем! Однако поэзия его довольно тривиальна.
— Хотя прошлым летом ты буквально заставил меня читать его «Манфреда»! И сегодня тоже его цитировал — «твои какие-то там крылья…»!
— «И крылья твоей бури улеглись». Но это вовсе не Байрон, это Эстенскар! Неужели ты не читала его «Оды»?
— Нет, — смутилась Лаура.
— Я читала, — сказала Пьера.
— Значит, ты знаешь, чем они отличаются друг от друга!
— Нет. Лорда Байрона я не читала; даже в переводе. По-моему, папа эту книжку куда-то спрятал! — Пьера говорила очень тихо, чтобы не услышали взрослые.
— Зато ты читала Эстенскара! Тебе ведь понравилось, верно? Например, его «Орел»… Там в конце есть прекрасные строки:
Но и в неволе видишь ты века иные,
Что твоему открыты взору,
Подобно небесам…
— Но кого все-таки Эстенскар имеет в виду? — наивно спросила Лаура, по-прежнему смущенная.
— Разумеется, Наполеона! — рассердился Итале.
— Ах, дорогой, снова ты об этом Наполеоне! — вмешалась в их разговор Элеонора. — Будь так добр, принеси и мне шаль! Она, должно быть, в прихожей. Или спроси у Касса, только он, наверно, сейчас обедает…
Итале принес матери шаль и немного постоял у ее кресла, словно не зная, к кому подойти теперь. С одной стороны, следовало бы вернуться к дяде, который все еще стоял у перил, и продолжить спор с ним, отстаивая свои позиции разумно, по-мужски; возможно, тогда он смог бы доказать Пьере, а заодно и самому себе, что только в ее обществе он всем кажется мальчишкой, потому что сама она совсем еще ребенок. С другой стороны, ему очень хотелось еще поговорить с девушками.
Мать подняла голову и посмотрела на него.
— И когда только ты успел так вырасти? — удивленно и любовно спросила она. На ее лицо из окон гостиной падал луч света. Когда Элеонора улыбалась, ее верхняя губа немножко нависала над нижней, отчего лицо приобретало застенчивое и одновременно чуть лукавое выражение; в такие минуты она была просто очаровательна, и Итале даже рассмеялся от удовольствия, глядя на мать. Она тоже засмеялась — в ответ и еще потому, что сын вдруг показался ей невероятно высоким.
Граф Орлант подошел к девушкам и, ласково коснувшись волос дочери, спросил:
— Ты не замерзла, детка?
— Нет, папа. Здесь так хорошо!
— А по-моему, нам пора в дом, — сказала Элеонора, не двигаясь с места.
— Послушай, как насчет пикника в сосновом лесу? — спросила Пернета. — Мы же все лето собирались его устроить!
— Ох, я совсем забыла! Но если угодно, можно поехать хоть завтра, хорошая погода еще постоит, правда, дорогой?
— Я думаю, да, — кивнул Гвиде, сидевший с нею рядом и погруженный в собственные мысли. Ему не нравились споры, которые Итале и Эмануэль вели за столом. Он вообще с презрением относился ко всяким политическим дискуссиям. Некоторые из его ближайших соседей, интересовавшиеся политикой, правда, исключительно в пределах родной провинции и никак не дальше, в свою очередь презирали его за это, повторяя: «Ну, этот Сорде носом в свою землю уткнулся и глаз от борозды не поднимет!» Другие им возражали, говоря даже с некоторой завистью: «Гвиде — человек старой закваски, из хорошей семьи! Сорде — настоящие независимые думи!» — однако же соглашались с первыми в том, что во времена их отцов и дедов жить было куда проще. Сам-то Гвиде хорошо понимал, что уж его-то отец определенно к людям «старой закваски» не имел ни малейшего отношения. Он помнил, как часто прежде приходили отцу письма из Парижа, из Праги и Вены, как часто приезжали гости из Красноя и Айзнара, какие жаркие споры велись за обеденным столом и в библиотеке… И все же старый Итале никогда в местных политических событиях не участвовал и никогда не высказывал прямо собственного мнения на сей счет. И в его сдержанности, связанной с добровольной ссылкой в родное поместье, таилось нечто большее, чем простая терпимость к чужому мнению; это явно был сознательный выбор, и он крепко держал слово, некогда данное кому-то, возможно даже, самому себе, и связанное, должно быть, с каким-то горьким поражением в жизни. Но Гвиде так и не узнал, что же это было за поражение и каков был выбор отца; он никогда не задавал вопросов на эту тему, но теперь, впервые в жизни, был вынужден задуматься: почему именно так сложилась судьба отца и что произошло с ним, когда ему, по всей видимости самому, пришлось делать выбор? Причина столь крутого поворота в жизни старого Итале осталась Гвиде неизвестна. И сейчас он, крепко задумавшись, был похож на мрачный могучий утес, молчаливо высившийся в теплых летних сумерках среди журчащих, точно ручейки, оживленных голосов. Молчала, впрочем, и сидевшая рядом с ним Пернета. Граф Орлант и Элеонора присоединились к Эмануэлю, по-прежнему стоявшему у перил; молодежь тоже продолжала негромко беседовать.
— Возможно, это довольно глупая идея, — послышался голос Лауры, — но я не верю, что человек должен умереть, если он сам этого не хочет. То есть… я не могу поверить, что люди, если они действительно ни капельки не хотят умирать, все равно умрут. — Она улыбнулась; улыбка у нее была в точности как у матери. — Ну вот! Я же сказала, что это глупо.
— Нет, я тоже так думаю, — откликнулся Итале. Он считал необычайным, загадочным то, что у них с сестрой возникают одни и те же мысли. Он очень любил Лауру и восхищался ее способностью говорить о своих чувствах вслух, чего сам делать не решался. — Я не вижу причины, по которой людям стоило бы умирать, не вижу в смерти необходимости. Просто, наверное, люди в итоге устают и сдаются. Разве я не прав?
— Конечно, прав! Смерть всегда приходит как бы извне — человек заболевает или… ему камень на голову падает — в общем, источник смерти не внутри самого человека.
— Верно. А если ты сам себе хозяин, то вполне можешь сказать ей: «Извините, я сейчас занят, приходите попозже, когда я с делами покончу!»
Все трое рассмеялись, и Лаура сказала:
— А это значит: «никогда»! Разве можно переделать все дела?
— Конечно, нет — за какие-то семьдесят лет! Смешно! Если бы я мог прожить лет семьсот, я бы первые сто лет только думал — у меня никогда не хватало времени подумать как следует. А потом уже поступал бы исключительно разумно, а не спешил и не метался бы, не попадал бы каждый раз впросак.
— И чем бы ты тогда занялся? — спросила Пьера.
— Ну, например, сто лет я бы целиком пожертвовал на путешествия; объехал бы всю Европу, обе Америки, Китай…
— А я бы уехала туда, где ни одна живая душа меня не знает! — прервала его Лаура. — И для этого совсем не обязательно забираться так далеко — вполне сойдет даже Валь Альтесма. Да, мне бы хотелось пожить среди чужих людей. И попутешествовать я бы, конечно, тоже хотела — увидеть Париж, вулканы Исландии…
— А я бы хотела остаться здесь, — сказала Пьера. — Я бы скупила все земли вокруг озера, кроме ваших, и заставила бы всех неприятных людей отсюда уехать. И у меня была бы большая семья. Человек пятнадцать детей. И каждый год тридцать первого июля они бы съезжались домой отовсюду, где бы ни были, и мы бы устраивали на берегу озера потрясающий праздник, катались бы на лодках…
— А я привез бы для этого праздника из Китая разные хлопушки и фейерверки.
— А я бы привезла из Исландии вулканы, — подхватила Лаура, и снова все засмеялись.
— А что бы вы сделали, если б могли загадать три желания? — спросила Пьера.
— Пожелала бы еще триста желаний, — сказала Лаура.
— Это нельзя. Всегда бывает только три желания.
— Ну, тогда не знаю. А ты бы что пожелал, Итале?
— Нос покороче, — мрачно ответствовал он, немного подумав. — Чтобы люди на него внимания не обращали. И еще — присутствовать на коронации Матиаса Совенскара.
— Это два. А третье желание?
— Да мне и двух хватит, — усмехнулся Итале. — А третье я бы отдал Пьере, ей бы, по-моему, оно больше пригодилось.
— Нет, трех мне вполне достаточно, — возразила Пьера, но сказать, каковы же эти ее три желания, не захотела.
— Ладно, — кивнула Лаура, — тогда я забираю твое третье желание, Итале, и хочу, чтобы все мы и правда прожили по семьсот лет!
— И каждое лето возвращались домой — на праздники, которые будет устраивать Пьера, — прибавил Итале.
— Что они там болтают? Ты что-нибудь понимаешь, Пернета? — спросила Элеонора, прислушавшись к их разговору.
— Да я и не слушала, Леле, — отозвалась ее невестка. У Пернеты был очень красивый голос — глубокое контральто. — Как всегда, несут всякую бессмыслицу.
— Во всяком случае, это не большая бессмыслица, чем обсуждать, чья там свекровь приходится кому-то сводной сестрой или троюродной бабушкой! — тут же ощетинилась Лаура.
— Да уж! — поддержал ее брат.
— Кстати, девочки, мы ведь так и не решили, какое платье сшить Пьере для бала у Сорентаев! — поспешила сменить тему Элеонора. — Когда состоится бал? Двадцатого?
— Двадцать второго, — ответили девушки хором и с энтузиазмом принялись рассуждать о тафте, органзе и швейцарском муслине, о шарфах, накидках и прическах «по-гречески»…
— Тебе очень пойдет белый муслин с крохотными зелененькими мушками и с летящим шарфом — я тебе покажу, у Пернеты в журнале есть такая картинка…
— Но, мама! Это же допотопный журнал! Мода трехлетней давности! — возразила Лаура.
— Дорогая моя! Если б даже мы, у себя в горах, одевались по самой последней моде, кому какое до этого, дело? — без малейшей горечи заметила Элеонора. Она когда-то считалась одной из самых красивых девушек Солария и пользовалась большим успехом, однако, выйдя замуж за Гвиде Сорде, без оглядки «оставила все это там, внизу». — По-моему, летящий шарф во время танца — это просто прелестно! А тебе, Пьера, эта идея нравится?
Мать Пьеры умерла четырнадцать лет назад во время эпидемии холеры, унесшей также и младшую дочку Сорде, тогда еще совсем крошку. В доме графа Орланта хватало слуг, нянек, всяких двоюродных бабушек и прочих родственниц, однако Элеонора сразу же взяла заботу о двухлетней Пьере в свои руки — взяла так решительно, словно имела на это все права. Граф Орлант, горюя о жене и тревожась за малышку, был Элеоноре чрезвычайно благодарен и вскоре уже не осмеливался что-либо решать относительно собственной дочери, не посоветовавшись с Элеонорой, а она в свою очередь никогда не пыталась претендовать в глазах девочки на роль единственной и любимой матери. Они с Пьерой и без того любили друг друга легко и весело, и отношения их были куда более дружескими, чем у многих матерей с их дочерьми.
Пьера, как всегда, ответила не сразу и отнеслась к вопросу Элеоноры очень серьезно.
— Я бы… — сказала она и еще немного подумала, — хотела светло-серое шелковое платье с золотистыми прошивками, как на той картинке, где изображен королевский бал, и к нему золотистый шарф. И золоченые туфельки с розочками.
— Вот как? — удивилась Элеонора.
Граф Орлант слушал их молча. Каждый раз он с трудом преодолевал изумление при мысли о том, что это его дочь, его Пьера, которая вчера еще была простодушна, как малое дитя, но в которой сегодня он уже — совершенно неожиданно для себя — замечал расцвет целого мира совершенно незнакомых ему мыслей, знаний и чувств человека, стоявшего на пороге своей взрослой жизни. Когда, как успела эта девочка в свои шестнадцать лет так повзрослеть? И хотя граф полностью доверял любящему сердечку Пьеры, он частенько испытывал нечто вроде страха, смешанного с изумлением. И сейчас снова эти чувства овладели им: он живо представил ее себе, принцессу в шелках и золоте!..
— Звучит просто прелестно, — смущенно заметил он.
Мудрые дамы в ответ лишь уклончиво вздохнули.
— Тогда, может быть, золотистый шарф с платьем из белой органзы? — вновь предложила Элеонора, пытаясь смягчить «вето» графа Вальторскары, отец и дочь, приняли ее совет молча и продолжали слушать остальных, как бы оставаясь при своем, тайном и единодушном, мнении относительно прекрасного.
Гвиде и Эмануэль беседовали об охоте; лишь Итале примолк и не принимал участия в разговорах, напряженно думая о чем-то своем. Еще в Соларии он решил, что в первый же вечер сообщит родным о принятом решении уехать в Красной: они не должны заблуждаться на его счет и думать, что он навсегда останется дома. Но прошло уже три недели, а он так ничего и не сказал. Когда, выскочив из почтовой кареты в Партачейке, он широко распахнул дверь «Золотого льва» и вошел, то сразу увидел отца, который обернулся ему навстречу. Лицо Гвиде светилось той редкой счастливой улыбкой, которая делала его совсем другим — уязвимым, стеснительным. Вспомнив об этом, Итале даже руки стиснул, невольно протестуя против подобной несправедливости. Как непростительно со стороны отца — так радоваться встрече с ним и показывать всем, как он рад, что сын наконец вернулся домой! Ведь невозможно поступать по-мужски, честно говорить и делать то, что должен, когда все со своей невысказанной любовью толпятся вокруг, цепляются за тебя, связывают по рукам и ногам? И надо признать, он и сам виноват, ибо не может побороть и свои чувства к этим людям с их неизменной нежностью и преданностью, к этому дому, где с детства его окружало счастье, где родилось столько надежд. Даже сама здешняя земля держала его крепче, чем что-либо иное в том, другом мире: холмы, покрытые виноградниками, длинная величественная цепь гор на фоне небес… Как ему покинуть все это? Точил ли он косу, или правил рулевым веслом, пересекая озеро, или читал захватывающую книгу — обо всем мог он в любой момент позабыть и невидящим взором впериться в просторы озера Малафрена, чувствуя, как тяжело было бы ему расстаться с милыми сердцу краями. Он был словно опутан чарами, разорвать которые у него не хватало сил; от этих чар можно было лишь бежать. Они становились особенно сильными во время некоторых разговоров… но об этом он старался даже не думать. Нет, это действительно несправедливо! Это просто невыносимо! С какой стати?! Неужели он влюблен в эту девочку, совершеннейшего ребенка?! Нет, и речи быть не может! Всякие там детские ухаживания, дружба, безмолвное понимание друг друга — все это он давно перерос! Если уж влюбляться, так по-настоящему, и такую, взрослую любовь, любовь мужчины к женщине, он непременно найдет в Красное! Решено: он должен отправиться в Красной! И, отметая все сомнения, он вновь повторил про себя решительно и печально: «Раз надо, так тому и быть».
— Ты сумел ее выследить, Итале? — ворвался в его мечты голос Эмануэля; он имел в виду волчицу, которую видели на горе Сан-Лоренц.
— Нет, не удалось, — машинально ответил Итале и, произнося эти слова, решил непременно поговорить с отцом.
Испытание предстояло суровое, и для начала он побеседовал об этом с дядей, выждав, когда все остальные уйдут с балкона в дом. Эмануэль, похоже, ничуть не удивился. Постаравшись полностью уяснить планы Итале — отъезд в Красной и поиски возможностей как-то применить свои силы и знания во имя патриотических целей, — он еще некоторое время внимательно слушал пылкие речи племянника, наблюдая за ним, потом задумчиво поцокал языком и наконец сказал:
— Все это весьма неопределенно и, безусловно, опасно — на мой взгляд, разумеется; впрочем, юристам свойственно в первую очередь видеть дурную сторону вещей… Не знаю, право, какова будет реакция Гвиде. Боюсь, он сочтет все это совершенно бессмысленным, как бы ты ни старался объяснить ему цели и причины отъезда.
— Да нет, он, конечно же, меня поймет! Если станет слушать.
— Не станет. Он целых двадцать лет ждал, когда вы начнете работать вместе. Скрепя сердце позволил тебе уехать на три года в южную долину, а ты хочешь преподнести ему такой сюрприз?… Да я и сам не уверен, что ты до конца понимаешь то, к чему стремишься сейчас. По-моему, тобой руководит не разум, а страстное стремление властвовать над собственной судьбой. В этом ты очень похож на отца. Только твое теперешнее желание весьма отличается от его желаний и полностью им противоположно. Ты надеешься с позиций разума обсудить с ним эту проблему и прийти к некоему соглашению? Сомневаюсь, что тебе это удастся!
— Но отец верит в необходимость служения долгу, в твердые принципы. Конечно же, я бы и сам с радостью остался здесь, но поставленная передо мной цель гораздо важнее личных моих желаний, и я знаю: это отец поймет. Я не могу остаться здесь, ибо пока сам не волен выбирать, оставаться мне или уезжать.
— Значит, ты намерен завоевать для себя свободу выбора, служа интересам других?
— Я не стану ее завоевывать, — ответил Итале. — Свобода как раз и состоит в том, чтобы делать то, что можешь и хочешь делать лучше других и непременно обязан выполнить. Разве я не прав? Свобода — не вещь, которой можно владеть или держать при себе. Это человеческая деятельность, это сама жизнь! Но разве можно жить в тюрьме? Среди томящихся в рабстве? Нельзя жить только ради себя! Нельзя — если все вокруг несвободны, несчастливы!
— Да приидет Царствие Твое, — пробормотал с усмешкой и затаенной болью Эмануэль.
Перед ними лежало озеро — темное, спокойное; волны со слабым плеском лизали стены под балконом и сваи лодочного сарая. На востоке массивные очертания гор отчетливо вырисовывались на светлом, светящемся фоне небес: всходила луна. Западный край неба был темным, покрытым россыпью звезд.
Глава 4
— Эге-гей! Назад!
Крик графа громко разнесся над сверкающей гладью озера, но со второй лодки ответа не последовало, и остроконечный коричневый парус продолжал как ни в чем не бывало скользить по волнам далеко впереди.
— Крикните еще раз, граф Орлант, пожалуйста!
— Все равно не услышат, — заметила Пернета.
— О господи, теперь нам «Фальконе» ни за что не догнать. Итале! Поворачивай назад, дорогой!
— Услышали, поворачивают! — воскликнул граф Орлант; он морщился и щурил глаза, так ослепительно сверкала под солнцем вода. Островерхий коричневый парус вдали, похожий на крыло ястреба, описал полукруг: лодка Итале пошла на разворот. Граф тоже развернул тяжеловатую «Мазеппу» по ветру и двинулся к берегу. Вскоре легкая «Фальконе» стала их нагонять, и они услышали голос Итале:
— Хой!
— Хой! — звонко ответила Элеонора; они перекликались, точно встревоженные перепелки. — Смотрите, какие тучи!.. Гроза собирается!.. Пора домой!
— У вас что-то случилось?
— Ничего у нас не случилось, просто домой пора! — вступила в переговоры и Пернета, указывая на вершину Сан-Лоренц, где клубились темные тучи.
— Но Лаура хотела пособирать грибы в Эвальде!
— О господи! Не могу я больше кричать… — пробормотала Элеонора. — Скажи им, Пернета, что ничего они пособирать не успеют: дождь вот-вот польет. А у меня в подвале и так уже два бочонка маринованных грибов…
С «Фальконе» до них долетел веселый смех, а потом послышался голос Эмануэля:
— Так как вы насчет грибов?
— Никаких грибов!
— Ну что, идем в Эвальде? — Это крикнул Итале, стоявший на носу лодки.
— Никаких грибов, и никакого Эвальде! Немедленно домой! — неожиданно рявкнул граф Орлант; у него даже местный акцент усилился: так говорят крестьяне в горных селеньях.
Итале в ответ самым изысканным образом поклонился, исполнил несколько элегантных танцевальных па и вдруг… исчез!
— Господи, он же в воду свалился! — встревожилась Элеонора, но тут «Фальконе» поравнялась с ними, и все увидели, что Итале и Лаура просто склонились друг перед другом в глубоком поклоне, изображая одну из фигур менуэта. Когда «Мазеппа» наконец причалила к берегу, оказалось, что Эмануэль, Итале и девушки уже удобно устроились на балконе и ждут остальных. Итале что-то оживленно рассказывал; его синие глаза сверкали, лицо разрумянилось на ветру, и, глядя на него, Элеонора и Пернета переглянулись с гордостью и восхищением.
— Итале, дорогой, а что, скажи на милость, приключилось с твоей шляпой? — улыбнулась Пернета.
— Она же насквозь мокрая! — подхватила Элеонора. — Значит, ты все-таки свалился за борт?
Пьера вдруг расхохоталась:
— Он ею ловил!..
— Ловил? Шляпой?
— Нуда, ловил шляпой, — сказал Эмануэль, — а эти молодые дамы держали его за ноги и визжали: «Не лягайся! Не лягайся!»
— Но что именно он ловил?
— Мои перчатки! — еле выговорила Пьера.
— Когда Пьера услышала ваши крики, то со страху уронила в воду свои драгоценные перчатки, а мне пришлось их вылавливать. Вы лучше скажите: куда делся мой черпак? У меня всегда на «Фальконе» черпак был! — Итале и девушки от смеха стали багровыми.
— Я же просил, чтобы мне позволили ехать вместе с вами на «Мазеппе»! — вставил Эмануэль.
— А ты, Лаура, конечно, зонтик даже не раскрыла! — с упреком заметила Элеонора. — Теперь у тебя все лицо будет в веснушках!
— Веснушки… — задумчиво промолвил граф Орлант. — Я помню, как-то раз, когда Пьера была совсем крошкой, она весь день играла на солнце, и я потом насчитал у нее на носу целых восемнадцать веснушек! Впрочем, мне тогда казалось, что веснушки ей очень к лицу.
— О да, веснушки им обеим к лицу! И особенно хорошо они будут смотреться на балу у Сорентаев! У обеих физиономии будут как пасхальные яйца! — возмутилась Элеонора. — Не понимаю, с чего это вы так развеселились?
Итале искоса глянул на Пьеру, стоявшую к нему вполоборота: на нежной шейке под растрепавшимися на ветру локонами уже видны были три свеженькие симпатичные веснушки.
— Между прочим, ты, несчастный, так перчатки из воды выловить и не сумел! — упрекнула брата Лаура.
— А надо было держать меня как следует! — парировал Итале. — Все время носом в воду макали!
— А ты все время пузыри пускал! — вставила Пьера. Все трое снова залились смехом. — Ой, он так смешно шлепал по воде руками и… буль-буль-буль!..
Когда они наконец успокоились, утирая глаза, Элеонора, сдерживая улыбку, упрекнула:
— И как не стыдно так глупо вести себя! Неужели Гвиде еще не вернулся? Наверно, и на небо-то ни разу не взглянул…
— Элеонора, дорогая, — сказал Эмануэль, обнимая невестку за талию, — ведь ты двадцать семь лет прожила в Валь Малафрене! Неужели ты до сих пор к здешним грозам не привыкла?
— Двадцать восемь, дорогой Эмануэль! Да, я двадцать восемь лет живу здесь, но все равно считаю, что просто возмутительно, когда самые лучшие летние дни испорчены ливнями и громовыми раскатами! И мне надоело, что Гвиде возвращается домой промокший насквозь! — Она тоже обняла Эмануэля, ласково ему улыбаясь, и они собрались было закружиться в танце, но тут со стороны Сан-Лоренца донесся могучий раскат грома.
— Ну вот, начинается! — воскликнул кто-то. Гремело все сильнее; черно-серые валы будто вскипали над вершиной горы и скатывались по ее склонам к озеру и усадьбе.
— Пойдемте-ка лучше в дом! — предложила Элеонора.
Оказалось, что Гвиде уже вернулся и стоял в гостиной у окна, выходившего на юг. Итале даже застыл на минутку в дверях, любуясь темным силуэтом отца на фоне освещаемого вспышками молний грозового неба.
— Самое время выпить чаю. Эва! — окликнула служанку Элеонора и исчезла в направлении кухни.
— Какой прекрасный день! — сказал граф Орлант, с наслаждением опускаясь в массивное и удобное старинное дубовое кресло. — Жаль, что вы с нами не поехали, Сорде!
— Ничего. Зато у меня вскоре будет несколько свободных дней, и я бы хотел, граф, чтобы вы посмотрели в работе моего нового сокола; его Рика натаскивает.
Соколиная охота, как и в старину, была самым распространенным развлечением в Монтайне. Гвиде с сыном были большими ее любителями, Эмануэль тоже охотился с удовольствием, а граф Орлант, хоть он и считался безусловно лучшим в здешних местах знатоком ловчих птиц, если честно, не слишком любил лазить по крутым горным склонам с крупной, тяжелой птицей на руке; к тому же он всегда испытывал некую робость, когда сокол смотрел на него своими жестокими немигающими глазами хищника.
— Жаль, что ты не взял птицу с собой, Итале, — продолжал между тем Гвиде. — Ей бы следовало полетать. Мне самому просто времени не хватает — у нас со Стари слишком много работы.
— В следующий раз возьму непременно! — горячо пообещал пристыженный Итале, который был очень благодарен матери, когда та прервала разговор о ловчих птицах и пригласила всех к столу.
Позвякивали чашки и блюдца: Элеонора и горничная Эва расставляли на столе посуду и печенье. Возбуждение, вызванное в душе Итале прогулкой на лодке, уже угасало; теперь он думал лишь об одном: сегодня же вечером он непременно должен поговорить с отцом! Он так и сидел, задумавшись и свесив руки с промокшей шляпой между коленями — точно гость, которому одинаково неловко и продолжать беседу, и уйти. Женщины, конечно, сразу почувствовали перемену в настроении Итале. Элеонора поглядывала на сына с тревогой. Лаура считала, что брат снова «задирает нос», считая себя «чересчур взрослым», и только поэтому больше не рассказывает ей о своих переживаниях. Подобное «предательство» возмущало ее. Одна Пернета ни о чем не беспокоилась и по-прежнему находила Итале очень милым и забавным, особенно с этой шляпой в руках, мокрой насквозь и перепачканной ряской; она была убеждена, что просто так с их мальчиком никогда и ничего не случится. Ну а для Пьеры, сидевшей рядом с Итале на диване и тоже заметившей его странное молчание, куда важнее было то, что он одет в синий сюртук, который очень ему идет, что щеки его покрывает очень темный, даже чуть грубоватый, загар, что этот красивый и милый юноша сидит рядом с нею… Дальше в своих мыслях она не шла. Вот если бы Итале заговорил, то его голос тоже стал бы частью этого невыразимого словами ПРИСУТСТВИЯ РЯДОМ, и тогда Пьера стала бы внимательно слушать то, что он говорит. Но он молчал, и она слушала его молчание. И думала о том, что никогда еще не была так счастлива и что эти мгновения никогда уж больше не повторятся. Ее радость была абсолютно чиста, не замутненная ни возрастом, ни привычками, ни жизненным опытом, но в то же время она была и абсолютно беззащитна. Пьера и сама не решалась как-либо управлять своим первым чувством, чистым и хрупким, как стекло, а если и чувствовала в Итале порой некое беспокойство, то считала, что и эта скрытая тревога, и некоторая его отчужденность связаны просто с ее собственным волнением, вызванным всего лишь радостным ощущением близости — всего лишь тем, что они вот так сидят рядышком на диване и пьют чай.
Граф Орлант тем временем вернулся, явно очень довольный, из библиотеки и с восхищением сказал:
— Какую все-таки прекрасную подборку книг по ботанике удалось сделать вашему отцу, Гвиде! Мне, право, очень жаль, что он не увлекался еще и астрономией… По-моему, ботаника ни у кого в вашей семье особого интереса не вызывает, верно?
— Итале все время в библиотеке торчит! Но занимается явно не ботаникой! — засмеялась Лаура, надеясь как-то растормошить брата. — Помнишь, Итале, как дедушка в саду учил тебя, как по-латыни называются разные растения? Только ты теперь, наверно, все уже позабыл…
— Не все! — вмешалась Элеонора. — Итале всегда может напомнить мне название того экзотического растения, что растет с восточной стороны нашего дома. Я вечно его забываю. Как, кстати, оно называется?
— Mandevilia suaveolens, — машинально откликнулся Итале.
Стекла в гостиной после короткого, но бурного ливня совершенно запотели. Гром доносился уже издалека; сквозь струи дождя над озером просвечивали золотые лучи солнца.
— А знаете, этим летом грозы даже приятны: они освежают воздух, он становится более прозрачным…
— И мне всегда после грозы удается сделать прекрасные наблюдения в телескоп! — подхватил граф Орлант. Эмануэль тут же стал расспрашивать его об успехах в астрономии. А Итале совершенно неожиданно для себя самого повернулся к Пьере и спросил:
— А ты еще что-нибудь Эстенскара читала?
— Нет, только «Оды», а что?
— Хочешь прочесть «Ливни Кареша»? Очень хорошая книга! Могу дать.
— Если… если папа позволит.
Итале нахмурился.
— Эстенскар — великий поэт! И благородный человек. А произведения его запрещены только потому, что наши невежественные власти его боятся! По-моему, самому Эстенскару просто лень с этими запретами бороться. А ты свою свободу должна отстаивать! Это не только твое право, но и твоя обязанность.
Шестнадцатилетняя Пьера сплела по-детски пухлые пальцы и осторожно, чуть повернув кудрявую головку на гибкой шее, уже покрытой весенними веснушками, посмотрела на отца. До них долетели слова графа: «…но если комета подойдет слишком близко к Земле, тогда и говорить нечего…» Потом Пьера перевела взгляд на Итале и пообещала:
— Хорошо, я буду отстаивать свою свободу. — Она подумала и прибавила: — Папа очень любит, когда я рассказываю ему о прочитанных книгах… Хотя, по-моему, это все-таки он спрятал от меня сочинения лорда Байрона! Впрочем, вряд ли у него хватило бы духу по-настоящему что-то мне запретить…
— Я ведь не твоего отца имел в виду, Пьера. Свобода… не имеет отношения к конкретной личности! Но мне все-таки очень хотелось бы, чтобы ты прочла эту книгу. Если ты сама этого хочешь, конечно. Я уверен, она тебе понравится! — закончил он почти умоляющим тоном. Почему-то этот разговор, как и все происходящее сегодня, казался ему невероятно важным.
— Я бы очень хотела прочитать ее.
Итале хотел уже бежать к себе, чтобы принести книгу, но Пьера остановила его.
— Ты ведь заедешь к нам во вторник вечером? Вот и захвати ее с собой. Папа тогда ничего не заметит и ни о чем меня не спросит.
Он некоторое время колебался.
— Нет, лучше возьми сейчас.
Пьера была озадачена, но принесенную им книгу взяла и не спросила, что может помешать ему приехать в Вальторсу вечером во вторник.
Все вместе они вышли из дома — одни уезжали, другие провожали. Бредя по тропинке, окутанной дивными ароматами вечера, словно промытого ливнем, Пьера спросила, останавливаясь возле одного из благоухающих кустов:
— Это и есть та самая mandevilia?…
— Suaveolens, — с улыбкой подсказал Итале, который шел за нею следом.
Эмануэль и Пернета возвращались к себе, в Партачейку; проплывавшие мимо холмы, поросшие лесом, казались черными сгустками тьмы в серых полях, что тянулись вдоль дороги; лошадиные копыта глухо постукивали в тишине. Первой нарушила молчание Пернета:
— По-моему, наш дорогой племянник вернулся с прогулки в дурном настроении.
— М-м-м? — невразумительно промычал в ответ ее супруг.
— Вон сова!
— Что?
— Сова пролетела.
— М-м-м…
— Мне кажется, он и Пьера…
— Ну что ты! Девочке всего шестнадцать!
— Мне, между прочим, было девять, когда я впервые на тебя внимание обратила!
— Ты хочешь сказать, они влюблены друг в друга?
— Конечно, нет! Но почему ты никогда не хочешь признать, что кто-то в кого-то может быть влюблен?
— Я просто не знаю, что это означает.
— Вот как? Хм? — Теперь уже Пернета не находила слов.
— Нет, пожалуй, однажды я это все-таки видел. Это происходило с Гвиде в 97-м. Он был похож на новорожденного, и весь мир вокруг ему казался новым и прекрасным. В итоге они с Элеонорой поженились. Не помню, правда, как долго у него продолжалось то нелепое состояние. Месяцев восемь, десять… Хотя обычно и этот срок люди не выдерживают. Так, несколько часов восторга… Если такой человек вообще способен восторгаться. И вообще, эта ваша влюбленность — просто чушь!
— Ах ты, смешной брюзгливый старикашка! — с невыразимой нежностью сказала Пернета. — А все-таки Итале и Пьера…
— Ну еще бы! Между прочим, это было бы вполне естественно. Вот только Итале уезжает.
— Уезжает?
— Да, в Красной.
Лошадь всхрапнула, начиная долгий подъем к перевалу.
— Но почему вдруг?
— Он мечтает сотрудничать с одной из патриотических групп.
— Он хочет заняться политикой? Но ведь ею можно заниматься и здесь, а заодно и работу какую-нибудь подыскать к дому поближе. Поступить в какую-нибудь контору…
— Знаешь, дорогая, занятия политикой в провинции — игра довольно жульническая, да и играют в нее в основном богатые бездельники или профессиональные незнайки.
— Это так, но ведь… — Пернета хотела сказать, что все политические игры таковы, и Эмануэль понял ее без слов.
— Видишь ли, Итале ищет себе не место, где он мог бы служить; он ищет таких людей, вместе с которыми можно было бы участвовать в революционной деятельности.
— То есть всяких «совенскаристов»? — задумчиво спросила Пернета. — Вроде того писателя из Айзнара? Его еще недавно, кажется, в тюрьму упрятали?
— Вот именно. И ты прекрасно знаешь, что эти люди — отнюдь не преступники, а, напротив, весьма благородные граждане своей страны. Среди них, насколько мне известно, есть даже священники, причем действующие и имеющие свой приход. В этот процесс втянуто множество очень приличных людей, Пернета, причем по всей Европе. Я, правда, их не знаю… А впрочем, я в этом не слишком разбираюсь! — И Эмануэль зачем-то сердито дернул за повод своего послушного и смирного коня.
— А Гвиде знает?
— Помнишь, как взлетела на воздух мельница Джулиана?
Она изумленно уставилась на него и молча кивнула. Потом спросила:
— Когда Итале сказал тебе?
— Вчера вечером.
— И ты его поддержал?
— Я? Чтобы я в пятьдесят лет стал поддерживать двадцатидвухлетнего мальчишку, который намерен переделать мир? Чушь какая!
— Его отъезд разобьет Элеоноре сердце!
— Ничего, не разобьет. Знаю я вас, женщин! А в итоге — чем больше будет риск, чем больше глупостей совершит этот мальчишка, тем больше вы будете им гордиться. Но вот Гвиде!.. Для Гвиде будущее заключается в его сыне. Каково ему будет видеть, как рушатся все его надежды, как само его будущее подвергается чудовищному риску…
— У мальчика есть собственное будущее! — сурово возразила Пернета. — Да и насколько в действительности велик этот риск?
— Понятия не имею! Даже думать об этом не хочу! Я и так слишком много думаю о том, что может угрожать человеческой жизни, о том, какие с этим связаны переживания… Вот почему я на веки вечные остался всего лишь провинциальным адвокатом — не хватило мужества ни на что другое. И теперь-то уж точно не хватит — стар стал и не желаю собственный покой нарушать. Жаль только, что когда-то, когда мне тоже было лет двадцать, мне некому было сказать: «Это для меня очень важно!» И все переменить. Даже если бы это и не было так уж важно в действительности.
Пернета легко, но решительно взяла мужа за руку, однако ничего ему не сказала, и они продолжили свой путь в Партачейку, немногочисленные разбросанные во мраке огоньки которой уже светились перед ними в долине.
Как раз в эти мгновения Итале, стоя на нижней ступеньке лестницы, говорил:
— Это для меня очень важно, отец!
— Хорошо. Тогда пойдем в библиотеку.
За высокими окнами библиотеки ажурная листва деревьев казалась черной на фоне звездного неба. Гвиде зажег лампу и уселся за стол, в свое любимое кресло с резными, почерневшими от времени подлокотниками; это кресло было настоящей семейной реликвией: его в 1682 году сделал еще прадед Гвиде, а потом, век спустя, полностью отреставрировал его отец. Стол был завален документами; некоторые были написаны четким беглым почерком судебных клерков, умерших два века назад. Эти документы подтверждали право семейства Сорде на владение данными землями, а также права их арендаторов. Большая часть бумаг имела отношение к налогам и арендной плате; в них упоминались имена фермеров, издавна живших на этой земле. Все документы были составлены на латыни, так что Итале, впервые увидев, как с ними работают Гвиде и Эмануэль, решил: вот оно, настоящее средневековье, темное, непонятное, глухое, не имеющее ни малейшего отношения к реальной жизни — к плодородию здешних земель, к засухе и дождям, к людям, возделывающим эту землю, кому-то принадлежащую или взятую в аренду, кого-то намертво привязывающую к себе, а кому-то, напротив, дающую свободу! Ведь именно земля и для крестьянина, и для землевладельца — источник жизни, ее основа и цель, ее начало и конец. Однако куда важнее оказывались жалкие листки бумаги, к которым отец и Эмануэль относились так серьезно. Кстати, среди этих документов имелся и Закон о налогах 1825 года, четкий, точный, ни к кому лично не имеющий отношения и вполне современный — особенно в сравнении со средневековьем, которое для Итале воплощалось во всех прочих бесчисленных старинных документах, — однако совершенно бессмысленный с точки зрения теперешней жизни. По одну сторону пропасти находилась семья Сорде и ее земельные владения, а по другую — государство со своими нудными законами, и между ними не существовало никакого моста — ни революционных перемен, ни взаимного обмена представителями, ни каких бы то ни было реформ!
Итале присел у дальнего, относительно пока свободного края длинного стола; здесь лежала только книга Руссо «Общественный договор». Ее он как раз и читал в последние дни. Сейчас он снова взял ее в руки и сказал, машинально перелистывая страницы:
— Раз уж Австрии так хочется, чтобы и мы пользовались наполеоновской системой изъятия налогов, было бы весьма неплохо, если б она позволила нам довести до конца те реформы, которые начали здесь французы, тебе не кажется?
— Пожалуй. Если им необходимы деньги, почему бы не прийти за ними прямо ко мне? Неужели они думают, что крестьяне способны делать сбережения, да еще наличными? Городские люди…
Крупное лицо Гвиде отчетливо выделялось на фоне заставленных книгами полок. Это было суровое, мужественное лицо, но Итале поразило некое совершенно новое его выражение: выражение покоя. Но то было не внутреннее спокойствие, являющееся у определенных людей свойством характера — Гвиде никогда спокойным характером не отличался, — а некая благоприобретенная черта, дар времени, причем не только тех лет, что сам Гвиде прожил на свете, но и всех тех столетий, опыт которых он воспринял и сделал своим собственным. Итале явственно видел по лицу отца, что тот очень устал сегодня, но тем не менее хочет непременно, хотя и не без внутреннего страха, выслушать то, что Итале собирается ему сказать, ибо в основе характера Гвиде была неспешная, неколебимая, воспитанная многими поколениями воля, сдерживавшая проявление любых эмоций.
— Я хотел бы попробовать кое-что объяснить тебе, папа… Дело в том, что в последнее время мои воззрения претерпели некоторые перемены…
— Я прекрасно знаю, что мы с тобой по определенным вопросам не имеем общего мнения, но времена меняются, сынок, так что мы и не могли бы абсолютно все на свете воспринимать одинаково. Так что время, потраченное на выяснение, чье мнение лучше, я считаю потраченным впустую.
— Но ведь некоторые идеи — это не просто чьи-то мнения! И разделять эти идеи означает верно служить им.
— Возможно. Но у меня нет желания спорить, Итале.
— У меня тоже. Ни малейшего. — Итале бросил на стол книгу Руссо; над кипой старых бумаг тут же поднялась туча пыли. — Но я бы все-таки не хотел поступаться своими принципами. Ты ведь не поступишься своими.
— Ну, у каждого своя голова на плечах. И временем своим каждый тоже волен распоряжаться по своему усмотрению. До тех пор, пока справляешься со своими обязанностями. А это у тебя вполне получается. Ты со своими обязанностями всегда справлялся.
— Но при этом мне бы хотелось справляться с ними совсем не здесь!
При этих словах Твиде поднял голову, но ничего не сказал.
— Я должен уехать в Красной! — продолжал Итале.
— Ничего подобного. Никому ты не должен.
— Я попытаюсь объяснить…
— Мне не нужны объяснения.
— Если ты не желаешь слушать, какой вообще смысл в этом разговоре? — Итале вскочил. Гвиде тоже встал.
— Не уходи, — сказал он и медленно прошелся по комнате. Потом снова сел в свое украшенное резьбой кресло. Итале так и остался стоять. За домом, в долине сонным голосом прокричал петух; на кухне что-то напевала старая Эва. — Значит, ты хочешь поехать в Красной? — Итале кивнул. — И ты рассчитываешь получить у меня некую необходимую тебе сумму?
— Нет. Если, конечно, ты сам не захочешь дать мне денег.
— Не захочу.
Итале изо всех сил старался подавить одолевавшие его гнев и отчаяние — он чувствовал, что эти усилия буквально истощили его физически и морально. В какой-то момент ему даже захотелось подойти к отцу и совершенно по-детски попросить у него прощения: он готов был сделать все, что угодно, лишь бы отец не сердился и не огорчался. Он сел за стол, на прежнее место, и снова взял в руки книгу; повертел ее, полюбовался игрой света на изрядно потрепанном, но все еще сохранившем позолоту корешке и наконец сказал:
— Ничего, я найду работу. Мы с друзьями надеемся прокормиться писанием статей, журналистикой, а может быть, и сами начнем издавать какой-нибудь журнал.
— С какой целью?
— Во имя свободы, — тихо ответил Итале; на отца он не смотрел; сидел, потупившись.
— Свободы? Для кого?
— Для всех нас.
— Значит, ты считаешь, что свобода принадлежит тебе и ты можешь ею распоряжаться?
— Я могу распоряжаться только тем, что имею.
— Слова, слова!
— Да все на свете — слова! И эта вот книга тоже. Но благодаря ей, между прочим, пала Бастилия! И в этих твоих документах тоже слова — о нашей земле, собственность на которую они подтверждают. Ты ведь жизнь свою положил за эту землю!
— Ты весьма красноречив.
Оба надолго умолкли.
Гвиде заговорил первым — осторожно, сдержанно:
— Позволь мне пояснить, как я понимаю твои планы. Ты хочешь отправиться в долину и вместе с другими делать некое общее дело, выдуманное не тобой, а кем-то еще, но, по твоим словам, принципиально важное для тебя. Ты считаешь это своим долгом, что мне совершенно непонятно. Гораздо более понятен мне тот долг, который ты обязан
исполнить перед своей семьей и перед теми, кто живет на принадлежащей тебе земле. Кто будет управлять поместьем, когда я умру? Столичный журналист?
— Это несправедливо!
— Неправда. Существует большая разница между долгом и самооправданием.
— Почему ты говоришь со мной, как с ребенком? Я уже не мальчик. Я такой, каким меня сделал ты, и я хорошо знаю, что такое долг. Я уважаю твои принципы, папа, а потому прошу тебя уважать и мои!
Гвиде некоторое время молчал, потом спросил:
— Уважать твои принципы? Но какие? Ведь ты все на свете готов променять на какие-то беспочвенные теории, на те чужие слова, которые ты так упрямо повторяешь. Ты уже вполне взрослый, Итале, и, разумеется, можешь мне не подчиниться, но до двадцати пяти лет своим наследством ты воспользоваться не сможешь. Я не дам тебе такого права. И благодари за это Всевышнего!
— Я бы никогда и не посмел им воспользоваться против твоей воли…
— Да плевать тебе на мою волю! И на свое наследство тоже плевать! Ты же готов повернуться спиной ко всему, что я нажил тяжким трудом! Но раз все это не твое и не ты его наживал, так нечего на него и плевать! — Это поистине был крик души.
Итале в отчаянии пролепетал:
— Но я же не… Я же вернусь, если буду тебе нужен…
— Ты мне нужен сейчас. Но если решил уйти, так уходи.
— Хорошо, я уйду. — Итале встал. — Ты, конечно, можешь ничего мне не давать, но не в силах отнять у меня верность родному дому и тебе, папа… Придет время, когда ты это поймешь…
— О да, время, конечно, придет! — Раскрытая книга Руссо полетела на пол, выпавший листок с оглавлением порхнул через всю комнату, точно испуганная птица. — Только я вряд ли до этого доживу! И ты, скорее всего, тоже!
Оба задыхались от гнева; каждый считал другого неправым; и оба чувствовали, что больше им нечего сказать друг Другу.
— Подумай обо всем как следует, — промолвил Гвиде сдавленным голосом, не глядя на Итале. — Возможно, больше нам с тобой объясняться не придется. А если ты все уже для себя решил, то чем скорее ты уедешь, тем лучше.
— Я уеду с почтовым дилижансом в пятницу.
Гвиде промолчал.
Итале поклонился и вышел из библиотеки.
На его серебряных часах было двадцать минут девятого. Они разговаривали всего несколько минут, а ему показалось — несколько часов.
— Это ты, Итале? — Мать, с которой он столкнулся у лестницы, смотрела на него удивленно. — А отец все еще в библиотеке?
— Да. — Он взлетел наверх и захлопнул за собой дверь. В его комнате царили синие сумерки; казалось, ее заполнила сама синева озерной глади; в этой теплой сказочной синеве обычные предметы казались расплывчатыми, точно колышимые водой водоросли, что растут у берегов озера Малафрена. Спокойствие этого неяркого, невесомого света приглушило и как бы вобрало в себя терзавшую Итале тоску; он почувствовал, что снова может свободно дышать. Но еще никогда в жизни не ощущал он такого одиночества и такой смертельной усталости.
Глава 5
Пятое августа было томительно жарким; такие дни обычно заканчиваются грозой. Поля жарились на солнце с раннего утра; озеро застыло, как стекло; красный солнечный диск кривился и плавился в выцветших небесах. Оглушительно орали кузнечики — на скошенных лугах, в пожелтевших хлебных полях, в садах и в роще, под могучими дубами. Когда тени от гор на западе достигли озера, нижний край неба приобрел мягкий, синевато-сиреневый оттенок, в воздухе повисла легкая дымка, но по-прежнему не было ни ветерка, а озеро Малафрена казалось чашей, полной огня. Пьера Вальторскар медленно спускалась по лестнице — даже столь простое действие в такой бесконечно долгий августовский день казалось ей чем-то существенным, сложным, связанным с разнообразными и невнятными, почти неуловимыми мыслями и ощущениями. В доме, построенном из известняка и отделанном мрамором, было прохладно; о том, что сегодня такой жаркий день, свидетельствовали лишь чрезвычайная сухость воздуха, непрерывное пение цикад да расплавленное золото солнечных лучей, вливавшихся в щели закрытых ставень. Пьера была одета, как подобает взрослой женщине в ее родных краях: темно-красная юбка до полу, черный жилет, полотняная блузка с вышивкой у ворота. Пышные рукава блузки были на плечах заложены в двенадцать мелких застроченных складочек, что свидетельствовало о том, что она сшита в Валь Малафрене. На блузке, сшитой в Валь Альтесме, рукава на плечах были бы просто присборены; отличалась бы она также некоторыми элементами вышивки и кроя; у ворота, например, был бы цветочный орнамент, а не переплетение зеленых веток с сидящими на них птицами. В этом наряде все было как полагается, и Пьера всегда предпочитала его всем остальным своим платьям. Спускаясь по лестнице, она левой рукой ласково оглаживала юбку, радуясь ее гранатовому оттенку и ощущая шероховатость и прохладу домотканого полотна. Правая рука Пьеры скользила по мраморным перилам лестницы, отполированным временем настолько, что они казались намыленными. Девушка спускалась не спеша, щиколотками ощущая колыхание пышной юбки, а рукой — холод перил; она казалась погруженной в глубокие раздумья, хотя вряд ли могла бы сказать, о чем именно думает. Когда до конца лестницы оставалось всего четыре ступеньки, она принялась мурлыкать песенку «Красны ягоды на ветке осенью…», но на последней ступеньке умолкла, остановилась и бездумно провела пальцем по спине купидона, украшавшего стойку перил. Это был грубоватый, приземистый, провинциальный купидон, вырезанный из серого мрамора Монтайны. Сейчас он выглядел таким мрачным, точно у него болел живот. Пьера заботливо ощупала «малыша», как будто проверяя, нет ли у него отрыжки, потом эта забава ей надоела, она резко повернулась и снова помчалась по лестнице вверх. Взлетела она туда в пять раз быстрее, чем спустилась оттуда. Верхняя гостиная была погружена в полумрак; здесь пахло пыльным бархатом. Пьера подошла к двери, ведущей в кабинет отца, и прислушалась. Тишина. Граф Орлант еще спал. В такую жару он обычно весь день лежал на старом кожаном диване и дремал, хотя утверждал, что спать ни в коем случае не собирается. Пьера быстро сбежала по лестнице — только юбки прошелестели, когда она при резком повороте использовала купидона как точку опоры, — и направилась в комнату своей двоюродной бабушки. Или Тетушки, как звали ее все в семье.
Тетушка — а слуги назвали ее графиня-тетушка — была очень стара. С тех пор, как Пьера помнила себя, Тетушка всегда была старой. Разумеется, у нее, как и у всех, тоже был день рождения, но она, видно, забыла точную дату, а вот Пьера помнила каждый свой день рождения, и эти дни всегда праздновались чрезвычайно шумно с тех пор, как ей стукнуло одиннадцать. Впрочем, какое значение имеет, исполнилось тебе девяносто пять или тебе все еще девяносто четыре? Тетушка вечно сидела в своем любимом кресле с прямой спинкой, одетая в черное платье с серой шалью на плечах, и частенько прямо в кресле дремала. Лицо ее было покрыто густой сетью сухих морщинок, начинавшихся в уголках губ и глаз. Нос, скулы, впалые щеки были словно замаскированы этой тонкой сетью. Зубов у Тетушки почти не осталось, губы запали, но глаза были такие же, как у ее внучатой племянницы: серые, прозрачные, ясные. Тетушка не спала и внимательно посмотрела на Пьеру, как бы вглядываясь в нее через ту пропасть в восемьдесят лет, что их разделяла.
— Скажи, Тетушка, тебе никогда не снилось, что ты можешь летать?
— Нет, милая.
Тетушка почти всегда почему-то отвечала «нет».
— А я сегодня прилегла днем, и мне привиделось, будто я свободно парю в воздухе, и для этого нужно было всего лишь знать, что ты это можешь! И стоит это понять, как ты просто отталкиваешься от стены одним пальцем, вот так, задерживаешь дыхание и как бы шагаешь в воздух. Представляешь? А если хочешь направление изменить, то снова от чего-нибудь отталкиваешься и летишь в другую сторону. Я совершенно уверена, что взлетала и спускалась вниз, ничего не касаясь… Хочешь, я тебе шерсть подержу?
Руки у Тетушки давно уже плохо слушались, ей было трудно вязать и вышивать, но по-прежнему нравилось держать в руках спицы и шерсть или пяльцы с иглой; порой она даже дремала над работой; но больше всего она любила сматывать шерсть или шелк в клубки. Пьере это занятие тоже очень нравилось. Она могла часами держать на растопыренных пальцах моток шерсти, глядя, как красная, синяя или зеленая нить мелькает в скрюченных, но все еще умелых пальцах Тетушки, превращаясь в очередной клубок.
— Не сейчас, детка.
— А чаю выпить не хочешь?
Тетушка не ответила; она успела задремать, да и время пить чай еще не пришло. Пьера выскользнула из комнаты и заглянула на кухню. Кухня в доме была огромная, с низкими потолками, сильно затененная росшими снаружи дубами. Усадьба Вальторса была построена в 1710 году; от озера дом отгораживали старые деревья, а фасадом он, как и большая часть здешних домов, был обращен к долине и холмам предгорий. Только старый Итале Сорде построил себе дом над самой водой, и это всеми считалось одним из его «заграничных» чудачеств. В кухне Пьера обнаружила только кухарку Марию, которая потрошила курицу. Девушка подошла поближе и стала смотреть.
— Что это такое, Мария?
— Это зоб, госпожа.
— Да в нем зерен полно!.. А это что?
— Яичко, госпожа, вы что ж, яиц никогда не видели?
— Видела, но не внутри курицы. Ой, посмотри, там еще есть!
— Ох уж этот Маати! Вот дурень старый! Я ж ему что велела? Поймать коричневую пеструшку с белыми пятнышками! А он моей лучшей кьяссафонтской несушке голову отрубил! Она, конечно, старая уже была, да только неслась еще очень прилично. Посмотрите-ка: вон там сколько яичек, прям как бусы… — Пьера вместе с толстухой-кухаркой заглянула в пахнувшие кровью куриные внутренности — любопытство Пьеры разожгло на мгновение интерес и в старой Марии.
— Но как они все туда попали?
— Как же, а петух-то на что? — пожала плечами Мария.
— Да, я знаю… петух… — вздохнула Пьера и наморщила носик от запаха крови. — А ты сегодня что-нибудь печь будешь, Мария?
— Это в четверг-то?
— Ах да, конечно… Значит, не будешь. Я просто так спросила… А Стасио где?
— В поле.
— Он целый день в поле! Господи, лучше, по-моему, умереть и отправиться прямо в рай! Хоть бы зима поскорее пришла! — Пьера покружилась по кухне, раздувая юбку колоколом, обследовала гигантский котел для супа, висевший у очага, и побрела прочь. Усадьба была безлюдна. Все работники были в поле — убирали сено с последнего покоса; Мария ничего интересного рассказать не могла, Тетушка спала, граф тоже, гувернантка взяла выходной. В доме было пусто и скучно, и в гости к Лауре она отправиться не могла: завтра Итале собирался уезжать в Красной — наверное, навсегда. Пьера заглянула в гостиную на первом этаже; шторы на окнах были опущены; на мраморном камине торчали такие же мраморные купидоны, как на лестнице; натертый пол отчужденно блестел, а мебель застыла, как мертвая. Пол показался ей очень холодным; ей даже захотелось лечь на него ничком, как она это делала в жаркие дни, когда была маленькой; но теперь, в длинной гранатовой юбке и вышитой блузке, она стала слишком взрослой, чтобы валяться посреди гостиной на животе, поэтому всего лишь села на широкий подоконник и принялась рассматривать в щель между ставнями пустой тенистый двор. Самое ужасное, думала она, что не с кем поговорить! И никто не может объяснить ей то, в чем ей самой не разобраться. Например, она совершенно не представляла, что ей делать со своей бьющей через край жизненной силой… Пьера сидела неподвижно, поджав под себя ноги и придерживая рукой край льняной занавески, но видела лишь тот же угол двора да холмы у подножья горы Синвийи. Печаль, печаль, печаль наполняла ее душу; глубокая, всеобъемлющая, но не слишком острая грусть, какая всегда возникает в конце такого жаркого лета.
В доме Сорде тоже стояла тишина, но здесь под пеленой летнего оцепенения ощущалось все же некое движение: кто-то входил, выходил, слышались чьи-то голоса. В комнате Итале было жарко и душно; он настежь распахнул окно, и туда вместе со струей свежего воздуха проник солнечный луч и широкой полосой нахально разлегся на полу. Итале на луч внимания не обратил. Одетый в легкую рубашку с короткими рукавами, он весь взмок; влажные волосы стояли надо лбом вихрами. Он разбирал свои бумаги: большую часть укладывал в жестяной сундучок, а некоторые оставлял в стороне, намереваясь взять с собой. Покончив с этим, он задвинул сундучок под стол и, облегченно вздохнув, распрямился. Легкий ветерок впервые нарушил великую полуденную тишь, полосами легкой ряби пробежал по застывшему озеру и утих не сразу; верхний листок в стопке бумаг на письменном столе сделал попытку улететь, и Итале прихлопнул его рукой, машинально прочитав несколько строк: «На сей раз ты не сон, Свобода!..» Это были его стихи, посвященные революции в Неаполе; он написал их прошлой зимой, и в «Амиктийе» все нашли, что они весьма недурны. Передохнув, Итале принялся запихивать отложенные бумаги в раскрытый чемодан, лежавший на кровати. Слова Метастазио, обращенные к его возлюбленной, которые распевали на улицах Неаполя люди, едва глотнувшие свободы, вновь зазвучали у него в ушах: «И это мне не снится… На сей раз это свобода! Non sogno questa volta, non sogno liberta!» — он никак не мог перестать прислушиваться к надоевшей, точно треск кузнечиков, мелодии. Ветерок снова стих. Солнечный свет по-прежнему лежал на полу широкой полосой и казался невыносимо ярким.
В дверь постучали; он отозвался, и тут же вошла Лаура.
Я принесла белье. Мама шьет тебе к завтрашнему дню рубашку.
— Хорошо. Спасибо.
— Тебе чем-нибудь помочь?
— Да нет, все уже уложено; остался только этот чемодан. — Он стал укладывать в чемодан чистые рубашки, стараясь чем-то занять себя в присутствии Лауры. Обоим было не по себе; и каждый прекрасно понимал, что сейчас чувствует другой.
— Дай-ка я. Ты совершенно неправильно их сложил.
— Пожалуйста. — Он предоставил Лауре возможность самой сложить рубашки.
— Пьера говорила, что у нее осталась какая-то твоя книга…
— А, Эстенскар… Ты потом его забери… Да и сама заодно почитай; тебе понравится. Только не пересылай мне книжку по почте, издание контрабандное. — Итале умолк и застыл, глядя в окно. — Сегодня, кажется, будет страшная гроза.
— Похоже. — Лаура встала рядом с братом, глядя, как на юго-западе, над горной вершиной, неторопливо собираются в пышную груду белоснежные облака.
— Ставлю десять против одного, что граф Орлант не успеет убрать свое сено с полей Арли! Каждый год, насколько я помню, он все пытается обогнать эти грозы…
— Надеюсь, гроза действительно будет сильная…
— Почему?
Никто, кроме Итале, не мог спросить это таким тоном и так улыбнуться, словно ответ ему известен заранее. И не существовало больше никого, с кем она могла бы поговорить на равных, с полным доверием. Были, конечно, родители, родственники, друзья, всех их она очень любила, но брат — только один!
— Мне бы тоже хотелось уехать! Так хотелось бы!
Он долго смотрел на нее, потом снова спросил:
— Почему? — но совсем иным тоном; в нем слышалась глубокая, осознанная и полная печали любовь.
— А почему ты сам уезжаешь?
— Я должен, Лаура.
— А я, значит, должна остаться…
Оба как бы не подвергали эти факты ни малейшему сомнению.
Среди всех женщин, таких желанных и так сильно его смущавших, даже пугавших, Лаура была только одна такая! Сестра.
— Пойдешь со мной в Эвальде, Лаура?
Пока он не уехал учиться в университет, они с Лаурой каждый год в день весеннего равноденствия на заре уплывали на тот берег озера, где в заливе Эвальде река, вырвавшись из горной пещеры, с высоты падает в озеро, а на берегу высится скала Отшельника, покрытая загадочными знаками. Граф Орлант считал, что эти знаки начертаны друидами; те же, кто сомневался в существовании друидов, утверждали, что знаками отмечено то место, где великий миссионер святой Италус читал проповеди языческим племенам Валь Малафрены. Во всяком случае, у брата и сестры Сорде эта скала пробуждала, надо сказать, вполне «языческие» чувства; и для них в годы отрочества новый год по-настоящему начинался лишь после их совместного молчаливого путешествия на рассвете к другому берегу озера и тайного празднования дня равноденствия на этой скале, в утреннем тумане, пронизанном солнцем.
— Конечно!
— На «Фальконе» пойдем?
Она кивнула.
— А ты мне писать будешь? — вдруг спросил он.
— Буду. Если и ты будешь писать мне настоящие письма. А не всякую чушь, как раньше. Ты ведь мне за все это время ни одного настоящего письма не написал!
— Ну, я же не мог написать, что нахожусь под домашним арестом… И вообще, все вдруг стало так сложно…
И он наконец рассказал Лауре всю историю целиком — о Мюллере, Халлере и Генце. Когда вошла мать, Лаура и Итале хохотали вовсю, им даже стало стыдно, что они так развеселились: они знали, как сильно печалится Элеонора из-за отъезда Итале. Лаура тут же поспешно ретировалась. Элеонора протянула Итале рубашку, собственноручно ею сшитую и тщательно выглаженную.
— Вот, надень ее завтра. — Слова совершенно не соответствовали ее чувствам, но она привыкла к подобным несоответствиям; вот и сейчас она погладила рубашку, а не сына, потому что не в силах была сказать то, что хотела, а еще потому, что эти слова все равно ничего изменить не могли. Но он еще не привык смиряться.
— Мама, дорогая, ты же понимаешь… — Он запнулся.
— Надеюсь, что да, милый. Я хочу только одного: чтобы ты был счастлив. — Она заглянула в его чемодан. — Ты наденешь синий сюртук?
— Как я могу быть счастлив, если отец…
— Ты не должен на него сердиться, дорогой.
— Я и не сержусь. Но если бы только он… — Итале снова запнулся, потом набрался смелости и договорил: — Если бы он хотя бы попытался понять, что я хочу поступить по справедливости!
Элеонора молчала. Когда же наконец заговорила, то голос ее звучал по-прежнему мягко:
— И все-таки ты не должен на него сердиться, Итале.
— Поверь, я стараюсь изо всех сил! — воскликнул он так страстно и серьезно, что мать улыбнулась. — Но ведь он не желает даже как следует объясниться со мной…
— Не уверена, что словами вообще можно что-либо объяснить, — промолвила Элеонора. — Вряд ли. — Она видела, что сын ей верит. Да, конечно, все так. И она тоже когда-то верила, что люди могут быть абсолютно честны по отношению друг к другу, и отнюдь не считала, что стала лучше или умнее, эту веру утратив. Вот сейчас, например, если она хочет быть абсолютно честной, то должна умолять сына остаться дома, не покидать ее, ведь если он уедет, то никогда уже домой не вернется!.. Однако она лишь повторила: — Ты наденешь синий сюртук? Утром в дилижансе может быть очень прохладно.
Итале с несчастным видом кивнул.
— Я хочу приготовить тебе кое-что в дорогу; Эва отложила отличный кусок ростбифа, — продолжала Элеонора. И тут же почувствовала при этих словах неколебимую реальность его отъезда — кусок холодного ростбифа, стук колес почтового дилижанса, пыль на дороге, по которой Итале увозят из дома, тишина столовой, где все они, Гвиде, Лаура и она сама, будут уже завтра сидеть без него, — и поспешила уйти, чтобы в одиночестве как-то справиться с невыносимой тоской.
Итале спустился в лодочный сарай на берегу; время у него еще было, и он решил получше укрепить рулевое весло. Косые солнечные лучи ярко освещали дорогу и зеленую лужайку на склоне, чуть выше лодочного сарая, но над горой Охотник облака уже превратились в тяжелые набухшие тучи, а затянувшая озеро дымка приобрела зеленоватый оттенок. Укрепив руль, Итале принялся вощить борта, чтобы хоть чем-то занять себя. В сарае стоял жаркий полумрак, пахло воском, отсыревшим деревом, водорослями. Сквозь щели в неструганых сосновых досках, которыми был крыт сарай, просачивались солнечные лучи, играя на воде. С дороги доносились голоса возвращавшихся домой. Кто-то затянул печальную песню:
Красны ягоды на ветке осенью.
Спи, любимая, крепко спи!
Серой горлицы пенье доносится,
Спи, пока не разбудят, спи…
Делать в сарае было больше нечего. Итале поднялся по заросшему травой склону и вышел на обсаженную тополями дорогу. Те косцы, что, видимо, убирали сено на северном поле, уже прошли; все, разумеется, было закончено вовремя — Гвиде редко позволял грозам застать его врасплох во время сенокоса. На дороге было пусто; потом показались старый Брон и Давид Анжеле; они возвращались с виноградников; с ними шла Марта, жена Астолфе. Мужчины, как всегда, были в темной рабочей одежде; они немного принаряжались лишь по праздникам — когда надевали белоснежные, ярко вышитые рубахи. Брон широко и неторопливо мерил землю своими длинными ногами, задумчивый, похожий на старого печального коня, еще сильного, но уже расходующего свои силы в соответствии с немалым возрастом — экономно и мудро. Молодой Давид Анжеле рядом с Броном выглядел каким-то незначительным. Рядом семенила Марта в темно-красной, цвета грацата, юбке и вышитой блузке, и каждые ее два шага приходились как раз на один шаг Брона. Лет десять назад двадцатилетняя Марта была настоящей красоткой. А теперь на щеках и в углах губ у нее пролегли морщинки, зубы потемнели, а кое-где и выпали, но улыбка была по-прежнему светлой.
— Никак вы снова уезжаете, дом Итаал! — спросила она юношу.
— Да, Марта, завтра.
Конечно же, все знали, что дом Гвиид и дом Итаал повздорили. Давид Анжеле лукаво глянул на Итале; Брон хранил молчание; но лишь одна Марта знала, как тактично продолжить опасный разговор:
— Только нынче вы ведь в королевскую столицу едете, дом Итаал, верно? Так мне Давид Анжеле сказал.
— Так дом Гвиид сказал молодому Кассу! — поспешно поправил ее Давид Анжеле, снимая с себя всяческую ответственность.
— Большой, должно быть, город! — продолжала Марта, явно не испытывая ни малейшего желания этот город повидать. — А народу там, говорят, что мух на сахаре!
— Только тебе, Марта, не стоило бы называть столицу «королевской», — заметил молодой виноградарь, лукаво покосившись на Итале. — Ты же знаешь, там теперь никакого короля нет!
— Зато там сидит эта заморская герцогиня! И нечего меня учить, парень. Как мне нравится называть столицу, так я ее и называю! Как встарь, как моя мать ее называла. А что, дядюшка, или я не права?
— Права, права, — сумрачно подтвердил старый Брон, не замедляя шага.
Итале спросил Марту, как поживают три ее маленькие дочки. Она в ответ рассмеялась и пояснила, что всегда смеется, когда о ее девочках спрашивают, ведь они ни разу ей повода заплакать не дали. С Броном Итале поговорил о видах на урожай винограда и о новых посадках орийской лозы. Итале всю жизнь считал себя учеником и верным последователем Брона в том, что касалось искусства виноградарства. Вскоре они вышли на Вдовью дорогу, и Марта сказала:
— Тут вам сворачивать, дом Итаал, так что желаю вам доброго пути! Храни вас Господь! — И она, постаревшая, пополневшая, беззубая, улыбнулась ему прежней, молодой и светлой улыбкой.
Особенно тепло Итале пожал руку Давиду Анжеле — ему было неловко: он почему-то испытывал к этому молодому крестьянину неприязнь. Наконец он снова повернулся к Брону:
— Когда я вернусь, Брон…
— Да, конечно, вернетесь! — Глаза их встретились. Итале показалось — а может, он просто очень хотел, чтобы это было так? — что старик все понимает без слов и знает о нем, Итале, куда больше, чем он сам. Просто Брон не испытывал потребности говорить о таких вещах вслух. Быстро простившись со старым виноградарем, Итале поспешил домой, ужинать.
Ужинали рано — завтра нужно было рано вставать — и за ужином засиживаться не стали. Когда появилась Эва и стала, шаркая домашними туфлями, убирать тарелки с синей каймой, все вздохнули с облегчением. Однако у Эвы лицо было таким же мрачным, как и у всех в доме.
После ужина Гвиде ушел на конюшню, а женщины уселись с шитьем в гостиной. Итале стоял у стеклянной двери, выходившей на просторный балкон, и смотрел на озеро. Над Малафреной разливался какой-то странный свет; вода казалась почти черной, а длинный, поросший лесом гребень горы над Эвальде — необычайно светлым на фоне помрачневшего неба. Теперь с юго-запада дул сильный ветер, покрывая воду на озере перекрещивающимися полосами ряби. Вокруг быстро сгущались сумерки, надвигалась гроза. Итале обернулся и посмотрел на мать и сестру. Когда он уедет, они все так же будут сидеть здесь, опустив глаза к работе, истинные хранительницы очага… Мать, почувствовав его взгляд, на минутку оторвалась от шитья и посмотрела на него — как всегда, чуть грустно и ласково. Потом сказала:
— Посмотри-ка, по-моему, получится очень мило. — Она встряхнула в воздухе что-то белое, непонятное. — Ее первое бальное платье…
— Да, очень мило, — согласился он. — Знаешь, я, пожалуй, схожу к Вальторскарам — попрощаться. Граф, наверное, уже дома.
— Что ты, гроза вот-вот начнется! Ты на небо посмотри!
— Ничего, я быстро! Им ничего передать не нужно?
Прыгая через три ступеньки — с двенадцати лет он всегда только так взлетал на эту лестницу, подумал он вдруг, — Итале сбегал к себе и стал поспешно рыться в ящике с книгами. Наконец он вытащил оттуда небольшой томик в белом кожаном переплете, уже довольно потрепанном. Это был перевод «Новой жизни» Данте, купленный им в Соларии. Итале присел с книгой за письменный стол, написал на форзаце несколько слов, поставил под ними свою подпись, число, сунул книгу в карман и вышел из комнаты.
Вокруг царили безлюдье и тишина, слышен был только шорох его шагов по тропинке. Кузнечики и птицы умолкли. Ветер улегся. Небо совсем потемнело, только над Сан-Дживан узкой зеленоватой полоской поблескивал последний отсвет дня. Когда Итале спустил лодку на воду и поплыл на запад вдоль берега, кругом стояла такая тишь, что за почти неслышным дыханием озера чудилась далекая музыка — шум водопада в Эвальде. Вдруг донесся глухой раскат грома и послышался шепот дождя на склонах гор по ту сторону озера. Дождь, как всегда, приближался широкой полосой. Парус сразу обвис. Сумерки в одно мгновение сменились густой тьмой; шум дождя нарастал, и вот ливень вовсю замолотил по голове и по плечам. Гроза бушевала прямо над головой; огромными светящимися деревьями вырастали молнии, гремел гром, двойным эхом отдаваясь от поверхности озера, хлестал дождь, намокший парус теперь рвался из рук — лодка сама неслась к берегу, и Итале уже не смог бы повернуть ее назад. «Фальконе» швыряло и накреняло так, что парус то и дело касался воды. С огромным трудом Итале все-таки удалось спустить парус и вытащить весла. Одежда липла к телу, руки закоченели; после борьбы с парусом он так устал и замерз, что весла едва не ронял, но греб прямо навстречу буре, точно желая пройти сквозь нее, раз уж ему не дано было ее обуздать и воспользоваться ее силой. Он чувствовал себя побежденным, но все же невероятно счастливым.
На мраморной лестнице Вальторсы он снял шляпу, стряхнул с нее воду, перевел дыхание и постучался. Старый слуга открыл дверь и в изумлении уставился на него.
— Вы упали в воду, дом Итаал? — спросил он наконец. — Входите же! Входите!
Из гостиной донесся могучий бас графа Орланта:
— Эй, кто там? Это ты, Роденне? Какого черта тебя понесло в такую бурю? — Граф вышел в вестибюль и увидел Итале, с которого ручьями лила вода. Войти в гостиную он отказался наотрез, заявив, что ему нужно поскорее возвращаться домой. Граф Орлант от всего сердца пожелал ему удачи и распрощался с ним, горячо сжимая его мокрую руку. В другой руке Итале сжимал «Новую жизнь». Он уже повернулся, чтобы уйти, но тут появилась Пьера.
— Уже уходишь? — удивленно спросила она. Лицо ее показалось ему удивительно светлым. Старый слуга поспешил уйти. Пьера подошла ближе; за порогом, на котором стоял Итале, бушевала гроза.
— Хочу подарить тебе эту книгу. — Он протянул ей Данте. — Хотелось хоть что-то оставить тебе на память.
Она машинально взяла книгу, не сводя глаз с Итале.
— Ты на «Фальконе» приплыл?
— Да. И чуть не перевернулся! — Итале смущенно улыбнулся.
В приоткрытую дверь ворвался ветер, и Пьера обеими руками прижала колоколом вздувшуюся юбку.
— А теперь, Пьера, давай попрощаемся.
— И ты никогда не вернешься?
— Вернусь.
Она протянула ему руку, он ее пожал, и глаза их встретились. Пьера улыбнулась.
— До свидания, Итале.
— До свидания.
Пьера долго еще стояла на пороге у открытой двери, глядя на струи дождя и вспыхивавшую молниями тьму, пока ее не прогнал старый Николо, который тут же с ворчанием захлопнул дверь:
— Вы только посмотрите, госпожа, какой дождь! Конца ему нет! Ей-богу, только сумасшедший мог пуститься по озеру на лодке в такую грозу!
Пьера прошла через вестибюль, заглянула в гостиную, где уютно устроились отец и тетушка — она с пряжей, он со своими астрономическими таблицами, — и скользнула по лестнице наверх. У нее в комнате шторы скрывали ночной мрак и бушевавшую за окнами грозу, золотистым чистым светом горели свечи, но в ушах все еще звучал шум дождевых струй и голос Итале. Господи, он же промок насквозь! И рука у него была такой холодной. Но такой сильной! А действительно ли он приезжал? Пьера вздрогнула. Маленький томик, который она сжимала в руке, тоже был холодным и чуть сыроватым.
Она прочитала название: «Новая жизнь». Перевернула несколько страниц и успела понять, что стиль старинный, заметила строку: «Так о любви он сладко говорил, сопротивляться я была не в силах…», и книга сама собой открылась на форзаце, где было что-то написано. Она подняла книгу повыше, поближе к свече, и прочла: «Здесь начинается новая жизнь. Пьере Вальторскар от Итале Сорде, 5 августа 1825 г.».
Пьера так и застыла, глядя на эти четко выписанные черными чернилами слова. Заглавная буква С в фамилии чуть расплылась — то ли Итале, написав ее, чересчур поспешно захлопнул книгу, то ли от дождя. Девушка улыбнулась, точно видя перед собой его лицо, и, наклонившись, поцеловала дорогое ей имя.
Часть II. Изгнанники
Глава 6
Горы остались далеко позади, за холмистыми равнинами и полноводными реками юго-запада. Позади остались и долгие, то сумрачные, то солнечные, дни путешествия. Почтовый дилижанс полз по провинции Мользен; по обе стороны от дороги раскинулись пустоши, тускло золотившиеся под серо-голубым августовским небом.
— До Фонтанасфарая еще километров восемь, — сообщил смазливый щеголеватый кучер. — Великая герцогиня каждый год в августе туда на воды ездит.
— А до столицы сколько? — спросил у него молодой провинциал, ехавший на крыше кареты.
— Километров двадцать. Да половину пути на тормозах спускаться будем. Так что Западные ворота, скорее всего, только к вечеру и увидим.
Лошади, серые тяжеловозы с лоснящимися боками, тащили карету без видимых усилий, неторопливо, один за другим оставляя позади верстовые столбы. Итале надвинул на глаза шляпу, чтобы не слепило теплое утреннее солнце, и задремал. Высокая карета мерно поскрипывала и покачивалась.
— Деревня Кольпера, — объявил кучер. Кольпера являла собой несколько домишек, притулившихся у дороги на склоне высокого холма.
— Тут, похоже, овец разводят, — заметил Итале.
— Господи, мне-то откуда знать? — с подчеркнутым равнодушием отвечал кучер. — Я ведь человек городской. — Он всем своим видом давал понять, что какие-то там овцы ему совершенно неинтересны. Итале, смутившись, сел поудобнее, вытянул ноги и стал пристально всматриваться в дальние пустынные склоны холмов, где, как ему показалось, точно белые тени облаков на рыжевато-коричневом фоне, виднелись отары овец.
В Фонтанасфарае царила прохлада; это был богатый город, расположенный довольно высоко в предгорьях. Те пассажиры, что ехали внутри дилижанса, отправились завтракать в придорожный ресторан; а Итале, наотрез отказавшийся хотя бы взаймы взять денег у дяди, а из дому прихвативший всего двадцать крунеров, да и то при условии, что долг этот непременно вскоре вернет, купил в булочной пирожок и съел его в парке под тенистым вязом, разглядывая щегольские повозки, проезжавшие по улице Гульхельма. Заглушить голод так и не удалось. Вдруг сквозь ажурную листву он заметил изящный заграничный фаэтон, запряженный парой гнедых. В фаэтоне виднелся белый зонтик, из-под которого выглянуло на миг длинное лицо, которому отвислые губы и усталые глаза придавали весьма брюзгливое выражение; лицо это показалось Итале настолько знакомым, что он чуть не поздоровался с проезжавшей мимо дамой, точно с какой-нибудь далекой родственницей… Белый зонтик вскоре превратился в крошечное пятнышко среди уличной пестроты, и Итале встал, смахнув с жилета крошки. «Ну-ну, значит, это и есть великая герцогиня», — догадался он, и ему отчего-то стало грустно; он вдруг почувствовал себя маленьким и ничтожным.
Кучер сменил лошадей, и дилижанс снова тронулся в путь, взяв нескольких новых пассажиров. Одного из них Итале приметил еще на улице Гульхельма: он раскланялся с великой герцогиней, как со своей старой знакомой. Это был молодой человек, чрезвычайно элегантно одетый, с бледным, красивым, но несколько тяжеловатым лицом. Он тоже предпочел ехать на крыше кареты и вскоре сам затеял с Итале разговор, держась при этом так просто и дружелюбно, что наш провинциал вскоре позабыл о своей личине «загадочного и умудренного опытом» путешественника и с удовольствием принялся болтать с попутчиком, хотя все еще немного дичился и больше слушал, чем говорил. Это, впрочем, явно нравилось его собеседнику, речи которого его прежние знакомые, кстати сказать, обычно не очень-то жаловали. Испытывая взаимное расположение, молодые люди, естественно, представились друг другу: Сорде, Палюдескар. Некоторое время они ехали молча, и каждый про себя расценивал происхождение и знатность нового знакомца. Итале пытался вспомнить, насколько знатен аристократический род Палюдескаров; а тот в свою очередь думал, что этот юный коммонер из далекой провинции кажется человеком вполне воспитанным и приличным, хотя шляпа у него и имеет такой вид, словно он ею рыбу ловил. Особенно Палюдескару нравилось то, что этот провинциал не скрывает своей неосведомленности и слушает его разглагольствования развесив уши, а потому наверняка никогда и не сможет вывести его на чистую воду. Итак, один с удовольствием говорил, а второй с удовольствием слушал, и оба были благодарны друг другу.
В пять часов карета взобралась на вершину холма, и Итале наконец увидел обширную долину, далекую цепочку гор на востоке и светлую полосу реки Мользен, в излучине которой, окутанный дымкой и освещенный низким закатным солнцем, лежал Красной. От пригородов столицы их теперь отделяло всего несколько километров. Бледные холмы, оставшиеся позади, были окутаны тишиной; бледное небо над головой вздымалось невесомым куполом. А столица впереди, в своей просторной долине, согретой лучами солнца, будто спала, прекрасная и невыразимо спокойная. Палюдескар улыбнулся и с видом собственника глянул на побледневшего Итале, напряженно всматривавшегося куда-то в даль.
— Это ведь Рукх? — спросил Итале, указывая на массивное здание, видневшееся в голубоватой дымке и будто нависавшее над юго-западной частью города.
— Точно. А вон Синалья — на границе того зеленого пятна, видишь? Это парк Элейнапраде.
Дворец Синалья был основной резиденцией правящих ныне великих герцогов; короли же Орсинии жили прежде во дворце Рукх.
— А это, должно быть, кафедральный собор… — сказал Итале, и голос его сорвался, так прекрасны были золотистые шпили, вздымавшиеся над тенистыми улицами столицы и являвшие собой как бы средоточие времен и событий.
— Да, это наш собор, — подтвердил Палюдескар, — а южнее Речной квартал, там из порядочных людей почти никто не живет; зато в Старом квартале — он к северу от собора — таких больше всего. Похоже, и мой дом отсюда виден… Нет, не уверен. А вон здание Оперы — купол над рекой, видишь? — Но вскоре карета спустилась с холма, оказавшись в узком ущелье, и великолепный вид скрылся из глаз.
Когда столица вновь явилась взору путешественников, она была гораздо ближе, и разобраться в сплетении улиц оказалось сложнее. Но дорога продолжала петлять по холмам, и в последний раз они увидели Красной целиком, когда долину уже начинали окутывать сумерки, а восточные холмы почти утонули во мгле. Впереди сквозь серую пелену мерцали первые огни ночного города. В Колоннармане они поменяли лошадей, поужинали и в сгустившихся сумерках снова тронулись в путь. Вечер был теплый, карета легко катилась по гладкой дороге; впереди, в туманной дымке все ярче светилось зарево городских огней. Возбужденные теплым вечером, легким ветерком и приближением столицы, ждавшей их впереди, молодые люди разговорились со всей откровенностью.
— Самое важное, — внушал Палюдескару Итале, — это сила, заключенная в тебе самом и принадлежащая только тебе. Именно благодаря этой внутренней силе и становишься настоящим мужчиной. И, почувствовав ее в себе — эту силу, волю, потребность, называй, как хочешь, — ты должен ей подчиниться и пойти тем путем, которым она влечет тебя…
— А если не сможешь найти этот путь?
— Найдешь, если захочешь!
— Но сколькие действительно хотят этого?
— Найти свою судьбу? Быть самим собой? По-моему, этого хочет каждый!
— И все же для этого нужно потрудиться.
— Разумеется! Верно и то, что многие даже и не пытаются искать свой путь. Живут, не думая, делают, что придется, или подчиняются чужим приказам и желаниям, а в итоге совершенно запутываются в этой бессмыслице… становятся рабами собственных безумств или непредвиденных обстоятельств. — Итале с презрением отмахнулся. — И почему только люди не делают то, что должны делать, что им делать необходимо?!
— Так ведь проще — не делать ничего!
— Господи, как глупо! Даже если десять лет просидеть в кресле, не делая ничего, годы-то все равно пройдут — только мимо. Может, лучше встать, прогуляться по окрестностям, отправиться путешествовать? В детстве я всегда завидовал взрослым: мне казалось, что все они вечно куда-то собираются ехать, уезжают в дальние края. Это теперь я понял, что они, по большей части, не только никуда не едут, но и домой добраться не в состоянии, точно навеки заблудились среди бесконечных пиршеств, снов, пустых разговоров, праздных визитов и прочей бессмыслицы — разумеется, я говорю не о бедняках, а о тех, кто волен поступать так, как ему нравится. Такие-то чаще всего и растрачивают себя попусту из-за простой беспечности!
— Да, зря человечеству подарили цивилизацию, — подытожил Палюдескар. — Я бы, например, отдал ее пчелам. Вот уж умные и предприимчивые бестии!
— Не знаю, был ли столь уж напрасен этот дар… Только слишком многие люди, похоже, растрачивают его понапрасну.
— Мне всегда хотелось иметь возможность внести в развитие цивилизации и свою лепту, — сказал Палюдескар. — Но, кажется, я так и не смог этого сделать по-настоящему.
— Ничего подобного! — возразил Итале, но Палюдескар продолжал с той же непосредственностью:
— Нет, я знаю. Мне это не дается. Понимаешь, я ведь не религиозен, ничего такого… но в ноябре мне стукнет двадцать пять… и я бы хотел… надеяться, что могу все-таки совершить что-нибудь стоящее… Прежде, чем наступит конец.
— Именно так! — с жаром подхватил Итале.
— Может, переночуешь у меня? Мне бы хотелось еще поговорить с тобой. — Палюдескар предлагал от всей души, и Итале согласился. Они уже ехали по пригородам Красноя и через десять минут миновали Западные ворота. Карета остановилась на улице Тийпонтий у дверей огромного темного здания гостиницы; пассажиры, ошалевшие от долгого пути, с трудом разминали затекшие, онемевшие конечности и выбирались наружу, сразу окунаясь в блеск огней и шум большого города: ржали запряженные в экипажи лошади, стучали подковы по мостовой, слышались громкие голоса людей, тучи ночных бабочек слетались на свет уличных фонарей; возле гостиницы в воздухе висел запах кожаной упряжи, конского пота и не остывшего еще камня городских стен.
Молодые люди взяли извозчика, уселись, и каждый в душе тут же пожалел о сделанном и принятом предложении. Обоим, пока они ехали на крыше почтовой кареты, казалось вполне естественным продолжить начатый разговор за ужином, но теперь спор о человеческой судьбе и роли цивилизации затих сам собой; каждый смотрел в свое окно. Наконец извозчик остановился перед красивым домом, фасад которого выходил на широкую тихую улицу. Поднимаясь следом за Палюдескаром на крыльцо, Итале услышал над темными крышами и улицами удары могучего колокола — глубокий, проникновенный голос времени в беспокойной суете ночного города.
В доме Итале препоручили заботам слуги, который повел его сперва наверх по великолепной лестнице, а затем по длинному коридору в комнату, где ему сразу бросились в глаза огромная кровать под роскошным балдахином, отделанный мрамором камин и турецкий ковер на полу. Темно-красные шторы на окнах были задернуты; на стене висела огромная картина: дивной красоты жеребец с широким крупом, изящной маленькой головкой и тонкими бабками. Не успел удалиться первый слуга, как появился второй; он принес чемодан Итале.
— Благодарю вас, — от души поблагодарил его Итале; он был рад увидеть хоть что-то знакомое в этом мире не — знакомых вещей и уцепился за чемодан, как за спасительный якорь, однако все его попытки самостоятельно распаковать багаж были вежливо и умело пресечены. Потерпев первое поражение, Итале более не рассчитывал, что ему удастся побыстрее выпроводить этого слугу, который оказался весьма словоохотливым французом средних лет. Ловко распаковывая чемодан, он сообщил, что зовут его Робер, что он личный камердинер господина барона, что Итале необходимо сменить сюртук, а также — что весьма желательно! — сорочку, что настоящие господа переодеваются только с помощью слуг, что ему, Роберу, совершенно ясно: перед ним молодой, бедный провинциал, у которого нет с собой практически никаких предметов туалета, кроме щетки для волос, однако же он, Робер, отнюдь молодого господина за это не винит. Все это он умудрился выразить лишь отчасти словами, а в основном —
не поддающимися описанию жестами и гримасами.
— Может быть, месье мне позволит? — спросил он, кружа у Итале за спиной в зеркале, и мгновенно, совершив пять гипнотических пассов руками, превратил галстук Итале в образец строгой симметричности. — Это самый лучший узел, но не каждому можно его носить: для такого узла требуется продолговатое лицо, — заявил он, настолько искренне любуясь результатами своего труда, что Итале совсем перестал на него обижаться и, ничуть не сопротивляясь, позволил одеть себя до конца.
Но вниз ему пришлось идти одному.
Оказалось, что в просторной, ярко освещенной гостиной полно народу — мужчины в светлых сюртуках, женщины в светлых вечерних туалетах, — и только Палюдескара нигде не было видно. Высокая светловолосая женщина мельком глянула в сторону Итале и слегка нахмурилась. Итале не решался двинуться дальше, но и назад повернуть не осмеливался, так что застыл в дверях, точно вдруг окаменев. Рядом с ним группа людей, дослушав какую-то историю, разразилась хохотом; он тоже невольно улыбнулся и лишь потом сообразил, что улыбается неизвестно чему, и тут же заметил, что к нему приближается та самая высокая светловолосая женщина в сиреневом платье. Ну да, она и есть! И идет прямо к нему! Итале отвернулся и начал потихоньку отступать в коридор.
— Господин Сорде?
Пришлось вежливо поклониться.
— Я Луиза Палюдескар.
Он поклонился еще раз.
Она смотрела на него холодно, с сомнением; потом, видимо решившись, повела представлять своей матери.
Луиза Палюдескар была молода, красива и очень похожа на своего брата. А старая баронесса, сидевшая вместе с двумя другими пожилыми дамами возле инкрустированного золотом рояля «Эрард», казалась чем-то раздраженной; вид у нее был болезненный и кислый. Она вежливо поздоровалась с Итале, но больше ей явно нечего было ему сказать, и Луиза повела его в другую комнату, где он, к своей великой радости, обнаружил наконец Палюдескара. Тот пожирал холодного цыпленка, запивая его шампанским, и тут же предложил Итале к нему присоединиться. Есть Итале действительно хотелось, и, несколько насытившись, он сумел даже отчасти стряхнуть с себя овладевшее им оцепенение и немного приглядеться к гостям. Выяснилось, например, что никто здесь не носит таких штанов, какие были на нем, и что ему чрезвычайно трудно участвовать в общем разговоре, поскольку все эти люди говорят очень быстро и без конца перескакивают с одной темы на другую. В общем, суетятся, как кролики.
— Вы надолго в Красной, господин Сорде? — спросил один из них; этого человека ему только что представили, но он тотчас же забыл его имя. Однако ответить он не успел: кто-то из стоявших рядом с ним молодых мужчин, перехватив инициативу и поклонившись Итале, заговорил сам:
— Сейчас повсюду такая скука! У меня ощущение, будто наша цивилизация погибла, а жалкие ее остатки сосредоточены в этой гостиной. И, к сожалению, оперный театр откроет сезон не раньше ноября!
— Я очень надеюсь туда попасть, — сказал Итале и даже вздохнул с облегчением, ибо сумел наконец выговорить нечто более-менее вразумительное.
— Вы увлекаетесь музыкой? — тут же спросил тот, первый. (Кажется, его фамилия Хаческар или Гаррескар? — пытался вспомнить Итале.) — У нас, как вы понимаете, не Париж, а старый Монтини еще в прошлом сезоне утратил свое верхнее «ля», однако и наша опера пока неплоха.
— Например, Паолина, — выдавил из себя Итале. Паолина была местной «дивой»; хвалебные отзывы о ней он слышал в Соларии.
— Вот именно! — подхватил Геллескар. (Итале вспомнил наконец его имя, но кто он — барон? граф? князь?) — А вы ее уже слышали, господин Сорде? Неужели вы из-за нее сюда приехали?
Итале молча смотрел на него, не зная, что ответить. Не говорить же: «Нет, я приехал сюда, чтобы свергнуть правительство!»? В конце концов он обошелся кратким «нет».
Геллескар улыбнулся. Красивое, тонкое лицо его, как и у Палюдескара, было, пожалуй, бледновато, но в стройном теле явно чувствовалась сила.
— Простите, я вечно ко всем пристаю с разговорами о музыке, — извинился он. Итале были приятны и его тон, и эта доброжелательная вежливость, но он не сумел ответить должным образом. — Луиза, — спросил чуть позже Геллескар, — а кто он, собственно, такой, этот новый приятель твоего брата?
— Понятия не имею, Георг.
— Он что, тоже литературой увлекается? — продолжал задавать свои вопросы Геллескар, будто не слыша ее, но Луиза Палюдескар лишь молча пожала плечами. — Вполне, вполне возможно… Ему бы, например, очень пошло писать эпические поэмы… Нет! Я догадался! Он намерен издавать подпольный журнал, где будет полно цитат из Шиллера.
— Но, дорогой, я действительно совсем ничего о нем не знаю!
— Твой брат что же, просто его в почтовой карете подобрал? Как забытую шляпу? А что, если он шпион Генца? Или воришка? Кстати, ваше столовое серебро на месте? Вот уж не думал, что Энрике так неразборчив в знакомствах! С другой стороны, ни один шпион не сумел бы так умело завязать галстук; во всяком случае, австрийский шпион. Скорее все-таки у него на уме Шиллер!
— Ну так познакомь его с Амадеем.
— А он здесь? Кстати, как у него дела?
— Несчастен, как всегда. Не понимаю, почему он до сих пор не бросил эту женщину! Ага, вот и твой новый знакомец! Пожалуйста, пойди и представь его Амадею, Георг. Господин Сорде!
Итале, удивленный, оглянулся и, встретившись глазами с Луизой Палюдескар, страшно смутился. Она, казалось, тоже на мгновение растерялась, но почти сразу взяла себя в руки, и лицо ее вновь стало надменным, почти сердитым.
— Граф Геллескар только что сделал вывод о том, что вы, должно быть, увлекаетесь литературой, — сказала она.
Геллескар тут же вмешался:
— Предоставим банкирам делать выводы из собственных спекуляций, дорогая; я же высказал лишь свои предположения, не больше. Есть у меня такая дурная привычка — пытаться отгадать, чем мог бы заниматься тот или иной человек, и лишь потом спрашивать его самого. И вот, согласно моим фантазиям, вам бы следовало заняться издательской деятельностью. Итак, господин Сорде, опровергайте мои «обвинения»!
— А разве это обвинения? — простодушно удивился Итале.
Геллескар рассмеялся.
— Ну, по этому поводу нам придется посоветоваться с Эстенскаром. Пусть он нам скажет, являются ли литературные занятия преступлением, заблуждением или же просто несчастьем. А изда…
— С Эстенскаром? С Амадеем Эстенскаром?
— Ну вот вы себя и выдали, господин Сорде! — улыбнулся Геллескар. — Между прочим, он здесь. Хотите, я вас ему представлю?
— Но он не… то есть у меня нет… я не…
— Пойдемте, — сказал Геллескар, и Итале покорно последовал за ним, однако посреди гостиной вдруг остановился: внутренний протест против столь бесцеремонного и самоуверенного поведения графа как бы обрел наконец словесную форму.
— Знаете, граф, — храбро начал он, — я не смею попусту тревожить господина Эстенскара и…
— Похоже, вы ставите его значительно выше всех прочих? — Геллескар насмешливо улыбнулся. — А впрочем, это совершенно справедливо. Да ну же, идемте! — И он решительно потащил Итале за собой. — Амадей, разумеется, как всегда, прячется в своем любимом «мавзолее» — не пугайтесь, я имею в виду библиотеку. Она здесь так велика, что напоминает некие восстановленные и заново отделанные катакомбы. Ну да, вот и он! — И Геллескар подвел Итале к худощавому, жилистому человеку с рыжими волосами и очень белой кожей; Эстенскар, забившись в угол за книжным шкафом, стоя читал Гердера.
[14] Граф представил их друг другу и сказал: — Вот тебе, Амадей, и еще один беглец из твоей родной провинции.
Эстенскар стал знаменитостью сразу после публикации «Ливней Кареша»; тогда ему было всего девятнадцать. «Оды» и последовавший за ними роман подтвердили его репутацию, и в двадцать четыре года на него обрушилась слава самого известного писателя страны; его страстно ругали и не менее страстно хвалили; он считался истинным вестником бури, при одном лишь приближении которого все вокруг сразу меняется.
— Очень рад, — сухо бросил он, пожимая Итале руку. Последовало длительное молчание. — Вы что же, мой земляк?
— Я из Монтайны.
— Ах вот как.
— Чем это ты так увлекся, Амадей? — спросил граф. — Ах, Гердером! По-моему, твоя любимая немецкая поэзия — это настоящее гигантское болото!
Эстенскар молча пожал плечами. Итале смотрел на него с трепетом и восторгом; ему тут же страшно захотелось перечитать всего Гердера. Однако Геллескар продолжал вести светскую беседу, задавая дурацкие вопросы, на которые Эстенскар старался отвечать как можно короче, так что разговор интереснее не становился. Еще бы, думал Итале. С какой, собственно, стати гению открывать свои мысли такому легкомысленному болтуну, как граф Геллескар! Манеры гения, правда, оставляли желать лучшего, но это потому, оправдывал его Итале, что он значительно выше всех этих людей, умнее их, а они только и умеют, что сплетничать. С момента своего появления в гостиной Итале уже успел услышать не менее дюжины самых различных сплетен — и, кстати сказать, вскоре и сам Эстенскар, вовлеченный все же в один из подобных разговоров, явно наслаждался, рассказывая какую-то байку.
— Короче говоря, за один год, даже проведенный в Париже, такой осел никогда к цивилизации не приобщится! — закончил он свое повествование и засмеялся каким-то ненатуральным визгливым смехом.
Геллескар тоже засмеялся и сказал:
— Зря, видно, людям была дарована цивилизация!
Итале, уже слышавший эти слова, тщетно попытался подавить зевоту, поднял глаза и увидел, что Эстенскар холодно смотрит прямо на него.
— Амадей, а ты слышал о новом литературном журнале Аданскара? — спросил Геллескар. — Говорят, там публикуются исключительно аристократы.
Эстенскар снова засмеялся пронзительно и громко.
— Ну и что?
— Причем все дело в названии журнала! Аданскар недавно обсуждал его со мной. Предлагались: «Пегас», «Аврора», все девять муз — я, правда, не в состоянии их перечислить, — еще какие-то греческие имена. Но все это казалось ему слишком примитивным. Потом он предложил французское название: «Revue du haut monde». Ага, сказал я, тогда уж назовите его «Revue des deux mondes».
[15] Нет, нет, с этим он тоже был не согласен, это тоже было слишком примитивно. И тут, прямо у меня на глазах, его осенило божественное откровение, и он изрек: «Я назову его «Журнал аристократов и гениев»!»
— Господи, какой дурак!
— Так и назовет, можешь не сомневаться. И тебе придется участвовать.
— Я, пожалуй, поучаствую, но так, чтобы цензоры потом лишили Аданскара лицензии на издание.
— Сам-то журнал, в сущности, не так уж плох, — сказал Геллескар чуть более серьезным тоном. Эстенскар в ответ опять лишь пожал плечами. — А ты сам-то, между прочим, получил разрешение на публикацию своей новой книги?
И снова Эстенскар промолчал. Потом, резким движением сунув томик Гердера на полку, отвернулся, поизучал собственные ногти, снова повернулся к Геллескару и визгливо воскликнул:
— Я уже полтора месяца бьюсь, чтобы получить это паршивое разрешение! Они требуют, чтобы я внес поправки, и заявляют, что одна из поэм вообще опубликована быть не может. Но почему? С какой стати? Это стихи о том, как нужно слушать музыку. Что в них такого политического, черт возьми? Неужели сочетание музыки и стихов сразу наводит их на мысли о «Марсельезе»? «Нет, господин Эстенскар, — говорят они мне, — вы просто не понимаете… — Это я-то не понимаю того, что сам написал! — Недопустимой является вовсе не тема данного стихотворения, а его метрика». Метрика! Метрика! Господь всемогущий, какой радикализм они сумели отыскать в четырехстопном ямбе? Ты не знаешь, а? Не можешь мне объяснить, что они имели в виду? Оказывается, я использовал НАРОДНУЮ метрику, песенную, а это опасно и совершенно недопустимо для оды! Вот они мою оду «К юным соотечественникам» и сочли неприемлемой! А она действительно, черт побери, написана четырехстопным ямбом! И действительно напоминает народные песни. Разве можно давать ее читать приличным людям? В общем, это стихотворение напечатано быть не может, а стало быть, книга не получит разрешения на публикацию, пока стихотворение входит в ее состав. И один добрый малый из Управления, цензор Гойне, который не может правильно написать слово «рекомендую», берет на себя труд учить меня, как следует писать стихи! От меня требуется немного: всего-то прибавить одно-два слова к каждой строке. Он даже показал мне, как это делается, — действительно, ничего сложного. Раньше они просто запрещали то, что я писал, но теперь они еще и переучивают меня! А то и переписывают!
Глаза у Эстенскара стали совершенно круглыми и светились на его белом лице желтоватым огнем. Итале вспомнились вдруг молодые соколы, которых он приручал; их яростное сопротивление можно было сломить, лишь доведя птиц до полного изнеможения; но даже будучи побежденными, они продолжали гневно кричать своими пронзительными страшными голосами, так до конца и не сломленные, не ставшие ручными.
— Ты ведь уже лет шесть терпишь этот кошмар, — сказал Геллескар. — И как только у тебя мужества хватает!
— Да не осталось у меня никакого мужества! Вот сдам книгу в печать, и все, уезжаю домой. Бороться за то, чтобы ее еще и продавали, сил нет. Все равно открыто продавать не будут. Я намерен только убедиться, что в текст не внесено никаких изменений, и выкинуть оттуда все «улучшения», сделанные Гойне. Не знаю, чего уж я так об этом пекусь? Какая, в сущности, разница?
— Огромная, господин Эстенскар! — вырвалось у Итале, и он заговорил, заикаясь: — Ведь ваша книга, конечно же, будет напечатана в какой-нибудь подпольной типографии целиком… Я, собственно, никогда не видел иных изданий ваших книг — только подпольные…
— Победа без выгоды, — суховато заметил поэт.
— Но любому человеку, даже гению, в этой борьбе без поддержки одержать победу невозможно! Вот если бы у вас, у таких, как вы, были настоящие соратники… возможность всегда что-то публиковать, свой литературный журнал, способный противостоять Управлению по цензуре, отстаивать каждое слово автора, выступать единым фронтом… Ведь если Генеральные штаты будут все же созваны, одним из главных вопросов станет вопрос о цензуре…
— Я вижу, вы действительно успели провести в Красное не более двух часов, — сказал Эстенскар, поворачиваясь наконец спиной к книжному шкафу, по полкам которого он до сих пор шарил внимательным взглядом, словно ища нечто совершенно ему необходимое. — Соратники?… Литераторы, как правило, смертельно боятся тюрем… Что же касается помощи политиков, то, мне кажется, вы просто шутите, если хотите сказать…
Итале так и застыл; а Геллескар заметил все тем же легкомысленным тоном:
— Ну почему же, Амадей? Если ассамблея все же начнет свои заседания, то в городе появятся и новые люди.
— Ты сегодня настроен весьма оптимистично, Георг.
— А я вообще по натуре оптимист. Просто стараюсь не слишком это показывать — насмешек боюсь. Ведь насмехаются же над твоей одой «К юным соотечественникам».
— И правильно делают! Это самое глупое стихотворение, какое я когда-либо написал, хотя, полагаю, господин Сорде со мной не согласен.
Возможно, это было всего лишь приглашение к спору, но Итале воспринял слова Эстенскара как упрек; ему показалось даже, что его неумеренные восторги раздражают поэта.
— Как я могу спорить с вами? — сказал он еле слышно.
Геллескар нахмурился:
— Знаешь что, Амадей, написал оду, так будь любезен, дай нам ее, по крайней мере, прочесть! Мы же не посягаем на твои авторские права. И вообще, что это мы все о поэзии? По-моему, пора сменить музу. Луиза сегодня злится, а в таком состоянии она всегда отлично играет. Может, попросим ее сыграть Моцарта?
Итале, поглощенный самоуничижением, все же догадался, что Геллескар пришел ему на помощь, и со смутным чувством признательности последовал за своими новыми знакомыми в гостиную, хотя сперва хотел попросту бесславно сбежать, дабы окончательно не поссориться со своим кумиром Эстенскаром. Луиза Палюдескар играть согласилась. Итале остался стоять возле рояля. Было уже за полночь, и он чувствовал себя совершенно измученным. Светлая музыка вместе со звуками разговоров обтекала его, как вода. Рядом негромко переговаривались Геллескар и Палюдескар; он не прислушивался; он вообще решил больше рта не открывать. «Зачем я здесь? — думал он. — Что я здесь делаю? Зачем уехал из дома?»
Выполнив все просьбы слушателей, Луиза играть перестала, однако по-прежнему сидела за роялем, слушая разговоры окружающих и время от времени посматривая на высокого, неловкого и молчаливого гостя из провинции. Итале, мрачно уткнувший подбородок в воротник, казался ей воплощением деревенской невоспитанности и мужского самодовольства. Ей ужасно хотелось пнуть его ногой.
— Что это за малый, Луиза? — услышала она тихий голос Эстенскара.
— Энрике подцепил его в дилижансе и притащил домой. Но я не намерена его здесь долго терпеть!
Эстенскар неприязненно улыбнулся.
— Да уж, бедняга вряд ли умеет вести себя в высшем свете. — Он снова был готов к словесному поединку, и Луиза, любившая подобные сражения, поднялась, принимая его вызов, и незамедлительно нанесла ему удар с фланга: посмотрела в лицо, улыбнулась и спросила:
— Неужели ты действительно собираешься уехать на восток, Амадей?
— Я еще не решил.
— Господи, да что тут решать?! Ведь в Полане нет ничего, кроме восточных ветров да овец, которым твои стихи вряд ли будут интересны. Я понимаю, мы все тебе тоже кажемся овцами, но мы, по крайней мере, овечки внимательные, даже любящие, мы ведь твое собственное пушистое стадо…
— Ну да, волки в овечьих шкурах!
— Ничего подобного! А вот ты как раз настоящий волк. Знаменитый поланский волк! Ну что, снова решил удрать? Ты уж погоди, Амадей.
— Никуда я удирать не собираюсь. Просто еду домой.
— «Домой»! — Луиза сыграла изысканное легкое арпеджио. — Как тебе известно, наш «милый дом» тоже в горах, в Совене. И мне даже слишком хорошо знакомы эти бесконечные дожди, ветры, грязь на дорогах, визиты соседей, их дурацкие разговоры об овцах и об охоте… О том, что кто-то где-то подстрелил волка. Или прошлой зимой затащил трех поэтов в болото…
— Но к твоей свадьбе я непременно вернусь.
— Вот как? И за кого же, по-твоему, я выхожу замуж?
— За Георга, разумеется…
— Что за глупости! Я не могу выйти замуж за человека, которого и без того знаю как облупленного.
— Но если этот человек тебе подходит…
— Не продолжай; я и так вижу, что тебе доставляет удовольствие ковыряться в чужой ране. Нет уж, я выйду только за совершенно незнакомого мне человека — из тех, кого случайно встречают в почтовой карете.
— Но почему?
— Потому что такому человеку понадобится по крайней мере несколько месяцев, чтобы научиться причинять мне боль. Если только он не поэт, конечно. Нет, Амадей, ты не должен покидать Красной! Ну что я тут без тебя буду делать? Мне ведь уже не обойтись без наших ежедневных перепалок: они так меня возбуждают!
— Жаль, что я тогда влюбился не в тебя, Луиза.
— Да, жаль. Но не влюбился, что ж теперь поделаешь.
Она подняла голову, посмотрела в его печальные глаза и улыбнулась.
Добравшись наконец в половине третьего ночи до постели, Итале уснуть не смог. В его ушах звучала соната Моцарта; этой сонаты он никогда раньше не слышал. Кровать под красным пологом покачивалась, точно почтовая карета; Итале все еще слышались голоса гостей, перед глазами мелькали их лица. Он долго лежал без сна, вертясь с боку на бок и не в силах успокоиться. Глубокий негромкий звон колокола каждые пятнадцать минут оповещал его: три часа, четверть четвертого… Звон этот разносился над темными улицами и домами, где мирно спали двести тысяч горожан; не спал лишь он, лишенный сна пленник.
Глава 7
Слуга-француз по имени Робер разбудил его поздно утром и, разумеется, не позволил одеться самостоятельно. Итале не сразу нашел в огромном холодном доме дорогу к столовой. Барон оказался уже там; вскоре к ним присоединилась и Луиза. С утра молодые люди чувствовали себя в обществе друг друга особенно неловко. Итале заметил, что сегодня жарко, Энрике в ответ сообщил, что утро было туманным, но светской беседы не получилось. Луиза, одетая в простое коричневое платье, напротив, как бы сбросив с себя вчерашние высокомерные манеры вместе с вечерним туалетом, была очень мила и любезна, держалась просто, и уже через несколько минут Итале оживленно болтал с нею, не испытывая ни малейшего смущения. Она показалась ему куда красивее, чем вчера; такой красивой женщины он еще в жизни не встречал. К тому же, как он теперь догадывался, Луиза была еще очень молода, самое большее двадцать, и ее цветущая молодость и красота мгновенно опутали его такими сетями, что он порой чувствовал себя безнадежным болваном, замечая, однако, что братец Луизы сердито посматривает на них через стол. Поэтому, когда завтрак наконец был окончен, Итале испытал огромное облегчение.
Френин, уехавший в столицу еще месяц назад, давно прислал друзьям свой здешний адрес, и сразу после завтрака Итале попросил Палюдескара объяснить ему, как отыскать нужную улицу.
— Как-как? Никогда даже не слыхал о такой! — проворчал тот. — А ты, значит, сразу в город собрался? Может, останешься? Нет? Ну что ж. Приятно было позавтракать вместе.
Лишь на улице Итале наконец почувствовал, что вырвался на свободу. А молодой барон тем временем прошел следом за сестрой в музыкальную комнату и со смехом сообщил ей:
— Представляешь, Лулу? Он отправился к черту на кулички в Речной район. На улицу чьих-то там слез! И чего он вообще сюда из своего вонючего захолустья приехал? Сидел бы в своих горах! А я-то, дурак, думал: вот вполне приличный человек!
— Это так и есть, Энрике. Не говори глупостей!
— Но кто же станет селиться в таком ужасном районе?
— Студенты, разумеется. Там, должно быть, дешево.
— Ах да! Ну разумеется, студенты! Еще бы!
Луиза понимала, отчего брат так огорчен. Несмотря на то, что Энрике считал собственную деятельность в дипломатическом ведомстве скучной и довольно бесполезной и даже отчасти ее стыдился, он очень боялся потерять тот небольшой пост, который занимал сейчас. Он, видно, уже догадался, что его новый знакомый — лицо политически неблагонадежное, и решил с ним особенно не церемониться; однако, устыдившись столь корыстных мотивов, сейчас перед сестрой изображал обыкновенного сноба. Роль эта, впрочем, ему удавалась плохо, тем более что Луиза отлично знала характер брата и видела его насквозь. Сама она была куда более честолюбива, чем он, да к тому же обладала мятежным нравом и решительно высмеивала подобные проявления ханжества и лицемерия со стороны Энрике. И самое главное — ей было ужасно скучно.
— Неужели ты опасаешься, что принимал у себя инкогнито новоявленного Робеспьера? — язвительно спросила она. — Бедный Энри!
— Послушай, ну ты же должна понять! Никак нельзя, чтобы меня… заподозрили в связях с патриотами! Да, я совершил ошибку, но я ее исправлю. И от тебя прошу одного: не… не приваживай его, пожалуйста! Не делай из него очередную домашнюю зверушку, как ты это любишь. Тебе ведь просто любопытно…
— Домашнюю зверушку? Ничего себе! Да он скорее на ломовую лошадь похож!
— Вот это верно! И он совершенно не нашего поля ягода. Хотя, повторяю, в дилижансе показался мне человеком вполне приличным. Но среди людей нашего круга… Нет, это просто кошмар! Впрочем, мы его, скорее всего, больше и не увидим.
— Увидим. Я пригласила его сегодня к обеду.
Энрике лишь тяжко вздохнул, в очередной раз потерпев поражение.
— Ему же негде остановиться! — упрекнула его сестра. — И раз он пока живет у нас, должна же я накормить его обедом. По-моему, ничего страшного в этом нет. К тому же у нас никого не будет, кроме Раскайнескара.
— Господи! — воскликнул Энрике. — Ну как ты могла пригласить его на обед вместе с Раскайнескаром, Луиза! — Впрочем, он отлично понимал, что сестра все равно поступит так, как ей захочется, и как бы он ни сердился и ни кричал, ей это совершенно безразлично.
А Итале между тем брел куда глаза глядят. Теплые солнечные лучи, пронизывая туман над рекой, золотили фасады домов, крыши, двойной шпиль кафедрального собора Святой Теодоры. Сперва ему показалось, что собор совсем рядом, и он двинулся в ту сторону. Но оказалось, что добраться до него непросто. Итале почти все время видел перед собой двойной шпиль, однако довольно долго плутал в паутине улочек Старого квартала, как две капли воды похожих одна на другую. Свернув куда-то не туда, он вышел на тихую и тенистую улицу Сорден и долго брел по ней среди элегантных и надменных дворцов, построенных в XVI–XVII веках. Вдруг это тихое великолепие кончилось, и он оказался на залитой солнцем и чрезвычайно шумной рыночной площади. Возницы, размахивая кнутами, покрикивали на него, требуя уступить дорогу их огромным тяжелым возам; торговки наперебой расхваливали свой товар — лук-порей и капусту; молодые горничные с полными корзинами ярких, чисто вымытых овощей старались ненароком задеть его бедром или локтем, а старухи буквально хватали за руки, стараясь что-нибудь всучить; торговцы рыбой размахивали живыми угрями прямо у Итале перед носом, и он, шарахнувшись от очередной зубастой рыбьей пасти, налетел прямо на бычью тушу, свисавшую с крюка и окруженную тучей жужжащих мух. Те ярмарки, что устраивались по воскресеньям в Партачейке, поместились бы здесь в одном углу. В Красное рынок занимал несколько кварталов, расползаясь вширь и вглубь; здесь можно было продать и купить все; здесь заключались любые сделки; здесь спорили до хрипоты; здесь над торговыми рядами неумолчно гудели голоса и висело зловоние. И все это сверкало яркими красками в утренних лучах августовского солнца, шумело, источало разнообразные ароматы, и надо всей этой немыслимой суетой на фоне широко раскинувшегося спокойного неба вздымались ввысь строгие шпили собора.
Наконец Итале все же умудрился выйти на Соборную площадь. Несколько стариков сидели на скамьях у восточной стены храма под насквозь пропылившимися за лето платанами. Итале остановился прямо посреди площади; немногочисленные экипажи и торопливые пешеходы обтекали его, точно река. Он любовался тяжеловатой сложной архитектурой собора, его острыми шпилями, тройным порталом с резными изображениями святых и королей. Это величественное и безмятежно-спокойное здание казалось ему похожим на громадный корабль с поднятыми парусами. Итале просто глаз не мог оторвать от этой красоты. Зато старики на скамейках смотрели только на Итале — собор они много раз видели и раньше. Итале наконец все же сдвинулся с места, пересек площадь и вошел в собор через северный портал, над которым был изображен святой Рох, один из покровителей города Красноя, вот уже четыреста лет улыбавшийся в тени стрельчатого свода застывшей доброй улыбкой.
Стоило Итале войти внутрь, как он почувствовал себя дома. Это действительно был его дом, его родина. Его предки жили в этих краях по крайней мере восемь или девять столетий. Как и в церквах Монтайны, в этом соборе было темновато и просторно; высокие своды оставляли Богу достаточно места. Все здесь казалось столь же простым и целесообразным, как в военной крепости. Шла служба, служили скромную мессу. Затерявшиеся в темноватом пространстве главного нефа немногочисленные прихожане, безликие, маленькие, чем-то похожие друг на друга, стояли, преклонив колена, на голых каменных плитах. Итале присоединился к молящимся. Голос священника, звучный и проникновенный, напомнил ему голос старого настоятеля церкви Святого Антония из Малафрены; «Credo in unuum Deoom», — гудел этот голос, и маленькие старушки в черных шалях шептали: «Omni-potentem»,
[16] и то ангельским пением, то громом в горах откликался над головами верующих орган, точно предваряя торжественную мессу, которую будут служить в День святого Роха.
Итале недолго пробыл в соборе. Несколько приободрившись, но все еще чувствуя странное беспокойство, он снова вышел на освещенную ярким жарким солнцем площадь, и тут огромный колокол прозвонил десять; удары его гулко отдавались от каменных стен, заставляли кровь быстрее бежать по жилам. Перед Итале шумел, живя своей суетливой жизнью, огромный город, мелькали незнакомые лица. Он надел шляпу и широким шагом двинулся в сторону Речного квартала, не имея ни малейшего понятия, сумеет ли отыскать нужную улицу.
В 1825 году лишь в очень немногих городах имелась сколько-нибудь развитая система канализации; здесь же, в старейшем квартале Красноя, никакой канализации не было вообще; вдоль узких улиц, а иногда и прямо посреди них тянулись сточные канавы, кое-где, правда, облицованные камнем и выходившие к реке. Вонь, висевшая над Речным кварталом, уже сама по себе была поистине неописуемой и впечатляла куда сильнее, чем лабиринт крутых и темных улочек с тесно стоявшими домами, верхние этажи которых, точно заговорщики, склонялись друг к другу, заслоняя небо. Вонь как бы даже приглушала постоянно висевший над этим густонаселенным кварталом шум. Но то и дело в самой гуще задыхавшихся от зловония улочек вдруг взлетал ввысь хрупкий шпиль прекрасной старинной церкви, а из шумной толчеи бедноватых местных, рынков ты неожиданно попадал на тихую площадь, где в фонтане журчала прохладная вода (кишевшая, впрочем, тифозными палочками) и где по одну сторону на некотором расстоянии всегда был виден островерхий кафедральный собор, а по другую — стрельчатые окна здания университета, построенного на довольно высоком холме. Это были ворота в совсем иной мир. На одной из таких тихих площадей Итале остановился. Ему было не по себе: он явно заблудился в бесконечном лабиринте улиц и тесных дворов, где вечно ссорились соседи; голова кружилась от гула голосов, от множества непривычных запахов, от кишевшей под ногами детворы, от мелькания незнакомых женских и мужских лиц; он чувствовал, что и сам становится безымянным среди этой массы безымянных людей. Итале немного постоял, крепко сцепив руки и пытаясь преодолеть охватившую его панику, потом устало присел на каменную скамью у колодца и уставился себе под ноги, на плиты мостовой. Неподалеку на одной из плит лежала кучка подсохших человеческих экскрементов. Он просто глаз не мог отвести от этой кучки. Все пространство вокруг него было вымощено такими же квадратными грязно-голубыми плитами. Между двумя из них просачивалась тонкая струйка воды, и он буквально заставил себя смотреть на нее и сосредоточиться только на этом. Так, успокойся, убеждал он себя, ты никак не мог заблудиться: вон собор, вон университет… Он поднял голову, медленно огляделся, желая убедиться, что это действительно так, и вдруг обнаружил, что рядом с ним на скамье кто-то сидит.
На старике были вдрызг истрепанные башмаки на босу ногу и некое подобие пальто или плаща с капюшоном, давно утратившего форму и цвет. В этот плащ он упорно кутался, несмотря на жару. Лицо у него было худое, даже костлявое. Из-под морщинистых век на Итале смотрели глубоко запавшие глаза, и взгляд их был поистине ужасен. Итале не сразу догадался, что перед ним слепец.
— Здравствуйте, дедушка, — сказал он осипшим вдруг голосом.
Старик пожевал губами, продолжая молча смотреть на него невидящими глазами, и вдруг быстро сказал что-то с сильным местным акцентом. Итале не очень хорошо его понял, но ему показалось, что старик сказал что-то вроде: «Далековато от дома забрался, парень».
— Это верно, — согласился молодой человек. — А вы, дедушка, случайно не знаете, где улица Слез Святой Магдалины?
Старик, не сводя с него глаз, снова что-то пробормотал и вдруг очень внятно сказал:
— Как же, знаю… — встал и, поплотнее запахнув свой потрепанный плащ, велел: — Иди за мной!
— Это далеко?
— На Маленастраде. Ну, как бы тебе объяснить получше… Да идем же!
Откашливаясь и все время что-то бормоча себе под нос, старик шустро зашагал по улочке, Итале двинулся следом. Во дворе, мимо которого они проходили, пронзительно орали дети — то ли играли, то ли дрались. Старик сердито погрозил им:
— Ну-ну-ну, раскричались тут… Вот я вас палкой-то угощу!
Он явно все-таки кое-что видел, потому что дорогу выбирал без колебаний и старался держаться поближе к Итале, что самому Итале не очень-то нравилось: от старика несло, как из помойки. На ходу он все время что-то рассказывал; Итале понимал примерно половину. Оказалось, что когда-то старик был портным, но потом почти ослеп, а зять, подлец, взял да и выгнал его из его же собственной мастерской! Далее последовала история о том, как росли цены и арендная плата за мастерскую. Голос у старика был скрипучий, надтреснутый, он размахивал перед собой скрюченными руками, то и дело пронзительно выкрикивая:
— Грязные жиды! Ох, грязные жиды!
Он то ли видел, то ли чувствовал, что Итале от этих криков испуганно шарахается в сторону, и тут же спешил его догнать.
— Ничего, господин мой, потерпите, мы уже почти пришли. Вон, видите большую церковь? Это Санкестефан, а на ней василиск. Так, теперь сюда, молодой господин… — Они были у подножия холма, на котором высилось здание университета; улочки, извиваясь, карабкались по склонам, образуя немыслимый лабиринт. Кое-где они были соединены пролетами лестниц. — Вы подумали небось, что я слепой — так и заведу вас невесть куда, верно? — Старик остановился. — Вот она, Маленастрада-то.
Френин писал, что живет на улице Слез Святой Магдалины, но Итале никак не мог обнаружить — ни на углу улицы, ни на соседних домах — хоть какую-нибудь табличку с названием; ничто не говорило, что это именно та улица, которая ему нужна, но он был уже вполне готов любым способом избавиться от противного старикашки. Он сунул в скрюченную руку слепого четвертак. Пытаясь спрятать монетку в карман или еще в какое-то потайное место, старик выронил ее, и Итале пришлось нагнуться и отыскать маленький металлический кружочек. Старик стоял, слепой и жалкий, беспомощно озираясь; он, конечно же, не в состоянии был бы найти монетку, да и поднять ее сам не смог бы: пальцы у него были скрючены артритом. Итале отдал ему деньги и поспешил уйти.
Дом номер 9, напротив ломбарда — так писал Френин. Номеров на домах не было, зато ломбарда было целых два. Итале наугад заглянул в один из домов напротив первого ломбарда и в темном коридоре столкнулся с какой-то толстухой. В коридоре стоял густой звериный запах. Толстуха велела Итале подняться на второй этаж, и он стал послушно подниматься по лестнице, где кишели тощие, драные кошки, все как одна белые. На втором этаже он постучался, и дверь ему открыл сам Френин.
Знакомое широкое, чуть грубоватое лицо, родной голос, называвший его по имени, — Итале испытал пронзительную радость и облегчение. Они по-братски обнялись.
— Господи, как я рад снова видеть тебя, Дживан!
— Да ты входи, входи! — Френин старался вести себя более сдержанно. — Не то живо этих поганых кошек в квартиру напустишь. Ты почему же не написал, что приезжаешь?
— Я приехал на том же почтовом дилижансе, с которым собирался отослать письмо. Вчера вечером.
— А где ты остановился?
— У одного знакомого. Собственно, я с этим человеком в пути познакомился. Это барон Палюдескар.
— Так ты живешь на улице Рочес?! У брюквенного барона?!
— Ну, я не знал…
— Ничего себе! Хорошо же ты начинаешь!
— Да я понятия не имею об этой семье! А кто они такие? В дилижансе…
— Их имена можно встретить в каждой колонке светских новостей, которую, кстати, ведет Брелавай.
— Брелавай? — Поведение Френина начинало раздражать Итале: стал таким же всезнайкой, как и все здесь!
— Ну да, Брелавай публикуется в еженедельнике, посвященном жизни местного бомонда; он называет это издание «краснойскими сплетнями». У него есть деньги, любовница — наш Томас весьма преуспевает! — Френин сказал это довольно неприязненным тоном.
— А у тебя здесь просторно, — заметил Итале. Комната была действительно большая, хотя и с низким потолком; зато мебели практически никакой.
— У меня целых четыре таких комнаты! И невероятно дешево даже для Речного квартала. Но мне эта квартира явно великовата. В конце месяца я отсюда съезжаю. Нет-нет, на этот стул не садись — у него вечно спинка отваливается. Садись лучше вот сюда.
— А сам-то ты чем занимаешься?
— Всякой ерундой. Кое-что пишу для католического ежемесячного журнала; вычитываю гранки для издательства «Рочой». В общем, пока мне хватает. А у тебя какие планы?
— Прежде всего нужно найти работу.
— Работу? Для чего это?
Итале показалось — возможно, несправедливо, — что вопрос Френина прозвучал неискренне.
— А для чего люди работают?
— В зависимости от того, какие люди.
— У меня в кармане двадцать два крунера. Вот такой я! Он чувствовал что и сам говорит неискренно. Впрочем, признаваться, что ты нищий, всегда непросто. Он встал и, побродив по обшарпанной комнате, выглянул в окно.
— Окна-то не мешало бы вымыть, — заметил он.
— А из дома тебе денежек не подкинут?
— Нет.
Френин был сыном богатого купца из Солария и тоже привык всегда иметь достаточно денег на карманные расходы. С другой стороны, он, в отличие от Итале, вполне умел вести «денежные» разговоры и спокойно мог, например, сказать, есть у него деньги или нет; это умение давало ему теперь существенное преимущество перед Итале, который в чем-то ином всегда умудрялся быть лучшим, как Френин ни старался превзойти его.
— Насколько я понимаю, твой отец был далеко не в восторге от твоего отъезда?
— Да уж.
— Так, может, он за австрияков?
— Ничуть.
— Значит, скандал в благородном семействе?
— Это совершенно неважно, Дживан.
— Ладно. Что ж, на двадцать два крунера недели две прожить можно. А что ты умеешь делать?
— То же, что и ты! Откуда мне знать, какая работа подвернется? — ответил Итале сердито, и Френин, довольный тем, что разозлил его, тут же расстался с маской холодного превосходства и с улыбкой сказал:
— Да ладно тебе! Все нормально. Жилье искать будешь или решил поселиться у своей брюквенной королевы?
— Не знаю… вряд ли… я там просто вещи оставил… Но сам оставаться не хочу.
— Почему же? Они ведь с тебя денег не возьмут.
— Не могу я там… — Итале только руками замахал. — Не успеешь проснуться, как тебя одевают, обувают… за завтраком прислуживают.
— А как ведет себя за завтраком молодая баронесса?
— Не знаю. Очень вежливо. Да нет… — Итале снова махнул рукой, — мне там не место!
Френин ухмыльнулся.
— Ладно, переезжай ко мне, если хочешь. Здесь, конечно, не особняк на улице Рочес и не поместье в Валь Малафрене, зато платишь всего пятнадцать крунеров в квартал. Какое-то время можно пожить и вместе.
— Спасибо тебе большое, Дживан! — сказал Итале, искренне ему благодарный и словно не замечая его насмешливого тона, чем весьма удивил Френина и в то же время совершенно его обезоружил.
Френин так и не сумел установить между ними тот барьер превосходства, которого ему, человеку завистливому, так недоставало. Хотя на самом деле барьер этот существовал между ними постоянно, и «перепрыгнуть» его Френину было не под силу: этот барьер создавали беспечная храбрость и врожденное благородство Итале, который никогда и никому не позволил бы себя унизить, как, впрочем, никогда и никому не позволил бы унизить и никого из своих друзей; он был довольно вспыльчив, зато отходчив и впоследствии зла ни на кого не держал; его дружба была простой и прочной. Но Френин хотел от Итале чего-то большего; он и сам не знал, чего именно от него хочет. Что хорошего в простой дружбе? Ему всегда хотелось до конца понять душу Итале, с первого взгляда казавшегося человеком совершенно безыскусным; понять ее и переделать по своему вкусу, подчинить своей воле; только это ему не удавалось никогда! И, возможно, только ради этого, не желая расставаться с Итале, Френин и решился тогда предложить друзьям свой план переезда в Красной.
— А с Кошатницей мы все уладим, — говорил он между тем. — Это ведь она тебе внизу встретилась. Между прочим, она требует, чтобы ее называли «госпожа Роза». Слушай, Итале, я здесь уже два месяца, но не заметил пока ничего особенного. Никакой революционной деятельности.
Итале осторожно присел на стул; три колченогих стула и стол составляли всю обстановку просторной комнаты.
— Ну, какая-нибудь организация непременно должна существовать! — сказал он убежденно.
— Я ее пока не обнаружил.
— Но в кафе «Иллирика»…
— В «Иллирике» одни старики да третьесортные поэты! И полно австрийских шпионов.
— Существуют, наконец, тайные общества…
— Существовали. И перестали существовать уже много лет назад. Разве что общество «Друзья Конституции» еще держится; на востоке в него вступило немало бывших военных, особенно в Кесене и Совене. Но только не здесь! Здесь вообще ничего нет. Если не считать «Амиктийи».
— Ну что ж, тогда все зависит от нас самих! Издательская деятельность… и все прочее, о чем мы говорили в Соларии.
— А толку-то? Издавать литературный ежемесячный журнал…
— Слушай, кто, в конце концов, выиграл пари насчет написанного пером?
— А кого посадили под домашний арест?
— Между прочим, революция 1789 года вспыхнула не случайно и отнюдь не в душах народных. Именно писатели…
— Ну хорошо, но у нас тут Руссо что-то не видно.
— Ты в этом уверен? Да и потом, у нас есть их работы — и Руссо, и Демулена, и других авторов, французских, английских, американских по крайней мере за последние сто лет! Отчего бы не воспользоваться ими? Ведь понятно, почему наше правительство так боится печатного слова! Слушай, я тут подобрал кое-какие недавние высказывания Генца — специально чтобы раззадорить себя. Вот, например, он говорит: «В качестве превентивной меры, дабы избежать появления в прессе оскорбительных заявлений в адрес властей предержащих, в течение нескольких ближайших лет я бы вообще ничего не печатал. И впоследствии, придерживаясь подобной установки, мы могли бы достаточно скоро вернуться к той Истине, что содержится в Слове Господнем».
— «К той Истине, что содержится в Слове Господнем», —
повторил потрясенный Френин с глубочайшим отвращением.
Оба некоторое время молчали. Мнение главы австрийской имперской полиции, безусловно, звучало впечатляюще.
— Ну хорошо, — снова заговорил Френин, — предположим, что журнал — вещь стоящая. Но, во-первых, откуда у нас возьмутся на него деньги и, во-вторых, кто осмелится его печатать?
— Для того мы сюда и явились, чтобы это выяснить.
— Хорошо, тогда пошли. Я тебя кое с кем познакомлю…
Итале вернулся в дом Палюдескаров часов в шесть вечера; весь день они с Френином провели в кафе «Иллирика», где, вопреки мрачным заявлениям Френина, по-прежнему собирались и еще лет двадцать пять намерены были собираться радикально настроенные представители всех слоев общества. Там они встретились и побеседовали со своим старым знакомым Вейескаром из Солария, с молодым темноволосым писателем Карантаем, уже известным своими рассказами, с двумя греческими беженцами, с хмельным и очень шумным поэтом, вещавшим о «своей возлюбленной, Свободе», а также с группой местных студентов. Основной темой беседы была Греция. Итале брел по улице Рочес и твердил себе, что если здесь ничего не удастся сделать, то он непременно отправится в Грецию, как лорд Байрон, — туда, в долины Марафона, где мятежники по-прежнему кладут свои головы на алтарь свободы. Он был чуть пьян от разговоров о Греции, от огромного количества крепкого кофе, от великолепных революционных планов и идей, так что настроение его ничуть не омрачилось, даже когда он вошел в вестибюль огромного чопорного дома Палюдескаров. Он взлетел по мраморной лестнице с таким видом, точно все здесь принадлежало ему, но, услышав звуки музыки, на мгновение остановился и прислушался: ему вдруг показалось, что Луиза играет специально для него.
— Это вы, господин Сорде? — спросила она, продолжая играть; этот рояль был столь же прекрасен, как и тот, что стоял внизу, — розовое дерево, позолота; вечерние лучи солнца, падая в продолговатые высокие окна, золотили волосы Луизы, музыка хрустальными каплями сочилась из-под ее длинных пальцев.
— Добрый вечер, баронесса, — сказал Итале и сразу решительно заявил: — Увы, я должен вас покинуть. Позвольте поблагодарить вас за доброту и участие; надеюсь, впоследствии мне будет дарована привилегия хотя бы отчасти вернуть вам этот долг. — Привычные провинциальные формулы вежливости сами срывались у него с языка; он даже не задумался ни на секунду, сможет ли когда-либо отплатить за гостеприимство Палюдескаров, — ведь сейчас его ждало переселение в загаженный бродячими кошками жалкий домишко в Речном квартале. Однако он говорил с такой уверенностью, словно по-прежнему стоял на берегу озера Малафрена.
— Разве вы уезжаете, господин Сорде? Мы полагали, вы у нас погостите хотя бы несколько дней!
Она казалась растерянной, разочарованной; он даже немного удивился.
— Вы очень добры, баронесса. Но один мой старый приятель хочет, чтобы я поселился у него…
— Ну нельзя же каждый раз бросать новых друзей ради старых! Учтите, Энрике будет очень огорчен!
— Вы очень добры…
— К тому же у нас масса различных знакомых, связей… Я думала, мы действительно сможем быть вам кое в чем полезны…
— Вы очень… — Господи, заладил как попугай! — Я действительно очень вам благодарен, баронесса. Это так мило с вашей стороны! Но я… — Он не знал, что сказать еще; его решимость таяла, как сахар в воде.
— Но вы, надеюсь, хотя бы пообедаете с нами сегодня? Я просто требую этого!
— Разумеется, и с огромным удовольствием! — Черт бы побрал эту женщину! Когда он спускался по лестнице, вслед ему уже снова неслись игривые блистательные пассажи моцартовского «престо»; исполняла его Луиза поистине виртуозно.
После ее слов о «массе знакомых» он ожидал еще одной многолюдной вечеринки и был удивлен, когда, спустившись в столовую (в черном сюртуке, отлично вычищенном Робером), обнаружил этакую partie carrëe:
[17] он сам, Луиза, Энрике Палюдескар и граф Раскайнескар. Мать Луизы и Энрике, старшая баронесса Палюдескар, фрейлина великой герцогини, обедала во дворце. Эту «вечеринку вчетвером» явно организовала Луиза в полном соответствии со своим вкусом: обстановка была самой элегантной и в то же время достаточно интимной. За четырьмя французскими окнами, раскрытыми настежь, плыла августовская ночь. Темное небо было усыпано яркими звездами, легкий ветерок неуверенно шуршал в листве зеленой изгороди; из сада доносился шелест воды в фонтане, шепот ветвей, запахи влажной земли и роз — все это каким-то странным образом влияло на их разговор за освещенным свечами столом, точно летняя, чуть тревожная ночь сама стала пятой его участницей. Луиза, сидевшая во главе стола, была сегодня так хороша, гораздо красивее, чем даже вчера или утром, что Итале почувствовал некие смутные опасения, словно где-то рядом с ним разбушевалась вдруг некая стихия, нечто вроде лесного пожара или наводнения. Ему подумалось, что поэты, называя порой женщину богиней, не так уж и не правы и уж, во всяком случае, искренни. Энрике казался встревоженным и немного сердитым, говорил очень мало, однако Луиза и Раскайнескар не обращали на это никакого внимания.
Раскайна, расположенная на южном берегу озера Малафрена, примерно в полусотне километров от поместья Сорде, была одним из самых больших земельных владений в Валь Альтесме. Итале хорошо знал эти места, но самого хозяина Раскайны ни разу даже не видел. Очевидно, если Раскайнескар когда-либо и заезжал в свое поместье, то лишь очень ненадолго, будучи горожанином до мозга костей. Ему было лет сорок, и для своего возраста он выглядел прекрасно: крупный красивый рот, сочные губы, высокий лоб и прекрасные темные глаза.
— Итак, — заявил он, вольно откидываясь на спинку кресла, поскольку обед был закончен и все уже перешли к десертным напиткам, — могу с уверенностью сказать, что собрание Генеральных штатов состоится непременно.
— Слишком много разговоров! — проворчал Энрике.
— Вовсе нет — если, конечно, вы не имеете в виду сами заседания. Тут я с вами полностью согласен! Но ассамблея-то соберется непременно, и депутаты все съедутся. Корнелиус, я полагаю, объявит об этом уже через месяц, так что осенью 27-го года следует ожидать результатов этого великого события. Ха-ха-ха! А вы знаете, что сказал император по поводу всех этих международных конференций и заседаний? Впрочем, как раз его слова и дают основания предполагать, что ассамблея все-таки состоится. Так вот, он сказал: «Да, у меня есть собственные штаты, но, если депутаты зайдут слишком далеко, я только пальцами щелкну — и все тут же по домам отправятся…»
— В точности так поступил и Людовик XVI, — пробормотал Итале, наклонившись над тарелкой.
— Да полно вам! — добродушно воскликнул граф, стараясь его успокоить. — Французские Генеральные штаты — это одно, а наша крошечная ассамблея — совсем другое. Созыв наших Генеральных штатов — всего лишь акт великодушия со стороны императора.
— Значит, если он сочтет, что ассамблея ведет себя оскорбительно по отношению к нему, то просто щелкнет пальцами? — переспросила Луиза.
— Разумеется! То есть пальцами щелкнет Корнелиус; зачем же самому императору беспокоиться.
— Неужели Корнелиус обладает такой властью? — удивился Итале.
— Будучи премьер-министром великой герцогини? Нашей высокорожденной правительницы? Я полагаю, что да. Хотя, возможно, на сей раз «щелкнуть пальцами» ей придется самой.
— Но ведь согласно Хартии 1412 года наша ассамблея подчиняется только королю! И совершенно не обязана выполнять приказы герцогини или ее премьер-министра!
— За которыми тем не менее стоит австрийская армия, — мягко возразил Раскайнескар.
— Ну, если великая герцогиня призовет на помощь австрийскую армию, то, согласно конституции, это будет означать вторжение. Мы, разумеется, являемся союзниками империи и находимся под ее защитой, но мы отнюдь не одна из провинций Австрии! — возмутился Итале.
— Это верно лишь на бумаге, господин Сорде. Австрийская армия УЖЕ здесь. Именно она контролирует действия нашей полиции в провинциях; и никакая ассамблея не решится привести Орсинию к мятежу или к войне — какое слово вам больше нравится? — против самого могущественного государства в Европе. Подобные идеи просто смешны.
— Ну, это зависит от личного чувства юмора, — заметила Луиза.
— Верно, — согласился Раскайнескар, никогда не вступавший в прямой спор и предпочитавший выяснять истину окольными путями. — Но когда мирное равновесие сил. столь хрупко, когда существует возможность интервенции со стороны крупных соседних государств, России например, подобные идеи даже не смешны: они пугающи. Неужели снова затяжная война? Нельзя не уважать Меттерниха
[18] за то, что в течение последнего десятилетия ему удалось практически исключить подобную возможность, превратить войну в объект фантазий, уничтожить ее непосредственную угрозу. Невероятная все-таки личность этот Меттерних! Он, точно Атлант, держит на своих плечах всю Европу.
— Но если он все же опустит ее на землю, она, может статься, вполне пойдет и сама, — заметил Итале; голос у него чуть дрогнул, и это заметили все, а Энрике, не сумев дипломатично промолчать, даже хрюкнул от смеха, но тут же смутился и покраснел.
— Причем пойдет прямиком к войне, верно? Вот этого-то я и боюсь, — сказал Раскайнескар.
— Лучше, по-моему, идти к войне, чем допустить возвращение эпохи рабства!
— Мой дорогой юный друг, — у Раскайнескара явно не было желания ссориться с гостем Луизы Палюдескар, — не уверен, что вы достаточно много знаете о войне; и, по-моему, Слово «рабство» просто нынче в моде, хотя и утратило свой первоначальный, истинный смысл. Вот несчастный чернокожий африканец на плантации в одной из американских Каролин — это настоящий раб; однако, согласитесь, его положение крайне мало общего имеет с вашим или моим.
— Не уверен! — горячо воскликнул Итале. — Этот американский раб действительно не имеет права голосовать, не имеет своих представителей в правительстве и даже для того, чтобы научиться читать и писать, должен получить разрешение у своего владельца, не говоря уж о том, чтобы иметь возможность публиковать свои работы или выступать публично. Сделав хоть что-то из перечисленного выше без разрешения, он запросто может угодить в тюрьму на всю жизнь без суда и следствия. И все же я не уверен, что положение граждан в нашей стране так уж сильно отличается от описанной ситуации в Америке; нет, разумеется, нам всем разрешено носить фраки… — Итале умолк.
Выждав немного, граф Раскайнескар добавил:
— И читать Руссо.
— Если сумеем найти подпольное издание!
Граф лишь добродушно рассмеялся — с вальяжным видом преуспевающего государственного деятеля, который снизошел до беседы с излишне пылким юнцом. Энрике снова покраснел и зажмурился, чтобы не расхохотаться. А вот Луиза тихонько засмеялась, с удовольствием поглядывая на Итале, и повернулась к Раскайнескару, изо всех сил стараясь играть роль гостеприимной хозяйки дома, пытающейся как-то разрядить обстановку:
— Кстати, граф, как там насчет контрабандных парижских журналов? У меня вся надежда на вас, смотрите, не подведите!
Раскайнескар ответил ей, как всегда, любезно, хотя улыбка у него получилась несколько натянутой. Ему было абсолютно наплевать на мнение Итале, однако с мнением Луизы он всегда считался и понимал теперь, что невольно проиграл сражение с молодым провинциалом, хоть и не считал Сорде достойным оппонентом.
На следующий день в разговоре со знакомым чиновником из министерства финансов он заявил, что считает созыв ассамблеи не таким уж пустым жестом, поскольку в некоторых модных салонах открыто культивируются патриотические настроения.
— Глупцы! — откликнулся его коллега, но Раскайнескар, поджав свои сочные губы, негромко заметил:
— Не скажите. Национальная гордость! — Эти слова прозвучали, точно имя лошади, на которую стоило поставить.
Итале покинул дом Палюдескаров, как только позволили приличия, и сразу вернулся в Речной квартал, снова проделав долгий путь мимо кафедрального собора, вокруг Университетского холма и базилики Святого Стефана, пробираясь из пугающей толчеи центральных улиц в еще более пугающее безлюдие Речного квартала. Наконец он вышел на ту узенькую улочку, где теперь ему предстояло жить. Френин соорудил Итале некое подобие постели, и он сразу лег, но долго не мог уснуть и все смотрел на узкую полоску света под дверью в комнате Френина: тот тоже не спал и что-то писал, сидя за столом. За окнами плыла теплая ночь, полная людских голосов и прочих загадочных звуков густонаселенного старого городского района. Здесь, кажется, тишины не существовало вовсе. Итале вспомнил сад Палюдескаров, запах роз, скрывавшихся в темноте, шелест воды в фонтане, высвеченную золотистым светом прекрасную шею Луизы… Потом воспоминания стали совсем мучительными, настолько живо вдруг он представил себе горбатые крыши Партачейки, аккуратный двор и домик Эмануэля в тени огромной горы, озеро под окнами его комнаты, точно повисшей над водой… Никогда еще не испытывал он такой щемящей тоски по дому! Но любимые и словно отступившие в прошлое лица терялись в бесконечном мелькании иных лиц, которые он видел на улицах Красноя, — лиц носильщиков, богомольных старух, нищих попрошаек… Вспомнилось ему и лицо того красноносого поэта с растрепанными седыми волосами, который выкрикивал: «Любовница моя, Свобода!» — но даже это заслоняли воспоминания о худых опухших ногах того слепого старика, что стал его, Итале, первым провожатым в этом городе.
Глава 8
— С помощью собаки человек получил воз-мож-нось…
— Возможность.
— …воз-мож-ность охотиться на таких жи-вот-ных, которые были не-об-хо-ди-мы для его существа…
— Существования.
— …су-щест-во-ва-ни-я и для борьбы с теми, кого он сам не видит, но о-па-са-ет-ся как самых страшных своих врагов.
— Прекрасно! Вастен, продолжай, пожалуйста.
Итале стоял, облокотившись о кафедру, и наблюдал, как три экземпляра учебника Бюффона
[19] передаются из рук в руки. Лица его пятнадцати учеников были чрезвычайно серьезны. Самому младшему из них, Паррою, было двенадцать, самому старшему, Изаберу, надежному помощнику Итале, — шестнадцать. Когда читать начинал кто-то другой, Изабер прямо-таки ел его глазами, словно умоляя не делать ошибок. Наконец колокол в ближайшей церкви пробил полдень, и Паррой, читавший в этот момент, конечно, сразу же стал запинаться. Итале отпустил мальчишек, и, когда все убежали, Изабер с удрученным видом подошел к нему.
— Ну что ты так расстраиваешься, Агостин, — сказал ему Итале. — Дела у ребят идут совсем неплохо.
— А все этот Вастен паршивый! Он никуда не годится, господин учитель…
Итале посмотрел на мальчика с симпатией. Когда Агостин Изабер говорил, на его длинной и еще по-детски тонкой шее прыгал кадык, и от смущения он совершенно не представлял, куда ему деть свои большие красные руки. Но глаза у него были удивительно ясные и серьезные. Изабер никогда не смеялся, да и улыбался редко — только если считал, что так хочет Итале.
В класс заглянул Бруной, учитель младшей группы.
— Подожди меня, я сейчас, — сказал ему Итале. Он нагнал Бруноя в коридоре. — Бедняга Изабер! Такой совестливый парнишка! Пошли скорей, ужасно есть хочется! Господи, да так я скоро возненавижу и благородного Бюффона, и благородного Прюдевена, который перевел этот чертов учебник с целью просвещения подающих надежды юношей!..
Друзья вынырнули из мрачных недр допотопного зернохранилища, в котором ныне размещалась «Школа Эрейнина». Итале получил здесь место учителя старшей группы, но с полуторамесячным испытательным сроком. Ему об этой школе сказал кто-то в кафе «Иллирика». Итале навел справки и вскоре действительно был принят на работу и теперь пять дней в неделю с утра до обеда учил детей чтению, письму, начаткам литературы, истории и естествознания, хотя прежде не был даже знаком с педагогическими теориями Ланкастера или Песталоцци. Зерноторговец Эрейнин, спекулянт и филантроп, основал эту школу, чтобы в ней могли учиться пятьдесят мальчиков, сыновей рабочих и ремесленников. Некоторым семьям приходилось платить за обучение своих сыновей, хотя и немного, некоторые же не платили совсем ничего. Это была единственная светская школа в городе, где сын бедняка мог как следует научиться читать и писать. Прежде чем взять Итале на работу, Эрейнин прочел ему трехчасовую лекцию о необходимости образования, но с тех пор Итале своего хозяина больше не видел. Говорили, что в последнее время у Эрейнина появилось какое-то новое увлечение и школой он интересоваться практически перестал. Правда, секретарь Эрейнина хотя и со скрипом, но все же продолжал выплачивать жалованье троим учителям, правда, денег на учебники, мел, уголь для печей и тому подобное не давал совсем. Бруной относился к этому философски.
— Между прочим, школа существует уже больше года, — говорил он, — а я считал, что она и двух месяцев не продержится.
Выбравшись на улицу и вдохнув сладкий аромат ясного октябрьского дня, Бруной закашлялся и рассмеялся:
— Тебе ведь Изабер нравится, верно?
— Он хороший парень.
— А уж тебя прямо боготворит!
— Это свойственно подросткам. В шестнадцать лет непременно нужно иметь своего героя. Если в этой затее со школой для бедняков и есть рациональное зерно, так оно как раз в том и заключается, чтобы помочь таким вот ребятам расширить свой кругозор, найти достойные примеры для подражания, а не каких-то клоунов в блестящей мишуре.
— А почему бы тебе, собственно, и не стать его героем?
— Потому что все мое «геройство» в некоем налете образованности. Точнее, это Изабер считает меня человеком высокообразованным, хотя я обыкновенный провинциал-в твоих, например, глазах. Ну и, кроме того, его впечатляет мой двухметровый рост. — Итале пренебрежительно махнул рукой. — Умение разбираться в отличительных признаках — вот главная цель образования!
Бруной улыбнулся; некоторое время они шли молча; первым опять заговорил Итале:
— До чего же меня восхищает твое терпение, Эжен! А меня мои ученики иногда просто в бешенство приводят… И как только тебе удается всегда сохранять спокойствие на уроках?
— А чем же еще, кроме терпения и спокойствия, можно заполнить ту пропасть, что разделяет мои былые идеалы и нынешние достижения?
— Так ты… эту пропасть между нашими устремлениями и нашими конкретными занятиями заполняешь терпением? А для меня она заполнена великим Ожиданием. Мне кажется, именно там, в этой пропасти, и происходит созидание будущего… Впрочем, я недостаточно стоек и ждать не умею, а вечно сам прыгаю в пропасть и пытаюсь изображать Бога-творца. И, разумеется, только все порчу!
— Одиннадцать, — вдруг сказал Бруной темноволосому коротышке в очках, который быстро прошел мимо них.
— Тринадцать, — прибавил Итале.
Коротышка кивнул в ответ и, сказав: «Семнадцать», пошел себе дальше. Когда он уже свернул за угол, Итале хмыкнул:
— Не жизнь, а сумасшедший дом какой-то!
Коротышка в очках был третьим из учителей в школе Эрейнина; он преподавал математику и полагал, что тайная судьба человечества записана в виде шифрованной композиции простых чисел. Будучи атеистом, он с возмущением относился к пассивному католицизму Бруноя и Итале и изо всех сил старался обратить их в иную веру — в тайну простых чисел. Приветствие, которым они только что обменялись, доставляло ему огромное удовольствие.
— Ну ты-то не из этой жизни, — мягко заметил Бруной.
Бруною было лет тридцать с небольшим. Каштановые волосы, нездоровый цвет лица, приятные манеры. Сперва Итале показалось, что он видит в своем новом приятеле некие признаки разочарованности жизнью, этакий прокисший романтизм, который он вообще приписывал предшествующему поколению и считал, что его лучшие представители еще в первые два десятилетия нынешнего века растратили свои силы в безнадежных попытках реформировать или даже полностью обновить систему образования страны, ее экономику и политику. Эти бывшие либералы и радикалы по-прежнему активно посещали «Иллирику» и все еще взрывались порой под напором собственных подавленных ныне, страстей и идей, но в целом это были честные, хотя и никчемные, призраки былых героев. Очень скоро, впрочем, Итале понял, что Бруной вовсе не из их числа. Сын бедного часовщика, окончивший университет на стипендию и до сих пор не женившийся, одинокий, Бруной отнюдь не прокис и не превратился в циника; просто он принял молчание как свою судьбу. Но Итале тем не менее он вполне охотно позволял это молчание нарушать.
— Ты тоже! — сказал Итале. Они вошли в таверну, где обычно в полдень обедали рабочие:
— Я всю жизнь хотел быть просто учителем.
Итале принес и поставил на стол кружки с пивом.
— По-моему, ты говорил, что даже написал какую-то работу по теории образования?
Бруной кивнул.
— Можно посмотреть?
— Я все сжег.
— Сжег? — Итале был потрясен.
— Несколько лет назад. Все равно это нельзя было публиковать; цензоры никогда бы такое не пропустили. А теперь подобные идеи довольно часто встречаются и в работах других ученых.
— Как же можно было… сжигать собственные мысли! А ты не хочешь написать все заново?
— Нет. Да и зачем, собственно? Все это уже известно и без меня. А публиковать подобные работы негде.
— Будет где! — Бруной удивленно посмотрел на него, склонив голову набок. — И я прошу тебя непременно участвовать в создании первого номера нашего журнала «Новесма верба»! — Бруной молчал. — Как тебе нравится такое название?
— «Новейшее слово»?… — как бы переводя, пробормотал Бруной. — Отличное название! Но кто его произнесет, это слово?
— Мы. Я, Брелавай, Френин, ты — вся страна, вся Европа, все человечество!.. По правде говоря, название придумал я, а остальным вроде понравилось. Действительно, звучит неплохо. Но позволь объяснить, какой смысл я в это название вкладываю. У нас ведь давно есть что сказать другим, но до сих пор мы этого так выговорить и не сумели — все заикаемся, запинаемся, точно дети, стараемся научиться выражать свои мысли правильно, но не знаем, как это делается… Иногда мы, правда, кое-что все же говорим — на иных языках: с помощью живописи, религии, науки — и каждый раз делаем новый шаг, постепенно постигаем это умение, узнаем новое слово. Ну а самое новое, НОВЕЙШЕЕ слово для нас, разумеется, — Свобода! Впрочем, новым является лишь способ его произнесения, а вообще-то оно старо как мир. И все же для нас оно новое! И мы еще весьма далеки от того, чтобы произнести это слово целиком. Однако произношение новых слов следует учить! А потом нужно повсеместно и постоянно использовать их в речи, иначе знание их становится бесполезным…
— О, Прометей! — еле слышно промолвил Бруной.
— Ладно тебе. Я же сказал, что это лишь мои собственные соображения. А самое главное — мы уже сейчас могли бы попытаться издавать свой журнал. И я прошу тебя стать нашим автором. А поскольку первый его номер вполне может оказаться и последним, то просьба моя весьма настоятельна…
Бруной поднял пивную кружку, как бы желая чокнуться с Итале:
— Что ж, да здравствует «Новесма верба»!
И они осушили кружки.
— Ну так что, напишешь? — спросил Итале, ставя кружку на стол и победоносно сияя. Бруной покачал головой. — Но почему, Эжен?
Но старший товарищ не ответил ему. Бруной сидел, опустив глаза, погруженный в какие-то грустные размышления. Им подали обед. Итале с аппетитом принялся за еду, время от времени с надеждой поглядывая на Бруноя. Тот лишь посмотрел в свою тарелку, но ничего есть не стал и продолжал молчать. Наконец он промолвил:
— Знаешь, я просто боюсь.
— Не может быть!
— Не цензуры и не полиции, разумеется. Если бы бояться нужно было только их… — Он поковырялся в тарелке, делая вид, что ест, и снова положил вилку. — Чтобы действительно воплотить в жизнь твои намерения, Итале, нужно полностью, страстно поверить в важность и абсолютную необходимость твоих идей, твоего дела. Только такая вера даст тебе все — успех, силу… здоровье…
— Я не могу с уверенностью сказать, правильно ли мы поступаем, Эжен. И совсем не уверен в справедливости наших идей. Я делаю только то, что умею… и как умею… Вполне возможно, все мои усилия окажутся совершенно бесполезными, даже хуже — не просто бесполезными, а…
— Ты же знаешь, что это не так!
— Надеюсь. Как и ты.
— Я уже не надеюсь. У меня не осталось времени на надежды. Ты ведь даже не представляешь себе, насколько я нищ! Ведь ты и понятия не имеешь, что такое настоящая нищета, Итале. — Бруной говорил с ним так ласково, с такой нескрываемой любовью и нежностью, что Итале, страшно этим смущенный, просто не знал, как ему ответить.
— Но я же отказался от всего, что имел… — пробормотал он наконец.
— От всего, от Чего мог, — поправил его Бруной. — Не твоя вина, Итале, что ты из богатой семьи!
— …от всего, что любил… — продолжал, словно не слыша его, Итале. — Любил больше всего на свете! Впрочем, сейчас бесполезно говорить об этом — я ведь и сам не понимал раньше, насколько все это мне дорого. Глупец! Ты говоришь, что я все время иду вперед, тружусь во имя великого будущего, что именно это важнее всего в моей жизни, но я-то знаю твердо: где-то далеко я оставил свой дом, потерял его… сам от него отказался, выпустил из рук свое счастье!
— Твой дом?
— Ну да, и это отнюдь не метафора. Я имею в виду свой родной край, любимые с детства места и тот дом, в котором я родился, — да, и саму землю, дурацкую грязную землю! Я к ней привязан, точно вол к столбу…
— «Не стать пилигримом, не зная, где дом твой…» Не стоит лицемерить, Итале! Ведь тоска по дому не способна заглушить в тебе любое стремление к свободе.
— Но я стыжусь этого!
— Стыд — вот совесть богатых.
— Ну хватит, Эжен! Так ты напишешь для нас? — Бруной покашлял, улыбнулся и покачал головой. — Ты же не боишься, неправда! — Но Бруной лишь снова светло и мечтательно улыбнулся ему в ответ.
Расставшись с ним, Итале пошел к Брелаваю; идти нужно было через парк Элейнапраде. В этот солнечный, чуть подернутый осенней дымкой день, весь огромный серый город казался позолоченным; под ногами на аллеях старого парка с шорохом разлетались опавшие листья. Итале любил эти обсаженные каштанами аллеи и лужайки, именуемые «полями старой королевы Хелен», а вот новая часть парка, «английская», с искусственными руинами, гротами и водопадами, вызывала у него чуть ли не отвращение. Он вспоминал пещеры Эвальде над озером Малафрена, такие огромные и глубокие, что становилось страшно, и бесконечный оглушающий гул заключенного в темницу бешеного горного потока, упорно пробивающего себе путь во тьме и в конце концов все-таки вырывающегося на свободу, навстречу солнцу, и водопадом бросающегося в озеро с тридцатиметровой высоты. Разве с такой красотой могли сравниться какие-то искусственные гроты с покрытыми штукатуркой стенами? По Старому мосту Итале перешел на другой берег реки и двинулся в сторону Прусского бульвара. Все дома в Заречье были выстроены за последние два десятка лет и аккуратными рядами стояли вдоль длинных прямых и унылых улиц, настолько похожие друг на друга, что казалось, ни один из них не имеет права выйти из ряда и стоять чуть в стороне от остальных. Одинаковые улицы с одинаковыми домами тянулись здесь до самого горизонта, однако это впечатление было ошибочным: в итоге дома все же кончались, и вместе с ними кончался и сам город, уступая место полям, заросшим громадными лопухами и коровяком. По такому полю обычно вилась грязная дорога, никуда не ведущая — в лучшем случае к какой-нибудь развалившейся хижине или жалкому сараю. За полями на востоке виднелись в дымке далекие горы. Когда Итале шел по этим проклятым нескончаемым улицам, ему всегда казалось, что идет он во сне и, естественно, как и бывает в подобных дурацких снах, в нужный момент Брелавая на месте не окажется. Так оно и случилось. Итале оставил ему записку и двинулся в обратном направлении. Проходя по Старому мосту, он минутку постоял, облокотившись о парапет и любуясь шелковистой голубоватой Мользен, тихо несущей свои воды к югу; в воде отражались старые липы, росшие на западном берегу реки. У входа на мост высилась каменная статуя святого Кристофера; его огромная рука с пальцами странно одинаковой длины навек застыла в благословляющем жесте, адресованном всем странствующим и путешествующим, а также всем проезжающим мимо.
В Речном квартале, как всегда, царили вонь, шум и суета. В дверях дома номер девять по Маленастраде сидела квартирная хозяйка, госпожа Роза, и ласково улыбалась очередной приблудной кошке, склонив к ней свое морщинистое смуглое лицо. Кошка важно устроилась у нее на коленях. Итале госпожа Роза тоже улыбнулась, хотя и довольно сдержанно. Ей нравилось, что на втором этаже у нее живет молодой человек «из благородных», хотя Итале точно так же не платил ей за квартиру, как и его сосед, ткач Кунней, недавно поселившийся здесь со всем своим семейством. Когда Френин съехал, хозяйка решила разделить квартиру, сдав две из четырех освободившихся комнат этому ткачу, а две — Итале; так что теперь Итале приходилось пробираться к себе через жилище соседей — в общем, незначительное неудобство при плате всего в десять крунеров. Кунней вечно сидел за станком; он работал на подряде по четырнадцать-пятнадцать часов в день. Фабрика обеспечивала его пряжей, а готовое полотно он сам относил туда для окончательной обработки и раскройки. Такая система была распространена достаточно широко; хозяева предприятий были весьма довольны тем, что изолированные друг от друга работники стараются лишь заработать побольше, соревнуясь друг с другом, и совсем не думают об объединении в какие-то там союзы. Запах крашеной пряжи, ритмичное поскрипыванье и постукиванье станка уже стали для Итале привычными; теперь в той комнате, где он когда-то впервые беседовал с Френином, стоял ткацкий станок, занимая чуть ли не половину ее пространства. Все детишки Куннея были похожи на него — тощие, светловолосые, бледнолицые и какие-то настороженно-покорные. Итале не удавалось разговорить даже пятилетнего сынишку ткача, а уж сам Кунней слово лишнее обронить боялся. Наверное, думал Итале, они боятся не только меня, но и всех вокруг, кроме разве что себя самих. Он тихонько проскользнул мимо огромного станка, на котором как бы совершенно самостоятельно двигалось, медленно увеличиваясь в объеме, белое, безупречно ровное полотнище; это напоминало некий, не имеющий отношения к человеку, естественный космический процесс вроде движения тени на циферблате солнечных часов или неторопливого изменения формы ледника в горах. Кунней молча кивнул, заметив Итале. За стеной тоненько плакал младенец. Итале сел было за письменный стол, намереваясь поработать, но после разговора с Бруноем и безрезультатного путешествия за реку настроение у него было муторное, и он прилег на кушетку в алькове с намерением почитать Монтескье и забыть о своих бедах. Но уже через десять минут он позабыл не только о своих бедах, но и о Монтескье; книга упала ему на грудь, и он, безвольно уронив руки поверх книги, крепко уснул. Разбудил его стук в дверь. Спотыкаясь со сна, Итале поплелся открывать; вся комната была залита красным светом заката. Он ожидал увидеть Брелавая и не сразу сообразил, кто этот рыжеволосый мужчина, что стоит перед ним.
— Я Эстенскар. Мы с вами встречались у Палюдескаров, помните? В августе?
Это действительно был Эстенскар, великий поэт, которым Итале когда-то так громко восхищался, а теперь лишь обалдело смотрел на него, не в силах сдвинуться с места.
— Извините, я, видно, вас потревожил… — Голос у Эстенскара был высокий и довольно пронзительный.
— Что вы, ничуть! Пожалуйста, садитесь… Нет, не на этот стул, у него спинка отваливается…
Эстенскар пошатал спинку знаменитого стула, служившего мебелью еще Френину, удостоверился в том, что она действительно мгновенно отделяется от сиденья, отложил ее в сторонку и как ни в чем не бывало уселся на убогий стул.
— Я пришел, чтобы извиниться, господин Сорде.
— Изви… извиниться?
— Я тогда не имел права вести себя с вами так грубо.
— Имели, имели! Полное право! — Итале даже руками замахал.
— Мне очень жаль, и я прошу вас простить меня.
— Но вам совершенно не нужно передо мной извиняться, господин Эстен… — У Итале от волнения настолько пересохло в горле, что остаток имени он просто проглотил.
— Нет. Извиниться было совершенно необходимо. Тем более я очень хотел снова поговорить с вами. — И Эстенскар улыбнулся — коротко, невесело — и сразу показался Итале совсем молодым. — К сожалению, у Палюдескаров я слишком часто встречаю глупцов, и у меня вошло в привычку грубить им, поскольку именно этого они от меня и ожидают. Однако, как я вскоре понял, вести себя столь же грубо с вами было непростительной ошибкой. Но скажите, вы действительно хотели бы создать свой журнал?
— Да. Пожалуйста, пересядьте на тот стул, он вполне прочный…
— А мне нравится этот. Ну, и каковы же у вас успехи?
— Пока что денег хватает на пару номеров, но мне обещаны еще средства. Уже нашелся печатник, который понимает, в какую петлю сует голову. И мы получили письмо от Стефана Орагона из Ракавы…
— И все же расходы ваши вряд ли будут покрыты.
— Ну, если заседание ассамблеи все-таки состоится, можно было бы даже и на некоторую прибыль надеяться.
— А как вы думаете решить проблему цензуры?
— Мой друг Брелавай считает, что уже кое-чего добился. С тем самым человеком… помните? О котором вы тогда упоминали? С Гойне.
Эстенскар снова коротко, пожалуй даже натянуто, усмехнулся.
— И сколько же у вас в редакции народу?
— Мы четверо из Солария. И еще человек шесть-семь из Красноя. В том числе и Александр Карантай, которого вы, возможно, знаете.
— Да. Очень талантливый писатель и очень хороший человек. По-настоящему добродетельный. Вам повезло. Это очень хорошо, что Карантай будет с вами работать. Значит, это, по всей видимости, будет литературный журнал?
— Поначалу да. Проще найти общий язык с Управлением по цензуре.
— Вот именно! — презрительно воскликнул Эстенскар, однако в голосе его явно звучало удовлетворение. — Этих олухов, если иметь терпение, всегда в итоге можно обвести вокруг пальца — они ведь никогда не верили в действенность художественного слова, да и к Меттерниху никогда как следует не прислушивались. Он-то понимает, как может быть опасна литература! Да если б Меттерних имел возможность воплотить в жизнь свое самое заветное желание, то в империи на свободе не осталось бы ни одного поэта; все они давно сидели бы в темницах Спилберга. Нет, я порой просто восхищаюсь Меттернихом! По крайней мере, это действительно сильный противник, у которого есть голова на плечах. И он достаточно просвещен, чтобы бояться могущества идей и слов. Он из породы тех, кто столь успешно действовал в 89-м, а не из этих «новых», всяких там ренегатов типа Генца, с их оппортунизмом и безграмотным мистицизмом, поистине достойных слуг этих Габсбургов — Бурбонов — Романовых, которые настолько тупоголовы, что не в состоянии ни в чем разобраться, даже когда благодаря некоей идее прямо в них целятся из ружей! Слава богу, Меттерних сейчас в Вене, так что нам здесь предстоит бороться лишь с проявлениями нынешнего тупоумия, а не с изощренным коварством восемнадцатого века!
После столь бешеной тирады ни о какой вежливой сдержанности речи быть, разумеется, не могло.
— Мы назвали журнал «Новесма верба», — сказал Итале, и оба с энтузиазмом погрузились в обсуждение различных планов, перебивая друг друга, сверкая глазами, яростно жестикулируя и бегая взад-вперед по комнате. Закат тем временем догорел, в комнате стало темновато, но за дверью по-прежнему стучал ткацкий станок. Потом колокола — на университетской церкви Святого Стефана и на звоннице кафедрального собора — пробили шесть, половину седьмого, семь… крыши и трубы каминов по ту сторону улицы окончательно утонули в коричневых густых осенних сумерках, потом зажглись окна, и очертания крыш вновь возникли на фоне мрачного темного неба… Наконец Итале пришло в голову зажечь свечу. Он полностью сосредоточился на этом занятии, а когда поднял голову, то в неверном свете свечи встретился глазами с Эстенскаром, внимательно на него смотревшим.
— Вы понимаете теперь, почему я должен был прийти к вам? — спросил поэт.
— Да, и я очень рад, что вы пришли, — тихо ответил Итале.
— В тот вечер я вас сразу признал, — продолжал Эстенскар, по-прежнему следя за Итале желтоватыми, странно неподвижными глазами. — Не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду, употребляя это слово… Всегда в итоге приходишь в такие места, к таким людям, к которым не мог не прийти… Но если ошибешься, не признаешь их и отвернешься — все, судьба не задастся. Вы меня понимаете?
— По-моему, да.
— Судьба ведь не всегда милостива к человеку, как вам, должно быть, известно… хотя мне кажется, вы над этим пока не задумывались… Вы католик?
— В общем, да. Ем с помощью вилки и ножа, ношу шляпу и не украшаю себя перьями.
— Ну и я был таким. Только шляпу я снял.
— Разве внешняя форма так уж важна? — проявил великодушие Итале.
— Для поэтов — разумеется. Впрочем, не обращайте внимания. Я бы хотел… рассказать вам о себе, Сорде. — Он отвернулся от света, и лица его не было видно, но голос звучал требовательно и сурово. — Хотя, наверное, вы уже все обо мне знаете от Палюдескаров.
— Я у них с тех пор так и не был.
— Неужели? А Луиза несколько раз поминала вас в разговоре; я думал, вы часто у них бываете. Однако меня удивляет, что они тогда и словом не обмолвились на мой счет. Вообще-то благоразумная сдержанность не относится к числу их добродетелей. Оба просто обожают сплетни — причем чем грязнее и глупее, тем лучше, — и особенно любят так называемые амурные истории, для которых больше подходит старинное слово «адюльтер». Но раз уж мы с вами познакомились, то лучше я сам вам расскажу то, что вы все равно так или иначе узнаете от других. Два года назад я совершил один глупый поступок — влюбился. Мало того, стал любовником замужней женщины. Женщины довольно глупой, очень жадной, очень жестокой и не слишком красивой. Однако она мгновенно запустила свои коготки мне под кожу и стала править моими мыслями и плотью так, что я буквально превратился в марионетку и начинаю дергаться, стоит ей шевельнуть пальцем. Я стал ее собственностью. И если бы сейчас она позвала меня, я бы пополз к ее дому на четвереньках. Я немало времени провел у ее дверей, умоляя лакея впустить меня; я даже сходил к ее мужу и в с-слезах… просил его… Простите меня, Сорде! Я сейчас ухожу. И вообще, все эти истории вам совершенно ни к чему. — Эстенскар вскочил и бросился к двери, нервный, резкий, в элегантном, отлично сшитом сюртуке и великолепной сорочке. Итале, не задумываясь о последствиях своего поступка, преградил ему путь.
— Вы не можете сейчас уйти! — страстно выкрикнул он.
Эстенскар пошарил в воздухе рукой, нащупал свой стул без спинки и плюхнулся на него, сгорбившись и молча роняя слезы; потом достал из кармана платок, вытер глаза и высморкался.
— Все это совершенно ни к чему, — повторил он тихо и по-детски беспомощно. Потом решительно откинул назад свои рыжие волосы и заговорил, как обычно: пронзительным тоном, чуть насмешливо. — Как ваше имя?
— Итале.
— А мое Амадей. Что это там?… Сыр?
— Да, из Партачейки.
— Неужели с собой привезли? — Сыр находился от него довольно далеко, примерно на расстоянии метра.
— Нет, мне тетя прислала. Одному богу известно, как ей удалось уговорить того человека, чтобы он притащил такую огромную головку сыра прямо ко мне домой! Вы, кстати, перекусить не хотите?
Вскоре оба уже сидели за столом; сырная голова, в своей синей обертке выглядевшая куда более внушительно, чем ее владелец в своем синем сюртуке, устроилась на единственной в доме тарелке; рядом с тарелкой лежал нож и полбуханки хлеба, а также стоял кувшин с водой, довольно-таки противной на вкус.
— У меня гостей практически не бывает, — заметил Итале, — и мне нравится жить просто, как живут в провинции: ничего показного, никаких лишних тарелок, вилок, все по-свойски…
— Так вы сказали, вам тетушка сыр прислала? А еще родные у вас есть?
— Дядя, сестра, ну и, конечно, родители. По меркам Монтайны, семья у нас небольшая.
— Ну, у меня-то вообще один брат. Он безвыездно живет у себя в поместье. Так вы, значит, единственный наследник? Вам, должно быть, многим и весьма существенным пришлось пожертвовать, уезжая из дома?
— Мне казалось, что так нужно.
— Так нужно… — Эстенскар посмотрел на Итале, на сыр, на горящую свечу. — Как легко вы это сказали! Нетрудно догадаться, скольких переживаний стоила вам теперешняя легкость… Разумеется, вы правы: единственно верная дорога — делать то, что ты должен. Только я с нее сбился!
— Но ваши произведения…
— В последнее время — за много месяцев! — я не написал ни слова. Я понимаю, что это мой путь, но что, если он ведет в тупик? Или в пропасть?… В общем, «конец», как пишут, завершая книгу. Вряд ли возможно начать книгу со слова «конец», как вам кажется? — Эстенскар говорил спокойно, продолжая жевать хлеб с сыром. — Замечательный сыр! — заметил он.
В дверь постучали, за стеной в комнате ткача послышались чьи-то голоса, и в жилище Итале ворвался Брелавай, одетый щегольски — в парчовый жилет и обтянутую шелком шляпу, но такой же тощий, живой, ироничный, как и прежде.
— Победа! Триумф! — Он не сразу заметил незнакомца. — Ох, простите! Я не помешал?
— Конечно же, нет! Знакомьтесь: Томас Брелавай, Амадей Эстенскар. А что, собственно, случилось? Сыру хочешь?
— Для меня это такая честь, господин Эстенскар… поверьте… — забормотал Брелавай смущенно, и от этого насмешливое выражение у него на лице стало казаться дьявольски ироничным. — Нет, правда… я так польщен!.. Отстань, Итале! Никакого сыру я не хочу, сейчас не до сыру!
— Ну так давай рассказывай.
— Ничего, вы, пожалуйста, продолжайте лакомиться сыром, а я не стану вам мешать и посижу здесь
тихонько. Этот стул не развалится?
— Самый ненадежный стул у меня, — заверил его Эстенскар, продолжая жевать.
— Ты что, разговаривал с Гойне? — спросил Итале.
— Разговаривал. Сегодня после обеда, — сказал Брелавай. — И считай, что отныне я незнаком с тем, прежним Брелаваем: он, конечно, весельчак, но все-таки совершеннейший бездельник! Да ладно, знаю я, что вы обо мне говорите, мятежники чертовы; у вас ведь даже терпения не хватает подождать, пока человек к вам спиной повернется! Хотите послушать, сколь дипломатично, с каким исключительным тактом und so weiter, und so weiter
[20] я вел беседу с Гойне, или мне…
— Уймись, Томас!
— Но я получил полное одобрение и лицензию на издание журнала!
— Не может быть! Господи, неужели ты все-таки получил ее?! — подпрыгнув, завопил Итале, и Брелавай с важным видом, изо всех сил стараясь сдерживать собственный восторг, надменно спросил:
— Ну что, может, теперь все-таки вы мне позволите рассказать, а?
Некоторое время друзья говорили практически одновременно, перебивая друг друга, а Амадей Эстенскар с завистью наблюдал за ними. Да, он завидовал — их старой дружбе, их искреннему восторгу, — но душу его грызли сомнения: какое значение имеет столь крошечная трещинка в гигантской непоколебимой стене всеобщего равнодушия? Разве способна случайная искра света рассеять мрак мертвящей бесконечной ночи, этот сумрак разума? И все же он пришел сюда именно за ней, за этой искоркой надежды! И он, заражаясь радостью Итале и Брелавая, тоже вскочил.
— Идемте скорей! — воскликнул он. — Вы где обычно встречаетесь? В «Иллирике»? Для такой новости нужен свежий воздух, и побольше!
— Точно! Пошли, Итале!
— Иду, только шляпу надену! — Они ссыпались по темной лестнице и выбежали на улицу, где уже сгустились ранние осенние сумерки. С востока дул сухой порывистый ветер. — Скорей, скорей! — подгонял Итале, когда его спутники, увлекшись разговором, чуть замедляли шаг, и убегал вперед, переполненный радостным возбуждением и совершенно уверенный в будущем. Подставив лицо октябрьскому ветру, он громко распевал запрещенный гимн «За тьмой ночной придет рассвет, твой, о Свобода, день наступит вечный!», так что фланировавшие по тротуарам проститутки и уличная ребятня оборачивались ему вслед и смеялись.
Глава 9
Тот же сухой восточный ветер пел на следующий день в соснах, что растут у озера Малафрена по склонам гор, вершины которых уже надели свои белые снеговые шапки. В ясном утреннем свете берега озера были тихи и безлюдны. Пьера Вальторскар медленно брела по тропе, ведущей от перевала в долину. Справа простирались убранные поля и сады Вальторсы, слева — убранные поля и сады поместья Сорде. В прозрачном осеннем воздухе все вокруг было видно очень отчетливо — ветви яблонь, яблоки на них, комки земли под ногами, далекие горы… Ветер разметал волосы Пьеры, свободно струившиеся по плечам, колоколом надул красную юбку. В левой руке Пьера держала надкушенное яблоко, в правой — букет полевых цветов и трав.
По дорожке, вдоль яблоневого сада, принадлежавшего Сорде, ловко и аккуратно спускался какой-то всадник. Пьера сразу узнала и откормленную кобылу, и тощего седока и помахала букетом. Гвиде тоже помахал ей и подъехал поближе.
— А я уж думал, служаночка чья-то в воскресное платье вырядилась! А это ты, оказывается, в своем любимом наряде… — Иногда Гвиде обращался к Пьере на «вы» и называл ее «графиней», но чаще, как сейчас, говорил ей «ты», по-прежнему считая ее ребенком. Она же всегда говорила Гвиде «вы» и «господин Сорде», но то была лишь дань вежливости: она любила его, почти как родного отца. Иногда она даже думала, что ей, наверно, не следовало бы так сильно любить его. Она и сама не понимала, почему и за что любит этого человека. Вряд ли существовали такие весы, на которых можно было бы взвесить и оценить причину любви к кому-то, да и зачем взвешивать свои чувства? Она просто любила Гвиде, зная, что и он очень любит ее. В последнем она была уверена; знала это даже лучше, чем он сам. Не считая себя ответственным за эту девочку, Гвиде мог совершенно свободно проявлять свои чувства по отношению к ней, чего никогда не позволял себе в отношении собственной дочери и сына. Он мог играть и забавляться с Пьерой, как с ребенком, хотя давно уже перестал играть с Лаурой, прилюдно поддразнивать ее или хвалить. Вот и сейчас он, не скрывая удовольствия, с улыбкой смотрел на Пьеру; ему нравилось видеть ее такой — в развевающейся на ветру красной юбке, с растрепанными волосами, с сияющими глазами, юной, хрупкой и легкой, точно осколок этого ясного ветреного дня.
— А я стащила одно из ваших яблок! Вернуть?
— Ешь на здоровье, — улыбнулся он.
— Да им уже червяк успел полакомиться. Насквозь проел.
— Это не червяк, это змей, что соблазнил тебя, о Ева!
Она лукаво посмотрела на него и засмеялась.
— Можно, я угощу им Брюну? Или вы торопитесь, господин Сорде?
Она подошла и предложила кобыле надкушенное яблоко. Брюна помотала головой и закусила удила; Гвиде легонько шлепнул ее, кобыла взяла яблоко и аппетитно захрумкала. Они точно добродушно подшучивали друг над другом — он, девушка и своенравная старая Брюна, — и Гвиде наслаждался этим. Красота осеннего утра привела его в состояние спокойствия и умиротворенности; осень он любил больше всех времен года — только она давала ему это ощущение покоя.
— В Партачейку едете, господин Сорде? — спросила Пьера «светским» тоном. Она любила вот так мгновенно меняться, превращаясь из деревенской «Евы» в настоящую английскую «мисс».
— Да, — ответил Гвиде и поудобнее уселся в седле, — сегодня ведь почта придет.
— Ах да, разумеется! — Пьера, совершенно как деревенская девчонка, вытерла о лошадиную гриву руку, обслюнявленную Брюной, но продолжала изображать великосветскую даму: — Не правда ли, прекрасное утро для прогулки верхом?
— И для того, чтобы уроки прогуливать, тоже, — поддразнил ее Гвиде, шутивший всегда тяжеловато.
— Да вы что! Мисс Элизабет раньше восьми не встает! У меня еще уйма времени. — Пьера вплела в гриву лошади один из последних ярких васильков уходящего лета. Странно, думал Гвиде, всю жизнь встречаешься и расстаешься с людьми, но лишь очень немногих вспоминаешь потом с удовольствием и радостью. С такими иной раз встретишься и тут же расстанешься навсегда, но все время с тобой будет это ощущение радости и одновременно, как ни странно, грусти.
Пьера побрела к дому, бормоча строфу из какого-то французского стихотворения. Но делала это почти машинально: мысли ее не стояли на месте. Итак, сегодня придет почтовый дилижанс, высоченный, старый, насквозь пропыленный, и остановится у «Золотого льва». И в одном из двух-трех мешков с письмами, скопившимися за две прошедшие недели и адресованными жителям Озерного края, наверняка будет письмо семейству Сорде, толстый конверт с листками дешевой бумаги, и адрес на конверте будет написан черными чернилами, а уголки смяты и замусолены в результате долгого путешествия. Письма эти были Пьере хорошо знакомы. Элеонора и Лаура ей их читали порознь и вместе, читали их при ней друг другу, цитировали отрывки из этих писем, частенько перевирая текст (особенно этим отличалась Элеонора) и стараясь по-своему что-то истолковать, видели о них сны и дважды в месяц места себе не находили, пока не получали очередное послание; малейшая задержка почтовой кареты была для них сущим наказанием, зато ее прибытие неизменно превращалось в праздник. И каждый раз либо та, либо другая ездили в Партачейку за письмами, а то и отправлялись туда вместе. Пьера задумалась: интересно, почему на этот раз поехал Гвиде? Возможно, они ждут каких-то необычных известий? Так что днем, едва закончив занятия с мисс Элизабет, она сказала ей, что пойдет проведать Лауру, и отправилась к дому Сорде по берегу озера, ни на что не отвлекаясь и ни на шаг не отклоняясь от намеченной цели. Она была уже почти уверена, что Итале возвращается домой, а может, уже и приехал — на этой самой почтовой карете!
Лаура занималась французским с господином Кьоваем, старым учителем из Партачейки, который приходил к ней раз в неделю; Пьера тоже занималась с ним — разговорным французским. Господин Кьовай уже сорок лет учил всех юных девиц Малафрены, и все они говорили по-французски так, как не говорили больше нигде в мире, ибо здешний французский был в значительной мере изобретен самим господином Кьоваем. Когда-то он учил Элеонору, а теперь — ее дочь; обе ему очень нравились, спокойные, сдержанные, а вот Пьеры старик немного побаивался. Он даже присел от страха, как перепел, когда она появилась на тропе среди зарослей мандевилии и закричала издали:
— Que je vienne! Que tu viennes! Qu'il vienne! — Она отлично усвоила сослагательное наклонение глагола «venir» в прошедшем времени.
— Mais viens done! — сказала ей Лаура.
— Vient-il?
[21] — спросила Пьера. Господин Кьовай поспешил ретироваться, а девушки пошли в дом. — Ну что. получили письмо?
— Получили. Оно у мамы. Я потом принесу. Знаешь, они будут выпускать журнал! А Итале — главный редактор!
— Значит, он не… — Пьера не договорила. Конечно же, он не вернется домой! И что это ей в голову пришло!
Лаура выпросила у матери письмо, пообещав ни в коем случае его не порвать и не потерять, и девушки умчались в свой излюбленный уголок — на лужайку за лодочным сараем, которая в этот солнечный осенний денек казалась застланной золотисто-зеленым ковром. Едва усевшись, Пьера стала читать письмо, потом — уже во второй раз — его перечитала вслух Лаура. Итале, как всегда, писал довольно скупо и суховато. Он рассказывал о своей будущей издательской деятельности, пытался описывать Амадея Эстенскара, с которым недавно познакомился, — но все это каким-то не своим, книжным языком; видимо, он все время помнил, что его письмо будет читать множество людей. Он, например, очень подробно описал сражение с бюрократами из Управления по цензуре, однако из этого описания трудно было понять что-либо конкретное. И все же нельзя было не почувствовать, что письмо это — надо сказать, довольно косноязычное и чересчур сдержанное — буквально пропитано, прострелено насквозь неуемной радостью: наконец-то перед ним конкретная и важная задача, он подружился с великими людьми, он вышел на широкую дорогу, он переделает этот мир заново, и у него есть для этого силы!
— Интересно, как живут те молодые барон и баронесса… ну, о которых он писал в первых письмах? — спросила Пьера, глядя на темную гладь озера, по которой плясали солнечные зайчики.
— Он больше ни разу даже не упоминал о них, — сказала Лаура, бережно свертывая письмо. — Ах, Пьера, дорогая, как бы мне хотелось…
— Чего же?
— Не завидовать ему так сильно!
Пьера задумалась над словами, вырвавшимися у Лауры. Сперва они показались ей довольно бессмысленными. Лаура — это Лаура, а Итале — это Итале; и потом, она здесь, а он там. Пьере нелегко было мысленно соединить их — отсутствующего и ту, что с нею рядом. Ей не свойственно было, даже в воображении, легко преодолевать границы возможного. А потому она редко кому-то завидовала и редко чувствовала себя неудовлетворенной. Она вообще была осторожна, ибо стоило ей предположить, что нечто находится в пределах ее возможностей, как со всей присущей ей волей она начинала добиваться поставленной цели.
— Да, пожалуй, это несправедливо, — заключила она наконец. — Ведь у него столько радостей сразу, а у тебя ни одной!
— Это не просто радости. Дело в том… что он… делает что-то важное, интересное, стал личностью… Я ведь не просто скучаю здесь, дело вовсе не в этом…
— А я, например, ужа-а-асно скучаю! — протянула Пьера гнусаво, подражая старшей дочери Сорентая, и обе девушки весело рассмеялись.
— Мне никогда не бывает скучно, — продолжала Лаура. — Я просто порой чувствую себя ненужной. Вот послушай: примерно так Итале пишет о господине Эстенскаре, сейчас… вот: «Он изо всех сил стремится отыскать тот единственный путь, по которому хочет и должен следовать…» И сам Итале тоже пытается это сделать. И сделает. А я… То, чем занимаюсь я, может делать любой!
— Зато на свете больше нет и не может быть другой Лауры Сорде.
— Ну и какой в этом прок, если я ничего не значу и ничего не делаю?
— Но если бы ты не была такой, какая есть, то что бы, например, делала я? С кем бы мне тогда можно было поговорить, посоветоваться? Да я бы даже стать самой собой не смогла! Конечно, любой может делать то же самое, что делаешь ты, и все же никто не может тебя заменить! И я очень надеюсь, что ты никогда не переменишься!
— Вряд ли я способна перемениться в отношении того, что люблю, — сказала Лаура. Лицо ее было обращено к темной громаде горы Сан-Лоренц, высившейся над озером на фоне заката. — Но, видишь, ты уже влюблена, уже ступила на избранный тобой путь… а я все еще нет! Я вообще не знаю, куда мне идти. Сижу и жду, а время проходит — мимо, мимо, мимо! Так и вся жизнь мимо пройдет… Наверное, все-таки есть и у меня какое-то иное, большее предназначение, как ты думаешь?
Пьера молчала. Сейчас она вдруг почувствовала, что Лаура старше ее не на три года, а значительно больше. Действительно, порой разница между шестнадцатью и девятнадцатью годами поистине огромна. Пьера понимала, насколько еще неполноценен, недоразвит ее характер, и это не имеет никакого отношения к возрасту. Лаура считает, что она влюблена… Действительно, полтора месяца назад Пьера тайно обручилась с Александром Сорентаем и тут же все рассказала Лауре и показала ей перстень с красным камнем, подаренный ей Александром, который теперь повесила на цепочку и носила на шее. Все это правда. Но стоило Лауре намекнуть на это — и Пьера вспыхнула от стыда, словно ее застали за кражей варенья в кладовке. Да, она собиралась выйти замуж за Александра Сорентая, но… может быть, когда-нибудь потом, а в глубине души их помолвку она вообще серьезно не воспринимала. Зато Лаура воспринимала ее со всей серьезностью; ей бы и в голову не пришло, что подобными вещами можно играть. Например, заявить, что ты влюблена и обручена, вовсе этого человека не любя. Пьера чувствовала себя маленькой и глупой; а подаренный Сорентаем перстень с красным камнем холодно касался ее груди, будя угрызения совести. «Ох, и свинья же я! — думала она. — Настоящая свинья!»
— Я знаю, когда ты влюбишься, — сказала наконец Пьера, — то в совершенно потрясающего человека! В настоящего короля! Тут, конечно, таких нет, так что это будет человек издалека, храбрый и благородный, как дев. И ты уедешь с ним в дальние края, повидаешь — ну, я даже не знаю! — Вену и другие города, и у тебя будет интересная, чудесная жизнь, ты станешь работать с ним вместе и писать домой письма, а я буду тебе завидовать…
— Глупышка! — ласково сказала Лаура. — С какой стати и ради чего мне уезжать из Малафрены? Пойдем-ка — пора к вечерне, Пери.
— Ох! Я совсем забыла, ведь и мисс Элизабет тоже хотела пойти! Скорей! — Пьера вскочила, готовая бежать, — точно резко отпустили ветку, притянутую к земле. Лаура неторопливо распрямила затекшие ноги, встала и последовала за ней. Они отнесли Элеоноре письмо Итале, запрягли в повозку пони и поехали в Вальторсу за гувернанткой Пьеры. К началу службы они едва успели. Здесь, у подножия горы Сан-Лоренц, солнце уже давно погасло. Гранитная часовня Святого Антония казалась совсем маленькой, почти игрушечной на фоне мрачной, заросшей лесом горы, высившейся над озером. В часовне пахло влажным камнем, побелкой, благовониями и сосновой смолой. Лаура, Пьера, полная спокойная мисс Элизабет, молодая крестьянская пара да три старухи — вот и все прихожане в тот вечер. Они благоговейно слушали священника, а вокруг царила глубокая тишина, свойственная этим уединенным местам. Становилось все прохладнее. Когда после окончания службы они вышли из часовни, озеро вдали казалось темно-серым из-за быстро спускавшихся сумерек, а вода в тени горы покрылась полосами из-за сильного холодного ветра, который поднялся к вечеру.
Лаура и священник, отец Клемент из Синвийи, будучи давними приятелями, затеяли оживленную беседу, потом решили помочь одной из старых прихожанок и привезти ей немного дров для камина, потом священник поехал вместе с девушками ужинать к Сорде… В итоге Пьера и мисс Элизабет вернулись в Вальторсу довольно поздно. После ужина граф Орлант, мисс Элизабет, их сосед Роденне и новый управляющий графа сели играть в вист, «фист», как его называли в Монтайне. Здесь этой игре отдавали почти все осенние и зимние вечера. Тетушка сидела в своем кресле с прямой спинкой, держа на коленях клубок красной шерсти. Пьера устроилась у мраморного камина с учебником. Считалось, что она пишет сочинение об обязанностях юной дамы. Пьера ненавидела писать сочинения или письма, вести дневник или вообще что-то писать. Все эти занятия всегда казались ей ужасно скучными, а кроме того, она терпеть не могла, когда мисс Элизабет обводит красным кружком сделанные ею ошибки. Впрочем, Пьере удалось вполне успешно сочинить первое предложение: «Молодые девицы должны быть послушны».
— Тетушка, хочешь, я тебе почитаю? — предложила она.
— Нет, моя дорогая, — сказала Тетушка, медленно сматывая нитки в клубок.
«Молодые девушки должны быть послушны…» Пьера снова задумалась. «Они также не должны спорить и повышать голос. Существует огромное количество вещей, которые молодые девушки делать не должны. Но все это не обязанности». Ее перо само вдруг принялось что-то рисовать, и в итоге на листе бумаги появились три профиля молодых людей с огромными глазами и длинными носами; все головы были повернуты влево. Чуть погодя Пьера изобразила в профиль льва с курчавой гривой, который смотрел вправо. «Каждая молодая девушка должна обрести М. и иметь от него Д.», — написала она меленько и тут же несколькими жирными чертами зачеркнула написанное. «Для молодой девушки очень важно быть прилежной и всегда учить уроки, — написала Пьера. — Хотя для девушек это и не так важно, как для молодых людей, потому что молодым людям знания приносят гораздо больше пользы в их дальнейшей жизни. Девушки же должны быть всегда чистыми и аккуратными». Она нарисовала трех девушек с греческими носами — все три смотрели влево. Еще несколько минут — и Пьера сдалась окончательно; отложив сочинение, она стала наблюдать за игравшими в карты мужчинами.
Отец держал карты буквально у самого носа, но не потому, что страдал излишней подозрительностью; просто был очень близорук. У Роденне, их соседа-щеголя, была легкая рука, так что ему всегда везло в игре. Он был владельцем небольшого поместья, но его излюбленными занятиями были хождение в гости и охота. Он никогда не был женат, утверждая, что жена станет лишь помехой в этих его увлечениях. Мисс Элизабет, как всегда, выглядела спокойной и вполне довольной собой и жизнью. Она обладала удивительным свойством не обращать внимания на мелкие неприятности и смиренно благодарила за это Господа. Рядом с ней новый управляющий Гаври выглядел острым, как лезвие ножа. Он был родом из Валь Альтесмы и всего месяц назад появился в доме графа Орланта. Пьера до сих пор не обращала на него особого внимания, поскольку он вечно был занят какими-то документами, счетами, деловыми разговорами с отцом, а с нею не перекинулся и парой слов и чаще всего пропускал обед, продолжая работать либо в конторе, либо где-то в садах и полях Вальторсы. Сейчас Гаври сидел молча, но чувствовалось, что он напряженно вглядывается в лица других игроков. Пьера от нечего делать решила рассмотреть его повнимательнее. Он был худощав и довольно красив: изящно очерченный рот, темные глаза, рыжевато-каштановые волосы. Разглядывая его, Пьера думала, что самое лучшее в ее помолвке с Александром Сорентаем — это ощущение обретенного убежища, из которого можно теперь совершенно спокойно смотреть на других мужчин.
С двенадцати лет она постоянно стремилась в кого-нибудь влюбиться. Это оказалось делом нелегким, и она влюблялась в мужские портреты, в незнакомцев, мельком увиденных на улицах Партачейки, в героев романтических литературных произведений и, разумеется, в тех немногочисленных мальчиков, с которыми была знакома и которые стоили хоть какого-то внимания: были лишены, скажем, уродливых родимых пятен или отвратительных прыщей и бородавок и не казались ей полными тупицами. Да, влюбиться в кого-нибудь по-настоящему оказалось непросто. Но Пьера не теряла надежды и не унывала. Она упражнялась, влюбляясь во всех по очереди, как музыкант упражняется в игре на скрипке — не то чтобы хладнокровно, но тем не менее методично, и не ради сиюминутной выгоды или развлечения, и не потому, что ему так уж хочется отыграть каждую гамму еще раз десять сверх положенного, но потому, что играть на скрипке нужно непременно хорошо, ибо лишь так он может проявить свой талант и выразить себя как личность. Александра Сорентая Пьера знала с рождения. Ни одно общественное событие не обходилось на северном берегу озера без участия Сорентаев, Сорде и Вальторскаров, хотя в последнее время численность двух последних семейств значительно уменьшилась, а род Вальторскаров вполне мог на Пьере и завершиться. Зато Сорентаи множились и процветали. Под их династической крышей всегда было не менее полутора десятков отпрысков; они занимали обширные владения к северо-западу от Вальторсы, в долине под горой Синвийя. В данный момент в этой старейшей семье края было шестеро детей — три дочери и три сына. Все они отличались высоким ростом и шумным, веселым нравом, за исключением старшего, Александра, который был и ростом невелик, и нравом спокоен. Александр и Лаура Сорде были ровесниками, и когда обоим исполнилось по шестнадцать, он написал ей длинное любовное письмо, напичканное цитатами из «Новой Элоизы» Руссо (которую его мать год назад взяла почитать у Элеоноры, да так и забыла вернуть). Лаура сразу показала это письмо матери, и та посоветовала ей ничего не предпринимать и никак своего отношения к письму не показывать. И действительно, ничего из этой «любви» не получилось, однако и Лаура, и Александр еще долгое время смущались, вспоминая об этом письме; оно легло на их отношения подобно тяжкой могильной плите, и в течение трех последних лет они на каждом балу танцевали друг с другом, храня тяжкое, мучительное молчание. Так что Лаура испытала огромное облегчение, когда на очередном балу смогла наконец препоручить заботам Александра Пьеру, а сама с удовольствием танцевала весь вечер с Сорентаем-отцом и с многочисленными дядьями Александра, а также его кузенами, зятьями и прочими представителями неисчислимого клана Сорентаев. Это «препоручение Пьеры» имело место в августе, на том самом балу, который они так живо обсуждали на берегу озера уже описанным ранее июльским вечером, на том самом балу, где Пьера появилась в белом платье с расшитым золотыми цветами корсажем. Это было ее первое бальное платье! Александр тогда уставился на нее так, словно увидел впервые в жизни. А впрочем, в этом чудесном платье Пьера действительно показалась ему совершенно незнакомой. Она вдруг возникла перед ним в сиянии юной женственности, будто далеко позади оставив свое недавнее детство по воле Господа и благодаря искусству швеи. К полуночи Александр был совершенно уверен: если Пьера откажется выйти за него замуж, жизнь лишится для него всякого смысла. Тремя неделями позже во время пикника, устроенного в сосновом лесу на другом берегу озера, когда солнце уже клонилось к вечеру после долгого дня, полного шума и веселья, Александр отозвал Пьеру в сторону и обратился к ней с несколько высокопарной и прерывистой, но искренней речью и предложил ей руку и сердце. Пьера приняла его предложение сразу. «Хорошо», — только и сказала она, сидя на упавшем дереве у ручья. Александр стоял, неуклюже склонясь над ней и не осмеливаясь ни опуститься перед ней на колени, ни просто сесть рядом.
— Можно мне поговорить с твоим отцом? — спросил он.
— А может быть, нам стоит еще немного подождать? — предложила она.
Она не объяснила, почему нужно ждать, да он и не спросил. Они согласились на это без обсуждений и решили, что помолвку следует сохранить в тайне. Оба не сомневались, что именно так и следует поступить. Они полностью доверяли друг другу. Александр, сгорая от неподдельной страсти, был уверен, что это любовь до гроба. Пьере же все это казалось скорее игрой; впрочем, не совсем игрой, а чем-то вроде музыкальных упражнений, когда после хорошо разученных гамм можно наконец перейти к НАСТОЯЩЕЙ музыке — какому-нибудь moto perpetuo
[22] или тарантелле для начинающих. Она не знала, почему Александр сказал, что непременно женится на ней. Она-то пообещала выйти за него только потому, что ей хотелось еще поупражняться в искусстве любви. О возможности заключения брака с Александром она старалась не думать. Они считались женихом и невестой, были помолвлены, и пока что ей этого было более чем достаточно. При этом они все время обманывали: друг друга (причем Пьера обманывала Александра сильнее, чем он ее), а также себя (причем Александр себя обманывал сильнее, чем Пьера). Но тем не менее оба были вполне счастливы. Пьера, сидя тогда на стволе упавшего дерева, подняла глаза и посмотрела в суровое мальчишеское лицо Александра, и он, глядя на нее сверху вниз, промолвил:
— Теперь ты моя невеста!
А чуть позже прибавил:
— Ты ведь знаешь, что наши земли граничат? На холме Галия.
Он, старший сын, являлся основным наследником земельных владений Сорентаев; а Пьера была единственной наследницей Вальторсы. Объединенные земли стали бы великолепным помещением капитала. Пьера находила весьма интересным, что Александр уже понимает это и заботится о будущем; ее прямо-таки восхищала его хозяйственная прозорливость. Отец Пьеры был человеком непрактичным, мало приспособленным к тому, чтобы управлять своим обширным хозяйством, а уж когда графу приходилось решать денежные вопросы, он становился совершенно несчастным. Гвиде Сорде всегда стремился наставить его на путь истинный. Однако Гвиде, будучи отличным хозяином, тоже не отличался особой практичностью. Дело в том, что он больше любил сам процесс работы, а не ее результат; получаемый доход интересовал его значительно меньше. Александр же не считал занятия хозяйством ни наказанием, ни самоцелью, но воспринимал это как средство существования. Предпочитая работу в конторе работе в полях, он уже два года вел всю бухгалтерию отца, и его рассказы о неудачных или выгодных сделках, о хозяйственных доходах и расходах оказались для Пьеры чем-то совершенно новым, и она с глубоким интересом его слушала: Ее умная заинтересованная манера слушать и непритворное восхищение его, Александра, талантами просто пленили молодого человека и привязали его к этой девушке узами куда более прочными, чем любовное томление.
Звездный час для Пьеры наступил, когда она сообщила о своей помолвке Лауре. Наконец-то она почувствовала себя победительницей! А Лаура, действительно ощутив мимолетный укол зависти, решила не придавать этому значения: подобные эмоции казались ей недостойными внимания, жалким мусором в мощном и чистом потоке их дружбы. Впрочем, очередная влюбленность Пьеры и ее помолвка с Александром и в жизнь Лауры внесли какое-то разнообразие, ибо жилось ей как-то уж чересчур спокойно и одиноко. А Пьера, не рассказав о своей тайной помолвке Лауре, и вовсе не получила бы никакого удовольствия. Ей куда больше нравилось разговаривать с Лаурой об Александре, чем пребывать в обществе самого Александра.
Хотя видела она его нечасто: открыто ездить к ней как к своей невесте он пока не имел права. Кроме того, она требовала, чтобы их отношения сохранялись в тайне. А визит молодого человека к молодой девушке местное общество, крошечное, но весьма наблюдательное, расценило бы однозначно. Поэтому влюбленные встречались тайком, и основная роль Лауры заключалась в том, чтобы эти свидания устраивать. Причем эта романтическая игра занимала ее в неменьшей степени, чем самих Пьеру и Александра; и. пока они шептались в тени лодочного сарая, Лаура честно стояла на страже, возможно, даже более счастливая, чем» они сами.
На самом первом своем свидании они даже поцеловались, причем внезапный и неуклюжий поцелуй Александра пришелся Пьере куда-то ближе к уху. После этого они надолго застыли в полной неподвижности, не осмеливаясь пошевелиться, так что даже шеи у обоих заболели. Пьера всем сердцем старалась почувствовать радость или хотя бы возбуждение, однако, даже оставшись одна, так ничего особенного и не почувствовала; и даже упоминать об этом поцелуе в разговоре с Лаурой не стала. Да и Александр больше не пытался ее поцеловать. Самое большее — брал ее за руку, и ладонь его тут же становилась влажной, что Пьере было не очень-то приятно. Однако Александр этого не замечал и продолжал держать ее руку в своей на протяжении всего их разговора, хотя девушка все время старалась незаметно руку высвободить.
Однажды, в очередной раз болтая с Пьерой — а разговоры подруг о любви доставляли обеим особое удовольствие, — Лаура сказала:
— Ты знаешь, Пери, теперь и я могу кое-что сказать тебе по секрету.
— Что, что, что?
— Да, в общем, ничего особенного. Я все думала, как хорошо было бы, если бы вы с Итале полюбили друг друга. Ну, ты же знаешь, как мы иногда придумываем себе такую жизнь, какая нам непременно понравилась бы…
Пьера понимающе кивнула.
— Только из этого все равно ничего не получилось бы, — вздохнула Лаура.
— Но почему?
— Ну… эта его политика!.. Да и характеры у вас обоих… Хотя, с другой стороны, он, конечно же, не Александр!
И вот сейчас, сидя у камина и пытаясь написать сочинение об обязанностях юной дамы, Пьера вдруг вспомнила тот короткий разговор с Лаурой, ее чуть насмешливый намек на то, что «Итале, конечно же, не Александр», и то, с какой любовью и одновременно как бы с вызовом посмотрела на нее Лаура, и холодный озноб пробежал у нее по спине. Влюбиться в Итале? Выйти за него замуж? Нет! Это было бы нечто совершенно отличное от их отношений с Александром Сорентаем. Их помолвка, их привычка держаться за руки была обыкновенной игрой, в которую Пьера могла бы, казалось, играть до бесконечности. А вот с Итале в такую игру она играть не смогла бы, не смогла бы в этой игре быть ведущей. Нет, о подобной игре с Итале даже и думать не стоило! И об Итале тоже не стоило думать, не стоило вспоминать тот дивный аромат мандевилии, шум летнего ливня и то, как он стоял в проеме распахнутой двери… Пьера так и не прочла ту книгу, которую он ей подарил на прощанье. Она называлась «Новая жизнь» и по-прежнему стояла у нее в комнате на верхней полке шкафа. Пьера даже ни разу не достала ее оттуда. А сегодня утром ей почему-то вдруг пришло в голову, что Итале возвращается. Какая чепуха! Он и не думал возвращаться. Он уехал навсегда.
Тетушка давно уже смежила веки, пальцы ее неподвижно застыли на клубке красной пряжи.
«Молодые девушки должны быть послушны… Они всегда должны быть чистыми и аккуратными…» Пьера зевнула, и Роденне, заметив это, улыбнулся ей добродушно и сказал, не отрываясь от карт:
— Не проглотите ненароком камин, графинечка!
Вдруг снаружи послышались чьи-то голоса и шаги, и Пьера встрепенулась: слава богу, кто-то приехал! Это оказался священник, отец Клемент, которому нужно было посоветоваться с графом насчет очередного собрания Братства католиков Валь Малафрены; с отцом Клементом прогулки ради пришли и Сорде. Элеонора принесла Тетушке несколько мотков шелковой пряжи новых оттенков.
— Как ваш ревматизм, дорогая? Не стало ли вам лучше? — ласково спросила она старушку, и та, открыв свои ясные серые глаза и увидев перед собой Элеонору, ответила ей без малейшего удивления:
— Да нет, все так же.
Гвиде и Роденне тут же углубились в беседу о гончих псах, а Пьера отправилась на кухню, чтобы отдать соответствующие распоряжения повару и поторопить его, ибо граф Орлант никогда ни одного гостя без угощения не отпускал. Новый управляющий графа встал из-за стола с разложенными на нем картами, расправил спину и плечи, неторопливо подошел к камину и встал к нему спиной, явно желая согреться. Лаура, вернувшись в гостиную, вежливо спросила:
— Как вам нравится здесь у нас, в Малафрене, господин Гаври?
— Очень нравится, госпожа моя, — ответил он. Она вспыхнула, как всегда при разговоре с малознакомым человеком, ведь она видела нового управляющего лишь мельком и всего несколько раз. Да и сказать им друг другу было, собственно, больше нечего.
Возвращаясь домой по тропе, что вела по самому берегу озера, Лаура спросила у отца:
— Папа, а что за человек — этот новый управляющий графа Орланта?
— По-моему, граф сделал очень удачный выбор. Этот Гаври, надеюсь, сумеет наконец привести поместье в порядок. Если ему не надоест, конечно.
— А я мало что смогла узнать о нем, — заметила Элеонора. — Знаю только, что к семейству Гавре из Кульме он не имеет никакого отношения; да и фамилия его — Гаври. Говорят, его отец — обычный фермер, фригольдер, живет близ Мор Альтесмы, а сам Берке Гаври — второй сын в семье. Он не очень-то любит о себе рассказывать, так что никто из дам в Вальторсе практически ничего о нем не знает. Надеюсь, он, по крайней мере, честен. Иначе как можно доверять человеку, который не желает ни слова о себе сказать?
— Зато он точно не пустомеля, — заметил Гвиде суховато, но довольно добродушно. Он с наслаждением вдыхал холодноватый воздух осеннего вечера, чувствуя в своем теле ту же молодую силу и гибкость, что и прежде, и бережно поддерживал жену под руку своей крепкой рукой. Пятьдесят шесть лет — не самое плохое время в жизни! Гвиде приятно было возвращаться домой темным октябрьским вечером при свете звезд, слушать, как шумят сосны над головой, и неторопливо шагать между двумя самыми любимыми существами на свете.
Когда Лаура прощалась с ним перед сном, прежде чем подняться к себе, он поцеловал дочь и перекрестил ей голову, что в последнее время делал довольно редко.
Элеонора смотрела на них и думала: «У тебя есть твоя дочь, Гвиде, а мой сын сейчас так далеко!» Но этот всплеск затаенной тоски тут же погас, как только она посмотрела Лауре в лицо: девушка весь вечер казалась чем-то встревоженной, напряженной. Лаура была очень похожа на брата, она напоминала его всем — поворотом головы, интонациями. Так чью же голову только что крестил Гвиде? — подумала вдруг Элеонора. Дочери или сына? Он ведь не может не замечать их сходства. Глаза, руки, сердце Гвиде всегда были добрее, чем его рассудок, — и мудрее.
Элеонора поднялась наверх следом за Лаурой. Проходя мимо ее спальни, она заметила темный силуэт дочери на фоне окна, жемчужно-серого от звездного света.
— Я думала, ты уже легла.
— Мне хотелось посмотреть на озеро.
В своей белой ночной рубашке Лаура казалась очень худой и высокой, чем-то похожей на белого журавля, вспугнутого ночью в тростниках.
— Ты же босиком! Немедленно в постель, пока плеврит не подхватила! — Элеонора уложила дочь и, подняв голову, посмотрела в открытое окно: там, на фоне звездного неба над долиной, над садами чернела громада Сан-Дживан. В окно вливался чистый холодный воздух осенней ночи, пахнувший сухой листвой. Лаура, свернувшись в постели клубком, смотрела на мать. Тонкая, с длинными пальцами рука Элеоноры лежала на одеяле; на пальце поблескивало золотое обручальное кольцо, чуть потускневшее и истончившееся от времени.
— Мама, а в кого ты влюбилась в самый первый раз?
— В твоего отца.
— А не в того лейтенанта кавалерии? Помнишь? Элеонора рассмеялась и чуть выпятила нижнюю губу в притворно-застенчивой и лукавой гримаске.
— Ох, нет! Там и влюбляться-то было не во что — одни усы да сапоги!..
— А можно влюбиться по собственному желанию?
Элеонора задумалась.
— Честно говоря, не знаю. Звучит очень странно. Но я полагаю… Видишь ли, настоящая любовь приходит уже после замужества. По крайней мере, у нас. — Она имела в виду женщин. — Я не уверена, что можно заставить себя почувствовать расположение, а уж тем более любовь, к тому или иному человеку; но если ты уже чувствуешь такое расположение, то его, безусловно, можно усилить.
Они минутку посидели молча, окутанные покоем засыпающего дома; Лаура думала о будущем, ее мать — о пролом.
— А как смешно отец Клемент ел суп, правда? — вдруг сказала Лаура.
Обе рассмеялись.
— Я когда его вижу, то почему-то всегда представляю себе ту серую несушку, которую Эва так любила, помнишь? — сказала Элеонора. — Эта курица еще так смешно кудахтала, стоило ей снести яйцо. И мне кажется, что отец Клемент… кудахчет очень похоже! — Мать и дочь снова засмеялись. На лестнице послышались шаги Гвиде, и Элеонора встала, собираясь идти к себе. Она смотрела на дочку внимательно, заботливо, чуть склонив голову набок. — Ты какая-то грустная, детка, — сказала она наконец.
— Нет, что ты, мама!
Элеонора продолжала молча смотреть на нее.
— Знаешь, я ужасно скучаю без Итале! Особенно когда письма приходят!
— Нам давно пора ответить на письмо Матильды, — словно не слыша, заметила Элеонора.
Матильда была женой ее брата, Анжеле Дрю. Они жили в Соларии и давно уже приглашали Лауру провести с ними всю зиму.
— Ой нет, я лучше весной поеду! — воскликнула умоляющим тоном Лаура.
— Для твоих легких очень полезно было бы провести зиму в долине, — трезво заметила Элеонора. — К тому же скоро Рождество, повидаешь новых людей… Ну ладно, не волнуйся. Но нам действительно стоит подумать об этом серьезно, дорогая. Ну-ка, спрячь ноги под одеяло, в комнате холодно! Ты ведь не ногами дышишь, а носом. Спи спокойно, милая. — Элеонора задула свечу на комоде и вышла — маленькая, изящная, женственная фигурка, точно плывущая в темноте.
Спать Лаура была не в силах, однако ноги под одеяло послушно спрятала. И села в постели, обхватив колени руками и задумчиво глядя на темную гору за окном и звездную дымку вокруг нее и над нею. Звезды то вспыхивали, то меркли — казалось, их задувает осенний ночной ветерок.
Часть III. Выбор
Глава 10
Осенью 1826 года Пьера уехала учиться в Айзнар, находившийся в полусотне километров к северу от ее родного поместья. С нею отправились граф Орлант, мисс Элизабет, которая родилась в Айзнаре, а также кузина Пьеры, Бетта Берачой из Партачейки, которой захотелось повидаться со своими айзнарскими друзьями и которую, разумеется, Вальторскары пригласили в свою карету. Их сопровождали камердинер графа и его старый кучер Годин, прослуживший у Вальторскаров уже полсотни лет. В конце сентября ранним утром огромная, поскрипывающая под тяжким грузом семейная карета Вальторскаров, которая была старше даже старого Година, выехала со двора. Пьера прижалась лицом к окну, прощаясь с друзьями и с Малафреной; личико ее казалось очень бледным, осунувшимся. Лаура разрыдалась. Александр Сорентай скакал верхом рядом с каретой до самой Партачейки, но сказать Пьере не мог ни слова, поскольку окна были наглухо закрыты.
В то лето их отношения стали значительно прохладнее. Они уже второй год были помолвлены, и как-то раз Александр даже высказал вслух некоторые сомнения в том, что по-прежнему необходимо держать их помолвку в тайне. Пьера, разумеется, тут же на него надулась. Хотя настоящей ссоры так и не возникло, поскольку Александр ссориться с Пьерой совершенно не собирался: его приводила в ужас одна лишь мысль о том, что он может потерять свою невесту. Так что он немедленно возобновил долгие беседы с Пьерой о «Новой Элоизе» и встречи в темноте у лодочного сарая. Но Пьера в эти игры уже досыта наигралась, и они ей изрядно наскучили. Теперь ей даже хотелось поссориться с Александром, а после бурной ссоры можно было бы устроить, например, не менее бурное примирение со слезами и поцелуями или же окончательно порвать отношения и некоторое время страдать из-за разбитого сердца. Но Александр ссориться ни за что не желал. Он был идиотически терпелив и нежен, точно верный пес, и без конца повторял: «О Пьера, когда ты уедешь, я каждую минуту буду думать о тебе! Я никогда не перестану любить тебя!» — так что во время их последнего свидания Пьера даже расплакалась. Когда карета Вальторскаров подъехала к широким воротам Партачейки, Александр придержал своего коня и поднял руку в последнем «прости». Пьера вся извертелась, оглядываясь назад и пытаясь разглядеть своего юного возлюбленного сквозь желтоватое слюдяное заднее окошко кареты. Время от времени она нащупывала висевшее на груди кольцо с красным камнем, подаренное Александром. Постепенно неподвижный силуэт всадника становился все меньше, тая вдали, и Пьере показалось, что вместе с ним удаляется от нее и детство, проведенное в мечтательной тиши на берегах озера Малафрена. Ей стало грустно, но тем не менее глаза ее остались сухи.
— Какой милый и благоразумный юноша этот Сандре Сорентай, — заметил граф Орлант и загадочно усмехнулся. — А я уж думал, он будет сопровождать нас через весь город…
Они проехали Партачейку насквозь и, выехав из ее северных ворот, миновали разрушенную крепость Вермаре и стали спускаться вниз, в окутанную золотистой дымкой долину. Ближе к вечеру окрестные холмы затянуло серой пеленой и пошел мелкий дождь. Объединенными усилиями пассажирам кареты удалось все же распахнуть в ней окна, и Пьера чуть ли не по пояс высунулась наружу, вдыхая прохладный и влажный воздух. Граф Орлант устал; слишком долго ехать в карете было ему уже не под силу, к тому же старый Годин берег своих упитанных лошадок, так что вскоре они остановились на ночлег в селении Бовира, проехав чуть больше половины пути. На следующий день они спустились с предгорий в долину, носившую название Западные Болота; эта долина, покрытая невысокими холмами, точно волны убегавшими за горизонт, показалась Пьере похожей на тихое земляное море. К вечеру они добрались до Айзнара. Вскоре карета уже катилась по улице Фонтармана под огромными платанами, тронутыми золотом, мимо фонтанов, мимо огромных и мрачных серых городских домов, высившихся справа и слева. В последний раз Пьера приезжала в Айзнар, когда ей было лет восемь, и в памяти ее осталась только эта улица с фонтанами и огромными, смыкающимися над головой деревьями. Теперь она с любопытством смотрела вокруг, замечая и элегантные экипажи на площади Круглого Фонтана, и красиво одетых женщин, державшихся так изящно и свободно, как
в Монтайне никто даже и не умел. Пьера просто не в силах была сдержать распиравшее ее возбуждение. Это же настоящий большой город! — думала она. Город! Город!
На самом деле Айзнар был тихим провинциальным городком, и громче всех говорили здесь его фонтаны. Тут не требовалось рыть глубокие колодцы; вода была близко и, вырываясь из скважин наружу, легко взлетала вверх, к солнцу, а потом с серебряным звоном падала вниз; фонтаны были на каждом углу, почти в каждом дворе. А в спальне монастырской школы, где должна была отныне учиться Пьера, слышался разом шум целых двух фонтанов — небольшого, но очень изящного фонтана во дворе школы и мощного Кругового фонтана на треугольной площади перед монастырем. Шум этих струй воспринимался, как неумолчная беседа двух нежных и чистых благословенных Душ, которые так долго пробыли вместе в раю, что могут говорить и слушать одновременно, воспринимая друг друга на каком-то ином, высшем уровне. Впрочем, все это было, конечно, очередной выдумкой Пьеры — в первые ее ночи в монастырской спальне она особенно часто обращалась в мыслях своих к образам неких благословенных существ. Все здесь было для нее непривычно: ей никогда прежде не доводилось жить среди монахинь, носить форменное серое платье, ходить по улице парами — впереди монахиня, за ней младшие ученицы, затем девочки постарше, затем воспитанницы старших классов и, наконец, вторая монахиня, — вставать до рассвета и часами молиться вместе с пятьюдесятью монахинями и воспитанницами, преклонив колена на голом каменном полу пустоватой часовни. Однако ни один из обычаев этой новой жизни не раздражал Пьеру, даже когда уехал отец и возбуждение, вызванное сменой обстановки, сменилось молчаливой грустью и тоской по дому. Ей нравился этот город, школа, новые подруги; она охотно сменила любимую темно-красную юбку на серое форменное платье, не цепляясь за свое чересчур затянувшееся вольное детство. Она не слишком грустила, вспоминая отца, Лауру, милые лица близких. Скучала она лишь по дому в Вальторсе, по его просторным прохладным комнатам, по окрестным садам, виноградникам и полям, по знакомой зубчатой линии горного хребта на фоне небес, по озеру, по скалам на берегу… Пьера была из тех, для кого важна сама вещь, а не степень ее полезности. Она воспринимала окружающий ее мир, как жаворонок воспринимает солнце, как волк воспринимает дождь. То, что давали ей, она всегда принимала с охотой. И всегда тосковала, если это у нее затем отнимали, и не переставала оплакивать эту потерю.
Во все стороны от Айзнара простирались спокойные поля, поражавшие Пьеру мягкостью своих красок. В ясные дни, если посмотреть из окна монастырской школы на юг, можно было различить собиравшуюся на горизонте голубоватую дымку или груду пышных облаков; там, за этими облаками, были ее родные горы и ее любимое озеро Малафрена.
Пьере исполнилось семнадцать. С апреля она умудрилась вырасти еще на целый дюйм. Согласно правилам монастыря, она теперь гладко зачесывала волосы, открывая умный широкий лоб, который хотя и обладал довольно нежными очертаниями, но все же выдавал упрямый характер своей хозяйки и чем-то напоминал лоб молодого бычка. В сереньком школьном платьице Пьера выглядела чистенькой примерной школьницей; двигалась она теперь не так порывисто, а говорила значительно тише. В последнее время она была влюблена в свою учительницу французского языка, сестру Андреа-Терезу. Андреа-Тереза была хрупкой, очень сдержанной и очень милой, так что основными добродетелями Пьера считала теперь сдержанность, скромность, изящество и милосердие. Все ее мысли в ту осень были исключительно благочестивы. В самый разгар своей любви к Андреа-Терезе, поддавшись порыву христианского самопожертвования, она написала письмо Александру Сорентаю и вложила в конверт кольцо с красным камнем. Письмо было исполнено искренней нежности и самоотречения. Но впоследствии Пьера не могла без стыда и мучительных угрызений совести вспоминать об этом послании и наспех сунутом в конверт и кое-как завернутом в бумажку кольце.
Подоспело Рождество; на каникулы Пьера домой не поехала: дороги в Монтайну, сперва размокшие во время осенних дождей, а теперь заваленные снегом, стали непроходимыми. Да ей и самой больше хотелось остаться в школе с монахинями и еще несколькими девушками, которые, как и она, не смогли проехать в родные горные селения. Однако, покорная воле отца, Пьера все же поехала погостить к родственникам, у которых они с отцом останавливались в сентябре. То была родня со стороны покойной матери Пьеры, семейство Белейнин.
Их дом находился в новой части города, на площади Принца Гульхельма, в четырех кварталах от знаменитого Римского фонтана. Дому было лет сто, не меньше; он был очень красив, из желтого айзнарского песчаника, с садом, обнесенным стеной, в центре которого шумел маленький фонтан. Дом этот, как внутри, так и снаружи, поражал своей простотой и элегантностью, хотя и выглядел несколько обветшавшим. Впрочем, айзнарские аристократы и не стремились к внешнему блеску. Полировки требует только столовое серебро, а старинные золотые вещи лучше оставить в покое — таково было их мнение на сей счет. На светских раутах, покинув свои обнесенные высокими стенами сады и особняки с просторными высокими залами, где царили тишина и покой, они могли быть поистине великолепны, но надменными их никак нельзя было бы назвать — для этого они были слишком миролюбивы и слишком сдержанны, обладая к тому же изящными манерами и дружелюбно-мягким отношением к людям. Здесь, на западе страны, люди давным-давно приобщились к цивилизации, и Пьера, которая в отличие от Лауры и Итале редко позволяла бурным эмоциям и страстям властвовать собой, чувствовала себя среди этих людей совершенно свободно. Ее чувства и переживания в этот период были неторопливы и невнятны, хотя чисто внешне она производила впечатление чрезвычайно живой и даже игривой натуры. В монастыре, а также среди благородных и дружелюбных айзнарских аристократов живость Пьеры, впрочем, несколько поуменьшилась, зато манеры стали более отточенными, а помыслы — более чистыми. В целом она вела себя, как и подобает скромной и приятной во всех отношениях семнадцатилетней девушке. Семейство Белейнин уже успело от всей души ее полюбить. Главой этого семейства был шестидесятилетний красавец, которому ничуть не вредило легкое врожденное заикание; его супруга, урожденная графиня Рочанескар, была хрупкой благородной дамой лет пятидесяти, прекрасные золотистые волосы которой уже тронула седина. У них были две взрослые замужние дочери; одна жила с мужем в Браилаве, вторая — на соседней улице. Жизнь в особняке на площади Гульхельма текла размеренно и безмятежно. Правда, в преддверии Рождества и в связи с присутствием в доме юной гостьи развлечений стало несколько больше обычного, но атмосфера в доме по-прежнему царила тихая и спокойная, и Пьера настолько вписывалась в эту атмосферу, что ей казалось порой, что она знает этот дом с рождения; она, например, вполне могла бы быть здесь младшей дочерью и в детстве играть одна в обнесенном золотистой стеной саду на лужайке у фонтана или под старой грушей.
На праздничных обедах, вечеринках и балах Пьера встречала практически одних и тех же людей из круга Белейнинов. Почти все они казались ей стариками, но это ее ничуть не угнетало. Она привыкла быть младшей в доме и прекрасно знала, какие это сулит преимущества. К тому же среди людей пожилых она всегда чувствовала себя в полной безопасности. Молодые люди всегда немного опасались Пьеры, да и она их побаивалась; с ними вечно случались всякие истории, легко можно было попасть в дурацкое положение, так что ей куда проще было беседовать с мужчинами лет сорока. В такой беседе, разумеется, никогда не было и намека на серьезность, зато казалось, что ты только что познакомилась с интересным иностранцем.
Новый год встречали в доме одного из близких друзей Белейнинов, точнее, зятя этих друзей, некоего вдовца Косте. Все хозяйство вела его сестра, она же воспитывала его сына, четырехлетнего Баттисте. Мальчику разрешили часок посидеть вместе с гостями, а потом отправляться спать. Пьера и Баттисте были хорошо знакомы и очень друг другу нравились. Раньше Пьере нечасто доводилось возиться с малышами, и беседы с этим мальчиком она находила не только удивительно забавными, но и весьма трогательными. Баттисте к тому же был очень хорош собой и отлично воспитан благодаря усилиям отца и любящей тетки, так и оставшейся старой девой. Но малыш пока что не успел выработать характерной для айзнарских аристократов сдержанности и без умолку болтал с Пьерой, искренне восхищаясь ею и доставляя ей этим огромное удовольствие; он пленил ее тем, что без оглядки дарил ей свое доверие и любовь, хотя она, чтобы завоевать их, почти ничего не сделала. Заслужить такое отношение ей было весьма лестно. А когда отец Баттисте, застенчивый и немного мрачноватый молодой мужчина, стал укорять мальчика за то, что он надоедает гостье, она так горячо стала защищать своего маленького друга, что заслужила глубочайшую благодарность не только со стороны самого Баттисте, но и, похоже, его отца. Когда же отведенное Баттисте время истекло, Пьера вместе с его няней повела мальчика наверх, уложила в кроватку, получила на прощанье горячий поцелуй, а потом вернулась в зал, думая о том, что за чудесная вещь — дети и как замечательно, когда вокруг тебя много детей. Не менее приятно, чем когда тебя со всех сторон окружают мужчины и со всех сторон слышатся их голоса, а не бесконечное чириканье монахинь. Пьера уютно устроилась в кресле у камина. Праздничный вечер вообще был отмечен тихой радостью и покоем. Беседа струилась как бы сама собой, чистая и неспешная, точно вода в фонтанах Айзнара. Пьера обнаружила среди гостей нескольких незнакомцев, однако и эти люди прекрасно вписывались в общую компанию. Каждые четверть часа французские часы на каминной полке издавали мелодичный звон. Пьера по большей части молчала, наслаждаясь собственной сдержанностью и благопристойностью и понимая, что ее поведение приятно и всем присутствующим. В десять часов вечера прибыли последние гости — барон Арриоскар с супругой и его сестра со своим мужем, а также их гостья из Красноя.
Эта молодая женщина, возможно из уважения к строгим провинциальным обычаям, не надела почти никаких украшений, но ее фиолетовое платье было просто великолепным, да и держалась она безукоризненно. Пьера просто глаз не могла оторвать от новой гостьи. Все ее представления о прекрасном были поколеблены. Разве можно сравнить с этой чудесной женщиной какую-то сестру Терезу — мягкую, стеснительную, стерильную? Пьера видела перед собой не мерцание сдерживаемой, даже скрываемой красоты, а великолепие женской силы и свободы. «Как хороша! — думала она. — Просто замечательная! Именно так и должны выглядеть настоящие женщины». Их представили друг другу: графиня Вальторскар, баронесса Палюдескар.
Столичная гостья, выразив свое удовлетворение по поводу состоявшегося знакомства дивным, но довольно холодным контральто, собралась уже повернуться к кому-то еще, но тут вдруг Пьера совершенно неожиданно сказала:
— Мне кажется, у нас есть один общий друг, баронесса. — Она и сама была в ужасе от того, что говорит и как глупо это прозвучало. Красавица-баронесса с вопросительной улыбкой смотрела на нее. — Это господин Сорде из Малафрены…
— Сорде! — Уходить баронессе тут же явно расхотелось, и ее взгляд — на сей раз совершенно определенно, хотя всего лишь на мгновенье, — стал очень внимательным. — Вот как? Значит, вы с ним тоже знакомы? — Тон у нее был нарочито снисходительный.
— Мы их соседи, то есть наши семьи… Мы рядом живем в Валь Малафрене.
— В таком случае вы, вероятно, давным-давно знаете Итале?
— Всю жизнь, — сказала Пьера и покраснела. Не просто вспыхнула розовым румянцем, а побагровела, чувствуя, как болезненно пульсирует под кожей кровь. В ушах у нее звенело; она точно окаменела и только молила кого-то про себя: «О, пожалуйста, перестань, перестань, перестань!» Больше всего в эти минуты ей хотелось, чтобы прекрасная баронесса отошла от нее. Тогда это дурацкое смущение сразу пройдет! Вот уж никогда больше не станет она заговаривать с незнакомыми людьми!
Но баронесса, ласково улыбнувшись сопровождавшим ее молодым людям, кивнула им, точно отпуская от себя, и уселась рядом с Пьерой у камина в роскошное позолоченное кресло.
Пьера пришла в полное отчаяние и сидела, судорожно стиснув лежавшие на коленях руки.
— Мои дорогие родственники сегодня, по-моему, уже дважды возили меня по всему Айзнару из дома в дом, — промолвила баронесса и дружески, хотя и чуть лукаво, улыбнулась Пьере. — И, между прочим, я давно уже мечтаю об одном: чтобы они оставили меня в покое и дали посидеть в тишине. Но вы себе даже не представляете, до чего мне приятно встретить кого-то из друзей Итале! Честно говоря, он мне очень нравится. Мы ведь знакомы с первого дня его пребывания в Красное, то есть по крайней мере год. И до чего же он изменился за это время!
— Да, он… а он?… И как же?…
— Ах, ну вот, скажем, когда он впервые оказался у нас в доме, он был такой смешной… знаете, ужасно… скованный, и он все время был чем-то недоволен, все время всех в чем-то подозревал… Точно неопытный подросток. А теперь, должна сказать, он производит вполне достойное впечатление, причем не прилагая к этому ни малейших усилий. — Все-таки у нее был удивительно красивый голос, и она им отлично владела. Пьера внимала ей с восторгом и лишь застенчиво улыбалась в ответ на ее лукавые, шутливые, дружеские улыбки и довольно интимные намеки, _ Может быть, хоть вы мне расскажете наконец, — и баронесса выразительно посмотрела на свою юную собеседницу, — каков же в действительности отец Итале? Мне он представляется настоящим людоедом!
— Отец Итале?!
— Ну да! Хотелось бы мне знать… нет, мне действительно хотелось бы знать, каков тот человек, который способен лишить единственного сына наследства только потому, что мальчик захотел некоторое время пожить в столице, пользуясь всеми благами цивилизации! Чего он добивается, этот ужасный человек? Неужели они там, в горах, все такие? Я, к сожалению, никогда прежде не была знакома ни с кем из Монтайны. А мужчины ведь совершенно не могут ничего как следует рассказать или объяснить. Надеюсь, хоть вы сумеете на мои вопросы ответить. Скажите, у вас там у всех такой пылкий нрав, как у Итале?
Нет, эта красавица явно ее не дразнила и даже не думала над ней насмехаться. Напротив, она вела себя на редкость дружелюбно и спрашивала с искренним интересом. Все дело было в ней, Пьере! Это она всего лишь глупая провинциальная девчонка из монастырской школы, которая совершенно не умеет поддержать светскую беседу, да и знает, в общем-то, маловато!
— Я… не знаю, — пролепетала она.
— По-моему, Итале — самый страстный мужчина из всех, кого я знала. — Теперь баронесса Палюдескар говорила тихо и задумчиво. — Вот в чем, собственно, секрет его столь быстрого успеха. Если бы он был одним из проповедников, описанных в Ветхом Завете, то, верно, сумел бы целые народы обратить в свою веру!.. А вы знаете, что он уже сейчас чрезвычайно популярен в Красное?
— Нет, я этого не знала…
— Да-да! Видимо, любому из тех, кто знал его лишь в детстве, трудно в это поверить. Я просто не сомневаюсь, что вы, например, думаете сейчас: «Не может быть! Какая из него знаменитость! Ведь у него вечно были прыщи на физиономии, а еще недавно он таскал свою сестру за косы!» Но, между прочим, многие из моих знакомых мальчишек, которые буквально вчера были такими же хулиганами, как Итале в детстве, стали советниками, судьями, знаменитыми политиками и бог его знает кем еще… И знаете, приходится воспринимать их со всей серьезностью, графиня. Ведь именно от женщин зависит, насколько серьезно в обществе воспринимают того или иного мужчину. И если дамы не станут обращать на этого мужчину внимания, то и все общество от него отвернется! Ну а когда того или иного человека серьезно воспринимают только мужчины, все остальные вокруг просто потешаются над ним… А впрочем, все это чепуха. Хотя, пожалуй, наш общий друг Итале и в самом деле порой воспринимается некоторыми весьма важными людьми чересчур серьезно. Но вы, кажется, мне не верите?…
— О нет, нет, я верю, верю! — неловко пробормотала Пьера. Ах, если б только ей совсем ничего не нужно было говорить, если б можно было только смотреть на баронессу и слушать ее, пытаясь понять: что же она все-таки хочет всем этим сказать? Хорошо бы, она наконец перестала говорить об Итале! Эти речи чрезвычайно смущали Пьеру. Она потупилась и заметила выглядывавшую из-под подола вечернего платья изящную ножку баронессы в открытой серебряной туфельке. Пьера тут же поспешно спрятала свои ноги под юбку и еще больше смутилась. Однако что-то сказать было просто необходимо, и она промямлила: — Я полагаю… им интересуются… из-за газеты…
— Из-за какой газеты? — с неожиданным раздражением переспросила баронесса. — Ах, вы имеете в виду его журнал? Да-да… Насколько я знаю, этот журнал уже довольно популярен. Нет, дело совсем не в журнале. Дело в том, что в моде сейчас сам Итале! То есть, конечно, не он лично, а его идеи. Хотя любопытно, а что… Впрочем, мы ведь теперь все такие патриоты!
— О да! Я понимаю, — сказала Пьера в отчаянии от того, что совсем ничего не понимает.
А баронесса продолжала, очаровательно улыбаясь, рассказывать ей какие-то истории об Итале, и еще о ком-то по имени Геллескар, и еще о каком-то австрийском генерале, и об Австрии, и в конце история показалась Пьере даже смешной, и ей, конечно же, следовало бы весело рассмеяться, но она лишь слабо улыбнулась и кивнула в знак того, что все поняла. У нее настолько пересохло в горле, что не было сил даже произнести краткое «да-да» и показать, что рассказ баронессы очень ее интересует и она внимательно ее слушает. Когда к ним подошел хозяин дома, Пьера посмотрела на него так, словно их разделяла бездонная пропасть; она невероятно завидовала сейчас спокойному и дружелюбному выражению его лица. Хозяин повел знакомить баронессу Палюдескар с супругами Белейнин, а потом вернулся к Пьере и присел с нею рядом на то же кресло, в котором только что сидела баронесса.
— Мне очень жаль, что я прервал вашу милую беседу, — сказал он в своей обычной чуть застенчивой и чуть мрачноватой манере. И Пьера поняла, что он, обратив внимание на ее несчастный вид, попросту спас ее, а сейчас старается спасти еще и ее гордость. Исполненная благодарности за столь простое и неожиданное проявление доброты, она сказала:
— Ах, я и слова ей в ответ вымолвить не смела… Она так прекрасна!..
— О да, — согласился Косте. — И к тому же она очень современная женщина. — Это была мягкая, но убийственная оценка провинциала, находящегося на своей территории и сознающего свои преимущества. Косте смотрел на Пьеру без улыбки; ее-то он принимал безусловно, считал ровней себе, разговаривал с ней доверчиво и просто, и она сразу почувствовала, как восстанавливается и крепнет ее уважение к самой себе. Затем Косте легко затеял с ней разговор на какую-то отвлеченную тему, и они с удовольствием поболтали, и в течение этой беседы Пьера вдруг поняла: на самом деле ее неудачная беседа с баронессой была неким сражением, которое она, Пьера, проиграла. Но почему сражением? Из-за чего? И почему она не сумела поговорить с этой красивой женщиной так же легко и свободно, как сейчас с господином Косте?
— А в Айзнаре есть настоящие патриоты, господин Косте? — спросила вдруг Пьера.
Он, казалось, был несколько удивлен ее вопросом; но, помолчав, ответил вполне серьезно:
— Патриоты? Вы, видимо, имеете в виду сторонников национальной идеи? Да, разумеется. Либеральные традииии здесь очень стары. Они уходят корнями в борьбу независимых западных провинций против всеобъемлющей власти монархов, занимавших престол в Красное. Во всяком случае, так мне представляется. И некая привычка к независимости осталась у нас еще с тех пор.
— Но эти патриоты — или националисты? — они ведь, наверное, хотят реставрации монархии, разве нет?
— Да, разумеется. Вступление на престол герцога Матиаса означало бы конец австрийского владычества.
— Значит, им не нравится великая герцогиня Мария только потому, что она австриячка?
— В общем, суть действительно в этом.
— А я думала, что эти люди вообще не хотят больше никаких королей, — по-детски задумчиво и разочарованно протянула Пьера. — Атак, пожалуй, эти перемены и волнений-то особых не стоят!
— О нет, тут вы не правы! Если герцог Матиас станет королем, то, получив престол и корону из рук своего народа, он обязан будет подчиняться конституции и ассамблее. И в таком случае он будет уже не единственным источником и носителем власти, а всего лишь ее механизмом, ее «рукой». — Он объяснял все это Пьере очень серьезно, не делая ни малейших скидок на ее возраст и провинциализм. — А вы что же, интересуетесь националистическим движением, графиня?
— Не знаю. Я просто ничего этого раньше не понимала…
— Это очень сложная проблема. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь по-настоящему понимал, что такое «национализм» и почему те, кто больше всего любит слово «свобода», стремятся к особой, национальной судьбе для своей страны, тогда как те, кто отрицает наличие старинных языковых и культурных традиций, зачастую готовы пожертвовать всякой свободой во имя мира.
— А вы радикал, господин Косте?
— Я? Конечно же, нет, графиня.
— Но разве наша страна не должна снова обрести независимость? С какой стати нами правят австрийцы? Они ведь даже языка нашего не знают! И почему они не разрешают нам иметь собственных правителей?
— Хотя бы потому, что все в этом мире взаимосвязано и мир этот со времен Наполеона чрезвычайно хрупок. Даже самый слабый противник империи, вроде нас или северных итальянских герцогств, может этот мир расшатать — если бы мы, разумеется, были вольны выбирать, чьими вассалами нам становиться.
— Но стоит ли чего-нибудь такой мир, раз он настолько непрочен?
— Может быть, и нет, — задумчиво промолвил Косте, точно прислушиваясь к самому себе. — Однако любой мир лучше войны, правда?
— Конечно! — воскликнула Пьера с глубокой убежденностью. — Но ведь радикалы, насколько я знаю, к войне и не стремятся. Они просто хотят убрать отсюда австрийцев, хотят иметь возможность свободных выборов, хотят своего короля… Разве не так?
Косте кивнул.
— Независимость, свободные выборы, представительство всех слоев населения в ассамблее, реформирование или ликвидация коррумпированных институтов — все это поистине великие дела. Но если даже всех этих перемен и можно добиться без революции или войны, то уже в них самих заключена потенциальная возможность войны или революции, ибо они представляют собой слишком большую и сложную проблему как для общества, так и для каждого отдельного человека; они как бы подминают под себя и самого этого человека, и все то хорошее, что было и еще может быть в его жизни. Там, где люди очень бедны, реформы способны порой помочь населению подняться на иной жизненный уровень и являются, по сути дела, их единственной надеждой. А потому в Ракаве и Фораное движение сторонников радикальных перемен с каждым годом набирает силу. Но здесь, на западе, настоящей нищеты практически нет; здесь почти каждый в силах сам выбрать для себя жизненный путь. Мы здесь, в Айзнаре, кое-чего достигли; не очень многого, разумеется, но все же. И для этого нам потребовалось несколько веков. Но если смешать достигнутое нами и наши возможные достижения с запросами и потребностями населения других районов страны, других классов, других социальных групп, то через пять лет от наших успехов не останется и следа. Я горжусь той жизнью, которой живу сам и которую разделяю с такими же, как я; эти люди мне дороги. И я без особой симпатии отношусь к тем, кто, желая переделать наш мир, разрушит мой маленький уютный мирок, этот уголок благоденствия на нашей печальной земле.
Пьера слушала очень внимательно и, казалось ей, хорошо понимала каждое слово Косте. Чтобы понять, что именно ему так дорого в этой жизни, что он хотел бы любой ценой сохранить, достаточно было посмотреть на него самого, на его сынишку, на его замечательный дом, на его тихий красивый город, наполненный шумом дивных фонтанов. Для таких, как он, и для него самого любые перемены в жизни непременно обернулись бы потерями. И поскольку Косте очень нравился Пьере, нравилась его серьезная манера говорить с ней, как со взрослой, она охотно с ним соглашалась. Реформы, конечно, дело хорошее, но… где-нибудь в другом месте, где они были бы более необходимы, чем здесь, думала она.
Она, впрочем, понимала, что, рассуждая так, предает Итале, отказывается от его идей и упований. И понимание этого было ей даже приятно! Ну и пусть! И очень хорошо! Пусть Итале будет радикалом, пусть о нем говорит хоть весь Красной, пусть баронесса Палюдескар хвалит его на все лады! Ей, Пьере, это совершенно безразлично, как безразлично и то, чем Итале со своими дружками занимается там, в Красное. Она-то сейчас живет в Айзнаре, и она сама себе хозяйка! После разговора с Косте она точно освободилась наконец от одежд и привычек школьницы; в ней блеснула природная живость, точно искра огня в темно-красной глубине граната. В итоге вокруг них с Косте собралась целая группа людей, и она, Пьера, оказалась как бы центром этой группы! Заиграла музыка — в Айзнаре на Новый год всегда устраивали танцы, — и Пьера, уже не смущаясь, тоже закружилась по залу. Она была в новом платье из серого шелка; пышная юбка с одной стороны была приподнята и закреплена розой из золотой парчи. В эти минуты Пьера была очень хороша — стройная, гибкая, с высоко и гордо посаженной головой; на ее смуглом, румяном личике в любую минуту готова была вспыхнуть улыбка в ответ на шутку или приглашение к танцу. Дживан Косте наблюдал за нею и не в силах был отвести от нее глаз. Пьера и баронесса Палюдескар двинулись навстречу друг другу в танце, обменялись изящным реверансом, с шелестом смешав лиловые и серые шелка, и снова отступили, каждая заняв прежнее место в своем ряду. Косте наслаждался, видя, с какой живой и непосредственной грацией Пьера вместе с партнером исполняет очередную сложную фигуру танца, с каким удовольствием она лакомится ванильным мороженым, выбирая из вазочки все до последней капельки. Наконец он не выдержал: направился через весь зал к присевшей отдохнуть Пьере и пригласил ее на следующий танец. Девушка удивленно вскинула на него глаза: со дня смерти его жены не прошло еще и двух лет, и обычно Косте в танцах не участвовал.
— Хорошо, — сказала она, встала и взяла его под руку. И тут же фортепьяно, скрипка и контрабас заиграли прелестный игривый полонез.
Однако закончить танец они не успели: музыка вдруг стихла, и в наступившей тишине изящные французские часы на камине прозвонили полночь.
— Ну вот и Новый год! — воскликнул Косте. — Ну что ж, Пьера, мы с вами вместе завершили старый год, так давайте вместе начнем и новый, вы согласны? — Он подал музыкантам знак, снова заиграла музыка, и Пьера, так и не ответив ему, приготовилась продолжать прерванный танец.
— Какая очаровательная девочка эта ваша юная графиня из Монтайны, — сказала Луиза Палюдескар сестре Дживана Косте.
— Да, очень милое дитя, — откликнулась та. — А где она, кстати сказать? Мне нужно кое-что ей сказать, но я нигде не могу ее отыскать. С прошлого года! — И старая дева тихонько засмеялась.
— Еще бы! Она же весь прошлый год с вашим братом протанцевала! — подхватила ее шутку Луиза.
— Ну да, с моим братом… — машинально повторила госпожа Косте и снова принялась высматривать Пьеру среди танцующих. — Господи, как приятно, что Дживан снова танцует! — сказала она. — Он так давно этого не делал!
— Он был нездоров? — спросила Луиза, подавляя зевоту.
— Через месяц исполнится два года, как он потерял жену. Я так рада, что он хоть на минутку отвлекся от своего горя! Уж больно он за нашего малыша переживает!
Ну еще бы, он переживает! У него маленький сынишка! Луиза внимательно посмотрела на госпожу Косте. Губы той были сжаты, пальцы крепко переплетены. Она бы с удовольствием все утро нового года проплакала в своей аккуратной спаленке наверху, где никогда не бывал ни один мужчина, кроме ее отца и брата, но ей пришлось сидеть здесь, среди гостей, и никому не показывать своего дурного настроения. Кроме того, она была слишком застенчива и чересчур горда, чтобы кому-то показывать это. Да, собственно, чего и ждать от этих айзнарцев, думала Луиза; для них существует только их собственный замкнутый мирок, в котором они неизменно и невыносимо вежливы друг с другом. И Луиза, перестав сопротивляться усталости и скуке, зевнула.
— Да, на них действительно приятно смотреть, — сказала она. Глаза Дживана Косте на смуглом лице пылали, как угли, когда он кружил по залу Пьеру Вальторскар в сером шелковом платье. Луиза еще некоторое время смотрела, как они танцуют, а потом снова зевнула, уже открыто, даже с некоторым вызовом.
Под конец бала она опять подошла к Пьере.
— Знаете, мне было чрезвычайно приятно поболтать с вами о нашем общем друге, графиня. Возможно, нам еще удастся побеседовать, когда Итале приедет.
— А он собирается приехать?
— Разве он вам не сообщил? Он, возможно, приедет сюда в марте недели на две — вместе с моим братом.
— О, как это было бы хорошо! — воскликнула Пьера. — Я так рада, что познакомилась с вами, баронесса! До свидания, спокойной вам ночи! — И она снова умчалась куда-то, счастливая, семнадцатилетняя, пьяная от танцев. Даже в дверях Луиза все еще слышала ее звонкий мелодичный смех.
А после каникул Пьера вернулась в монастырскую школу, надела форменное платье, смиренно ходила по четвергам к обедне вместе с монахинями и каждое утро целый час простаивала на коленях в холодной часовне; но былое благочестие, к которому она так стремилась и которым упивалась целых три месяца, за праздничную неделю полностью испарилось, оставив в ее душе лишь слабый, точно выдохшиеся духи, аромат святости. Теперь Пьера с нетерпением ждала конца недели уже не из-за воскресной мессы, а из-за субботнего вечера, когда ей с четырех до одиннадцати разрешалось бывать у Белейнинов. Она заранее знала все, что там будет происходить: чай в гостиной, тихая беседа, переодевание к обеду, обед в присутствии одного-двух старых друзей или близких родственников, затем кофе, возможно, немного музыки, а затем глава семьи непременно проводит ее пешком до монастыря. Вот и все. Но она неизменно теперь оказывалась в центре этих тихих вечеров, точно они устраивались специально для нее и служили ей уроками, самыми счастливыми и приятными уроками одной из самых тонких дисциплин на свете. А Пьера была прилежной и способной ученицей, и уже через месяц-полтора любой незнакомец принимал ее за уроженку Айзнара, хорошо воспитанную, умненькую и приятную в общении дочь одного из здешних старинных аристократических родов. Наградой за ее успехи и примерное поведение явились всеобщее расположение и доброжелательность, а также то, что Пьеру теперь все вокруг принимали как равную. Возможно, такая награда и казалась ей не совсем соответствующей приложенным усилиям, однако она и в этом находила свои положительные стороны: от нее требовалось лишь внешнее соблюдение здешних правил, но на душу ее и чувства никто и не думал посягать. Краеугольным камнем этого изящного искусства — умения вести себя в обществе — являлось самообладание. И Пьера, научившись соответствующим образом держаться, никого не допускала в свой внутренний мир. Ну а самым замечательным дополнением к субботним вечерам у Белейнинов был, разумеется, Дживан Косте, воплощенная печаль, вдовый красавец в два раза старше Пьеры, верный друг Белейнинов и постоянный участник всех посиделок в их доме.
— Как я рада, что Дживан снова стал самим собой! — сказала как-то раз госпожа Белейнин, когда они втроем пили кофе, и ее супруг подхватил, чуть заикаясь:
— Ну, так ведь к-какое лек-карство нашлось! — И оба засмеялись, и Пьера почему-то сочла, что эта шутка касается ее, и тоже улыбнулась в ответ, чувствуя себя необычайно нужной этим людям и любимой ими. Как они все добры к ней! Это же просто замечательно! И пусть так продолжается всегда, пусть ничего не меняется…
В первую субботу марта она под дождем прибежала к Белейнинам и уже в четыре часа дня обнаружила там Дживана Косте. Он часто заходил к ним по вечерам, но явиться без приглашения днем в субботу… Госпожа Белейнин была растеряна. Она говорила больше, чем нужно, Косте, напротив, был чрезвычайно молчалив. Разлив чай, госпожа Белейнин поднялась и с некоторым смущением сказала:
— Пожалуй, я сама поднимусь наверх и позову Альбрехта; он, должно быть, у себя в кабинете. — И она поспешно вышла, оставив Пьеру и Косте наедине.
Женский инстинкт, два месяца «уроков» в здешнем обществе, простая догадливость — все это подсказывало Пьере, ЧТО сейчас произойдет, но она не желала слушать эти подсказки, она буквально заткнула уши, чтобы не слышать их настойчивого шепота. И, точно назло им, вдруг спросила у Дживана Косте:
— Вы давно виделись с баронессой Палюдескар?
— Недавно.
— А я не видела ее с новогоднего вечера, с того бала у вас в доме. Разве что пару раз мы раскланивались с ней, случайно встретившись на улице. Она так прекрасна, так совершенна и элегантна! Когда мы с другими девушками из монастырской школы парами идем по улице и вдруг встречаем ее, я чувствую себя и всех остальных учениц зверюшками из Ноева ковчега…
Дживан заставил себя улыбнуться, но не сказал ни слова.
— Хотя мы обе — и я, и она — знаем, что у нас есть общий друг, — продолжала между тем Пьера. — Не странно ли это? Ведь мы родом из столь далеких друг от друга мест. Он, конечно, теперь живет в Красное. Баронесса говорила, что он, возможно, посетит этой весной и Айзнар. И все-таки очень странное возникает чувство, когда человек, которого ты совершенно не знаешь, оказывается близким знакомым того, кого ты знаешь с детства! Верно? — Совсем не то она говорит, совсем не то! Она так дрожала, что даже зубы стучали. Она умоляюще посмотрела на Косте, надеясь все же заставить его сказать хоть что-нибудь и прервать наконец ее дурацкую болтовню. И пусть упадет топор палача!
И он действительно заговорил: он предложил ей руку и сердце. И она приняла его предложение, опустив голову и глядя на переплетенные пальцы их рук.
Интересно, думала она, когда это он успел снять с руки золотое обручальное кольцо? Только сегодня или все-таки раньше? До этого ей и в голову не приходило проверить, носит ли он это кольцо. Рука у него была смуглой и сильной, с ухоженными ногтями; на такую руку приятно было смотреть, приятно чувствовать ее теплое пожатие.
— Пьера… о господи! — прошептал он, и она почувствовала — с тревогой и радостью, — что он весь дрожит. Он выпустил ее руку и несколько раз прошелся по комнате. — Я напишу твоему отцу! — сказал он ей почему-то угрожающим тоном.
— Ну конечно. И я тоже.
— Ведь у меня есть малыш…
— Нуда, и я с ним хорошо знакома!
— К тому же мне скоро сорок! — сказал он, заглядывая ей в лицо.
— Тридцать восемь, — возразила она.
Это отрезвило его.
— И все равно, это вряд ли понравится графу Вальторскару, — сказал он, хотя уже значительно спокойнее. — Тебе ведь только семнадцать.
— Моей матери тоже было семнадцать, когда они с отцом поженились. А ему было тридцать три. Да и вообще папе почти всегда нравится то, что я делаю.
— Но его, конечно же, не обрадует то, что он может потерять тебя, Пьера.
— Но… мы же будем иногда приезжать, правда? К нам, в Малафрену? — На этот раз смутилась она.
— Конечно, будем!
— Ну, тогда все в порядке. — И печаль Пьеры улетучилась без следа. Слово «потерять» ранило ее сердечко, как острый нож, но боль она чувствовала лишь мгновение: потерять отца, потерять озеро, дом, лестницу с толстыми купидонами… нет, это совершенно невозможно! Конечно же, она будет часто приезжать домой! Ей совсем необязательно постоянно жить здесь, в долине. И она решила больше об этом не думать.
А Дживан Косте, перестав наконец метаться по комнате, думал о том, что бы такое еще теперь сказать Пьере, какое еще препятствие нарисовать для нее, хотя вступить с нею в брак он сейчас хотел больше всего на свете. Пьера ободряюще улыбнулась ему. Ей было искренне его жаль и совсем не хотелось смотреть, как он мучается. Он был в эти минуты очень красив — гордая посадка головы, суровое смуглое лицо… Увидев, как ласково она ему улыбается, он сглотнул комок в горле, но так ничего и не сумел ей сказать.
— Я думал… может быть, к следующему Рождеству мы смогли бы… — с трудом выговорил он.
— Только к следующему Рождеству?
— Твой отец наверняка захочет, чтобы ты доучилась этот год в монастыре Святой Урсулы. И потом, год — это… соответствует нашим обычаям… собственно, даже меньше, чем год…
— Десять месяцев, — мечтательно сказала она, разглядывая свои руки.
— Может быть, это слишком скоро?
— О нет! А нам нужно сразу объявить об этом?
— Нет, пока ты сама не захочешь, — сказал он с облегчением, явно за что-то ей благодарный. Она не поняла, за что именно.
— Но мне бы очень хотелось сразу все рассказать Белейнинам! И папе. И Лауре. О, я уверена, Лаура очень понравится вам, господин Косте!
— Меня зовут Дживан, — напомнил он вежливо, и оба они, рассмеявшись, посмотрели друг другу в глаза.
И Пьера вдруг заметила, что этот взрослый мужчина растерян, как мальчишка; и она снова рассмеялась. Это приносило такое огромное облегчение — смеяться вместе.
— Кто такая Лаура? — спросил он.
— Моя лучшая подруга, Лаура Сорде. — Произнося это имя, Пьера вдруг снова смутилась. — Она ужасно милая! — И она потупилась, точно примерная школьница.
Дживан Косте чувствовал себя с нею гораздо свободнее, когда она смущалась вот так, а не предлагала ему немедленно воплотить в жизнь те безумные желания, цель которых он еще и сам не до конца осознал. Он подошел к ней совсем близко, ласково взял за руку и с нежностью сказал:
— Хорошо, девочка. Я буду только рад, если ты поговоришь со своими родственниками. Я хочу, чтобы у тебя было достаточно времени, чтобы проверить себя. Я чувствую, что мне… Знаешь, для меня даже просто любить тебя — уже достаточно большое счастье… А теперь я, пожалуй, пойду. И вернусь, когда ты сама позовешь меня.
— Сегодня вечером?
— Хорошо, сегодня вечером, — согласился он с той же ласковой улыбкой, которая так меняла его суровое лицо, и тут же ушел.
Четыре стакана чаю в серебряных подстаканниках продолжали остывать на столе. Пьера вскочила и бросилась искать госпожу Белейнин. Ей не хотелось оставаться в одиночестве. Женщины встретились на лестнице.
— Он ушел? — встревоженно спросила старшая.
— Да, — ответила Пьера и вдруг разрыдалась.
— О, моя дорогая, девочка моя! — шептала госпожа Белейнин, обнимая Пьеру и баюкая ее в своих объятиях. — Ну-ну, не плачь, все уже позади. Это я виновата! Зря я оставила вас наедине!
— Но я совсем и не собиралась плакать! — И Пьера зарыдала еще горше, уткнувшись лицом в мягкое, душистое плечо госпожи Белейнин.
— Бедная детка, все это наша вина. До чего же я глупа! Ах, какое несчастье, какое несчастье!
— Но это вовсе не несчастье… знаете, мы скоро поженимся… на следующее Рождество! И я понятия не имею, с чего это я так расплакалась!
— На следующее Рождество? Так вы помолвлены? — Госпожа Белейнин совсем растерялась и тоже заплакала. — Ах, боже мой! Я ведь не поняла… мне показалось, мы совершили ужасную ошибку… Но отчего все-таки ты плачешь, Пьера? Что тебя огорчает? — Ей был виден только широкий, чистый и по-детски упрямый лоб Пьеры, потому что девушка по-прежнему прятала лицо у нее на плече. Она повторила свой вопрос еще более ласковым тоном, ибо и сама обладала живой и чувствительной душой; к тому же ни одна из ее собственных дочерей, ныне ставших спокойными и уверенными в себе женщинами, даже в семнадцать лет никогда не прижималась так к ее плечу, чтобы выплакаться, чтобы поведать матери о своем душевном смятении и обуревающих их страстях.
— Ничто меня не огорчает, я очень, очень счастлива! — еле выговорила Пьера и зарыдала так, что госпожа Белейнин тут же прекратила всякие расспросы и повела девушку в спальню, чтобы та хоть немного успокоилась.
— Ну, ну, Пьера, — шептала она, — хватит, довольно плакать, все уже позади…
Глава 11
А в доме на улице Фонтармана стоял у окна Итале и смотрел, как восходит луна над старыми садами, погруженными во тьму, и слушал звон струй в фонтане и шелест листвы в порывах западного ветра. На Итале был сюртук цвета сливы — рождественский подарок матери — и тонкая, отлично накрахмаленная сорочка; он был аккуратно причесан, галстук и булавка на месте, на лице выражение покоя и легкой печали. Он думал о том, будут ли из этого выходящего на юг окна видны в ясный день далекие горы.
— Никогда не видел, чтобы молодой парень столько времени торчал у окна, — заметил Энрике Палюдескар, входя в комнату и предварительно осторожно постучавшись. — Что ты там разглядываешь, Сорде? Я понимаю, крыши, деревья, луна… все это красиво, но больше там ведь ничего нет! Ничего не происходит. Ничего не меняется. Ну что, ты готов?
— Да. — Итале с туманным видом отвернулся от окна и посмотрел на полное, отлично выбритое добродушное лицо Энрике.
— Как тебе мой вид? — спросил тот. — Английская мода! Все теперь почему-то должно быть английским. Пошли, Луиза ждет. Кстати, который час? Между прочим, эти чертовы английские штаны такие тесные, что даже часов из кармашка не вытащить! Приходится исполнять какой-то дурацкий танец… Слушай, опаздывать нам ни в коем случае нельзя: эта старая дама — сущий дракон.
Итале посмотрел на часы: они показывали половину третьего, остановившись еще несколько недель назад. Он так и не собрался отнести их в починку.
— Должно быть, около шести, — сказал он Палюдескару.
— Тогда пора ехать.
Луиза улыбалась им, стоя внизу, у широкой лестницы.
— Не глупи, Энрике, это ведь буквально за углом!
— Естественно, в этом городе вообще повернуться негде, — проворчал Энрике. — Терпеть не могу ходить в гости пешком!
И все же они пошли пешком. Стояла ранняя весна. Пели фонтаны, ветви
платанов с набухшими почками в вечерних сумерках отбрасывали на тротуар кружевные тени, временами налетал холодный ветерок, высоко над крышами ярко светила луна, точно паря в небесах. И все вокруг казалось странно легким, точно вдруг обрело способность летать, и в то же время пребывало в полном равновесии и гармонии.
Им предстоял обед в одном из самых знатных домов Айзнара — у маркизы Фельдескар-Торм. Даже в этом узком кругу высшей знати Итале принимали хорошо. Эти люди понимали, что он — сын одного из самых богатых в западном крае землевладельцев, хотя и не родом из Айзнара и всего лишь гостит здесь; к тому же всем было известно, что остановился он в доме людей, принадлежащих к старинному аристократическому роду. Совершенно очевидно, что об Итале им было известно не только это, ибо после ужина маркиза, маленькая некрасивая старушка, любезно обратилась к нему:
— Ну, господин Сорде, вы что же, и в Айзнаре революцию затеваете? По-моему, в нашем мирном обществе не стоит разжигать столь опасный пожар.
Запираться не имело смысла.
— Вы правы, маркиза, не стоит, — честно сказал Итале. — Я всего лишь пытаюсь соблазнить новой жизнью некоторых здешних молодых людей и перетащить их в Красной.
— Вы, столичные жители, вечно стремитесь к власти, ко всем этим ужасным революционным переменам, — усмехнулась старая дама. — Я ведь читала многие ваши статьи, господин Сорде. Довольно интересно… Вы, безусловно, владеете словом. — Итале с благодарностью поклонился. — Порой ваши произведения напоминают статьи нашего Вальтуры в прежнем айзнарском «Вестнике» или опусы Костанта Велоя в краснойском «Ревю». Ну, Велой-то, если не ошибаюсь, лет двадцать уж в могиле, а Вальтура десять лет провел в австрийской тюрьме и теперь, наверное, тоже умер. На моих глазах сменилось четыре поколения радикалов, господин Сорде, но революции я так и не дождалась!
Итак, вызов был брошен, и теперь ему пришлось отвечать прямо:
— Я думаю, вскоре вы ее дождетесь, маркиза.
— Ну что ж, я вижу, вы достаточно упорны. Не оставляйте же своих попыток достигнуть цели. Кое-что вам, по-моему, уже удалось? Например, завоевать внимание нашей очаровательной баронессы, — и она выразительно посмотрела в сторону Луизы Палюдескар, которая увлеченно беседовала о политике с господином Белейнином и одним из внучатных племянников маркизы, — Сомневаюсь, Чтобы это удалось тому же Вальтуре!
— Ну, если бы ему представилась такая возможность…
— Такая возможность ему бы никогда не представилась! — отрезала старуха, глядя на Итале высокомерно и холодно.
Итале покинул дом маркизы Фельдескар-Торм в несколько подавленном настроении. Старая дама сумела с удивительной точностью попасть своими отравленными стрелами в самые уязвимые места его души, напомнив, что того, чему он решил посвятить всю свою жизнь, уже не раз и не два пытались добиться другие, однако всегда терпели неудачу; она также намекнула, что Палюдескары — компания в высшей степени странная для революционера, а он, часто бывая у них в доме, сам ставит себя в весьма двусмысленное положение. Однако — он вынужден был это признать — маркиза сделала все это отнюдь не из враждебного отношения к его деятельности, а скорее в поддержку революции. Она ведь почти впрямую спросила его: «Ну и где же наша революция? Что вы там с ней тянете?»
Вернувшись в особняк Арриоскаров, своих здешних гостеприимных хозяев, Итале сперва беспокойно метался по отведенной ему комнате, потом подошел к окну, выходившему в сад, открыл его и, опершись о подоконник, высунулся наружу. Струи фонтана пели в ночном саду, с серебряным звоном падая в каменный бассейн. Им нежно вторил другой фонтан, на перекрестке, в нескольких шагах отсюда. Ветер улегся. Стояла полная тишь; она окутала город, точно приплыв с замерших в безветрии окрестных полей. В небесах неярко светились несколько звезд, омытые голубым сиянием луны. Красота, равновесие, гармония… Испытывая непреодолимое отвращение к самому себе, Итале попытался отвлечься от мрачных мыслей, утонуть в этом лунном сиянии и тишине, но не смог; эта весенняя животворная тьма, эти энергетически заряженные последние дни марта, это состояние полусна-полубодрствования порождали в его душе лишь гнев на себя, неуверенность в будущем и страх совершить ошибку.
Он тщетно старался понять: в чем же источник его беспокойства? В какой момент работа перестала быть для него главной целью в жизни, превратившись в некое развлечение, в нечто ведущее к совсем иной, ему самому еще не совсем ясной цели? От какой абсолютной необходимости он невольно пытается увильнуть? С каким ангелом или дьяволом ему предстоит сразиться? Задавая себе все эти вопросы, он чувствовал, что главная беда связана с тем, что он сейчас здесь, в этом доме, что причина мучившей его в последние месяцы неуверенности мгновенно станет очевидной, если он сможет просто и честно ответить на вопрос: а что я здесь делаю?
И он тут же задал себе совсем другой вопрос, как бы подменив им первый. Такой вопрос мог бы задать ему, например, Энрике Палюдескар, который наверняка не раз пытался понять: почему, зачем Итале сейчас вместе с ним в Айзнаре? Но если Энрике и задавал себе этот вопрос, то ничем этого не проявил. Он достаточно хорошо изучил Итале за эти полтора года и, видимо, пришел к выводу, что человека, которого знаешь так давно и так близко, следует считать своим другом. Период их бурного, но чересчур быстро вспыхнувшего юношеского увлечения друг другом, возникшего в почтовой карете на пути в Красной, давно миновал, и они никогда не вспоминали об этом. Энрике просто принимал Итале как некую данность. Как и его здешние хозяева, Арриоскары. Впрочем, Арриоскары здесь ни при чем. Им он был представлен как друг семьи Палюдескаров, как сын богатого землевладельца с запада, как человек, вполне воспитанный и получивший хорошее образование, так что эти люди, естественно, проявили должное дружелюбие и гостеприимство. И он, нужно признаться, чувствовал себя в этом тихом, комфортабельном и уют-Ном особняке как дома; он никогда не чувствовал себя так хорошо в двух своих жалких и холодных комнатенках в Красное, когда в одиночестве ужинал хлебом и сыром под Неумолчный стук ткацкого станка Куннея. Нет, все эти Рассуждения совершенно ни к чему. Проблема комфорта в данном случае совершенно иррелевантна. Вопрос в том, имеет ли он право сейчас находиться здесь. И даже не это… Самое главное — ЧТО он здесь делает? ЗАЧЕМ он сюда явился? Разве во имя достижения основной цели ему нужно было ехать именно сюда? И снова мысли его сами собой шарахнулись прочь от этой темы, точно прося у безжалостного разума снисхождения, точно пытаясь доказать, что это не преступление — немного отдохнуть в комфортабельном доме и привычном кругу людей, если ты уже выполнил то, что требовалось. Но что именно от него требовалось, Итале сказать бы не смог. И, высунувшись в окно, он смотрел на юг с таким упорством и напряжением, словно надеялся увидеть над крышами домов некий ответ, нечто конкретное, что, высвеченное лунным светом, вдруг разом разрешит все его проблемы, ибо сам он их разрешить совершенно не в состоянии. Отчаявшись, Итале громко спросил: «Господи, ну почему я так бессмысленно трачу время?!»
И тут же нырнул в комнату. Даже окно закрыл: ему показалось, что некто стоявший внизу, в густой тени деревьев, вдруг поднял голову и вопросительно посмотрел прямо на него.
В комнате сразу стало душно. Итале ослабил узел галстука и принялся было снимать сюртук, но вдруг одним движением плеч снова надел его и решительно двинулся к двери; он осторожно вышел в коридор, спустился в вестибюль, прошел через музыкальную комнату и, открыв боковую дверь, очутился в саду. В саду было довольно светло и очень холодно. Пел фонтан; сквозь покрытые набухшими почками ветки деревьев сияли звезды; в лунных лучах светились нарциссы, посаженные вдоль дорожек; теплым светом горели окна в доме. Итале подошел к фонтану и остановился, любуясь игрой водных струй. Потом присел на скамью рядом, сунув руки в карманы и не сводя глаз с несильно бьющей струйки воды, которая словно повисала в воздухе над каменным бассейном, блестя под луной, падала и тут же снова взлетала — и все это составляло как бы одно движение, напоминая вечный, неизменный и все же постоянно меняющийся круговорот жизни…
— Это вы, Итале?
Он вскочил как ужаленный.
— В доме так душно. Я просто не могла уснуть… Весной меня вечно мучает бессонница. — Голос Луизы звучал так тихо, что журчание фонтана почти заглушало его. Она накинула поверх своего легкого платья теплую шаль и в неясном свете казалась тенью: все в ней было сейчас каким-то нечетким, расплывчатым, и только бледное лицо, освещенное луной и падавшим из окна теплым светом, Итале видел отчетливо; в этом двойном освещении Луиза Палюдескар была просто прекрасна.
— С тех пор, как вы с Энрике сюда приехали, я никак не могла улучить подходящий момент, чтобы поговорить с вами… А мне так хотелось бы кое о чем вас расспросить. Скажите, Итале, вы довольны? Довольны, что занимаетесь сейчас именно этим?
— Ничем иным я и не хотел бы заниматься.
— Значит, ваша жизнь действительно складывается так, как вы того хотели?
— Нет, — сказал он и, невольно вздрогнув, стиснул заложенные за спину руки.
Луиза присела на скамью и поплотнее укуталась в шаль.
— А если бы вы обладали полной свободой — никакой ответственности ни перед кем, никаких обязанностей, — как бы вы поступили?
— Я не могу представить себе свободы без ответственности.
— О господи! — фыркнула она. — Иногда, сударь, вы бываете настоящим занудой! И отлично умеете уходить от прямого ответа. Хорошо, тогда так: если бы у вас была возможность делать именно то, чего вам хочется больше всего на свете, то чем бы вы стали заниматься? — Голос Луизы звучал настойчиво, однако в нем явственно слышалась странная нежность; она никогда прежде так с ним не говорила; ему вдруг показалось, что именно сейчас она настоящая — насмешливая, настойчивая, упрямая, нервная и… беззащитная.
— Не знаю, — сказал он. — Пожалуй, поехал бы домой.
— А где ваш дом?
— В Малафрене… Но вообще-то я занимаюсь именно тем, чем всегда хотел заниматься. У вас какие-то совершенно детские представления о свободе, госпожа баронесса!
— Возможно. Женщины вообще ведь часто ведут себя как дети, не так ли? И они, безусловно, гораздо богаче мужчин в духовном отношении. Пожалуй, и мои представления о свободе связаны прежде всего с душой. То есть, я хочу сказать, они как бы не совсем земные. Они не привязаны к реальной действительности… Что-то вроде выбора без последствий… А я, например, точно знаю, как вела бы себя, если б стала свободной, как дитя или как дух… Точно так же, как и теперь.
— Значит, вы счастливы, госпожа баронесса?
— Почти. Почти счастлива.
Он повернулся и посмотрел ей прямо в лицо; ему очень хотелось увидеть ее глаза, но они скрывались в тени.
— Я полагаю, что лишь люди моральные, вроде вас, Итале, могут быть либо очень счастливы, либо очень несчастны, — сказала Луиза. — А я всегда и счастлива, и несчастна одновременно, особенно в такие весенние ночи, когда не могу уснуть и вынуждена бродить по саду и размышлять о том, что же в этом мире способно все-таки сделать меня абсолютно счастливой, не принося ни капли несчастья.
— Но разве у вас есть причины чувствовать себя несчастной?
— Никаких, это правда. Действительно, я молода, богата, у меня множество прекрасных платьев и украшений; и кроме того, я всего лишь женщина, а чтобы сделать женщину счастливой, нужно совсем немного: одна-две игрушки, красивое ожерелье, веер…
— Я совсем не это имел в виду, — неловко промямлил Итале.
— А что же?
Он ответил не сразу, а когда наконец заговорил, голос его звучал глухо и холодно:
— Я не хочу, чтобы вы были несчастливы.
— Знаю. Вы хотите, чтобы я была счастлива; точнее, вы хотите СЧИТАТЬ меня счастливой, ведь это гораздо приятнее. И проще. Если я покажусь вам несчастной, вам придется как-то меня развлекать, придумывать для меня новые забавы… из самых лучших дружеских побуждений, разумеется.
— Вы же знаете, что я ваш друг, баронесса!
— Не называйте меня баронессой, пожалуйста! Оставьте в покое этот дурацкий титул! Я думаю, что и вы считаете подобные титулы сущей глупостью. Ну наш-то безусловно таков. Жаль, что у моего деда не хватило мужества предстать перед обществом в своем истинном качестве, а ведь он был одним из лучших представителей своего класса. Я, во всяком случае, определенно гордилась бы тем, что принадлежу к высшей буржуазии! Но деду пришлось купить дворянский титул — во имя процветания нашего рода; и теперь он умер, а мы по-прежнему продолжаем цепляться зубами и когтями за нижние ступени давно прогнившей иерархической лестницы, ведущей в никуда, да еще и делаем вид, что все наше благополучие покоится отнюдь не на «буржуазном» богатстве, которое, кстати сказать, и открывает нам двери в любое общество! — Луиза вскинула на Итале глаза и вдруг рассмеялась, искренне, весело. — Господи, Итале, вы, кажется, и меня заразили своими революционными идеями! Вот и я уже лекции читаю о политике — при лунном свете…
— А что, я читаю лекции?
— Почти постоянно.
— Неужели? Мне очень жаль! — Он был искренне огорчен.
— Да нет, я совсем не возражаю. Мне даже интересно — почти всегда. Во всяком случае, со мной вы обо всем говорите очень серьезно. Хотя я не всегда уверена, что говорите вы именно со мной. Зато вы никогда меня не гоните, когда разговариваете о политике с другими. И, может быть, когда-нибудь действительно станете делиться своими мыслями только со мной одной.
— Яне…
— Я знаю, что вы «не». И никогда прежде.
— Я вас не понимаю…
— Я о том, что все ваши теории, разговоры о политике, лекции тонут в молчании, в каменном, нерушимом молчании! Точнее, умолчании. Нет, я, пожалуй, возьму свои слова обратно: всего несколько минут назад вы все же это молчание нарушили, что прозвучало для меня настолько неожиданно, что я чуть не пропустила самое главное. Вы говорили о любви… Нет, конечно, не прямо, но это слышалось в каждом звуке, когда вы произносили то название… Наконец-то ваши уста исторгли нечто настоящее, а не очередную революционную идею или чью-то чужую теорию…
— Какое название?
— Малафрена.
Итале быстро отвернулся, еще глубже сунул руки в карманы и беспомощно пожал плечами.
— Я действительно тоскую о ней порой, — признался он.
Луиза не ответила, внимательно наблюдая за ним.
— В общем-то, это не так далеко отсюда. — Итале вскинул голову, словно собираясь что-то прибавить, но больше ничего не сказал. Луиза продолжала молча смотреть на него; он стоял в профиль к ней, высокий, с поникшими плечами; его крупный нос и твердые очертания губ были точно углем прорисованы на сероватом фоне небес. Невдалеке, через две-три улицы от них, ударил колокол кафедрального собора, отбивая очередные полчаса. Поднявшийся вдруг легкий ветерок зашуршал едва распустившейся листвой, дохнул сыростью и холодом. В том окне, под которым они стояли, тихо погас свет, и цветы вдоль дорожки сами вспыхнули холодным белым сиянием.
— Хотя вы и не решаетесь поговорить со мной о том, что для вас особенно дорого, с собой-то вы все же порой разговариваете об этом!
— Когда, например?
— Да несколько минут назад, стоя у окна! Вы сказали: «Господи, ну почему я так бессмысленно трачу время?» Я ведь именно поэтому и спросила, счастливы ли вы. Зная, что вы несчастливы. — Луиза говорила очень тихо, но слова в воцарившейся после перезвона колоколов тишине звучали отчетливо.
— Я и сам не знаю, почему это сказал.
— Понимаете, мне иногда становится даже страшно, когда кто-то говорит вслух то, что все время вертится в голове у меня самой. Особенно когда человек говорит это не тебе, а скорее себе самому.
— Но я не имел в виду ничего конкретного…
Луиза резко встала.
— Терпеть не могу, когда мужчины лгут, глядя мне прямо в глаза! — отчеканила она сердито. — И особенно противно, если это совершенно неправдоподобная ложь! Впрочем, если вы не заинтересованы в том, чтобы узнать истину, то с какой стати мне пытаться сделать это за вас? — Она повернулась, чтобы уйти, и шаль, соскользнув с ее плеча, белым озерцом разлеглась на дорожке. Итале поднял ее, и Луиза, остановившись, сделала движение ему навстречу, как бы подхватив шаль вместе с его правой рукой. Пальцы их под мягкой тканью переплелись. На мгновение оба замерли.
— Луиза…
— Итале… — передразнила она его, и в голосе ее опять послышалась нескрываемая нежность. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она выскользнула, оставив ему незабываемое ощущение теплых, обтянутых шелком плеч, и обернулась, лишь отойдя от него на несколько шагов. Лицо ее в лунном свете казалось лишенной конкретных черт яркой маской, но глаза смотрели радостно и одновременно испуганно. — Спокойной ночи, — шепнула она и исчезла в темноте за приоткрытой дверью дома.
Итале еще немного постоял у порога и медленно вернулся под темными деревьями к фонтану, к тому месту, где этим вечером впервые увидел ее. Потом подошел к каменной стене, которой был обнесен сад, оперся о нее руками и уронил на руки голову, остро чувствуя живой мир, окружавший его, каждую клеточку своего тела, каждую острую грань грубого камня в стене, пьянящий аромат нарциссов у себя под ногами, сонную безмятежность весенней ночи… Все это то вдруг исчезало, то снова возвращалось, он словно плыл средь невидимых волн морских, которые лишь изредка давали ему возможность вынырнуть на поверхность и глотнуть воздуха, почувствовать, что сердце бьется по-прежнему, увидеть звезды, а потом снова захлестывали с головой. Когда соборный колокол пробил три, Итале, точно очнувшись, побрел к дому, вошел, поднялся к себе и, не раздеваясь, рухнул на постель, мгновенно, точно его ударили по голове, провалившись в сон.
На следующий день он с самого утра поехал по делам, которые, собственно, и привели его в Айзнар. Впрочем, он старался больше не думать о том, что именно привело его сюда. В данный момент он был в состоянии заниматься только чем-то в высшей степени конкретным, сиюминутным. Повидавшись и переговорив с одной группой интересующих его людей, он тут же забывал, о чем говорил с ними, и переходил к следующей группе. С первого взгляда он казался даже более решительным и активным, чем когда-либо, однако вряд ли сумел бы вспомнить без напряжения, чем был занят всего час назад, или внятно разъяснить, чем занимается в данный момент. Сквозь эту его глухоту удалось пробиться только одному человеку: итальянцу, сосланному в Айзнар за участие в восстании 1820 года в Пьемонте. Этот человек прожил здесь год и вскоре должен был уехать в Англию. Что-то в этом человеке тронуло Итале, и он сразу отчетливо запомнил его продолговатое лицо, имя Санджусто, высокий лоб, курчавые волосы, дружелюбные интонации. Еще то, как они вдвоем сидели в кафе на улице Фонтармана и на столик падали резные тени от не распустившейся еще листвы, просвеченной солнцем. «Либерал — это человек, который считает, что средства оправдывают цель», — говорил Санджусто, и эти слова тоже остались в памяти Итале.
Солнечный свет, еще лившийся с запада, падал сквозь ветви деревьев как-то косо и казался более золотым и немного пыльным в преддверии сумерек; по улице с грохотом, неторопливо проехали несколько карет; вздохнул ветер и принес ароматы вспаханных полей; вскоре над крышами старых особняков взошла луна. Итале вернулся к Арриоскарам лишь к ужину. Ели молча: хозяйка дома, родственница Луизы, была женщиной строгой и застенчивой, а ее муж вообще был неразговорчив; Энрике обедал где-то в другом месте. Беседу за столом поддерживала одна Луиза, желавшая и в данном случае вести себя безупречно, и Арриоскары явно были ей за это благодарны. В десять часов подали кофе, в четверть одиннадцатого ужин наконец закончился. Шла Святая неделя, так что приемы и вечеринки должны были возобновиться только после Пасхи.
Вернувшись в свою комнату, Итале окно открывать не стал и в сад выглядывать тоже. Сняв сюртук, он уселся за письменный стол, чтобы просмотреть местные и иностранные журнальные публикации и рукописные статьи, которых у него за день собралась целая пачка. Он читал внимательно, не поднимая головы и порой делая на полях пометки. В комнате ярко горели свечи, но становилось все холоднее, потому что Итале, вовремя не подбросив дров в камин, позволил и без того несильному огню погаснуть.
Колокол кафедрального собора мягким, но решительным баритоном пропел полночь. Итале совсем сгорбился за столом от усталости, однако продолжал читать.
«Не стоит заблуждаться, — говорилось в одной из статей, — относительно таких проявлений радикализма, как деятельность тайных обществ Франции, Италии и обеих Германий и таких экстремистских организаций, как революционные союзы, возникшие в последние десять лет в Англии и связанные с либеральной фракцией в Орсинии, к которой наше правительство не только относится вполне терпимо, но даже и в какой-то степени поощряет как явный и положительный признак общего роста культуры и просвещенности масс. Запретить публикацию…» Итале вернулся назад, вычеркнул слова «фракция» и «явный», нахмурился и зачеркнул все предложение целиком, потом отложил текст статьи в сторону и устало уронил голову на руки.
Посидев так немного, он встал, прошелся по комнате, погасил свечи и, взяв сюртук, спустился по лестнице и вышел из дома.
Сегодня ночь была значительно холоднее; полная луна — полнолуние наступило только вчера — сияла в небесах, окутанная легкой дымкой. Струя воды в фонтане то и дело отклонялась в сторону из-за порывов ветра. Итале постоял у каменной скамьи, глядя на белые цветы нарциссов, и вскоре услышал, как в доме стукнула входная дверь. Сегодня Луиза поверх легкого платья накинула длинную темную шаль и теперь куталась в нее на ветру.
— Я слышала, как вы вышли из дома, — прошептала она, еле сдерживая смех, — я подслушивала…
— Баронесса…
— Дом Итаал! — передразнила она его.
— Но я не могу называть вас просто Луиза!
Она села на каменную скамью, кутаясь в огромную пушистую шаль и расправляя на коленях ее длинную бахрому.
— А чего еще вы не можете делать?
— Вы… вы несправедливы! — вырвалось у него.
— Вот как? Ну что ж, я всего лишь женщина. Разве можно ожидать справедливости от женщины? А поскольку вы не можете называть меня по имени, я тоже не могу… обращаться с вами по справедливости!
— Вы несправедливы по отношению к самой себе.
— Вот как? — Она удивленно подняла брови, но сказала это не сердито, а скорее задумчиво: — Интересно… Впрочем, возможно, вы правы… — И она посмотрела ему прямо в глаза. Итале взгляда тоже не отвел. — Странно, но, оказывается, в вашей власти заставить меня страдать.
— Господи, у меня нет ни малейшего желания заставлять вас страдать! Неужели вы не понимаете…
— Нет.
— И это совсем не в моей власти… Вы же знаете, кто я, — сказал он с отчаянием, — и как я живу, и где я живу…
— И что из того?
Он не сумел ответить и промолчал.
— Я же не прошу вас вести себя, как подобает светскому человеку и аристократу. И я не милости у вас прошу. Я прошу правды! Поговорите со мной, Итале. Хотя бы раз, поговорите со мной!
— Но что я могу вам сказать?
Фонтан, струю которого ветер упорно сдувал в сторону, зашуршал, зашептал что-то сердито, ударяясь о край бассейна и изливаясь на землю.
— Да и что хорошего будет, если я вам это скажу? — в голосе Итале слышалась безнадежная тоска.
— Ничего, — прошептала Луиза. — Ничего хорошего. — Она помолчала, плотно обхватив себя руками и раскачиваясь из стороны в сторону, точно молилась про себя.
— Сказав это вслух, мы можем лишь ранить друг друга… Зачем вам лишняя боль?…
Она вдруг вскочила и порывисто обняла его. Он, потрясенный, тоже обнял ее — сперва неуклюже, потом более настойчиво, сильно и нежно прижимая ее к себе. Луиза, в первые мгновения немного смутившаяся, требовательно и страстно прильнула к нему, и уста их слились в долгом поцелуе.
Наконец она высвободилась из его объятий и отшатнулась, точно слепая, а он, тоже как слепой, снова потянулся к ней. Но тут вместе с вернувшимся самообладанием пришло и осознание случившегося, и голова у него закружилась от потрясения и стыда, и он бессильно рухнул на скамью, низко склонив голову. Луиза неподвижно стояла рядом; она вся дрожала. Но смотрела прямо на него.
Наконец Итале поднял голову. В глаза ей он смотреть не осмелился и спросил сердитым и одновременно умоляющим шепотом, обращаясь к ее рукам, вдруг повисшим как плети:
— Разве вы не видите?
— А вы? Вы-то видите наконец?
Только теперь он начинал понимать, и выражение его лица менялось на глазах — от ошалелого, почти безумного, к изумленно-радостному. Он встал и, неуверенно протянув к ней руки, произнес ее имя, вложив в это слово всю свою нежность:
— Луиза…
— Ну вот, наконец-то! — Она взяла его руки в свои и с улыбкой посмотрела ему прямо в глаза. — Я буду справедливой, Итале! — прошептала она с торжествующей улыбкой. — Я буду милосердной!
Он же не в силах был сказать ей в ответ хоть что-то вразумительное, только бормотал какие-то слова восхищения и страсти.
Луиза, взяв его под руку, сперва прогуливалась с ним по дорожке, потом повела его через лужайку к садовой ограде и снова вернулась к фонтану. Итале плохо сознавал, что с ним происходит; он чувствовал тепло ее руки и тела, вдыхал теплый аромат ее волос и без колебаний соглашался с каждым ее словом, когда она сказала ему:
— Ну что ж, теперь мы можем выбирать… Чего я совершенно, совершенно не выношу, так это фальши, нечестной игры, сковывающих правил, придуманных глупцами и для глупцов! Все эти правила лживы… А хочу я правды и только правды!
— Я люблю тебя, — промолвил Итале.
— А мы не дети, не глупцы и не рабы! — страстно продолжала Луиза. — Мы вольны сами выбирать свой путь. И единственное, чего я действительно хочу, — это свободы выбора! Ты меня понимаешь, Итале?
— Да! — воскликнул он, любуясь ею. Страстное напряженное лицо Луизы пылало; Итале чувствовал, что она, как и он сам, жаждет свободы, счастья, независимости. У него голова шла кругом от того, что ее рука лежит сейчас в его руке.
— Если же ты меня осудишь, — прошептала Луиза по-прежнему страстно, — то я стану тебя презирать! Но ты меня не осудишь. Все, что вы делаете, ты и твои друзья, все ваши идеи — все это тривиально, но ты выше этого, ибо понимаешь, что не существует иной свободы, кроме той, которую человек дает себе сам!
Он согласился и с этим.
— Вот почему выбор за нами, Итале. И сделать его нужно как можно скорее… Я в среду уезжаю в Красной; ты приедешь туда через неделю — времени вполне достаточно, чтобы мы могли выбрать — вместе и каждый по отдельности, — чего нам больше всего хотелось бы в жизни. И никто и ничто не сможет заставить нас переменить свое решение, запретить нам поступать так, как нам нравится. Я хочу воспользоваться своей жизнью и любовью так, как сочту нужным. Мы выпустим друг друга на свободу, Итале!
Голос ее дрожал то ли от возбуждения, то ли от страха перед будущим. Итале притянул ее к себе и поцеловал в губы. Но стоило ее губам дрогнуть и ответить на его поцелуй, как она высвободилась из его объятий. Он ее не удерживал, и она прошептала:
— Подожди… Всего одну неделю! — И прежде чем до него дошел смысл этих слов, она исчезла, превратилась в светящееся пятно на залитой лунным светом дорожке, ведущей к темному дому.
— Луиза, — сказал он, — постой…
Дверь в дом тихонько отворилась и так же тихо закрылась, а Итале, растерянный и смущенный, так и остался стоять у фонтана. Почему она ушла? Неужели он опять не так ее понял? Разве они не любят друг друга? Разве не станут любовниками буквально через несколько дней? Когда она говорила о свободе, он, казалось, понимал каждое ее слово, но вряд ли мог бы сейчас повторить то, что она сказала. Вряд ли мог бы даже просто передать смысл сказанного ею. Окно одной из комнат наверху слабо засветилось: это Луиза зажгла у себя в спальне свечу. Итале присел на каменную скамью; он весь дрожал от холода и неудовлетворенного желания, мечтая вновь ощутить жар того невероятного счастья, которое волной заливало его всего лишь мгновение назад. «Одна неделя, — повторял он, цепляясь за эти слова, точно за спасительный талисман. — Всего одна неделя!»
Глава 12
Днем в субботу Итале встречался с одним из своих авторов, с человеком, которого искренне считал первоклассным памфлетистом; он неожиданно прервал беседу с ним; извинился и сказал, что ему совершенно необходимо уйти, чтобы повидаться кое с кем отъезжающим за границу. Памфлетист, испытывавший священный трепет перед конспирацией, ни о чем его более не спросил, так что Итале, расставшись с ним, быстро пошел по улице куда глаза глядят: ни малейшей конкретной цели у него не было. Городские дома вскоре сменились виллами, окруженными роскошными садами и высокими стенами; виллы сменились фермерскими домиками и просторами полей, а плиты мостовой — красноземом проселочной дороги. Над головой раскинулся огромный купол переменчивых апрельских небес; небесная голубизна отражалась в лужах и глубоких колеях, залитых водой после утреннего дождя. У оград цвели грубоватые полевые цветы; всходы зерновых в полях были ярко-зелеными. Дорога уходила далеко за горизонт и казалась удивительно прямой; она была проложена еще римлянами, называлась Римской и пересекала всю Западную провинцию вплоть до гарнизона в Аква Нерви. Сейчас эта дорога была пуста; и поля вокруг тоже были пусты, лишь какой-то одинокий пахарь махнул Итале в ответ на его приветственный жест. Это была добрая, ласковая земля, несколько однообразная, но удивительно благородная в своей ясной и нерушимой целостности. Итале шел прямо вперед, чувствуя смутное удовольствие от свежего ветра и грубых комьев земли под ногами и удивительно ясно замечая самые неожиданные вещи вокруг себя — дикий ирис на обочине дороги, тень от облачка, мчащуюся по полю, жаворонка, играющего в вышине, блестящий, промытый дождем камень…
Через четыре дня он должен вернуться в Красной. Мысль об этом не давала ему покоя. Что же ему делать дальше? Как быть? Его уже тошнило от бесконечного перебирания возможных вариантов, но перестать думать об этом он не мог. Как он мог позволить себе столь неподходящую, Невозможную любовную историю? Наследница огромного состояния, эффектная дама, имеющая множество поклонников, которая, возможно, не в силах даже любовника завести без того, чтобы все вокруг тут же об этом не узнали-в первую очередь благодаря ее братцу и постоянным обожателям. Ну, а если они и не узнают, так она сама им скажет, потому что у нее не хватит терпения промолчать, слишком уж она капризна и нервна, слишком властолюбива. Испорченная девчонка. Гордая, чувствительная, испуганная девчонка; нет, женщина, рискующая собственной честью; предлагающая ему все и ничего не просящая взамен… Требующая от него лишь мужества, такого же, как ее собственное… Так вот какой независимости и свободы она хочет! А он? Какой свободы достиг он после стольких усилий? Каких результатов? Две комнатушки в Речном квартале, нерегулярно выходящий журнал с материалами пока что весьма неровными, бесконечная смена рабочих мест — он соглашался на любую работу, чтобы было чем платить за квартиру, — кружок бесполезных и постоянно меняющихся знакомых, которые все как один клянутся в преданности их общему делу, однако постоянно спорят и ссорятся… Неужели это и все его достижения? Неужели только в этом и будет заключаться вся его жизнь? Неужели ради этого он покинул Малафрену?
По мнению либералов, средства оправдывают цель. Чтобы обрести свободу и независимость, нужно жить свободно и независимо. Луиза стремилась к свободе, она ведь и ему предлагала свободу, а он настолько запутался в непредвиденных обстоятельствах, детских сомнениях, общепринятых условностях и моральных соображениях, что готов был уже от ее предложения отказаться! Да мужчина он, конце концов, или нет? Возможно, до настоящего мужчины ему еще далеко. Он до сих пор еще мальчишка. Но теперь пора настала, и он становится настоящим мужчиной! Но какую роль он будет играть? Станет настоящим, радикально настроенным журналистом или же просто любовником баронессы Палюдескар?
А почему, собственно, нельзя быть одновременно и тем и другим? Неужели во имя свободы нужно блюсти целибат? Ведь свобода — это не религия, а он — не ее апостол-лицемер!
Итале быстро шагал по дороге среди залитых ярким полдневным солнцем полей и спорил сам с собой настолько яростно, что порой даже начинал размахивать руками перед лицом невидимого оппонента. Но все это время в, глубине души он знал твердо: пойдет он к Луизе Палюдескар или не пойдет, вернувшись в Красной, но это в любом случае не самая главная причина, способная повлиять на тот выбор, который ему предстоит сделать. Собственно, таких причин было множество, однако он чувствовал, что нечто в его душе, нечто целостное и абсолютно безразличное ко всему остальному, еще скажет свое последнее веское слово, а теперь ждет лишь знака, чтобы это слово сказать.
Дорога пошла вверх, огибая холм, одну из тех невысоких складок на поверхности земли, которыми была покрыта вся расстилавшаяся вокруг огромная равнина. Подъем был настолько пологим, что Итале не заметил, как оказался на вершине холма. Он остановился и оглянулся. Айзнар, раскинувшийся километрах в восьми у него за спиной, был сейчас виден как на ладони — черепичные крыши краснели в лучах клонившегося к западу солнца; шпиль кафедрального собора четко вырисовывался на фоне голубых небес; все вокруг веяло покоем. Неподалеку Итале заметил развалины какой-то хижины — несколько камней да изъеденные дождями доски. Он присел на то, что вполне могло быть когда-то крыльцом или очагом, чувствуя, что находится сейчас как бы между городом и солнцем в небе. Свежий ветер, гулявший по просторной холмистой равнине, наконец выдул у него из головы все лишние мысли. Он просидел так довольно долго, слушая, как шуршит ветер в молодой траве. Он жаждал того душевного покоя, той отделенное™ от внешнего мира, той тишины, что царствовали в его душе в далекие солнечные дни, в те счастливые годы, что он провел на берегах озера Малафрена. То была подлинная свобода, но теперь все это куда-то ушло, исчезло. Он давно потерял ее, ту свободу. Итале посмотрел на юг: те же длинные ряды холмов, похожих на бесконечные застывшие волны моря, уходили куда-то за горизонт, тонувший в нежной голубоватой дымке.
«Если бы я мог прожить лет семьсот…» — вспомнил он вдруг.
Тогда они сидели на балконе — Лаура в белоснежном платье, Пьера и он, Итале; был летний вечер, уже спускались сумерки, и гора Охотник высилась темной неясной громадой на том берегу озера, сверкавшего в последних отблесках заката. Он сказал, что хотел бы отправиться путешествовать в Китай и в Америку; Лауре хотелось повидать вулканы, а Пьере… Что же сказала тогда Пьера? Какого черта! Пьера же сейчас в Айзнаре! Она вовсе не там, не в тех летних сумерках над озером, которые вспоминаются ему с такой сладостной болью; да и самого его уж больше там нет… Пьера сейчас Здесь, под одной из этих красных черепичных крыш, учится в какой-то монастырской школе, а этот Белейнин, с которым он познакомился у маркизы, ее родственник!
Итале встал, потянулся и решительно двинулся назад. Неужели он пал так низко, что, целых две недели находясь с Пьерой Вальторскар в одном городе, он даже не даст ей о себе знать? Нет уж, этого он не допустит!
Около пяти он уже стучался в дверь дома Белейнинов.
— А графини сегодня нет, сударь, — вежливо ответил старый слуга, хотя и посматривал на покрытого пылью незнакомца с недоверием. Итале спросил, где он мог бы найти ее. — Графиня учится в школе при монастыре Святой Урсулы, — ответил слуга. — Это в Старом городе, на той площади, где Круговой фонтан.
Графиня… графиня! Это Пьера-то, девочка с веснушками на шее?… По улице Фонтармана Итале вышел прямо к Круговому фонтану и увидел перед собой большой, чопорно-аккуратный дом с решетками на окнах. Привратник, открывший дверь, сообщил ему, что накануне Пасхи все посещения запрещены, и предложил приходить в следующую субботу. Итале попытался убедить его тем, что в среду уезжает, и подкрепил свои слова серебряной монеткой, которую его правая рука сама сунула привратнику в карман так, что левая даже и не узнала об этом. Это сыграло свою роль, и он оказался в приемной, где стоял жуткий холод, а из мебели имелись четыре стула с прямыми спинками и одна совершенно неподвижная монахиня. Итале обратился к ней со слезной просьбой о свидании, и эта особа, похожая на статую, вдруг ожила и позвала другую монахиню, постарше. Итале, оставаясь неизменно покорным и изысканно вежливым, решил добиться своего во что бы то ни стало; это решение зародилось в нем еще там, в разрушенной хижине на вершине холма, и крепло с каждой минутой. Вторая монахиня, выслушав его, куда-то ушла, а первая вернулась на прежнее место и опять превратилась в некий предмет меблировки. И тут в комнату вошла Пьера.
— О, Итале! — воскликнула она радостно. Они обнялись и поцеловали друг друга в губы. — Ах, Итале, дорогой! — У нее на глазах блестели слезы, но она радостно смеялась и все всплескивала руками, не зная, как ей вести себя дальше. Итале тоже был очень рад ее видеть и тоже отчего-то смущен.
— Черт возьми, да тебя просто не узнать! — воскликнул он с искренним восхищением, и она снова рассмеялась.
— Пожалуйста, больше не произноси здесь таких слов! А вообще-то, я выросла на целых два дюйма!
— У меня такое ощущение, что я домой вернулся, так я рад видеть тебя!
— Я знаю… я тоже ужасно рада… И потом, ты говоришь совсем как у нас в горах: Маалафрен! Пойдем же, присядь, нам совсем не обязательно стоять. — Вид у Пьеры стал по-монастырски благочестивым. Итале показалось, что теплое солнышко закрыла черная холодная туча. Он послушно присел на один из застывших неудобных стульев с высокой прямой спинкой, но почти сразу же снова вскочил.
— Да не могу я сидеть! — воскликнул он, и Пьера прыснула было, но тут же умолкла, точно погас последний солнечный лучик. — Как странно видеть здесь — тебя! — сказал Итале, заложив руки за спину и с отвращением оглядывая эту мрачную комнату.
— Я знаю.
Четыре стены, четыре стула, две двери… Он с трудом заставил себя снова посмотреть на нее.
— Ты давно в Айзнаре? — спросила Пьера.
— Дней десять. Мне, конечно, следовало бы раньше прийти… но у меня было назначено столько встреч, время так и летело. Ты уж прости, что я нарушил ваш здешний распорядок.
— Ну что ты! Иначе я бы и вообще тебя не увидела.
— Тебе здесь нравится?
— Да, здесь очень мило.
— А домой ты когда поедешь?
— Я закончу школу в июне и сразу перееду к Белейнинам, поживу пока у них, — сказала она как-то неуверенно, словно хотела сказать что-то еще, но колебалась. Держалась она, впрочем, очень спокойно; простое серое платье и белый фартук очень ей шли. — Ты никому не скажешь, Итале? И в письме не напишешь? Пожалуйста, не надо! Потому что я еще не получила ответа от папы, а письмо, в котором я все ему рассказала, отправила только что… Знаешь, я ведь тоже, наверное, не поеду домой, я собираюсь жить здесь, в Айзнаре. Я обручена, Итале, и выхожу замуж. На Рождество. Или следующей весной, после Пасхи.
— Понятно… Что ж, я очень за тебя рад, — пробормотал смущенно Итале. — И за кого же ты?…
— За Дживана Косте. Он адвокат. Ты знаком с Белейнинами? Они так добры ко мне! Я очень их люблю… А Дживан — их друг. Свадьба будет очень тихой и скромной, ведь он вдовец и у него есть маленький сын. — Итале никогда не слышал, чтобы Пьера говорила таким странным, высоким голосом и в то же время так важно, точно настоящая юная дама. — Я очень люблю маленького Баттисте! — прибавила она.
Ну что ж, все это просто прекрасно! Все здесь, оказывается, очень добры и влюблены в друг друга! Только с какой стати ему-то она все это говорит? Да нет, пусть продолжает, пусть выходит за своего чертова вдовца, не все ли равно…
— Я полагаю, на этом все и кончится, — вдруг сказал он.
— Что кончится, Итале? Он только рукой махнул.
— Да наша с тобой дружба! Та часть нашей жизни, когда все мы друг друга понимали.
— Совсем не обязательно! — возразила она тем же высоким, «дамским» голосом. — И когда ты будешь приезжать в Айзнар, то мы, я надеюсь, будем с тобой видеться. А летом, возможно, будем встречаться еще и в Малафрене…
— Вряд ли. Мы покинули Малафрену, — сказал Итале. — Хотя мне понадобилось немало времени, чтобы это усвоить. Жизнь — это не замкнутое пространство, а вечная дорога; и если что-то оставишь позади, там оно и останется, и отныне будет для тебя как бы потеряно. Повернуть назад ты никогда не сможешь. Вот так. А потому мы с тобой, скорее всего, больше не увидимся.
— Может быть, — кивнула она, соглашаясь.
Последовало длительное молчание.
— Ты счастлив в своем Красное? — спросила вдруг Пьера.
— Счастлив? Нет, по-моему, не особенно. Но я делаю то, зачем туда приехал.
— Я иногда читаю твой журнал.
— Неужели вам здесь разрешают читать столь сомнительное издание? — Итале с мрачной усмешкой окинул взглядом стены и двери.
— Не здесь, конечно. Знаешь, твои статьи стали очень интересными.
— Не знаю уж, чем тебя так заинтересовала жизнь краснойских ткачей, ютящихся в трущобах, но все равно спасибо. — В ее голосе он слышал искреннюю поддержку, в своем — сплошное лицемерие. Так что продолжать этот разговор было ему уже не под силу. — Я должен идти, Пьера, — сказал он бесцветным тоном, и она повернулась к нему. — До свидания.
И она, взяв его руку обеими руками, прошептала:
— До свидания, Итале!
Вот и все. Выйдя на площадь, он остановился у двухъярусного Кругового фонтана — сплошного переплетения серебряных струй — и машинально посмотрел на часы; они, как всегда, показывали половину третьего. Он вспомнил, что колокол на кафедральном соборе только что прозвонил: должно быть, уже шесть. По всей видимости, он безнадежно опоздал на встречу с двумя весьма полезными и богатыми людьми, которые, кажется, готовы были поддержать журнал материально. Он поспешил в кафе, где была
назначена встреча. «Жизнь — это дорога, — услышал он в ушах свой собственный голос, и слова эти прозвучали бессмысленно и лживо. — Жизнь — это не замкнутое пространство, а вечная дорога…» Ну да, совершенно точно: это дорога, ведущая в никуда, все дальше и дальше, без цели, без смысла… И невозможно повернуть назад или хотя бы остановиться; у этой дороги нет конца; и лучше всего идти по ней одному, никому не предъявляя никаких требований, ни перед кем не ставя никаких задач. И пусть мертвые хоронят своих мертвецов!
Двое мужчин, с которыми он все же успел встретиться в кафе, были довольно молоды; один только что закончил семинарию, второй пытался баллотироваться, но пока неудачно, в депутаты ассамблеи, заседание которой должно было состояться в сентябре этого года в Красное. Они были в восторге от того, что Итале так хорошо знаком с их собственными проблемами и надеждами. Заметив это, он почему-то почувствовал к ним неприязнь и отвечал на их многочисленные вопросы все более сухо, а порой даже грубовато, но разочаровать их оказался не в силах. Распрощавшись с ними, Итале поспешил в гостиницу, куда перебрался после отъезда Палюдескаров. Он заказал себе отбивную, попросил принести обед ему в номер, уселся за стол и принялся просматривать местные издания и собственные записи, скопившиеся за последние несколько дней. Две недели пребывания в Айзнаре, похоже, оказались весьма полезными. Он нашел деньги для обоих журналов, собрал кое-какие материалы, и среди них были даже талантливые, отыскал богатых меценатов и немало поклонников своих изданий среди представителей среднего класса, следовавшего либеральной традиции, установленной в прошлом веке. Все это обнадеживало, но Итале был по-прежнему мрачен. Он привел в порядок документы, съел давно остывший обед и снова сел за работу. Ничего не поделаешь, вперед придется идти одному; бессмысленно искать себе спутника где-то в оставленном позади прошлом. Считай, что счастье еще возможно, делай свою работу как следует и не жалуйся. Только так. И живи один; чтобы быть свободным, необходимо жить в одиночестве.
У него разболелась голова, и он, желая унять боль, часов в одиннадцать вышел немного прогуляться. Улица Фонтармана была исчеркана черными черточками и пятнами теней от ветвей деревьев, просвеченных теплым светом, падавшим из окон домов; дул легкий ветерок, и вечерняя темнота казалась живой из-за шороха листьев, тихого говора и шагов прохожих. Вдруг кто-то окликнул Итале из-за столика уличного кафе. Он узнал этого человека: итальянец, Санджусто.
— Выпейте со мной кофе, Сорде!
Итале остановился, но за столик садиться не стал.
— Я хотел заглянуть в собор…
— О, у нас ведь нынче Пасха! Я тоже с вами пойду, вы не возражаете? Счет, пожалуйста! Пять кофе. — Дальше они пошли вместе. — В понедельник я уезжаю в Англию, — сказал Санджусто. — Но теперь мне уже и уезжать отсюда не хочется, хотя я гораздо лучше говорю по-английски. Мне нравится ваша страна, нравится Красной. И этот Айзнар тоже нравится. И зачем только я в эту Англию собрался! — Он рассмеялся, показав крепкие белые зубы. — Впрочем, порой неплохо все же выбраться за пределы империи, верно? Но я думаю, что скоро вернусь сюда.
— Надеюсь, вас впустят после того, как мы опубликуем статьи, которые вы нам пришлете из Англии, — заметил с Улыбкой Итале.
— О, здесь меня считают куда менее опасным преступником, чем на родине. Да и полиция ваша не так шустра, как у нас, в Пьемонте. Но останавливаться в Вене, чтобы получить разрешение на въезд, я точно не буду…
— А что, если мы подпишем ваши статьи псевдонимом?
— Почему бы и нет? В Турине я, например, был «Карло Франчески». А вы, между прочим, выглядите усталым, Сорде.
— Я действительно устал.
— А я переполнен кофе, словно корабль, который вот-вот потонет. Каждый вечер я только и делаю, что пью кофе… Чем мне, собственно, еще заниматься?… — Он снова засмеялся. — Такая у меня жизнь!.. Нет, вы только взгляните на этих бедолаг, — прошептал он, когда они миновали двоих полицейских, весьма импозантно выглядевших в имперской форме, — как же им хочется домой, в свою Богемию, или откуда там они приехали! А впрочем, всем нам в пасхальную ночь хочется домой! Мы бы, например, непременно поплыли к мессе на лодке через озеро…
— Какое озеро?
— Лаго д'Орта, — сказал Санджусто, произнося это название с каким-то особым удовольствием и нежностью.
Они подошли к собору; двери его были распахнуты; в полумраке поблескивало золото внутреннего убранства. Через площадь к собору со стороны старой части города направлялась небольшая процессия — монахини и воспитанницы, укутанные в шали. Итале узнал серые платьица девушек из монастырской школы — в таком же была сегодня Пьера… Она, без сомнения, сейчас среди старших девушек, идущих сзади с покорно опущенными головами. Только вряд ли она хочет видеть его, да и он не сумеет отыскать ее среди одинаковых стройных девичьих фигурок, укутанных в шали…
— Милые утятки, — сказал Санджусто. — Я их часто вижу днем, когда они выходят на прогулку — такие чистенькие, аккуратные, глазки сияют и все вокруг замечают! Мне нравятся девочки из монастырских школ; образование они всегда получают неплохое. Простите, я не оскорбляю ваших религиозных чувств своей болтовней?
— Нет! — рассмеялся Итале.
— Мне бы очень хотелось повидать те горы, откуда вы родом. Когда вы вчера рассказывали о них, я подумал, что все это очень похоже на мою родину.
— Я бы очень хотел, чтобы вы смогли поехать туда со мной, Санджусто.
— Вот и прекрасно! Все еще впереди. Если научиться ждать, все ожидаемое непременно случится. Это я испытал на собственном опыте. Научиться ждать — вот отличное занятие для изгнанника! Хорошо, я буду помнить о вашем приглашении, Сорде. Спасибо. Но пойдемте, месса уже начинается. — И они вошли в церковь, полную томления пасхальной ночи.
— Христос воскрес! — ликуя пел хор, и музыка звучала в ночи, точно свет зари. И светлая радость омыла вдруг сердце Итале, так дождь омывает порой камень на перекрестке, и он, точно бриллиант, вспыхивает в солнечных лучах, что внезапно прорываются сквозь тучи.
Глава 13
Этим сентябрьским утром деревенские женщины, торговавшие на центральном рынке Красноя луком, яблоками, сметаной, сыром и другими плодами садов, огородов и молочных хозяйств, еще до полудня распродали свой товар и собрались с пустыми корзинами и бидонами домой, надеясь сесть на какую-нибудь попутную телегу, однако Пройти через площадь кафедрального собора им не дали. Австрийская полиция и большой отряд дворцовой стражи в алых мундирах уже перекрыли одну улицу и очищали от народа вторую, громко требуя разойтись. Над конскими головами покачивались каски, поблескивали кокарды; лошади нервно прядали ушами, золоченые пуговицы мундиров сверкали в лучах солнца, еще по-утреннему неяркого, но уже начинавшего припекать. Те, кому удалось подоит» ближе к площади до того, как их остановили и сбили в толпу, могли видеть, что целый батальон гвардейцев выстроился рядами перед входом в собор.
— Ишь, стоят, как красные кегли, — заметила толстая, могучего сложения крестьянка из Грассе.
— Да пусть себе стоят, коли велено, да только мне-то это стояние вовсе ни к чему, меня уж ноги не держат, — откликнулся ее сосед, высокий худосочный мужчина, и нервно подвинул мешавшую ему корзину, что висела на руке у матроны.
— Да уж, матушка, рядом с твоими козьими сырами долго не простоишь! — с улыбкой встрял в разговор другой мужчина в фартуке сапожника, сутулый от вечной согбенной позы, в которой ему приходится забивать гвозди в чужие башмаки, и беззубый из-за дурной привычки всех сапожников держать гвозди во рту.
— Что, небось сырку захотелось? — смело поддразнила его стоявшая рядом худенькая женщина.
— Мам, это парад? — звонко спросила толстую крестьянку девочка лет семи, явно ее дочка. — А помнишь, какой парад был в Грассе в День Святого причастия, со всякими золотыми штуками?… Мам, а что такое «самблея»?
— Мне-то откуда знать? — удивилась ее мать. — Эй, сапожник, ты часом не знаешь, чего это здесь такую толпищу собрали да солдат столько нагнали?
— Да им просто делать нечего, горожанам этим! — сердито воскликнула вторая женщина.
— Сегодня великий день, матушка, — сказал сапожник, изо всех сил стараясь перестать улыбаться и придать лицу серьезное выражение, — ты разве не знаешь? А мы тут некстати подвернулись, вот и все. Зато теперь увидим, как мимо ассамблея проследует.
— Не знаю, кто уж тут «некстати подвернулся», а я, например, просто мимо шел! — раздраженно заметил какой-то чиновник, которого в этот момент толпа буквально выдавила из своих рядов, и он неожиданно оказался у сапожника прямо перед носом. — Если бы эти чертовы стражники не начали людей в кучу сгонять и не топтали их лошадьми, я бы сейчас уже в конторе спокойно сидел!
В десять утра люди на площади услышали, как зазвонили колокола — в церкви Святого Стефана под горой и в церкви Святого Роха в Старом городе; но большой колокол кафедрального собора молчал. Он молчал еще по крайней мере минут пятнадцать, а потом вдруг все колокола на звоннице зазвонили разом, да так громко, что по спине мурашки бежали от этого перезвона, перемежавшегося мерными глухими могучими ударами большого колокола.
— Да с какой стати поднимать такую шумиху? — возмущался нервный чиновник, а деревенские женщины молча крестились.
— Колокола звонят потому, что Господь благословил ассамблею, — пояснил сапожник-всезнайка. — А теперь, матушка, — обратился он к толстой крестьянке, — смотри внимательно: они сейчас выйдут и направятся по улице Тийпонтий прямо к парку.
— А зачем Господь эту «самблею» благословлял, ма? — недоумевала маленькая дочка крестьянки. — Ой, глядите, глядите! Ой, Господи Иисусе, нет, вы только посмотрите на них!
Представители трех штатов королевства вышли из дверей собора Святой Теодоры в том самом порядке, какой был предписан указом от 1509 года: архиепископ и его коллегия, а также высшее духовенство десяти провинций следовали строго в порядке иерархии и в соответствующем облачении; за ними выступали представители знати из всех десяти провинций Орсинии в латах или парадных одеждах и тоже в соответствии с иерархической принадлежностью, и каждого из них сопровождал оруженосец, демонстрировавший всем фамильный герб того или иного дома; последними шли представители третьего сословия в черных сюртуках и шляпах или дорогих меховых шапках, хотя и не из меха горностая или соболя. Эту процессию, направлявшуюся к королевскому дворцу, сопровождали, отдавая ей честь, королевские гвардейцы, а во дворце ее поджидали сам король, ректор Королевского университета, мэр Красноя и главы восьми Великих Гильдий. Приветствуя пышную процессию, где-то далеко, в парке, нежно пропела труба. Над толпой взлетели радостные приветствия при виде нескольких знакомых лиц из числа депутатов третьего сословия — представителей столицы, Орагона и Ракавы. Как только были сняты кордоны, толпа рассыпалась по улицам, и многие последовали за процессией. Ну а деревенские жители двинулись через площадь к своим телегам, чиновники поспешили в конторы, а сапожники — к своим заказчикам.
Во дворец Синалья, в парадный зал, огромный и холодный, похожий на мраморный амбар, депутаты ассамблеи вошли в том же порядке. Пока они рассаживались, вооруженные гвардейские офицеры занимали свои посты у каждой двери. Затем великая герцогиня Мария выступила с приветственной речью на латыни.
Наверху, на узкой галерее, похожей скорее на карниз для голубей, теснились, хватая ртом спертый воздух, человек двадцать-тридцать; они невольно толкали друг друга локтями и тщетно пытались разглядеть участников ассамблей через четыре полуметровых оконца, напоминавшим амбразуры. Галерея не была предназначена для такого количества людей; там вполне могли с удобством устроиться несколько придворных секретарей, но не толпа жадных репортеров.
— А ведь я сам попросил, чтобы меня послали в эту чертову дыру! — простонал Брелавай. — Вот и томлюсь, как гусь в духовке! — Чтобы попасть сюда, ему пришлось оформить специальный пропуск, на котором поставили свои подписи и печати шесть крупных чиновников — представители цензуры, полиции, королевской стражи и т. д.; кроме того, разрешение на этот пропуск стоило немалых хлопот руководству той довольно скандальной газетенки, печатавшей дворцовые и столичные сплетни, с которой сотрудничал Брелавай. Френин получил пропуск сюда благодаря тому, что являлся сотрудником католического ежемесячного журнала, специализировавшегося на публикации различных приходских новостей и материалов, будивших вдохновение у местных проповедников. У Итале был пропуск от «Новесма верба». Остальные собравшиеся на балконе являлись репортерами правительственного «Вестника» или же просто наблюдателями из числа приближенных великой герцогини, которые пожелали попасть сюда исключительно из любопытства или из ощущения собственной важности. Александр Карантай стоял рядом с Итале и словно завороженный следил за странными, какими-то рубящими движениями длинного подбородка великой герцогини, пока та читала свое приветствие. Роман Карантая «Молодой Лийве», опубликованный этой весной, вызвал небывалый интерес, а сам он стал чем-то вроде национального героя. Венское правительство подобных «национальных героев» терпеть не могло, однако старалось в такие дела не вмешиваться. Карантаю получить пропуск, подписанный премьер-министром Корнелиусом, оказалось очень легко: он всего лишь попросил об этом.
Монотонное приветствие герцогини близилось к концу.
— Должно быть, уже половина пятого! — простонал Брелавай, ибо герцогиню на кафедре тут же сменил ректор университета, темнобородый, брыластый и весьма величественный в своем отделанном золотом профессорском одеянии. — О, miserere, Domine!
[23] — взмолился Брелавай.
Ректор разложил на кафедре свернутую в трубку речь, прижал ее рукой и принялся импровизировать на заданную тему. Один из тощеньких, услужливо-чиновничьего вида репортеров «Вестника» быстро за ним записывал; Итале тоже попытался что-то записать, то и дело обращаясь за помощью к Брелаваю, который у них в Соларии был первым по латыни и даже получил на экзамене первую премию. Брелавай снова застонал и процитировал Вергилия.
— Mugitusque bourn! — сказал он. — Чего ты там пытаешься царапать, Итале? Это же всего лишь mugitus bourn.
[24] My! My! — передразнил он ректора.
Старательный репортер, упорно записывавший за ректором, что-то злобно прошипел в их сторону, призывая к тишине. После длившейся полчаса напыщенной речи ректора поднялся мэр Красноя и кратко, точно Цицерон, приветствовал собравшихся, явно не понимая ни слова в собственном приветствии, ибо зачитывал его с некими весьма странными паузами и ударениями, точно вслепую стреляя из ружья. Затем от лица всех Великих Гильдий, достаточно разобщенных между собой, как, впрочем, и все подобные цеховые объединения, выступил премьер-министр Йохан Корнелиус и двадцать минут говорил очень гладко и красиво, на отличной, хотя и несколько германизированной латыни. Стенографист «Вестника» эту речь записывал особенно тщательно. Итале тоже попробовал ее законспектировать, но тщетно.
— Да перестань ты, — шептал ему Брелавай. — А этот тип никакой не стенографист; он просто нас напугать хочет, а сам водит по листу, точно курица лапой!
— А если Корнелиус скажет что-нибудь действительно важное? — сопротивлялся Итале.
— Никто из них ничего важного здесь не скажет, — успокоил его Френин.
Наконец приветственные речи завершились; объявили; перерыв.
В кафе «Иллирика» давно собравшаяся компания с нетерпением ожидала прихода четверых «делегатов». Всем ужасно хотелось узнать, что происходило на первом заседании ассамблеи.
— Да мычали, как коровы на лугу! — сердито заявил Брелавай.
Все вокруг них кричали, спорили, задавали вопросы и сами же на них отвечали, помалкивали только те четверо, что побывали на заседании. Они, конечно, и раньше знали, что все речи будут на латыни и в первый день будут звучать одни формальные приветствия… но все же этого дня так долго ждали, а он уже почти закончился, так и не принеся никаких результатов. Совсем никаких! Их в очередной раз попытались поразить фальшивым, показным блеском… Итале и Карантай забились в самый дальний уголок кафе. Добродушный и спокойный Карантай действовал на Итале умиротворяюще, в его обществе он как бы обретал убежище среди всеобщего полупьяного энтузиазма, царившего вокруг. В этом молодом писателе самым неожиданным образом сочетались страстность и терпение. Он был последовательным сторонником Конституции и Республики и вполне мог бы рискнуть своей великолепно складывавшейся карьерой во имя настоящей цели, однако не желал закрывать глаза на всякие гнусности. В Карантае чувствовались надежность и упрямство, и это все больше нравилось Итале; эти качества Карантая проявились даже в его романе, произведении очень искреннем, романтическом и даже таинственном, но, как и его автор, на редкость честном. В сложном смешении его любви и неприязни по отношению как к роману, так и к его автору Итале смутно виделся как бы намек на всю сложность отношений Реального и Идеального в жизни; и очень многое теперь заставляло его все сильнее симпатизировать Карантаю, а чем ближе он его узнавал, тем сильнее любил. В данный же момент они просто пили пиво, стараясь почти не разговаривать, чтобы не пришлось перекрикивать громче обычного расшумевшихся завсегдатаев «Иллирики», как всегда ведущих речи о своей «возлюбленной Свободе».
После перерыва они вернулись в тесное душное пространство галереи и стали смотреть, как депутаты занимают свои места. Теперь должны были выступать представители каждого штата — со словами благодарности высшей власти государства за разрешение созвать ассамблею. Место великой герцогини пустовало: верховная правительница уже отдала долг вежливости. Йохан Корнелиус, изящный, седовласый, со своей всегдашней благожелательной улыбкой, занял свое место справа от пустовавшего кресла герцогини, и пышные речи на латыни теперь адресовались именно ему.
— Ну вот, поскольку Меттерних тоже отсутствует, — заметил Френин, — приходится благодарить марионеточного министра марионеточной правительницы, посаженной на престол марионеточным императором, которым правит такой опытнейший кукловод, как канцлер Германии, и мы все благодарим его — за несказанную доброту, ибо он позволил нам вот уже целых шесть часов, собравшись в этом зале, поговорить на замечательном, но абсолютно мертвом языке в полном соответствии с древней традицией. Боже мой! С какой стати мы торчим здесь и смотрим этот кукольный спектакль?
Верховный прелат Орсинии, архиепископ Айзнарский, наконец объявил повестку дня. В последний раз Итале видел его в кафедральном соборе в пасхальную ночь — застывшая фигура в золотом облачении, вся в сиянии праздничных огней и как бы растворяющаяся в звуках райской музыки. На церковной латыни он довольно слабым и тонким голосом открыл собрание и внес на рассмотрение депутатов предложение единодушно проголосовать за выражение глубокой благодарности великой герцогине за милостивое разрешение собраться в ее дворце.
Кто-то поднялся в зале, слева от архиепископа, желая выступить. Архиепископ, пошептавшись со своими помощниками, осторожно сказал на латыни:
— Мы признаем этого депутата. Даю вам слово.
— Господин архиепископ, уважаемые господа депутаты, — звучно начал выступающий, но не на латыни, а на своем родном языке. — Я предлагаю внести следующие изменения в сделанное предложение: ассамблея проголосует в знак благодарности верховному правителю, но пусть голосование состоится и резолюция будет принята на родном языке жителей этой страны!
На какое-то время в зале воцарилась полная тишина, потом послышались возгласы, становившиеся все громче.
— Господин архиепископ! Прошу вас восстановить в зале порядок, — попросил оратор, — слово для выступления предоставлено было мне. Итак, мое имя Орагон, я депутат от третьего сословия, избранный Национальным собранием провинции Полана. Однако в данном случае я говорю не только от имени своей провинции, но и от имени всей страны, и от имени всей страны я обращаюсь к вам, господа депутаты, ибо речь идет прежде всего о наших правах и о наших священных обязанностях.
Сильный, уверенный голос Орагона зазвучал громче, произносимые им знакомые, но такие важные слова как бы сразу заполнили собой казавшееся странно пустым и холодным пространство огромного зала: моя страна, мой народ, наши права, наша ответственность… Любое слово, давно не произносимое вслух и томящееся под запретом, как бы вбирает в себя всю силу молчания, и эта сила лишь увеличивает его собственное могущество. Именно она, эта сила, скопившаяся за долгие годы вынужденного молчания, наполняла сейчас речь Орагона, и он понимал это и продолжал говорить без колебаний, зная, что это, вполне возможно, его первое и последнее выступление в этом зале. На галерее репортеры прильнули к своим блокнотам, стараясь непременно полностью записать его речь. Итале писал почти с той же скоростью, с какой говорил Орагон: он практически наизусть знал содержание этой речи, он выучил все эти слова много лет назад в тихой и темной библиотеке родного дома в Малафрене, эта речь, состоявшая из стольких различных слов, могла быть, в сущности, сведена к четырем основным словам: ЖИТЬ СВОБОДНО ИЛИ УМЕРЕТЬ. Орагон говорил сорок минут, и под конец голос его уже звучал чуть хрипловато. Аудитория была потрясена. Итале выронил карандаш: онемевшие пальцы больше не держали его. Карантай поднял и его карандаш, и записную книжку и подал ему, знаком указав, что нужно продолжать записывать: среди членов ассамблеи творилось нечто невообразимое. То и дело вскакивали желающие выступить и что-то кричали с места; у несчастного архиепископа просто глаза вылезли на лоб. Корнелиус в течение всей речи Орагона хранил молчание. Он, безусловно, тоже прекрасно понимал смысл этой речи, но в отличие от Итале полагал, что время таких речей давно миновало. Однако по мере того, как продолжались дебаты, причем выступающие говорили на местном языке, практически выйдя из-под контроля, премьер-министр все более мрачнел. Энтузиазм масс и их неконтролируемые действия всегда были его врагами. Во время одного из выступлений — это был какой-то барон из Совены, довольно воинственно настроенный и безусловный патриот, — Корнелиус поднялся, подошел к архиепископу и стал ему что-то тихо внушать. Возмущенный Орагон снова вскочил. Его могучий хрипловатый голос, привыкший перекрывать любой шум во время любых собраний как в помещении, так и под открытым небом, заглушил речь барона:
— Господин архиепископ, я требую, чтобы в зале был восстановлен порядок. Герр Корнелиус, не будучи депутатом, является на данном собрании всего лишь гостем и не имеет права говорить, пока такое право ему не будет предоставлено большинством присутствующих депутатов!
Воцарилась несколько испуганная, но все же насмешливая тишина, и Корнелиус, выпрямившись, неторопливо прошел на свое место.
— Я отказываюсь от своего права на выступление с разрешения уважаемой ассамблеи, — сказал он, не повышая голоса, так что его расслышали только представители духовенства, сидевшие в первых рядах. — Прошу вас, продолжайте дискуссию.
Однако воинственно настроенный барон теперь вдруг словно онемел. Кто-то выкрикнул:
— Давайте проголосуем за предложение господина Орагона!
— Господа, — вмешался архиепископ, — я полагаю, что дальнейшие дебаты и голосование нам следовало бы отложить; уже начало шестого, и, следуя…
Его прервал депутат из Красноя:
— Прошу прощения, уважаемый председатель! Мне кажется, сперва нужно проголосовать, стоит ли переносить обсуждаемые вопросы.
Архиепископ устало потер лоб, из-за чего его головной убор смешно сдвинулся набок, и сказал умоляющим тоном:
— Очень прошу уважаемых депутатов проявить терпение; я еще не совсем освоился со своими обязанностями председательствующего. Проголосуем, следует ли закрывать сегодняшнее заседание.
К нему, точно чертик из табакерки, подскочил клерк:
— Sic et non, — прокричал он. — Sic?
— Продолжаем заседание! — крикнул кто-то из тех рядов, где сидели представители знати. — Давайте сразу покончим с этим делом! Я желаю выступить!
Наконец, после множества путаных и незавершенных выступлений, было проведено голосование по поводу переноса заседания. Результаты были впечатляющие: сто сорок депутатов проголосовали за то, чтобы заседание продолжить, сто тридцать один — за его перенос, сорок семь воздержались. Председательствующий рассудил, что заседание в любом случае следует прервать на два часа для обеда, и его предложение было принято.
— Ну вот и все, — сказал Брелавай. — Они нажрутся, вернутся в зал сонные и проголосуют даже за то, чтобы следующее заседание велось на санскрите!
Однако, когда предложение о том, на каком языке должны проходить заседания ассамблеи, было наконец поставлено на голосование — это произошло в одиннадцать, часов ночи! — в пользу латыни высказались не более десяти депутатов. Второе предложение, выдвинутое Орагоном и связанное с первым, о некоторых изменениях в процедуре проведения заседаний в провинциях, вполне способно было обеспечить третьему сословию большинство в ассамблее, однако голосование по этому вопросу архиепископ, которого явно во время обеда напичкали советами по поводу того, как, применяя оборонительную тактику, контролировать ситуацию путем использования парламентских процедур, решил перенести на завтра. Итак, с ощущением несколько невнятной победы депутаты заседание отложили.
Итале и Карантай, оставив остальных в «Иллирике», отправились в Старый город к Геллескару. Там их приветствовали радостными возгласами и шампанским. У Георга Геллескара уже находились Луиза, Энрике, Эстенскар и прочие члены «либерального кружка».
— Ну что, объявили Австрии войну? — спросил старый граф, отец Георга Геллескара.
Старый граф, полковник не существующей ныне национальной армии, в последний раз был в строю еще под Лейпцигом. Итале впервые познакомился с ним два года назад, когда, уступив бесконечным приглашениям Георга Геллескара, явился к ним в дом на ужин. Этот дом показался ему куда более величественным и суровым, чем дом Палюдескаров, да и повод для приглашения был абсолютно формальный. Итале вел себя довольно вызывающе, играя роль стойкого республиканца, а Георг Геллескар был слишком занят, будучи хозяином дома, чтобы вытащить приятеля из трясины оскорбленного молчания, в которую Итале неизбежно погружался. Когда он с Мрачным видом сидел в полном одиночестве в дальнем углу обширной гостиной, к нему, медленно и тяжело ступая, подошел старый граф и сел рядом.
— Я знал вашего деда, — сказал он вдруг. — Итале Сорде из Малафрены.
Итале лишь молча посмотрел на него: в тот момент он был слишком увлечен собственной убежденностью в том, что никто вокруг его не понимает и понять не способен.
— Георг мне о вас рассказывал, но ваше имя ничего мне не говорило, пока я вас не увидел, — продолжал между тем старик. — Вы очень на него похожи.
— Где же… Где вы познакомились с ним, дорогой граф? — не выдержал Итале.
— В Париже. Я был тогда совсем молод, а ему было уже под сорок. На родину мы вернулись одновременно; он собирался уехать в свое поместье, а я должен был получить офицерский чин. В течение нескольких лет мы переписывались… Он, должно быть, давно уже в могиле.
— Дед умер в 1810 году.
— Более никогда в жизни не встречал я таких людей! — Старик серьезно и строго посмотрел на Итале.
— Что же мой дед делал в Париже?
— Жил — вот как вы живете здесь. В 70-е годы в Париже было полно иностранцев, и мы в том числе. Там всегда полно иностранцев. Бежавшие из своей страны поляки — лучшие в мире фехтовальщики! — немцы, мы… И все между собой разговаривали по-французски. Ах, какие мы вели тогда беседы… Немало крови и воды утекло под мостами Сены с тех пор, как мы, совсем еще молодые, сиживали в кафе, обсуждая, скажем, «Общественный договор» Руссо. А над нами нависала тень Бастилии… Да, господин Сорде, все переменилось с тех пор, все…
— Но ведь и мы часто спорим по поводу этой работы Руссо, — смиренно заметил Итале, он уже совсем забыл о своей «роли».
— Неужели? А впрочем, конечно, она многое помогает понять… Но то были иные времена, господин Сорде. Золотой век. Молочные реки и кисельные берега, и, между прочим, молоко в этих берегах еще не скисло! В 93-м я в Париже не был и мясников этих не видел, зато в 15-м году я был в Вене и видел там немало стервятников… И, между прочим, это ваш дед открыл передо мной возможности того золотого века, рассказал о том новом мире, которому еще только предстояло родиться! И тогда мне казалось, что это поистине великий мир… Но во что он превратился чуть ли не сразу после своего рождения? И что сталось с вашим дедом? Вернулся к своим виноградникам и умер, подобно простому земледельцу. А я повел свои четыре сотни на растерзание войскам Наполеона под Лейпцигом, а потом вернулся домой — и теперь мне остается сидеть и беспомощно наблюдать, как дерутся эти стервятники…
— Что ж, наше время еще не вышло, граф, — сказал преувеличенно бодро Итале и оглушительно высморкался. Честно говоря, его дурное настроение в тот вечер было отчасти вызвано жесточайшим насморком: поселившись на Маленастраде, он постоянно простужался.
— А наше — вышло. Отправляйтесь в Америку, молодые люди! Ищите там новый мир, даже если он населен дикарями, только не тратьте здесь время зря!
— Если новый мир действительно существует, то он здесь. Для меня он здесь или нигде! Только так, — сказал Итале даже как-то свирепо, и старик с неменьшей яростью воскликнул:
— Что ж! Это ваше время и ваше право считать так. И все же лучшие годы моей жизни — это годы, проведенные в Париже, перед самой Революцией. Этого я никогда не забуду, господин Сорде, хотя вряд ли даже тогда мы с Итале Сорде верили, что достигнуть золотого века можно благодаря всего лишь упорному труду и доброй воле. Но я никогда не стал бы уверять молодых, что золотой век вообще недостижим! — Он хлопнул своими крупными ладонями по деревянным, потемневшим от времени подлокотникам кресла и яростно сверкнул глазами в сторону Итале и своего сына Георга, который между тем успел к ним присоединиться. Потом старый граф, явно стараясь успокоиться, отвернулся от них и стал смотреть туда, где в центре гостиной пестрели прекрасные туалеты дам, а гости были заняты мирной и веселой беседой.
С того вечера началась их дружба. И всегда — как Итале, так и старый граф — они чувствовали свою нерушимую связь с тем, другим Итале Сорде, что покоился теперь на кладбище близ часовни Святого Антония, под соснами Малафрены. И к Георгу Геллескару Итале проникся особой симпатией, в основном потому, что заметил, с какой нежностью и уважением тот относится к отцу, вспыльчивому и хрупкому старому вояке.
А сегодня граф Геллескар вспоминал последнее собрание Генеральных штатов, состоявшееся в 1796 году:
— Они тогда все пытались выбрать короля и вдрызг из-за этого рассорились. Может быть, теперь у них лучше пойдет, особенно если они всерьез надумают избавиться от великой герцогини? А, как вы думаете? — Старик засмеялся лающим смехом, напоминая в эти минуты крупного гончего пса. Среди радикально настроенных друзей своего сына он с удовольствием занимал самую крайнюю позицию и был способен запросто перещеголять любого в яростных нападках на Австрию, на политику Меттерниха, на цензуру, на двор великой герцогини в Синалье и так далее. Эмоции его были искренни, однако суждения и оценки, особенно когда он пытался отстаивать их с позиций разума, были часто недостаточно доказательны и как бы распадались на составные части, ибо основу их всегда составляли уважение к мужеству, презрение ко всяческим проявлениям оппортунизма, бессильная ярость аристократа, представителя знати, который видит и понимает, как разлагается и становится ненужным его класс, и горькое разочарование боевого офицера, проигравшего свое последнее сражение.
Вскоре к их беседе о Генеральных штатах присоединился и Эстенскар. Старый Геллескар не слишком жаловал этого поэта, хотя всегда был с ним вежлив, как и со всеми гостями своего дома, но вежлив той несколько нарочитой, утонченной, куртуазной вежливостью, которая болезненно напоминала Итале его собственного отца. Потом к ним подошли еще несколько человек, но не Луиза, хотя, едва Итале вошел, она взглядом дала ему понять, что очень рада его видеть. У старого графа сохранились кое-какие записи, касавшиеся собрания 96-го года, и он увел участников беседы к себе в кабинет, чтобы показать эти записи. После сегодняшнего заседания ассамблеи старый граф, как и многие другие, вновь обрел какую-то надежду — ибо подобной победы патриотов не ожидал никто, — что в стране все же можно будет решить многие давно наболевшие проблемы. Они с Эстенскаром оживленно беседовали, а Итале слушал. Этот день казался ему просто нескончаемым. Георг Геллескар только заглянул в кабинет, исчез и вскоре прислал слугу с бутылкой коньяка и запиской: «Для восстановления сил — депутату от четвертого сословия». Итале с удовольствием выпил и сам не понял, как крепко уснул, утонув в кожаном кресле. Остальные, заметив это, тихонько вышли из кабинета, стараясь его не тревожить. Так, в тишине, среди книг и деревянных панелей прошел час; в кабинете не было слышно ни звука, лишь тикали часы да потрескивал огонь в камине, когда туда, неслышно ступая, вошла Луиза. Она была в трауре: в июле после тяжелой болезни умерла ее мать. В течение всего последнего времени Луиза нежно о ней заботилась, переехав в Айзнар сразу, как только у врачей возникли соответствующие подозрения. Это произошло еще до Пасхи, но тогда она ничего не сказала Итале о болезни матери. Она вообще не очень охотно говорила на эту тему; хотя о смерти матери сказала ему очень просто и честно, точно испытывая некое облегчение и не стыдясь этого. Она не выказывала никаких внешних признаков горя, однако совершенно утратила ту здоровую, сияющую красоту юности, какой обладала в двадцать лет, когда Итале впервые ее увидел. Луиза сильно похудела и казалась очень хрупкой и бледной в своем черном траурном платье. Держалась она несколько напряженно, но, как всегда, гордо вскидывала голову.
Некоторое время постояв возле кресла спящего Итале и глядя ему в лицо и на его руки, все еще сжимавшие пустой бокал из-под коньяка, она всей своей позой выражала настороженное ожидание. Наконец она не выдержала и попыталась вынуть пустой бокал у него из рук. Итале, разумеется, тут же проснулся, и она спросила:
— Ты можешь прийти сегодня?
Он непонимающе уставился на нее, покачал головой, потер рукой лицо, взъерошил волосы, зевнул и громко спросил:
— Что?
Она поставила бокал на стол, отошла от него, прислонилась к стеллажу с книгами и отчетливо повторила, чуть отвернувшись в сторону:
— Ты сегодня можешь прийти?
— А который час? — Он вытащил часы. — Неужели половина третьего?!
— Около двух.
— Так я заснул? Послушай, а Карантай уже ушел? Мы должны были сегодня засесть с ним в редакции и срочно писать статью — номер отправляют в типографию в среду днем, то есть завтра, нет, уже сегодня… Прости, Луиза, но давай встретимся завтра вечером, хорошо? — Он с трудом выкарабкался из глубокого кресла и подошел к ней. Она не обернулась и лица ему навстречу не подняла, а двинулась куда-то прочь от него, вдоль бесчисленных книжных полок, разглядывая корешки книг.
— Завтра вечером я должна быть на приеме во дворце, — сказала она. — Да, Георг, входи, она уже проснулась, наша Спящая Красавица, разбуженная моим поцелуем! Странно, что и ты вместе с ним не уснул.
— Не имело смысла, — сказал молодой Геллескар, входя в кабинет. — Меня бы ты, по всей вероятности, не поцеловала, а укусила бы. Слушай, Сорде, тебя просто заждались наши дорогие радикалы! Ты бы вышел к ним в гостиную, а?
— Нам непременно нужно успеть подготовить этот номер, чтобы цензоры успели его просмотреть. На прошлой неделе им потребовалось пятьдесят шесть часов, чтобы дать нам разрешение на публикацию… Ты пойдешь с нами в редакцию, Георг? Там подобные ночные посиделки всегда бывают очень забавными. — Освеженный сном и уже окончательно проснувшийся, Итале прямо-таки источал жизненную силу и тепло, точно жарко горящий огонь в очаге, и Георг Геллескар тут же согласился:
— Ладно! Если я не помешаю, конечно.
— Мы и тебя к работе пристроим, не беспокойся. Спокойной ночи, баронесса, — сказал Итале Луизе весело и игриво, как всегда, когда, обращаясь к ней при людях, использовал ненавистный ей титул.
— Вы ведь простите мне мое бегство? — спросил Луизу Геллескар, добродушно улыбаясь. Она тоже улыбнулась и сказала:
— Я никак не могу заставить Энрике отвезти меня домой, хотя час уже не просто поздний. А вы развлекайтесь от души, если можете. Но неужели вы действительно надеетесь, что после сегодняшнего цензоры позволят вам хоть что-нибудь напечатать?
Но Итале, столкнувшись в дверях кабинета с Карантаем, не расслышал ее вопроса; а может, сделал вид, что не расслышал.
Глава 14
Луиза побаивалась Итале с тех пор, как впервые увидела его, когда он, только что сошедший с прибывшего из Монтайны почтового дилижанса, страшно растерянный и совершенно неуместный в ее салоне, появился у них в доме. Ее пугало в нем все — высокий рост, ярко-синие глаза, чересчур длинный нос, сильные руки, совершенно детская неуклюжесть и душевная ранимость, его революционные идеи, отчетливо ощутимое в нем мужское начало и могучий неукротимый дух, который, она это чувствовала, играет в нем, такой же яркий и опасный, как молния в грозовом небе. Этот человек был ей абсолютно неведом; он был совершенно не такой, как она, и у нее не было с ним ничего общего. Больше того, сама его сущность служила как бы отрицанием ее сущности. Пойти на контакт с ним означало для нее либо попытку разрушить эту его сущность, либо полное разрушение ее собственной сущности… Но ей совсем не хотелось таких крайностей; она всегда мечтала полностью владеть собой, осуществлять строжайший контроль над собственными телом и душою; холодность, смелость, самообладание всегда были ее идеалом. Присутствие Итале в ее жизни стало серьезным испытанием для этих качеств, однако избегать Итале или, что было бы еще проще и естественней, отослать его прочь и никогда более его не видеть она не могла: это было бы для нее проявлением трусости, признанием своего поражения. И она снова пригласила его в гости, несмотря на слабые протесты со стороны Энрике. Геллескар и Эстенскар как-то сразу приняли его сторону, а следом за ними и целая группа радикально настроенных журналистов, людей, достаточно заметных в столице, так что Луизе все равно пришлось бы встречаться с ним на светских приемах, если только она окончательно не переметнется к «венцам», консервативной и проимперской группе светской знати. Луиза поддерживала отношения с «венской группой» и даже соглашалась играть определенную, хотя и незначительную, во всяком случае, довольно пассивную роль при дворе — ту же, что и когда-то ее мать: примерно раз в неделю, когда в городе бывала великая герцогиня, бывать во дворце. Ее забавлял контраст, который составляли бесчисленные и допотопные придворные обязанности и традиции с той свободой, что царила в кругу ее личных друзей и знакомых, и она откровенно развлекалась, испытывая собственную выдержку и недюжинную силу воли на этих «паркетных шаркунах», на этих блестящих, честолюбивых и обожающих спорить мужчинах, столь сильно отличавшихся друг от друга. В основном, впрочем, они вызывали у нее элементарное презрение, которое ей вполне успешно удавалось скрыть. Но отношения с Итале складывались иначе: никакое самообладание, никакие насмешки над собой не способны были отвратить ее от этого человека, рассеять вызванное им очарование — опасное очарование! — непреодолимое влечение к нему и… презрение к самой себе. В его присутствии Луиза испытывала одновременно ужас и наслаждение, столь явственно он бросал вызов всему, что составляло ее сущность, ее сокровенные мечты.
Луиза выросла не в Красное, а в огромном фамильном имении Палюдескаров в провинции Совена, практически целиком принадлежавшей ее деду. Родители большую часть времени проводили в Красное, ибо связь с королевским двором играла важнейшую роль в жизни баронессы Палюдескар. А дети оставались в деревне под присмотром нянек, горничных и слуг, пока Энрике не исполнилось одиннадцать и его не отослали в военную школу для высшей аристократии, где он сразу почувствовал себя невыразимо несчастным. Восьмилетняя Луиза осталась практически одна в окружении слуг и поистине творила, что хотела, в огромном, точно нежилом доме, высившемся на холме среди плодородной, но исхлестанной ветрами равнины, составлявшей ее наследство. Ее товарищами по играм были дети управляющего и многочисленных арендаторов. Арендаторы, будучи на одну ступеньку выше обычных крестьян, обычно отдавали своих детей в школу, где те успевали проучиться год или два. Это были застенчивые темноволосые ребятишки, надежные и крепкие, как гвозди; обычно они считали себя рабами «маленькой баронессы», но она умудрялась почти любого довести до белого каления, пока какой-нибудь разъяренный ее нападками мальчишка не начинал кричать на нее, обзывать «паписткой» — это было самое тяжкое оскорбление — и даже плеваться, а зачастую и драться. Дружила она исключительно с мальчишками. С девчонками у нее отношения не складывались; все ее попытки поиграть с ними кончались дракой. А мальчишек она запросто могла увлечь даже на такие «подвиги», которые многим из них казались запретными — то ли в силу отсутствия воображения, то ли в силу ханжеского воспитания и благоразумия. Однако и мальчишкам далеко не всегда нравилось, что она ими командует. Однажды, когда ей было десять, она, никому ничего не сказав, пробралась домой, пряча сломанную руку. Своими насмешками ей удалось довести Касса, сына кузнеца, до такого бешенства,
что он сломал ей руку, словно ивовую ветку, просто перегнув через колено. Когда же через неделю наконец прибыла ее мать — это происходило в среднем раз в год, — то ей было сказано, что «маленькая баронесса» упала с лошади. «Она стала такой дикаркой, ваша милость», — сказала нянька с легкой тревогой в голосе. Баронесса не стала ничего выяснять и отдала приказ, чтобы Луиза по шесть часов в день непременно проводила в классной комнате со своим наставником (он же был домашним священником) и ни в коем случае не играла с детьми протестантов. И этот приказ более или менее выполнялся, пока не уехала баронесса. Но стоило ее карете скрыться из вида, как Луиза удрала из дому и среди амбаров и прочих дворовых построек разыскала Касса.
Годом позже Луиза и Касс очень полюбили новую игру, которую называли «пляской дикарей». Отец Андре преподавал Луизе в том числе и историю и в свои уроки включил кое-какие, довольно невнятные, надо сказать, сведения о различных языческих верованиях и ритуалах, а также — о различных способах предсказания будущего, распространенных в Древнем Риме. И Луиза, разумеется, тут же сообщила своему приятелю, что можно узнать все, что захочешь, если правильно исполнить священный танец и принести в жертву курицу, а потом «прочитать будущее» по ее внутренностям. Они выкрали из курятника несушку и зарезали ее. Луизе стало страшно, когда она увидела, как это чудовищно просто — свернуть шею живому существу. Ей не хотелось даже смотреть, как Касс будет это делать, а он, еще больше возбужденный ее очевидным страхом и отвращением, кражей курицы и ее бессмысленным безнаказанным убийством, буквально разорвал птицу пополам и погрузил пальцы в ее внутренности, а потом сунул девчонку носом в кровавую массу: «Ну, читай же! Читай!» Луиза с трудом подавила тошноту и вопль ужаса и сказала: «Я вижу… вижу будущее… я вижу огонь… огонь и горящий дом…» А потом Касс, совершенно нагой, танцевал для нее «языческий танец» темным осенним вечером на току. Все вокруг было окутано туманом и дождевой пылью, во все стороны простирались бесконечные пустынные поля. Худощавое, мускулистое, белокожее мальчишеское тело мелькало у. Луизы перед глазами и было влажным от пота и капелек моросящего дождя. Сама же она танцевать для него категорически отказалась, и в итоге после этого вечера они практически перестали друг с другом разговаривать.
Когда Луизе исполнилось тринадцать, она вступила с представителем противоположного пола в такие взаимоотношения, в результате которых ее отослали в Красной. Она всегда вела себя вызывающе, а порой просто грубо и нагло, по отношению к старшему сыну управляющего; она всячески насмехалась над ним и подбивала других мальчишек ему пакостить. Но потом вдруг подружилась с ним, и очень скоро этот шестнадцатилетний мальчик, заласканный чересчур заботливой матерью, приобрел над ней странную и необъяснимую власть, пугая и восхищая ее своими приступами необъяснимой ярости, нежности, откровенности, веселья, безудержных слез и угроз совершить самоубийство. Он поведал ей, как соблазнил крестьянскую девушку, очень живо и подробно описывая каждое свое движение и каждое слово, и сказал, что и потом они не раз встречались и занимались любовью. Луиза слушала внимательно, завидуя и ревнуя, но все же не совсем ему веря, а затем, дав волю воображению, тоже рассказала подобную историю, где главными действующими лицами были она и Касс. Она сказала, например, что Касс «спал с нею сотни раз», и тогда сын управляющего, поверив ей, предпринял робкую попытку обнять ее и раздеть. Луиза сама преспокойно сняла с себя одежду и стояла совершенно нагая до тех пор, пока он не велел ей лечь и сам не лег сверху. С первого раза у него ничего не получилось, но он не отпускал ее, и тут она стала яростно вырываться и исцарапала ему все лицо, а вырвавшись, кое-как оделась и убежала. На следующий день он уговорил ее попробовать снова, и снова у него ничего не получилось. Тогда мальчик пошел домой и попытался застрелиться из отцовского охотничьего ружья. Его мать вбежала в комнату, когда он уже готовился нажать на курок. Рука его дрогнула, и он нечаянно отстрелил матери правую кисть. Из его бессвязного дикого бормотания можно было понять, что его безумный поступок как-то связан с Луизой Палюдескар. Но дело постарались поскорее замять. Барон Палюдескар, в то время умиравший от рака, так ничего и не узнал, а Луиза переехала в Красной и поступила в монастырскую школу. Теперь, спустя десять лет, детство, проведенное в Совене, казалось ей бесконечно далеким, точно то была не она, а другая девочка, жившая в совсем ином мире. Но все же порой она вспоминала сына управляющего и его мягкое, бессильно содрогавшееся тело; а иногда всплывало еще более далекое воспоминание — мальчик, танцующий обнаженным в туманных сумерках под дождем.
Луиза терпеть не могла прикосновений чужих рук и женскую привычку обмениваться поцелуями, не любила рукопожатия. Она даже своей горничной не позволяла одевать ее или причесывать.
Когда Итале впервые пришел к ней тогда, в апреле, в тот номер, который она сняла в гостинице близ Западных ворот, она испытывала лишь всепоглощающий страх. Она вся дрожала, была необычайно напряжена и молчалива, глядя в одну точку совершенно сухими и широко раскрытыми глазами. И все же она сама позвала его и осталась ждать в этом гостиничном номере, точно зверек, попавшийся в ловушку, из которой ее могла освободить лишь сила и безличностность его страсти. И эта страсть действительно унесла прочь все ее страхи, точно волна, смывшая построенный ребенком замок из песка, и вызвала ответную страсть такой силы, которая способна была весь песок превратить в живую воду… на одну ночь, на несколько ночей — до поры…
Когда состояние матери совсем ухудшилось, Луиза больше не смогла приходить на свидания. В июне и июле они с Итале совсем не виделись наедине и лишь дважды встречались в компании друзей. Все ее время целиком было отдано умирающей матери; она терпеливо и умело ухаживала за ней целых пять месяцев, и мать умерла, сжимая ее руку. После похорон Луиза неделю не выходила из дому и никого не желала видеть, а потом вернулась к своей прежней жизни настолько, насколько позволял траур. Итале она тогда даже ни разу не написала. Но теперь прогнать его оказалась не в силах и сдалась. Впервые они занимались любовью прямо у нее в доме, хотя и предпринимали определенные меры предосторожности, чтобы не узнали Энрике и прислуга. Горничная Луизы впускала Итале в дом только поздней ночью. Очень часто ради этих свиданий Луиза отменяла назначенную заранее встречу или давно задуманную дружескую вечеринку; и в то же время довольно часто бывала с ним сперва весьма холодна и пассивна. Но еще никогда до той ночи в доме Геллескаров Итале не говорил ей, что прийти не сможет.
Однажды сентябрьской ночью она ждала его. Он опаздывал. Он был то ли в кафе «Иллирика», то ли в редакции журнала, то ли у Карантая или Эстенскара, то ли у кого-то еще или с кем-то еще из этих мужчин, в этом их мужском мире, в его, Итале, мире, в мире политики. Луиза насмешливыми глазами озирала свой мирок и эту спальню с высоким потолком и бело-голубыми стенами… И все же тогда насчет их журнала она была права! «Неужели вы действительно надеетесь, что после сегодняшнего цензоры позволят вам хоть что-то напечатать?» — спросила она той ночью, а они слушать ее не захотели — дружно помчались, исполненные энтузиазма, описывать события минувшего дня. Через три дня Управление по цензуре вернуло им гранки тех материалов, в которых описывалось первое, отложенное, заседание ассамблеи. Журнал нужно было в тот же день отправлять в типографию, и пришлось выпустить его в таком виде — с первыми тремя совершенно пустыми страницами, где была только шапка и дата.
И в тот же день председательствующий объявил, что решение ассамблеи пользоваться во время заседаний местным языком не получило одобрения у великой герцогини, а потому отныне считается недействительным. Орагон тут же поднял вопрос о том, имеет ли великая герцогиня право что-то разрешать или запрещать столь представительному собранию, поскольку, согласно уставу, принятые на ассамблее решения подлежат одобрению или запрету лишь со стороны короля, а короля в стране пока нет. После его выступления дебаты разгорелись с новой силой; левое крыло попыталось поставить вопрос о суверенной власти в стране, а правое всячески этому препятствовало, главным образом задавая вопросы с места и требуя, чтобы депутаты говорили на латыни. Итале с друзьями написал весьма осторожный отчет об этих заседаниях, но цензоры и эти материалы запретили печатать, так что журнал опять появился с одной лишь колонкой новостей да в спешке сочиненными Карантаем патриотическими виршами. Остальное место осталось чистым. О том, что в действительности происходит на ассамблее, можно было лишь догадываться, изучая краткий перечень тем, поставленных на голосование, и результатов этого голосования, которые были опубликованы на внутренней полосе «Вестника». Премьер-министр Корнелиус не видел необходимости в прямом насилии; насилие он считал несовместимым со своими политическими воззрениями. Ему хотелось лишь одного: тихо выложить прибереженные козыри в самый последний момент игры.
А это была такая игра, в которой и сам Корнелиус, и его идеалистически настроенные оппоненты на кон поставили собственную жизнь и благополучие. С той только разницей, что на стороне премьер-министра была армия страны и империя. Это, прямо скажем, делало условия поединка несколько неравными. Луиза прекрасно видела это, но не была уверена, что Итале Сорде, Эстенскар и даже Геллескар тоже достаточно хорошо это понимают. Она крайне мало высказывалась на эту тему, продолжая исполнять свои обязанности при дворе, а также — развлекать тех, кто мог бы помочь Энрике в его скромных дипломатических притязаниях, если видела подходящую возможность для этого или если он ее об этом просил. Она не усматривала в этом ни малейшего предательства. С какой стати ей быть верной делу, от которого ее отстранили? Да и как она может быть верной чужому делу? Раз она сама не может играть в эту игру по всем правилам, то ей все равно, кто там выиграет!
Значит, Итале не пришел… В третьем часу ночи Луиза все еще сидела за туалетным столиком, отложив в сторону журнал, который он ей недавно принес. Это был «Беллерофон», выходивший ежемесячно, который все свои литературно-философские сюжеты черпал из «Новесма верба», ставшего откровенно политическим. В этом номере Итале поместил свою обширную рецензию на монографию «Словарь и историческая грамматика орсинийского языка и его диалектов», автором которой являлся один профессор из Солария. Рецензия была опубликована на первых страницах журнала как передовая статья. Все эти радикалы были явно возбуждены появлением подобного словаря. Патриоты! Луиза начала читать. Писал Итале жестко, логично, с некоторой склонностью к дидактике; статья, безусловно, производила впечатление, но не увлекала. Это было совсем не такое чтение, каким можно заниматься, лежа на диване. Луиза зевнула и принялась бездумно перелистывать страницы. Здесь же Эстенскар опубликовал вторую часть своей длинной, на несколько номеров, рецензии на роман Карантая. Им мало было от души спорить друг с другом, они еще и в печати должны были друг друга ругать или хвалить! Господи, какой же он маленький, этот их мирок, какой убогий! И среди этих революционеров царит такая же посредственность, что и при отчаянно скучном дворе великой герцогини. И такая же пустота. Они не свободны, хотя вечно говорят о свободе. Никто здесь не свободен…
— Прелестная картинка! — раздался тихий голос Итале. Оказывается, она на минутку уснула и теперь, открыв глаза, с трудом поняла, где находится. Но даже не пошевелилась. По его голосу она поняла, что он улыбается. — Ты ведь уснула над моей рецензией, верно? — спросил он, наклоняясь к ней, и она почувствовала исходивший от него запах ночной прохлады. Его теплые губы легко коснулись ее щеки. — Эх ты, читательница романов!
— Да, а ты можешь читать словари, если они так тебе нравятся, — сказала она, открывая глаза и снова зажмуриваясь, чтобы сладко потянуться и зевнуть. — Только меня об этом не проси. Я словам вообще не очень-то доверяю. Ты что так поздно?
— Извини. — Итале снял сюртук и галстук, присев рядом с ней на кровать в одном жилете. Лицо его в тусклом свете единственной свечи казалось мрачным и осунувшимся. Луиза внимательно наблюдала за ним, словно пытаясь наконец понять, что же он собой представляет.
— Ты, конечно, в «Иллирике» был, — сказала она с легким упреком. — Разговоры, разговоры, разговоры. Слова, слова, слова…
— Нет, я задержался у одного своего старого приятеля. Мы с ним когда-то в школе вместе преподавали. Он сейчас без работы остался.
— Да все вы вечно без работы сидите.
Она знала, что он не любит, когда она подшучивает над теми временами, когда он хватался за любой заработок, чтобы заплатить за квартиру и не умереть с голоду, пока «Новесма верба» не встала на ноги. Она знала, что тема его «бедности» одна из самых опасных, но именно потому, что тема эта была опасной, ей и захотелось сейчас потанцевать на краю вулкана. Однако разозлить Итале оказалось совершенно невозможно; он только согласно кивнул и продолжал говорить о своем приятеле:
— Эжен сам с работы ушел. А место у него было хорошее: домашний учитель в семье крупного зерноторговца из Заречья. Но у Эжена туберкулез, и когда врач сказал ему, что он подвергает риску детей, он немедленно оттуда съехал, хотя и дети, и их родители пытались уговорить его остаться. Я не знаю, как ему помочь. Если бы он мог год не работать, чтобы как-то восстановить здоровье… — Итале устало уронил голову на руки. — Я не уверен, может ли он вылечиться совсем, но, может быть…
— Нет, не может! И, скорее всего, он очень скоро погибнет. Так обычно и бывает, к сожалению. И ты ничего не сможешь с этим поделать! Зачем ты себя мучаешь, Итале?
— Я не мучаю. Он мой друг.
— Нет, мучаешь. Никто из твоих друзей тебе и в подметки не годится. Они все приговорены! Заранее приговорены к поражению.
— И Эстенскар? — изумился он с улыбкой.
— Эстенскар в первую очередь. Он ведь обожает быть несчастным.
— Не стоит сейчас говорить об этом, — вдруг оборвал он ее нетерпеливо. — Что-то устал я. — Он повернулся было к ней, но она выскользнула из его рук, ленивым грациозным движением накинула шелковый пеньюар и, подойдя к туалетному столику, принялась расчесывать волосы перед зеркалом. Итале лег поперек кровати, подложив руки под голову.
— Не забудь завести часы и помолиться, — ядовитым тоном заметила Луиза.
— Ну что еще я сделал не так? — суховатым тоном спросил он, хотя и довольно добродушно.
— Обычный брак — это совсем не то, что мне нужно.
— Знаю.
— Знаешь?
Он помолчал.
— Знаешь, Луиза, кое-что в жизни нам приходится принимать безо всяких условий, и между нами просто должно существовать определенное доверие, иначе ничего у нас с тобой не получится. Невозможно каждый раз все начинать сначала.
— Как раз возможно! Я именно этого и хочу! Ничего в жизни нельзя принимать просто как данность. Ничто не должно быть раз и навсегда решено-и-отрезано или давно предусмотрено. Каждая ночь должна быть как первая… Впрочем, какой смысл во всех этих разговорах, пока ты приходишь ко мне от… откуда ты там приходишь?
— Что ты хочешь этим сказать?
— Пока ты приходишь ко мне от тех людей, на которых без конца тратишь свои силы! От каких-то жалких, второсортных людишек! Которые даже к твоему миру не принадлежат. Пусть слабые опираются друг на друга. Ты же не можешь разделить с каждым его боль, ибо это самый худший, самый разрушительный вид лицемерия. Милосердие, самоуничижение и прочие отвратительные христианские добродетели… зачем тебе эти оковы, Итале? — Голос Луизы звучал легко, почти ласково, и она все продолжала неторопливыми длинными движениями расчесывать свои Роскошные волосы. — Ты вырываешься из этой клетки и приходишь ко мне, но даже не чувствуешь, что давно эту клетку покинул. А утром снова спешишь туда, в ту же клетку… к тем же оковам…
Итале сел и довольно долго смотрел в дальний темный конец комнаты, где белела занавесь на окне.
— Я пришел к тебе ради того… что никто и никогда мне не давал и не предлагал… — заговорил он неуверенно, с затаенной болью. — Я искал доверия, истинного доверия, Луиза. Я не знаю, как мне с этим справиться, не умею… Я знаю только, что делаю тебе больно. Но единственное, что я могу предложить тебе, и единственное, что ты можешь дать мне, — это доверие, это нежность, это любовь и забота…
— И оковы… — Луиза встала и пошла ему навстречу — с распущенными по плечам волосами, теплая, чудесно пахнущая, в легком шелковом пеньюаре, рукава которого, соскользнув, обнажили руки, вскинутые в объятье… — А я хочу, чтобы мы летали — вместе, рядом, как ястребы, как орлы летают над вершинами гор! Летать и никогда не глядеть вниз, никогда не оглядываться назад!..
— Я люблю тебя, — прошептал Итале, страстно прижимая ее к себе. Теперь он стал куда опытнее в искусстве любви, чем когда-то весенней ночью в айзнарском саду, но прежней нежности не утратил и все так же мгновенно откликался на первый же ее призыв, так что, хоть ей и хотелось продолжить этот спор и сказать ему: «А ведь твоя свобода — это я, и в тебе самом я тоже вижу свободу!» — она ничего больше не сказала, чувствуя, как обессмысливаются все слова и падают все преграды и волна той радости, которой она так боялась, вновь подхватывает ее, и она взлетает, точно пена на гребне могучего потока, вызванного паводком чувств…
Он крепко спал, когда она поднялась на рассвете и зажгла свечу. Он даже не пошевелился. И снова она всмотрелась в его лицо, такое теплое, расслабленное, неподвижное. И незащищенное. Лежать всю ночь рядом, обнаженными, ни о чем не заботясь, — вот истинное доверие; но само это слово ей не нравилось. Ах, если б можно было избавиться ото всех слов сразу! Однако пора: вот-вот встанут слуги. Итале предпочитал уходить от нее еще до рассвета. Однажды ему пришлось испытать жестокое унижение: они проспали, и Луиза в десять утра выводила его из дому тайком с помощью горничной — это была сцена, вполне достойная комической оперы, и Луиза охотно посмеялась бы, да только Итале было не до смеха. Он по-прежнему очень неодобрительно относился к подобным шуткам — наивный провинциал, суровый школяр, очередной лишенный чувства юмора «Робеспьер», неотесанный педант, самодовольный осел… Вспомнив свое тогдашнее раздражение, Луиза почувствовала, что былой страх вновь поспешно отвоевывает свои позиции в ее душе, восстанавливает рухнувшие было преграды, гонит прочь благодарность, плодотворное тепло доверчиво прильнувших друг к другу тел, заставляет не смотреть спящему Итале в лицо… И она довольно грубо разбудила его, громко окликнув по имени. Он испуганно вскочил, потом снова лег и пробормотал что-то невнятное.
— Проснись, да проснись же!
— Уже проснулся, — сказал он, прижимаясь лицом к ее плечу.
— Господи, какой кошмарный у тебя нос! — прошептала она, на мгновение вновь проваливаясь в сладкое тепло. — Как у корабля! К тому же ты его всегда вверх задираешь!
Он уже снова спал.
— Итале, уже светает!
— Я не хочу уходить, — простонал он и принялся сонно целовать ее шею и грудь. Она вся напряглась, потом легонько отодвинулась от него, выскользнула из постели и, накинув пеньюар, повернулась к нему спиной.
— Я скажу, чтобы Агата проверила, нет ли кого на черной лестнице.
— Луиза, погоди!
Она с легким раздражением посмотрела на него через плечо.
Он сел, поскреб в затылке, сказал нерешительно:
— Я собирался поговорить об этом вчера, но было уже поздно, и мы… — Он откинул волосы со лба и посмотрел на нее, окутанный неярким облачком света от горящей сзади свечи. Лицо его по-прежнему было сонно-неподвижным и беззащитным, губы чуть припухли. — Мне, возможно, придется на некоторое время уехать из города…
— Куда? Надолго? — Она спросила это удивительно ровным тоном.
— Амадей давно просил меня погостить у него. И мне самому тоже очень этого хотелось бы. А потом я собираюсь поехать в Ракаву, чтобы написать серию статей о положении дел в тамошних краях. А может, сумею найти подходящего автора, который сможет что-нибудь написать для нашего журнала. В общем, я думаю, это займет несколько недель.
Луизе было неприятно сознавать, что ее тяжелые светлые волосы сейчас спутаны и в беспорядке разбросаны по плечам; вчера она так и не успела заплести их в косы… Она подошла к туалетному столику и несколькими резкими уверенными движениями зачесала непослушные пряди назад.
— Значит, Амадей все же решился уехать?
— Да. Он собирался уехать еще дня три назад и очень просит меня поехать с ним вместе.
— Ну что ж… Между прочим, он вот уже лет пять все уезжает в Полану, да никак не уедет. С тех пор, как мы с ним познакомились. Уверяю тебя, он там долго не задержится. — Если Итале уедет на месяц или на два и она сможет наконец спать одна, ей уже не нужно будет метаться между несовместимыми решениями, ее уже не будут терзать мысли о ревности, беспокойство, презрение, страхи. Прочь все эти страхи, которые навязывают ей тело, душа или еще какая-то нелепая незримая сила! Она будет свободна… — Не пропадай надолго, — сказала она вслух.
— Не пропаду, не бойся! — с наивной благодарностью откликнулся он, вскочил и принялся быстро одеваться. Луиза в зеркало видела, как он надел рубашку и стал ее застегивать, потом воротничок, галстук и прочие важные принадлежности мужского туалета — жилет, длинный сюртук… — Самое позднее вернусь в середине ноября. — Он явно опасался, что она станет возражать, и теперь испытывал облегчение, поскольку она этого не сделала.
— А я, скорее всего, пока тебя не будет, поеду с Энрике в Вену, — небрежно бросила она. — Один он никогда не соберется с духом и никуда не поедет, а ему совершенно необходимо познакомиться с тамошним послом, если он намерен делать дипломатическую карьеру. Хотя, если мы поедем вместе, мне, возможно, придется задержаться там и на Рождество. Какая тоска! Ну, не знаю… А почему бы и тебе не приехать в Вену? Между прочим, это весьма расширило бы твой кругозор — во всяком случае, куда больше, чем овцеводческая ферма Эстенскара или грязная Ракава. Запомни: мы остановимся у Кенига фон Унгарна, это рядом с собором. Приезжай, Итале!
Он в этот момент сидел на кровати, надевая башмаки; подняв голову, он встретился с ее лукавым и чуть вызывающим взглядом, брошенным через плечо.
— Боже мой, как ты прекрасна даже в пять часов утра! — пробормотал он, снова наклонился и встал. — Нет, Луиза, я не могу сейчас поехать в Вену… Когда-нибудь в другой раз. — Он говорил чуть заискивающе и одновременно готов был тут же дать отпор, если она зайдет слишком далеко, ибо основная проблема заключалась, разумеется, в деньгах.
Но Луиза лишь покорно кивнула и, выйдя за дверь, послала горничную Агату караулить у черного входа. На большую часть старых слуг она вполне могла положиться, даже зная совершенно точно, как и с кем эти слуги обмениваются сплетнями; однако ее не слишком заботило, что они о ней скажут; но Энрике недавно нанял нового лакея, который раньше служил у графа Раскайнескара, и ей не хотелось, чтобы ее поведение обсуждали теперешние слуги графа, Раскайнескар как раз принадлежал к тому типу людей, которые любят послушать, о чем судачат их слуги, а потом использовать эти сплетни в собственных грязных целях.
— Пьер еще спит, госпожа, — шепнула ей Агата.
Она снова заглянула в комнату и сказала:
— Все спокойно. Можешь идти.
Итале подошел к ней, стоявшей на пороге, совершенно одетый, закованный в латы респектабельности, очень красивый и совершенно чужой. Луиза дрожала от холода, босая, в тонком шелковом пеньюаре.
— Я не хочу никуда от тебя уходить, — внятно произнес он. — Я не хочу ехать в Ракаву. — Он наклонился, легко поцеловал ее в губы и вышел так неслышно, что она не расслышала даже его шагов на лестнице.
Проводив Итале, Луиза снова легла в постель, свернувшись в клубок в том местечке под одеялом, где еще сохранились крохи его тепла. «Ну что ж, теперь можно и поспать, теперь я осталась одна», — подумала она, вздохнув с облегчением, но вместо того, чтобы спать, вдруг заплакала, закрывая лицо простыней и вытирая кулачками глаза, точно ребенок.
Часть IV. Путь в Радико
Глава 15
Наступило равноденствие. В холодных рассветных лучах статуя святого Кристофера, Хранителя Путников, была отчетливо видна за рекой у Старого моста; над водой стелилась легкая дымка. Чистота света, спокойствие воздуха и небес как бы стерли границы между живым и неживым миром, и каменный святой, казалось, лишь на минутку задержался у моста, чтобы взглянуть с улыбкой на восток незрячими глазами. Небо сияло голубизной. Над темными горами всходило солнце, слепя своими лучами двух всадников, скакавших по Старому мосту, и заставляя их жмуриться и улыбаться. Перебравшись через реку, всадники двинулись дальше по длинной тенистой улице; восемь подков громко цокали по булыжной мостовой Заречья меж спящих еще домов. Один из ездоков обернулся на ходу, чтобы еще раз полюбоваться освещенной первыми лучами солнца колокольней кафедрального собора на той стороне реки:
— Посмотри, Амадей, какой свет!
Но Эстенскар продолжал упорно смотреть вперед, в дальний конец прямой улицы, и лишь нетерпеливо заметил:
— Поехали скорей! Моей лошадке не терпится пробежаться.
И действительно, его гнедой так и приплясывал на месте, а потом сразу перешел на рысь; следом за ним — и вороная кобыла Итале. Лошади были горячи, наездники отлично держались в седле, и приятно было смотреть на них, устремившихся из города навстречу первому восходу этой осени.
К восьми утра они добрались до Грассе, и с высоты карабкавшихся по склонам холмов улиц этого селения Итале, оглянувшись назад, увидел разом весь Красной, раскинувшийся вдоль сверкавшей на солнце реки, над которой курился пронизанный утренним светом туман. Миновав Грассе, всадники проехали по горбатому мосту, и долина вместе с рекой и столицей скрылась из виду.
Весь день их со всех сторон обступали холмы; дул легкий теплый ветерок, принося запахи земли и древесного дыма; наконец, уже в сумерки, впереди в складке горы завиднелась деревня; мирные деревья, тростниковые крыши, дым над каминными трубами обещали отдых и тепло очага после долгого дня, проведенного в седле.
— Вон там, похоже, гостиница, — сказал Итале и принялся напевать «Красны ягоды на ветке осенью…»; его кобыла прядала ушами и бежала резво, стремясь к долгожданному стойлу и овсу. Когда они въехали в деревню, на улицах под старыми деревьями было уже совсем темно; на ночном ветру поскрипывала вывеска «Золотой лев». — Какое прекрасное место! — воскликнул Итале, спешиваясь. В гостинице, кроме них, не было ни одного постояльца; они уселись перед очагом, и им подали отличное пиво и здоровенную жареную курицу с золотистой хрустящей корочкой, от которой они быстренько оставили одни косточки. Поев, Итале с наслаждением вытянул свои длинные ноги, как бы завершая трапезу своей любимой позой, и раскурил глиняную трубку, поданную хозяином «Золотого льва».
— Никогда не видел, чтоб ты курил, — заметил его друг.
— А я никогда и не курил, — подтвердил Итале. — Как нужно обращаться с этой чертовой трубкой, чтобы она не гасла?
Эстенскар продолжал наблюдать за ним, поскольку Итале, удовлетворенно развалившийся в кресле и попыхивавший трубкой, совершенно этого не замечал.
— Я рад, что мы путешествуем вместе, — промолвил Эстенскар.
— Да, хорошо! — откликнулся Итале.
Эстенскар улыбнулся и стал смотреть в огонь.
— И хорошо, что мы наконец выбрались из города, — продолжал Итале. — Ты завтра попробуй мою кобылу, у нее чудесный аллюр! Господи, как давно я не ездил верхом, да еще на такой отличной лошадке! Это же настоящий праздник. Даже больше, чем праздник. Спасение… — Итале помахал в воздухе трубкой, которая снова погасла. — Во мне скопилось столько всякой ерунды, Амадей! Я был ею просто битком набит. А теперь снова пуст и свободен. Наконец-то! Воздух, солнце, тишина, простор…
Эстенскар встал и подошел к двери, которая выходила прямо на деревенскую улицу — даже порог не отделял утоптанную землю снаружи от земляного пола внутри. Тьма под раскидистыми дубами казалась материальной, прохладной и мягкой на ощупь. Слышался легкий шелест листьев, поскрипывала вывеска над дверью гостиницы, сквозь черные ветви просвечивали крупные звезды, то пропадавшие, то вспыхивавшие вновь.
— Неужели все так просто? — До этого он так долго молчал, что Итале, одурманенный усталостью, свежим воздухом, пивом и сытным ужином, не сразу понял, о чем он говорит. — Ты отправляешься… создавать себя, создавать новый мир! Но ведь все, что ты хочешь сделать, увидеть, узнать, нужно сперва познать на собственном опыте; прежде чем стать таким, каким тебе хочется, нужно пройти через испытания. И вот ты покидаешь родной дом, приезжаешь в столицу, начинаешь путешествовать, не пропускаешь ничего, все стремишься попробовать сам, пытаешься создать себя заново, заполняешь собой весь мир — своими целями, амбициями, желаниями, — и вдруг в твоей душе совсем не остается места. Там просто повернуться негде…
— А теперь есть, — подхватил Итале. — Я же говорю: теперь я пуст, как этот кувшин из-под пива. Воздух, солнечный свет, тишина, простор.
— Ну, это ненадолго.
— Это-то как раз надолго. Просто мы с тобой не вечны.
Эстенскар прислонился к дверному косяку, глядя в темноту и прислушиваясь к тишине этого сельского края.
— Теперь, когда я наконец твердо знаю, что ничего выбрать не смогу, — проговорил он, — когда я понял, что никакого выбора и не существует, что я никогда не смогу жить так, как мне нравится, что все это было обманом, пустым тщеславием и бессмысленной тратой времени… когда я наконец сдался и прекратил попытки идти избранным мною путем, я сразу потерял его; я не слышу ничьих голосов, я заблудился. Я зашел слишком далеко, и пути домой нет.
Даже много лет спустя стоило Итале услышать, как кто-то произносит имя его друга, и в его памяти сразу же всплывали эти мгновения — просторная комната с земляным полом, горящая свеча, кувшин из-под пива на дубовом столе, огонь в очаге, дрожащая на осеннем ветру темная листва за распахнутой дверью и тишина, в которой тихий голос Эстенскара звучал необычайно отчетливо, но все же будто замирал, поглощенный этой всеобъемлющей тишиной и царившим вокруг покоем.
— Но ведь, приехав в Эстен… — начал было Итале и умолк, понимая, как глупо прозвучит то, что он хотел сказать. И все же ему хотелось переменить настроение Эстенскара. Сам он был так счастлив в тот день, что жаль было отпускать от себя это счастье.
— Это уже не мой дом, — сказал Эстенскар. — Слишком поздно. Одна дорога ведет на восток, другая — на запад, но в жизни для тебя не существует направления, пока тебе его не укажут. А ведь укажут непременно! Ты не сам его выбираешь. Ты всего лишь принимаешь то, что тебе предлагают. Если предлагают. Так зачем же я еду в Эстен? Сам не знаю. — Он говорил резко, бросая на Итале мстительные взгляды, однако Итале давно уже понял, что Эстенскар сердится вовсе не на него.
— Но всегда очень многое зависит от того, где ты в данный момент находишься, — возразил он. — Иди сюда, сядь, и поговорим спокойно. Мы только что вырвались на свободу. Всего лишь. И пока что слишком рано всерьез беспокоиться о конечной цели этого путешествия.
Эстенскар послушался и снова сел за стол, поставив на него локти и уронив голову на руки. Пальцами он машинально ерошил свои жесткие рыжеватые волосы.
— Я вечно говорю и думаю только о себе! — с отчаянием сказал он.
— Ну и что? Этот объект вполне заслуживает внимания. Но хорошо бы…
— Если бы не ты, минувший год…
Оба смутились и некоторое время молчали.
— А твоя заветная мечта?… С ней ты пока не расстался?
Эстенскар молча покачал головой.
— Значит, Эстен — тоже часть твоего плана? — продолжал тормошить его Итале.
— Не уверен. Я знаю одно: с тех пор, как я все понял, я сразу почувствовал, что мне необходимо уехать из Красноя, и как можно дальше!
— Ты это знал еще во время нашей самой первой беседы. Помнишь? У меня дома.
— Да, мы еще сыр ели… Это было два года назад. И я тогда продолжал жить с Розали — наши отношения были в самом разгаре. Господи! Какой дурак!
Итале снова обследовал кувшин из-под пива, обнаружил, что он, как и следовало ожидать, совершенно пуст, и встал, сладко потягиваясь.
— Завтра, похоже, я ни рукой, ни ногой двинуть не смогу — совсем от верховой езды отвык.
— Послушай, Итале. Раз уж разговор зашел…
— Да? И о чем, интересно, он зашел? — Итале помрачнел.
— Что у тебя с Луизой Палюдескар?
— Я и сам себя все время об этом спрашиваю!
— Что, собственно, вдруг пошло не так?
— Не знаю. Не понимаю… Я не понимаю, чего она хочет!
— И никогда не поймешь… А чего хочешь ты?
Итале оперся о каминную полку, глядя в огонь.
— Спать с ней.
— И она тоже этого хочет?
— Я думал, что да.
— Но теперь она хочет большего?
— Нет… меньшего, — с трудом выговорил Итале. Он не знал, какими словами выразить то, что было на сердце. — Я же сказал, что не понимаю ее. Мы любим друг друга, но… у нас ничего не получается. Мы не ладим. Мы без конца делаем друг другу больно. И я не знаю почему.
— «Я не знаю, я не понимаю», — сказала соломинка, вспыхивая в пламени костра… Видишь ли, Итале, влюбленность… да и любовь изобрели поэты. Поверь мне, уж я-то знаю! Все это ложь. Самая худшая из всех. Слово, не имеющее значения. Любовь — это не надежная скала, а водоворот, бездна, которая высасывает из тебя душу!
— Но должна же быть… Ну хорошо. Сейчас я как-то не готов говорить на эту тему. Пока что я от любви сбежал — на время, возможно. Надеюсь, что впоследствии многое увижу яснее. Когда-нибудь потом. Вот ты не желал оглядываться, когда мы уезжали из Красноя, и был прав!
Эстенскар кивнул; но на следующую ночь он снова вернулся к этому разговору. Переночевав в «Золотом льве», они целый день ехали верхом по очаровательной и удивительно тихой местности, а потом без сил рухнули прямо в свежее сено на сеновале в хлеву, завернувшись в попоны, одолженные им гостеприимным хозяином. Вокруг царили дивные ароматы — свежего сена, зерна, конского навоза, а за широким окном сарая сверкали яркие звезды.
— Луиза пытается создать свой мир, — вдруг сказал Эстенскар. — В точности как и я когда-то. И она сама его когда-нибудь разрушит — как это сделал я. Не позволяй ей сбивать тебя с пути, Итале!
— А где он, мой путь? Раньше я был уверен, что знаю это… Я не знаю даже, что правильно, а что неправильно, не знаю, какова цель моей жизни, что я вообще должен в этой жизни делать. Мне не по душе то, что Луиза называет свободой, — это не любовь, а какая-то интрижка! И эта вечная таинственность, недопустимость любых планов на будущее…
— Таково ее понимание свободы. И это совсем не так уж глупо. Ведь если бы она вышла за тебя замуж, то ты был бы свободен, а она угодила бы в ловушку! Любовь — это игра, в которой проигрывают все. Послушай, Итале, я больше не стану поднимать эту тему; я отлично понимаю, что не мое это дело. Но я знаю Луизу много лет, я вполне мог бы влюбиться в нее, если бы не встретил ту, другую. Учти: она очень похожа на меня. Она хочет выбирать сама и всегда старается взять инициативу в свои руки. Стоит ей увидеть кого-то, и она уже не может оставить этого человека в покое — ты, например, не знаешь и, я надеюсь, никогда не узнаешь, какая ревность пожирает ее, когда она на тебя смотрит. Но я-то знаю ее хорошо! Берегись — и ее, и меня. Мы, если дать нам волю, способны уничтожить тебя, разрушить твою жизнь. — Голос Эстенскара звучал холодно, но в нем слышалось какое-то странное веселье.
— Неправда, этого вы сделать не можете, — сказал Итале медленно и отнюдь не весело.
— Иди один, — прошептал Эстенскар. — Один.
В огромном квадрате распахнутого окна восхитительно сияли звезды — в зените Вега, чуть в стороне созвездие Льва, похожее на серп, забытый среди серебристых колосьев пшеницы, дальше созвездие Лебедя, качающегося на волнах звездной реки, а на юго-западе — созвездие Скорпиона, значительно более крупное, чем прочие созвездия, и холодно светившееся в теплой земной ночи. Внизу похрапывали и посапывали лошади и скотина, спали чутким звериным сном. Еще пели запоздалые сверчки, которым более не нужно было перекрикивать голоса людей. Итале уснул довольно быстро и, проснувшись еще до рассвета, увидел в окне сереющие небеса, точно бесцветные воды реки, в которых еще светил блекнувший Орион, охотник и воин зимней поры.
В тот день они добрались до Copra, небольшого городка у слияния рек Сорг и Рас, а затем, проехав несколько миль по берегу Раса, пересекли границу провинции Фрелана и оказались в Полане. И сразу же поднялся восточный ветер, словно поджидавший их там и принесший с собой холод тех бескрайних и пустынных горных просторов, над которыми он пролетал. Друзья остановились в деревенской гостинице, где их всю ночь будило блеянье множества овец, сгрудившихся на ближнем лугу, позвякиванье овечьих колокольчиков и громкие голоса гуртовщиков, пировавших внизу, в общей гостиной. На следующий день стало совсем холодно; с рассветом легкий туман рассеялся, и на небе от края до края разлилось бледное сияние зари, но всходившее солнце казалось маленьким и тусклым. Теперь они ехали на юго-восток, и ветер бил им прямо в лицо. Пахотные земли вокруг становились все беднее и вскоре сменились заросшими травой лугами, которым, казалось, не будет ни конца ни края. За весь день им никто не встретился, и они пребывали как бы в полном одиночестве между небом и землею; лишь изредка недалеко от дороги они видели деревья, или ручей, или чей-то явно обитаемый дом вдалеке, но вряд ли жившие там люди способны были составить им компанию. Дорога шла вверх, и всадникам потребовался целый день, чтобы подняться метров на триста. По мере приближения к Эстену горы вокруг становились все круче, а изредка попадавшиеся крестьянские домики все беднее; эти лачуги жались со своими хлевами и овчарнями к западным склонам гор и холмов, надеясь укрыться от непрерывно дующих в этих местах холодных ветров. Путники миновали деревушку Колей, когда солнце клонилось к западу; до Эстена им оставалось преодолеть еще километров семь, и туда они добрались уже в полной темноте. Итале смог разглядеть лишь огни огромного дома среди деревьев под холмом, своей округлой вершиной защищавшим дом от восточных ветров и делавшим невидимой всю восточную часть неба, усыпанного звездами. И повсюду вокруг виднелись силуэты холмов, темные на фоне звездного неба, а на земле — ни огонька, только призрачный звездный свет да ярко горящие окна господского дома, казавшегося одиноким, точно корабль в морском просторе. Быстро поужинав вместе с братом и невесткой Эстенскара, путешественники отправились спать. Комната Итале находилась в юго-восточной части дома; он успел заметить, что в этой комнате высокий потолок, очень немного мебели и выскобленные добела полы; собственно, весь дом показался ему примерно таким же. Все здесь пахло сельской жизнью и покоем. И стояла полная тишина.
Проснувшись поздно, Итале открыл глаза, и навстречу ему хлынул поток яркого солнечного света. Во дворе, видимо прямо под его окошком, распевал мальчишка-конюх, чистя скребницей похрапывающего и нервно переступающего коня. Итале никогда не слышал этой песни и местный говор тоже разбирал с трудом.
В Ракаве, за стеной ее высокой,
Я милую свою оставил навсегда.
Живу средь диких скал, в стране далекой,
Где в реках и ручьях не плещется вода…
Старинная сложная мелодия, которую выводил хрипловатый, но звучный голос парнишки, вилась, точно ручей меж валунов, и все это было как бы частью живого ясного ветреного утра за окном. Итале вскочил, полный энергии и готовый к любому следующему повороту своей судьбы.
Завтракали он с Амадеем в длинной столовой; Ладислас Эстенскар «ушел в поля», как сказала его юная жена. Она тоже присела за стол вместе с ними, но завтракать не стала: она встала уже давным-давно, вместе с мужем. Это была тихая, темноволосая восемнадцатилетняя женщина. Замуж она вышла всего пять месяцев назад и держалась скорее как девочка у себя дома в присутствии гостей, а не как хозяйка. Деверя своего она явно побаивалась и искренне им восхищалась. Зато с Итале они общий язык нашли сразу, и он заявил Амадею, когда они, отправившись на прогулку, поднялись на вершину нависавшего над домом холма:
— А знаешь, мне очень нравится эта твоя сестренка!
— Что ж, Ладислас — человек разумный.
— И со вкусом! В городе таких девушек не бывает. Я знал одну, очень похожую на нее, — у нас, в Малафрене…
— И что с ней стало, с той девушкой из Малафрены?
— Ее послали в монастырскую школу в Айзнар, а потом выдали замуж за богатого вдовца… Я бы на месте ее отца никогда не позволил ей в город уехать. Город таких девочек только портит. Господи, какой потрясающий вид!
Теперь дом и хозяйственные постройки оказались прямо под ними и горбились в конце небольшой долины у опушки довольно редкого, беспорядочно растущего леска. А повсюду вокруг холма, на голой вершине которого они стояли, до самого горизонта видны были такие же бледные округлые холмы, слегка будто подсиненные сухим, чистым, пронизанным солнцем воздухом. Холмы были покрыты густой короткой травой, как на свежеподстриженном газоне. Меж холмами тут и там виднелись отары овец, похожие на сероватые головки отцветшего одуванчика; овечьи колокольчики легонько позванивали, наполняя все это огромное пространство странной, фантастической музыкой. К северу, за лесом, на морщинистой щеке горы, возвышавшейся над холмами, виднелось нечто, издали напоминавшее то ли стену крепости, то ли башню.
— Что это там, Амадей?
Эстенскар, смотревший в другую сторону, обернулся к нему; и тут же ударивший в лицо ветер и яркий свет заставили его зажмуриться. Итале показалось, что худощавое, даже резковатое лицо друга сделано из того же
материала, что и эти высокогорные, блеклые, засушливые равнины.
— Башня. Она называется Радико.
— Это замок?
— Крепость. Ее взорвали, когда шла война Трех Королей. От нее мало что осталось.
— А кого из королей эта крепость поддерживала?
— Претендента. Здешние жители никогда не были сторонниками победителя…
У подножия холма бешеный ветер чувствовался значительно меньше, и можно было наконец вздохнуть с облегчением. Приятно было также увидеть наконец такие знакомые вещи, как стены домов и деревья, дававшие человеку убежище среди этих бескрайних бледных просторов.
В воротах они встретились с Ладисласом и вместе с ним отправились на конюшню посмотреть на тех коней, которых Амадей купил в Красное. Ладислас искренне похвалил гнедого, потрепал его по холке и заявил:
— Ты всегда, Амадей, в лошадях хорошо разбирался. — Было совершенно ясно, что он очень рад приезду младшего брата, любит его, восхищается им и немного его побаивается.
После обеда они втроем оседлали коней и поехали осматривать поместье. Старший из братьев оживленно беседовал с Итале о хозяйстве, младший в основном молчал. В Монтайне тоже выращивали овец, но Итале с ними дела практически никогда не имел и никогда не видел таких больших отар и столь обширных пастбищ; все это произвело на него огромное впечатление, он был совершенно очарован здешними местами и без конца задавал Ладисласу вопросы, на которые тот отвечал все более обстоятельно и конкретно, обнаружив, что разговаривает с человеком, «поработавшим в полях». В какой-то момент Ладислас даже начал забывать, что его гость — тоже «столичный литератор». Они привязали лошадей неподалеку от одного из глубоких, обложенных камнем колодцев и подошли, чтобы заглянуть в его бездонную пасть; потом снова вскочили в седла, но с места так и не тронулись: Ладислас и Итале живо и страстно обсуждали главную проблему земледелия в Монтайне — нехватку поверхностных источников воды. Амадей молча и терпеливо сидел на старой спокойной кобыле из здешней конюшни и задумчиво рассматривал далекие холмы.
Уже на пути домой он заметил, обращаясь к Итале:
— Как все-таки это странно — вернуться после стольких лет. Словно приехал в чужую страну, совершенно чужую, и вдруг обнаруживаешь, что прекрасно говоришь на здешнем языке…
В тот вечер после ужина они вчетвером сидели у камина и беседовали. Жена Ладисласа постепенно освоилась с гостями и, когда Амадей что-то сказал об уже сданной в типографию своей новой книге, спросила негромко:
— А вы ее с собой не привезли?
— Только черновик. Рукопись сейчас у Рочоя в издательстве; он обещал, что к началу 28-го года книга выйдет.
— Дживана ведь только о тебе и говорила все время, — заметил Ладислас, с улыбкой глядя на Амадея. — Очень ей было интересно, как выглядит младший из братьев Эстенскар.
— Ну вот, это я и есть, и я очень рад, что меня хоть кто-то ждал. И что впервые моя отвратительная репутация никому не вредит.
— Амадей просто устал от славы, — сказал Итале. — Но я надеюсь, что скоро ему надоест быть от нее усталым. К тому же он всегда довольно презрительно относился к собственным творениям; причем чем лучше у него получилась книга, тем больше он ее презирает! Та, что вот-вот должна выйти, по-моему, просто прекрасна. Если судить по собственным замечаниям нашего знаменитого писателя.
— Это роман? — заинтересовалась Дживана. — А как он называется? Не могли бы вы немного рассказать о нем?
— Он называется «Дживан Фоген»; это имя его главного героя. — Амадей проявлял удивительное терпение и явно старался ничем не смутить свою юную невестку. — В общем, роман получился довольно мрачный. И, по-моему, не слишком удался.
— Вот видите? — воскликнул Итале. — Никто романа еще не читал, но автор уже сообщил всем, что роман этот никуда не годится!
— Ну, не то чтобы он совсем никуда не годился, — возразил Амадей. — Если бы это было так, я бы его вообще печатать не стал.
Ладислас усмехнулся; ему то ли нравилось, что Итале потихоньку поддразнивает его брата, то ли хотелось действительно «завести» Амадея.
— Ну да, с твоей точки зрения, обычная посредственность, — нашелся Итале.
— Вот именно. Он должен был быть совсем иным. И он действительно не так хорош, как роман Карантая. А жаль.
— Вы имеете в виду «Молодого Лийве»? — спросила Дживана робко. Глаза у нее стали очень большими и потемнели от волнения; стиснутые руки скромно лежали на коленях.
— Вот вам «молодой Лийве», так сказать, лично. — Амадей указал на Итале, которому, в свою очередь, пришлось покраснеть.
— Какие глупости ты говоришь, Амадей! — громко возразил он. — Карантай начал писать свой роман задолго до того, как познакомился со мной… И, кроме того, у нас с Лийве нет абсолютно ничего общего…
— Наш дорогой Сорде тоже устал от славы, — усмехнулся Амадей.
— У Сорде ранено самолюбие, а потому он и не в состоянии ничего умного придумать тебе в ответ, — парировал Итале. — А не пианино ли это прячется там, в углу?
Это оказались маленькие клавикорды с потрескавшимся лаком, и Дживана по просьбе присутствующих сыграла несколько обычных салонных пьесок прошлого века. Пока она играла, Ладислас, точно защищая свою юную жену, стоял с нею рядом и переворачивал ноты. Потом они вместе спели какую-то старинную шотландскую песенку о любви, и голоса их, выводя прихотливую мелодию, звучали сдержанно и чисто. Они, конечно же, пели эту песенку и раньше, подумал Итале, когда оставались вдвоем в своем уединенном жилище. Пели просто так, для собственного удовольствия. Но ведь именно так все и должно быть в семье? Вот так — просто и уютно, как сейчас в этой мирной гостиной, где горит огонь в камине и звучат клавикорды… Под звуки этой музыки ему почудилось вдруг, что жизнь вообще бесконечно проста, нужно только как следует к ней приглядеться и смотреть на нее без страха. Все равно как в такой момент, когда тебе очень хочется пить, случайно приглядишься как следует — и сразу совсем рядом, какой бы сухой ни была земля, увидишь глубокий колодец, полный чистой, прозрачной воды…
Но здесь из-под земли бил не его источник; да и земля эта была не его.
В Эстене Итале прожил неделю. Он ходил по полям и пастбищам с Ладисласом, ездил с Амадеем охотиться в лес, а по вечерам беседовал с обоими братьями и Дживаной. Он чувствовал себя здесь как бы наполовину дома, потому что его окружал привычный быт сельской усадьбы, и наполовину в гостях, поскольку он был чужд скромной молчаливой жизни здешних обитателей, их тяжкому труду, Амадей все чаще отмалчивался, говорил очень редко, отрывисто, а порой и невпопад, точно с огромным трудом отрываясь от каких-то своих глубинных мыслей. В последний день Итале предложил ему поехать верхом к той разрушенной крепости, к Радико. — Нет, — отрезал Амадей.
Но, осознав, видно, как грубо и странно прозвучал его отказ, все же ворчливо пояснил:
— Ничего интересного там нет. И мне бы… Видишь ли, я хотел бы съездить туда один. Ты уж меня прости. — Лицо у него вдруг стало отчего-то сердитым и каким-то ожесточенным; глаза выдавали душевное страдание.
Господи, подумал Итале, до чего же все в жизни трудно ему дается! Он ничего не умеет воспринимать легко. Даже искреннее восхищение Итале, даже его нетребовательная дружба странным образом причиняли Амадею боль. Как и всякая любовь вообще. «Эти веревки обжигают мне руки», — как говорил паромщик с той ледяной реки в самом первом романе Эстенскара.
— Остался бы еще, хоть ненадолго, — попросил вдруг Амадей уже поздним вечером, когда Ладислас и Дживана ушли спать, а они с Итале все еще сидели у камина.
— Я обещал. Меня там Изабер ждет.
— Ракава, лживый город… — промолвил задумчиво Амадей, глядя в огонь. — Не следовало бы тебе туда ехать, Итале! Только те, кто на востоке родился, могут его понять.
— Тогда поедем вместе. Поможешь мне со статьями, а?
Но Амадей только головой покачал.
А на следующий день, стоя возле маленькой запыленной кареты, которая должна была отвезти Итале в Ракаву, он сказал:
— Когда увидишь зимой Карантая, скажи ему… — И довольно долго молчал. Потом пожал плечами, отвел наконец взгляд от пыльной и крутой деревенской улочки и закончил неожиданно: — Ладно, не важно.
Возница уже вскарабкался на козлы. Итале пора было ехать.
— Не задерживайся здесь, Амадей. Лучше поскорей возвращайся в Красной, к друзьям, — сказал Итале, протягивая руку и ласково касаясь плеча друга. Он бы, конечно, обнял его на прощанье, но Амадей отшатнулся и быстро проговорил:
— Хорошо. А теперь прощай. Приятного тебе путешествия. — И, более не взглянув на Итале, повернулся и пошел прочь. Тот некоторое время постоял в полном замешательстве, потом занял свое место рядом с возницей, и карета тронулась, позванивая и поскрипывая на ходу. Итале оглянулся и в облаке пыли, поднятой лошадьми, увидел, что Амадей уже вскочил на спину гнедого и скачет по дороге в Эстен, а за ним спокойно трусит вороная кобыла Итале с пустым седлом.
Глава 16
В ту ночь Амадей допоздна лежал без сна и слушал завывания ветра. Ветер налетал порывами, сильный, холодный, и бросался с небес ледяным дождем. Когда наступало затишье, отовсюду слышались какие-то вздохи — возможно, это вздыхал старый дом, чьи деревянные стены с трудом выдерживали безумный натиск бури, но больше это было похоже на дыхание самого ветра, который набирался сил перед очередным броском через холмы к западу. Наконец Амадей не выдержал: сел, нашарил в темноте спички и зажег свечу. Комната выплыла из мрака, точно слабо освещенный островок тишины; даже завывания ветра стали не так слышны. На одной из торцовых стен комнаты висела карта Европы; эту карту он помнил с раннего детства — латинские названия, странные изрезанные береговые линии и границы чужих государств, полностью изменившиеся за минувшие восемьдесят лет, фантастические чудовища, резвившиеся в океанах, которых он никогда не видел… Восточный ветер в темноте за окном дул как раз в сторону океана, далекого и по-осеннему холодного, пролетая над холмами, над равнинами, над селами и городами, оставляя позади рассвет и стремясь навстречу закату. Утренняя заря, возможно, застанет этот ветер уже на побережье Франции, а вечернюю зарю он встретит над Атлантическим океаном, близ берегов далекого западного мира… Сильнейший порыв ветра, точно штормовая волна, сотряс дом. На разные голоса завыло в трубах и вдоль карнизов. Свеча на столе мигнула и зачадила. «Все, я иссяк, со мной покончено, — со злостью прошептал Амадей в наполненной вздохами и стонами тишине, что наступила после очередного натиска бури. — Все ушло, все, ничего не осталось, так чего же вы от меня хотите?!»
Молчание, ветер, тьма, стены комнаты, где он спал еще ребенком… Задув свечу, он явственно увидел бледный прямоугольник окна, за которым по небу мчались тучи, гонимые ветром на запад, и наконец в небесах блеснул Орион, яростно вспыхнувший в черных клубах облаков.
Днем Амадей решил прогулять гнедого. Вторая лошадь, привезенная им из Красноя, вороная кобыла, стояла в соседнем стойле, и он будто снова услышал голос Итале, говоривший ему: «Завтра ты должен взять мою вороную, у нее отличный аллюр!» Легкий приятный голос, мягкий выговор, открытое, щедрое сердце… У Амадея вновь подступили к глазам слезы, как и в тот миг, когда он хотел попрощаться с Итале у кареты. Но вместо дружеского прощания он устроил какую-то дикую сцену, исполненную болезненной и пугающей горечи и. тоски, — точно удар нанес Итале в спину, и тот выдержал эту сцену, но с изумлением и возмущением обернулся навстречу последнему удару.
Седлать гнедого Амадей не стал, а оседлал вороную кобылу и в полном одиночестве двинулся в сторону крепости Радико. Октябрь уже зажигал в лесу свои мрачноватые костры, особенно сильно облетели березы; и, оборвав на них золотые листья, ветер, казалось, истощил свои силы. Легконогая кобылка вскоре миновала лесок и быстро бежала по склону холма к вершине. Окрестные холмы были пустынны, лишь кое-где виднелись овечьи отары, принадлежавшие его брату, — проворные крепкие животные живо вскакивали с земли и дружно поворачивали головы в сторону одинокого всадника. Небо над головой было бледно-голубым. Один раз в зените лениво покружил ястреб и полетел куда-то на север.
На вершине холма Амадей спешился; здесь когда-то был двор крепости. Продолговатая насыпь с обломками торчащих из земли остроугольных каменных глыб обозначала некогда стоявшие здесь мощные стены. Ветер, что на возвышенных местах не затихал ни на минуту, играл в желтоватой траве. Крепость была разрушена практически полностью; уцелела лишь часть ворот да нависавшие над крутым откосом остатки внешней стены. Башня, впрочем, выстояла и высилась над равниной, вся покосившаяся и щербатая, но почти столь же огромная и величественная, как солнце в небе, уже клонившееся к западу, как далекие лиловые горы, скорее ощутимые у восточного горизонта, чем видимые в туманной осенней дали. Орудийная аппарель вела внутрь башни, на второй этаж. Верхние же, деревянные этажи башни были сожжены дотла при захвате крепости сто восемьдесят лет назад; от них остались лишь каменные столбы и балки да синий кружок неба над головой. Среди камней под прикрытием стен буйно разрослись травы; в оконном проеме на втором этаже, метрах в пятнадцати от земли, качали головками ярко-розовые маргаритки. Амадей подошел к узкому южному окну-бойнице; отсюда открывался вид на залитые солнцем холмы. На подоконнике было четко вырезано ножом в твердом серо-желтом песчанике:
Амадеус*Иоаннес*Эстенсис
год MDCCCXVIII
Vincam
Это он написал здесь за два дня до своего первого отъезда из Эстена в Красной. Тогда ему было семнадцать. Он вспомнил сразу — в одном легком видении, полном запахов, ощущений стоявшей тогда погоды и красок заката, — все те мгновения, когда стоял у этого окна, приезжая сюда, в Радико, один. Впервые это произошло сразу после смерти матери. Тогда он пришел сюда пешком, вскарабкался по разрушенным стенам башни и, совершенно вымотанный, уселся на пол как раз под этим вот южным окном. И вскоре обнаружил, что смерть не имеет здесь власти, ибо все здесь и так давно мертво, но в то же время удивительно прочно и нерушимо. Солнце тем временем успело зайти, башня наполнилась синими тенями. Амадей слышал, как его зовут там, внизу, но откликнулся не сразу. Его отец, Ладислас, слуги — все, оказывается, искали его, громко выкрикивая его имя; ведь ему тогда было всего десять лет. И теперь башня точно так же медленно наполнялась тьмой; сразу стало холоднее, словно это была не ночная тьма, а ледяная тяжелая вода. Амадей вышел наружу и присел на камень у разрушенной стены, греясь в последних косых лучах солнца и глядя вдаль, на широкий простор, который в детстве считал своим королевством, а себя самого — принцем и хозяином этого разрушенного замка. Наконец сумрачные тени доползли до вершины. Пугающе острая боль утраты, что пронзила его сердце во время расставания с Итале, и вся та тревога и горечь, что преследовали его с тех пор, как они покинули Красной, вдруг исчезли — точно тяжкое бремя упало наконец с его плеч здесь, среди этих громадных камней, среди этих развалин на вершине холма, на ветру, в сгущающихся сумерках. Когда он наконец встал, то так и не смог сделать ни шагу, медлил, подчиняясь громаде разрушенной крепости, признавая ее абсолютное, целительное равнодушие и ее абсолютную власть над ним. Он стоял один, наконец-то один, в том единственном месте, где только и мог быть самим собой, мог быть совершенно свободным. «Вот оно, это место. Вот куда я давно должен был прийти!» — думал он с восторгом. И в тот же миг, словно обернувшись к зеркалу, увидев себя — кривляющегося и хвастливого шута в доме, исполненном истинного величия. Почему он не захотел поехать сюда с Итале? Всего лишь потому, что ему стало бы стыдно, если б Итале увидел те слова, вырезанные на каменном подоконнике в башне: vincam, «я одержу победу», и в своем неведении и великодушии поверил бы этому. Ибо Итале действительно верил в победу, в победоносный дух борьбы и торжества. Он никогда не жил в разрушенной башне, на бесплодной земле. Он никогда не сталкивался с возможностью одного-единственного выбора — между иллюзией и лицемерием, — хотя такой выбор даже и делать не стоит. «Зачем я здесь?» — презрительно спросил себя Амадей, подошел к лошади и вскочил в седло. Едва миновав самые крутые места, он пустил кобылу в галоп, оставляя позади свое поражение и свое невозвратное ощущение мира и покоя.
И без того в тот вечер он был в плохом настроении, однако оно еще ухудшилось, когда он увидел, с каким терпением реагирует брат на его надутую физиономию, а «сестренка» (будто снова прозвучал у него в ушах голос Итале) держится как-то особенно застенчиво и осторожно. Господи, да оставили бы они его наконец в покое! Неужели они не в состоянии понять, что ему невыносимы их заинтересованность и любовь, их человеческие нужды и жертвы; что он не умеет и никогда не умел жить с людьми. Нет, ему следует первому разрубить этот узел, оставить их, уехать… Вот только куда?
— А этот твой друг мне очень понравился! — сказал Ладис. Странно, со времени отъезда Итале прошло уже несколько дней. Братья в этот момент находились на заднем дворе; Ладислас заказал новые петли в кузне Колейи и попросил Амадея помочь ему перевесить ворота. С воротами они только что покончили, и Ладис проверял, хорошо ли работает стальной засов, низко склонившись к нему и, как всегда, поглощенный тем, что делает. — Я твоих друзей представлял себе совсем не такими.
Амадей у колодца смывал с рук ржавчину — испачкался, когда они снимали старые петли.
— Друзья… — презрительно протянул он. — Итале — единственный настоящий человек, которого я там встретил за последние десять лет и о котором не раз уже вспоминал после его отъезда.
— Ты думаешь здесь остаться?
— Наверное.
— Это хорошо, — одобрил старший брат. — И это, как ты понимаешь, совершенно нормально в отношении меня и Дживаны. Это же твой дом. Но сколько тебе сейчас? Двадцать шесть, скоро двадцать семь. По-моему, это не самое подходящее место для такого молодого человека, если только ты не собираешься вместе со мной погрузиться в сельскохозяйственные заботы. А больше здесь и заняться-то нечем.
— Ну, тебе, похоже, занятий вполне хватает.
— Я люблю землю. И у меня есть жена. И я готов был проехать сто километров в один конец, чтобы только ее увидеть, когда за ней ухаживал. Тебе-то ведь нужно гораздо больше. Неужели ты станешь торговать рожью и овцами? И пожертвуешь ради этого своей работой?
— Работой? У меня ее больше нет. Я уже сделал все, что мог.
Ладислас, оторвавшись наконец от засова, выпрямился и посмотрел на него.
— Ты что, хочешь сказать, что уже написал все свои книги? И больше не желаешь знаться с литературой? — спросил он.
— Это литература не желает знаться со мной! Все кончено. Я выжат как лимон и выброшен на помойку.
Ладислас, спокойно глядя брату прямо в глаза, уверенно заявил:
— Это твое призвание, а такими вещами не бросаются.
— Я же говорю тебе, что я кончился как писатель. Литература не желает больше знаться со мной! — в отчаянии повторил Амадей.
— О господи! — презрительно воскликнул Ладислас. — Ты все такой же! — И Амадей, прекрасно понимая, что заслуживает со стороны брата презрения, знал, что подобное отношение на самом деле покоится на незыблемой верности и не нуждающемся в комментариях справедливом и всепрощающем признании особенностей характера Амадея, ни словом Ладисласу не возразил. Он чувствовал себя ребенком, сморозившим ужасную глупость, и вспыхнул от стыда, сжимая ручку насоса, но глаз не отвел.
В тот вечер после ужина Амадей ни разу к брату не обратился, зато с Дживаной беседовал больше обычного. Он ее смешил, смущал похвалами по поводу ее сообразительности и даже отчасти вернул молодой женщине уверенность в себе, когда, впервые за все то время, что провел дома, стал описывать свою жизнь в Красное, своих знакомых из светских и литературных кругов, различных актеров и политиков. Для Дживаны эти рассказы были настоящей «1001 ночью». Она была очарована, потрясена, восхищена, она требовала подробностей, уточнения обстоятельств, глаза ее потемнели и светились, а под конец она сказала:
— Но я этому не верю, Амадей!..
И ночью, когда Амадей уже лежал в постели, в ушах его все еще звучало это ее «Но я этому не верю, Амадей!..»; он видел ее сильные, но еще по-детски пухлые руки, сплетенные под обтянутой темным корсажем грудью, и даже выругался в полный голос, проклиная себя и желая одного: изгнать из памяти звуки ее голоса и ее милый образ. Он долго ворочался с боку на бок» и в конце концов сел и зажег свечу. А его старший брат тоже лежал в это время в постели рядом со своей крепко спящей женой и тоже не спал, вспоминая ее неуверенно-восторженное восклицание: «Но я этому не верю, Амадей!..» — в гневе сжимая кулаки и стараясь подавить приступ ревности и дикое чувство собственной вины.
Еще три вечера прошли так же. После ужина Амадей и Дживана беседовали, смеялись, играли на клавикордах; Дживана пела или подшучивала над Амадеем, одновременно восхищаясь теми экспромтами, которые он исполнял для нее. Она совсем освоилась и поддразнивала Амадея так, как никогда не поддразнивала Ладисласа. Она обращалась к нему повелительным тоном, подражая тем великосветским дамам из Красноя, которых он ей с таким юмором описывал; она явно флиртовала с ним. Она была просто очарована его рассказами о театре и задавала ему бесконечное множество вопросов о сцене, о пьесах, о режиссерах и, конечно, об актрисах, о женщинах, чья жизнь во всех отношениях была противоположна той жизни, какую вела она: где они живут? сколько им платят? как они тратят свои деньги? бывают ли у них дети? И так далее без умолку. Она заставляла Амадея подробнейшим образом отвечать на ее вопросы, и молодой человек, посмеиваясь, ей подчинялся. А Ладислас молча сидел у камина.
На четвертый вечер Ладислас сразу после ужина ушел из дому. Он поднялся по горной тропе на пастбище и довольно долго сидел там со своими пастухами у костра, такой же молчаливый и насупленный, каким был и дома у камина. Однако, вернувшись домой, он обнаружил, что в гостиной тихо, а жена его в одиночестве что-то шьет у огня и выглядит очень усталой и немного испуганной.
— А где же Амадей-то? — спросил Ладислас каким-то неестественно бодрым тоном.
— У себя.
— Что, сегодня музыки не будет? — спросил он и зачем-то подмигнул ей.
— Какая ужасная погода сегодня! — сказала она, не отвечая на его вопрос. — И ветер подул плохой. — В Полане всегда говорили о ветре, как о живом существе. Дживана подняла на мужа глаза и застенчиво к нему потянулась.
— Вид у тебя усталый, детка, — с нежностью сказал он. — Ступай-ка спать.
И она послушно пошла наверх, а он остался у камина. В спальню он поднялся лишь после полуночи. Из-под двери Амадея пробивался тонкий золотой лучик света, отчетливо видимый на темном потертом ковре в коридоре; в комнате у него было тихо. Ладислас некоторое время постоял перед этой закрытой дверью в полной темноте, видя у своих ног лишь эту светлую полоску и изо всех сил стараясь сдержаться и не окликнуть брата. А по другую сторону двери Амадей сгорбился над разбросанными по письменному столу листами бумаги, мучительно подыскивая нужное слово; им владело сейчас какое-то странное, лишенное эмоций возбуждение. Творческий экстаз. Он наконец получил от Дживаны то, что ему было так необходимо, — нервное напряжение, порожденное тяжким, нетерпеливым и опасным желанием, которое он задушил в самом зародыше; именно в таком состоянии ему всегда писалось лучше всего. Как только Ладислас после ужина ушел в горы, Амадей тоже решительно встал и, оставив Дживану в гостиной, поднялся в свою комнату, злой от стыда и презрения к самому себе. Он сразу же сел за стол, намереваясь написать письмо — все равно кому, туда, в Красной, куда он должен поскорее уехать, убраться из этого дома во что бы то ни стало. Затачивая перо, он вдруг почувствовал, как в мозгу его рождаются слова, эти слова движутся, останавливаются и наконец выстраиваются в нужном порядке: «Здесь, у развалин башни, конец пришел надеждам… В обители отчаяния принц… И в башне той, что на краю надежды возвышалась…» Выстроившиеся было слова то и дело разбредались в разные стороны, рисунок их все время менялся, но смысл был прежним и заполнял собою весь мир, точно гулкое эхо в горах, и Амадей, слепо ткнув наполовину заточенным пером в чернильницу, принялся писать, царапая бумагу, вычеркивая слова, сажая кляксы, умело и профессионально ведя бой с собственной фантазией, этим гением-искусителем, — так ведет себя борец, вышедший в круг, чтобы непременно одержать победу.
В течение четырех дней он практически не выходил из своей «кельи», однако когда он все же спускался вниз, чтобы поесть, то оказывалось, что он пребывает в прекрасном расположении духа, но чрезвычайно рассеян, отвечает на вопросы невпопад и ест все подряд, что бы перед ним ни поставили. Поев, он снова уходил к себе и садился за работу. На четвертый день, уже поздним вечером Амадей вошел к брату в кабинет — холодный закуток, где Ладислас обычно возился со счетами и прочими документами.
— Можешь мне полчаса уделить?
— Входи. Меня от этого уже тошнит!
— А что это?
— Налоговые квитанции. Я уже третий год подряд обращаюсь в Ракаву за разъяснениями, а они в ответ присылают мне все те же дурацкие бумажонки, которые получают от чиновников из Красноя. Неужели они, например, считают, что наши крестьяне станут платить этот новый налог на дома? Неужели им так хочется крови? Ну так кровь довольно скоро и прольется, если Генеральные штаты не внесут в налоговую систему соответствующих изменений!
— Господи, и здесь то же самое!..
— Все революции порождены налогами. Для того, чтобы это узнать, не нужно ездить в столицу, — с усмешкой заметил Ладислас, подшучивая то ли над братом, то ли над самим собой. — А что это ты мне принес?
— Хочешь послушать?
Ладислас поудобнее устроился за письменным столом, и Амадей прочел ему свою новую поэму, стоя, звонким, даже резковатым голосом, который не становился глуше и мягче даже в самых лирических местах. В этих стихах воплотилась, кажется, вся плавность, нежность и удивительная мелодичность его поэзии, но даже и намека на эти качества не было в его голосе и манере чтения. Это была некая фантазия, некий сон о разрушенном замке, где перед героем возникают мрачные и отрывистые образы, как бы порожденные окружающей его тьмой и затем вместе с нею исчезающие, неясные, тревожные, неожиданные.
Когда Амадей умолк, в кабинете некоторое время стояла звенящая тишина; потом Ладислас каким-то странным жестом выставил перед собой пустые ладони и, глядя на них поочередно, прошептал с улыбкой:
— Вот ты где, оказывается.
— Нет, это не я. Это оно, то место, Радико! Если только у меня получилось…
Ладислас вскинул на него глаза.
— Радико? В дурном сне…
— В реальной действительности. И собственной персоной. — Теперь голос Амадея звучал значительно мягче, словно он, прочитав поэму вслух, как бы освободился от владевших им чувств.
— Единственная дорога у нас в горах ведет именно туда; и добраться туда можно только по этой дороге — как во сне, когда у тебя нет никакого выбора, когда существует лишь один-единственный путь… Но ведь это страшно, Амадей, — неуверенно и мрачно сказал Ладислас, и Амадей торжествующе улыбнулся, принимая это как похвалу, как констатацию одержанной им победы.
— Ты всегда был моим лучшим читателем, Ладис! — Он сел, и братья посмотрели друг на друга — Ладислас, темноволосый, мрачноватый, настороженный, и Амадей, как всегда тщательно одетый, с отлично подстриженными и уложенными рыжеватыми волосами, спокойный, мерно постукивая свернутой в трубку рукописью по колену.
— Разумеется, это сон, — снова заговорил он. — Это не Радико сама по себе, а просто сон об этой башне, об этом месте… некое видение… Дело в том, что несколько месяцев назад, в июле… Не знаю, сумею ли я это описать! К этому времени я практически за полгода не написал ни строчки, и однажды ночью, в июле, меня вдруг снова потянуло… в один дом, куда я часто ходил раньше. К женщине, которую… Впрочем, ты эту историю достаточно хорошо знаешь. С этой женщиной я порвал больше года назад и уже снова начал было уважать себя, работая вместе с Сорде и его командой; я был, как бы это выразиться… В общем, я вернулся к ней; и она меня приняла. Разумеется, все это ее весьма забавляло; она даже отослала прочь своего нового любовника, чтобы освободить для меня место в своей постели. Я тогда напился, плакал, и она в итоге снова меня выставила. Это было ужасно… Я всю ночь бродил по городу, кое-что, главное, я до сих пор помню… А утром вернулся домой и завалился спать. Проснулся я уже вечером. В Красное июль всегда очень жаркий, и я, конечно, чувствовал себя отвратительно. Мне казалось, что так низко я никогда еще не падал. Я долго, в тупом оцепенении сидел у окна. Я целых пять лет снимаю эту квартиру исключительно из-за окна, которое выходит на тенистый парк и набережную. Прямо под моим окном растут огромные старые каштаны, а за ними видны лужайки, главная аллея и в конце ее набережная, вечно полная народа, карет, залитая солнцем, а уже за нею, вдали — фасад дворца, длинный и строгий. Все это внушает мне некую смесь ужаса и восхищения, а также — некую меланхолию, точно наступает конец чего-то… Итак, я сидел у окна, где сиживал прежде десятки тысяч раз, и теплый ветерок шевелил бумаги у меня на письменном столе, а меж деревьями, словно клубы пыли, тем временем сгущались сумерки. Я ни о чем не думал, я чувствовал себя совершенно опустошенным, выпитым до дна… Вот тогда-то мне и привиделся тот сон, если только это был сон. Я ведь не спал. Не знаю, что это было такое… Я бы даже пересказать это не мог. В своем романе я пытался описать человека, который не может уйти от собственной судьбы, и все, что он делает, является проявлением этой судьбы, ее частью, даже когда он уверен, что действует совершенно свободно. Вот и мой сон был примерно о том же. Я видел свою собственную жизнь — прожитую и еще только предстоящую — как некую дорогу, вьющуюся среди холмов. Но себя на этой дороге не видел: меня там просто не было. А дорога была, и я видел окрестные холмы, знакомые места, но не был уверен, знал ли я их прежде, или же узнаю только потому, что мне еще предстоит их увидеть? И это… это, собственно, все! Я не в состоянии описать этот сон, я не могу вернуть его назад. — Он сел, настороженный, будто к чему-то прислушиваясь. — Нет, бесполезно! — пожал он плечами. — Но впоследствии, когда я начал писать вот это, — он хлопнул рукой по рукописи, — и добрался до описания замка в ночи, я вдруг понял, что описываю одно из своих тогдашних видений, тот сон! Крепость Радико ночью, под дождем, в кромешной тьме, задолго до рассвета. Я видел ее перед собой. Видел среди бела дня, при ярком свете солнца, хотя находился тогда почти в четырех сотнях километров от нее! Как? Почему? Каким образом? Что это означало? Не знаю. Я больше не задаю подобных вопросов. Я не имею права их задавать. Я это право утратил. Я жил только своими мыслями и чувствами, питаемыми тщеславием, я жил в том мире, который создал сам и для которого сам придумал законы. Я сам выбрал этот мир снов и мечтаний. Но это оказалось связано с тем, что, проснувшись или очнувшись, обнаруживаешь, что больше не являешься гражданином того мира, где светит солнце. Что позабыл значение и смысл реальных вещей. Что утратил свои права на жизнь в этом мире…
— А разве человек обладал когда-либо такими правами?
Амадей не ответил. Ладислас встал; он казался особенно высоким и плотным в грубоватой куртке из овчины, которую надевал, работая в этой холодной комнате. Он прошелся задумчиво по комнате и сказал:
— Когда мне было двенадцать, а тебе шесть, мы ездили в Фонте к пасхальной мессе. Помнишь?
— Да. Пока мама была жива, мы ведь почти каждый год ездили туда, верно?
— Но в тот раз возвращались мы по старой дороге мимо Фастена и Радико, потому что мост над Гарайной снесло паводком. Ехать пришлось почти всю ночь. Мимо Радико мы проезжали незадолго до рассвета. Я хорошо это помню, потому что ты спал, а тут вдруг проснулся и все пытался открыть окно пошире. И всех призывал: «Посмотрите на замок, посмотрите на замок!» В итоге отец дал тебе подзатыльник, ты успокоился, и дальше мы снова поехали уже в тишине. Но я помню, что и с меня тоже сон моментально слетел, когда я увидел черный, мрачный силуэт башни на фоне темно-серого, лишь чуть-чуть начинавшего светлеть неба. В точности как в твоей поэме! Ты описал те самые мгновенья.
— Я этого совсем не помню. Двадцать лет прошло! Странно, как работает память, правда? — Амадей никак не мог унять дрожь, пальцы его не слушались. Эти мгновения детства, которые хорошо помнил его брат, а сам он даже вспомнить не смог… все это не имело объяснения, не имело ответа, все это было БЕЗДНОЙ, и он в ужасе от этой бездны отвернулся. — Как здесь холодно, Ладис, — тихо промолвил он наконец. — Пойдем-ка наверх, посидим у камина.
— Ты иди, — ответил брат. — А мне еще нужно с этим покончить.
Глава 17
В Полану пришла зима, холодная, дождливая, с неутихающими восточными ветрами. Вечерами отары овец под покрытыми рваными серо-стальными облаками небесами тянулись с горных пастбищ на обширные выгоны Эстена. Поля вокруг расстилались серые, жалкие, лес тоже обнажился и стал серым. Жизнь Дживаны и Ладисласа продолжалась по-прежнему, размеренная, спокойная; и молодая женщина была столь же последовательной и методичной в своих домашних обязанностях, как и ее муж — в ведении хозяйства. Амадей впал в апатию, не находя для себя подходящих занятий. Порой ему лень было даже встать с постели и сменить оплывшие свечи или фитиль в лампе. Энергии в нем не хватало даже на такую малость, и он продолжал лежать или неподвижно сидеть в бездействии, ибо его хозяйка и властительница, потребность сочинять стихи, бросила его на произвол судьбы, а он, перестав быть ее верным рабом, утратил и собственную свободу. Подобно дереву на вершине холма, где ветер всегда дует в одну и ту же сторону, он тоже вырос кривобоким, вытянул ствол и ветви по ветру, приспособился, и вдруг ветер дуть перестал. Амадей мог простоять у окна целый час, глядя на исхлестанный дождями сад и двор, ни о чем не думая, не удивляясь даже, зачем он стоит здесь, зачем сюда приехал, зачем проводит здесь зиму, в этой тюрьме, умирая от скуки и попусту тратя время.
Наступил Новый год. В приливе энергии Амадей написал всем своим краснойским друзьям — Итале, Карантаю, Луизе, — что вернется, как только в начале весны подсохнут дороги и станут пригодны для езды. Теперь он регулярно писал им — длинные шутливые письма, полные словесных каламбуров. Он собирался непременно вернуться в столицу в апреле или в мае, когда зацветут липы на бульваре Мользен и каштаны в парке, а по променаду снова начнут прогуливаться хорошенькие женщины; а свои последние заметки, нацарапанные паучьим почерком, он бросит тут, в осаждаемом ветрами Эстене, как память о последних приступах мучительного самоедства, о последних бессмысленных судорогах уходящей юности. В этом-то и было все дело. Предаваясь мечтам, упоенный игрой слов и полетом собственного воображения, он все не находил времени, чтобы стать настоящим мужчиной, хотя давно пора было повернуться лицом к реальному миру.
— Но от чего я, собственно, собираюсь бежать? — сердито спросил он у ночи, словно отказываясь признать столь тяжкие обвинения в свой адрес; ночь молчала, а ветер все гнал и гнал гигантские облачные валы на запад, к морю, и Орион по-прежнему ярко светил в холодном высоком небе, проглядывая меж облаками, тени от которых быстро летели по усыпанным январским снегом холмам.
Амадей вдруг вспомнил о своем хвастливом обещании, которое вырезал когда-то на каменном подоконнике в башне Радико: vincam, «я буду победителем». Теперь эти слова казались ему одновременно и правдой, и ложью, и были такими же вечными, как те камни, из которых сложена сама башня, одиноко высившаяся на вершине холма и равнодушная к любым завоевателям и любым поражениям.
Когда Ладислас и Дживана ездили в гости к соседям, жившим, надо сказать, довольно-таки далеко, Амадей обычно отправлялся с ними вместе. Они и сами старались как можно чаще приглашать к себе гостей, надеясь как-то развлечь его. Он замечал их робкие попытки поднять ему настроение, когда они предлагали ему какое-то занятие, развлечение или просто дружескую беседу у камина, однако должным образом ответить на эту заботу не мог. Те вечера, когда приезжали гости, проходили несколько легче и быстрее. К тому же этим гостям вовсе не требовалось, чтобы он о чем-то рассказывал. Они, пожалуй, побаивались его, человека столичного, знаменитого поэта, и, самое большее, желали лишь посмотреть на него, а потом поворачивались к нему спиной и затевали друг с другом бесконечные разговоры об овцах, о погоде, о соседях, о политике. Политические споры, правда, порой становились довольно жаркими, но Амадей в них не участвовал — только прислушивался с ощущением собственной беспристрастности и собственного предательства. Ладислас был стойким сторонником реформ и конституции, его поддерживал приходской священник из Колейи. Остальные, по большей части помещики и зажиточные фермеры, с ним яростно спорили, но отнюдь не из любви к нынешним властям. Дела в провинции шли неважно. Налоги тяжким бременем давили на тех, кто был слишком беден, чтобы их платить. Полицейские расследования и аресты стали делом обычным даже в маленьких городках. А восточные провинции, где стремление к независимости и консерватизм достигли своего максимального выражения и даже квалифицировались порой как некий «анархизм», пребывали в состоянии презрительного и гневного ожидания. Так что Ладисласу и его соседям было о чем поспорить. Но Амадей молчал и все время смутно ощущал, что этим молчанием предает кого-то. Если же среди гостей не оказывалось ни одной женщины, которые часто оставались дома из-за отвратительной погоды и раскисших дорог, Дживана тоже весь вечер молчала, занимаясь каким-нибудь рукоделием, подавала ужин и чай и мило улыбалась мужчинам. Она ждала ребенка и была прекрасна в своем ожидании скорого материнства. В ее повадке прибавилось уверенности, но говорила она по-прежнему ласково, разумно, чуть застенчиво, и все же Амадей чувствовал в ней теперь некую неколебимую женскую силу. Уж она-то хорошо знала свой путь! И была счастлива. Он наблюдал за ней без зависти, уже не надеясь когда-либо ощутить подобную уверенность, обрести счастье в жизни. Когда Ладислас и двое его соседей вошли в такой раж, что уже чуть ли не бросались друг на друга с кулаками, Дживана подошла к клавикордам, насмешливо и ласково улыбнулась Амадею, сидевшему рядом, и тихонько заиграла. Он встал с нею рядом, и она, подняв к нему лицо, весело сказала:
— Ох, до чего же они мне надоели своими вечными спорами! А впрочем, даже хорошо, что они моей игры не слышат и она им совершенно не мешает. — И она запела песенку, которую Амадей знал с детства:
Из окна моей башни
Увидал я розу красную, деву прекрасную.
Из окна моей башни
Увидал я розу красную на колючем стебле.
Кто там скачет, под окном моей башни,
До заката успеть поспешая?
Кто там скачет, под окном моей башни,
Гласом трубным поля оглашая?
Чей там конь рассвету навстречу летит по земле?
— Спой дальше, — попросил Амадей. Это была прекрасная баллада о том, как Смерть уносит девушку, но Дживана улыбнулась и ответила:
— Да я плохо пою, у меня вечно дыхания не хватает. — И заиграла одну из своих любимых старинных сонатин. Когда смолкло причудливое переплетение звуков, Дживана встала, подтянула кое-где струны — в стареньком инструменте вечно требовалось подтягивать струны — и снова села, что-то тихонько наигрывая. Помолчав, она спросила Амадея: — Ты по-прежнему собираешься в апреле уехать?
— Не знаю, — рассеянно ответил он, рассматривая рисунок на передней, потрескавшейся от старости доске клавикордов — розовый венок и ветку боярышника. — Я не хочу уезжать.
— Тогда зачем же уезжаешь?
— Потому что понимаю, что это ошибка. И я совершаю ее сознательно.
Дживана быстро сыграла гамму до-мажор в одну октаву — вверх и вниз; коротко рассыпались чистые звуки.
— Но это же глупо! Зачем ты так говоришь?
— Я знаю. Прости.
— А если ты уедешь в апреле, то еще вернешься сюда?
— Нет. Вряд ли. К чему возвращаться? Я ведь приехал сюда скорее в поисках причины того, зачем мне понадобилось приезжать. Но я так ее и не нашел, причины своего приезда сюда! Понимаешь, когда я уезжал отсюда в Красной, я совершенно точно знал, почему уезжаю и что буду там делать, что ДОЛЖЕН там делать. Писать свои книги, встречаться с интересными людьми, проложить путь в жизни, встретить свою любовь, ну и так далее. Все это я сделал. Испытал все, к чему стремился. Всего достиг. И теперь для меня все кончено. Все кончено.
— В двадцать шесть лет?…
— Не думай, что я ленив, Дживана. Ты ведь почти и не видела меня за работой. Когда мне было нужно, я трудился не покладая рук. Но вся работа сделана. Я, конечно, мог бы вернуться в Красной или поехать в какой-нибудь другой город, писать всякие статьи и этим зарабатывать себе на хлеб, стараясь принимать жизнь такой, какая она есть, — так поступает большинство людей. Я мог бы жениться и жить своим домом лет пятьдесят, если меня будет устраивать этот брак и такая жизнь. Да, я все это вполне способен понять, но я не верю в возможность такой жизни для себя. Я не представляю своей будущей жизни, я ее не вижу. Наверное, я ее уже прожил, и поэтому все кажется мне таким бессмысленным. Ты понимаешь, что я имею в виду? Вот ты, например, представляешь себе — хоть как-то — свою будущую жизнь, верно?
— До сих пор совершенно не представляла. Только сейчас, с тех пор, как жду ребенка, стала немного представлять ее себе. Я вижу вещи… словно глазами моего будущего малыша, словно во сне… Летний вечер, и мы с малышом стоим вон там, под осокорем, и ждем — видимо, когда Ладис приедет домой верхом на своем коне… И это такой прелестный
летний вечер, но немного печальный… потому что дует ветер… — Дживана улыбнулась. — И потому что я уже стала гораздо старше.
— А я в твоих снах тоже приезжаю верхом вместе с Ладисом?
— Тебе виднее.
Они давно забыли о гостях; Дживана говорила совершенно свободно, ничуть не заботясь об условностях и приличиях. Голос Амадея звучал резко и одновременно умоляюще:
— Но я же не могу увидеть твое будущее! Я и своего-то не вижу. Я ничего не вижу впереди. Будущее невозможно увидеть собственными глазами. Ты правильно сказала: это твой малыш, которого ты носишь во чреве, дает тебе возможность видеть истину, видеть будущее, ибо он сам и есть твое будущее, а я… я потерял свой путь… я его больше не вижу.
— Ты всегда так много работал! Ты просто устал, измотался, ты же сам говорил об этом. Просто нужно немного отдохнуть, подождать… Это как зимой, когда все отдыхает и ждет весны. — Она говорила убежденно, искренне, страстно желая внушить ему эту мысль.
Паводки начались рано, да и снег больше не выпадал с конца января. В феврале, когда почта наконец добралась до Колейи, Амадей получил первые письма: два письма от Карантая — одно было датировано началом декабря, и в нем Карантай спрашивал, нет ли у Амадея вестей от Итале, а второй конверт оказался пуст, и печать была сломана. Кроме того, пришла посылка из издательского дома «Рочой» — экземпляры нового романа Эстенскара «Дживан Фоген». Амадей подарил одну книжку брату, сказав: «Прочитаешь следующей зимой!» — потому что Ладислас был по уши занят: у овец начался окот, и он по двадцать часов в сутки пропадал в овчарнях, а иногда и по два-три дня подряд домой не показывался.
— Нет, где-нибудь через недельку непременно прочитаю, — серьезно ответил Ладислас. — Но лучше подари свою книжку Дживане. Ей будет приятно.
— Хорошо. А ты куда сейчас?
— На южные выгоны.
— Я с тобой.
— Ладно, догоняй, — и Ладислас, махнув на прощанье рукой, толкнул в бока свою невысокую ладную лошадку и уехал. Амадей нашел Дживану в саду, с западной стороны дома. День был холодный, дул не очень сильный, но какой-то пронзительный ветер; в воздухе еще висела легкая дымка, оставшаяся после недавних дождей, солнце так и сверкало в огромных лужах на черной, еще не просохшей земле. Дживана сидела на корточках возле какой-то клумбы; в беспокойном солнечном свете и на ветру она показалась Амадею особенно хрупкой и уязвимой.
— Мои крокусы проросли! — гордо сообщила она. — Вон, уже целых два, видишь?
— А у меня книга вышла — видишь?
Она взяла книгу, прочитала название, полистала ее, но явно не знала, что ему сказать. Он показал ей форзац, где отвратительным пером и грязными чернилами еще на почте в Колейи написал: «Дживане и Ладисласу от любящего брата Амадея». Она прочитала надпись и снова задумалась. Вдруг на ее губах солнечным лучиком вспыхнула улыбка, словно прорвавшись сквозь пелену стеснительности, и она сказала:
— Прочитай мне что-нибудь отсюда! Пожалуйста! — И уселась на садовую скамейку, поставив ноги на бордюрный камень и оберегая их от сырости.
— Прямо сейчас?
— Сейчас, — сказала она, и в голосе ее послышались повелительные нотки.
Стоя перед ней в слепящем солнечном свете, Амадей открыл книгу и прочитал вслух первую страницу; потом помолчал и закрыл книгу.
— Словно написано много лет назад и не мной, а кем-то другим…
— Читай дальше, — потребовала Дживана.
— Не могу.
— А чем кончается?
— Зачем заглядывать в конец, пока не прочла всю книгу?
— Я всегда сперва смотрю в конец!
Он быстро глянул на нее, уютно устроившуюся на скамейке, открыл последнюю страницу и прочитал своим ломким голосом:
— «Дживан не отвечал по меньшей мере несколько минут. Он молча стоял, опершись о перила моста, и просто смотрел на реку, что быстро бежала под ними, пенистая, вздувшаяся от весеннего паводка, с мутной желтоватой водой. Наконец он поднял голову и сказал: «Если жизнь — это нечто большее, чем всего лишь краткое изгнание из тех краев, что лежат за пределами царства Смерти…»
Не дочитав до конца, Амадей вдруг умолк. Закрыл книгу и решительно положил ее на скамью рядом с Дживаной. Она беспомощно на него посмотрела. Дул ветер, солнце сияло в небе, обесцвечивая бледный холм, нависавший над домом.
— Это очень мрачная книга, — сказал Амадей, глядя Дживане прямо в глаза.
— Амадей, ты возвращаешься в Красной, верно? Он покачал головой.
— Но здесь же тебе совершенно нечего…
— Мое царство — здесь. И так было всегда. — Сунув руки в карманы, он резко повернулся и быстро пошел к воротам; но у ворот снова обернулся, словно желая что-то еще сказать ей, улыбнулся мимолетной извиняющейся улыбкой, пожал плечами и пошел прочь.
Дживана вскоре тоже ушла в дом; ей стало холодно на этом ветру; она чувствовала себя усталой и подавленной. Она прилегла у себя в комнате, скрючившись в какой-то неудобной позе, и сквозь наплывавшую дрему слышала голос Амадея во дворе, топот лошадиных копыт, потом по крыше и по окнам застучал дождь, и она крепко уснула.
— Может быть, он поехал в лес на охоту? — предположила Дживана поздним вечером, поскольку Амадей так и не вернулся. Ладислас, поглощенный долгожданным и слишком поздним ужином, кивнул и продолжал есть. Наконец он отложил нож и вилку.
— Уже два часа, как стемнело, — сказал он и встал. — Может, у него с лошадью что случилось?
Дживана только посмотрела на измученного мужа, но ничего не сказала.
Из лесу Ладислас вернулся уже после полуночи.
— Жиль решил с фонарем проехать дальше, до Колейи, — устало сказал он, и Дживана помогла ему стащить промокшие грязные сапоги. Разувшись, Ладислас устроился в кресле у самого огня и почти сразу уснул, так и не добравшись до постели. Страдая от бессонницы, связанной с ее беременностью, Дживана долго еще сидела рядом с мужем, подбрасывая в камин дрова; старый дворецкий принес несколько пледов и помог ей устроить Ладисласа поудобнее. Он проспал там почти до рассвета, проснувшись вдруг, точно от толчка. Дживана спала, свернувшись в соседнем кресле. В камине еще горел огонь. Ладислас, неслышно ступая, поднялся в комнату брата, убедился, что там никого нет, надел сапоги и вышел на крыльцо, навстречу белому ледяному рассвету. Из-за вершины холма, нависшего над домом, уже показался золотой краешек солнца; конюшни, двор, дом, деревья — все казалось мертвенно-бледным и каким-то застывшим в холодном утреннем свете. Ладислас поднял воротник, застегнулся и пошел на конюшню. Мальчишка-конюх спустился с сеновала ему навстречу.
— А где та уздечка, что я в Ракаве купил? — спросил у него Ладислас хриплым со сна и от холода голосом. — Ее что, дом Амадей взял?
— Да. И кобылу тоже.
— Ладно. Я съезжу в сторону Фонте по старой дороге, посмотрю. А ты скажи там, в доме.
Он вывел из конюшни свою небольшую вороную лошадку и двинулся через заиндевелый лесок вверх по склону горы; теперь восточные бока окрестных холмов были освещены уже полностью, и башня Радико золотилась в лучах солнца, бивших прямо из-за нее. Преодолев последний подъем и выехав на равнину, раскинувшуюся перед крепостью, Ладислас увидел кобылу Амадея, которая стояла примерно на середине того расстояния, что оставалось проехать до башни. Он подъехал ближе, и кобыла испуганно шарахнулась в сторону; поводья ее волочились по земле. Сделав несколько шагов, она наступила на поводья и остановилась, вопросительно повернув свою темную голову в сторону Ладисласа, нервно прядая ушами и искоса наблюдая за ним. Он не стал ее ловить и проехал мимо нее вверх по склону, прямо через разрушенную стену замка, потом спешился и поднялся по аппарели на второй этаж башни. Амадей был там. Он выстрелил себе в грудь, приставив охотничье ружье прямо к сердцу, и лежал навзничь, раскинув руки и чуть повернув голову набок. Его пальто было насквозь мокрым от дождя; волосы казались черными. Ладислас коснулся его руки, перепачканной землей; она была холодна — как эта земля, как этот дождь. А ветер все продолжал дуть среди холмов, над которыми высилась башня Радико, как и вчера, как и всегда прежде. Глаза Амадея были открыты; казалось, он смотрит куда-то на запад поверх разрушенной стены и холмов — куда-то в небо, где рассвет для него так и не наступил, а ночь все продолжалась.
Часть V. Тюрьмы
Глава 18
«В Ракаве, за стеной ее высокой…» Мелодия этой песенки все время звучала у Итале в ушах, пока он ехал из Эсте на по тряским поланским дорогам, сидя рядом с кучером, со всех сторон обдуваемый ветрами, вечно гулявшими среди холмов, полускрытых пеленой тумана и осеннего моросящего дождя и низко нависшими тучами. Сквозь дождь он впервые и увидел ту высокую стену. Когда подъезжаешь к Ракаве с севера, с равнин, то еще издали видишь, как огромное плоское пространство точно вспухает огромным округлым холмом высотой метров триста и с такими пологими склонами, что охватить взглядом эту гигантскую опухоль целиком практически невозможно, и лишь у широко раскинувшейся линии горизонта замечаешь наконец нечто похожее на рассыпавшуюся нитку жемчуга, и это нечто, когда подойдешь ближе, превращается постепенно в очертания прекрасного города, окруженного высокой стеной и построенного из белого и рыжеватого песчаника, с высокими башнями и мощными укреплениями. Однако если подъехать к Ракаве с юга, через верхний перевал, как это сделал Итале, то город, раскинувшийся внизу, виден как на ладони. В тот дождливый октябрьский день Ракава показалась Итале какой-то грязноватой. Дома расползлись далеко за пределы крепостных стен; башни толпились, как сгорбленные старухи, в лабиринте и суете улиц и казались куда менее значительными, чем массивные здания текстильных фабрик в северной части города. Когда-то Ракава славилась, как истинная жемчужина Восточной провинции и ее надежная защитница — Rakava intacta, неколебимая крепость Ракава, ни разу не взятая противником. Ныне же высокие ее стены были разрушены по меньшей мере в полусотне мест, и в эти бреши свободно входили и выходили люди, спешившие в город на фабрики или возвращавшиеся оттуда. Жизнь в Ракаве казалась довольно благополучной; промышленность здесь была куда более современной и развитой, чем в любом другом городе страны. Основное богатство города составляли шелк и шерсть; здесь разводили шелкопряда, производили шелковую нить, а также шерстяную пряжу, ткали и красили ткани, шили белье и платье. Вдоль северной крепостной стены высились огромные здания хранилищ и фабрик — нынешнее средоточие всей городской жизни, — и старинные твердыни, ранее служившие защитой феодалам, а теперь бесполезные, торчали, словно проржавевшие пальцы латной перчатки, на меловом склоне пустынного холма. Проехав под этими башнями, Итале со стесненным сердцем смотрел на их слепые, могучие стены. Одна из них, особенно мощная и совершенно лишенная окон, была печально известна как тюрьма Сен-Лазар; в другой, находившейся с нею рядом, но более высокой и снабженной хитроумной системой защиты, разместился Верховный суд провинции. В остальных башнях Итале не заметил никаких следов жизни; их потемневшие ворота были накрепко заперты. На узкие улочки Ракавы быстро спускались сумерки. Повозка со стуком катилась по скользкой от дождя мостовой. Вдруг одна из лошадей поскользнулась и упала, потянув за собой и вторую лошадь, которая с трудом удержалась на ногах, оборвав постромки. Итале, слетев со своего сиденья, тоже не устоял на ногах, поскользнувшись на мокрых камнях, и приветствовал старинную Ракаву, стоя на четвереньках, здорово ударившись головой и до крови ободрав ладони. Упавшая лошадь сломала передние ноги. Тут же, разумеется, собралась толпа, все теснее обступавшая лошадей и карету с пассажирами, так что Итале взял свой чемодан и, выбравшись из толчеи, поспешил прочь. Голова у него немного кружилась, в ушах все еще звенело от удара о мостовую. Спросив дорогу у какой-то женщины, он неторопливо пошел в гостиницу «Розовое дерево», где его поджидал Изабер.
Девятнадцатилетний Изабер, бывший ученик Итале, а теперь и сам школьный учитель и горячий поклонник «Новесмы вербы», страшно обрадовался встрече с Итале. Он приехал в Ракаву двумя днями раньше, все это время провел в полном одиночестве, что ему явно порядком надоело. Изабер говорил без умолку, пока Итале принимал ванну, которую заказал буквально в первую же минуту. Однако не помогла даже горячая вода: простуда, что пробралась в него во время долгого путешествия под дождем, явно уходить не желала, устраиваясь поудобнее в горле, в носу, в слезящихся глазах. Камин в комнате тоже горел не слишком жарко. Когда Итале вылез из остывшей воды и стал растираться полотенцем, то заметил двух здоровенных тараканов величиной с большой палец, обследовавших какое-то грязное пятно на полу.
— Да уж, роз в этом «Розовом дереве» явно нет, — заметил он.
— Ага! — подхватил Изабер. — А крысы ночью забираются даже на кровать. Жуткая дыра! Как и весь город, впрочем.
Итале передернуло.
— Подай мне, пожалуйста, рубашку, Агостин. Спасибо. Неужели здесь хуже, чем в трущобах Красноя?
— Конечно! Здесь вообще ничего нет, кроме трущоб. Все какое-то мертвое. И люди на крыс похожи. Даже разговаривать нормально не желают.
— Просто ты для них чужак. Ты же нездешний, не такой, как они. Все провинциалы очень подозрительны. Это я по себе знаю, я сам провинциал. — Итале почему-то всегда старался подбодрить Изабера, развеселить его, внушить ему уверенность в будущем и от этого чувствовал себя гораздо старше этого парнишки, хотя разница в возрасте у них была всего пять лет. А еще в присутствии Изабера он всегда отчетливо сознавал собственное лицемерие. — В общем, здесь тоже все-таки люди живут, — сухо подытожил он. — Пошли, я здорово проголодался.
— Я заказал баранину. Тут, собственно, больше и заказать-то нечего, — сказал Изабер уныло.
В мрачноватых глубинах гостиницы им подали жирную и не слишком вкусную еду, и, поужинав, Итале сразу улегся в постель: теперь он отчетливо понимал, что простудился, к тому же у него сильно разболелась кисть руки Я видно, неудачно подвернул, приземлившись на булыжную мостовую. Ему уже начинало казаться, что от приезда в Ракаву ничего хорошего ждать не стоит. Действительно, даже самое начало его путешествия сюда было неудачным. Ну почему, например, Амадей с таким безразличием отвернулся от него и не сказал на прощанье ни единого слова? Словно дождаться не мог, когда он наконец уедет! Под стеной, а может, уже и под кроватью, скреблась крыса. В комнате кисло пахло дешевыми сальными свечами. «Господи, и что я здесь делаю?» — думал растерянно Итале. Этот оставшийся без ответа вопрос еще усилил ощущение чужой страны, чужого города, чужой комнаты, затерявшейся в паутине незнакомых улиц и стен; даже его собственное усталое, но так и не сумевшее расслабиться тело стало в итоге казаться ему чужим. Боль в руке усилилась и теперь отдавала в плечо. Итале никак не мог найти удобное положение. Он ненадолго задремал, а когда проснулся, то почувствовал, что все умные мысли у него в голове окончательно померкли, а давление чуждого и враждебного окружения усилилось до такой степени; что, казалось ему, он и с места сдвинуться будет не в состоянии. Он лежал совершенно неподвижно, напряженно застыв, и чувствовал себя загнанным в ловушку беглецом. Однако спать все же очень хотелось, и он в полудреме, страстно мечтая крепко заснуть и проспать до утра, все повторял про себя почему-то: «Зачем я здесь? Что я здесь делаю?»
Даже утром это болезненное состояние души и тела покинуло его не совсем. И тот вопрос как бы вернулся к своей первоначальной форме и поджидал его среди камней Ракавы, как когда-то среди прекрасных фонтанов и садов Айзнара, точно позаимствовав у тамошнего антуража некий налет затаенной страсти; только в Ракаве не было никакой красивой тайны, здесь все было на виду, а потому и вопрос стоял просто и откровенно: «Что я делаю?»
Да, здесь не было ничьей отвлекающей внимание красоты, да и местность не способна была очаровать взор гостя. Само существование этого города зависело от его способности засасывать толпы людей в разинутые ворота фабрик, а потом выплевывать их наружу, выжатыми до предела, и эти процессы засасывания и извержения человеческих масс, вечно повторяющиеся и монотонные, как у некоей мощной машины, не соотносились ни с климатическими явлениями, ни с временами года, ни с теми изменениями, что происходят в полях, ни с часом рассвета и заката, ни с умениями или желаниями людей — хотя бы одного человека в этой безликой толпе!.. Так думал Итале, пробыв в Ракаве всего несколько дней. Ему казалось, что он пересек некую границу, к которой вполне осознанно приближался уже давно, но пока еще не совсем понимает, куда и зачем попал и сможет ли вернуться домой.
Он, разумеется, продолжал заниматься запланированными ранее делами: встречался с владельцами и управляющими фабрик, а также, пользуясь рекомендациями Орагона, беседовал с некоторыми из здешних политических лидеров и с предводителями различных рабочих группировок. Он изучал проблемы функционирования и организации предприятий, и на него огромное впечатление произвела та живая, мощная энергетическая система, которая, существуя здесь всего каких-то два десятилетия и только еще начиная входить в полную силу, успела уже полностью трансформировать жизни сотен тысяч людей. Через две недели Итале собрал столько материала, что сразу начал писать целую серию статей, которые — с иронией, понятной лишь ему самому, — назвал «Развитие промышленности в Ракаве». Он работал достаточно прилежно, быстро и сосредоточенно и казался поистине неутомимым. Однако ему все же приходилось избегать некоторых проблем как в своих статьях, так и в собственных потаенных мыслях, иначе они завели бы его в тупик, поставив перед ним тот же самый вопрос, на который он по-прежнему ответить не мог. Итале казалось порой, что здесь у него притупились все чувства, что он недостаточно остро ощущает окружающую его действительность, недостаточно ясно ее видит. А впрочем, даже это ощущение было каким-то невнятным, словно принадлежало не ему самому, а кому-то другому, существующему совершенно отдельно от него.
Изабер очень старался ему помогать во всем и чрезвычайно к нему привязался, но совсем не такой друг и соратник был сейчас нужен Итале. Верность этого мальчика была слишком сильно связана с его зависимым положением; Изабер постоянно требовал, чтобы Итале им руководил, подсказывал ему, обучал его. Ему даже в голову не приходило, что тот может сомневаться в себе или в поставленных перед ними целях. Он был уверен, что оба они работают во имя Свободы и это единственная верная цель в жизни. Порой безграничное доверие Изабера действовало на Итале успокаивающе, но порой оно же вызывало и страстное желание стать циничным «ниспровергателем истин». Впрочем, вслух он подобных желаний никогда не высказывал. Возможно, Итале и не имеет права заниматься тем, чем занимается, но у него, безусловно, нет никакого права разрушать систему верований и надежд Юного Изабера.
Дни проходили быстро, похожие один на другой. Миновал ноябрь; почти каждый день шел дождь, или мокрый снег, или дождь со снегом. Итале решил пока отложить свой отъезд и продолжал собирать материал для статей. Он все глубже погружался в эту проблему и в итоге написал Брелаваю, что, по всей вероятности, останется в Ракаве до Рождества, если хватит денег. Однако активная и деятельная жизнь Итале таила под собой совсем иную основу: им все сильнее овладевало некое душевное оцепенение, нежелание куда-то ехать, собираться, двигаться, возвращаться назад… Сейчас он был здесь; здесь он и хотел бы пока остаться. Итале продолжал посещать фабрики, внимательно наблюдая за работой мрачных грохочущих механизмов, испускавших из своих черных недр бесконечную паутину чистейшей белой шерсти, волны нежнейшего шелка и бархата всевозможных цветов и оттенков — всю эту великолепную продукцию прядильной и ткацкой промышленности. День ото дня он видел огромные вонючие чаны с красками и клеями, безумную пляску челноков, бесконечные лотки с листьями и шелковичными червями. Большая новая фабрика «Шерстяные изделия Фермана» купила два прядильных станка с паровым двигателем, первые в стране. Итале читал статью Санджусто о таких машинах — тот прислал ее, побывав в северных городах Англии, — и теперь Итале осматривал новые станки с любопытством и возбуждением исследователя; его и потом все время тянуло в эти цеха, просто чтобы посмотреть, как работают эти диковинные машины: его завораживало это бесконечное движение частей механизма и ловкие действия людей, как бы слившихся с этими машинами и утративших собственное, человеческое лицо. Он мог часами стоять, наблюдая за работой ткачей, восхищаясь и одновременно испытывая легкую тошноту. Эти люди совершали, в общем-то, те же движения и создавали тот же продукт, что и его сосед Кунней, работавший на примитивном станке в жалкой комнатенке на Маленастраде; все это были ткачи, а ткачеством люди занимались еще на заре цивилизации, так что же в этих машинах так очаровывало его и так пугало? Итале даже написал статью, в которой подробно описал устройство станков, их потенциальные возможности и неизбежное воздействие на всю экономику в целом, особенно при более широком применении.
— Как ты много об этом знаешь! — восхищенно заметил Изабер, читая его статью. — А название уже придумал?
— «Свобода для человеческих рук», — ответил Итале.
Рабочего, которому велели продемонстрировать Итале новый мощный станок, звали Фабре. Итале довольно быстро выяснил, что этот человек настроен весьма радикально, и у них даже возникли вполне дружеские отношения, хотя и скованные рамками осторожности с обеих сторон. Фабре жил с женой, тестем и пятью детьми в четырехкомнатном домике за городской стеной в восточной части Ракавы. Фабрика Фермана выстроила несколько десятков таких домишек для рабочих высокой квалификации; Фабре был как бы аристократом среди собратьев по классу, и обращались с ним соответственно. Домики были двухэтажные, к каждому прилегал небольшой дворик, обнесенный забором, но задняя дверь этих жилищ выходила прямо на чудовищно грязную улицу, где играли не менее грязные ребятишки, которым, похоже, даже в голову не приходило поиграть в своих «садиках». Эти домики произвели на Итале не меньшее впечатление, чем паровые машины на фабрике. Трущобы Ракавы в целом были такими же, как в Красное или любом другом крупном городе Орсинии; здесь даже грязь и нищета были такими же старыми, как и сами эти города, и бедняцкие кварталы существовали здесь от веку, но Фабре и его семейство бедняками уже не были; да и жилище их не было таким жалким и грязным; а если оно и производило не самое лучшее впечатление, то отнюдь не по причине нищеты, голода и болезней. Эти люди не сажали цветов в своих «садиках», считая их бесполезными, как не сажали и овощей, понимая, что их непременно украдут. Жена Фабре сказала Итале, что и стараться не стоит. Кроме того, супруги Фабре собирались вскоре переезжать в новые дома близ Восточных ворот, где, как похвасталась госпожа Фабре, «воду будут подавать насосом прямо во двор». «Компания очень даже заботится о нас», — сказала она. Это была чистая правда, но произнесла эти слова женщина с какой-то холодной иронией.
Итале хорошо знал, как живут крестьяне в Валь Малафрене; у них в домах всегда было тесно, темно и душно. Угол напротив очага обычно отгораживали для животных, и там, у всего семейства на виду, размещалась корова, а то еще и парочка свиней или коз. Огромное супружеское ложе стояло рядом с этим закутком; мебель — комод, стол, стулья — была неуклюжей, прочной, сделанной из дуба. В домах пахло сеном, навозом, не очень чистым постельным бельем, луком и дымом. Если у хозяйки имелась оловянная, медная или просто расписная глиняная посуда, то ее, как украшение, выставляли на полку, висевшую над столом. Хозяева этих домов не очень-то любили приглашать к себе посторонних, и гости там бывали не чаще, чем в барсучьей или лисьей норе. Чаще всего случайный гость оставался стоять на пороге, разговаривая с хозяйкой или хозяином, а многочисленные ребятишки пялились на него из глубины полутемной комнатенки. В таких местах, как Валь Малафрена, люди всегда жили за счет земледелия и главное свое внимание уделяли земле. Так что и дома богатых людей, даже аристократов, например Вальторскаров или Сорде, были, в сущности, устроены примерно так же, как крестьянские, только посветлее и попросторнее, ну и скот оттуда был, разумеется, убран. А вот дом Фабре, один из многих таких же домов, где жили «привилегированные» рабочие, был совершенно иным, и прежде всего по духу; это был настоящий квартал рабов, причем таких, которыми рабовладелец весьма дорожит. «Компания очень даже заботится о нас…»
Итале видел, как субботними вечерами эти люди собираются группками на улицах, мужчины и женщины, темноволосые, энергичные, совсем не такие, как когда в одиночестве бредут, направляясь на фабрику или возвращаясь оттуда. Он прислушивался к тому, о чем они говорят между собой на своем мягком, чуточку гнусавом диалекте: всегда только о работе и о политике. Он понимал, что они знают больше, чем простые крестьяне, да и хотят большего, надеются на большее. Он чувствовал их внутреннюю силу, их жажду справедливости, которая так долго нарушалась, но ему все время хотелось отгородиться от них, отгородиться от их бессилия, от их невольного стремления к насилию, от их примитивной жизни, от их умных, но таких примитивных, рабских мыслей и от тех, кто служил выразителем этих мыслей, — от таких, как Фабре. Но поступить так Итале не имел права. Он тоже был одним из них. Они могли договориться, могли научиться понимать друг друга. А вот одним из тех крестьян он почувствовать себя никогда бы не сумел и не смог бы представить себя на их месте: слишком велики были различия между ними — в жизненном опыте, в уровне знаний о мире, в общественных привилегиях, наконец. И ничто не могло пока что устранить эти различия, ничто не могло перекинуть мостик над этой пропастью, даже личная привязанность и любовь. Но здесь, в Ракаве, среди тех людей, которые понимали, ради чего трудится он, Итале Сорде, в его душе впервые зародились сомнения в собственном предназначении и конечной цели своих усилий. Если таков путь прогресса, то хочет ли он, чтобы такое будущее наступило? Да и хочет ли этого кто-либо еще, кроме самых богатых и могущественных людей, хозяев этих заводов и фабрик?
В Красное толпа на улицах собиралась легко, но так же легко и таяла; люди, утратив интерес, расходились быстро. Здесь же уличная толпа всегда как бы имела некий центр притяжения, и это был отнюдь не один-единственный, конкретный человек. Причем настроение этой толпы всегда было сложным, беспокойным, а временами и гневным. В Красное нечасто можно было услышать выступление уличного оратора, если не считать спонтанных споров или потасовок, то и дело возникавших на перекрестках Речного квартала. В Ракаве же, казалось, на любой улице можно было наткнуться на какое-нибудь собрание, хотя подобные собрания были строго запрещены губернатором Поданы. Любой человек, участвовавший в них, а тем более выступавший с речами, подлежал аресту, однако это никого не пугало. Люди по-прежнему собирались в группы, ораторствовали, устраивали дискуссии и митинги — в общем, жили активной жизнью, исполненной беспокойства и презрения к опасности. В них, казалось, можно было найти все то, о чем Итале еще студентом грезил в Соларии, и прежде всего чувство справедливости и мятежный дух. Но что потом? Восстание? Ведущее к какой цели? Происходящее в каких рамках?
Однажды ночью, во время беседы с Изабером, кое-что из сомнений Итале все же прорвалось наружу.
— Хотелось бы все же понять: для кого конкретно мы работаем? Для кого прокладываем дорогу? — вопрошал он. — Неужели для короля, для нашего старого герцога Матиаса? Значит, мы реставрируем конституционную монархию… Что ж, это хотя и несколько скучновато, но все же, возможно, лучший вариант из худших. Во всяком случае, это, безусловно, лучше, чем в поте лица трудиться во благо императора Франца и его правой руки, Меттерниха, ибо поднятое нами вооруженное восстание они способны сокрушить одним щелчком, а потом использовать как извинительный предлог, чтобы заодно придушить и любое стремление к национальной независимости. Это также лучше, чем помогать различным «братьям Ферман», разъясняя беднякам, как они смогут в будущем улучшить условия своей жизни и в итоге, возможно, сумеют даже совершенно распрямить свою вечно согнутую спину — особенно если при этом поднимут на своих плечах и братьев Ферман.
Изабер слушал его, затаив дыхание, и смотрел испуганно: никогда еще его старший друг не говорил с такой горькой откровенностью.
— Но по мере того, как люди станут более образованными… — заикаясь начал он.
— Образованными! — презрительно воскликнул Итале, но потом, посмотрев на хрупкого Изабера, исполненного революционного энтузиазма, и вспомнив вдруг, что сам же его и воспитал, а потому и несет за него ответственность, дал задний ход: — Ладно, забудь, что я тебе говорил, Агостин. У меня сегодня просто дурное настроение. Этот город действует мне на нервы.
Итале вернулся к своим статьям, а Изабер все никак не мог успокоиться: он то бесцельно бродил по квартире — друзья сняли двухкомнатную квартиру, поскольку это было дешевле, чем жить в гостинице, — то ворошил угли в очаге, то перекладывал бумаги на столе. Итале понимал, что парнишку нужно как-то подбодрить, однако не находил нужных слов, и его мучила совесть. Изабер по природе своей был ведомым, а он, Итале, всегда выполнял роль вожака, всегда шел впереди, ведя остальных за собой, все дальше и дальше, к свету… Вожак! То ли он просто перерос собственные амбиции, то ли их ему уже не хватает? Итале чувствовал, что та единственная свеча, что всегда освещала ему путь, мерцая в глубине его сложной, переменчивой, уязвимой души, вот-вот погаснет на ветру нового мира, равнодушного ко всему; ему было невыносимо трудно сейчас встать во весь рост в одиночку и стоять, зная твердо, на чем он стоит и куда намерен идти.
На следующий вечер у Итале была запланирована встреча с представителями профессиональной организации рабочих шелкоткацкой промышленности. Это была уже довольно мощная организация, несмотря на все запреты правительства относительно создания каких бы то ни было трудовых союзов. Мало того, представители этой организации требовали разрешения выступить с докладом на заседании ассамблеи в Красное, так что Итале никак не мог не встретиться с ними. Поскольку его литературный журнал не имел права открыто публиковать политические новости, их приходилось давать как бы косвенно, между строк — в общем, при любой возможности. В частности, для сбора и обработки подобных сведений он и приехал в Ракаву. Изабер на эту встречу не пошел. Беседа с рабочими прошла успешно, и после выступления Итале еще целый час задавали различные вопросы. Для него это была сущая ордалия, ибо он, в отличие от многих политиков, отнюдь не обладал неиссякаемым красноречием и, прежде чем отвечать, обдумывал каждое слово, так что все получалось довольно медленно, и аудитория постепенно теряла терпение, желая получать на заданные вопросы быстрые и точные ответы. Чувствуя накалившуюся атмосферу, Итале стал отвечать еще медленнее, еще осторожнее. Он слышал свой голос — сухие неуверенные интонации, — и щеки у него начали гореть от стыда за себя и от злости на этих людей, которые так терпеливо ждали его ответов, сидя напротив в своей поношенной одежде с умными усталыми лицами и такими нетерпеливыми умами, и так сильно жаждали разрушений.
— А чего ж ассамблея насчет Управления этого молчит? Чего она его не распустит? — кипятился худой рабочий с горящими глазами, когда Итале рассказывал о цензуре.
Итале, точно сдаваясь, поднял руки и рассмеялся. Его терпению пришел конец.
— А почему ассамблее не поставить под вопрос заодно и власть австрийского императора? Или Света и Тьмы? Да что она вообще может, дружище? Если ассамблея хоть раз впрямую усомнится в законности нынешнего правительства, то правительство просто ее распустит. Неужели вы тогда станете ее защищать? Устроите вооруженное восстание? Вы ведь сейчас на это напрашиваетесь. А вы готовы? По-моему, у вас нет ни оружия, ни союзников… Ну хорошо, предположим, мы поднимем восстание и даже одержим победу, а что потом? Что нам делать дальше? Вы отлично знаете, что именно вам в этой жизни не нравится. Что ж, мне тоже это не нравится, но кто из вас скажет мне, чего именно он добивается? Вот, например: уничтожим мы цензуру, и что будет дальше?
Итале чувствовал, что наконец обрел способность нормально выражать свои мысли и тут же настроил всех собравшихся против себя. Впрочем, он понимал, что это неизбежно. Они и должны были наброситься на него — во-первых, потому, что он чужак, во-вторых, потому, что принадлежит к среднему классу, — и все же они требовали, чтобы он дал им хоть какую-то надежду! Однако Итале, понимая, что пообещать им надежду означает предать их, стоял на своем и с сердитым и вызывающим видом, скрывая душевную боль, отвечал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, успешно отбивая атаки своих оппонентов.
После собрания один из руководителей организации, ткач по имени Кленин, догнал Итале в коридоре.
— Вы лучше вон из той двери выйдите, господин Сорде, — сказал он и заботливо потащил его в сторону от главного входа, где у крыльца собралась целая толпа.
— Неужели они так на меня разозлились? — возмущенно спросил Итале и тут же осекся, посмотрев Кленину в лицо. Это было искреннее, честное и умное лицо, похожее на лица многих других рабочих Ракавы, похожее на лицо Куннея, соседа Итале в Красное.
— Они не мешали нам проводить собрания и митинги аж с 21-го, — тихо пояснил Кленин, — но в последние дни вдруг стали хватать выступающих прямо на улице, а потом допрашивать их в полиции. Пугают, наверно… Но вам же будет спокойнее, если они вас не заметят. Вам сегодня и так досталось! — Кленин улыбнулся.
— По-моему, я сегодня всех разочаровал. Мне очень жаль…
Кленин внимательно и серьезно посмотрел на него. Глаза у него были абсолютно синие, это была теплая синева летних небес.
— Знаете, люди у нас все стараются выше краснойцев прыгнуть. А я, например, уважаю вас за то, что вы говорили честно, господин Сорде. Какой смысл притворяться, что все так легко будет?
Уже в дверях Итале сказал ему:
— Спасибо, Кленин. Большое спасибо! — Ему хотелось как следует поблагодарить этого человека за поддержку, ему внушали необычайную симпатию синие глаза Кленина и его тонкое усталое лицо, но он сумел всего лишь выдавить из себя это «спасибо» и крепко пожать этому славному человеку руку — единственное прикосновение рук и душ за весь вечер… А потом оба растворились в темноте, и звук их шагов заглушил шум дождя.
Глава 19
Итале был несказанно рад, когда наконец увидел в темноте над улицей светящееся окошко своей квартиры. Изабер, как и все уроженцы Красноя, всегда стремившийся хоть чем-нибудь поднять себе настроение, купил за гроши в лоскутной лавке темно-красную ткань и повесил на окна шторы, сквозь которые удивительно красиво просвечивала зажженная свеча. И, глядя на это винного цвета окно, Итале почувствовал, что у него на душе становится чуточку легче. По крайней мере, он здесь не один! Изабер все-таки молодчина — преданный, заботливый, эти вот красные занавески придумал… Итале взлетел по темной лестнице и прошел через площадку к своей квартире; на верхнем этаже плакал ребенок — тоненько и почти непрерывно. Пытаясь попасть ключом в замочную скважину, он услышал, как Изабер что-то крикнул: то ли «Входи!», то ли «Не входи!», и пока он колебался, удивленный этим криком, дверь перед ним резко распахнулась. Он увидел Изабера, который стоял у стола, и каких-то других людей; тот, что открыл дверь, был от него не более чем в полуметре. Первым побуждением Итале было отступить назад, к лестнице, но еще один человек бесшумно возник у него за спиной, спустившись с верхнего этажа. Постепенно осознавая, что вот-вот произойдет неизбежное, Итале глянул в лицо Изаберу, и выражение лица юноши еще сильнее встревожило его.
— В чем дело, Изабер? — спросил он.
Тот не ответил. Человек, распахнувший перед Итале дверь, спросил:
— Вы господин Сорде?
— Да, а вы кто такой?
— Войдите, пожалуйста, в квартиру.
Итале повиновался; за ним по пятам следовал второй тип, тот, что спустился сверху. Первый аккуратно закрыл за ним дверь, очень стараясь не шуметь.
— Итак, вы Итале Сорде, сотрудник столичного журнала «Новесма верба»?
— Да. — Возникла пауза. Итале некоторое время тупо смотрел в пол; второй полицейский стоял у него за спиной, точно деревянный истукан. — Может, присядете, господа? — предложил Итале уверенным, но несколько неприязненным тоном. Однако все продолжали стоять. Никто из них в лицо ему не смотрел. — Ну и стойте, ежели вам угодно, — сказал он и сел на свое обычное место за письменным столом.
— Это вы написали, господин Сорде?
Перед ним была его последняя корреспонденция, отосланная в Красной: две статьи и личное письмо к Брелаваю.
— Когда я в последний раз видел этот конверт, он был запечатан, — с отвращением заметил Итале и устало откинулся на спинку стула, чтобы хоть как-то заставить себя усидеть на месте и сдержать приступ бешеного гнева. — А что, это ваш профессиональный долг — вскрывать чужие письма, или же вы делаете это удовольствия ради?
— Это вы написали?
— А кто вы, собственно, такой?
— Моя фамилия Арасси, — раздраженно ответил этот «нежданный гость». Голос у него был довольно высокий, лицо умное, хотя и невыразительное.
— А моя — Сорде. Впрочем, это вы уже знаете. И, видимо, именно это, на ваш взгляд, не дает мне ни малейшего права задавать вам вопросы? Но все же хотелось бы знать: с какой стати вы оказались в моем доме и кто вы такие? Вы намерены предъявить мне ордер на арест или же просто пытаетесь меня припугнуть?
— Я отвечу вам только на один вопрос, все остальные могут и подождать. Да, вы арестованы, господин Сорде. Ну что, все в порядке, Гавраль?
Один из тех, что находились в комнате, мрачноватый молодой человек лет двадцати, кивнул.
— А вам лучше надеть пальто, господин Изабер. Эта квартира будет опечатана до конца следствия. Вы, господин Сорде, также можете взять с собой кое-что из одежды.
— Позвольте мне сперва взглянуть на ваши документы.
Арасси предъявил ему ордер, подписанный Кастуссо, начальником поланской полиции.
Изабер по-прежнему стоял как вкопанный. Итале подошел к нему.
— Пошли, Агостин, — сказал он и, чуть понизив голос, сердито прибавил: — Ну что ты замер, точно кролик перед удавом? Надевай пальто!
У Изабера на глазах выступили слезы, и он прошептал, глядя на Итале:
— Мне так жаль, Сорде!
— Ладно, бери пальто, и пошли.
В закрытой карете их доставили по темным, исхлестанным дождем улицам на вершину холма, к тому самому зданию, которое Итале видел, когда впервые въезжал в Ракаву. Здесь, в старинной башне с зубчатыми стенами, разместился Верховный суд. Очертания башни, мрачно проступавшие сквозь изморось, расплывались в свете фонарей, прикрепленных к крыше кареты. В теплой комнатке без окон и с весьма обшарпанными стенами Арасси кратко допросил арестованных в присутствии секретаря.
— Очень хорошо, господин Сорде, — сказал он, потирая лоб, словно у него болела голова. — Благодарю вас за исчерпывающее ответы. Вы и господин Изабер задержаны и останетесь здесь до судебного разбирательства.
— Каковы же выдвинутые против нас обвинения?
— Статья 15: деятельность, направленная на нарушение общественного порядка. Это самое распространенное обвинение, господин Сорде.
Не так уж он плох, этот Арасси, подумал вдруг Итале. Вежливый, усталый, суховатая ироничная манера говорить…
— Я знаю. Когда примерно состоится суд?
— Не могу сказать. Возможно, уже через несколько дней. Но обычно рассмотрение такого дела занимает около двух месяцев.
Арасси кивнул полицейским, и двое из них повели Итале и Агостина по коридору и куда-то вниз по длинной лестнице с каменными ступенями, потом вверх на три пролета, потом по извилистому коридору в какую-то темную комнатку. Когда они вошли, один из полицейских спросил с иностранным, немецким или чешским, акцентом:
— Господа, прошу сообщить: есть ли у вас при себе ножи, боевые или перочинные, или какие-либо иные металлические предметы? — Изабер машинально протянул ему свой перочинный нож; Итале — столь же машинально — этого не сделал. И очень удивился, на следующее утро обнаружив свой ножик у себя в кармане. — Очень хорошо. Спокойной ночи, господа. — Дверь камеры с громким щелчком захлопнулась.
— Что же вы… — начал было Итале, обращаясь к захлопнувшейся двери, и тут же отступил от нее в изумлении, увидев, что буквально в нескольких сантиметрах от него с топчана поднимается некая безликая фигура. Человек этот не то простонал, не то всхрапнул, но не сказал ни слова. Камера освещалась лишь тем скудным светом, что проникал сюда из коридора сквозь дверную решетку. Помещение было очень странным: до потолка метров пять-шесть, дверь в высоту тоже не меньше трех-четырех метров; в полумраке это создавало какой-то странный эффект. Бесформенная фигура на топчане, вынырнувшая из-под тюремного одеяла, явно была человеческой, хотя лица этого типа по-прежнему было не разглядеть.
— Ага, сокамернички? — воскликнул человек на топчане, и, только услышав это, Итале окончательно понял, что находится в тюрьме.
— Да, видимо, так, — подтвердил он. Ему очень хотелось расспросить этого «старожила», однако пришлось заниматься Изабером, которому явно было не по себе. Несчастный юноша, присев на корточки, раскачивался на каблуках взад-вперед и не говорил ни слова. Итале окликнул его, но он не отвечал и только продолжал раскачиваться. В конце концов Итале рассердился и, рывком поставив мальчишку на ноги, рявкнул: — Сядь! — И подтолкнул Изабера к скамье, тянувшейся вдоль двух стен камеры. — Да возьми же себя наконец в руки! — Он нарочно говорил с Изабером так грубо, и это подействовало: юноша уронил голову на руки и разрыдался. — Так, теперь рассказывай. Как долго они ждали меня в
квартире? — Итале намерен был во что бы то ни стало вытащить Изабера из омута бессильного отчаяния.
— Не знаю. Может, час… — прошептал Изабер, пытаясь унять рыдания. — Нет, я не помню!
— О чем они тебя расспрашивали?
— Не знаю. Я старался не отвечать. Я вообще ничего им не сказал! Пресвятая Дева Мария!.. — Он закрыл руками лицо. — Прости меня, Итале, прости!
— Послушай, Агостин: они ведь пытаются запугать нас, так будь добр, не доставляй им такого удовольствия, а?
— Ага, господа! Вы, как я понимаю, политики? — воскликнул их сокамерник довольно язвительно; лица его по-прежнему видно не было.
— Да. Моя фамилия Сорде. — Итале не знал, нужно ли ему представляться, но сделал это на всякий случай. Изабера, который все еще плакал, он представлять не стал.
— Сорде? Вы из Красноя? Какая честь! Не то чтобы я этого не ожидал, но честь-то какая! — Человек засмеялся — резким, каким-то заискивающим смешком. — А я Дживан Форост. Я через несколько дней на волю выхожу, так что у вас, господа, местечка будет побольше.
— Это, должно быть, тюрьма Сен-Лазар? — спросил Итале, припоминая, что обе башни, суд и тюрьма, соединены друг с другом.
— Сен-Лазар? Да вы шутите! Нет, это Верховный суд, а никакая не тюрьма! Вы посмотрите как следует — это же настоящий дворец! Одеяла, освещение, окно — все удобства. А я думал, что политические лучше знают, как настоящие тюрьмы-то выглядят. А с этим малышом что случилось? — Форост встал и подошел к Изаберу, волоча за собой одеяла, в которые был завернут, как в кокон.
— Оставьте его в покое, — буркнул Итале.
— Ах, ему к мамочке захотелось! — насмешливо сказал Форост. — Ничего, пусть поплачет. Только не всю ночь! Выбирайте себе кроватки, господа, места тут хватает. В Сен-Лазаре в такую камеру по сорок человек набивают. Параша вон там, в углу. Доброй вам ночи, господа. — И Форост снова затих, закутавшись в одеяла.
Итале еще немного пошептался с Изабером, убедил его прилечь и улегся сам, вдруг почувствовав смертельную усталость. Форост и не подумал делиться с ними одеялами, однако скамья была покрыта какой-то дерюгой, а в камере хоть и было прохладно, но ниоткуда не дуло. Итале, вытянувшись на скамье с закрытыми глазами, сразу почувствовал себя значительно спокойнее. Из головы разом вылетели все мысли, и он провалился в глубокий и мирный сон.
Форост пробыл с ними неделю, так и не сказав, за что его арестовали. По всей видимости, он был каким-то мелким чиновником, однако даже этого им выяснить не удалось, настолько туманно он всегда выражался. Он, впрочем, был совершенно уверен, что его вскоре выпустят, и его действительно выпустили. «Друзей наверху иметь надо!» — заметил он, как всегда гнусно хихикая. Надо сказать, он весьма подробно описал тюрьму Сен-Лазар, но так и не сказал, то ли сам сидел там, то ли просто бывал, то ли пересказывает какие-то слухи. Он сказал, например, что в этой тюрьме в камеру на двадцать человек сажают по сотне заключенных, причем больные и здоровые, безумцы и нормальные люди, закоренелые убийцы — настоящие звери! — и мелкие воришки сидят все вместе. В камерах кишат крысы, вши, блохи, клопы; людей косят тиф, сыпной и брюшной, и оспа, дважды за последние сорок лет, по словам Фороста, «вычистившая всю тюрьму». А во многих камерах-одиночках, что находятся ниже уровня земли, зимой на полу стоит вода по колено…
— Вот это настоящая тюрьма! — говорил Форост с восхищением. — Только вы, господа, для нее не годитесь. Бунтовщики — тех, конечно, туда сажают; их там, в Лазаре, много — это все люди простые, рабочие. Этих под замок посадят, да и дело с концом. А вы, господа политические, только хлопот прибавите. Так что вы оба пока что суда даже не ждите. Им-то ни к чему куда-то там вызывать вас, допрашивать, приговор выносить. Куда им вас после приговора девать-то? Вот если им из столицы приказ придет, из Красноя: мол, вынести приговор такому-то, они, конечно, обязаны будут заседание провести, да только куда они потом приговор сунут, одному богу известно. Так что, чем дольше вы тут прождете, тем целее будете. А шесть месяцев пройдет, так вас и без суда выпустят. По закону. Здесь такое часто бывает. Остудят кому-то пыл, да и выпустят на свободу. Небось человек-то отсюда сломя голову побежит, а им и беспокоиться больше не придется.
Итале слушал Фороста с интересом, но, в общем, довольно равнодушно. Шесть дней или шесть месяцев — все равно он ничего поделать не мог. И, возможно, этот Форост прав. Итале вспомнил о своей давнишней выходке — в университете Солария — и о домашнем аресте, который последовал в качестве наказания за те стишки на церковных дверях. Ну и что? Теперешнее заключение было ненамного хуже. Улегшись на скамью и подложив под голову вместо подушки свои башмаки, он напевал себе под нос, глядя на слабый луч света, падавший из окошка под потолком:
— «…Людям ведь невдомек, какой страшный урок господа эти дать им решили».
— Давай-давай! — заметил Форост, ловко подрезавший себе ногти с помощью перочинного ножичка Итале. — Устрой нам концерт.
— Не угодно ли послушать это, господа? — усмехнулся Итале. — «За тьмой ночной придет рассвет, твой, о Свобода, день наступит вечный!..»
Форост только хмыкнул, а Изабер испуганно уставился на Итале. Юноша все еще казался страшно подавленным и большую часть времени молчал, погруженный в мрачные раздумья.
— А что пели там, откуда ты родом? — спросил Форост у Итале.
— Во всяком случае, не тюремные песни. Вот у вас что, например, поют? — Итале запел песню, которую слышал в Эстене: — «В Ракаве, за стеной ее высокой…» — хотя помнил только первую строчку; Форост тут же подхватил довольно приятным тенорком, а потом сказал:
— Да уж, это точно не тюремная песня! Это песня очень хорошая, старая. — И он запел какую-то монотонную, но исключительно непристойного содержания балладу. Итале внимательно его слушал, благодарный за развлечение. Ему нравилось, что Форост никогда ни на что не жалуется. Когда его выпускали на волю, он весело простился с ними, шутливо раскланявшись и пожелав «успехов в жизни», а под конец сказал: — Счастливо оставаться, Робеспьер! И ты, сынок, не плачь обо мне!
Итале было искренне жаль с ним расставаться. В данной ситуации веселые шутки, даже самые глупые, казались ему куда более ценными, чем благородная угрюмость. Он даже совсем не рассердился, когда Форост категорически отказался вынести и отправить его письмо друзьям. Действительно, у этого человека не было никаких резонов рисковать собственной свободой и никакой надежды получить хоть какую-то выгоду от той игры, в которую играл Итале.
Но все же заключение действовало на нервы, а еще больше — невозможность написать хоть слово кому-то из друзей или родных и хотя бы сообщить, что они с Изабером живы и здоровы.
Изабер, почувствовав, что после ухода Фороста Итале помрачнел, тут же снова впал в апатию, перемежаемую приступами отчаяния и самобичевания.
С час они молчали, а потом Итале неожиданно уснул и довольно долго проспал, а когда проснулся, то, увидев Изабера в прежней позе, погруженным в мрачные мысли, испытал вдруг приступ такой ненависти и отвращения к этому жалкому мальчишке, что даже сам испугался. Он отвернулся, стараясь взять себя в руки, и принялся насвистывать рондо Моцарта, которое часто исполняла Луиза. Потом встал и громко заявил:
— Нет, мне решительно необходимо двигаться! Нужны физические упражнения. Интересно, можно ли добраться до этого окошка? Попробуй-ка встать мне на плечи, Агостин. Ну же, вставай!
Так их и застал охранник, который принес им ужин — суп и хлеб: Изабер, покачиваясь, стоял на плечах Итале и, цепляясь за решетку окна, громко описывал то, что видит снаружи.
— Немедленно прекратить! Эй, стража! — взревел охранник, здоровенный шваб, который настолько испугал своим криком Изабера, что тот буквально свалился на пол. А Итале принялся хохотать. — И не думайте даже! Отсюда вам нипочем не убежать! А этого нельзя!.. Запрещено! — ревел охранник. Изабер тоже засмеялся.
— Так вы о побеге? Неужели мы так на Дюймовочку похожи? — с трудом выговорил Итале сквозь смех. Шваб, совершенно сбитый с толку этим весельем, с досадой махнул рукой страже, явившейся на его зов. — Это запрещено, господа! Уж как хотите, а по стенам у нас лазить нельзя!
Итале чуть не умер от смеха, Изабер тоже смеялся от души. Оба были приятно возбуждены физическими усилиями и идиотскими рассуждениями шваба. После этого случая они каждый день по очереди забирались друг другу на плечи, чтобы полюбоваться в окно горбатыми крышами города и кусочком серых зимних небес. Итале приходилось довольствоваться малым: для Изабера он был слишком тяжел. Изабер вообще был слабоват. Он родился в портовых трущобах и рос сиротой: его выходили в приходском благотворительном приюте, где он, к счастью, и обрел кров над головой, так что с самого начала жизнь его была очень тяжелой и ничего ему не обещала. Мучная затируха, которую им давали в тюрьме вместо супа, вызывала у него колики, а ужасные головные боли, вызванные пережитым потрясением, не давали спать по ночам.
В одну из таких ночей — это была восемнадцатая ночь, проведенная ими в камере, — оба узника не спали. По мере того, как спокойная, почти веселая готовность на все, свойственная первым дням его пребывания в тюрьме, начала улетучиваться, Итале, словно наверстывая упущенное, стал страдать от нарушения как физической, так и умственной деятельности своего организма, однако, словно компенсируя это, он одновременно стал более терпимым к упадническим приступам настроения у Изабера. В ту ночь Итале испытывал особенно сильные угрызения совести по поводу своих нападок на несчастного юношу и особенно сильно ему сочувствовал. Услыхав, как тот ворочается и вздыхает, Итале сел и спросил:
— Голова болит?
— Да.
— Хочешь, поговорим немного?
Изабер приподнял голову, но продолжал лежать, опершись на локоть. В камере никогда не было совершенно темно, как, впрочем, никогда не было и достаточно светло, так что Итале видел лишь неясный силуэт своего юного друга.
— Знаешь, мне очень жаль, что из-за меня ты оказался впутанным в эту дурацкую историю, — смущенно начал Итале. — Я был неосторожен, я играл с твоей жизнью, не имея на то ни малейшего права. Сперва, правда, мне было еще хуже: я думал только о том, что виноват перед тобой… Но сейчас я бы хотел сказать тебе совсем о другом: как бы то ни было, а я очень рад, что сейчас ты со мной! Не знаю, как бы я тут продержался все это время без тебя. Без твоей дружбы. Вот, собственно, и все.
— И я бы в любом случае предпочел оказаться вместе с тобой в тюрьме, чем остаться на свободе! — пылко воскликнул Изабер. Оба вздохнули с облегчением, а Итале заметил:
— И все-таки лучше бы мы оба оказались не в тюрьме, а где-нибудь еще. Но раз уж так сложилось…
Больше они друг другу ничего не сказали, и вскоре Изабер заснул. В темнице было холодно; в тот день в Ракаве впервые выпал снег — они видели это, по очереди выглядывая в свое узкое окошко под потолком. Итале, пытаясь заснуть, свернулся под тонким одеялом клубком, потом надел пальто и только тогда наконец согрелся и уснул. Сны ему снились удивительно живые, яркие и страшные. В предыдущие восемнадцать ночей ему снились все больше открытые пространства, знакомые лица и голоса, горы на горизонте, а в эту ночь все началось с кошмара. Ему снилось, что он находится в одной из тюремных камер и пытается вымыть руки, которые очень грязны, и столь же грязны стены и пол темницы, причем грязь какая-то черная, точно сажа, и маслянистая на ощупь. Однако таз для умывания почему-то наполнен кислотой — такой кислотой пользовались в типографии, где печатали его журнал, — и Форост ему говорит: «Ничего, зато она сразу все смоет». — «Но не могу же я умываться типографской кислотой!» — возражает Итале. И тут вмешивается Амадей Эстенскар и говорит с усмешкой: «А это вовсе и не кислота. Посмотри, таз-то цел! Чего ж ты боишься?» Вдруг над тазом поднимается легкий желтоватый дымок: это растворяется металл. А потом дымящаяся кислота начинает вытекать из таза и расползаться по столу и по рукам Итале, проедая в деревянной столешнице и в плоти рук бороздки, точно червь-древоточец. Но никакой боли он не чувствует и, стоя на коленях, вглядывается в образовавшееся на месте развалившегося таза озеро, в темной воде которого еще видны куски изъеденного кислотой металла. Руки у Итале обнажены и по локоть погружены в чистую холодную зеленую воду озера, уровень которого медленно повышается. Подернутая легким туманом поверхность воды все ближе и ближе подступает к его глазам. С огромным трудом отрываясь от нее, он смотрит вверх и видит вокруг спокойные глубокие воды какого-то озера. На темной воде играют блики. На дальнем берегу озера высится черная знакомая тень: это гора Охотник. Ее вершина отражается в воде почти у самых глаз Итале. Но за горой не видно ничего — ни в воде, ни в воздухе; вокруг лишь бескрайний простор небес, уже бледнеющих и меркнущих после недавнего заката…
Итале проснулся, весь дрожа. На потолке камеры играл бледный отсвет — отражение только что выпавшего снега.
В тот день им сообщили, что суд рассмотрит их дело уже завтра, причем Изабера вызовут на заседание суда утром, а Итале — днем. Изабер сразу повеселел, а Итале на сей раз почему-то помрачнел. Если Форост знал, о чем говорит, то, по всей видимости, радоваться тут нечему, ибо чем позже начнется разбирательство, тем лучше. Но свои сомнения Итале оставил при себе и на следующее утро с улыбкой проводил Изабера, пытаясь поверить или хотя бы изобразить, что верит, будто все будет хорошо. Изабер вернулся еще до полудня.
— Меня оправдали! — закричал он еще до того, как охранник отпер дверь в камеру. — Я свободен!
Итале почувствовал прилив ошеломляющей радости, облегчения, надежды; он со слезами на глазах обнял Изабера и все спрашивал:
— Так ты теперь свободен? Свободен, да?
— Мне велено уже сегодня вечером уехать из Ракавы, а в среду к полудню пересечь границу провинции Полана. Идиоты! Неужели они думают, что я только и мечтаю, что тут остаться? — И он разразился громким, нервным, но тем не менее победоносным хохотом.
Итале, тоже радостно смеясь, снова обнял его.
— Слава богу! Я уж, в общем-то, и не надеялся… — пробормотал он. — Но зачем ты сюда-то вернулся?
— Я попросил, чтобы мне позволили подождать, пока не рассмотрят твое дело. И ты знаешь, они сразу согласились! Они оказались совсем не такими мерзавцами, как я думал… Хочешь, я расскажу, как там все было? — И он принялся рассказывать — чересчур эмоционально и не слишком складно, — и вспыхнувшая было надежда в душе Итале начала угасать.
— Защита, представитель которой с нами даже ни разу не поговорил, — вещал Изабер, — это, конечно, чистейший фарс! И вообще весь этот судебный процесс…
— Что ты удивляешься? Таково имперское правосудие, — попытался несколько унять его возбуждение Итале. — Так что все-таки сказал адвокат, Агостин? Он хоть что-нибудь сказал?
— О да! Он, например, говорил о том, как я молод и неопытен, и вообще нес всякую чушь… Но ничего существенного я не услышал. — Он вдруг смутился, и Итале понял, что он пытается что-то скрыть, возможно, заявление адвоката о том, что его, Изабера, ввели в заблуждение некие «старшие товарищи». Изабер, будучи парнишкой сообразительным, сразу понял, что Итале заметил его оплошность, и обоим стало неловко: казалось, они больше уже не доверяют друг другу, а всего лишь притворяются. Но главное, думал Итале, все же то, что Изабера отпускают на свободу. В принципе, это судебное разбирательство — пустая формальность; какая разница, что там сказал или не сказал адвокат!
Когда явился уже знакомый им шваб, чтобы отвести в зал суда Итале, Изабер попросил, чтобы ему разрешили проводить друга. Охранник милостиво разрешил ему это, однако войти в зал суда Изаберу все же не позволили; друзья даже не успели обменяться рукопожатием, так торопил Итале второй охранник.
В зале суда к Итале подошел адвокат, высокий мужчина с печальными глазами, самый обыкновенный государственный чиновник. Их беседа заняла не более пяти минут.
— Видите ли, все дело упирается в написанные вами статьи. Вы подтвердите, что это именно вы их написали?
— Там же стоит моя подпись. Разумеется, это я их написал!
— Так, хорошо. Кроме того, вы выступали на собрании рабочих — седьмого числа; а двадцатого — еще на одном собрании.
— И это правда.
— Вот как? Ну хорошо. В таком случае мы признаем и эти факты и сдадимся на милость судей. Итак, вы обвиняетесь в…
— Я знаю, какое обвинение мне предъявлено. А чего я могу ожидать от милостивых судей?
— Главное — не просите слова, — сказал вдруг адвокат, потупившись и вроде бы изучая разложенные на столе документы; при этом он почесывал плохо выбритую щеку, чтобы издали невозможно было уловить движение его губ. — Поверьте мне, господин Сорде! Главное — не пытайтесь защищать себя.
Итале понимал, что адвокат прав.
Обвинение и защита выступали в целом не более четверти часа, и все это время трое судей непрерывно переговаривались, совещаясь друг с другом. Когда чтение обвинительного и оправдательного актов было закончено, сидевший слева судья что-то спросил у судебного клерка, взял у него какой-то листок и громко прочел:
— Согласно показаниям свидетелей и признанию самого обвиняемого, а также следуя рекомендации начальника Государственного полицейского управления города Красноя, в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса, принятого 18 июня 1819 года, суд объявляет подсудимого Итале Сорде виновным в организации и осуществлении противозаконных действий, ведущих к нарушению общественного порядка и создающих угрозу общественной безопасности, и приговаривает его к пяти годам тюремного заключения без участия в принудительных работах. Приговор должен быть приведен в исполнение незамедлительно.
Судья положил текст приговора на стол и снова что-то сказал клерку. Итале напряженно ждал, что судья прибавит что-то еще, но адвокат, сидевший с ним рядом, что-то пробормотал себе под нос и, глядя на Итале, покачал головой. Послышался скрип стульев. Судьи дружно встали и покинули зал; двое из них были по-прежнему поглощены беседой друг с другом. Вновь появились те же охранники, что привели Итале сюда. Двигались они как-то неестественно резко и напоминали деревянные фигурки, что появляются в настенных часах вместе с боем.
— Идемте же, господин Сорде! — услышал Итале голос одного из них, и только тут до него дошло, что охранник, должно быть, давно уже повторяет эти слова. Итале встал и поискал глазами адвоката, надеясь, что тот все же объяснит ему, что происходит, но адвокат уже ушел. В зале вообще никого не осталось, кроме судебного клерка, который по-прежнему что-то писал за длинным судейским столом.
— Да идемте же, наконец! — в очередной раз сказал охранник, начиная сердиться, и Итале двинулся к двери в сопровождении двух охранников. Пройдя по коридору, они вышли на заснеженный двор. Впервые за три недели Итале смог вдохнуть свежий морозный воздух, и у него перехватило дыхание от ледяного восточного ветра, из глаз брызнули слезы. Он растерянно огляделся. Двор был со всех сторон окружен черными стенами, соединенными между собой железной решеткой.
— Прошу вас, позвольте мне попрощаться с Изабером, — вежливо обратился Итале к охраннику, и собственный голос показался ему тихим и тонким, как у ребенка.
— А это еще кто?
— Изабер, мой друг… Его дело слушалось сегодня утром…
— Не положено. Эй, Томаш, куда его девать-то?
— У Ганея спроси, — откликнулся охранник, стоявший сзади.
— Так ведь у него специальное предписание, — с сомнением в голосе проговорил первый охранник.
— Ну да, вот ты и спроси у Ганея. Эй, здесь осторожней!
Итале обернулся было и тут же поскользнулся на льду. Охранник грубо схватил его за плечо, и от этого он сразу потерял равновесие и упал прямо на обледеневшие камни тюремного двора. Он с трудом поднялся на четвереньки, потом выпрямился, и охранники быстро повели его в башню Сен-Лазар. Он шел, точно слепой — откинув голову назад и держась очень прямо. В голове гудело, во рту чувствовался привкус крови.
Когда Итале, взяв себя в руки, снова стал понимать, что происходит вокруг, то обнаружил, что стоит в маленькой темной холодной камере. Слабый свет едва проникал туда сквозь зарешеченное окошечко в верхней части двери. Камера напоминала колодец: потолок был очень высоко, а площадь — четыре шага в длину и три в ширину. В камере имелась скамья для спанья, по длине вроде бы для него вполне достаточная, а под скамьей — вырытая в земле и прикрытая крышкой яма. Здесь было очень холодно и сыро, как бывает глубоко под землей в пещере или в подвале, однако воздух был спертый. Где-то далеко слышался плач ребенка — тоненький, сердитый, непрерывный. Итале почему-то казалось, что это тот самый ребенок, плач которого он слышал, поднимаясь по лестнице, в ту ночь, когда его арестовали. Конечно, это было глупо. Это никак не мог быть тот же самый ребенок. Итале подошел к двери и попытался выглянуть наружу, но увидел лишь коридорную стену напротив. Он довольно долго простоял, глядя на эту стену. Садиться не хотелось. Ему казалось, что если он сядет, то это будет означать, что он смирился и намерен здесь остаться.
Наконец с той стороны к его двери подошел какой-то охранник, но не в мундире, а в штатском. Это был пожилой крупный мужчина, ростом даже выше Итале, с квадратным серым лицом. Он велел Итале переодеться.
— Я не желаю надевать это тряпье, — заявил Итале, брезгливо глядя на груду серых лохмотьев, которые охранник положил на скамью.
— Таковы правила. Но пальто вы можете оставить.
— Но я не желаю надевать это! — повторил Итале, чувствуя, как дрожит его голос, и стыдясь собственной слабости. — Я хотел бы… — начал было он, стараясь скрыть свое смущение, и умолк.
— Не беспокойтесь. Все ваши вещи будут в полной сохранности; все опишут и опечатают по правилам. — Этот охранник, как и Арасси, говорил твердо и уверенно, но все же будто пытался его успокоить; таким тоном иногда разговаривают со своими хозяевами хорошо вышколенные слуги. Так что Итале пришлось подчиниться, и он принялся расстегивать рубашку.
— Мне необходимы письменные принадлежности, — сказал он охраннику.
— Какие еще принадлежности?
— Ну, чернила, бумага и что-нибудь, чем можно писать.
— Это у начальника тюрьмы надо спросить. У вас ведь специальное предписание! — Как и те два охранника, он произнес эти слова уважительно и зловеще. Говорил он громко и, вероятно, был глуховат. Итале сразу узнал тот серый материал, из которого была сшита его тюремная одежда: такую ткань делали на здешних фабриках из вторичного сырья, попросту из шерстяных тряпок, и называли «шодди». Но все эти мысли промелькнули где-то на периферии его сознания. Он все еще не до конца осознал то, что с ним произошло.
— А откуда здесь ребенок? — вдруг спросил он. — Я слышу, как он плачет. Почему он здесь?
— Так он тут и родился. Мамаша-то его тоже в одиночке сидит. Правда, ее скоро опять в общую камеру переведут. — Охранник аккуратно сложил вещи Итале и протянул ему пальто. — Пальто-то оставьте, все теплее будет, — посоветовал он. Он вообще держался вежливо и доброжелательно. Забрав вещи, он вышел и запер за собой дверь.
Тюремная одежда, чересчур широкая и грубая, оказалась очень колючей, а вот грела плохо. Итале надел поверх нее свой нарядный жилет и теплый сюртук цвета сливы, которые, впрочем, уже успели изрядно испачкаться и измяться после трехнедельного пребывания в камере предварительного заключения. Так стало гораздо теплее. А ощутив ласковое прикосновение шелковой подкладки в рукаве сюртука, он даже на минутку испытал замечательное ощущение покоя и счастья.
Он наконец сел и задумался.
Итак, он пробыл в башне три недели, ровно двадцать один день, но это теперь позади. Тот судья что-то такое говорил насчет пяти лет, но это, похоже, не означает, что он проведет в тюрьме целых пять лет. Это же просто невозможно! Это слишком долгий срок, под конец этого срока ему уже стукнет тридцать. Три недели он и так уже отсидел, неужели трех недель не достаточно? Сейчас декабрь. Затем наступит январь, потом февраль… Итале с трудом заставил себя не перечислять вслух названия всех двенадцати месяцев. Охранник принес суп — точно такую же мучную затируху, — и Итале все съел. Пустую миску унесли, а через некоторое время унесли и фонарь из коридора, так что в камере стало абсолютно темно. Но потом глаза немного привыкли к этой непроглядной черноте и стали различать очертания предметов, едва заметных в странном, как бы очень далеком мерцании света, должно быть, отражавшегося от каменных стен камеры. Ночь казалась бесконечной. Иногда мысли вдруг оживали и начинали бешено, беспорядочно скакать, а порой голова работать вообще не желала. Сердце то бешено стучало в груди, потом вдруг замирало и почти останавливалось, а потом вдруг снова неслось вскачь. Итале пытался считать минуты по ударам сердца. Ему казалось, что он сходит с ума. В этой безнадежной темноте, буквально распухшей от бездействия и отсутствия каких бы то ни было событий, не ожидая ровным счетом ничего ни от прошлого, ни от будущего, он странным образом радовался, даже когда его больно кусали паразиты, которыми кишела жалкая подстилка на скамье: это все-таки были проявления реальной жизни.
Ночь совершенно его измучила, и, когда наступил рассвет, он все утро продремал, спокойно свернувшись калачиком на своем убогом ложе. В полдень двое охранников вывели его во двор на прогулку. Дворик был совсем маленький, шагов по сорок в длину и ширину. Снег здесь был утрамбован настолько, что напоминал серо-черную брусчатку; кое-где у стен виднелись желтоватые потеки мочи. Одновременно на прогулку вывели пятерых заключенных, за которыми бдительно наблюдали двое охранников; разговаривать было запрещено. Один из арестантов совершал этот обряд методично, явно стараясь заботиться о своем физическом здоровье: он неторопливой рысцой бегал по кругу, на бегу поднимая и опуская руки, делая вдохи и выдохи. Итале понимал, что этот человек поступает правильно, но никак не мог заставить себя делать то же самое. Колени были как ватные. Нет, необходимо взять себя в руки! Необходимо как-то приспособиться! Он просто обязан сделать это! Обязан что-то придумать — хотя бы наилучшим образом использовать время, отведенное для прогулок; а также постараться и в камере делать физические упражнения… И вообще, нужно в первую очередь спланировать свое время, нужно научиться как-то его измерять и использовать со смыслом. Причем начинать следует немедленно, прямо сейчас, и пусть это безумно трудно, но он должен хотя бы разок пройтись по этому двору, как можно глубже вдыхая свежий воздух! Итале заставил себя сделать это. Когда он проходил мимо одного из охранников, тот остановил его и спросил:
— Это с тобой, что ли, на суд вызывали того парня, что прыгнул? — Этого охранника Итале не помнил. Он был тощий, краснолицый и говорил с каким-то странным акцентом, к тому же у него не хватало большей части зубов. Так что Итале не был уверен, что понял его правильно. — Ну этого, Изабея? — снова спросил охранник.
— Изабера… А что с ним?
— Он что, спятил? Его ведь освободили, верно?
— Что вы хотите этим сказать?
— Так для чего же ему это понадобилось-то? Господи, глупость какая, там ведь метров тридцать высота! Спятил он, что ли?
— Заткнись, Анто, — сказал второй охранник и даже замахнулся на первого.
Итале поспешил отойти подальше. Ему безумно хотелось опуститься на колени и сунуть руки в снег — пусть станут ледяными, пусть отмерзнут совсем!.. Да только снег здесь был покрыт твердой грязной коркой. Через несколько минут охранники велели заключенным идти внутрь; он подошел последним, чувствуя, что все остальные на него смотрят, но не в состоянии даже поднять глаза. Когда его снова заперли в камере, он лег на скамью и закрыл глаза. Но думал не об Изабере. Он вспоминал тот день, когда они с Эстенскаром ездили на охоту в лес. Амадей стоял у него перед глазами, точно живой; он, казалось, настолько отчетливо слышал его голос, улавливая даже мельчайшие интонации, что даже произнес его имя вслух, правда, очень тихо, и все же звук собственного голоса испугал его. Он лег ничком, уткнувшись лицом в согнутые руки, и затих. Знакомые цвет и запах ткани успокаивали. Итале еще глубже уткнулся в складки рукава, точно ища поддержки.
— Прошу встать. Идемте, господин Сорде.
— Куда еще? — со злостью спросил он, садясь и чувствуя легкую дурноту. — Оставьте меня в покое!
— В кузницу, господин Сорде, — равнодушно сообщил охранник. — Идемте.
Когда Итале понял наконец, зачем его хотят отвести в кузницу, то вцепился в скамью обеими руками и упрямо не двигался с места, повторяя с каким-то странным, задушенным смехом:
— Ну уж нет! Никуда я не пойду! Во всяком случае, в кузницу я точно не пойду… Вы что, хотите, чтобы я сам сунул голову в петлю?
— Идемте, господин Сорде, таковы правила. Придется их выполнять.
— Ни за что! — отвечал Итале.
Явились еще двое охранников. Они умело и без особой жестокости подхватили Итале за руки и за ноги и, точно лягушку, потащили в тюремную кузницу и не выпускали, пока кузнец не приладил ему к ногам кандалы, довольно свободные, впрочем, а потом отнесли его обратно, в тесную, темную и холодную камеру, примкнули короткую цепь к кольцу на ноге и к скобе, вделанной в стену, и ушли. Итале весь дрожал, из глаз у него текли слезы, с уст срывались бессмысленные проклятья.
— Да вы не огорчайтесь так, господин Сорде, — сказал ему, уходя, знакомый глуховатый охранник. — Привыкнете.
Глава 20
Пьера Вальторскар уехала из Айзнара 19 декабря 1827 года. Под серыми зимними небесами фамильная карета Вальторскаров медленно катилась на юг меж Западных Болот, а когда они проезжали по деревне Вермаре, что расположена в верхних предгорьях, серое небо вдруг мягко опустилось к самой земле и рассыпалось белыми хлопьями, крупными, тяжелыми, безмолвными, сразу заполнившими все пространство вокруг. Снег побелил широкие крупы лошадей и меховую шапку возницы. Снежная пелена мешала видеть дорогу впереди, и Пьера, с трудом открыв окно кареты, высунулась наружу и ощутила холодное прикосновение зимы.
— Ах, моя дорогая, мы же замерзнем до смерти! Закрой, пожалуйста, скорее окно! И надень перчатки! — вскричала Бетта Берачой, специально приехавшая за ней в Айзнар и желавшая непременно доставить свою кузину домой в целости и сохранности, поскольку граф Орлант за неделю до этого свалился с тяжелым бронхитом и не смог сам поехать за дочерью. Они собирались вместе встретить Рождество у супругов Белейнин, однако судьба распорядилась иначе. Впрочем, кузина Бетта с радостью согласилась поехать вместо него. Только подумайте, твердила она, неужели бедная девочка должна одна пуститься в такой далекий путь? Конечно, старому Годину можно вполне доверять, но все же… Так что кузина Бетта ужасно расстроилась, когда Пьера — из чистого упрямства! — снова открыла окошко и тихо прошептала:
— А в Айзнаре снег никогда не идет…
— Ну что ты, конечно, идет! Я просто уверена! Наверное, он просто очень быстро тает из-за тамошнего Горячего Гейзера. Странно, что это он так сильно вдруг повалил. И до чего ж густой! Господи, а вдруг нас завалит снегом на перевале, вдали от человеческого жилья? Там ведь поблизости ни души! — Глаза у кузины Бетты сверкали. Порой столичные любовные романы, «переварить» которые было куда легче, чем «Новую Элоизу», попадали даже в Партачейку, и кузина Бетта читала их запоем, так что, хотя возможность быть погребенными под снегом на горной дороге и представлялась ей вполне возможной и, в общем, не слишком приятной, выражение «вдали от человеческого жилья» звучало совсем/как в романе и страшно ей нравилось.
— На перевале обычно очень сильные ветры, — спокойно возразила разумная Пьера. — Так что ветер не даст снегу завалить дорогу к Партачейке.
Кузина Бетта уже успела понять, что в монастырской школе Пьера еще больше набралась знаний и ума, ну а спокойной и рассудительной она, несмотря на молодость, была всегда и, разумеется, никаких любовных романов не читала.
Лошадям снег беспокойства почти не причинял. Собственно, он таял, едва успев коснуться земли, падая в тишине и безветрии. Но когда они после полудня добрались наконец до Партачейки, оказалось, что там снег лежит толстым слоем и на земле, и на крышах, и в оконных проемах; островерхие крыши домов и шпили соборов казались облитыми сахарной глазурью, и вообще весь город напоминал сливовый торт.
— Ой, ты только посмотри! — вскричала Пьера, утратив всякую сдержанность. — Как красиво! А крыши какие замечательные и все в снегу!.. — У нее даже слов не хватило.
Зрелище действительно было пронзительно прекрасным: приветливым золотистым светом светились окна, и маленький городок, раскинувшийся на склоне огромной горы, казался волшебным под пеленой падающего снега, в ранних сгущавшихся сумерках. Этот странный зимний день, этот снегопад, эти огни — все это произвело на Пьеру настолько сильное впечатление, что остальной путь от Партачейки до озера она молчала, испытывая горячую благодарность к продолжавшему падать снегу и ночной тьме, что скрывала от нее сейчас родные места — сады, поля, горы и озеро Малафрену. Сейчас ей и не хотелось их видеть. Сейчас они казались ей чужими. Даже когда карета вкатилась на выложенный каменными плитами задний двор ее родного дома, даже когда она увидела отца, закутанного, точно кокон, и совершенно засыпанного снегом, который протягивал руки ей навстречу, она все еще твердила себе: «Зачем я вернулась домой? Господи, и зачем я только сюда приехала!» Мысли ее путались, и, только когда отец обнял ее, прижав к своей огромной шубе, и снег с его плеча попал ей прямо в ухо, она поняла, что приехала домой.
— Папа, дорогой, как ты себя чувствуешь? Ты уже поправился?
— Да, конечно! И я прекрасно себя чувствую! — заверил ее граф Орлант; голос у него был хриплый, по все еще красивому лицу текли слезы. В ту зиму он действительно болел очень тяжело, а ведь ему уже исполнилось шестьдесят два, и один раз он даже решил, что вполне может и умереть. Не то чтобы смерть так уж его страшила, но он боялся, что может никогда больше не увидеть Пьеру. — Ну, ну, ну! Чего это мы вдруг так разволновались? — приговаривал он, крепко прижимая дочь к себе. Вскоре их окружили остальные встречающие: Элеонора, Лаура, старая повариха Мария, мисс Элизабет, которая по-прежнему жила в Вальторсе, и все эти родные люди, радостно шумя, потащили Пьеру в дом, навстречу свету, теплу и милым домашним запахам. Один лишь Твиде Сорде не выскочил во двор и ко всей этой суматохе отнесся философски, спокойно поздоровавшись с Пьерой и приговаривая добродушно:
— Ну что ж, графиня, всего три месяца вас тут не было, а посмотрите только, с каким уважением вас теперь встречают! Вы заметили, как возросла ваша цена?
Это была чистая правда: с прошлого лета, когда она в предпоследний раз приезжала домой, прошло всего три месяца; этот же ее приезд был последним, и Гвиде понимал это не хуже остальных. Однако он один упорно обращался к ней отныне на «вы». Всем было хорошо известно, что она теперь невеста и практически уже не принадлежит им, что и они постепенно отдаляются от нее, что это, возможно, последний раз, когда они видят прежнюю Пьеру Вальторскар. Вечером, уже в постели, Пьера все продолжала думать об этом, и мысли ее были столь же безрадостны, сколь радостным было чисто физическое ощущение дома и удобной привычной постели. А ведь все это в последний раз, тоскливо думала она. Итале, конечно же, был прав: вернуться назад невозможно! Нельзя СОВСЕМ вернуться домой после столь долгого отсутствия. Пьера посмотрела на книжную полку, где стояла та книга, которую ей подарил Итале. «Vita Nova», «Новая жизнь». Золотые буквы на корешке, поблескивавшие в свете очага, будто подмигивали ей, желая успокоить. Не нужна ей никакая «новая жизнь»! Ей нужна старая!
Следующим вечером, в сочельник, все обитатели Вальторсы, за исключением Тетушки, вместе с семействами Сорде, Сорентаев и еще кое-кого из соседей отправились в Партячейку к полуночной мессе. Весь день опять шел снег, но после заката небо совершенно очистилось от туч. Фонари, зажженные на крышах карет, отбрасывали желтые круги, в звездном свете покрытые снежной пеленой лес и склоны гор слабо светились. Собор в Партачейке был битком набит прихожанами, как и всегда на Рождество; мальчики из церковного хора пели пронзительными высокими голосами, плакали в толпе младенцы, протяжно, точно лошади, вздыхали старики, вытягивая морщинистые шеи, торчавшие из воротников белых праздничных рубах; богобоязненные старушки из числа тех, что каждый день ходят к мессе, бормотали молитвы, на несколько слов опережая священника; в жарком свете свечей распятие сияло над алтарем, точно расплавленное золото; время от времени сквозь запахи людской толпы прорывался чистый сухой аромат сосновых ветвей, которыми было убрано помещение церкви, а порой в открывшуюся дверь залетал ледяной сквозняк, тайком пробиравшийся по каменному полу и холодивший ноги. После окончания службы людям понадобилось по крайней мере полчаса, чтобы освободить церковь; но и выйдя оттуда, почти каждый останавливался где-то поблизости, поджидая родных и знакомых. В этой толпе сновали отставшие от родителей дети, застревали повозки, снежная пыль сверкала в лучах каретных и уличных фонарей. Пока старшие члены их семей здоровались со знакомыми и поджидали тех, с кем приехали сюда, Пьера и Лаура вместе с молодыми Сорентаями распевали старинный рождественский гимн.
Мы слышали: ангелы пели нежно
Нынче на горных склонах,
И эхом звонким долина снежная
Вторила им влюбленно.
Gloria in excelsis Deo
[25]
Александр Сорентай пел так увлеченно, что его невеста Мария, дочь адвоката Ксенея, даже воскликнула протяжно:
— Ох, Са-андре! Пожалуйста, не так гро-омко! — И все вокруг засмеялись.
И по пути домой, в битком набитой карете Вальторскаров — там уместились граф Орлант, Гвиде, Элеонора, кузина Бетта, Эмануэль, Пернета, управляющий Гаври, Пьера и Лаура — девушки с таким энтузиазмом распевали хвалитны, что даже сам Гвиде Сорде поддержал их своим мощным баритоном. Элеонора, плотно притиснутая к мужу остальными пассажирами, заглянула ему в лицо и сказала удивленно:
— Гвиде, что это с тобой? Я уже лет двадцать не слышала, чтобы ты пел!
— А я слышала! — заявила Лаура. — Когда папа бреется, он часто поет, да только всегда останавливается на середине.
— Ну так давайте не будем останавливаться на середине! Подхватывайте! — предложил Гвиде, и все дружно подхватили песню. Граф Орлант, временно потерявший голос из-за болезни, петь не мог, зато старательно и звонко выстукивал ритм, барабаня по стеклу. Наконец все высыпались из кареты у дома Сорде, где их ждали праздничный ужин и замечательный пирог, имевший форму ветки дерева, перевитой плющом. Граф Орлант тут же принялся рассказывать всякие истории о священных деревьях, увитых плющом, о сторожевых камнях и древних друидах. Спать никто не ложился часов до пяти утра, а в одиннадцать самые мужественные отправились к заутрене в часовню Святого Антония, стоявшую на берегу озера. Сосны над часовней, усыпанные каплями растаявшего снега, сверкали в лучах яркого солнца, ибо к утру ветер успел совершенно разогнать тучи, но надгробия в церковном дворе, особенно с северной стороны, были белы от снега. Проповедь священника наполовину заглушал могучий ветер, завывавший на лесистых склонах горы Сан-Лоренц. После службы Пьера и Лаура прогуливались в церковном дворе, поджидая Элеонору, и невольно разошлись в разные стороны, потому что Пьера все время переходила от одной могилы к другой, читая надписи. Все надгробия здесь были уже очень стары; этим кладбищем давно уже не пользовались. Многие могилки были совсем маленькие, и на их гладких плитах не было никаких слов или знаков; здесь были похоронены дети, умершие лет сто назад. Пьера узнавала многие знакомые имена. Итале Сорде, 1734–1810. In te Domine speravi…
[26] Пьера неподвижно застыла у этой могилы, глядя на кладбище, испещренное белыми пятнами снега и темными тенями сосен, на приземистую каменную часовню, с крыши которой звонко струилась капель, на озеро, такое спокойное в этот зимний полдень, на Лауру, торопливо идущую к ней и казавшуюся очень высокой и бледной в своем теплом пальто и опушенной мехом шапочке.
Подруги еще несколько минут постояли рядышком у могилы старого Сорде.
— Я хорошо помню, как дедушка стоял под окном с южной стороны дома, а я подошла к нему тихонько и взяла его за руку — мне для этого пришлось на цыпочки встать, таким он был высоким…
— Он умер через год после того, как я родилась…
— Странно: когда мы с Итале умрем, не останется никого в целом свете, кто его когда-либо знал или просто видел… Сейчас он словно еще и не умер по-настоящему, а вот после…
— Но ведь существует и загробная жизнь, — застенчиво, но довольно уверенно промолвила Пьера.
— Возможно. — Лаура все еще смотрела на надгробие.
— Ты в этом сомневаешься?
— Иногда.
Фразы, которыми они обменивались, были просты и кратки, но для обеих исполнены глубокого смысла.
— Это ведь не имеет для тебя особого значения, правда? — сказала Лаура. — «In te Domine speravi…» Неужели ради загробной жизни все это должно исчезнуть — воздух, земля, солнце? Неужели все это действительно так ужасно устроено?
— Но… я подумала… Знаешь, твой дедушка ведь тоже был молод, очень молод — лет семьдесят назад. Молод, как… и все теперешние молодые люди… как мы с тобой — потом-то мы, конечно, постареем… И может быть, он был влюблен… Конечно же, был! В твою бабушку. И они поженились и жили вместе, и у них родились два сына, и они вместе строили планы, разговаривали, к чему-то стремились, и дул ветер, и шел дождь, и светило солнце, вот так же отражаясь от снега, и они все это видели… а теперь… все это кажется таким странным! А ведь и до них точно так же жили люди, а теперь вот живем и мы, и после нас тоже будут жить люди, и мы ничего не сможем узнать о том, какими они будут, потому что времени не дано
остановиться, оно все идет и идет… Каков был мой отец, когда ему было двадцать? Да и помнит ли он себя, двадцатилетнего? Знаешь, мне кажется, я обязана верить в загробную жизнь! Иначе все становится таким странным, таким бессмысленным… Просто ничего невозможно понять! — Пьера огляделась; по-прежнему светило солнце, на могилах полосами лежали тени. Ее легкий голосок даже задрожал от волнения, когда она тихо повторила: — Да и было ли им когда-нибудь по двадцать лет?…
Из-за угла часовни показался Гаври.
— Ваша матушка ищет вас, госпожа Лаура, — сказал он, стоя у ворот и держа в руках шапку.
Домой Пьера отправилась пешком. Она шла рядом с Гаври и кузиной Беттой. Со временем стало ясно, что Гаври — действительно очень хороший управляющий и надежный человек; он поистине снял с плеч графа Орланта бремя ответственности за поместье. Впрочем, с Пьерой он никогда первым не заговаривал и вообще держался в тех рамках, которые предписывали ему здешние правила приличий. Они и сейчас почти не разговаривали, зато кузина Бетта трещала без умолку. Пьера спаслась от ее болтовни только в кабинете графа Орланта, где тот, утомленный слишком долгой рождественской ночью, сидел у камина, украшенного праздничными гирляндами и резными мраморными купидонами. Купидоны были из того же местного серого мрамора, что и надгробия на кладбище у часовни Святого Антония. В камине жарко горел огонь. Пьера присела рядом с отцом, и они немного поболтали. Минувшим летом граф Орлант, к своему изумлению, обнаружил, что его дочь настолько повзрослела, что с ней вполне можно разговаривать на серьезные темы. Пьера стала очень похожа на свою покойную мать, и граф точно вновь обрел возможность беседовать со своей юной женой; в конце концов, она и умерла-то, будучи ненамного старше Пьеры. Отец и дочь нечасто пускались в откровенности, однако даже самые короткие и легкомысленные беседы с Пьерой доставляли графу ни с чем не сравнимое удовольствие, особенно в эти холодные зимние дни. В прошлом месяце, во время тяжкой болезни, он пережил несколько поистине ужасных часов, исполненных отчаяния. И сейчас предвидел свое одиночество и принимал его — зная, что рано или поздно Пьера все равно его покинет, выйдет замуж, уедет из Вальторсы. Однако радость и покой, воцарившиеся в его душе после ее приезда, заглушали все горькие мысли. И граф был почти счастлив.
Пьера тоже была счастлива в эти мгновения, сидя с отцом у огня; во всяком случае, более счастлива, чем в любой из тех дней, что она провела здесь прошлым летом. Те дни были полны душевного напряжения, невнятной тоски и какой-то странной неопределенности, бесцветной, беззвучной. Она ждала, ждала, ждала… Но чего? Своей свадьбы? Любви? Она приехала домой, но приехала не навсегда; она считалась чьей-то невестой, но ее жениха не было с нею рядом; она жила в полном одиночестве, точно застряв где-то на середине пути и ожидая чего-то неведомого. Все это казалось ей в чем-то совершенно неправильным. С каждой почтовой каретой она посылала Дживану Косте пространные и довольно-таки глупые письма. Она писала их, точно выполняла домашнее задание по родному языку — примерно так же, как когда-то писала сочинение для мисс Элизабет на тему «Обязанности юной дамы».
…Если Дживан действительно ее любит, то почему он не здесь? Она ведь оставила Вальторсу чуть ли не с облегчением, она так стремилась снова в Айзнар, но была ли она там счастлива в эту осень? Конечно, была! Но все-таки в этом счастье было больше ожидания, чем радости. А теперь ожидание закончилось, теперь время бежит быстрее, и она цепляется за каждое мгновение, ибо каждое мгновение в родном доме кажется ей теперь бесценным сокровищем. Все происходит здесь с нею в последний раз. И ей совсем не хочется ни вспоминать прошлое, ни заглядывать вперед.
Миновала «двенадцатая ночь»; Крещение принесло с собой морозную ясную погоду. Дороги промерзли настолько, что гремели под копытами лошадей, точно колокола. Солнце ярко сияло в ослепительной синеве небес. Лаура и Пьера приехали в Партачейку за почтой, с ними поехал и управляющий Гаври, у которого были еще дела на мельнице. Всю дорогу он хранил учтивое молчание. Девушки сразу направились в «Золотого льва», ведя лошадь Гаври в поводу, поскольку «Лев» служил не только гостиницей, но и почтой; здесь же можно было, в случае чего, взять лошадь или оставить свою. Как только они расстались с управляющим, Пьера заявила:
— Изо всех молчунов Монтайны этот, по-моему, самый молчаливый!
— Но разговаривать он вроде бы умеет неплохо, — равнодушно откликнулась Лаура.
— Сомневаюсь! Он так бережет свой язык, точно он из золота.
— Да здесь вообще любят болтать только женщины, вот мы, например. По-моему, только городские мужчины способны трещать без умолку, верно? — Лаура частенько вот так поддразнивала Пьеру, которая приобрела в Айзнаре совершенно немыслимые здесь привычки, однако сейчас она постаралась уколоть Пьеру побольнее. Пьера и сама понимала, что проявила бестактность, и больше о Гаври не заговаривала. Они поздоровались со старым хозяином «Золотого льва», оставили лошадей в конюшне и после приличествующего случаю обмена любезностями со стариком прошли в вестибюль, отделанный дубом и сверкающий начищенной медью, чтобы поздороваться с женой хозяина и спросить, нет ли им писем, и она сразу протянула им три письма — одно для Пьеры, два для Лауры.
— Ах! — воскликнула, оживая, Лаура. — Спасибо вам огромное, госпожа Карел!
— Да, это уж, конечно, дом Итаал пишет! Я утром сразу его письма в мешке разглядела, я его почерк сразу узнаю, да и пишет он всегда только черными чернилами. — Вид у госпожи Карел был исключительно самодовольный; женщина она была не слишком образованная и довольно пустая. Некоторое время побеседовав и с ней для порядка, девушки отправились к Эмануэлю.
— Ну же, Пери, — все приговаривала Лаура, — идем скорее, так хочется письма прочитать! Интересно, а от кого вон то, второе? Может, это дяде? Твое-то ведь от?…
— О да! — вздохнула Пьера.
— Интересно: обратный адрес на нем ракавский. Значит, он сейчас в Ракаве? Вот почему мы от него уже месяц ничего не получали! У них, на востоке, должно быть, почта еще хуже работает. Да и далеко это… — Лаура шла в два раза быстрее, чем обычно, на ходу изучая конверт, который, соблюдая приличия, не решалась вскрыть прямо на улице. Она прямо-таки летела по бесконечным извилистым улочкам с булыжными мостовыми, по соединявшим эти улочки лестницам — прямо к дому Эмануэля. Пьера едва успевала за ней. Эмануэля дома не оказалось, и девушек встретила Пернета. Не тратя времени даром, они, еще стоя в прихожей, вскрыли письмо Итале и стали его читать, а Пьера прошла в гостиную и села в глубокое кресло у окна, смотревшего на север, на перевал. Письмо было от Дживана Косте. Спокойное, полное любви письмо — такие пишут женам мужья, много лет прожив с ними в браке. Маленький Баттисте тоже вложил в конверт записочку, написанную детским, округлым, но четким почерком: «Дорогая графиня Пьера! Варенье с имбирем было очень вкусное, только очень жгло язык, так что я его ел совсем понемножку. Зато съел все! Мои кролики здоровы. Они очень любят овсяную крупу, как Вы и говорили. Желаю Вам всего хорошего в новом году, Ваш любящий друг, Баттисте Венсеслас Косте».
Пьере очень хотелось показать это замечательное письмецо Лауре, но почему-то делать этого она все же не стала. Странно — а уж Лауре это покажется и еще более странным! — что этот мальчик вскоре станет Пьере сыном, вернее пасынком… А ведь ему уже семь, он всего на одиннадцать лет младше самой Пьеры, этот ее «любящий друг, Баттисте Венсеслас Косте»!.. Ладно, Лаура еще не привыкла к той мысли, что ее лучшая подруга выходит замуж. Да и сама она, Пьера, к этой мысли еще не привыкла… Так что и говорить об этом не стоит.
— Ну что там пишет Итале? — звонко спросила Пьера.
— Вот, дорогая, прочитай сама, если хочешь. — Пернета протянула ей письмо. — Ну же, Лаура, ты ведь уже дважды прочла, пусть теперь и Пьера прочтет. А это что такое? Второе письмо?
— Ах да, я и забыла! — воскликнула Лаура. — Посмотри-ка: «Для господина Сорде из Валь Малафрены, Партачейка, пров. Монт». Интересно, кому оно? Папе или дяде?
— Эмануэль, конечно, сразу бы догадался, от кого оно. Ну ладно, я только взгляну, как там мой пирог, и сразу вернусь.
Лаура, присев на ручку кресла, вместе с Пьерой в третий раз читала письмо от брата, заглядывая подруге через плечо.
— Смотри: «Ракава, 18 ноября 1827 года».
— Подумать только! — Лаура словно и не заметила этого раньше. — Целых два месяца это письмо сюда добиралось! Ведь даже если ехать через всю страну, даже зимой, все равно два месяца — это слишком много. Между прочим, первое письмо Итале из Ракавы шло всего две недели!
— Да-да, не мешай, пожалуйста, — пробормотала Пьера и стала читать вслух:
«Мои дорогие и родные! Простите великодушно: на прошлой неделе я умудрился пропустить почту, но надеюсь, что вы все же не считаете меня совсем пропащим. Здесь у меня нет буквально ни минуты свободной, и единственная за последнее время спокойная неделя, проведенная в Эстене, кажется мне теперь страшно далекой, словно с тех пор прошли века. Мое впечатление от Ракавы осталось практически неизменным: мне этот город по-прежнему не нравится, но, с профессиональной точки зрения, он для меня чрезвычайно интересен. Такой нищеты я не встречал более нигде, и я очень рад, что оказался в этом страшном месте, где любой способен утратить душевное равновесие, не один. Юный Агостин, заботясь об уюте, повесил на окна замечательные красные занавески, что весьма оживило наше убогое жилище, а заодно и избавило нас от необходимости мыть ужасно грязные окна. Мой собственный вклад в ведение домашнего хозяйства заключался в покупке огромного пакета с «чудесным» порошком от тараканов. Честно говоря, я так и не понял, что в нем такого «чудесного»: прусаки жрут его с огромным удовольствием; возможно, они считают, что это «угощение» я принес специально для них, явившись к ним в дом незваным».
— Прусаки? — спросила Пьера.
— Тараканы. Эва тоже всегда их прусаками называет.
— Ах вот оно что! А я решила, что он совсем другое имеет в виду… Дай-ка я еще разок прочту...
«…явившись к ним в дом незваным. Надеюсь, что они все передохнут «в страшных мучениях», как написано на пакете с порошком, но совсем в этом не уверен. Если мои письма будут задерживаться, пожалуйста, не волнуйтесь: государственная почтовая служба существует в Полане всего три года, да к тому же Полана исторически не склонна действовать, как все остальные девять провинций, и я совершенно уверен, что почта здесь настолько медлительна и ненадежна, насколько этого может пожелать кто-либо из цензоров. Возможно, мы с Агостином сумеем вернуться в Красной с почтовым дилижансом уже на рождественской неделе, и как только я вновь окажусь на Маленастраде, письма мои, можете поверить, опять будут приходить регулярно. Но, что гораздо важнее, я смогу наконец получать и ваши письма! Я не имею от вас известий с тех пор, как уехал из Эстена (я вас не обвиняю — просто жалуюсь!), и у меня такое ощущение, словно уехал я как минимум на Южный полюс».
— Но ведь мы посылали письма с каждой почтой! — вставила Лаура. — Ненавижу эту Полану! И зачем только ему понадобилось туда ехать!
«…на Южный полюс. Но, будучи уверенным, что вы мне, конечно же, пишете, я утешаю себя надеждой получить сразу целую пачку писем по возвращении в Красной.
Я мало что могу прибавить к тому, что уже сообщил вам в своем последнем письме. Пожалуйста, напишите, выходит ли «Беллерофон». Два юнца, что отвечают за его распространение, еще совсем зеленые, и, когда я уезжал из Красноя, у них царила полная неразбериха. Если «Беллерофон» по-прежнему выходит нерегулярно, а вам хотелось бы его получать, я сам позабочусь о том, чтобы ваши экземпляры приносили прямо к почтовому дилижансу, отправляющемуся в Партачейку. Между прочим, в декабрьском номере Карантай начинает публиковать свой новый роман. Он утверждает, и я склонен ему верить, что эта вещь несколько более слабая, чем «Молодой Лийве». Да и невозможно было бы ожидать — даже от Карантая! — чтобы он создал второй шедевр подряд. Но, по-моему, и этот роман у него тоже очень и очень неплох.
Дорогие мама, отец и сестренка! Сердцем я всегда с вами! Передайте мой самый сердечный привет дяде и тете, графу Орланту и всем нашим соседям из Валь Малафрены. Если это письмо окажется последним перед Рождеством, то, на всякий случай, примите заодно и мои горячие поздравления с праздником!
Ваш любящий сын, Итале Сорде».
Пьера с трудом дочитала последние строки: в глазах у нее стояли слезы, в носу подозрительно щипало. Некоторое время обе девушки молчали. Пьера про себя перечитывала письмо.
— Странно, у Итале почерк немного изменился, — сказала она задумчиво.
— Видно, перо неудачное попалось.
— И подпись какая-то другая: «С» совсем простое, без его обычных завитушек и не такое победоносное.
— У него и тон не слишком победоносный, — подтвердила Лаура. — Хотя из его письма, как всегда, ничего толком не поймешь. Понятно только одно: он очень скучает по дому.
— Там и этого не сказано! — сердито возразила Пьера.
— Ну что ты, это же совершенно ясно! Господи! Мама так беспокоится о нем, но, боюсь, ее это письмо совсем не обрадует: всего одна страничка — и ничего нового. Интересно, это из-за цензуры или же он старается не выдать себя, не показать, что ему там плохо?
Пьера сидела, потупившись и будто в очередной раз перечитывая письмо.
— А он что-нибудь интересное… писал после своей поездки в Айзнар в прошлом апреле? — задала она наконец мучивший ее вопрос.
— Как? Разве я тебе не говорила? Нет, ничего особенного он об этом не написал, да ты ведь, кажется, и сама просила его не упоминать о твоей помолвке. Я, помнится, писала тебе, что Итале нашел тебя сильно выросшей, повзрослевшей и очень хорошенькой. Ты это хотела услышать?
— Нет. Я просто подумала… Он ведь не со мной хотел тогда повидаться. И посоветоваться. Скорее с тобой или с вашей мамой. А во время нашего с ним свидания все получилось так глупо!..
— Вряд ли у нас с мамой получилось бы лучше.
— Неправда! Все было так плохо… Я просто тебе не рассказывала… Мы с ним не знали, что сказать друг другу. Он казался мне совсем чужим, нет, не чужим, а другим, совершенно переменившимся, взрослым. Понимаешь, взрослым мужчиной. Ведь когда мы еще жили здесь, все вместе, он был совсем мальчишкой… И он мне сказал, что мы с ним, вероятно, никогда больше не встретимся, но это совсем не страшно и не огорчительно, как будто мы — совершенно незнакомые люди, встретились случайно и тут же расстались… И еще он сказал, что мы… что никто из нас, ни он, ни я, никогда больше по-настоящему не вернется домой. И он… — Но тут Пьера не выдержала: голос ее, и без того звучавший все тише, сорвался в рыдание. — Господи, как все это странно, как глупо! — Она задыхалась от слез. — Ох, не обращай на меня внимания, Лаура. С тех пор как я приехала домой, я все время плачу… Это сейчас пройдет.
Лаура растерянно гладила ее по плечу, стараясь успокоить, и Пьера довольно быстро взяла себя в руки и, когда в комнату вошел Эмануэль, с улыбкой пошла ему навстречу.
Он, правда, сразу догадался — скорее по лицу Лауры, а не Пьеры, — что между девушками происходит какой-то серьезный разговор, и, сославшись на неотложные дела, стал подниматься к себе, задав по дороге лишь один вопрос:
— Что-нибудь есть от Итале?
— Да. Письмо, которое он написал почти два месяца назад еще в Ракаве.
— Я через минуту вернусь и прочту.
Через некоторое время, услышав, что Пернета разговаривает с девушками, Эмануэль решил, что Пьера достаточно оправилась и уже можно спускаться. Но что так расстроило бедную девочку? Ей, конечно же, не терпится поскорее сыграть свадьбу. И к чему эта дурацкая мода на длительный «испытательный срок»? Эмануэль, спускаясь по лестнице, крикнул нарочито бодрым тоном:
— Эй, женщины! А где же обед?
— Еще минут десять потерпи, дорогой! — откликнулась Пернета.
— Ждать? Три женщины в доме, отличный повар, а обеда вовремя нет! Тьфу! От вас почти так же мало толку, как от чиновников в городском магистрате. Ну что ж, посмотрим, что было нового в Ракаве полтора месяца назад.
Когда он прочитал письмо от Итале, Лаура подала ему второй конверт.
— А это кому предназначено, дядя?
— Разумеется, Гвиде. Я же не из Валь Малафрены!
— Между прочим, там написано «Партачейка»!
— Ну, это всего лишь адрес почтового отделения.
— Так, может, ты его вскроешь? Вдруг оно для тебя? И тогда папе не придется посылать сюда верхового, чтобы передать его тебе. А если это касается нашего имения, так папа же все равно будет с тобой советоваться, верно?
— Вот практичная женщина! — воскликнул Эмануэль. — Ну хорошо. — Он осторожно, даже неохотно вскрыл письмо и углубился в чтение.
Пьера напряженно наблюдала за ним; ей, как и всем прочим, страшно хотелось узнать, что в этом письме, но по лицу Эмануэля ничего прочесть было невозможно. Первой не выдержала Пернета:
— Ну, что там?
Он недоуменно посмотрел на нее и пробормотал:
— Погоди, дорогая, дай мне дочитать.
Снова воцарилось напряженная тишина. Эмануэль дочитал письмо, аккуратно свернул его, потом снова развернул и уселся с ним в кресло у окна.
— Новости неважные, — промолвил он наконец. — Это касается Итале. Он здоров. Но, кажется, арестован. В общем, знают они довольно мало.
— Прочти! — потребовала Пернета, не двигаясь с места. Лаура и Пьера тоже будто приросли к полу.
— Вообще-то оно предназначалось Гвиде… — сказал Эмануэль, но, посмотрев на них, стал читать:
«Господин Сорде, позволю себе назваться другом Вашего сына, Итале Сорде, ибо имею наглость просить Вас об одном одолжении: не могли бы Вы сообщить, имели ли Вы какие-либо вести от Итале с середины ноября? Может быть, у вас есть иные подверждения или же — Господи, помоги! — опровержения слухов о его аресте, которые дошли до нас? Мы узнали, что Итале был арестован вместе со своим юным помощником, также приехавшим из Красноя, и оба они еще в ноябре были осуждены Верховным судом провинции Полана. Сперва мы этим слухам не поверили, они казались нам совершенно безосновательными, но впоследствии мы получили довольно подробный отчет об этом от человека, которого считаем вполне надежным. Он недавно приехал в Красной из Ракавы и утверждает, что Итале и его друга обвинили в нарушении общественного порядка и приговорили к пяти годам тюремного заключения. Если это правда, то они, скорее всего, находятся в тюрьме Сен-Лазар в Ракаве, где обычно и содержатся государственные преступники. Мы не имели никаких известий от Итале с шестого ноября, но точно знаем, что все письма, отправляемые в восточные провинции и приходящие оттуда, перлюстрируются и могут вообще не дойти до адресата. Насколько нам известно, в центральных областях и на западе почтовые отправления, как правило, не подвергаются столь жестокой цензуре, однако это правило в любой момент может быть изменено. Как Вам, должно быть, известно, у Вашего сына здесь много друзей, которые от всей души желали бы быть ему полезны и поддержать его в час свершения столь чудовищной несправедливости, однако же, пока вышеназванные факты не подтвердятся, мы решили последовать совету одного мудрого человека, который очень хорошо знает политическую ситуацию в восточных провинциях. Этот человек советует нам подождать, ибо в настоящее время попытка прямого вмешательства или частной апелляции может принести больше вреда, чем пользы. Очень прошу Вас, сударь, напишите мне, если у вас имеются какие-либо благоприятные или хотя бы более достоверные сведения об Итале. Молю Господа, чтобы он поддержал его в трудный час, ибо Ваш сын и мой друг — человек в высшей степени благородный и честный. Я совершенно уверен в полной его непогрешимости и надеюсь, что неизменная любовь и верность друзей послужат ему опорой.
Всегда готовый служить Вам,
Томас Брелавай.
Красной, 2 января 1828 года».
Эмануэль свернул письмо и сунул его в конверт с задумчивым и растерянным видом.
— Этот Брелавай, похоже, очень порядочный человек, — промолвил он наконец. — По-моему, Итале довольно часто о нем упоминал?
— Да, они вместе учились в Соларии, — подтвердила Лаура. — Брелавай заведует в журнале финансовыми вопросами. — Голос ее звучал довольно спокойно, зато Пернета, потрясая в воздухе кулаками, вскричала в отчаянии:
— У меня никогда, никогда не было своего собственного сына! Только Итале!
— Прекрати, Пернета! — довольно резко оборвал жену Эмануэль и отвернулся к окну. Лаура пыталась успокоить тетку. Она ни разу в жизни не слышала, чтобы Пернета так кричала. Эмануэль был оглушен и полученными известиями, и криками жены. Ему казалось, что внутри у него что-то сломалось и все силы разом его покинули, даже позвоночник больше не держит тело. На Пернету он смотреть боялся.
Пьера подошла к нему, встала рядом, взяла за руку, заглянула в глаза. Он заметил, что она очень бледна.
— Если мы поедем назад вместе с вами, — сказала она, — то я лучше сразу предупрежу нашего управляющего, чтобы он не ждал нас с Лаурой.
— Да, ты права.
— Он наверняка все еще на мельнице. Я быстро сбегаю и минут через десять вернусь.
Пьера убежала, легкая, быстрая, и Эмануэль, даже пребывая в горе и смятении, не мог не восхищаться этими девочками: обе держали себя в руках, обе были настроены спокойно и решительно. И это при том, что Лаура, как он отлично знал, сражена страшными новостями о любимом брате; что же касается Пьеры, то она всего четверть часа назад уже плакала о чем-то… С этими девицами всегда так, думал Эмануэль: нервничают, суетятся, но, когда приходит час испытаний, становятся тверже стали. А вот у них с Пернетой выдержки не хватило; у него так просто руки опустились… Эмануэль устало сел в кресло и еще раз перечел оба письма — просто чтобы заставить себя хоть что-нибудь сделать. Однако все сделали и устроили Лаура и Пьера, и через несколько часов Эмануэль оказался наедине с братом в библиотеке родового поместья Сорде на берегу озера Малафрена.
— Ну, рассказывай, Эмануэль. Что случилось?
— Мы получили письмо от Итале…
— Вряд ли ты среди бела дня сорвался бы с места и поехал сюда только потому, что получил от него письмо.
— Нет, конечно, но пришло еще и письмо от его друга. Дело в том, что через несколько дней после того, как Итале отослал свое письмо из Ракавы, он был арестован…
Гвиде молча ждал продолжения. Эмануэль прочистил горло и снова заговорил:
— Это, правда, еще не точно… Они тоже пока не уверены. — И он передал Гвиде письмо Брелавая. Тот читал очень внимательно, но лицо его казалось совершенно бесстрастным. Наконец он поднял голову и сказал — казалось, очень спокойно, даже равнодушно:
— Ну и что же мне делать?
— Делать?… Откуда мне знать? Этот парень, без сомнения, прав: мы пока что ничего сделать не можем. Совсем ничего. И, по-моему, сейчас не самый подходящий момент напоминать тебе, что я предупреждал тебя, что твоя самоуверенность… — Он резко умолк. Гвиде на него не смотрел.
— Значит, Итале арестовали? — тихо и раздумчиво проговорил Гвиде, точно пробуя эти слова на вкус. — Да какое они имеют право судить его! Касаться… — Лицо его странно дернулось и застыло. — Что они с ним сделали? — громко спросил он вдруг и отвернулся.
Эмануэль присел к столу и устало потер лоб руками. Он явно недооценил брата. Он совсем забыл, как мало знает Гвиде о столичных нравах, как он в этом смысле невежествен, а потому и невинен. Гвиде был вне себя из-за того, что Итале якобы его унизил, однако ему и в голову никогда не приходило, что кто-либо способен унизить самого Итале. Зло для Гвиде воплощалось в чьих-то конкретных грехах — в проявлениях алчности, скупости, жестокости, зависти, гордыни; в его восприятии, человек обязан был бороться с подобным злом — как в собственной душе, так и в душах других людей — и с божьей помощью победить. То, что несправедливость может твориться под именем закона, что бесчеловечность царит в обличье тех, кто этот закон охраняет с оружием в руках, что правосудие осуществляется с помощью пыток и тюремных застенков, он, в общем, представлял себе, но до конца в это не верил — во всяком случае, до последнего времени. И он никогда не отделял себя от Итале, никогда, даже во гневе. Тот удар, который был нанесен его сыну, был нанесен и ему; приговор Итале был приговором и ему, Гвиде. Ему было пятьдесят восемь, и впервые человеческое зло одержало столь убедительную победу над его твердой бескомпромиссной душой. Впервые в жизни он чувствовал себя униженным. Он всегда отличался независимым нравом, всегда был чист перед Богом и людьми, и вот теперь, на склоне лет, ему приходилось платить за независимость и незапятнанность собственной души.
— Гвиде, если это правда — хотя в этом еще никто пока не уверен… Но если это действительно так, то нужно смотреть правде в глаза. Ведь могло быть куда хуже! Слава богу, Итале не отослали в Австрию, не приговорили к пожизненному заключению, а в тамошних застенках… Пять лет… Что ж, пять лет — это…
— Пять лет можно и подождать, — промолвил Гвиде.
— Послушай, Гвиде. Я тогда оправдывал себя, после отъезда Итале, — я ведь поддержал тогда его в желании уехать в Красной, считая, что он имеет право на собственный выбор, я и сейчас так считаю. И все же я ответствен, отчасти ответствен за то, что произошло… И нет мне прощения. Я ведь никогда не задумывался, какая опасность грозит… А потому я значительно больше виноват во всем, чем он сам! Он ведь был еще так молод!..
— Теперь это не важно, — вздохнул Гвиде. — Все это в прошлом. Лаура знает?
— Я читал письмо вслух. Они все слышали. И Лауре потом пришлось приводить в чувство Пернету. А Пьере — меня. Они сейчас у Элеоноры. Мне показалось, Гвиде, что девочки с этим справятся лучше, чем мы с тобой.
— Ты прав. Это их мир. Их время. Не мое. Это я понял сразу, как он уехал.
Снова воцарилось молчание. Гвиде сел за широкий стол напротив брата.
— Я все думал, почему бы Итале не жениться на Пьере, — вдруг сказал он. — Сорок лет назад и вопроса бы об этом не возникло. Выгодный брак, отличная пара. Они бы точно поженились. И тогда он бы никуда не уехал.
— Но ведь наш-то отец уехал! Это тебе прекрасно известно! Неужели ты считаешь, что все дело в эпохе, а не в конкретном человеке?
— Но ведь наш отец вернулся назад!
— Итале тоже вернется!
— Он сидел на том самом месте, где сидишь ты, когда заявил мне, что собирается уезжать. Я рассердился, обругал его дураком и еще похлеще.
— Ради бога, Гвиде! Теперь вот и ты начинаешь во всем винить себя. Если честно, ты действительно был с ним чересчур суров, но вряд ли ты когда-нибудь вообще был мягок. Тебе не кажется? Вот и он тоже такой. Суровый. Господи, это же твой сын!
— Я не виню ни себя, ни Итале. Все это в прошлом. Я виню тех, кто осмелился судить его! Я бы жизнь отдал… — Гвиде не договорил. Он не знал, с кем ему бороться, как и ради чего жертвовать жизнью. И он ничего, совсем ничего не мог сделать, чтобы помочь сыну.
Глава 21
Граф Орлант был потрясен рассказом Пьеры. Она надеялась получить у отца утешение и, к своему удивлению, поняла, что утешать придется как раз его. Она, конечно же, знала, как любит граф Итале, как глубоко он переживает его «бегство» из родного дома. Она не раз видела, как отец пытается читать журнал «Новесма верба», однако все его попытки разобраться в политике оказывались тщетными, и он неизменно испытывал растерянность и разочарование. Граф в этих делах был человеком совершенно неискушенным. Сам он считал, что к политике у него нет ни малейших способностей. Пьера хорошо это знала, и ей казалось, что печальные новости не слишком огорчат старика. В конце концов, он мало что понимал в государственных преступлениях, судебных разбирательствах и тюремных заключениях. Даже меньше, чем она сама. Но в данном случае неведение отнюдь не стало для него защитой — напротив, перед таким ударом судьбы он оказался совершенно беззащитным.
— В тюрьму? Итале посадили в тюрьму? Итале, сына Гвиде?… — без конца повторял он. — Но это же невозможно! Это полный абсурд! И, разумеется, какая-то ошибка! Ну что такого мог совершить наш Итале, чтобы его бросили в застенок? Он благородный человек, сын благородного человека, таких, как он, в тюрьму не сажают! — Наконец он все же поверил, что Пьера говорит ему чистую правду. Ну а воображение довершило остальное. Гневные восклицания графа смолкли сами собой, он некоторое время подавленно молчал, а потом пробормотал неуверенно: — Знаешь, дорогая, я, пожалуй, пойду прилягу. Что-то я устал.
Пьера проводила отца наверх и подбросила дров в камин, потому что граф жаловался на озноб. Он казался ей сейчас таким старым! Особенно когда осторожно прилег на кожаный диван. Старым, покорным, притихшим. Ну за что ему еще и этот удар? — с гневом думала Пьера, опустившись перед камином на колени и пытаясь раздуть огонь. Орлант Вальторскар никогда и никому не желал зла, ни одному живому существу, а за любое проявление доброты, даже за самую малость, всегда был чрезвычайно благодарен. Теперь он стал стар, здоровье его пошатнулось, вскоре и она, Пьера, его покинет. Когда он умрет, это имение придется продать. Бедный папа! Все, что ему близко и дорого, постепенно от него ускользает, расплывается, как дым на ветру. Ну почему, почему он должен страдать еще и из-за того, что другие творят зло?
— Надеюсь, мальчику хотя бы позволят получать письма от близких? — сказал граф, беспокойно глядя на дочь.
— Эмануэль считает, что тот его краснойский приятель прав: сразу ничего предпринимать не стоит; даже писать ему письма. Чтобы те, кто его арестовал, вообще о нем позабыли.
— Ты хочешь сказать, что и родители Итале должны вести себя так, будто его судьба им совершенно безразлична? Но ему-то каково будет?
— Эмануэль считает, что ему все равно наших писем не передадут.
— Как это не передадут? Писем от родителей, от сестры? Но почему?! Какой от этих писем вред? Он ведь заперт в темнице! Не понимаю! Ничего не понимаю!
— Ну, может быть, письма родных ему все-таки передавать будут, — решила успокоить его Пьера. — И конечно же, Эмануэль намерен подать апелляцию. Но пока что все настолько зыбко, настолько непонятно… Мы даже толком не знаем, где он!
Граф Орлант задумался.
— Нет, не могу я в это поверить! — воскликнул он. — Помнишь, как он примчался сюда ночью, в бурю, чтобы всего лишь попрощаться? Мне кажется, это было вчера…
Пьере, напротив, казалось, что воды с тех пор утекло даже слишком много, но отцу она возразила мягко:
— Не надо так говорить, папа, будто он умер… Итале жив, и он непременно вернется! Лаура тоже так считает.
И граф Орлант охотно с нею согласился.
Выйдя от отца, Пьера, надев пальто, через боковую дверь выскользнула на улицу. Она была не в силах дольше оставаться в душном тепле дома. Было уже по-зимнему темно, хотя вечер еще только наступил на улицу; на небе, казавшемся твердым от мороза, россыпью мелких бриллиантов сверкали звезды. Прямо перед нею чернело озеро. В застывшем воздухе каждый шаг казался очень громким, от ледяного дыхания севера пощипывало в горле и перехватывало дыхание. Пьера спустилась на берег и немного постояла под соснами, глядя на озеро и темный купол небес. Прямо у нее над головой светилось созвездие Ориона — великан с мечом на перевязи и бегущая за ним охотничья собака. Пьера стояла совершенно неподвижно, глубоко засунув руки в рукава пальто (она забыла перчатки) и дрожа от холода. Именно в эти минуты она и ощутила себя наследницей этой земли, этого озера, этого неба. В душе ее словно прозвонил большой колокол. Итак, великий час настал, и она без колебаний приняла то, что он принес ей в дар: конец детства и страстность во всем, столь свойственную многим представителям ее поколения.
Что ж, раз это и есть ее мир, то у нее хватит сил, чтобы жить в нем! Она — женщина; она не предназначена для общественной деятельности, для совершения неких публичных актов, для участия в мятежах; она должна играть свою, женскую роль: ждать и надеяться. И она будет ждать! Ибо любое деяние, даже самое пассивное, если оно будет совершено осознанно, может стать актом неповиновения, подтверждением независимости; может полностью переменить жизнь.
Но так действовать можно, только если уверен, что иного пути к спасению нет. Вот о чем думала Пьера в ту морозную крещенскую ночь, глядя на Орион и другие звезды, усыпавшие небесную твердь. Кому-то нужно подождать, кому-то нужно оставаться в стороне. Нет, не прятаться от бури, лишений и несправедливостей. Не бояться смерти. Просто подождать в сторонке, ибо от смерти не найти убежища; существуют лишь дурацкие отговорки, нелепый обман, притворство, когда только делаешь вид, будто ты в безопасности и всякое зло обходит тебя стороной. Нет, время не обмануть! И все мы лишены убежища, все беззащитны перед лицом времени и смерти. Ни одно из зданий, построенных людьми, защитить их не сможет — ни тюрьмы, ни дворцы, ни уютные особняки. Пьеру потрясло понимание той великой истины, что наконец-то она принадлежит сама себе, что она одна стоит, гордо подняв голову, под этим бескрайним и равнодушным небом, не защищенная ничем, даже стенами родного дома! Узнать, что ты, в общем-то, ничто, обыкновенная девушка со смущенной и опечаленной душой, немного напуганная происходящим, глупая, дрожащая от январской стужи, — что ж, такая она, в сущности, и есть, но в тот вечер ей открылось нечто большее: она узнала силу своей души, вошла в права своего истинного наследства!
Вскоре Пьера вернулась в дом и долго сидела в полном одиночестве у камина в гостиной. Мысли ее текли уже не так поспешно и сбивчиво, как под звездными небесами, однако мощным потоком, точно река в половодье. Она думала не об Итале, и все же он, находящийся сейчас совсем не здесь, а где-то далеко, в темнице, был первопричиной и средоточием ее мыслей и происходящих у нее в душе перемен. Она думала о Лауре, о Гвиде и Элеоноре, о своем отце, о жизни в Айзнаре, о Дживане Косте и о себе.
«Там я чужая, — говорила она себе, и тут же возникла новая мысль: — То, что мне надлежит сделать в жизни, находится здесь, в родных моих краях!» Она пока что не сумела бы выразить словами, что именно ей надлежит сделать. Она не спорила с собой и не задавала себе вопросов; она просто делала одно открытие за другим.
«Я не хочу возвращаться в Айзнар. Папа стареет, он нездоров, я ему нужна. Однако этих причин мне недостаточно, чтобы остаться. Да папа и не позволит мне остаться лишь по этим причинам. Он уверен, что детей следует вовремя отсылать из дома. Но ведь и особой причины ехать в Айзнар у меня нет. Там, рядом с Дживаном, мне, наверное, было бы покойно и удобно, но это была бы жизнь Дживана, а не моя собственная. У него там работа. А у меня там нет никаких занятий. Я, конечно, могла бы заниматься его домом, быть ему хорошей женой, помогать воспитывать Баттисте… И все это я постаралась бы делать очень хорошо. Но это была бы тюрьма. Пожизненное заключение. Нет, я не могу покинуть Малафрену. Мне нет без нее жизни! Я должна делать то, к чему имею предназначение, должна жить своей жизнью, а не чужой. Я должна найти свой путь. Я должна ждать, ждать!..»
Она вспомнила Дживана Косте, его смуглое суровое лицо, знакомый поворот головы. У нее и в мыслях не было ему изменять, но она знала: это вполне может произойти потом, когда чувство ответственности перед ним заглушат сомнения и стыд из-за бессмысленно прожитых лет. Но пока что Пьера была столь же далека от подобных проблем, как Орион от укрытой снегами земли, и наедине с собой все пыталась уяснить истину и чувствовала, что находится посредине между истиной и ложью. Ведь она тогда солгала Дживану Косте, пообещав ему то, чего дать никак не могла.
— Дживан! — произнесла она его имя вслух.
Все в доме было тихо и недвижимо; в звенящей тишине Пьера хорошо слышала болтовню повара и горничной на кухне — звук их голосов напоминал негромкое журчание ручья.
Если бы только Дживан мог подождать, пока она завершит здесь все то, для чего предназначена судьбой… Но что именно она должна сделать? Пока что, наверное, только ждать.
Никаких срочных дел она перед собой не видела. И такого человека, который не мог бы без нее обойтись, тоже. И вроде бы никто не испытывал особой необходимости в том, чтобы она осталась. Никому она здесь не нужна — во всяком случае, так, как Дживану. «Да, ему-то нужна именно я, — прошептала она, теперь уже действительно начиная диалог с собой, которому отныне не будет конца. — А кто я такая? Этого не знаем ни он, ни я. И я должна выяснить это самостоятельно, иначе так и проживу всю жизнь в неведении. Я-то знаю, что нужно просто подождать. Но Дживан этого не поймет… Ах, если б он сюда приехал! Здесь я сумела бы все ему объяснить. А в Айзнаре я сама не своя. Там я всегда такая, какой меня хотят видеть другие. И только здесь то единственное место, которое я способна познать до конца…»
А вот Лаура ее поняла бы! Она же сумела понять Итале, когда она, Пьера, его не понимала совсем; не понимала даже — до этой ночи, — почему он уехал из дому. Но теперь это стало ей совершенно ясно. Он тогда чувствовал по отношению к Малафрене то же самое, что и она — к Айзнару; он понимал, что это всего лишь временное убежище, а не часть истинного пути. Все здесь знали, чего от него ожидать, и он все, что они у него просили, легко мог исполнить. Слишком легко. И тогда он решил уехать и попытаться отыскать то, что мог сделать только он один, то, что было для него абсолютной необходимостью. Вот так и она, выбери она Айзнар, могла бы успокоиться и никогда не рисковать собой, а просто делать то, чего от нее хотят другие, и быть такой, какой ее хотят видеть другие, и, несомненно, была бы за это вознаграждена сторицей.
А сейчас, похоже, Итале рискнул собственной жизнью и проиграл.
Пьера вдруг подумала о тех звездах, что сияют ночью над озером и окрестными горами. И если бы при свете дня можно было увидеть звезды, они были бы точно такими же, что и ночью; и летом такими же, как среди зимы…
Собственно, то, чем она может рискнуть, что может отдать или потерять, не так уж велико и значимо. У нее ведь нет никаких особых талантов или способностей, и ничего особенного она предпринимать тоже не собирается. Она должна жить, как и все прочие женщины, выполняя бесконечное множество самых обыденных дел и без конца подтверждая тем самым собственную необходимость, ибо ни одно из этих дел никогда не бывает завершено, сделано до конца, ибо таким делам нет конца. И все же делать их необходимо. И для этого ей нужна ее собственная жизнь, вся целиком, а не вознаграждение за хорошее поведение. И эту жизнь она должна прожить сама, сама должна иметь возможность рисковать ею, и, раз уж она вступила в права наследства, она не позволит собственной жизни превратиться в прекрасную тюрьму; она предпочтет свободу.
Но это будет очень трудно. Никто никогда не говорил ей о том, что значит свобода — для женщины. Из чего эта свобода должна складываться и как ее следует завоевывать. Или даже не завоевывать — это, пожалуй, не совсем верное слово, — а скорее зарабатывать.
Пьера услышала, что отец встал и ходит у себя наверху. Вскоре граф сошел вниз, и они отправились ужинать. К ним присоединился управляющий Гаври, только что вернувшийся из Партачейки. Он кратко доложил графу о переговорах на мельнице, а потом спросил Пьеру своим тихим хрипловатым голосом:
— Надеюсь, не дурные вести заставили вас с госпожой Сорде поспешить домой, графиня?
Вместо Пьеры ответил отец:
— К сожалению, дурные, Гаври. Молодого Сорде посадили в тюрьму где-то там, на востоке.
Гаври обескуражено смотрел на него, не в силах что-либо сказать и явно понимая, что неловко было бы спрашивать, что такого страшного сделал этот господин, раз его посадили в тюрьму. Но граф Орлант тоже мрачно уставился в свою тарелку. И обстановку разрядила Пьера:
— Как вы понимаете, чужих часов он не крал. Это дело чисто политическое. По-моему, Итале что-то там такое напечатал у себя в журнале, и это очень не понравилось властям. Вот они его и упекли в темницу на пять лет.
Гаври нахмурился.
— Вот не думал, что они на такое способны! — промолвил он. — Уж больно мы здесь, в горах, далеки от всего этого. — И прибавил, весьма удивив Пьеру: — А уж как, должно быть, госпоже Лауре тяжело! Она ведь на брата просто молится.
— И теперь еще пуще станет молиться.
— Да уж, придется…
Она сразу поняла, что он имел в виду: скоро начнутся разговоры, сплетни, домыслы и пересуды; всем соседям захочется выяснить подробности.
— Да где им понять, что случилось в действительности! — высокомерно обронила Пьера, точно Гаври обязан был знать, о ком она говорит.
— Я, между прочим, тоже этого не понимаю! — вмешался граф. — Мне ясно одно: это позор, боль и бессмысленная трата времени и сил — как для самого Итале, так и для всей его семьи! И для нас тоже!
— Но, папа, Итале делал то, что считал необходимым. Он куда свободнее тех, кто бросил его в тюрьму. Он куда свободнее любого из нас! И даже если он так и умрет в темнице, все равно это будет не напрасно и не позорно!
— Может, ты и права, дочка. Я не так уж много знаю обо всех этих вещах; да и ты тоже. И мне представляется бессмысленным расточительством, когда двадцатипятилетнего парня просто так сажают под замок и ничего не дают делать. А что должен испытывать Гвиде, как не стыд, когда его спрашивают: и где же ваш сын? А каково Элеоноре, которая ничем не может ему помочь, даже письмо ему написать не может? Единственное, что, по-моему, нам осталось, это тревожиться о нем да молить Господа, чтобы не оставлял его своими заботами, ведь мальчик никогда и никому никакого зла не желал.
— Иногда мне кажется, — заметил Гаври, — что людям здорово повезло: они могут при жизни как-то отработать свои совершенные на земле прегрешения и потом без страха идти навстречу смерти.
Пьера с любопытством посмотрела на него. Его слова не были для нее так уж новы: это была всего лишь одна из вариаций мрачных верований, свойственных ее народу, однако в его голосе чувствовалась некая странная настойчивость, хоть и
тщательно скрываемая им, которая находила неясный отклик в ее смущенной и мятежной душе. И особенно — слово «страх». Да, истинным создателем тюрем, этим подлым вором, этим врагом всего лучшего на свете был именно страх! Невозможно служить страху и быть свободным.
Теперь она виделась с Лаурой почти каждый день; их былая дружба совершенно воскресла; мало того, если прежде она была скорее односторонней — Лаура выслушивала Пьеру, Лаура ее утешала, но сама почти ничего не рассказывала и ни на что не жаловалась, — то теперь и Пьера могла что-то дать подруге, могла ее внимательно выслушать и даже утешить. И ей было удивительно приятно быть хоть чем-то полезной Лауре и тем самым получить как бы подтверждение того, что она, Пьера, наконец-то превратилась из девчонки во взрослую женщину, что она может распоряжаться не только своими деньгами, но и самой собой по своему усмотрению.
Однажды в полдень подруги сидели рядышком и молчали. Они сидели так уже полчаса, а за окном все падал и падал снег, и без того уже плотным покрывалом укрывший поля и холмы. Была самая середина зимы, и последняя неделя выдалась особенно студеной. Гвиде пропадал в овчарнях и кладовых; Элеонора лежала наверху: ей нездоровилось. Лаура и Пьера сидели у огня в гостиной и шили, поглядывая порой в высокие, выходившие на юг окна, за которыми валил и валил снег.
— Мне нужно написать одно очень сложное письмо, — сказала после долгого молчания Пьера, когда часы в полной тишине пробили три. Лаура удивленно вскинула на нее глаза, но не спросила, кому именно она должна написать это письмо. Да и кому же еще Пьера могла писать «сложные» письма?
— Я хочу попросить его приехать сюда ненадолго.
— Но ведь ты и сама через месяц-полтора вернешься в Айзнар, верно?
— А вот этого я не знаю… В том-то все и дело!
Лаура вдела нитку в иголку, наклонившись к огню, чтобы лучше видеть в мутном свете, падавшем из окна.
— Ты хочешь поговорить с ним?
Пьера кивнула.
— Можно, я скажу то, о чем давно думаю?
— Конечно, нет! — шутливо отмахнулась Пьера.
— Знаешь, ты иногда ужасно похожа на Тетушку. Интересно… По-моему, Тетушка когда-то была настоящей красавицей.
— Да. Папа говорил, что она действительно была очень хороша собой, но ей никогда не нравился ни один из ее многочисленных поклонников. Разве не странно?… Бедная Тетушка! Она ненавидит холод! И всю неделю на любой вопрос отвечает «нет».
— Может, ей какой-нибудь красивой пряжи купить? Мне кажется, ей бы, например, понравился этот коралловый оттенок.
— Можно попробовать. Хотя она в последнее время ни одного мотка в руки не взяла. Может, из-за ревматизма, а может, ей все стало безразлично. Ах, Лаура, иногда мне так хочется умереть молодой!
— Да, мне это тоже знакомо… Но вернемся к твоим делам. Ты, по-моему, ни разу даже не заговорила о свадьбе и обо всем, что с нею связано. И мне кажется иногда, что ты… чувствуешь себя… обязанной оставаться здесь, что ли.
— Нет. Дело совсем не в этом. Знаешь, я вообще не верю в подобные обязанности.
— Да, это действительно было бы довольно нелепо — так думать, — сказала Лаура, думая именно так.
— Быть обязанной, как Нина Буннин из Партачейки, — продолжала между тем Пьера. — Она все живет и живет со своей ужасной мамашей, которая все умирает, умирает, да никак не умрет! Я с тех пор, как себя помню, только и слышу, что ее мать умирает. И этот несчастный старый Лонце Абре… Он ведь был когда-то женихом Нины, а теперь ему уже шестьдесят, но он все еще на посылках у адвоката Ксенея. Нет уж! Это не по мне! Это же не долг и не обязанность, а просто трусость!
— Согласна. Хорошо. К тому же граф Орлант совсем не такой противный, как старая мать Нины, верно?
— Нет. Совсем нет, — очень серьезно и строго ответила Пьера. — Он очень милый. И очень хороший человек.
— И поэтому ты?…
— Нет. Не поэтому. А потому, что Дживан Косте — тоже очень хороший человек. И я действительно люблю его.
— Я знаю. Но тогда в чем же дело, Пери? Надеюсь, это не связано с нами, с проблемами нашей семьи? Ты ведь не такая дурочка.
— Нет. И я не настолько великодушна. И не настолько нужна тебе. Я вообще-то порядочная эгоистка и думаю только о себе. Но, видишь ли, чтобы устроить собственную судьбу, мне, видно, ума не хватает.
— Так позволь господину Косте сделать это за тебя.
— Не могу, — серьезно ответил Пьера. И, помолчав, прибавила: — Знаешь, Лаура, мне кажется, что этого я сделать не могу. Не имею права. И сама не знаю почему. В Айзнаре — могла. Там все казалось так просто. Оставалось только прийти на готовенькое. Но здесь, в горах, я, похоже, сразу меняюсь. И очень быстро. Я теперь совсем не та девушка, которая пообещала в Айзнаре в марте выйти замуж за Дживана Косте. Нет, я просто не могу этого сделать! Если уж выходить замуж, то полюбив своего суженого от всей души. Иначе любое замужество будет ложью и несправедливостью. Непростительной ложью, Лаура!
— Видимо, ты права. Но что, если ты ошибаешься, Пери? Что, если ошибаемся мы обе? Неужели сама любовь значит в браке так же много, как желание любить? Не знаю. Не уверена. Я все наблюдаю за людьми, пытаюсь выяснить… А может, ты переменилась к нему просто потому, что он далеко и ты так давно его не видела?
— Нет. Дело совсем не в этом. Когда бы я ни была с ним, когда бы ни думала о нем, я тут же как бы попадаю в замкнутое пространство. В такой замкнутый светлый круг. И что же, мне теперь ко всему остальному миру повернуться спиной?
— К остальному миру?
— Ну да, к тому, что за пределами этого светлого круга, в темноте, — горячо заговорила Пьера, поднимая голову от работы. — К тому миру, где много воздуха и места, где дуют ветры и ночь сменяет день! Я не знаю, как выразить это словами, Лаура! Ко всем тем вещам, которым ты можешь верить, но которые слишком велики для тебя, которым ты сама совершенно безразлична. Я еще только учусь понимать эти великие вещи и себя тоже учусь понимать, и я не могу бросить все это, отказаться от познания этого широкого мира, нет, пока еще нет!
— В таком случае тебе, наверное, следует попросить Дживана немного подождать, — медленно проговорила Лаура. — Не знаю, понимаю ли я тебя… Но, по-моему, такое право у тебя есть.
И в ту же ночь Пьера села писать самое сложное из всех ее «сложных» писем. В монастырской школе ее научили писать довольно грамотно, но в целом излагать свои мысли на бумаге она по-прежнему ненавидела: в таком виде любая вещь или тема сразу становилась далекой и тривиальной. Это казалось Пьере унизительным.
«Вальторса, Валь Малафрена, 24 января 1828 года.
Дорогой Дживан!
У меня все хорошо. Надеюсь, что Вы, госпожа Косте и Баттисте тоже здоровы и благополучны. У нас по-прежнему идет снег; в эту зиму снегопады здесь удивительно сильные. Папа говорит, что таких не было с 1809 года. Все заливы на озере замерзли, а кое-где лед такой толстый, что можно даже кататься на коньках, что уж совсем необычно для здешних мест. Впрочем, долго это, наверное, не продлится.
Мне трудно просить Вас об этом, но Вы, я надеюсь, не рассердитесь и поймете меня: я очень прошу Вас — если, конечно, будет такая возможность и по дорогам можно будет проехать — приехать ненадолго к нам в Вальторсу. И хорошо бы поскорее, до того, как я начну собираться в Айзнар. Очень ли Вы заняты на таможне? Если да, то я, разумеется, все пойму. Мне трудно все объяснить в письме, и я рассчитываю серьезно поговорить с Вами, как только Вы приедете. Если же это окажется невозможно, не тревожьтесь: я приеду, как мы и договорились. Папа еще не совсем поправился после перенесенного в декабре бронхита; и об этом я тоже хотела бы поговорить с Вами. Но, если честно, я надеюсь на этот разговор потому, что не умею писать письма. Мне всегда ужасно трудно выразить словами то, что у меня на душе. Еще раз прошу вас не беспокоиться: если Вы приехать не сможете, я непременно приеду сама. Передайте, пожалуйста, Баттисте, что я очень его люблю.
По-прежнему Ваш любящий и преданный друг,
Пьера Вальторскар».
Письмо это было отправлено с айзнарской почтовой каретой в понедельник, и через неделю из Монтайны прибыл ответ. «Приеду 8 февраля», — писал Косте. «Боже мой, — сказала себе Пьера, — ну вот, я заставила его пуститься в путь среди зимы, ему придется в Эрреме пересаживаться с одного дилижанса на другой, придется брать отпуск… — Косте возглавлял таможенное управление провинции Западные Болота. — И, конечно же, мне придется рассказать папе, что я наделала!»
— А знаешь, — сказала она отцу в тот же вечер за ужином, — на прошлой неделе я написала господину Косте письмо.
— Ты очень часто пишешь ему, дорогая, — ласково и рассеянно пробормотал граф Орлант, изучая различные карты звездного неба и пытаясь определить, сколько звезд в созвездии Плеяд.
Пьера подошла ближе и некоторое время смотрела ему через плечо.
— Это Плеяда? — спросила она.
— Плеяды, дорогая. Не одна, а несколько. Много. Так называется очень большое скопление звезд. Это греческое слово. Нет, это соседка Плеяд. Видишь, вот здесь изображены семь Плеяд; наши крестьяне их так и называют: «Семь сестер». Но чаще всего видны только шесть. А в этой книге говорится, что по крайней мере двенадцать из них можно легко увидеть с помощью оптических приборов. А на этой карте их восемь. Странно! Уж не исчезают ли они с небосклона время от времени, когда их что-нибудь затмевает?
— Папа, я хотела поговорить с тобой о том письме.
— О письме? Ах да! — Граф Орлант сел, удобно откинувшись на спинку кресла, и потер переносицу, чтобы сосредоточиться.
— Я просила Дживана приехать.
— Приехать? — воскликнул граф встревожено и, пожалуй, немного обиженно.
— Прости, что сперва не спросила у тебя разрешения, папа. Но я была так… У меня в голове была такая путаница! К тому же я думала, он вряд ли сможет приехать…
— Что случилось, Пьера?
— Мне необходимо с ним поговорить.
— Но не пройдет и месяца, как ты увидишь его в Айзнаре!
Граф действительно был потрясен, и сердце у Пьеры ушло в пятки.
— Я хочу попросить его и тебя о том, чтобы нашу свадьбу немного отложили.
— Вот как…
— Да. Я не хотела ничего говорить тебе, пока не получу от него ответа — вдруг он не смог бы приехать, и тогда все решилось бы само собой. Мне не хотелось беспокоить тебя понапрасну. И к тому же я совсем не уверена, что мне… Но он написал, что приедет. Восьмого февраля. И я решила, что тебе нужно сказать об этом немедленно, — закончила она еле слышно.
— Он, разумеется, остановится у нас? — спросил граф тоже очень тихо.
— Надеюсь.
— А где же еще? — Граф не был близко знаком с Косте, встречался с ним только накоротке и немного его побаивался. — Но ведь ты… не жалеешь о своей помолвке с ним?
— Нет. Но я хотела бы подождать. — Других слов она пока просто не находила, так что это было единственное объяснение, которое сумели вытянуть из нее граф Орлант и, несколько позже, Элеонора. Пьера качала головой, морщила свой высокий упрямый лоб и твердила одно: «Я должна подождать…» И добавляла умоляющим тоном: «Как вы думаете, он поймет?» Граф считал, что поймет, но Элеонора сказала: «Я думаю, он согласится, дорогая, будучи человеком воспитанным. Но я совсем не уверена, что он поймет».
Дживан Косте прибыл в Партачейку зимним вечером. Пьера и старый Годин приехали встречать его в открытой бричке, поскольку тяжеловозы, которых обычно впрягали в фамильную карету, не имели подков с шипами, а дорога была скользкой. Дживан и так окоченел за время путешествия в почтовой карете, а когда они поднялись из предгорий на продуваемые ледяными ветрами холмы Вальторсы, залитые спокойным бронзовым светом заката, он был уже полумертвым от холода. Однако в доме графа ему был оказан настолько радушный и теплый прием, что он быстро оттаял и испытывал настолько искреннюю благодарность хозяевам, что даже граф перестал его бояться и с удовольствием потчевал живительными напитками и вкусной едой у жарко горевшего камина, а потом предложил пораньше лечь спать. Пьера, очень напряженная, больше молчала, с интересом наблюдая за тем, кто вскоре должен был стать ее мужем. Прежде она всегда видела его только в привычном для него айзнарском окружении: у него дома или у Белейнинов, и люди вокруг тоже были ему знакомы; они были одеты в привычные городские костюмы и вели привычные беседы… Но после того, как она впервые увидела его вне этого привычного окружения, на заснеженной улице Партачейки, одетого в «русскую» шубу на меху, совершенно закоченевшего, усталого и встревоженного, он показался ей совсем незнакомым; и теперь этот «незнакомец» необычайно привлекал ее тем, что с новой силой будил ее воображение.
Утром она сошла к завтраку в своей любимой красной юбке и крестьянской блузке, и старая повариха даже слегка побранила ее:
— Графинечка, ну как же можно так одеваться, когда в доме благородный господин?
— А у нас в доме всегда есть благородный господин — мой отец, он пока еще никуда не уехал, и я буду одеваться так, как нравится моему отцу! — с вызовом ответила Пьера, а потом, поскольку старуха явно обиделась, обняла ее и расцеловала, приговаривая: — Ах, Мария, не ругай ты меня хоть сегодня, пожалуйста!..
Утреннее солнце так и сверкало на снегу. День они провели очень приятно. Граф Орлант, Пьера и их гость прогулялись по берегу озера до дома Сорде, приняли гостей — кузину Бетту и девочек Сорентай, — а потом съездили верхом в часовню Святого Антония. На следующее утро Пьера и Косте отправились на прогулку к озеру уже вдвоем. Снова ярко светило солнце, дул довольно сильный, но уже пахнувший весной ветер. И наконец-то Пьера сумела начать тот, самый важный для нее разговор. Дживан сразу взял быка за рога.
— Пьера, надеюсь, ты понимаешь, что никаких особых объяснений мне не требуется. Я был очень рад приехать и повидать тебя. Меня и прежде беспокоило то, что я никогда не бывал в этих местах и совершенно незнаком со здешними людьми и их обычаями, а ведь ты здесь выросла.
— Да, я тоже хотела, чтобы ты посмотрел, как мы здесь живем. Посмотрел, какая я здесь. И еще мне хотелось увидеть, каким будешь здесь ты.
— Зато ты здесь такая же, как и везде. Ты для меня всегда одна — Пьера.
Она вздрогнула, такая нежность прозвучала в его голосе.
— Нет, здесь я совсем другая, — сказала она и сама удивилась, услышав в своем голосе упрямый холодок.
— Я знаю: ты всем сердцем любишь этот край и этих людей. И ты была совершенно права, что вытащила меня сюда. — Он умолк, остановился и стал смотреть поверх сверкавших неспокойных вод озера на гору Охотник, темневшую вдали под белой шапкой снегов. Пьера молчала, он вскоре снова заговорил: — И еще: прости меня, но ты так молода! Тебе всего восемнадцать. Ты единственная отрада у отца… Время есть. Подумай. У меня нет причин торопить тебя. Если ты хочешь разорвать нашу помолвку, если ты хочешь, чтобы я отпустил тебя на волю, только скажи.
Она стояла с ним рядом, плотно закутавшись в шаль, потому что холодный, пронзительный ветер, вдруг поднявшись, зашумел в голых ветвях деревьев. Вот он и сказал то самое, чего она совсем не ожидала. Она никогда не умела правильно рассчитать! И было бы так просто, даже слишком просто — разрубить этот гордиев узел прямо сейчас… Вот только, если вечно рубить узлы, все на свете в итоге начнет распадаться, разваливаться… Дживан всегда был так добр к ней, абсолютно, жертвенно добр и очень благороден. Но не доброты она жаждала…
— Я вовсе не собиралась просить тебя об этом, Дживан. Я хочу только… ну… подождать немного. Совсем немного. Дело в том, что, если бы мы поженились сразу, прошлой весной, все было бы хорошо. Но теперь… я чувствую, что должна подождать. Но мне совсем не хочется тебя огорчать!
— Больше всего я огорчился бы, если б узнал, что каким-то образом сделал тебя несчастной. Ах, Пьера! Не мучь, не насилуй себя, не старайся быть ко мне милосердной.
Он был галантен. И сказал это очень спокойно. Пьера резко обернулась к нему, глаза ее сверкнули от гнева.
— Но ведь это ты стараешься быть милосердным — не я! Я не знаю даже, чего хочу, а ты знаешь! Знаешь — за меня!
— Я не могу и не стану просить у тебя то, чего ты по собственной воле мне дать не можешь, — сухо возразил он.
— Вряд ли мы когда-нибудь станем жить здесь, верно? — спросила она очень тихо, робко, совсем по-детски, зная ответ заранее.
— Верно. — Он не в состоянии был что-либо прибавить к этому краткому ответу и быстро пошел по берегу прочь от нее. Она смотрела, как он идет — стройный, казавшийся даже хрупким на фоне довольно высоких сверкающих волн, один на пустынном берегу меж водами и небесами.
Вернулся он довольно быстро и снова встал с нею рядом.
— А не лучше было бы, — начал он довольно спокойно, — отказаться от всех взаимных обязательств и позволить времени все решить за нас? Знаешь, Пьера, я ведь и сам собирался попросить тебя подождать, пока тебе не исполнится двадцать. Возможно, и ты думала об этом, но гнала прочь подобные мысли. Вряд ли было бы справедливо — прежде всего по отношению к тебе — просить тебя сохранить данное мне обещание; это, возможно, впоследствии лишь усложнило бы дело… Но знай, что я в любом случае не изменю своих намерений. Это не угроза и не клятва, а всего лишь, увы, констатация факта. Я ничего не могу с этим поделать. — Он неожиданно улыбнулся и тут же отвернулся: он был не в силах смотреть на нее, ожидая ответа и уже понимая, каков будет этот ответ.
— Но разве мы не можем… Но что ты будешь… — Пьера, сердясь на себя, стиснула кулаки. — Хорошо, Дживан. Пусть будет так, как ты сказал. И мне ужасно жаль, что ты не выбрал кого-то получше! Такую женщину, которая знает, что делает!
— Но я ведь тебя до сих пор по-настоящему и не видел, — сказал он ласково, снова поворачиваясь к ней. — Я тебя до сих пор почти не знал!
И это была чистая правда. Теперь Дживан говорил совершенно искренне, он больше не в силах был сдерживаться, от его показного спокойствия не осталось и следа. Наконец-то они разговаривали, стоя лицом к лицу, и смотрели друг другу прямо в глаза. Пьера не выдержала первая. Не сводя с него глаз, она протянула к нему руки, но он потупился и сказал напряженно и сухо:
— Завтра же я уеду. — И они молча побрели назад, к дому. Он подал ей руку, помогая перебраться через грязевой нанос на тропе. Она приняла помощь не сразу и некоторое время смотрела на эту тонкую, но сильную руку. Поддерживая ее под локоть, он не сказал ни слова; на нее он не смотрел.
В тот вечер Пьере пришлось сообщить отцу, что ее помолвка не продлена, а разорвана и что разорвала ее она сама. Но на самом деле все это было неправдой: по сути дела, это Дживан, а вовсе не она, первым предложил разорвать помолвку, прекрасно понимая при этом, что, если он о чем-то попросил бы ее, она бы непременно дала ему это, она бы ему никогда не отказала. Но он не попросил. Он отверг собственную страсть, отвергая тем самым и ее право на страсть и любовь.
Глава 22
Пьера считала, что никто не обратит особого внимания на то, что она разорвала свою помолвку с Дживаном Косте. Ну, пусть посплетничают немного, это ее совсем не беспокоило. Единственные люди, чье мнение, кроме отцовского, было для нее важно, — это семейство Сорде, но у них и своих забот хватало. Пьера была уверена, что Сорде будут на ее стороне. Однако все получилось совсем по-другому. Гвиде и Элеонора, давно знакомые с Дживаном Косте, воспринимали его теперь как жениха Пьеры и, обнаружив, что помолвка расторгнута, а Дживан через день уехал обратно, этого Пьере не простили. Собственно, главный удар приняла на себя Лаура. Никто из старших Сорде ничего прямо Пьере не говорил, но Гвиде перестал с ней шутить, не улыбался ей и больше не обращался к ней на «ты». И Пьера понимала, что лишилась его благосклонности, и, возможно, навсегда — такой уж это был человек.
— Если он для нее слишком стар, — заявил Гвиде Лауре, — она могла бы это понять гораздо раньше! Эти двадцать лет разницы были между ними и в прошлом году. Разве можно сперва дать кому-то слово, а потом взять его назад?
— И все же расторгнутая помолвка лучше, чем неудачный брак, — отвечала Лаура не менее упрямо. — Кроме того, Пьера своего жениха не обманывала. Она просто попросила его подождать. Это он настоял, чтобы помолвка была расторгнута.
— Потому что понимал, что она все равно рано или поздно и сама к этому придет и свое обещание нарушит. Не сомневаюсь.
— Я просто не понимаю, — вздохнула Элеонора, — чего же она хочет? И почему все произошло так внезапно? Ведь до Крещения даже намека на что-либо подобное не было! А теперь она твердит, что хочет остаться здесь. Но разве это так уж хорошо? Что она будет здесь делать, когда умрет граф Орлант? А ведь тот день, когда она останется одна, не за горами, и она это понимает. К тому же, если она останется, ей придется заниматься хозяйством. Неужели она этого хочет? Не верю!
— Я не знаю точно, чего именно она хочет, но если она хочет остаться в Вальторсе, то уж, наверное, отдает себе отчет в том, что имение требует определенных забот, — сердито отбивалась Лаура.
— Ну еще бы! — насмешливо заметил Гвиде и, тяжело ступая, направился к двери. — Похоже, нам придется в конце концов оставлять свои земли женщинам. А то и вообще чужакам.
Элеонора и Лаура промолчали, и Гвиде вышел за порог. По его чересчур прямой спине было видно, как он напряжен и как тяжело у него на душе.
Элеонора вновь принялась было за работу, но вскоре опять подняла голову, не в силах успокоиться. Когда она снова заговорила, ее нежный голос звучал устало и печально:
— Знаешь, я, в общем-то, девочку не виню. Но, по-моему… Столько бессмысленных потерь кругом!.. И человек этот мне нравился.
— И мне он нравился, мама! И Пьере тоже. Но он был… чересчур добрый.
Ее слова заставили Элеонору улыбнуться.
— Замечательно! — сказала она. — Но в таком случае объясни мне, чего же вы все-таки хотите? Вы обе? Если хорошие и добрые женихи вас не устраивают? Между прочим, здесь, у нас в горах, не так уж и много хороших и добрых женихов! А на молодых людей из долины вы и смотреть не желаете — все боитесь, что они вас из дома увезут. Скажи, за кого же вы замуж-то собираетесь?
— А я не знаю, хочу ли я замуж, — спокойно ответила Лаура. — Где те простыни, что починить нужно?… Хотя Пьера, как мне кажется, замуж все-таки выйдет. Со временем. И между прочим, она и сама прекрасно справится с хозяйством Вальторсы; во всяком случае, лучше, чем граф Орлант. Ее всегда дела имения интересовали куда больше, чем обычные женские заботы по дому. И я очень сомневаюсь, что кто-то из молодых людей сумеет увлечь ее настолько, чтобы она согласилась отсюда уехать! Скорее уж ее будущему мужу придется сюда переехать и ей помогать…
— Простыни, по-моему, там, в нижнем ящике стола, дорогая… Ну хорошо, а как насчет тебя?
— Во-первых, я бы тоже очень хотела, чтобы папа позволил мне помогать ему по хозяйству. — Голос Лауры звучал уверенно и настойчиво, и мать встревожено на нее взглянула. — Мне бы хотелось стать ему настоящей помощницей.
— И работать в поле?
— Нет, совсем не обязательно… Я прекрасно понимаю, что могу и умею далеко не все… Но ведь ты и сама знаешь, мама, что сейчас папа очень многие дела совсем забросил. Например, счета. А вести счета, или продавать собранный урожай, или ездить по различным хозяйственным делам в Партачейку — все это я бы могла, всему этому я могла бы научиться! И я бы помогала ему… пока Итале не вернется.
Элеонора молчала, и Лаура совсем тихо прибавила:
— Я знаю… папе подобные идеи не по вкусу.
— Он абсолютно уверен, дорогая, что у каждого в жизни своя роль и ее нужно постараться сыграть как можно лучше. Мужчинам, женщинам, господам, слугам… Он уверен, что каждый должен делать то, что ему предназначено судьбой. И пытаться идти наперекор судьбе — затея напрасная, сулящая безумие или… гибель. — Последнее слово Элеонора произнесла почти шепотом.
— И ты, мама, тоже так считаешь?
Нет, не могла Элеонора выбрать между мужем и сыном! А потому лишь покачала головой и сказала обреченно:
— Не знаю я ничего, Лаура!
— Неужели папе так трудно научить меня хотя бы в счетах разбираться? Неужели мне нельзя даже попросить его об этом?
— Конечно же, можно! Попробуй, попроси. — Теперь Элеонора заговорила гораздо увереннее и посоветовала дочери: — А ты поговори об этом с Эмануэлем. Мне почему-то кажется, он будет на твоей стороне.
Но Лаура лишь молча покачала головой.
— Но почему? — удивилась Элеонора. — Или, может быть, ты с ним уже говорила?
— Нет. Я не говорила с ним и не могу. Понимаешь, дядя считает, что… это он виноват в том, что случилось с Итале, что папа винит его за это… И у меня даже язык не поворачивается просить его поговорить с папой обо мне. Да он и не захочет вмешиваться.
— А по-моему, очень даже захочет, — сказала Элеонора. — Вот погоди, он скоро вернется, и мы посмотрим!
Эмануэль уехал в Красной в конце февраля, получив от Брелавая еще одно письмо. Письмо было очень короткое; Брелавай писал, что они получили официальное подтверждение виновности Итале и вынесенного ему приговора и теперь Итале содержится в тюрьме Сен-Лазар в Ракаве. В письме все это сообщалось очень сухо и осторожно: на первое письмо Брелавая Гвиде так и не ответил, а тот, видимо, ожидал все же хоть какого-то отклика.
— По-моему, ты все-таки должен ему написать, — сказала мужу Элеонора.
— С какой стати?
— Хотя бы поблагодарить!
— За сообщение о том, что мой сын в тюрьме? Какой благодарности могут ждать от меня люди, которые его погубили?
— Никто его не губил! — взорвалась Лаура. — Он сам этот путь выбрал. А в тюрьму угодил благодаря усилиям нашего дорогого правительства и его неугомонной полиции! И если ты, папа, не напишешь Брелаваю и не поблагодаришь его за попытку помочь Итале и за верность ему, то я сама ему напишу!
— Не посмеешь, — сказал Гвиде, и Лаура действительно писать не стала. Тем более что отец Брелаваю все-таки написал; а также отправил письмо начальнику тюрьмы Сен-Лазар, написанное под руководством Эмануэля, на которое, разумеется, никакого ответа не получил. Зато Брелавай откликнулся мгновенно, и в его письме было столько бодрости и неугасающей надежды, что Эмануэль решился сам поехать в Красной, встретиться там с Брелаваем, попробовать все же подать апелляцию и добиться свидания с Итале. А если все это не удастся, то хотя бы получить разрешение на переписку с ним.
Однако в марте он вернулся назад ни с чем. Стефан Орагон осторожно — ибо осторожность была обратной стороной его ораторской пылкости — прощупал почву и обнаружил, что в этом направлении нельзя сделать ни шагу: все, кто был арестован в восточных провинциях в ноябре — декабре, служили для остального населения наглядным примером той судьбы, которая ждет в стране любого мятежника; их содержание под стражей власти считали абсолютно необходимым. Кроме того, если создать хотя бы один прецедент, возникнет совершенно неоправданный риск. Лишь добившись того, что об этих людях все позабудут, можно было бы попытаться снова выпустить их на свободу. «Каждый раз, когда вы произносите фамилию Сорде, вы опускаете на окошко в его темнице еще одну решетку, — сказал Орагон Эмануэлю. — Можно лишь пожалеть, что у вас одинаковые фамилии. Во всяком случае, пока вы здесь, в Красное, это только вредит Итале…» И Эмануэль, страшно огорченный, с тяжелым сердцем, поспешил оттуда уехать.
— Я не знал, — говорил он впоследствии брату, — просто понятия не имел, насколько это ужасно! Я думал, что законы… Я ведь юрист, Гвиде, я полагал, что знаю, в чем сила закона. Но оказалось, что я ничего об этом не знаю! Господи! А я-то, дурак, считал, что Закон черпает свою силу в Справедливости!
В октябре из Ракавы пришло письмо с отказом на просьбу Гвиде о разрешении видеться или писать заключенному.
— Значит, им понадобилось восемь месяцев, чтобы прислать мне это? — Гвиде скомкал письмо дрожащими руками.
В начале 1829 года по совету Орагона он написал губернатору провинции Полана, возобновив свою просьбу. Но ответа так и не получил. В марте Эмануэлю, который все это время переписывался с Брелаваем и другими тамошними друзьями Итале, была частным образом доставлена записка от Александра Карантая:
«С недавних пор в восточных и северных провинциях семьи арестованных и подозреваемых в преступлениях против правительства находятся под пристальным надзором полиции; в отдельных случаях членов таких семей могут также арестовать и подвергнуть допросу. А потому было бы лучше, если бы вы в сложившихся обстоятельствах на какое-то время прекратили всякие контакты с нами. Мы, безусловно, постараемся держать вас в курсе всех событий, но только не с помощью почты, которой теперь уделяется особое внимание…»
Весна была мягкой, но в апреле, когда персиковые сады были в цвету, вдруг ударил мороз и продержался целые сутки. Весь урожай, разумеется, погиб. Это был поистине убийственный удар для тех, кто занимался исключительно садоводством. Гвиде, получая доход в основном за счет торговли зерном и виноградом, мог позволить себе как-то поддержать своих арендаторов в столь неудачный год; но и его коснулось это бедствие: десятки акров прекрасных ухоженных персиковых садов стояли пустыми. В мае и июне он часто ходил туда и подолгу бродил по траве между деревьями, а потом, тяжело ступая, возвращался домой хмурый и напряженный. В июле из Ракавы пришел второй письменный отказ на его прошение о переписке с сыном. В тот вечер Гвиде долго не мог уснуть, хотя лег очень поздно; он лежал без сна, не зажигая огня и довольствуясь светом далеких звезд. По беззвучному дыханию Элеоноры он понимал, что и она тоже не спит, а потому сказал негромко, но довольно сердито:
— Ты не должна ночи напролет думать о нем!
Элеонора не ответила.
— Постарайся все же уснуть. Эти бессонные ночи до добра не доведут, — уже более мягко проворчал он.
— Я знаю.
Они лежали рядом и молчали, слушая, как плывет над миром теплая летняя ночь и в кустах вдоль дороги стрекочут кузнечики.
— Ах, мой дорогой, не надо так огорчаться! — воскликнула вдруг Элеонора, поворачиваясь к мужу и нежно обнимая его. Но даже она, основа всей его жизни, его единственная вечная радость, не могла его утешить.
В ту ночь не спала и Лаура. Окно ее спальни выходило на поля, где неумолчно звенели кузнечики и цикады. В июне Лауре исполнилось двадцать три. Именно этот возраст она давно уже определила для себя как некий водораздел. Когда-то двадцать три года казались ей невероятно далекими, практически недосягаемыми. Так было даже в двадцать лет. Но когда ей все же действительно стукнуло двадцать три, она решила: все, юность прошла, пора становиться мудрее, пора жить более размеренной жизнью, пора наконец перестать метаться — в общем, пора стать настоящей женщиной.
Но пока что она не чувствовала в себе ни уверенности, ни мудрости; и вообще ей было хуже, чем когда-либо прежде; и самое страшное, она все острее ощущала свое одиночество.
Три недели назад, днем, к ним забежала Пьера и предложила Лауре почитать вслух какую-то книгу. Они устроились на своем излюбленном месте у лодочного сарая, но книгу так и не открыли. Пьера, очень оживленная и очень хорошенькая в новом цветастом ситцевом платьице, явно хотела что-то рассказать своей лучшей подруге.
— Ну? — сказала наконец Лаура, довольно лениво и как бы поддразнивая. — Я ведь тебя ни о чем не спрашиваю, верно? Так что, пожалуйста, скажи уж сама, о чем я должна тебя спросить?
— Ни о чем! Ну хорошо, спроси: кто сделал мне предложение? — Пьера вспыхнула и дунула на белую головку одуванчика.
— Господи! Ты же настоящая охотница за женихами! И сколько еще раз несчастный Сандре должен просить твоей руки?
Александр Сорентай, увлекшийся и бессовестно обманутый дочерью адвоката Марией Ксеней, сбежавшей за две недели до свадьбы с каким-то коробейником из Вермаре и с тех пор ни разу не появившейся в Партачейке, некоторое время глубоко страдал. Этот жестокий обман затмил даже вялотекущие сплетни о разорванной помолвке Пьеры. Впрочем, страдал Александр недолго и вскоре возобновил осаду другой крепости, Пьеры, которая была его первой любовью и с которой он даже был когда-то тайно помолвлен. На сей раз он решил посватался к ней в открытую и сделал это весьма импозантно; он более не стыдился своих чувств и не боялся, что как-либо повредит ее репутации, тем более что все кругом знали о его первой неудачной попытке стать ее женихом. «Все ухаживает и ухаживает за ней, а она-то все его с толку сбивает и сбивает», — твердила на каждом перекрестке говорливая Марта Астолфейя, и все сразу это подхватили. «Ну что, все ухаживает?» — непременно спрашивал Эмануэль, когда Пьера с отцом заходили к Сорде в гости и после ужина все усаживались на знаменитой террасе над озером, и Пьера, разумеется, отвечала: «Ну да! А я все его с толку сбиваю и сбиваю!» Сперва ее даже огорчали эти ухаживания, поскольку она так и не смогла избавиться от чувства вины перед Александром после того письма, посланного ею из Айзнара. Однако его смиренное упорство сперва истощило в ней способность ему сочувствовать, а затем — и терпение. Впрочем, Пьера была достаточно умна и хорошо воспитана, чтобы умело избегать ситуаций, которые могли бы показаться обидными родителям Александра, которым подобный союз представлялся в высшей степени удачным. Но «подбирать объедки после дочери адвоката» Пьера, по ее собственным словам, ни в коем случае не собиралась.
— Ох уж этот Александр! — сказала она. — Нет, Лаура, это совсем не он! И так неожиданно… Просто как снег на голову! Но ты ни за что не догадаешься, кто это!
— Действительно… — Лаура мысленно перебирала возможных кандидатов. — У нас тут никого больше подходящего нет, особенно на роль твоего жениха.
— А как тебе наш управляющий?
— А что? Управляющий как управляющий…
— Это он!
— Гаври? — Лаура была потрясена.
— Да. Просто гром среди ясного неба. И ведь раньше ни словечком не обмолвился. Хоть бы как-то меня подготовил, что ли! Даже не намекнул ни разу. Да он вообще обычно со мной не разговаривает, разве что по делу. И, что касается работы, мы с ним отлично ладим, это правда. И вдруг, представляешь, он с трудом отрывается от документов об уплате ренты и прямо так сразу делает мне предложение! Так и сказал: «Графиня, не хотите ли вы стать…» Нет, я просто не сумею это изобразить! Но, честное слово, у меня нет ни малейшего желания над ним смеяться! По правде говоря, мне даже чуточку грустно.
— Но ты же сказала «нет»?
— Конечно.
Лаура, помолчав, снова спросила:
— Это из-за… разницы в вашем положении?
— Что ты хочешь этим сказать? Что он сын фермера, да еще и незаконный, а я графиня? Неужели ты действительно так плохо обо мне думаешь? Я-то боялась, что это ему в голову придет, но чтобы тебе… Ну ладно. Хотя кое-кто действительно именно это учел бы в первую очередь. Но клянусь: если бы я хотела выйти замуж за Берке Гаври, я бы вышла! Мало того, в известной степени мне даже жаль, что я за него не выйду. Я же сказала: мы с ним отлично сработались, и я уверена, что вместе мы могли бы превратить папино поместье в нечто совершенно выдающееся. И он это, по-моему, отлично понимает. Возможно, именно потому ему пришла в голову мысль жениться на мне. Он человек очень практичный и очень честолюбивый. Но, увы, отнюдь не герой моего романа.
В голосе Пьеры не было ни растерянности, ни насмешки. Лауре еще не приходилось слышать, чтобы она говорила так резко и так разумно. Собственно, ей нечего было возразить Пьере. И вскоре подруги выбрались из своего убежища за лодочным сараем. Пьера спешила: ее ждал отец; граф уже больше месяца был болен. Лаура поднялась к себе и наконец дала волю собственным чувствам. «Трус! — шептала она в гневе, не находя более никаких слов, чтобы выразить все то, что так долго терзало ее душу и теперь превратилось в жалкие руины. — Ах, какой трус!»
Два года назад, весною, когда Пьера еще была в Айзнаре, Лаура получила письмо от Итале, в котором он описывал свою встречу с Пьерой в монастырской школе. В эти дни как раз стояла чудесная погода, какая бывает порой в апреле, и Лаура, долгое время просидевшая дома из-за изнуряющего бронхита, наконец вырвалась на свободу и поднялась по залитому солнцем склону холма в персиковый сад, начинавший цвести. Утреннее солнце сияло на ветвях деревьев и на невысокой зеленой травке, что росла между стволами. Лаура не стала забираться особенно далеко и устроилась на принесенном с собой коврике в первом же понравившемся ей местечке. Дул теплый ветерок. В темных стволах и ветвях деревьев чувствовалось кипение жизненных соков; набухшие и полурасцветшие бутоны источали тончайший аромат. Со стороны амбаров и хозяйственных построек доносился звон металла, шипение раскаленного железа в воде, стон старинных мехов. Должно быть, это правнук старого Брона, Зеске, подковывал в своей кузне лошадей: оттуда доносились конский топот и нервное ржание. Впрочем, здесь, на холме, все звуки были слышны особенно отчетливо, даже приглушенные расстоянием и мощным течением теплого воздуха. И тут появился Гаври. Он быстро шел среди деревьев, но, завидев Лауру, остановился как вкопанный. На плече у него висело ружье; охотничья собака по кличке Роше выглядела усталой: они явно охотились в лесу, высоко в горах, и отчужденность этих далеких лесов все еще чувствовалась и в охотнике. Гаври остановился метрах в трех от Лауры. Оба молчали. Взгляд его, сперва удивленный, стал внимательным и сосредоточенным, как всегда. Однако он стоял совершенно неподвижно, точно вдруг окаменев. Стоял и неотрывно глядел на нее.
— Разве мы не знакомы, господин Гаври? — спросила она насмешливо; ей было страшно.
Тогда он наконец шевельнулся, снял шапку и провел рукой по чуть влажным рыжевато-каштановым волосам.
— Да нет, знакомы, госпожа Лаура, — сказал он чуть хрипловато. — Просто я никак не ожидал, что вы будете тут сидеть.
Лаура погладила собаку, которая плюхнулась с нею рядом, устало уронив голову на лапы.
— Да как ты смеешь, Роше! А ну-ка, пошел прочь! — возмутился Гаври. Он и сам устал не меньше своего пса.
— Да пусть. Мы с ним давно знакомы. Ну что, удалось вам что-нибудь подстрелить на Сан-Дживане?
Он покачал головой и сел на траву на некотором расстоянии от нее.
— Раз уж остановился, так сяду: ноги больше не держат. Я ведь еще до рассвета ушел. Хотелось повыше забраться. Туда, где, по слухам, та волчица живет.
— Нашли вы ее?
— Ни одного следочка!
— Ее уже пять лет никто выследить не может. Интересно, это действительно какая-то особенная волчица или просто охотничьи байки?
Она лукаво на него посмотрела: он сидел, расслабленно уронив свои смуглые руки; грудь его спокойно вздымалась в такт дыханию; в волосах играло солнце.
— Да нет, там она. Точно. Ваш Касс в прошлом месяце ее видел. А сегодня моего пса олений след с толку сбил, и он, дурачина, увел меня сперва за гору, а потом обратно… Теперь уж, наверно, полдень скоро. Ах! Как же… — Он пожал плечами и быстро глянул на Лауру с неожиданным любопытством и дружелюбием. — Знаете, из-за любви к охоте я ведь свое предыдущее место потерял, в Альтесме. Стоит мне в горы подняться, так я могу неделю ходить и даже усталости не чувствую. В точности как эта глупая псина.
Вскоре Гаври пошел прочь, и пес, хромая, потащился за ним следом, а Лаура все смотрела ему вслед и никак не могла изгнать из своей памяти его острый откровенный взгляд, с одобрением скользнувший по ней, и его странную полуулыбку на всегда таком замкнутом лице. Да, она невольно застигла его врасплох, увидела самую его суть: увидела в нем Охотника. И с тех пор она никак не могла забыть эту встречу, а когда они встретились вновь, поняла, что и он ничего не забыл. Однако теперь он старался на нее не смотреть. И никогда с ней не говорил — так, несколько слов. Но порой она все же ловила на себе его внимательный и спокойный взгляд: он рассматривал ее, точно картинку в книге, которую читает.
Через некоторое время она привыкла к его взглядам, к его манере не смотреть на нее впрямую и не говорить с ней ни о чем существенном. Они встречались только в Вальторсе, в присутствии ее родителей, графа Орланта, кузины Бетты, Тетушки, Роденне и прочих членов семейства Вальторскар. Когда начиналась игра в вист, она всегда замечала, как хороши руки Гаври — смуглые, с тонкими запястьями, с изящными длинными пальцами, — и всегда заранее знала, как именно ляжет на стол эта красивая рука, пока ее хозяин ждет следующего своего хода.
Осенью ей наконец снова удалось поговорить с ним наедине. Она в тот день принесла в часовню Святого Антония цветы для праздника Всех Святых, и старый отец Клемент немного задержал ее. Она очень любила старого священника, удивительно доброго, немного невежественного и грязноватого. А он, сам того не сознавая, ее обожал; это она знала хорошо. Помощников у отца Клемента не было, и Лаура помогла ему украсить часовню хризантемами, георгинами и осенними маргаритками. Цветы были яркими, похожими одновременно на пламя и пепел, алые, золотистые, бледно-розовые. От них рябило в глазах, все руки у нее пропитались их свежим горьковатым запахом, пока она украшала алтарь, слушая в полумраке часовни тихое бормотание священника. Прихожан было немного: несколько старушек из числа тех, что всегда приходят к вечерне, и Касс, которого послали за Лаурой и который вошел в церковь, когда служба уже началась, да так и заслушался. Касс был молодой еще парень, известный задира и совсем не любитель молиться вместе со старыми перечницами Но Лаура заметила в церкви и еще одного мужчину, помимо Касса, и сперва никак не могла понять, кто же это. Но вскоре узнала и знакомые очертания плеч, и профиль, и густые вьющиеся волосы. Это был Гаври. Неужели он так набожен? Что-то не верилось, хотя с такими молчунами, как он, никогда и ничего нельзя сказать наверняка. Знакомая крестьянка, в свои сорок лет уже морщинистая и беззубая, никогда не пропускавшая ни одной мессы, исповедалась, поцеловала священнику руку и стала хвастаться Лауре своим племянником, учащимся семинарии. Эта женщина, если б ее спросили где-нибудь вне церкви, вполне могла бы сказать, что не верует в Бога. «Но есть святые, да и святая вода — тоже вещь замечательная», — сказала однажды Лауре такая же женщина,
настоящая язычница. Тут можно было встретить и кого-нибудь из местных суровых мужчин, из таких, что вслух говорили, что церковь годится только для священников, а у самих глаза горели от мучительной борьбы с самим собой и страстного стремления к Богу. В здешних местах даже определение имелось, подходящее для подобных случаев. «Нашло на него», — говорили про такого человека. «И чего это Томас Сорентай все в церковь ходит?» — «Да, видно, нашло на него…» Страдания, несчастья, тайна — из-за чего на них «находило»? Они и сами не могли бы, наверное, объяснить, но состояние это распознавали сразу. Вот и Лаура Сорде сразу его распознала. Она снова посмотрела туда, где в темном углу стоял Гаври. На него что, тоже «нашло»? В какую же западню угодил этот любитель охотиться в горах? Странные все-таки мысли приходят ей в голову порой! Иногда она бывала до слез тронута, всего лишь увидев в церкви кого-то из местных мужчин, который, встав на колени, демонстрировал всем грязные подошвы своих башмаков и низко склонял обнаженную голову, моля Господа о помощи. Она привыкла к этому зрелищу, и все же оно всегда казалось ей странно трогательным и вызывало некую почти постыдную жалость.
Гаври вышел из часовни следом за Лаурой, сразу же подошел к ней и заговорил. Молодой Касс уже ждал ее, вот-вот должен был выйти и отец Клемент, и она, чувствуя себя хорошо защищенной, держалась довольно смело и не скрывала своего любопытства, желая раззадорить этого типа, который боялся на нее смотреть.
— Что это вы сюда пришли сегодня? Неужели на вас тоже «нашло»?
— Я пришел, чтобы увидеть вас, — сказал он.
Ей показалось, что сердце у нее остановилось; она мгновение помедлила, но взяла себя в руки и пошла дальше с ним рядом.
— Зачем же я вам понадобилась? — спросила она наконец и нахмурилась: собственный тон, лицемерный, фальшивый, был ей отвратителен.
— Не знаю. Просто пришел, потому что захотелось вас увидеть. Вот и все.
— Ну что ж, прекрасно. Вот вы меня и увидели.
Он остановился у церковных ворот и посмотрел ей прямо в лицо. Они были одного роста, и глаза их тоже оказались на одном уровне.
— Вы-то на меня хоть раз посмотрели? — спросил он, и Лаура испуганно огляделась: Касс отвязывал лошадь, богомольные старушки, переговариваясь, уходили в деревню по тропе. Вряд ли они что-нибудь слышали, хотя он сказал это очень громко, точно они были здесь совершенно одни, и так страстно и требовательно, что ей стало страшно. Но привычка к самозащите, видно, оказалась в нем сильнее страсти. Стоило Лауре шевельнуться, как он насторожился, чуть отвернулся от нее и заговорил гораздо тише:
— Почему вы спросили, что это на меня «нашло»? Какое вам до этого дело?
Лаура начала поспешно оправдываться:
— Извините, что я так сказала.
— Ах, «извините»? Ну так и оставьте меня в покое! Слышите? А? — Он задыхался, как и тогда, полгода назад, когда стоял возле нее в цветущем саду. Вдруг он отшатнулся и исчез в сумеречной мгле, уже окутавшей обсаженную соснами дорогу на Сан-Лоренц.
Когда Касс вез Лауру и отца Клемента домой, священник спросил у нее:
— О чем это вы с Берке Гаври беседовали?
Голос у старика был зычный, и Лаура знала, что теперь все в Валь Малафрене, даже звери в темном лесу поблизости, знают, что она «беседовала с Берке Гаври».
— Да так, ни о чем.
— А?
— Я сказала, ни о чем.
— Ах вот как? А мне показалось, он тебе что-то важное сказал.
Лаура не ответила.
— Он парень хороший, — по-прежнему громко и с чувством произнес отец Клемент. — Не хуже других, что бы там о нем ни говорили.
— А я никогда ничего такого о нем и не слышала, — заметила Лаура и тут же почувствовала себя соучастницей Гаври.
Отец Клемент был доволен: нашлась новая слушательница для старых сплетен! Устоять перед таким искушением было невозможно. Он никогда не задумывался, что можно и чего нельзя говорить и рассказывать священнику; ему и в голову не приходило, что распространяемые им слухи могут кого-то оскорбить или навредить кому-то. Для него все это были только слова, занятные истории, приправа к обычной пресной жизни.
— Неужели ты никогда не слышала, что о нем в Альтесме болтают?
И он поведал Лауре, что Гаври уехал из Валь Альтесмы потому, что там, в деревушке Кульме, от него забеременела одна девушка, дочь местного фриголдера.
— У нее в семье и мужчин-то не было, одни женщины, да еще ее старый дед. Тамошние жители говорят, ей ничего другого не оставалось, как всем рассказать. А ему из Альтесмы пришлось уехать. И он тогда перебрался в Раскайну, служил там помощником управляющего. Говорят, он и там грозой местных девиц был.
— Господи, что за глупости! — воскликнула Лаура. — Если бы все это было правдой, граф Орлант никогда бы такого управляющего не нанял.
— Это почему же? — удивился старый священник. — Нет, милая, это все чистая правда. Правда и то, что здесь от Гаври пока что никому никакого беспокойства нет. Он и человек неплохой, и управляющий хороший. Никто про него ничего иного в Валь Малафрене и не скажет. — Отец Клемент поискал подходящую мораль и с удовлетворением закончил: — Молодые парни, прежде чем остепениться, всегда перебеситься должны.
Что ты-то в этом понимаешь, старый жирный каплун? — сердито подумала Лаура, а вслух попеняла старику за то, что он передает чужие сплетни. Отец Клемент вдруг засуетился и растерянно посмотрел на нее. Он никак не ожидал, что из-за какой-то «истории» эта милая, высокая девушка с тихим голосом так сердито набросится на него. В минуты гнева Лаура была очень похожа на своего отца.
— Но я же сразу сказал тебе, что человек он хороший! — взмолился отец Клемент.
— Хороший! Если он действительно поступил так, как вы рассказываете, то как же можно называть его «хорошим»? Все, довольно. Я больше не желаю об этом говорить!
Этот разговор слышали не только деревья на склонах горы Сан-Лоренц; слышал его и охотник Гаври, спрятавшись за стволами деревьев. Слышал и все понял.
Самое ужасное было то, что они, практически не сказав друг другу ни слова, ни разу друг друга не коснувшись, отлично друг друга чувствовали и понимали. И спрятаться от этого было некуда.
Она всегда считала, что по-настоящему понять человека можно только душой, а голос плоти — это та тьма, что скрывает свет и только мешает пониманию. Теперь же ее уверенность в этом рухнула сама собой. Именно душа-то и одинока, понимала она с отчаянием, именно душа и умирает во мне сейчас. Лишь во плоти дано нам познать таинство Причастия, и плотью своей цепляемся мы за настоящее, которое для нас длится вечно. И мрачные тени не исчезнут, не оставят невинную детскую душу купаться в лучах света, ибо то, что пребывает с нами всегда, есть тьма, неясность мыслей и тяжесть собственного тела, способного отбрасывать тень. Дыхание жизни — это просто работа легких. Работа живого организма.
Однажды ноябрьским вечером, когда после ужина они с матерью сели шить, Лаура встала, чтобы подлить масла в лампу, стоявшую рядом, и, торопясь, налила слишком много; огонек на кончике фитиля тут же замигал и погас — утонул в питавшем его топливе. Она смотрела на это, как зачарованная, и не замечала, что масло пролилось ей на руки, на стол…
— Господи, что ты делаешь, Лаура! — воскликнула мать. — Смотри не запачкай платье!
Но девушка будто не слышала; она так и стояла, уставившись на лампу, на утопленный фитиль, на черную копоть. И те мрачные тени словно сомкнулись над нею. Она беспомощно обернулась к матери. Элеонора вскочила, бросив шитье:
— Что случилось, Лаура?
— Ах, мама, на меня «нашло»… — еле вымолвила девушка и вдруг принялась смеяться. Смех сменился слезами, но она довольно быстро сумела взять себя в руки и объяснять свое поведение Элеоноре отказалась, сославшись на то, что просто слишком устала.
Она легла рано, но уснуть не могла, тщетно пытаясь избавиться от собственных мыслей, от ощущения собственного тела, от своего неудержимого стремления к тому человеку, который отныне владел всеми ее помыслами. Молиться она не стала.
В конце концов Лауру спасло именно то, что сперва чуть ее не погубило: понимание полной беспомощности Гаври в данной ситуации. Его страсть, которую она так хорошо чувствовала и которая, собственно, и завоевала ее сердце, ему самому оказалась во вред: эта страсть правила им, однако подчинялся он ей неохотно, точно не веря в возможность ее воплощения в жизнь. А когда такой шанс ему представился, он его упустил. Вскоре они, впрочем, смогли как-то объясниться, встретившись случайно на берегу озера красными от заката декабрьскими сумерками.
— Я уезжаю из Вальторсы, — сказал он.
Закатный свет румянил ему щеки, делая его лицо молодым и живым.
— Уезжаете? Но почему?
— По той же причине, что уехал из Альтесмы.
— А я думала, вас тамошний хозяин просто уволил. Она знала, как сделать ему больно.
— Уволил? Кто вам это сказал? Я уехал по собственному желанию!
На лице у Лауры отразилось сомнение, но она ничего не сказала.
— И еще — чтобы расстаться с женщиной, которая не желала оставить меня в покое! — запальчиво прибавил Гаври.
— Так вы, значит, собираетесь туда вернуться и жениться на этой женщине?
— Я? Какого черта мне на ней жениться? Я что, похож на тех, кто женится?
— Ну, это все же лучше, чем добровольно сгореть на костре, — смело ответила Лаура, слабея от ненависти к нему, от страха, от страсти, пылавшей в ее душе. — И неважно, на кого вы похожи.
— О да! А что, вы бы тоже с удовольствием заполучили меня — чтобы спасти от такого самосожжения?
Лицо его пылало и в странном вечернем свете казалось багровым. Страшно взволнованный, он отступил от нее на шаг, словно попал в ловушку и считал, что единственный выход — это самоубийство, и все же страшился такого исхода.
— Не знаю, зачем я это сказал… — пробормотал он смущенно.
— Вы сами себя мучаете, Берке. — Она заглянула ему в глаза. Голос ее звучал почти нежно. Он никак не мог понять, что в данном случае они равны, а она ни за что бы не стала объяснять это мужчине, который сам понять этого не в состоянии.
— А вы? — еле слышно спросил он.
— Возможно. Но разве вам есть до этого дело?
И она улыбнулась ему, но он на ее улыбку не ответил. Стоял, безмолвный, беспомощный… Ей даже стало за него стыдно.
— Вам никуда не следует уезжать. Вы должны остаться здесь, — спокойно сказала она. — Иначе скоро не останется мест на земле, где вы могли бы спастись… от себя самого! Вы их и так уже почти все перепробовали. Кроме того, как мне кажется, вы кое-чем обязаны графу Орланту.
— О да, это верно, — сказал он почти покорно, и ей вдруг страшно захотелось оказаться от него как можно дальше. Ей было жаль этого человека и хотелось, чтобы он поскорее ушел — хотя бы с глаз долой убрался!
— Знаете, это все одни разговоры — об отъезде. Я, конечно же, останусь! — Это он сказал уже почти спокойно.
— Я так и думала, — равнодушно откликнулась она.
Больше она на него даже не взглянула; она смотрела вдаль, за озеро, где меркнул красноватый свет, переходя в неясные коричневато-фиолетовые сумерки. Она чувствовала себя страшно одинокой. Он подошел к ней и протянул к ней руки, и она позволила себя обнять — потому что ему необходимо было, чтобы она ему это позволила, чтобы она СНИЗОШЛА, чтобы она почувствовала себя его госпожой, а он себя — ее слугой, чтобы между ними не было никакой откровенности, честности, а только эта дурацкая игра в богатую хозяйку и нищего отщепенца. И он, чувствуя ее безучастность и равнодушие, отпустил ее, промолвив:
— Ни к чему это… Почему вы делаете из меня дурака?
И тут она наконец на него посмотрела.
— Так вы и есть дурак, Берке, — сказала она. — И я тут ни при чем. Если у вас недостает мужества пойти этой дорогой, так лучше возвращайтесь в Валь Альтесму, к той, самой первой, девушке, от которой вы сбежали. — Она резко повернулась и пошла от него прочь по берегу озера к далекой песчаной косе. И он ее не удерживал.
Вот и конец этой истории, сказала она себе. И это действительно оказалось именно так, хотя из Вальторсы Таври не уехал. Когда им доводилось встречаться у общих знакомых, она старалась с ним практически не говорить, словно не замечая его умоляющих вопросительных взглядов и изо всех сил подавляя собственное унизительное и страстное желание услышать от него хоть одно ласковое слово, еще раз ощутить прикосновение его рук. Она не могла просто так стряхнуть с себя воспоминания о нем. Он был первым мужчиной, который разбудил в ней женщину. И никто другой его места пока не занял. Проходили недели и месяцы, и, сама того не ведая, Лаура лелеяла свою бесплодную страсть, невольно пытаясь ее сохранить. В ее жизни было так мало событий, а Гаври был первым, кто по-настоящему, страстно обнимал ее… И она позволяла себе мечтать о каком-то будущем примирении и взаимопонимании, как будто остались еще какие-то пути к примирению, как будто они еще могли объясниться и понять друг друга!
Но теперь она утратила даже эти мечты, последний теплый лучик света в кромешном холоде и мраке. Сперва ей показалось, что Гаври сделал предложение Пьере, просто чтобы отомстить ей, Лауре. Но потом убедила себя, что ошибается, всего лишь льстит себе. Возможно, Гаври боялся Гвиде Сорде, но не боялся Орланта Вальторскара — да, скорее всего, основная причина была именно в этом. Кроме того, ему, возможно, больше хотелось заполучить Пьеру, а не ее. Она сказала себе, что должна принять и такую возможность, но не сумела. Потому что знала: Пьеру он не желает как женщину и именно поэтому ведет себя с ней смелее и даже оказался способен сделать ей предложение, а ведь этой темы в разговорах с Лаурой он даже не касался. Этот охотник угодил в собственную ловушку — в этом она была уверена; но потом себя же за эту уверенность корила и называла дурой — за эту уверенность, за собственное тщеславие, за попытку сберечь любовь, которой ей никогда и не предлагали! К тому же ему почти удалось разлучить ее с лучшей подругой! Лаура не ревновала его к Пьере. Но Пьере она завидовала, она всегда завидовала ей, и именно эта зависть составляла отчасти ту основу, на которой покоилась их давняя дружба; и ничего плохого в этой зависти не было. Но этот человек сумел испортить их откровенные отношения, и теперь им стало трудно говорить друг с другом открыто, а ведь это служило для Лауры единственным утешением в ее душевном одиночестве. Она никогда не рассказывала Пьере о своих любовных переживаниях, она вообще ни словом не обмолвилась ей о своих отношениях с Гаври — отчасти потому, что была не в состоянии выразить словами столь новое, непривычное состояние, описать ту темную, сумеречную страну плотской любви, в которую лишь заглянула. Живя в деревне, Лаура, разумеется, знала, какими словами пользуются крестьяне для обозначения половых сношений, но даме пользоваться подобным лексиконом отнюдь не пристало, особенно говоря о собственных возвышенных и страстных чувствах. А кроме того, Лаура вообще не испытывала ни малейшей потребности с кем-либо говорить об этом. Ей было стыдно. И вся эта история казалась ей постыдной, и не хотелось, чтобы хоть кто-нибудь о ней узнал.
Такова была ее женская мудрость в двадцать три года. Такова была ее женская притягательность.
Но больше всего ее мучил страх потерять Пьеру. Этого она бы не перенесла, и в итоге, стиснув зубы и подавив чувство стыда и унижения, она рассказала подруге о своих отношениях с Гаври настолько подробно, насколько смогла. Сперва Пьера почти ничего не поняла из ее сбивчивого рассказа и растерянно спросила:
— Ты хочешь сказать, что любишь его… любила его, да, Лаура?
— Нет. — В этом Лаура теперь была уже совершенно уверена. — Я хочу сказать, что мне тогда было ужасно трудно не касаться его. Меня к нему так и тянуло… Как и его ко мне. Но это продолжалось не очень долго.
Она чувствовала, как Пьера старается преодолеть разделившую их преграду, как она доверчиво заглядывает за этот барьер, и чувствовала себя испорченной, развратной девкой, совращающей и невинную Пьеру. И вдруг Пьера, еще немного подумав, сказала:
— Ничего удивительного, что ты так хорошо все поняла про Дживана Косте.
Лаура затаила дыхание, она боялась вымолвить хоть слово.
— Мы просто пришли к этому разными путями, — продолжала Пьера. — Тебе выпало слишком много того, чего мне не досталось почти совсем… Но что же все-таки случилось с Берке? Чего он вдруг так испугался?
— Это была не его вина.
— Я знаю: тебя, он испугался тебя! — Пьера словно размышляла вслух. — А меня он не боялся совсем. Потому что я не такая сильная, как ты. Потому что меня он не любит. Вот почему он сделал предложение мне, а не тебе. Как же он глуп! Как же все это глупо!.. А знаешь, я ведь тогда всерьез подумывала принять его предложение. Я знала, что могу заставить его еще раз просить моей руки. Он очень хороший управляющий. И я боялась, что он уйдет от нас. А мы с ним так хорошо сработались. Я ведь уже не плохо понимаю, что и как нужно делать, как следует управлять имением и что было бы для него полезно. И по большей части научил меня этому именно Берке. Так что… — Она слабо улыбнулась.
— Так почему бы тебе за него действительно не выйти?
— Потому что! Если уж заключать брак по расчету, то Сандре подойдет куда больше.
— Так, может, ты все-таки выйдешь за Сандре? — тем же ровным тоном спросила Лаура.
— А почему я вообще должна выходить замуж?
— Не знаю.
Теперь они разговаривали совершенно спокойно и совершенно откровенно. И никакие тени прошлого им не мешали.
— И все-таки я не понимаю! — воскликнула Пьера. — Я правда ничего не понимаю! Что же все-таки у вас было с Берке? И я совершенно не знаю, что такое любовь или, по крайней мере, что под этим понятием скрывается. И почему эта любовь должна непременно заполнить всю мою жизнь целиком?
Лаура молча покачала головой, не сводя глаз с золотистой лужайки чуть выше лодочного сарая.
— Знаешь, Итале всегда говорил, что всему свое время, — продолжала между тем Пьера. — Но мы с тобой все ждем и ждем… А чего мы ждем, Лаура? И почему сам Итале должен сидеть в тюрьме и чего-то ждать? И почему мужчины непременно должны выставлять себя такими дураками? Понимаешь, мы, по-моему, зря тратим свою жизнь! Неужели ответом на все мои вопросы является любовь? Не понимаю, не понимаю…
Часть VI. Неизбежная страсть
Глава 23
Пройти в тюрьму Сен-Лазар можно было через четырехметровой высоты ворота в железной ограде. Потом через двор, вымощенный булыжником, вы проходили в еще одни ворота и по каменному туннелю со стенами полутораметровой толщины попадали в коридор, а затем и в довольно просторное помещение со сводчатым потолком, где размещалась охрана. Воздух здесь был влажный, со сладковатым запахом плесени. Окон в караульном помещении не было, и было тихо, как в винном погребе или в находящейся глубоко под землей пещере; лишь некий странный неприятный, но едва слышимый шумок за дальними стенами и дверями свидетельствовал о том, что тишина здесь не абсолютна, что вокруг не пустота, а забитые арестантами камеры. Луиза Палюдескар старалась держаться с достоинством и чуть надменно, пока вместе с представителями властей, сопровождавшими ее, ожидала тюремного писца. Одной рукой она чуть приподняла край шелкового платья, чтобы он не касался влажного грязного пола, и стояла, гордо выпрямив спину, не глядя по сторонам и не произнося ни слова. То был час ее победы. Ради этих мгновений она боролась целых два года и два месяца.
Поспешно вошли два писца, утирая рты после обеда, а за ними невообразимо высокий и толстый человек в форме лейтенанта полиции Поланы. Чиновник, сопровождавший Луизу, открыл было рот, собираясь что-то сказать, но она его опередила и звонким голосом сообщила о том, чего так долго добивалась:
— Лейтенант, господин Коневин привез вам постановление Верховного суда за подписью премьер-министра страны, отменяющее прежний приговор, вынесенный заключенному Итале Сорде.
Великан в замешательстве протянул руку, взял у чиновника, сопровождавшего Луизу, конверт с документами и пробормотал, не сводя глаз с Луизы:
— Приветствую вас, господин Коневин. Меня уже известили. Рад служить вам, сударыня…
— Это баронесса Палюдескар, лейтенант Глей, — подсказал еле слышно Коневин; похоже, здесь вообще не принято было разговаривать нормально, в полный голос. — Все в порядке, Глей. Вот, смотрите сами: освободить немедленно. — Они склонили головы над документом; их бормотание стало еще более невнятным. Лейтенант держал бумагу на расстоянии от себя, словно боялся, что она его обожжет.
— Да, да… Ларенцай, найдите в списке Итале Сорде. Поступил 27 ноября.
Оба писца встрепенулись. До сих пор они сидели как истуканы — один за столом, второй за конторкой, — не говоря ни слова и стараясь не смотреть на Коневина и Луизу. У того, что сидел за столом, голова росла, казалось, прямо из плеч, а серое лицо было все покрыто какими-то бородавками. Второй, за конторкой, был тощий, хлипкий, с длинными прямыми волосами и узкой щелью вместо рта, точно прорезанной бритвой.
— Сорде? — громко переспросил тощий, и это имя на фоне давящей тишины и монотонного бормотания тюремного начальства прозвучало поистине оглушительно. — Сорде умер.
— Умер? Когда?
— В конце прошлой недели.
— Ясно. У нас тут эпидемия, знаете ли, — обратился лейтенант к Коневину и Луизе. — В этом году просто сладу нет с болезнями. Проверьте по списку, Ларенцай.
— Он в главном списке. Как особо опасный, — глубоким басом сообщил второй писец, без шеи.
— Достаньте список умерших в феврале, Ларенцай. Пожалуйста, присядьте, баронесса, прошу вас. — Великан принес стул и вытер его собственным рукавом. Но Луиза не села. Она боялась пошевелиться: голова кружилась, в ушах стоял звон. Длинноволосый клерк спорил с тем, что без шеи, лейтенант бормотал, что-то втолковывая им обоим… Коневин в отчаянии попытался что-то сказать им, но Луиза не могла разобрать ни слова — сквозь непрерывный звон в ушах их голоса доносились до нее, точно кваканье каких-то адских лягушек.
— Прошу вас, баронесса, присядьте. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы во всем разобраться, — услышала она наконец слова Коневина и послушно села, не обращая внимания на то, что шелковая юбка метет грязный пол. Немного успокоившись и призвав на помощь все свое самообладание, она очень тихо спросила у Коневина, стоявшего рядом:
— Так что же, он действительно умер?
— Похоже, что все-таки нет, баронесса, — постарался он шепотом успокоить ее, но здесь, видно, умели улавливать даже тишайший шепот, потому что тощий клерк с длинными волосами заорал, сердито глянув на Коневина:
— Я же сказал: он в списке больных, а вовсе не покойников!
А второй, без шеи, прогудел:
— Ну да, как особо опасный.
Луиза задрожала всем телом и невольно прижала руки к щекам. Вся кровь, до того отхлынувшая от ее помертвевшего сердца, теперь, казалось, разом прилила к нему горячей волной, вызвав головокружение. Луиза сидела совершенно неподвижно, пока не почувствовала, что вполне овладела собой и в обморок уже не упадет. Затем она — ровным голосом и даже чуть улыбаясь — заметила, обращаясь к Коневину:
— Интересно, как может человек остаться жив, проведя здесь два года?
— Здесь многие куда больше проводят, баронесса, и ничего, живут, — сухо ответил ей чиновник. Он уже достаточно ясно показал ей, еще в кабинете губернатора, что ему очень не нравится то, что она затеяла; а с тех пор, как они вошли в тюрьму, Коневин совершенно застыл, и с его круглой красной физиономии не сходило выражение отвращения и раздражения.
— Что это за эпидемия, о которой говорил лейтенант?
— Тюремная лихорадка, наверное, — ответил Коневин и коротко вздохнул. Боится заразиться, догадалась Луиза, и эта мысль доставила ей странное удовольствие.
— Так, значит, Сорде тоже был болен? Но они, надеюсь, собираются его выпустить?
— Да, баронесса, конечно. Послушайте, Глей, я не могу торчать здесь весь день! Скажите им, чтоб поторопились.
— Минуточку, господин Коневин, минуточку! — угодливо пробормотал великан, ничуть, впрочем, не встревоженный; здесь была его вотчина, и Коневин здесь был не властен, и оба они это понимали. Длинноволосый клерк что-то писал, перо скребло по бумаге с отвратительным писком, удивительно похожим на пронзительный голос самого писца. Лейтенант подошел к столу, порылся в бумагах и что-то вполголоса сказал второму писцу. Часов в комнате не было. Луиза сидела молча, крепко сжав руки и машинально вертя перстень на пальце; от этих легких движений серый шелк ее юбки переливался, точно поверхность воды. Она с огромным трудом заставляла себя сидеть спокойно, ее совершенно измучило это бесконечное ожидание, однако немереные минуты все текли и текли, и невозможно было сказать, много или мало прошло времени и не остановилось ли оно вообще. Наконец в коридоре послышался шум, и охранник в мундире ввел высокого лысого человека лет шестидесяти. Они остановились у самой двери. Лысый человек стоял, сгорбившись и глядя в пол мутными глазами; на нем были бесформенные серые штаны и старое пальто, висевшее, как на вешалке. Заключенный стоял босиком на ледяном каменном полу, и Луиза поспешно отвела глаза.
— Сорде, Итале… — прочитал в какой-то бумаге лейтенант, и охранник подтвердил:
— Ну да, Сорде. Особо опасный.
Луизу подташнивало от гнева и отвращения, но она, стараясь сохранять спокойствие, сказала негромко:
— Это не он. Скажите, лейтенант, вы наконец займетесь тем заключенным, которого, согласно доставленному вам приказу, должны освободить, или мне придется привести сюда начальника тюрьмы?
— Как не он? Это какой заключенный, Лийвек?
— Да он это, — сказал охранник. — Только болеет.
— Удивительный у вас все-таки здесь беспорядок, лейтенант, — возмутился Коневин, и лейтенант, вдруг рассвирепев, заорал, выпрямившись во весь рост и нависая над охранником:
— Ты кого это привел? Немедленно увести!
Но охранник остался на месте, тупо повторяя:
— Да он это, он!
Сам же заключенный, казалось, не проявлял к происходящему ни малейшего интереса. Случайно взгляд его упал на Луизу, и он, точно не веря собственным глазам, протер их рукой. И Луиза тут же с ужасом узнала такой знакомый ей жест!
— Да, это он! — прошептала она, обернувшись растерянно к Коневину. И все остальные, конечно же, тоже услышали ее шепот. Лейтенант Глей так и уставился на нее; глаза его горели праведным гневом. Охранник отступил назад, клерки что-то недовольно забормотали. Коневин тоже смотрел на нее весьма холодно. Но поскольку Луиза продолжала сидеть неподвижно, именно Коневину пришлось подойти к заключенному. Остановившись на некотором расстоянии от него, он спросил тихо и растерянно:
— Так вы Сорде?… Господин Сорде, это вы?…
Человек терпеливо ждал продолжения и не отвечал.
— Мы привезли приказ о вашем освобождении, господин Сорде. Ваш приговор отменен Верховным судом. Вы меня понимаете? — Коневин повернулся к Луизе. — Этот человек действительно очень болен, госпожа баронесса… — В его голосе слышались раздражение и отвращение. — Представления не имею, что вы сможете тут сделать. Положение совершенно немыслимое! Вы уверены, что?…
— Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы они поскорее покончили со всеми формальностями, — прервала его Луиза. На заключенного она не смотрела.
— Сейчас принесут его вещи, баронесса, — пояснил, нависая над нею, лейтенант Глей. Теперь он держался очень официально и самоуверенно. — Видите ли, после ареста имущество этого господина, естественно, было конфисковано, но все его личные вещи в целости и сохранности.
— Лучше бы за кузнецом послали, — заметил длинноволосый клерк, а второй, без шеи, хрюкнул в ответ:
— Да не нужен ему кузнец, он ведь в камере для больных содержался.
Услышав их разговор, лейтенант спросил:
— Так он в кандалах или нет, Лийвек?
— Нет, — ответил охранник.
Коневин все это время старался стоять как можно дальше от арестанта, время от времени цокая языком от нетерпения и отвращения. Наконец еще один охранник принес чемодан и перевязанный веревкой узел с одеждой, а также небольшой бумажный сверток. Лейтенант сам развернул бумагу и разложил на столе содержимое свертка: серебряные часы на цепочке, запонки, несколько медяков, перочинный ножик…
— Вот имущество этого господина. Видите, баронесса, все цело, — сказал он.
Луиза заметила, что чемодан и узел с одеждой покрыты пушистой голубоватой плесенью.
— Теперь мы можем наконец идти? — спросила она, но оказалось, что документы еще не готовы. Клерк с короткой шеей непрерывно что-то писал.
— Но вы же не можете посадить его к себе в карету, баронесса! — прошептал Коневин Луизе, подойдя к ней почти вплотную. — Состояние… в котором он…
— А что вы мне можете предложить? — холодно спросила Луиза и, точно желая выразить свое презрение к этому малодушному человеку, заставила себя подойти к арестанту в сером. Но тот, похоже, и не смотрел на нее, а на обращенный к нему вопрос ответил не сразу, сперва странно высоким и одновременно хриплым голосом спросив:
— Можно мне сесть?
Его тело и одежда пропахли потом и болезнью. Его одеяние некогда, видимо, было красным или цвета сливы, но теперь почернело от грязи. Луиза так и не смогла заставить себя хотя бы прикоснуться к нему. Лишь указала на деревянный табурет:
— Пожалуйста, садитесь.
Но он не двинулся с места. Один раз провел рукой по лицу — таким знакомым жестом! — и снова застыл в позе терпеливого ожидания, мигая опухшими глазами.
— Знаете, баронесса, эта болезнь очень им всем на мозги действует, — с презрением заметил лейтенант, протягивая Луизе свернутые в трубку документы. — Некоторые совсем тупыми становятся. Но этот-то, без сомнения, скоро на поправку пойдет. Вот вам приказ о его освобождении, а это его паспорт. Господин Коневин все объяснит, а конвоир проводит вас и вынесет из тюрьмы вещи. Честь имею, баронесса, рад был служить!
Тот охранник, что привел Итале, уже куда-то исчез. Луиза понимала, что Коневин ни под каким видом помогать ей не станет. Писцы и лейтенант Глей недобро посматривали на нее, явно выжидая. И ей пришлось-таки взять Итале за руку, чтобы заставить его сдвинуться с места и выйти вместе с нею из этой комнаты, из-под этих давящих каменных сводов. Он еле держался на ногах, хромал, пошатывался, а когда они вышли во двор и в глаза им ударил ясный холодный свет мартовского солнца, он остановился и, закрыв руками глаза, застонал от боли.
— Пойдем, пойдем же! — подталкивала она его. Охранники у входа в тюрьму, охранники у внутренних и у внешних ворот — все, все смотрели на них с любопытством, но не испытывая ни малейшего сострадания! То, что делала она, было, с их точки зрения, совершенно неправильно; это противоречило их желаниям и убеждениям, нарушало их уверенность в правильности того, ради чего они здесь стояли, охраняя запертые тюремные ворота, запертые тюремные двери… То, что Луиза тысячу раз представляла себе как миг наивысшего триумфа, оказалось унизительным и уродливым. Возница в наемной карете, уныло ждавший ее возвращения, изумленно уставился на шаркавшего ногами оборванца и заявил:
— Внутрь нельзя!
И ей пришлось дать вознице десять крунеров, чтобы он разрешил Итале сесть в карету, а потом она ехала в тесной карете рядом с этим грязным больным человеком, страдая от страха и отвращения. Она была потрясена жалким видом Итале, его болезнью, его униженностью. А он сидел, скрючившись и устало качая лысой головой, когда карета подскакивала на ухабах, и его крупные руки безжизненно лежали на коленях и казались мертвенно-бледными и странно похожими на руки того великана-лейтенанта из тюремной охраны.
Коневин, который ехал рядом с возницей, оказался гораздо более услужливым и полезным, когда они наконец добрались до гостиницы. Собственно, Луиза сперва собиралась переночевать в гостинице и только потом везти Итале дальше — в собственной, куда более удобной карете, ибо до их имения в Совене было отсюда более пятидесяти миль. Однако этот план, как ей и самой стало уже понятно, безнадежно провалился. Впрочем, Коневин постарался тут же найти свежих лошадей и легкое ландо, а слугам из гостиницы велел приготовить в карете баронессы удобное ложе для больного. Когда с этими приготовлениями было покончено, день уже клонился к вечеру. Итале поместили в карету, а Луиза вместе с горничной устроилась в ландо, и повозки покатились на север по крутым улочкам Ракавы, миновали старинные ворота, многочисленные фабричные здания и выехали на длинную и прямую дорогу, полого поднимавшуюся в горы.
Путь оказался нелегким. Из-за размытых мартовскими дождями дорог и разлива реки Рас им пришлось километров сорок ехать в объезд, через Фораной, где они наконец смогли перебраться на тот берег реки по мосту, и еще столько же — чтобы снова выбраться на северную дорогу, так что в пути они провели три ночи и два дня. Больной по большей части пребывал в состоянии какого-то ступора, безвольного равнодушия ко всему на свете, и спал или делал вид, что спит. Когда ранним утром они наконец добрались до цели, оказалось, что у Итале сильный жар и он буквально не стоит на ногах. Письмо Луизы к домоправительнице, разумеется, задержалось по вине почты, и дом был совершенно не готов к приему гостей, а большая часть комнат даже просто не топлена. Шел дождь. Луиза велела уложить больного в постель и послала за врачом, но так и не дождалась его приезда: сказались усталость и напряжение, и она, нечаянно уснув, проспала двадцать часов подряд.
Врач, человек с кислым лицом, больше похожий на ветеринара или цирюльника, сообщил ей, что у больного рецидив лихорадки, вызванный, видимо, переохлаждением и неудобствами, связанными с долгим переездом. «Неудобствами!» — сердито думала Луиза, вспоминая влажные стены тюрьмы Сен-Лазар, однако ничего объяснять доктору не стала; она уже научилась — благодаря страже у тюремных ворот, благодаря поведению возницы и горничной, а также благодаря собственным тогдашним ощущениям — никому ничего не объяснять и даже не упоминать о том, где Итале провел последние два года. Если бы врач догадался о том, откуда прибыл этот его пациент, то вряд ли с должным уважением отнесся бы к больному и к самой Луизе, которая привезла к себе в дом умирающего от тифа арестанта. Нет, он бы, конечно, взял плату за свой визит и, возможно, даже посоветовал бы какое-то лечение, но, безусловно, считал бы себя несопоставимо выше их обоих, ибо порядочных людей, как известно, в тюрьму не сажают!
Почему все это так? Почему ее победа, ее торжество обернулись таким стыдом и неловкостью? Итале продолжал лежать в постели, больной, ко всему равнодушный, время шло, но до сих пор он ничем не показал даже, что узнал ее, ни разу не произнес ее имя, и ей было до него не достучаться. Иногда ей казалось, что разум покинул его, но она не осмеливалась спросить у врача, чем вызвано это болезненное равнодушие и пройдет ли оно, когда больному станет лучше. Да и станет ли ему когда-нибудь лучше? Она заглядывала в комнату Итале не более одного раза в день. Ей не хотелось признаваться даже себе самой, что его теперешний вид вызывает у нее отвращение, пугает ее — эта лысая голова (собственно, не лысая, а просто выбритая из-за вшей, как объяснил ей врач), ничего не выражающий взгляд, костлявое тело, обтянутое желтоватой кожей, не знающее покоя и в то же время словно бесчувственное… Это нездоровое тело полностью заслонило собой в ее глазах прекрасное тело молодого любовника, которое она так хорошо помнила. Те ночи, те счастливые часы, проведенные вместе с Итале, она хранила в памяти, как самое дорогое сокровище; это был единственный период в ее жизни, когда она вообще позволила себе касаться чужого тела и, мало того, испытывала от этого наслаждение… Но теперь все эти дивные ощущения запятнаны, замараны тюремной грязью, испорчены запахами болезни и смертной плоти. И у нее ничего не осталось. Нет, она должна сохранить в памяти прошлое, должна донести его до тех дней, когда Итале снова станет самим собой! Но, почему оно никак не наступает, это будущее? Ведь она так долго о нем мечтала! Итале на свободе, и они вдвоем в уединенной усадьбе, и весна в самом разгаре…
Дожди все продолжались. Дом никак не удавалось как следует просушить и прогреть. Старая домоправительница была особой болезненной и ворчливой, а управляющий каждый день приходил к Луизе с вопросами, на которые она не могла дать сколько-нибудь разумного ответа, и жаловался на долги, на неоправданно дорогие покупки, на неудавшиеся торги, в которых она ничего не понимала. Врач тоже приходил и уходил, вечно мрачный, молчаливый; он часто приносил с собой банку, где извивались отвратительные, черные и жирные пиявки. Луиза старалась каждый день совершать прогулки, но и лошади в Совене были старые, с больными суставами. Здесь уже много лет никто не охотился, не ездил верхом, и некому было привести конюшню в порядок. Крестьяне-арендаторы занимались собственными делами и совершенно не интересовались тем, где в данный момент находится хозяйка усадьбы. В городе Луиза тоже растеряла всех прежних знакомых, хотя город находился всего километрах в десяти от усадьбы. Между прочим, именно в этом городе когда-то ее дед заложил основу своего огромного состояния, спекулируя в военное время продуктами питания, и с тех пор считался великим человеком. Луиза скучала и чувствовала себя страшно одинокой, как в годы детства, когда ее как бы отодвинули в сторону и забыли. Однако на этот раз она сама была виновата в подобной изоляции: она сама никому не сказала ни слова о своих намерениях, надеясь хоть раз в жизни несколько дней побыть с Итале наедине… Не выдержав, она написала Энрике в Вену, прося его пораньше закончить дела и приехать к ней в поместье. «Ты мне необходим, — писала она. — Я просто ума не приложу, как мне быть дальше!» До такой степени ее душевные и физические силы не смогли истощить даже бесконечные бои с представителями власти, которые она вела в Красное и которые закончились приказом об освобождении Итале из ракавской тюрьмы Сен-Лазар. Теперь она понимала, насколько увлекла ее предпринятая «осада», как нравились ей разнообразные стратегические уловки и тактические приемы — постепенное укрепление собственных позиций с помощью лести, влиятельных знакомых, хитрости, умения расплетать самые злонамеренные козни и обводить вокруг пальца глупцов… Луизе, поставившей перед собой одну-единственную цель и упорно к ней стремившейся, за короткое время удалось стать заметной фигурой в политической жизни столицы, хотя она порой по нескольку дней или даже недель не думала об этой цели и уж, разумеется, ни с кем о ней не говорила. Она оказывала различные мелкие и крупные услуги высокопоставленным лицам, мужчинам и женщинам, оказавшимся менее проницательными, чем она; она добилась для своего брата дипломатического поста в Вене; она стала приятельницей великой герцогини и одновременно подружилась с кумиром городской черни Стефаном Орагоном; сам премьер-министр Корнелиус приезжал к ней в гости, желая встретиться и побеседовать с бывавшими здесь людьми, удивительно умными и неболтливыми; новый министр финансов, Раскайнескар из Валь Альтесмы, предложил Луизе руку и сердце, полагая, что такой брак укрепит позиции обоих. Краснойская газета «Светское общество» судачила о ней, не умолкая, но никому так и не удалось ее очернить или оклеветать. Как в личной жизни, так и в политических интригах она умело и ловко использовала все свои таланты и уверенно шла к цели, а потом с полным правом на победу завоевывала ее. Да, она одерживала победу за победой, и вот оно — то, к чему она так храбро шла через бесчисленные кабинеты и министерства!..
Ее мучили воспоминания о той минуте, когда она впервые увидела Итале таким больным и жалким. Почему, за что она так наказана? Ведь она положила столько сил, чтобы освободить его! И добилась своего! Но разве это свобода? И что она дала ей? Одиночество? Доктор пригласил из города опытную сиделку, чтобы ухаживать за Итале. Однажды вечером, когда сиделка ужинала внизу, Луиза поднялась в комнату больного, влекомая каким-то беспокойным и сердитым чувством. Комната была освещена лишь ярко горевшим в камине огнем. Сперва Луизе показалось, что Итале спит, но стоило ей подойти поближе, как он шевельнулся и спросил:
— Кто здесь?
— Это я, — сказала она, — Луиза. Ты меня узнаешь? — Она подошла к нему еще ближе и заговорила — громко, нетерпеливо, с вызовом. Лица его ей в темноте было не разглядеть.
Он ей ответил; голос его был слаб, но звучал вполне естественно, как прежде.
— Ничего не помню! — сказал он. — А где Амадей?
Она похолодела; страх стиснул горло.
— Он не здесь, — прошептала она.
Но больной не обратил внимания на столь странную форму ответа. Он чуть-чуть повернул голову, и красные отблески пламени осветили его худую щеку. Смотрел он прямо перед собой. Луиза устало опустилась в кресло, стоявшее в изножии кровати. Ее била дрожь; больше они не сказали друг другу ни слова, и она вскоре поднялась и вышла из комнаты. Подходя к двери, она услышала, как Итале протяжно вздохнул и что-то прошептал, а потом громко и отчетливо произнес два слова: «Снег идет», — и снова умолк.
Луиза поспешила прочь, а у себя в комнате подошла к окну, выходящему в сад, и долго смотрела, как бегут по небу облака и мелькает, то появлялась, то исчезая меж ними, полная луна. Она видела и дорогу, прямым светлым лучом пролегавшую меж темных полей и ведущую вдаль от ворот усадьбы. Когда она была ребенком, то всегда смотрела на эту дорогу с ожиданием: по ней взрослые, ее родители и их гости, приезжали и уезжали, когда хотели, и в ее сознании эта дорога всегда невольно ассоциировалась со свободой; и она всегда думала, что именно по этой дороге уедет отсюда навстречу свободе, когда придет ее время. И тоже будет вольна уезжать и приезжать, когда захочет, и ни от кого не будет зависеть, ни у кого не будет спрашивать разрешения. Что ж, теперь она могла ходить и ездить по этой дороге сколько угодно; она обрела ее, эту свою свободу, да только слово это утратило свое истинное значение. Как и слово «любовь». Разве она не любила Итале? А разве он ее не любил? Но она совсем его не знала. Она положила столько сил,
чтобы его освободить, а он оказался совсем не тем, кого она так мечтала увидеть рядом с собою, и лежал сейчас больной, слабый, у нее дома, но был так далек от нее. И разве имеет теперь значение то, что когда-то они были любовниками? Кем она тогда была для него? Он ведь тоже ее совсем не знает, не потрудился узнать, не успел. Он и сейчас даже по имени ее не назвал, лишь спросил о покойнике да заметил, что снег идет. Ему были дороги лишь его собственные воспоминания, привычный для него мир со всеми радостями и невзгодами — тот огромный и живой мир, в котором она, Луиза, была некогда лишь одним из не самых значительных элементов; она и в горячечном бреду Итале, если вслушивалась, могла расслышать какие-то отзвуки этого мира, какие-то обрывки воспоминаний о нем… Но где же ее место? И разве есть у нее место в этом его странном мире? Нет, она в нем совершенно заблудилась, она никогда не была и никогда не будет центром этого бесконечно богатого мира! А стать всего лишь его частицей, одной из его составляющих, означало для нее утрату собственной независимости, утрату самой себя. На это она пойти не могла. Она никогда не могла от себя отречься — разве что на несколько мгновений, о которых теперь старалась забыть, как о чем-то постыдном. Да и что хорошего было в их так называемой любви? В касающихся друг друга и переплетающихся руках? Во всем этом потоке слов и чувств, когда вот она, истина: убогое одиночество, отрешенность и равнодушие умирающего тела — точно у больного животного.
В ту ночь ей снилось, что она бродит по улицам какого-то совершенно ей незнакомого города, расположенного в горах, улицы этого города завалены снегом, и она никак не может отыскать то место, куда должна была прийти и где в стойле уже приготовлена для нее оседланная лошадь.
На следующий день, когда Луиза вернулась после длительной поездки верхом, ей доложили: у них гость, господин Сорде. Сперва она непонимающе и растерянно, почти испуганно, посмотрела на слугу, но потом как-то собралась с мыслями и быстро прошла в гостиную. Там ее ждал средних лет провинциал, одетый в черное.
Она осторожно приблизилась к нему.
— Я — Луиза Палюдескар.
— А я — Эмануэль Сорде, баронесса, — поклонился гость.
— Вы отец Итале?
— Я его дядя. Его отец нездоров и в настоящее время не в состоянии совершать столь далекие путешествия. Прошу прощения за это вторжение, баронесса. Вы разрешите мне повидать Итале?
Луиза ничего не писала родным Итале. Впрочем, она и его друзьям в Красное сообщила лишь о его освобождении. Значит, это они написали в Монтайну, и Эмануэль Сорде тут же поехал через всю страну, всего лишь надеясь, что Итале, возможно, окажется здесь. Но даже если бы его здесь и не оказалось, Эмануэль все равно отыскал бы его, где бы он ни был. Он даже не спросил у нее, почему она ничего не написала родителям Итале; его не интересовали мотивы ее поведения, ему было нужно одно: во что бы то ни стало повидать Итале. И Луиза сразу провела его наверх, оставила с больным наедине, а сама прошла к себе, чтобы переодеться. На душе у нее было холодно и горько. Как долго это еще будет продолжаться? Вместо любви и прекрасной тайны она получила чужую болезнь и собственное одиночество. Вместо восторга победы — стыд. Вместо Итале — нежданного гостя, его дядюшку… Какая дурная шутка! Неужели она так ошиблась, надеясь, что освобождение Итале принесет ей счастье? И не только ей, но и ему? Но если б она не стремилась к этому счастью, то разве сумела бы выдержать эти два года и сделать все то, что сделала во имя его свободы? Так в чем же ее изъян? Где она ошиблась?
Присутствие за столом Эмануэля Сорде избавило ее, по крайней мере, от бесконечных мучительных размышлений на эту тему. Он казался усталым и явно был голоден, но полностью поглощен состоянием здоровья племянника. С ней он держался довольно скованно и осторожно, да и интересовала его вовсе не она. Ей вдруг стало легко в его обществе, и когда они заговорили о болезни Итале, она задала Эмануэлю вопрос, который так и не смогла задать врачу.
— Даже теперь, когда лихорадка у него прошла, он… он, похоже, ничего не замечает вокруг, ничто его не радует… — Она не стала объяснять, что именно ее так тревожит, но Эмануэль отлично понял ее и без слов:
— Это все болезнь, баронесса. Я, во всяком случае, так считаю. Собственно, исходное значение слова typhus — это «помрачение сознания». Ступор. Это со временем пройдет. А что говорит ваш врач?
Луиза покачала головой:
— От него не добьешься даже ответа на вопрос, лучше больному или хуже!
— Сиделка говорит, что в последние два дня температура у него значительно упала.
Луиза даже не знала об этом и промолчала, глядя в тарелку с почти не тронутой едой. Зато Эмануэль ел с аппетитом.
— Баронесса, — внезапно заговорил он снова, — в Красное я виделся с господином Брелаваем, и он сказал мне, что лишь скромность помешала вам написать родителям Итале. Но мы все чувствуем себя настолько обязанными вам, что я решился все же сказать об этом.
Он застал ее врасплох, и она ответила, не подумав:
— Я вовсе не так скромна, господин Сорде. Я действую в своих собственных интересах. Итале был моим близким другом. У меня его отняли, и я всего лишь постаралась его вернуть. Вот и все.
Снова удивив ее, этот провинциальный адвокат лишь улыбнулся и поднял свой бокал, слегка склонив голову в вежливом поклоне. До чего же он похож на Итале, подумала Луиза. Нет, он просто великолепен! И вслух сказала:
— Мне нужно только одно: видеть Итале прежним.
— Мы никогда не увидим его прежним, баронесса.
— Но он же поправляется?… — растерялась Луиза.
— Надеюсь, что да… Хочу надеяться. Я повидал его и полагаю, что вскоре здоровье его пойдет на поправку. Хотя он ужасно изменился! Но когда-либо увидеть прежнего Итале… Нет, на это я даже не надеюсь.
Закончив есть, он аккуратно сложил вилку и нож крест-накрест на тарелке, как это принято в провинции. В эти минуты его провинциальная самоуверенность, его стариковское спокойствие были Луизе ненавистны. Для него ничего не значат ни она сама, ни ее переживания, ни то, ЧТО она потеряла! Она, Луиза Палюдескар, ему безразлична. Он, как и все старики, не заботится о будущем, не верит в него…
Но если он прав, если Итале действительно так сильно переменился и никогда не станет прежним, то какое же будущее ждет ее?… И она снова вспомнила того арестанта в жалких и отвратительных обносках, а потом — совсем другого человека, прекрасного, доброго, юного, который был когда-то ее возлюбленным. Проклятая болезнь сожгла его, точно он был бумажным, и он сгорел, как сгорает горстка бумажных денег, случайно брошенная в очаг сквозняком. И что же осталось? Этот старик, его дядя, прав. Старики всегда правы. От прежнего Итале не осталось ничего! Есть только тот человек наверху, которого она, Луиза, совсем не знает, на которого ей даже смотреть не хочется. Рядом с которым ей не хочется быть.
Глава 24
Поперек кровати лежала широкая полоса солнечного света, и его руки тоже находились в этой золотистой полосе, казавшейся ему почему-то холодной. За окном носились и щебетали ласточки — строили гнезда под застрехой. Наблюдать за ними долго он не мог: глаза от яркого солнца уставали и слезились.
В кресле, как обычно, сидел Эмануэль с открытой книгой на коленях; в настоящий момент он приводил в порядок ногти на руках и казался полностью поглощенным этим занятием.
— Как поживает Пернета?
Эмануэль остро глянул на него, потом снова принялся за свои ногти, отвечая обстоятельно и спокойно:
— У нее все хорошо. В прошлом году к нам приехал ее внучатный племянник из Солария, сын дочери ее брата Карела. Его тоже зовут Карел, Карел Кидре. Очень милый юноша. Пернета просто в восторге оттого, что у нее снова появился любимый «сынок», которого можно баловать. Он теперь работает у нас в конторе, и предполагалось, что в мое отсутствие он будет вести одно из неотложных и весьма сложных дел, связанное с наследством в Валь Модроне. Как адвокат могу тебя заверить, что нет ничего «приятнее», чем тяжба по поводу земельной собственности, ведущаяся на протяжении трех поколений! Но мне почему-то кажется, что в такую погоду наш дорогой Карел проводит время в основном в Вальторсе.
— А как граф Орлант?
— Хорошо. А Пьера — просто прелесть!
— Пьера?
— Надеюсь, ты не забыл Пьеру?
— Она ведь замужем. В Айзнаре.
— Откуда ты знаешь? Хотя да, верно, ты ведь узнал о ее помолвке раньше всех, когда вы виделись с ней в Айзнаре. Дело в том, что она разорвала помолвку. Свадьба была сперва намечена на Рождество, потом ее отложили до весны, и вдруг Пьера все перерешила. Это произошло вскоре после твоего ареста. Я, например, так и не понял, что же у них случилось. Однако Пьера до сих пор не замужем, и граф Орлант предоставил ей во всем полную свободу — собственно, так и было всегда. По правде говоря, имением управляет тоже Пьера. За эти два года я несколько раз помогал ей улаживать кое-какие дела и должен признать, что в хозяйстве она смыслит куда лучше отца, да и справляется с ним очень даже неплохо. Никак не могу понять: что себе вбили в голову эти девицы? Ведь и Лаура тоже мечтает хозяйничать самостоятельно — так ей Гвиде и позволил! — хотя, по-моему, у нее-то совсем нет к этому способностей. Ну скажи, зачем это им? Что плохого, например, в замужестве? В том, чтобы вести дом, воспитывать детей? Такие хорошенькие женщины — и понапрасну тратят время!
Эмануэль говорил обдуманно, неторопливо, спокойно, делая большие паузы. Итале рассеянно его слушал, следя за солнечным лучом, скользившим по пуховому стеганому одеялу из темно-красного, местами чуть выгоревшего атласа, тонкие нити которого иногда в солнечном свете отливали серебром. Нежное прикосновение старого атласа, солнечный свет, теплые краски весны — все это поглощало внимание Итале почти целиком, точно приходилось понемногу заново учиться всему на свете. Присутствие Эмануэля, его голос, его надежные руки служили для него, больного, источником жизненных сил. Он словно выбрался наконец на спасительный плот в бушующем море. Именно прикосновение Эмануэля впервые вернуло Итале в этот мир из бесконечных блужданий по царству болезни и смерти, остановило липкий поток лихорадочного бреда; руки Эмануэля удерживали его в этой жизни. Руки и голос. И Эмануэль делал эту трудную работу легко и спокойно, рассказывая Итале обо всем том, что для него означало «дом».
Примерно через неделю после приезда Эмануэля Луиза как-то зашла проведать Итале. Он лежал на груде подушек и смотрел на огонь в камине. Опухоль в лимфатических узлах — неизбежное следствие тифозной лихорадки — значительно уменьшилась, боль и бред отступили, и он наслаждался теплом и удобной постелью. Эмануэль и Луиза немного побеседовали, но Итале в их беседе участия не принимал, да и вообще почти не обращал на нее внимания. Наконец Луиза не выдержала и обратилась прямо к нему:
— Итале, ты помнишь, как мы ехали из Ракавы?
— Нет, — сказал он, немного подумав.
— Паводок тогда был такой, что нам пришлось ехать в объезд, через Фораной. И все паромщики наотрез отказывались везти нас на тот берег.
— Нет… Но когда… День, когда меня выпустили, я помню. Он был такой солнечный!
— Да, день был яркий и очень ветреный, а до этого была настоящая буря, и потом снова пошли дожди…
— Я помню только солнце.
— Неужели ты за эти два с лишним года ни разу не видел солнца? — спросил Эмануэль, потрясенный до глубины души. Итале не ответил.
Он никогда не рассказывал о тех двадцати восьми месяцах, которые провел в тюрьме Сен-Лазар, и Эмануэль старался его об этом не расспрашивать, говоря Луизе:
— Чем скорее он об этом забудет, тем лучше.
Итале понемногу набирался сил, но говорил по-прежнему мало. Он даже Эмануэлю почти не задавал вопросов, а Луизу и вовсе ни о чем не спрашивал. Она положила ему на столик свежий номер «Новесма верба», но так и не узнала, прочитал ли он его. Когда он смог наконец встать, то единственным его желанием было поскорее выйти на воздух. Сперва, правда, он мог только сидеть на солнышке, потом стал потихоньку гулять по одичавшему, заросшему саду. Обитатели усадьбы с изумлением смотрели на этого странного гостя, высокого, все еще невероятно худого, с едва отросшим ежиком волос.
Вечером накануне того дня, когда должен был приехать Энрике — а он честно обещал Луизе провести часть отпуска с нею и приехать в поместье прямо из Вены, как только это будет возможно, — она сказала Эмануэлю:
— Господин Сорде, мне нужен ваш совет.
— Только не по юридической части, — суховато усмехнулся Эмануэль. Она поняла и тоже улыбнулась. Отношения у них так и остались прохладными, однако друг друга они вполне уважали и ценили, получая от этих ни к чему не обязывавших отношений даже, пожалуй, некоторое удовольствие.
— Это очень важно.
— Это касается Итале или имения?
— Итале.
— Хорошо.
— Как вы думаете, он достаточно окреп, чтобы узнать дурные новости?
— Не знаю, баронесса. А в чем дело?
— Вы, наверное, знаете, что у него был друг, поэт Эстенскар? Они были очень близки. Так вот, Эстенскар умер. Совершил самоубийство через месяц или два после того, как Итале арестовали. Он, впрочем, об этом аресте так, видимо, и не узнал; он ведь тоже был под надзором, как теперь стало ясно, и письма до него не доходили. Власти готовились выдвинуть против него серьезнейшие обвинения. После смерти Эстенскара был арестован его брат, но его продержали месяца два в тюрьме и выпустили, так и не предъявив никаких обвинений. Итале гостил у них в Эстене как раз перед поездкой в Ракаву. Насколько мне известно, ему о гибели Эстенскара никто ничего не сообщил, и он, по-моему, даже ни о чем не догадывается. Вы никогда не упоминали о нем в разговоре с Итале? Или, может быть, он сам у вас что-нибудь спрашивал?
— Нет, — покачал головой Эмануэль и беспомощно стиснул руки. — Но, если хотите, я ему скажу, — предложил он. — Хотя, по-моему, это не будет для него такой уж неожиданностью.
— Нет, спасибо, но вам совершенно не нужно брать на себя столь тяжелую миссию. Не стоит вам омрачать свои последние дни с Итале, вы ведь скоро уезжаете. Я очень хорошо знала Эстенскара и, конечно же, сумею сама все рассказать Итале после вашего отъезда. Если, конечно, вы считаете, что он достаточно…
— Ах, баронесса, он ведь крепкий орешек, наш Итале! — воскликнул Эмануэль, хотя глаза у него по-прежнему смотрели невесело. — И он вполне способен выдержать даже такое известие. Мне кажется, он теперь способен выдержать все, что угодно. Но вот ОТДАВАТЬ он пока что не в состоянии. И если вы можете пока этого от него и не требовать, если можете еще хотя бы на некоторое время оградить его от принятия каких бы то ни было решений и если разрешите ему еще немного побыть здесь, вдали от людей, и окрепнуть, то сделаете для него куда больше, чем этот ваш доктор с лошадиной физиономией.
Эмануэль давно уже решил, что уедет на этой неделе, но даже не спросил Итале ни разу, что тот собирается делать, когда покинет Совену. Так что Итале сам попытался заговорить с ним об этом накануне его отъезда.
— Ты уверен, что отец совершенно здоров?
— Ты же читал письмо. — Письмо было от Элеоноры.
— Мне кажется, вы с мамой что-то недоговариваете.
— Ничего подобного! По-моему, я почти дословно передал тебе все, что говорит доктор Чаркар: сердце у Гвиде действительно несколько сдало, хотя сказать, что он так уж болен, нельзя. К тому же он по-прежнему ведет очень активный образ жизни — в разумных пределах, конечно. В конце концов, ему уже за шестьдесят!
— В том-то все и дело, — вздохнул Итале; Эмануэль нахмурился.
— Послушай, Итале, уверяю тебя: никакой срочности в твоем возвращении домой нет. И нет ни малейшей необходимости принимать какое-то решение прямо сейчас. Постарайся пробыть здесь как можно дольше, прийти в себя и уяснить, какую дорогу тебе следует теперь выбрать. И не позволяй обстоятельствам властвовать собой!
Итале посмотрел на него и отвел глаза.
— Вряд ли мне будут здесь так уж рады, — пробормотал он так тихо и невнятно, и Эмануэль сперва даже как следует не расслышал его слов, но, догадавшись, ответил, не задумываясь, хотя и был потрясен печальной проницательностью Итале:
— Разумеется, будут! Не глупи! — Но несколько часов спустя, находясь уже довольно далеко от поместья, он вдруг снова отчетливо вспомнил эти слова Итале и ту боль, что плеснулась в его глазах, и вскрикнул в ужасе: — Боже мой! Итале, почему тебе в голову приходят такие мысли? Что же с тобой должны были сделать, если ты совсем перестал доверять людям?
Энрике Палюдескар прибыл даже на несколько дней раньше, чем обещал, и как раз в тот день разразилась необычайно мощная, нехарактерная для первых дней мая гроза. Энрике послушно примчался на отчаянный зов сестры, что, впрочем, не помешало ему сразу же опровергнуть ее надежды на то, что он так и останется с нею вместе в этой богом забытой провинции и будет ухаживать за государственным преступником, которого только что выпустили из тюрьмы. Сестрица, должно быть, просто разума лишилась, раз не понимает, сколь серьезно это угрожает его карьере и положению в обществе! Ну зачем, спрашивается, она не только вызвала в Совену его самого, но и до сих пор упорно держит у них в доме Итале Сорде? Энрике упорно старался втолковать это сестре, но тут в комнату как раз вошел Итале, и Палюдескар, весь побелев, потянулся было к нему, пытаясь что-то сказать, но так и не мог, а только пожал старому приятелю руку да неловко обнял его за плечи. Но, впрочем, сразу же и отпустил, пробормотав невнятно:
— Я слышал, ты был очень болен…
И после этого ему так ни разу и не удалось посмотреть Итале прямо в глаза или что-то сказать ему естественным тоном. К счастью, сам Итале говорил очень мало, а перед Луизой Энрике и вовсе не обязательно было оправдываться и как-то объяснять свою неприязнь к бывшему приятелю и одновременно чувство вины перед ним. Он, собственно, и себе бы не смог этого объяснить. С одной стороны, Сорде был преступником и стремился свергнуть правительство, то есть именно тех достойных людей, с которыми он, Энрике, как раз и имел дело; с другой стороны, именно эти достойные люди бросили Сорде в тюрьму, не имея на то никаких веских причин, а потом сделали с ним все остальное. Нет, это было просто невероятно, немыслимо! И эту дилемму Энрике для себя пока что разрешить не мог, так что Итале, воплощая суть этой дилеммы, естественно, вызывал у него раздражение и чувство собственной неполноценности.
— Тебе нравится работать в Вене? — как-то раз спросил у него Итале. Это был вроде бы самый обычный вопрос, но у Энрике перехватило дыхание, и он пролепетал:
— Там… очень интересно, и, знаешь… я ведь ничем особенно важным не занимаюсь… ну, там, веду официальную переписку и тому подобное…
— Ты хочешь сказать, Энрике, — вмешалась вдруг Луиза, — что занимаешься перлюстрацией чужих писем?
— Нет, что ты! Как тебе не стыдно, Луиза! За кого ты меня принимаешь? Я занимаюсь только официальной перепиской — скажем, отправляю письма посла, рассылаю его распоряжения… ну и так далее!
Он больше не заговаривал с Луизой о том, что Сорде нужно немедленно отослать прочь, но сам решил уехать как можно скорее. Да и к чему медлить? Луизе он все равно больше не нужен; к тому же она, как всегда, начала опять коллекционировать знакомых и уже успела собрать вокруг себя довольно странное общество. Впрочем, она всегда притягивала каких-то подозрительных типов.
В данном случае все это были соседи Палюдескаров, причем некоторые жили от них чуть ли не в полсотне километров, однако ничего не имели против даже такой далекой прогулки верхом, если в конце ее их ждал обильный стол и жаркие политические споры. У Луизы бывал, например, даже герцог Матиас Совенскар, законный наследник орсинийского трона, огромные владения которого раскинулись всего в тридцати километрах к северу от их поместья. Матиаса хорошо помнили в столице, хотя он вот уже много лет не покидал родных мест. Кроме того, в провинции было немало отставных офицеров из не существующей более национальной армии; многие из них уже успели изрядно состариться, однако по-прежнему были весьма остры на язык. Их клуб «Друзья конституции» не так давно обрел второе дыхание, словно соревнуясь с молодыми либералами из столицы. Сперва эти люди довольно настороженно отнеслись к появлению Луизы, но вскоре их отношение к ней совершенно переменилось, ибо им каким-то образом стало известно, КТО тот человек, которого она привезла с собой из Ракавы. В Красное считалось, что у Луизы Палюдескар немало друзей среди либералов, но еще больше — в консервативных кругах; а в Совене благодаря ее заботам о Сорде ее приняли как радикально настроенную патриотку. Энрике протестовал, называл сестру лицемеркой, обвинял в мошенничестве, упрекал в том, что она играет с такими вещами, которых совершенно не понимает, но Луиза в ответ лишь напомнила, что именно она, несмотря на «непонятливость» и «лицемерие», помогла ему занять вожделенный дипломатический пост, так что в итоге Энрике, как всегда, был повержен.
Луиза опять повеселела. Седовласые полковники в отставке на чем свет стоит поносили лейпцигские власти, устроившись в ее просторной гостиной, а их сыновья, владельцы богатых земель Совены, славили герцога Матиаса, выкрикивая «Совенскар, конституция, нация!», и хозяйку этого гостеприимного дома. Барон Агриколь Ларавей-Готескар, великолепный великан двухметрового роста, черноусый и широкоплечий, пил за ее здоровье и швырял в камин пустые бокалы. Луиза, конечно, скучала по таким разносторонним и ярким личностям, как Раскайнескар или Иохан Корнелиус, которые за своими изящными манерами скрывали поистине бульдожью хватку и нешуточную реальную власть, но ей все же очень нравились эти шумные задиристые северяне. Они тоже были людьми сильными, но их сила имела исключительно личный характер и проявлялась мгновенно. Луизе, например, всегда становилось смешно, когда Ларавей-Готескар вдребезги разбивал очередной бокал, однако в душе ее всегда что-то испуганно вздрагивало, стоило ей случайно встретиться с его яростным взглядом.
— Барон, ваша лесть стоила мне трех хрустальных бокалов из бабушкиного наследства, — говорила она ему, и он, разъярившись, как она и ожидала, кричал:
— Лесть?! О, как вы заблуждаетесь, баронесса! — и шел прочь, мрачно нахмурившись, и не возвращался до тех пор, пока кто-нибудь опять не затрагивал волнующую его политическую тему и не начинал взывать к его участию в споре. И барон, разумеется, тут же бросался в очередную схватку, крича: — И все-таки, господа, Вена станет слушать только голос крови и стали!
С Итале все эти люди, даже Ларавей-Готескар, обращались чрезвычайно бережно. Он в их спорах участия не принимал и обычно, извинившись, очень рано покидал подобные сборища. Необходимости как-то объяснять или извинять его молчание и уход не возникало: причина была всем даже слишком очевидна, хотя в последнее время он даже стал понемногу набирать вес, да и бледность чуть отступила с его лица, когда солнечная северная весна повернула наконец на лето. Итале по-прежнему старался целые дни проводить на воздухе. Он вполне мог уже самостоятельно гулять и даже немного ездил верхом, часто останавливаясь во время своих поездок и беседуя с крестьянами, и Луиза думала: пожалуй, местные помещики — самые подходящие собеседники для Итале; они наиболее близки ему и по происхождению, и по образованию, и по взглядам. Так что же заставляет его молчать даже в их присутствии?
— Вполне возможно, наш дорогой Ларавей-Готескар станет депутатом от провинции Совена, — сказала ему как-то Луиза. — Ты не мог бы немного рассказать ему об ассамблее? Ведь ты же понимаешь, как он наивен. А твое мнение было бы для него очень полезно.
— Не мне развеивать его наивность в этих вопросах.
— Но почему же не тебе? Кто знает об этом больше, чем ты? Ошибки, от которых ты бы мог его предостеречь…
— Но я НИЧЕГО об этом не знаю! Я ужасно отстал от жизни. Я ведь до недавнего времени не знал даже, что «Амиктийю» разогнали. И я, похоже, совершенно не ориентируюсь в теперешней политической расстановке сил. — Он с некоторым смущением посмотрел на нее. — И никак не могу принять того, что Эстенскар… — Он сказал это совсем тихо и умолк.
Луиза уже недели три назад рассказала ему о смерти Эстенскара. Он воспринял эту весть довольно спокойно, даже задал несколько вопросов, а потом словно забыл обо всем. И теперь Луизу встревожило его неожиданное упоминание об Эстенскаре.
— А я так надеялась, что ты поможешь Ларавей-Готескару! Он слишком молод и наивен, хотя и неглуп. Мне даже кажется, что именно таких, как он, ты и твои друзья хотели бы видеть в ассамблее.
— Пожалуй.
— Мне он иногда чем-то напоминает тебя — в те времена, когда ты впервые приехал в Красной из своей Монтайны.
Итале чуть улыбнулся, как бы через силу, и Луиза поняла, что ему неприятно подобное сравнение.
А впрочем, ему слишком многое вокруг было неприятно, он словно слишком многого опасался. Избегал людей, ускользал от общения, не желал участвовать в общих разговорах. Единственный человек, с которым Итале охотно беседовал, — это деревенский священник, пожилой лютеранин, большой любитель математики, человек грубоватый и настоящий женоненавистник. Они с Итале частенько сидели в саду, прихватив с собой одну-две книги, и обычно пастор что-то объяснял, а Итале внимательно его слушал; лекции пастора были посвящены всякой математической ерунде — дифференциальным исчислениям, двучленам и бог его знает чему еще. Когда Луиза изливала свое нетерпеливое раздражение по этому поводу в язвительных шутках, Итале сухо объяснял, что пытался заниматься математикой и раньше, «еще до того, как заболел», но обнаружил, что знания его чрезвычайно малы, и теперь он просто пользуется предоставившейся возможностью несколько их расширить.
— Теперь я наконец могу себе это позволить, — сказал он.
И Луиза оставила их с пастором в покое. Но раздражение не утихало: неужели Итале так и будет вечно сидеть в саду с видом прилежного школьника, избегая всех тех проблем, которые некогда так сильно его занимали, из-за которых он так сильно пострадал? А заодно избегая и ее, Луизу?
В тот вечер дом был полон гостей, и когда Итале в очередной раз чрезвычайно рано удалился к себе, Луиза, странным образом чувствуя себя униженной, с презрением посмотрела ему вслед и сказала Ларавей-Готескару:
— Ах, если б только я могла вновь пробудить у Итале интерес к тому, что некогда так много для него значило!
Но молодой барон, оставаясь совершенно глухим к жалобным ноткам, прозвучавшим в словах Луизы, и не желая терпеть никакой критики в адрес своего кумира, нахмурился:
— Но с какой стати ему нас слушать? Мы ведь только говорим, говорим, а он все это испытал на собственном опыте!
Луизе был даже приятен этот упрек. Когда-то ее точно так же укорял и сам Итале, но теперь Итале даже с нею в основном молчал; Ларавей-Готескар оказался первым за долгое время, кто осмелился хоть как-то упрекнуть ее.
— Боюсь, во мне просто говорит жестокое разочарование, барон, — кротко заметила она. — Мне так его не хватает, а он продолжает прятаться ото всех. В том числе и от меня.
— Еще бы! — воскликнул Ларавей-Готескар и задумался, охваченный противоречивыми чувствами: восторгом, восхищением и ревностью. В точности, как и хотела Луиза.
Собственно, для нее это и была основная беда в отношении барона. При всей его гордости и непредсказуемости она всегда могла заставить его поступить именно так, как того хотелось ей самой. Всего лишь двоих мужчин она никогда не могла заставить плясать под свою дудку — Георга Геллескара и Итале, — хотя первый уже два раза просил ее руки и непременно попросит еще раз, особенно если сочтет, что это ему может быть полезно, а второй… второй, собственно, уже был когда-то ее любовником. Геллескар научил ее выбирать правильный путь в жизни, а Итале — хотя и всего несколько раз и в течение довольно непродолжительного периода — дал ей полное удовлетворение. Он некогда освободил ее, и она впоследствии вернула ему долг, тоже его освободив.
Неужели этого не достаточно — быть свободным самому и освободить кого-то другого, распахнуть перед ним запертые двери?
Когда гости ушли, Луиза невольно представила себе грядущую череду дней, наполненных молчанием и иллюзорной близостью, наделе оборачивающейся отчуждением, и ее вдруг охватил гнев: Итале пора наконец встряхнуться, взять себя в руки, иначе она совсем потеряет терпение!
— Почему ты совсем не хочешь ни с кем разговаривать? — спросила она его. — Ведь эти люди верят именно в то, во что и ты верил когда-то. Неужели ты настолько зазнался, что считаешь себя выше всех остальных?
Он посмотрел на нее с таким искренним недоумением, что ей на мгновение стало стыдно.
— Что же я могу им сказать? — спросил он тем неуверенным тоном, который она терпеть не могла.
— Между прочим, раньше ты верил в силу слова! Неужели ты эту веру окончательно утратил? Может, ты теперь и в конституцию не веришь, и в возможность установления справедливости, и во все остальное, ради чего ты и пошел в тюрьму? Может, и это тебе стало безразлично, как, впрочем, и все остальное?
— А что — остальное?
— Люди вокруг, я, все на свете!..
Он явно не находил, что ей ответить, и она еще больше рассердилась:
— Ну вот, ты даже поговорить со мной не хочешь! Разве я могу как-то понять тебя, разве можешь ты понять меня теперешнюю — после всего… что было?
— Что же мне сказать тебе?! — повторил он с упрямым отчаянием, и она с ужасом осознала, что он ничего от нее не скрывает, что он действительно не в состоянии ничего сказать ей. Да, он, безусловно, крепкий орешек, как сказал о нем Эмануэль Сорде, но это скорее твердость камня, абсолютное отсутствие упругости, некая монолитность, свойственная, скажем, гранитной глыбе, пока эта глыба не треснет под воздействием неких особых сил или обстоятельств. И она, Луиза, могла эту глыбу разрушить. Перед ней он был совершенно беззащитен. Хотя и пытался ей сопротивляться, противостоять ее воздействию, ибо она, освободившая его, стала теперь его тюремщиком.
В канун Иванова дня горизонт озаряли вспышки множества костров. Костры жгли в каждой деревне, на каждой ферме. Треск горящего хвороста и соломы заглушал гудение волынок; молодежь танцевала, старики пили вино; повсюду в ночи слышались голоса, смех, музыка, светились костры, мелькали темные тени… Луиза и ее горничная стояли в темноте, на самой границе светлого круга от ярко горевшего костра, и смотрели, как деревенские девушки и молодые женщины, подобрав юбки, прыгают через пламя. Это был обычай, столь же древний, как труд земледельца: прыжок через костер, согласно местным верованиям, избавлял от бесплодия. Женщины постарше стояли поодаль и смеялись, подбадривая молодых не совсем приличными выкриками. Мужчины уже успели затеять драку, собравшись у другого огромного костра; драка здесь почти неизбежно следовала за выпивкой. В душе Луизы кипели самые разнообразные чувства — отвращение, возбуждение, зависть, презрение, — а вот ее горничную Агату вся эта атмосфера праздничного разгула пугала, и она в итоге потащила свою хозяйку домой. Но, войдя в дом, Луиза вдруг почувствовала, что его стены буквально душат ее, и снова вышла на улицу, решив просто пройтись по саду и полюбоваться сиянием догоравших костров издали.
— Луиза!
Она замерла как вкопанная. Итале стоял совсем рядом, на тропинке, у разросшейся зеленой изгороди, в неверном свете луны походившей на черную морскую волну; лица его в темноте было не разглядеть.
— Прости, я не хотел тебя напугать.
— Ничего. Я не испугалась, — сказала она, хотя он действительно напугал ее. — Разве можно чего-то бояться в такую ночь? А ты тоже ходил смотреть, как жгут костры?
Итале подошел к ней поближе. Ночь была очень теплая, шапку он не надел, и его не совсем еще отросшие волосы, его высокая худая фигура, его терпеливая поза — все это вновь заставило ее вспомнить то уродливое и жалкое человеческое существо, которое предстало перед ней несколько месяцев назад в тюремной каптерке. Ну почему он так смотрит? Почему стоит с таким несчастным видом?!
— Там, в деревне, девушки танцуют у большого костра… Знаешь, это такое зрелище!.. Все здешние крестьяне — настоящие язычники, хоть и притворяются лютеранами. И они совсем дикие.
— Луиза, ты можешь уделить мне минутку? Мне нужно поговорить с тобой.
— Давай поговорим. С огромным удовольствием!
— Я думаю, мне пора уезжать, и как можно скорее.
— Вот как? Ну что ж, тогда и говорить, собственно, не о чем… — Она не сумела сдержать раздражение, больше того — его слова разбудили в ее душе какую-то слепую ярость.
— Ты же знаешь, как я тебе благодарен! — почти прошептал он.
— Ради бога, Итале! Мне ведь не благодарность твоя нужна! Если хочешь остаться, оставайся, если хочешь уехать, уезжай. Ты свободен, но, похоже, этого просто не понимаешь. А я хочу, чтобы ты наконец это понял. И вел бы себя соответственно!
Они дошли до конца аллеи. Перед ними в черных небесах висела огромная ущербная луна, ибо полнолуние уже миновало; в лунном свете широко раскинулись темные просторы полей. На юге в ночи все еще горело красноватое зарево — огни далеких костров.
— Намерение уехать, насколько я понимаю, связано и еще с одним твоим решением: любить друг друга нам, видно, больше не суждено?
Он остановился и посмотрел ей в лицо.
— С моим решением, Луиза?… — Голос его дрогнул. Он глубоко вздохнул и с огромным трудом выговорил: — Нет, это было решено за нас.
— За меня никто ничего не решал! Я всегда сама делаю свой выбор!
— Так, может, ты его и сделаешь? И хотя бы раз прикоснешься ко мне?
— Что ты хочешь этим сказать? — растерянно спросила она, внутренне ужаснувшись.
Он стоял совершенно неподвижно, и она понимала, что ничего более он к своим словам прибавить не сможет. Понимала, что это действительно самый простой способ доказать ему, что он не прав. Ей нужно всего лишь взять его за руку, коснуться его щеки… Или позволить ему прикоснуться к ней.
Она отшатнулась.
— Это нечестно! — прошептала она. — Нечестно!
Он не ответил. И через некоторое время снова заговорил:
— Я уж больше и не знаю, что честно, а что — нет. Но я не хочу причинять тебе боль, Луиза. И никогда не хотел. Но почему-то всегда делал тебе больно.
— Господи, ну почему все так глупо! — Она зачем-то рассматривала в темноте свою тяжелую юбку, шаль, легкие пышные рукава, руки. — Почему я такая? Как я угодила в эту ловушку? Почему не могу стать свободной, стряхнуть с себя все это? Почему мы не можем поступать так, как нам хочется?
— О, моя дорогая! — воскликнул он со стыдом и болью и протянул к ней руки.
— Лучше бы я умерла! — сказала она, повернулась и пошла от него прочь.
Когда они встретились утром, она была спокойна и вежлива.
— Итак, Итале, что же мы будем теперь делать? — спросила она. — Осуществим совместное победоносное возвращение в столицу или вернемся туда поодиночке? Как скоро ты хочешь уехать?
— Не знаю.
— А ты достаточно здоров, чтобы путешествовать верхом?
Он кивнул.
— Ну что ж… А я, пожалуй, останусь, чтобы присутствовать на балу, который дает Ларавей-Готескар. Он пригласил туда герцога Матиаса, а мне очень хочется повидать старика… Ты не хочешь с ним познакомиться? Бал состоится через две недели. Но я не настаиваю. Если не хочешь, тогда, конечно, можешь уехать, когда тебе заблагорассудится. Возьми старого Шейха; он, по-моему, самый надежный из здешних кляч и, скорее всего, вполне дотянет до Красноя. — Итале не сводил с нее грустных синих глаз, но она продолжала: — А я уеду несколько позже. В середине июля Энрике возвращается в Вену и, наверное, возьмет меня с собой. Я всегда стараюсь не оставаться на лето в Красное: летом он точно вымирает. Мертвая столица побежденной страны. А я, как ты знаешь, ненавижу поражения. — Она посмотрела ему прямо в глаза, и он потупился. — Итак, когда ты едешь?
— Завтра, — промолвил он.
— Что ж, прекрасно.
— Собираться мне недолго, — сказал он, вставая. — Все, что у меня есть, подарено тобой. Ты и сама это знаешь. Конь, эта вот рубашка, даже моя жизнь…
Не желала она слушать утешения! Во всяком случае — от него.
Итале уехал ранним утром. Луиза попрощалась с ним внизу, в гостиной. Потом он пошел прямо на конюшню, а она поднялась к себе и стояла у окна, глядя, как он выезжает за ворота и удаляется от нее по прямой дороге меж ровными полями. Один раз он оглянулся через плечо. Но руки в прощальном жесте она так и не подняла.
Глава 25
Итале спустился в Красной по горной дороге от Грассе и поздним вечером в последний день июня добрался до города. Усталый, на усталом коне, ехал он мимо неряшливых пустырей, заросших лопухом, мимо помоек и лачуг, окруженных заболоченными участками земли, и наконец выбрался на главную улицу Заречья, миновал Старый мост и статую св. Кристофера, покровителя странствующих, и вспомнил, как они с Эстенскаром три года назад проезжали здесь осенним утром. Остановился Итале в маленькой гостинице в самом конце бульвара Мользен, велел принести в номер обед и, поев, почти сразу лег спать. Завтра он непременно отыщет своих друзей, вновь окунется в здешнюю жизнь, но все это будет завтра; а сегодня ему нужно одно: как следует выспаться. В маленькой комнате было душно, темные шторы на окнах плотно задернуты, так что Итале почти сразу раздернул шторы и настежь отворил оба окна, впуская в комнату теплый ночной воздух и шум большого города. Он уже засыпал, когда колокол кафедрального собора, находившегося неподалеку, пробил десять и совершенно прогнал у него всякий сон. Потом он долго не мог уснуть и, лежа в темноте, перебирал в памяти воспоминания о былой жизни в Красное, начиная с того дня, когда впервые услышал звук этого колокола. В эти первые два года он жил здесь такой интересной и насыщенной жизнью, что этот недолгий период казался ему теперь ярким лучом света по сравнению с сумеречно-спокойными, далекими годами, проведенными в тени родных гор, и теми двадцатью восемью месяцами беспросветной тьмы, что закончились совсем недавно, но уже представлялись совершенно невообразимыми.
Завтракая жарким утром в одном из уличных кафе Речного квартала, Итале никак не мог окончательно отказаться от мысли вернуться после завтрака в гостиницу и затаиться там еще на денек. Он не чувствовал себя отдохнувшим после долгого пути, да и уверенности в собственных силах у него пока не было. Интересно, что ждет его здесь? Выехав за пределы Совены, он сперва опасливо объезжал за версту как городские ворота, так и все полицейские посты, какие можно было объехать, с ужасом думая о том, что его попросят предъявить документы. Страх этот, правда, несколько уменьшился, когда ему все-таки пришлось раза два документы предъявить. Полицейские лишь бегло глянули в его паспорт и тут же его отпустили. Но то было вдали от столицы, а какова ситуация здесь, он совершенно не представлял и все время был настороже. Так или иначе, сперва нужно отвести коня, которого дала ему Луиза, на улицу Роше, в конюшню Палюдескаров. И еще нужно раздобыть хотя бы немного денег. Нет, провести еще одну ночь в гостинице он себе позволить просто не может. Эмануэль ссудил ему полсотни крунеров, и из них теперь осталось шестнадцать; меньше, чем было в самый первый раз, пять лет назад, когда Итале приехал в этот город. И всего у меня в этот раз меньше, думал он, возвращаясь к реке, медленно поднимаясь пешком по тенистому бульвару и любуясь сверкающей водой. Меньше наличности, меньше сил, меньше лет жизни впереди и меньше мужества, чтобы противостоять бурям, бушующим в море житейском, а также — в нем самом, ибо этот вихрь света и ветра, чувств и страстей никогда не затихал в его душе, никогда не брал передышку, его могла бы погасить одна лишь смерть, и даже толстые тюремные стены легко превращались в пыль под натиском этих бурь. Здесь, на берегу Мользен, Итале чувствовал себя странно легким, гибким, каким-то нематериальным — так, нечто мерцающее, уязвимое, неуверенное, словно мотылек, словно легкая искорка, запутавшаяся в жарких солнечных лучах и длинных земных тенях; и он, Итале Сорде, должен был тем не менее противостоять могучим силам Вселенной, чтобы остаться самим собой и не только противостоять, но и участвовать в их работе, делать свое дело, быть частью этой Вселенной… Странное это было занятие — быть человеком, просто идущим по залитому солнцем берегу реки; даже более странное, чем быть камнем, или рекой, или деревом, тянущим вверх свои ветви, навстречу июльской жаре… Но камни, река и деревья хорошо знали, что делают. А он, Итале, нет.
Ему навстречу попались две маленькие девочки с запыхавшейся няней, спешившие навстречу сладостному миражу — тележке мороженщика. Косички так и подпрыгивали у девчушек на плечах. Как же давно миновало его собственное детство! Добравшись до здания редакции «Новесма верба», Итале повернулся лицом к реке и оперся о парапет, глядя на сверкающую под солнцем воду. Мользен спешила к морю. Далеко же ей еще бежать по этой стране, не имеющей к нему выхода, подумал Итале. «Мое безбрежное королевство» — так назвал Орсинию Амадей в своей знаменитой «Оде». «Далек твой путь к бесславному концу, без имени, без чести…»
…Хватит, сказал он себе, иди же, Итале! Он распрямил плечи, решительно перешел через улицу, поднялся по лестнице в помещение редакции и вошел, не постучав — отчасти по старой привычке. Навстречу ему шагнул, поднявшись из-за стола, какой-то молодой человек:
— Что вам угодно?
— Кто-нибудь еще в редакции есть? — пробормотал, сразу растерявшись, Итале; он никак не мог вспомнить, кто этот юноша, а может, никогда его и не знал.
— Господин Брелавай. Но он занят, у него посетитель. А моя фамилия Верной.
Он был молод, самое большее двадцать, и прямо-таки светился от излишней самоуверенности. Итале, всегда остро реагировавший на новое, был просто потрясен этой цветущей юностью и судорожно искал подходящую тему для разговора. Наконец он спросил:
— А вы что же, из «Амиктийи»? — И тут же вспомнил, что это студенческое общество давно разогнали, а кое-кого из его вожаков даже арестовали; все это произошло за несколько
месяцев до его освобождения. В общем, вопрос его был совершенно неуместен, и парнишка прямо-таки взвился:
— А вы кто, собственно, такой?
— Я — Сорде, Итале Сорде. Извините. Я хотел…
— Вы — Сорде?
Итале молча кивнул. Верной тут же скис, точно пропитанная водой промокашка, потом замахал руками и помчался за Брелаваем, который, конечно, тут же явился. Его смуглая физиономия по-прежнему смешно увенчивала длинную, как коломенская верста, фигуру, чем-то напоминая вывеску над дверью дома; он совершенно не изменился, так что Итале даже засмеялся от радости, обнимая его, а вот Брелавай не смог сдержать слез и все никак не выпускал Итале из своих объятий.
— Ну все, Томас, довольно… Да успокойся же ты наконец!
Оба были чрезвычайно взволнованы и некоторое время оказались не в силах даже посмотреть друг другу в глаза.
— Все. Нет, погоди-ка… Ага, вот он! — Брелавай выудил из кармана носовой платок и шумно высморкался. — Господи, Итале, это ты! — сказал он с нескрываемой нежностью. — Что же у тебя было?
— Было? У меня?
— Нуда, чем ты был болен?
— Тифом.
— Нет, кроме шуток? Неужели тифом?
— Какие уж тут шутки.
— Так… Ну, идем же ко мне, что это мы тут застряли, точно сцену из «Отелло» с носовым платком репетируем? У меня там Санджусто сидит. Помнишь его? Господи! Итале! Неужели все-таки это ты и снова можно называть тебя по имени!.. Ты где остановился? Я даже и не пытался тебе в Совену писать. Тем более твоя баронесса просила меня этого не делать; она написала, что должна заботиться о своей репутации, политической, разумеется. Долго же она тебя там прятала. Полагаю, впрочем, тебе это было необходимо. — Брелавай, обнимая Итале за плечи, все подталкивал его, таща по коридору в свой редакторский кабинет, где и без того уже совершенно ошалевший Итале обменялся рукопожатием с человеком, один лишь вид которого «добил» его окончательно, ибо в памяти его вновь зазвучали неумолчное пение фонтанов, голоса Луизы и Пьеры, стук карет по мостовой на улице Фонтармана… Когда пелена воспоминаний рассеялась, Итале, все еще ощущая легкую дурноту, понял, что сидит на стуле, а остальные сгрудились вокруг и сочувственно на него поглядывают.
— Ох, простите! Видно, я еще слабоват… Как ты, Санджусто?
— Отлично.
— Ты сейчас в Красное?
— Да, уже две недели. Устаю от Англии, вот и приезжаю, — пояснил итальянец, стараясь использовать только настоящее время. Голос его звучал спокойно, да и сам он отнюдь не суетился, хоть и улыбался с видом заговорщика. Итале сразу стало легче. — Здесь ведь теперь настроения совсем другие, чем в 27-м. Даже в Айзнаре. Все такие… возбужденные… неуравновешенные… Но я не уверен, что все понимаю. Я ведь приезжаю из Англии. А после Англии все на континенте кажутся чересчур возбужденными, чересчур эмоциональными, верно?
— А как в Париже? — спросил Брелавай.
— О, в Париже хорошо! Ультра, роялисты, 14-я статья, любовники, каштаны, старики, которые ловят в Сене маленьких рыбок, — Париж всегда один и тот же: он похож на женщину, а разве можно предсказать женское настроение?
Все рассмеялись, а Санджусто опять лукаво подмигнул Итале. Чувствуя себя обязанным играть отведенную ему роль, Итале принялся задавать вопросы, которых Брелавай имел полное право от него ожидать: о недавних событиях, о политических переменах в стране.
— Если и есть какие-то перемены, — сказал Брелавай, — то это прежде всего перемены в настроениях, тут Санджусто совершенно прав. Причем в самых низах, что называется, в народных массах. А наверху — ничего! Кабинет министров тот же, разве что Раскайнескар сменил Тарвена; ассамблея все что-то жует да бормочет невнятно, великая герцогиня больна — а может, и не больна, а это только слухи…
— Но три года назад таких слухов не было! — заметил Санджусто.
— Платить налоги теперь еще тяжелее, — продолжал Брелавай, — а политические аресты стали делом самым обычным, как и «административные приговоры», которые выносятся без суда и следствия и введены относительно недавно. Запрещены студенческие общества и некоторые другие союзы. Цензура пользуется безграничной властью, и, скорее всего, вся корреспонденция перлюстрируется. За это время было два неурожая; в городах, особенно в центре и на востоке, свирепствует безработица…
— Короче, причин для дурного настроения хватает, — заметил Итале.
— Да уж, и во всем винят ассамблею. Даже неурожайные годы ей в вину поставили!
— Ваша ассамблея — просто искупительная жертва… как это говорят? козел отпущения — для Австрии. И ваш премьер-министр об этом знает лучше других! — сказал Санджусто.
— А как поживает Орагон? — спросил Итале.
— Черт бы его побрал, этого Орагона! — сердито воскликнул Брелавай. — Он оказался совсем не Дантоном, а скорее Талейраном! Причем Талейраном-демагогом — только не в шелковых чулках, а в деревянных башмаках! Я тебя уверяю, скоро все государство окажется на виселице, если Стефан Орагон сумеет-таки взобраться на ее перекладину!
— Луиза говорила, что меня освободили в значительной степени благодаря его вмешательству.
— Это верно. Орагону нужны положительные отзывы прессы, и твоим освобождением он как раз за это и расплатился.
— Понятно. А как… Френин?
— Нормально. Он в Соларии.
— По поручению газеты?
— Он там живет.
— В Соларии? А что там происходит?
— То же, что и всегда. Полно студентов, ярмарки скота, в девять вечера все уже спят… Френин там зерном торгует. Я слышал, дела у него идут хорошо. Он уехал из Красноя буквально недели через две после того, как стало известно о твоем аресте. — Но Итале даже глазом не моргнул, и Брелавай тихо прибавил: — Забоялся наш Френин!
Брелавай, Френин, Сорде — когда-то они были закадычными друзьями, задолго до того, как решили переехать в столицу. Между прочим, именно Френин и вытащил их всех сюда. Именно Френин — сколько же лет назад это было? — сказал, сидя на залитой солнцем скамейке в парке над голубой Мользен: «Я подумываю об отъезде в Красной…»
Брелавай все это уже пережил и теперь испытывал лишь застарелую горечь, но для Итале это был настоящий удар; к тому же он не мог избавиться от болезненной уверенности в том, что стал причиной этой победы Зла. Пусть даже невольно. Ведь это из-за него Френин сдался! Некоторое время Итале сидел молча, как бы определяя на глаз, сколько весит треснувшая чернильница, которую он зачем-то взял со стола. Потом он наконец спросил:
— Скажи, Томас, а Изабер?… О нем ты что-нибудь знаешь?
— Абсолютно ничего! С самого начала нас уверяли, что никакого Изабера в Сен-Лазаре вообще нет и не было. Потом сказали, что его давно освободили и ему было предписано немедленно покинуть Ракаву. А больше нам ничего узнать не удалось.
Два года он пробыл в тюрьме, чувствуя себя виновным в смерти этого мальчика! Но он и понятия не имел, сколь все же сильна была в нем надежда — пока эту надежду у него не отняли, — что когда он выйдет на волю, то все это окажется лишь дурным сном, чудовищным обманом, а Изабер будет жив!
И в этой смерти тоже виноват он; он за нее в ответе.
Брелавай не стал ни о чем расспрашивать Итале, заметив, как сильно опечалило его это известие, и решил, что он знает о несчастном Изабере еще меньше, чем они. Санджусто, желая прервать затянувшееся молчание, встал, потянулся и сказал по-английски:
— Пора бы и на травку… Я, между прочим, еще не завтракал.
— Тогда пошли. Кстати, я собирался встретиться в «Иллирике» с Александром. Он придет к часу, — сказал Брелавай, обрадованный тем, что может как-то отвлечь Итале от печальных мыслей.
Александр Карантай совсем не изменился и был по-прежнему темный и теплый, напоминая Итале мерцающие угли в почти прогоревшей печи. Заказав кофе, они часа два проговорили в «Иллирике». Два-три раза к ним подходили молодые люди и просили разрешения познакомиться с господином Сорде. Итале охотно пожимал протянутую руку, но в разговоры ни с кем не пускался, и юноши смущенно отходили прочь.
— Итале, дорогой, ты же для них настоящий герой, прямо-таки Вальтура! — сказал Карантай.
— Боже упаси!
— Действительно, боже упаси, — подхватил Брелавай. — Вальтура ведь погиб. Еще в 28-м, в Спилберге.
— Там же, где и Сильвио Пеллико, который, между прочим, был хорошо знаком с Байроном, — спокойно заметил Санджусто. — В тюрьме Спилберга, должно быть, отличная компания подобралась!
Теперь Итале понял, почему Санджусто смотрел на него так, словно у них была некая общая тайна. Общее у них действительно было: Санджусто провел три года в венецианской тюрьме Пьомби как политический заключенный. Брелавай, Карантай и те юноши, что подходили к их столику, — все они хотели знать, каково ему пришлось, но спрашивать не решались. А Санджусто даже слышать об этом не хотел, и спрашивать ему не было ни малейшей необходимости. Этот ссыльный иностранец был для Итале товарищем по несчастью.
Потом снова зашла речь о Стефане Орагоне, и, когда спор особенно жарко разгорелся, Санджусто вдруг заявил:
— Но ведь он профессионал, верно? А вы всего лишь любители, как и я сам, впрочем. Учтите: государственные перевороты всегда совершают профессионалы. Только им они удаются. А вот революции как раз совершают любители.
— И терпят поражение? — спросил Брелавай.
— Конечно!
— Но послушай, Санджусто, все это верно, и революцию 89-го года действительно совершали любители, — горячо заговорил Карантай, — та толпа, что двинулась на Версаль и захватила Бастилию. Да и Генеральные штаты, все эти жирондисты и якобинцы, состояли в основном из адвокатов, провинциальных клерков, но никак не профессиональных политиков. Однако они учились и в итоге стали профессионалами, и по мере того, как они достигали все более высокого уровня профессионализма, Революция сходила на нет, терпя одно поражение за другим, и страна неизбежно двигалась в направлении очередного государственного переворота, во время которого ее и предали.
— Неправда, профессионалами они так никогда и не стали! — возразил итальянец. — Робеспьер, например, так и остался любителем. Вот Наполеон — это профессионал! И, кроме того, что следует считать поражением и что — успехом? Согласен, Революция потерпела поражение, и Наполеон по природе своей — человек очень удачливый, истинный завоеватель, истинный правитель империи, но ведь надежду дает именно поражение, а не успех!
— Vivre libre ou mourir, — сказал Итале и засмеялся.
— Точно. И между прочим, Верньо — профессиональный юрист, и весьма, надо сказать, успешный. Очаровательный человек и довольно ленивый помощник этого любителя гильотин! — Санджусто стукнул себя по горлу ребром ладони. — И вот, пожалуйста: оборвалась такая прекрасная карьера! Но сперва Верньо все-таки успел сказать нам: живите свободными или умрите. Над чем это ты смеешься, Сорде?
— Я вдруг понял, что предпочел бы все же остаться в живых, даже не будучи свободным.
— Разумеется. Года на два или на три тебя бы вполне хватило. Может быть, даже дольше. Но сейчас-то все мы и живы, и свободны!
— Просто живы, — сказал Итале.
Денежный вопрос решился сам собой и очень быстро: Брелавай сообщил тоном, не допускающим возражений, что в журнале Итале ждет жалованье за двадцать восемь месяцев.
— Эти деньги нас, между прочим, не раз выручали. У нас ведь никогда раньше не было под рукой такой суммы наличными. Я даже не могу сказать, сколько раз мы из нее заимствовали, помогая людям продержаться в трудное время. Но все всегда свой долг возвращали, понимая, что это твои деньги. Если б это были чьи-то еще деньги или даже редакционные, многие бы, уверен, просто «забыли» отдать должок.
Карантай предложил Итале пока поселиться у него; Итале колебался.
— Мою прежнюю квартиру обещали для меня сохранить; там, когда я уезжал в Ракаву, жил один мой друг. Мне бы нужно сперва сходить и проверить, там ли он еще.
Карантай отправился в Речной квартал вместе с ним. Они вышли мимо собора Святого Стефана на улицу Праздника Палачей и нырнули в густую мешанину домов и дворов, налезавших друг на друга в тени Университетского холма.
— Ну, здесь, по-моему, ничего не изменилось, — заметил Итале.
— Во всяком случае, за последние пять столетий вроде бы нет, — откликнулся Карантай. На улице Маленастрада, 9, госпожа Роза, по-прежнему осаждаемая кошками, холодно поздоровалась со своим давно пропавшим жильцом:
— У меня здесь ваши вещи, господин Сорде. Очень бы желательно, чтобы вы наконец их забрали, а то не пройти.
— А господин Бруной еще живет здесь?
Она смерила его взглядом:
— Нет.
Она знала, что Итале был арестован, но его голос и одежда все же свидетельствовали о том, что это вполне «благородный господин». Розе очень хотелось, чтобы он был из «благородных»; тюремных пташек она в своей жизни навидалась предостаточно. И все же полностью доверять Итале она уже не могла: слишком сильно он ее разочаровал. И она обвиняющим тоном прибавила:
— Господин Бруной умер два года назад! А ваши комнаты Кунней занял.
— Ах вот как… — только и смог вымолвить потрясенный Итале. Помолчав немного, он смиренно спросил у домовладелицы, дома ли господин Кунней. Госпожа Роза кивнула и чуть отступила в сторону. Итале и Карантай поднялись по темной шаткой лестнице наверх, и Кунней вышел из своей мастерской, радостно улыбаясь.
— Ох и горько ж нам было узнать, что вас арестовали, господин Сорде! — сказал он. — Хорошо, что вы вернулись!
Итале пожал ему руку и на минутку задержался, чтобы приласкать очередного малыша, который родился за время его отсутствия и теперь уже хорошо ходил. Огромные темные глаза на нежном личике заглянули Итале, казалось, в самую душу.
— Как дочку-то назвали, Кунней?
— Это мальчик. Он у нас небольшой получился, и личико нежное, как у девчонки. А назвали мы его Лийве. Я тут для вас кое-что сохранил. — И Кунней, пошарив в соседней комнате, принес небольшой пакет и протянул его Итале: в пакете были письма, присланные из Малафрены осенью 1827 года, и клочок бумаги с едва различимыми каракулями: «Для Прометея не существует вечных оков».
— Это господин Бруной за день или за два до смерти написал и просил вам передать, — сказал Кунней.
Итале протянул записку Карантаю и отошел к окну.
— А ты знал его, Александр? — спросил он, не оборачиваясь.
— Не очень хорошо. Он довольно часто приходил в редакцию узнать о тебе.
— Это был настоящий человек, стойкий, надежный.
— Да, это точно, — подтвердил Кунней. — И умер хорошо. Он говорить почти что уже не мог, когда это писал, а под конец все-таки заговорил; приподнялся и спокойно так сказал: «Я готов», — точно жених, готовый к венцу идти. Я повернулся посмотреть, с кем это он разговаривает, а он уже снова лег и лежит, такой тихий, довольный, только вроде как немного задыхается. Так и умер. Жаль, что священник уже ушел. Я никогда не видел, чтобы кто-то умирал лучше.
— О да, — сказал Итале. — Это он умел хорошо.
Он взял у Карантая записку, бережно свернул ее и сунул в кармашек для часов.
— Как у тебя-то дела, Кунней?
— Да все работаю. — Он посмотрел на Итале. — Мы теперь ваши комнаты заняли — нас ведь шестеро теперь, вот мы и решили попросторнее устроиться. Но если вы захотите вернуться…
— Нет, я, конечно же, не вернусь, Кунней. Роза с вас теперь за квартиру больше берет?
— Нет. Она и с господина Бруноя под конец платы не брала. Так что я часы да книги его продал, ну и у него кое-что накоплено было, и этого вполне на похороны хватило. А Роза, она ничего. Понимает, когда человеку тяжело приходится.
Итале присел на корточки и с серьезным видом протянул руку мальчику, хрупкому, но державшемуся удивительно важно в своем нелепом, каком-то девчоночьем платьице.
— Прощай, Лийве, — сказал он. Крошечная ручка ребенка в его крупной руке выглядела так трогательно, что он лишь ласково коснулся щечки малыша губами и тут же отвернулся и встал. Пожав руку Куннею, он распрощался с ним, и они с Карантаем направились в южную часть города, Элейнапраде. Там Карантай отдал ему бережно хранимое письмо от 6 февраля 1828 года, адресованное Итале Сорде и написанное Амадеем Эстенскаром. Итале начал было его читать, но отложил и, устало уронив голову на руки, пробормотал:
— Не могу я больше читать письма от мертвых!
Карантай занимал весь верхний этаж дома, несколько просторных комнат с большими светлыми окнами, обставленных, правда, весьма экономно. Итале довольно долго бродил по комнатам, стуча башмаками по голым полам, потом наконец сел и устало промолвил:
— Никого из них сегодня нет, все умерли.
— Для страны это были очень непростые два года, — мягко заметил Карантай.
— Но в чем же дело… в чем дело, Сандер?
— Не знаю. У меня-то самого все более или менее в порядке. Я продолжаю писать, а это единственное, как ты знаешь, что мне действительно в жизни не безразлично. Кроме того, этим занятием я вполне неплохо зарабатываю. А в сентябре я намерен жениться.
— Да ну!.. На Кареле?
Карантай кивнул. Он давно уже любил эту женщину, но говорить об этом всегда избегал. Даже сейчас Итале не мог бы с уверенностью сказать, отражает ли его нежелание говорить на эту тему свойственную Карантаю холодность чувств, или же он просто пытается не показывать другим своего счастья, которое кажется ему эгоистичным и несколько непристойным в такой обстановке.
— И я считаю, что в данный момент имею все, чего когда-либо просил у судьбы, — продолжал он. — Но если иметь в виду всех нас, вместе взятых, то последние годы были далеко не лучшими. Ты сидел в тюрьме, Амадей умер, Френин сдался… А впрочем, кому придет в голову обвинять его? Мы ведь всегда понимали, что хотим собственной головой пробить каменную стену. Не удивительно, что кое у кого голова и не выдерживает. И от этих ударов в ней происходит некоторая путаница… И потом, было столько обысков и вызовов в суд… Знаешь, Томаса уже три раза вызывали. И еще эти чертовы «административные приговоры»! Вот что действительно страшно. Да и цензура совершенно удержу не знает. Мне порой кажется удивительным, как это люди осмеливаются читать наш журнал… Но ведь действительно читают! И подписка за прошлые полтора года выросла вдвое! И к нам все время приходят молодые люди, а также опытные бунтари вроде Санджусто — нас становится значительно больше, чем было прежде! Вот только ожидание слишком уж затянулось. Да мы, собственно, никогда и не знали толком, чего ждем. И в этом отношении перемен никаких, разве что все мы стали на пару лет старше.
Итале улыбнулся. Доброжелательное здравомыслие Карантая, как всегда, его подбодрило.
— Ожидание затянулось… — сказал он. — Это не про тебя, Сандер. У тебя есть любимая работа. А вот я никогда не работал по-настоящему. Я только других умел приводить в рабочее состояние.
— Ничего, придет и твое время, Итале.
— Правда? А разве у меня будет еще какое-то иное время? — Карантай не ответил, и Итале продолжал: — Не знаю, Сандер… Но, по-моему, я проиграл. Я, наверное, не имею права говорить об этом…
— Ты заслужил право говорить о чем угодно.
— Нет. В том-то и дело. Ничего я не заслужил… Ничего! Там ничего нельзя ни заслужить, ни выиграть — там, где я был, Сандер. Там всегда только проигрываешь. Утрачиваешь право разговаривать с людьми, у которых еще есть… которые верят в рассвет… Там я усвоил одно: никаких прав у меня нет, а вот ответственность моя перед другими бесконечна.
— Ну уж нет! Это было бы поистине бесконечной несправедливостью, Итале.
— Мне бы куда больше хотелось поверить тебе, а не собственным глазам, — горько обронил Итале. — Мне бы так этого хотелось… Я ведь раньше был куда лучше… — Он резко оборвал себя и вскочил. — Знаешь, я ужасно устал. Можно мне ненадолго прилечь?
Карантай проводил его в одну из свободных комнат, Итале лег, и часов в восемь Карантай заглянул к нему, чтобы пригласить его поужинать в кафе. Но Итале крепко спал, и Карантай решил его не будить. Он видел, какое у Сорде лицо — измученное, расслабленное во сне. Карантай отошел к окну, из которого видна была западная окраина города, крыши и каминные трубы, окутанные дымной пеленой и уже сгущавшимися сумерками. Было жарко; стояло полное безветрие. Сандер так и застыл у окна, глядя на своего друга, которого уже не надеялся когда-либо увидеть вновь, и мечтая о том, чтобы с реки подул ветер и ночью пошел дождь. Но погода меняться явно не собиралась. На письменном столе Карантай заметил серебряные часы с открытой крышкой. Они показывали половину третьего. Карантай потряс их, но они так и не пошли. Наконец он все же решился разбудить Итале; друзья спустились на улицу и зашли в соседнюю гостиницу, где Карантай обычно завтракал и обедал.
Закончился жаркий июль, но начало августа тоже прохлады не принесло. Итале по-прежнему жил у Карантая, который чуть ли не силой заставил его остаться, и он легко подчинился, поскольку особого желания подыскивать себе квартиру и куда-то переезжать у него не было. Временность этого жилья и дружелюбное, хотя и весьма сдержанное отношение к нему Карантая вполне его устраивали. Участие, дружба — все это было ему совершенно необходимо, но он никак не мог снова прижиться в Красное, никак не мог снова взять на себя какие-то еще обязательства, кроме дружбы и верности. Он выжидал, страдая от собственной нерешительности, плывя по течению, и напряжение в его душе все более усиливалось по мере того, как укреплялось его здоровье. На него весьма благотворно действовало общество друзей — Карантая, Брелавая, Санджусто и других; раз в две недели, по понедельникам, он с нетерпением ждал почтового дилижанса, привозившего ему письма из Монтайны. С неменьшим нетерпением ждал он и собственного решения о том, чем будет заниматься дальше и где будет жить — останется ли в Красное или переедет куда-либо еще. Ждал, сам не зная чего.
Георг Геллескар путешествовал по Германии, его возвращения ожидали не ранее чем недели через две-три. Итале посетил старого графа, выразил ему свое уважение и был принят с такой искренней радостью, что ему даже стало неловко. Графу, старому упрямцу, уже перевалило за восемьдесят, и он почти умолял Итале остаться и пожить у него: «Знаете, я ведь счет потерял этим пустым комнатам…» Старик спросил и о Луизе, он даже Эстенскара вспомнил, хотя тот никогда ему не нравился. «Ну да, я так и думал: этот парень всегда был что твой фейерверк! И вот — одна прекрасная вспышка, и все кончено… Что ж, у него хватило ума, чтобы это понять и не тянуть, испуская жалкие последние брызги, еще лет пятьдесят, утомив своим присутствием всю Вселенную…»
— Интересно, неужели большая часть людей действительно всего лишь «утомляет своим присутствием Вселенную»? — спросил Итале у Карантая, когда они туманным теплым вечером брели от старого графа домой, на Элейнапраде.
— Вообще-то суть моей профессии именно в этом и заключается, — ответил писатель. — Я должен раздражать. И я, безусловно, предпочитаю «раздражать Вселенную», а не пребывать в раздражении от нее.
К ним подошел человек, одетый в некогда весьма приличный сюртук, и попросил милостыню. Итале отвел его в сторонку и немного поговорил с ним о чем-то. А когда нищий ушел, унося то немногое, что друзья смогли ему пожертвовать, Итале сказал Карантаю:
— Для него это совершенно новое занятие. Сколько же людей сейчас осталось без работы? По-моему, каждый третий или четвертый!
— Верной говорит, что на речных доках этим летом рабочих в два раза меньше обычного.
— Как и депутатов в ассамблее, — заметил Итале, глянув в сторону дворца Синалья, казавшегося в ночи особенно бледным и величественным; дворец был окружен прелестным парком с огромными каштанами.
— Интересно, почему великая герцогиня безвыездно сидит в Рукхе?
— По словам Орагона, она опасается демонстраций.
— Да, Синалья, пожалуй, более уязвима. Хотелось бы знать: чего герцогиня на самом деле боится?
— Чертова австрийская корова на троне Великого Эгена! Да мы просто обязаны показать ей ее настоящее место!
Карантай рассмеялся:
— Что-то ты в последнее время уж больно свиреп!
— Все мы стали злыми. Жара. Люди устали. Господи! Как же все мы устали! Но когда-нибудь это ведь должно перемениться? Я приехал сюда пять лет назад. И все это время — всю мою жизнь, всю нашу жизнь, Сандер! — с тех пор, как мы появились на свет, сеть становилась все крепче, ячеи — все теснее… Вся Европа похожа на пересыхающий в жаркое лето пруд!
— Из которого австрийский скот допивает последнюю водичку, — подхватил Карантай. Друзья двинулись дальше. Над тропинкой, прямо у них перед носом, перелетела с одного дуба на другой сова, мягко шевеля крыльями, похожая в сумерках на спутанный клубок темной шерсти. Сова явно охотилась.
Брелавай, который все это время замещал Итале на посту главного редактора журнала, хотел тут же передать ему бразды правления, но Итале не торопился снова взваливать на себя всю ответственность, и многие его в этом поддерживали: сейчас, как никогда, всем им нужно было быть очень осторожными, а Итале власти считают неисправимым бунтарем, и первое же его публичное выступление может поставить под удар как его самого, так и сотрудников редакции. Денег у него благодаря накопившемуся за два года жалованью было пока достаточно, да и в курс дела он еще как следует не вошел. Он тем не менее сотрудничал с журналом почти бесплатно, вместе с Санджусто делая репортажи о заседаниях ассамблеи, а заодно и проверяя, можно ли ему уже безнаказанно печататься в журнале. Оба просиживали на галерее в Зале Собраний целыми днями и слушали бесконечные дискуссии, которые вели на латыни депутаты, весьма немногочисленные в это летнее время. Репортеры остальных изданий даже не давали себе труда присутствовать на подобных заседаниях, а «Меркурий» получал сводку предполагаемых изменений прямо из канцелярии председателя ассамблеи. Однажды, чтобы развеять скуку, Санджусто и Итале придумали в одном из своих материалов описать дебаты, которые якобы велись в Национальном Династическом Собрании обоих египетских царств 11 августа 1830 г. до н. э. Выглядело это примерно так:
«Президент: — Предоставляю слово господину Афазису, депутату Карнака.
Господин Афазис: — Господа! По непроверенным данным, которые предоставил нам уважаемый депутат от Птуна-Ниле, две телеги поистине бесценного груза — куриных яиц и редиски, — а также небольшая повозка с мумифицированными кошками были на целых шестьдесят два часа задержаны и подвергнуты тщательнейшему осмотру у Западных ворот главного города страны, где обитает Его Божественное Величество. Итак, достоверны ли эти данные? И может ли вообще служить материальным доказательством то, что куриные яйца и редис попали к заказчику абсолютно несъедобными, а мумии кошек, этих священных животных, подгнили из-за совершенно не соответствующих требованиям условий хранения, ибо слишком долго находились на жаре?…»
Брелавай напечатал эту шутку в одном из номеров журнала за подписью «Хеопс», и цензура материал пропустила. Он оказался последним из посвященных дебатам в ассамблее.
Ибо на следующий день, после открытия заседания, на трибуну поднялся премьер-министр Корнелиус и от имени великой герцогини Марии попросил отложить работу ассамблеи до октября, поскольку плохое самочувствие герцогини, связанное с жарой, помешало ей достаточно внимательно изучить решения, принятые депутатами, и одобрить их или же наложить на них вето. Председательствующий, представитель старинного аристократического рода и политик правого толка, все дебаты, разумеется, тут же прекратил и предложил отложить сессию до середины осени, а когда представители левых сил запротестовали, правые демонстративно покинули зал, поставив протестующих перед невозможностью принятия иного решения в отсутствие необходимого кворума в семьдесят человек. Все это заняло не более восьми минут. Итале и Санджусто даже пришлось сравнивать свои записи, чтобы быть уверенными, что они успели записать все, что произошло на заседании ассамблеи. С этими новостями они тут же направились в кафе «Иллирика», но, увы, опоздали: людям, лишенным работы, только и требовались подобная тема для споров и повод для возмущения. Закрытие парламента, деятельность которого до сих пор никого особенно не интересовала, вдруг оказалось в центре всеобщего внимания. Итале и Санджусто, и сами оказавшись без работы, бродили по раскаленным улицам, гудевшим, как встревоженный улей, слушали и зорко смотрели по сторонам. В парке народа было особенно много, как в праздник. В конце широкой каштановой аллеи у ворот дворца Синалья, теперь опустевшего, была выставлена усиленная охрана. Вся дворцовая стража, казалось, была поставлена теперь у ворот и дверей Рукха, мрачно возвышавшегося посреди площади, совершенно неприступного и, казалось, поджарившегося и ставшего красно-коричневым на жарком августовском солнце. Почти все магазины на улице Палазай, соединявшей оба дворца, были закрыты; витрины спрятались за железными ставнями. Бульвар Мользен над опустевшей рекой казался особенно длинным и раскаленным; одинокая баржа плыла вниз по течению и казалась черной в слепящем солнечном свете. Когда Итале и Санджусто пришли в редакцию, там их уже поджидал Орагон, явившийся прямо из зала суда. Все двери, рассказывал он, заперты, да и рты свои депутаты стараются держать на запоре. Ходят слухи, что вчера ночью из Вены прибыл курьер. Но, с другой стороны, курьеры из Вены приезжают постоянно…
— Я думаю, умер император, — решил юный Верной.
— Господи! — воскликнул Брелавай. — Лучше бы Меттерних!
— А вот это невозможно! — заявил Санджусто. — Меттерних будет жить вечно. А что, великая герцогиня действительно так больна?
Орагон, усевшийся прямо на огромный редакторский стол, сняв сюртук и распустив узел галстука, покачал своей тяжелой массивной головой:
— Она еще вчера вполне была на ногах. А сегодня утром даже ходила к мессе в часовню дворца Рукх. Ходят слухи, что у нее рак, и это вполне возможно, однако сегодняшних событий отнюдь не объясняет. — Орагон говорил громко, с легким восточным акцентом, запросто перекрывая царивший в редакции шум, и явно наслаждался своей силой и способностью доминировать в любом обществе, хотя и выглядел довольно утомленным. Сейчас он был способен ответить на любой вопрос журналистов и заставить любого, даже этих неуправляемых щелкоперов, уважать его, ибо знал, что многие газетчики давно уже утратили к нему доверие. Так что он инстинктивно повернулся к тому, в ком ощущал вожака, лидера данной группы журналистов, и заговорил с ним, как посвященный с посвященным:
— А что творится сейчас на улицах, Сорде?
— Откуда мне знать? — Всезнайство Орагона раздражало Итале. — Наверное, то же, что и здесь. Все мы в одной лодке.
— Больше всего они боятся, что толпы безработных устроят демонстрацию, — сказал Верной со свойственной ему мальчишеской безапелляционностью и самоуверенностью. — Они и ассамблею-то прикрыли, потому что боялись, как бы ее заседания не превратились в место откровенного обмена мнениями.
— По поводу чего? — спросил Брелавай. — И что же тогда готовится в Рукхе? И почему вдруг все австрияки дружно сунули голову в песок?
— А знаете, Верной, похоже, прав, — сказал Карантай. — Вот только почему так внезапно? Они же сами себе создают повод для беспокойства, хотя раньше всячески старались этого избежать. Не похоже на Корнелиуса. Что-то, должно быть, его подгоняет.
Этот спор мог продолжаться бесконечно, и в итоге его участники переместились в «Иллирику», но и там ни до чего не договорились. Слова лились рекой, люди приходили и уходили, и к девяти вечера голова у Итале уже раскалывалась от боли. Он сидел, безучастно уставившись в свой стакан с пивом; на кромке застыла полоска пены. Он поднес стакан к губам, допил пиво и, уже поставив стакан на стол и собираясь встать и уйти, заметил, что к нему направляется Орагон, ловко пробираясь меж столиков. Склонившись к Итале, Орагон тихо сказал:
— Давайте выйдем отсюда на минутку, Сорде.
— А в чем дело?
— Мне нужно с вами поговорить.
Он взял Итале под руку, и они двинулись через улицу Тийпонтий к парку, но дождаться, когда они окажутся в тишине аллей, Орагон оказался не в силах и заговорил, перекрывая грохот экипажей на мостовой и близко придвинувшись к Итале:
— Во Франции революция!
[27] Король Карл
[28] свергнут. Надо сказать, он действительно зашел слишком далеко… Жители Шартра вышли на улицы… Теперь согласно конституции королем станет герцог Бордо.
[29]
Итале так и застыл посреди улицы, не замечая криков возниц и грохота колес.
— Так вот, значит, в чем дело?!
— Да. Карл, пытаясь распустить Палату депутатов, явно превысил свои полномочия и тридцатого июля отрекся от престола. Теперь там уже все недели две как закончилось. Новый король присягнет на верность Конституции. Это же конец абсолютизма, во всяком случае, во Франции!
— Конец! — эхом откликнулся Итале, слыша знакомые звуки большого города, видя вспышки фонарей на крышах карет, чувствуя запах пыли, конского пота и разогретых за день камней — все это в данный момент делало для него эти слова особенно значимыми.
— И начало!
— Как вы об этом узнали?
— Через своих друзей — из Вены и Айзнара. Кроме нас с вами, сейчас во всей стране об этих событиях знает не более десятка людей! — Итале несколько удивило то нескрываемое удовлетворение, с которым Орагон это сказал. И тут же прошептал смущенно, по-прежнему сжимая руку Итале: — Что же нам теперь делать? Как нам следует поступить? Это же настоящая бомба, и она вот-вот взорвется! О, Корнелиус это отлично понимает!.. Скажите, Сорде, не следует ли нам пока скрыть эти известия?
— Ни в коем случае! Эту бомбу как раз надо взорвать! С грохотом! И пусть о революции узнают все! Ведь наши враги именно этого и боятся, верно? Хорошо, значит, вы расскажете всем в «Иллирике», а я найду людей, которые кое-что напечатают и постараются как можно быстрее распространить это в провинциях. — Итале радостно засмеялся. У него голова шла кругом от значимости момента, и сознание старалось уцепиться за те немногочисленные реальные составляющие, которые способно было сейчас воспринять, — лязг подков, грохот колес по мостовой, вспышки фонарей на крышах карет. Итале понимал, что он и его друзья неожиданно выходят на историческую сцену, и чувствовал себя совершенно не искушенным в актерском мастерстве человеком, которого вытащили из-за кулис и заставляют играть в спектакле главную роль. И в то же время ему почему-то стало гораздо легче принимать конкретные решения. Наконец-то пришло время для конкретных решений! Только это и требовалось в такой момент, когда кругом рушатся стены и нужно во что бы то ни стало идти вперед, к той цели, к которой стремился всегда.
А вот Орагон почему-то ужасно растерялся. Видимо, решил про себя Итале, он никогда и не имел достаточно четкой цели и должной преданности избранному направлению. Невероятно честолюбивый, очень энергичный и чрезвычайно эмоциональный, этот человек не обладал все же той пассионарностью, которая так необходима настоящему народному вожаку. Впрочем, Орагон оказался достаточно сообразителен, понял замысел Итале с полуслова и был готов действовать.
— Ну хорошо, Сорде. Вот вам записка моего друга из Вены, в ней вы найдете еще кое-какие подробности. Передайте все это в редакции газет как можно скорее, пока их еще не позакрывали. А я постараюсь оповестить весь город.
Выходя из «Иллирики», Итале, Карантай и Санджусто слышали, как Орагон, взобравшись на стол, который уже успели вытащить из кафе, вещал перед собравшейся толпой, как всегда очень громко, хотя и несколько неразборчиво:
— Французская революция закончилась победой! Страна обрела наконец свободу, за которую сражалась еще сорок лет назад. Пала последняя Бастилия! И победа этой революции станет и нашей победой, ибо нам предстоит сделать тот же выбор! Эта победа принадлежит не только Франции, но и всей Европе, всем нам! Так неужели мы станем сидеть сложа руки и ждать, пока Меттерних пошлет сюда австрийские войска? Неужели будем спокойно смотреть, как нашу страну пытаются раздеть догола? Я требую восстановления деятельности Национального собрания, я требую, чтобы на троне нашего свободного королевства вновь сидел Матиас Совенскар!
Уличное движение, казалось, замерло; всюду сверкали фонари остановившихся карет, освещая множество лиц, повернутых к оратору. Толпа была странно неподвижна — так бывает порой, когда ночная тьма озарится вдруг вспышкой молнии. Трое друзей незаметно проскользнули мимо собравшейся у дверей «Иллирики» толпы и поспешили по темным улицам к реке.
Глава 26
Короткая и теплая летняя ночь прошла под грохот и треск печатных станков, под крики и смех, перемежавшиеся недолгими, но бурными речами. Журнал решил выпустить сводку новостей под крупно набранным заголовком: РЕВОЛЮЦИЯ! Помещение типографии было буквально завалено листовками, их разбрасывали по улицам, пачками отправляли в различные провинции. В сводке кратко сообщалось о революции в Париже и о том, что Национальное собрание должно продолжать работу и в ближайшее же время рассмотреть самые неотложные вопросы, касающиеся отношений с новым правительством Франции, а также новые условия сбора налогов и порядок наследования престола в Орсинии.
— У этой бомбы слишком много запальных устройств, — сказал Брелавай, прочитав сводку. Они с Орагоном всю ночь носились по городу и оповещали депутатов о том, что ассамблея завтра, как всегда в девять, начинает свою работу. Когда в типографии им делать больше было нечего, Итале, Брелавай и Санджусто отправились на Соборную площадь, где до поздней ночи не расходилась огромная толпа и агитация велась наиболее активно. Наступал прохладный августовский рассвет, и под высоким, покрытым полосами облаков бесцветным небом опустевшая площадь казалась просто огромной. Собор по-прежнему невозмутимо высился над нею, заботясь лишь о том, чтобы сохранить в неприкосновенности свои величественные и изящные башни и выстроившиеся вдоль стены ряды каменных святых и королей. Друзья двинулись дальше по направлению к Элейнапраде. Набережная была оцеплена дворцовой стражей; всадники, сонно обмякнув, сидели в своих высоких седлах. За ними на лужайках под деревьями бесцельно роились толпы людей; люди перемещались с места на место, собирались в группки, расходились и сходились вновь… Постоянное движение людей и негромкое, но неумолчное жужжание голосов в этот суровый и задумчивый час рассвета производили странное впечатление.
Итале, сперва собиравшийся пойти к Карантаю и хотя бы немного поспать, все же решил остаться, и Брелавай побежал купить в ближайшей лавчонке хлеба и сыра, поскольку все изрядно проголодались. Вернулся он очень быстро, словно опасаясь, что даже за те десять минут, что он будет отсутствовать, может произойти что-то интересное и существенное. Небо светлело, становясь выше, и солнце уже освещало верхушки каштанов. Но если не считать восхода солнца, ничего особенного так и не произошло. Наступило теплое августовское утро, и еще более разросшаяся толпа заполнила все пространство под старыми деревьями, безучастно взиравшими на людскую суету. Итале и оба его приятеля пробились сквозь толпу к дворцовой ограде, где на посыпанной гравием площадке перед воротами выступали депутаты, представители левого крыла; их выступления прерывались ожесточенными спорами с офицерами королевской стражи, требовавшими разойтись и не устраивать митинг. Итале, впрочем, особого внимания на это не обращал — его гораздо больше беспокоили все возраставший напор толпы и беспорядочное движение внутри нее. Кроме того, ему безумно хотелось спать.
— А вон Ливенне, — сказал ему Брелавай. — Аристократ из Совены, представитель левых.
— Да, я о нем уже слышал. Он, по-моему, не посещал заседания весь последний месяц, — откликнулся Итале и зевнул так, что на глазах у него выступили слезы, помешавшие ему как следует разглядеть крупного светловолосого молодого человека, который говорил офицеру стражи:
— Герр полковник, вы не имеете права держать ворота запертыми. Этот зал принадлежит Национальному собранию!
— Сожалею, господин Ливенне, но пока что я выполняю указания вышестоящих лиц, — отвечал ему уже в десятый раз полковник.
— Так пошлите кого-нибудь во дворец и выясните, не будет ли иных указаний! — сердито предложил ему Ливенне, и давившая на ограду толпа проревела что-то в знак одобрения.
Санджусто толкнул Итале локтем.
— Смотри, они двух ворон поймали!
Два депутата от клерикалов, пришедшие на набережную из чистого любопытства, пытались теперь убраться восвояси, но с ужасом и раздражением поняли, что сомкнувшаяся плотным кольцом толпа им этого не позволит. Оставив тщетные попытки пробраться сквозь толпу, они вернулись и присоединились к группе в сорок или пятьдесят депутатов-либералов, ждавших у чугунных ворот. В толпе все чаще раздавались гневные выкрики и оскорбления; люди у ворот стояли сплошной стеной. Кони гвардейцев нервно переступали копытами; одна лошадь вдруг начала вскидывать голову, пытаясь встать на дыбы, и всадник с трудом осадил ее. Потом вдруг послышались радостные возгласы, в воздух полетели шапки и шляпы, и на покрытую гравием площадку с набережной между людской стеной и конной стражей вылетел легкий кабриолет.
— Что это за старичок? — спросил Санджусто, поскольку шум в толпе еще усилился.
— Это принц Могескар. Двоюродный брат Матиаса Совенскара. Благороднейший, между прочим, господин. И хватило же у старика мужества сюда приехать!.. Да здравствует Могескар! — закричал Итале, и толпа с энтузиазмом подхватила:
— Да здравствует Могескар!
Принц вылез из кабриолета, подтянутый, аккуратный, чуть резковатый в движениях. Он был уже очень стар. Подойдя к Орагону и Ливенне, он сказал:
— Доброе утро, господа. Интересно было бы знать: почему перед носом у депутатов запирают дворцовые ворота? — Он тоже явно испытывал воздействие живого и беспокойного духа противоречия, витавшего над толпой. Однако штурмовать ворота никто как будто не собирался; все терпеливо ждали. Соборный колокол густым басом
пробил десять. Восемьдесят депутатов ассамблеи продолжали стоять на усыпанной белоснежным гравием и ослепительно сверкавшей на солнце площади перед воротами. Принц Могескар пригласил старенького настоятеля посидеть у него в кабриолете. — На таком солнце нам, старикам, тяжеловато стоять, — посетовал он и тоже сел, прямой, с безупречной осанкой, хорошо видимый всем в лучах яркого утреннего солнца. Стефан Орагон все это время находился неподалеку от Могескара; это он придержал ту лошадь, которая испугалась напиравшей толпы. Орагон всегда лишь отражал чьи-то чужие лучи; его неудержимо влекло к людям ярким, обладающим властью, словно он считал свою собственную — и немалую! — способность притягивать к себе людей не даром, а недостатком. Кроме того, Орагон просто не умел быть один. Однако на самом деле он куда лучше Могескара, или Ливенне, или этого полицейского полковника знал, что такое власть над людьми, и лучше других понимал, что это он, Орагон, является центром собравшейся у дворцовых ворот толпы, душой этого огромного конгломерата, этого временного единства самых различных людей. Если он решит перейти к конкретным действиям, толпа последует за ним.
Итале, изнемогая от жажды и желания спать, тупо переминался с ноги на ногу, потому что болели обе, и раздраженно посматривал на окна верхних этажей дворца, мрачной громадой нависавшего над площадью на фоне светлого, затянутого легкой дымкой неба. Вдруг он почувствовал, что ноги его отрываются от земли и неведомая сила влечет его куда-то по воздуху, и успел лишь изумленно воскликнуть: «Что это?» Он тщетно пытался обрести былое равновесие, отчаянно толкался, его тоже толкали со всех сторон, но никто уже больше не стоял спокойно: толпа перестала ждать и ринулась вперед. Итале слышал какие-то приказы на немецком о том, чтобы сменили каждого второго, слышал крики людей: «Что это? Они собираются стрелять!» — и высоко над толпой видел Орагона, взобравшегося на одну из тех пушек, что выстроились вдоль чугунной ограды. Орагон что-то кричал, указывая в сторону дворца. Шум вокруг стоял невообразимый, и все же сквозь этот шум Итале отчетливо расслышал некие новые звуки — сухой, далекий, раздраженный, точно у старой девы, голос оружия и ржание перепуганных лошадей. Но толпа напирала, рвалась вперед, как бы всасываясь в двери дворца, утекая с залитой солнцем площади и разливаясь по гулким коридорам с мраморными полами и украшенными лепниной потолками. Потом вдруг потолок взметнулся куда-то вверх, и сразу стало легче дышать. Итале понял, что они достигли Зала Собраний, и обнаружил рядом с собой Санджусто, с которым они, как оказалось, все это время не размыкали рук. Орагон тоже был неподалеку; он стоял на каком-то возвышении и громко призывал депутатов выйти из толпы. Итале с облегчением вздохнул, немного растер нывшие плечи и руки, смахнул пот со лба и, оглядевшись, сказал Санджусто:
— Давай-ка выбираться отсюда. Попробуем подняться на галерею.
Он с удивлением обнаружил, что совершенно охрип, словно долго кричал. А впрочем, может, и кричал, кто его знает. Он не очень хорошо помнил эти последние мгновения. Друзья попытались пробраться к боковой двери, что вела наверх, на ту узкую галерею, где обычно размещались репортеры, но путь им преградила группа людей, тащивших какие-то тяжелые мешки, которые они свалили прямо на пол возле трибуны. Гул голосов в зале немного стих и стал похож на мерно бьющиеся о берег волны прибоя. Пространство вокруг трибуны моментально расчистилось, когда люди увидели, что это не мешки, а трупы. У одного из убитых было напрочь отстрелено лицо. Руки его, застыв, нелепо торчали вверх из сползших рукавов; носки потрескавшихся старых башмаков тоже смотрели вверх. На голове у него уцелело только одно ухо, нормальное человеческое ухо, странно контрастировавшее с тем кошмарным кровавым месивом, которое было когда-то лицом этого человека. Второй убитый, мужчина средних лет, вовсе не выглядел мертвым и удивленно смотрел на всех широко раскрытыми ясными глазами. Прямо над трупами, на трибуне, Итале и Санджусто увидели светлые волосы и молодое лицо Ливенне, который говорил, громко и отчетливо произнося каждое слово:
— Эти двое и многие другие заплатили чей-то чужой долг, хотя сами никому не были должны. Но больше этого не повторится! Мы не станем выкупать собственную страну! Мы требуем вернуть ее нам, ибо она принадлежит нам по праву, как принадлежала и нашим великим предкам! Запомните это! Но насилие нам ни к чему; нам не нужны бессмысленные жертвы. И это не мы должны платить по счетам! Это наши должники обязаны сполна расплатиться с нами!
По лицу Итале текли слезы, которых он даже не замечал. Однако слезы эти быстро высохли, когда они с Санджусто вновь принялись пробиваться к боковой двери и лестнице на галерею. Только добраться им туда было, видно, не суждено.
В течение шести часов они простояли у дальней стены Зала Собраний, пока длилось заседание ассамблеи, на котором присутствовали сто тридцать депутатов и тысячи простых слушателей. Они проголосовали за ведение всех дебатов только на родном языке, а также вынесли множество других решений, придать которым законную силу мог один лишь король; они единодушно проголосовали за то, чтобы передать от имени своего государства поздравление новому королю Франции, хотя пока что не знали даже, кто именно станет французским королем — герцог Бордо или Луи-Филипп Орлеанский; по слухам, маркиз Лафайет был уже назначен президентом новой французской республики.
[30]
— Они выберут Луи-Филиппа, — сказал Санджусто. — Этот старый гриб всю свою жизнь только и делал, что ждал. И всегда своего в итоге дожидался. Вот уж действительно, кто умеет ждать, всегда свое получит!
Итале кивнул, почти его не слыша, потому что с напряженным вниманием вслушивался в речь выступавших на трибуне, обнаружив, к своему удивлению, что с трудом понимает и запоминает то, о чем они говорят. В данный момент на трибуне был Могескар. Его резковатый голос чуть дребезжал от напряжения и старости.
— Я подтверждаю свою преданность королевскому дому Совенскаров и готов принести присягу нашему законному правителю, как всегда поступали наши предки. Однако время для этого еще не пришло. Мы можем называть Матиаса Совенскара королем, но можем ли мы возвести его на престол? Можем ли должным образом защитить его? Меттерних, безусловно, выслушает наши просьбы, потому что ему нужен мир, но к нашим требованиям он прислушиваться не станет. И мы пока что не в силах бросить вызов нынешней власти! И я, ради безопасности нашего короля, умоляю вас не спешить с выводами, не совершать чересчур поспешных и необдуманных поступков!
Его слова показались Итале совершенно разумными, но тут Орагон и другие ораторы принялись доказывать — и доводы их были не менее разумны и аргументированы, — что единственная надежда заключается в быстром и решительном возведении на трон Матиаса Совенскара, пока Австрия не успела еще опомниться и вмешаться. Fait accompli,
[31] бескровная революция, фатальное промедление, австрийские войска, общеевропейское восстание — эти слова и термины путались, образуя какой-то немыслимый клубок, и каждый раз цель всех этих бесконечных высказываний ускользала от понимания; а может, этой цели и не было вовсе? Колокол собора пробил пять. Итале, вздрогнув, очнулся: видимо, он на мгновение так и задремал стоя.
— Пойдем-ка отсюда, Франческо, — сказал он Санджусто.
Однако им снова не удалось осуществить задуманное, ибо они буквально в дверях столкнулись с делегацией, явившейся из дворца Рукх: под охраной дюжины гвардейцев в зал вошли министр финансов Раскайнескар и премьер-министр Корнелиус. Последний подошел к трибуне, что-то сказал Ливенне и Орагону, одарил всех своей приятной ласковой улыбкой и обратился к залу:
— Благодарю вас, господа, за позволение несколько нарушить ход вашей дискуссии. Дело в том, что я явился сюда, чтобы передать вам послание от великой герцогини. Ее светлость весьма сожалеет о том, что ее просьба о переносе сессии вызвала среди депутатов столь сильное разочарование, и намерена, идя навстречу пожеланиям своего народа, завтра же попросить ассамблею возобновить свою деятельность уже в ближайший понедельник. Герцогиня также просила меня передать уважаемому собранию, что от имени нашего государства новому королю Франции Луи-Филиппу были посланы самые искренние поздравления. Кроме того, великая герцогиня хотела бы поблагодарить депутатов за весомый вклад в установление в нашей столице мира и порядка в течение минувшего и весьма бурного дня. Ее светлость надеется, что этот порядок будет соблюдаться и впредь и не последует каких-либо неприятных инцидентов, связанных…
— Каких еще «неприятных инцидентов»? А что она думает насчет тех, кого сегодня утром убили?
Этот выкрик донесся из партера и вызвал в зале настоящую бурю. Желающих немедленно выступить оказалось великое множество, они рвались к трибуне, но были остановлены зычным голосом Орагона:
— Это не просто собрание, господин премьер-министр! Это Национальное собрание, государственный орган! И передайте, пожалуйста, ее светлости, что, пока король Матиас не перебрался в Красной и не занял свое законное место на троне, управление государством будет производиться отсюда, из этого зала! А также, господин Корнелиус, скажите великой герцогине, что мир и порядок зависят главным образом от того, пожелает ли она подчиниться нам, законному правительству Орсинии!
Корнелиус некоторое время молча смотрел на него, потом огляделся и пожал плечами.
— Но это же просто безумие! — только и сказал он, повернулся и пошел прочь. Действовал он, впрочем, как всегда, решительно, и, поскольку желающие выступить рвались к трибуне и в зале возникло некоторое замешательство, Корнелиусу удалось беспрепятственно покинуть зал вместе с Раскайнескаром, лицо которого стало белым как мел. Вместе с ними ушли и все гвардейцы.
— Итак, жребий брошен! — гремел над залом голос Орагона, а зал лихорадочно бурлил, точно охваченный безумием.
— Пошли отсюда, скорей, — сказал Санджусто, и на этот раз им удалось выйти наружу. Некоторое время они, совершенно ошалев от духоты, постояли возле дворца, с наслаждением вдыхая чистый и свежий воздух. Близился вечер.
А в полночь того же дня Итале стоял на темной улице Эбройи, в двух шагах от площади Рукх, и посасывал косточку на пальце, которую ободрал до крови, когда таскал булыжники, помогая строить баррикаду, теперь освещенную самодельными факелами и перекрывавшую улицу в том месте, где она выходила на площадь. Возле него уже давно яростным шепотом спорили двое; голоса были мужские, но настолько похожие, что он не мог отличить один от другого: «Да там три тысячи полицейских километрах в пяти отсюда, ниже по реке, в Басре… Ничего, Рукх скоро будет отрезан… Мы рассчитываем на то, что полицейские перейдут на нашу сторону… Кто тебе сказал, что они перейдут? Они, между прочим, вооружены… Ну и что, что вооружены?…» Рядом с Итале на обочину тротуара присели две женщины; одна из них кормила ребенка грудью, но говорили они тоже не умолкая: «И тут я ему и говорю: я яйца забыла!.. Ах ты господи, что ж это творится!» — печально вздохнула одна, а другая засмеялась: «А ты деньги копи и жди себе — вот что я ему сказала!..» Мимо, к противоположному концу улицы, пробежала группа людей; их сопровождал какой-то странный глухой рев. Потом человек тридцать не то подкатили, не то просто подтащили к баррикаде какой-то черный предмет: это оказалась пушка, и это ее металлические колеса так грохотали по булыжной мостовой. Всюду мелькали факелы, отбрасывая уродливые, будто кривляющиеся тени. Итале успел в свете факелов рассмотреть сидящих у самых его ног женщин. Ребенок на руках у одной из них был совсем мал; его головенка, покоившаяся на обнаженной материнской руке, казалась невероятно крошечной. Когда пушка наконец проехала мимо, Итале снова услышал негромкое причмокивание — это младенец сосал грудь — и суховато-спокойные голоса женщин: «…вот я и говорю, ой, ты бы лучше помолчал, старый козел, у меня и так на прошлой неделе цыплята не вывелись!» А рядом все продолжали шепотом спорить мужчины: «Улицы-то все… А ружья где взять?…» Итале сделал несколько шагов по улице и разыскал на баррикаде Санджусто.
Мятежникам потребовалось немало времени, чтобы как следует установить пушку, а потом снова укрепить развороченную этой махиной баррикаду. Мужчины то и дело подходили и давали советы насчет того, как лучше заряжать пушку, как поджигать порох. Некоторым же хотелось просто ее потрогать. Только у двадцати пяти мужчин из тех, что собрались по эту сторону баррикады на улице Эбройи, имелись ружья. Почти вся редакция журнала «Новесма верба» тоже была здесь. Но Карантая Итале не нашел. Кто-то сказал ему, что Карантай все еще на заседании ассамблеи; другие уверяли, что видели его на другой баррикаде, на улице Гульхельма. Итале вскарабкался на самый верх и, стоя прямо над пушкой, осмотрел оттуда площадь. Она была пуста и освещена лишь неровным светом факелов, да из окон дворца на булыжную мостовую падали полосы света. За чугунными воротами, ведущими в сад, тоже никого не было видно. И всю ночь никто у ворот так и не появился.
Несколько человек втащили на самый верх баррикады матрасы, за которыми можно было бы укрыться от выстрелов. Санджусто и Итале лежали рядом, устроившись поудобнее и не выпуская ружей, и внимательно следили за воротами. Оба не спали уже почти двое суток. Время от времени они обменивались краткими репликами.
— Что это там?
На соседней баррикаде, на улице Палазай, тоже что-то такое устанавливали, втаскивая наверх.
— Наверное, еще одну пушку притащили.
— Нет, эта штуковина прямо в небо смотрит.
В колеблющемся свете факелов разглядеть, что это такое, было невозможно. Итале не выдержал и положил голову на руки, то засыпая на какое-то мгновение, то просыпаясь и не успевая даже понять, что уснул. Ему казалось, что он качается в лодке на тихой поверхности озера, а руку свесил за борт, и крошечные волны время от времени ласково лижут ее, но все же невозможно понять, волны ли касаются его руки или просто влажный воздух над водой… Верной, разыскавший их на баррикаде, прилег с ними рядом, тихонько тряхнул Итале за плечо и что-то протянул, низко склонив к нему свое усталое, симпатичное, молодое лицо. Оказывается, он принес целую шапку яблок. Все тут же повеселели и принялись грызть яблоки, время от времени тихо переговариваясь.
— Как ты думаешь, Сорде, днем-то они выступят?
— Подождем, посмотрим.
— А по-моему, они тут из тяжелой артиллерии все сразу разнесут.
— Весь город? Лучше бы подождали да согнали побольше полиции. Хочешь яблочко, Франческо?
Но Санджусто уже снова спал.
— Рассвет скоро, — тихо промолвил Итале, и снова все замолчали.
На северо-западе над крышами мерцало розовое зарево, то затухая, то разгораясь вновь — что-то горело в Старом квартале. Там вообще все время что-то горело; немало пожаров случилось и в других районах города. Наконец зарево почти погасло. Побледнели и немногочисленные освещенные окна во дворце Рукх. Итале поднял голову: на серо-голубом небосклоне разгоралась заря. Он стряхнул с себя остатки сна и сел на косо лежавшем матрасе, глядя на восток, на дальний конец улицы Эбройи, которая резко уходила вниз, за гетто, раскинувшееся в низине между площадью и рекой и еще тонувшее в ночной мгле. Гетто горбилось крышами тесно стоявших домов, а слева от него виднелся Университетский холм, за которым Итале когда-то жил. На холме, высоко над городом, ярко горел крест на шпиле университетской часовни, дрожал, переливался, и этот золотистый свет струился по шпилю, летуче касался соседних крыш и каминных труб… Итале снова повернулся в сторону дворца и увидел, что его стены теперь залиты рыжеватым светом зари и выглядят удивительно теплыми и живыми на фоне мертвенно-серого западного края неба. Наступало чудесное летнее утро. Итале больше не чувствовал усталости, только есть хотелось ужасно. Несмотря на владевшее им возбуждение, голова работала спокойно и четко, мысли больше не скакали и не метались, а стали очень определенными и конкретными; он думал о том, каковы планы тех, кто сейчас находится в осажденном дворце, и о том, что в пригородах люди сейчас уже встали и принимаются за обычные свои дела, не в силах даже представить себе, что происходит в центре, и о том, каково это будет, когда тебя подстрелят посреди улицы, и ты почувствуешь руками и щекой холод булыжной мостовой. Итале любил Красной, любил островерхие темные крыши его домов, в которых сейчас еще спали люди, любил всегда солнечный Университетский холм, любил этот старинный дворец, залитый в эти минуты красноватым светом зари, любил эти улицы, вымощенные булыжником. Это был его город, его соотечественники, его день.
— Жаль, что я не побрился, — громко сказал он, и Санджусто понимающе кивнул, зевая во весь рот от усталости.
Друзья взобрались на самый гребень баррикады и стояли как бы между стенами замка и встающим солнцем. Голова у Итале была ясной, чувства еще более обострились, и он ощущал себя абсолютно счастливым, стоя вот так на баррикаде рядом с надежным другом, без оружия, любуясь равнодушным и спокойным светом зари, заполнявшим для него сейчас весь мир. У него ничего больше не осталось — ни оружия, ни убежища, ни будущего. Во имя этого дня, которого так долго ждал, он и прожил свою жизнь. Почти с нежностью подумал он о тех солдатах, что потеют от страха там, за мощными каменными стенами дворца. Сам он ни о чем не беспокоился. Да и о чем ему было беспокоиться? Мало того, стоя на вершине баррикады, он с трудом удерживался, чтобы не закукарекать, как петух, от радости, вызванной наступлением столь великолепного утра.
Итале посмотрел на Санджусто, сунул руки в карманы и спросил, улыбаясь:
— Ты веришь в Бога, Франческо?
— Конечно. А ты разве нет?
— А я, слава богу, нет!
Санджусто только головой покачал. У него настроение тоже было довольно бодрое, однако особого возбуждения он не испытывал; мало того, был охвачен мрачным предчувствием, почти уверенностью, что сегодня его убьют. Свобода — это прекрасно, и раньше он искренне желал, чтобы когда-нибудь ему была дарована именно такая смерть, но теперь, когда все это стало реальностью, когда, как ему казалось, смерть уже стояла на страже, ему вдруг стало горько оттого, что умрет он, сражаясь за свободу не своей страны и не на родной земле; его снедала тоска по дому.
— «И воссияло солнце в темноте, — пропел во весь голос Итале, — тьма погасить его была не в силах!»
Санджусто засмеялся — эти напыщенные слова и похожее на петушиный крик пение Итале насмешили его. К ним наверх взобрался Брелавай, огляделся, сел и снял башмак.
— Всю ночь было некогда камешек вытряхнуть! — пожаловался он. — Вы только гляньте, какую он мне в носке дыру протер!
— Женился бы ты, что ли. По крайней мере, носки бы тебе кто-то штопал.
— Ни за что, пока не найду себе подходящую графиню, как молодой Лийве! — воскликнул Брелавай и приблизил к Итале свое смуглое, с резкими чертами лицо. — Или уж, по крайней мере, баронессу.
— Уж баронесса-то тебе носки точно штопать не будет! Ого! Посмотрите-ка туда!
Над баррикадой на улице Палазай поднялся высокий шест, с которого неподвижно — из-за полного безветрия — свисал красно-голубой флаг. Все головы дружно повернулись в ту сторону. Уже восемнадцать лет никто не видел, чтобы этот флаг поднимали, а молодежь на баррикаде и вовсе никогда его не видела.
— А сбегаю-ка я на улицу Гульхельма, — сказал Брелавай, — посмотрю, нет ли там Карантая. — Он уже начал спускаться вниз, но Итале остановил его:
— Послушай, если увидишь Сандера, скажи ему, что нам всем надо сегодня непременно собраться — лучше всего в редакции.
— Ну, если дела пойдут плохо, нам туда лучше не соваться.
— Хорошо, тогда у Геллескара. Договорились?
— Угу, я через полчасика вернусь. А вы садитесь за стол и завтракайте, не ждите меня! — И Брелавай ушел, а они остались на баррикаде и ждали, тихо переговариваясь. Теперь солнце заливало уже по крайней мере треть дворцовой площади.
Пройти прямо через площадь Брелавай не мог и вынужден был сделать довольно большой круг, чтобы попасть на соседнюю улицу Гульхельма. Он вышел на нее в двух кварталах от площади и сразу налетел на разъяренную толпу людей в штатском, которые окружили отряд полицейских. Брелавай видел белые с золотом мундиры, но не мог определить, сколько же в отряде человек. Очевидно, из Басре, основного гарнизона, прислали подкрепление, полагая, что дворцовой страже не справиться. Возглавлявшие отряд лейтенант и капитан полиции о чем-то яростно спорили с мятежниками. Брелавая все время толкали, толпа с каждой минутой становилась все теснее и все свирепее; у людей явно чесались руки, и больше всего им хотелось немедленно разоружить полицейских. Шум стоял невообразимый. Потом здешние руководители повстанцев предприняли попытку расчистить проход по улице в обратную от дворцовой площади сторону, и Брелавай услышал, как один и них, рабочий лет сорока, горячо и с отчаянием говорит капитану полиции: «Сейчас же уводите отсюда своих людей! Скорее!» Но капитан оскорблено заявил с сильным немецким акцентом: «Никогда! Нам приказано пройти во дворец!» — и тут же отдал соответствующее приказание своему отряду, зажатому толпой. Толпа вздыбилась, подхватила Брелавая и куда-то поволокла; он задыхался под её напором, лягался, точно норовистый конь, и хватался руками за любую опору, чтобы устоять на ногах. Когда наконец напор толпы несколько ослабел, он обнаружил, что держится за портупею одного из полицейских. Оба изумленно уставились друг на друга; между ними было не более десяти-пятнадцати сантиметров, а вокруг раскачивалась и ревела толпа, и они раскачивались вместе с нею, точно влекомые морским течением. «Они открыли огонь», — сказал полицейский, не сводя глаз с Брелавая, и дернулся, пытаясь пробиться сквозь толпу. Брелавай выхватил у него из рук мушкет и, колотя прикладом по спинам, чтобы расчистить себе путь, все-таки выбрался из толпы. «А я ружье раздобыл, клянусь Господом!» — ликуя заорал он, но так и не обнаружил никого, в кого можно было бы выстрелить, а вскоре понял, что ни пороха, ни пуль у него нет. Стрельба стихла; толпа быстро рассеивалась, и Брелавай никак не мог понять, что случилось и куда делся тот отряд полицейских в белых мундирах. Потом он увидел их: все они лежали посреди улицы, человек пятнадцать по крайней мере, и он узнал золотые эполеты капитана, но само его тело напоминало скорее скомканный грязно-белый лоскут — скрюченное, изуродованное. Капитан был затоптан насмерть. Брелавай не в силах был отвести взгляд от этого истерзанного тела. А толпа между тем мощным потоком устремилась по улице Гульхельма к баррикаде, и каждый намерен был во что бы то ни стало раздобыть патроны и стрелять, стрелять… Брелавай бросился за ними, страшно взволнованный, крича: «Погодите!»
Защитники другой баррикады, на улице Эбройи, сперва услышали донесшиеся слева негромкие сухие щелчки выстрелов, а потом глухой рев, точно где-то неподалеку прорвало плотину. И вдруг какой-то странный темный вал, кипя, перевалил через баррикаду на улице Гульхельма и выкатился прямо на дворцовую площадь, уже полностью залитую ярким солнечным светом. На площади вал распался и превратился в толпу, которая довольно быстро поредела и казалась теперь совсем небольшой и довольно жалкой. До чего же эти люди похожи на вспугнутых кузнечиков, скачущих по жнивью, подумал Итале, с трудом, впрочем, подавив желание присоединиться к ним, особенно когда через другие баррикады тоже стали переливаться потоки мятежников, устремлявшихся на площадь. «Назад! Назад!» — тщетно взывал он, но люди после целой ночи мучительного ожидания, услышав выстрелы и шум обезумевшей толпы, безудержно рвались вперед, на площадь. «Назад! Я приказываю, назад!» Его била нервная дрожь, даже зубы стучали, кружилась голова; ему казалось, что он вот-вот упадет. И тут раздался оглушительный грохот.
— Что это? — крикнул он Санджусто и тут же понял, что это выстрелила пушка, выстрелила буквально у него под ногами.
— Пороху многовато, — проворчал в ответ Санджусто, окутанный клубами дыма. И тут юный Верной оттолкнул их, ринулся с баррикады вниз и исчез в толпе, сплошным черным потоком лившейся через площадь к чугунным воротам дворца, грозя снести и ворота, и ограду. Еще кое-кто попытался последовать примеру Верноя, но Итале преградил им путь:
— Назад, черт бы вас всех побрал! Назад! Нам нужно удержать баррикаду! — орал он в бешенстве, все время оглядываясь, чтобы видеть, что происходит на площади. Толпа у ограды вскипала, точно прибой; люди карабкались на ограду и, перевалившись через нее, устремлялись к дверям дворца.
Слышались крики: «Ура! Они прорвались!» — и теперь Итале уже и сам с трудом сдерживался, чтобы не броситься на площадь и не присоединиться к толпе. Неожиданно все вокруг точно замерло; Итале успел заметить лишь небольшие облачка дыма, появившиеся в оконных проемах дворца и тут же растаявшие в солнечных лучах. По-прежнему ничего не было слышно, кроме могучего, просто не-мыслимого рева толпы, однако в самой толпе стали происходить некоторые перемены: она закачалась и начала рассыпаться; со стороны баррикад в нее все еще вливались потоки людей, но возникло и обратное течение, мощное и беспорядочное, устремившееся в сторону баррикад. И надо всем этим то и дело взлетали белые облачка дыма. Потом раздался перекрывающий все оглушительный грохот и сразу все замерло. Итале тоже скорчился и застыл, точно парализованный: он понял, что это заговорили пушки дворца Рукх. Теперь значительная часть толпы повернула назад; повсюду он видел перепуганные лица людей, карабкавшихся на баррикаду, сползающих с нее и бегущих по улице дальше, и над этим хаосом слышался непрерывный чудовищный рев пушек. Потом вдруг пушки умолкли, и Итале вновь стал слышать людские голоса. Теперь площадь почти опустела. Толпа растеклась по улицам и переулкам, прячась за баррикады; у чугунной ограды, на камнях мостовой были видны тела убитых и раненых; люди лежали неподвижно и словно чего-то ждали. Головы многих были окружены лужицами крови, на мостовой тоже виднелись красные кляксы. Рядом с Итале присел, чтобы отдышаться, какой-то человек, только что вскарабкавшийся на баррикаду; лицо и волосы у него тоже были вымазаны кровью, уже подсохшей и больше похожей на красную краску. «Пожалуйста, оставьте свои ружья на баррикаде», — спокойно говорил кому-то Санджусто, точно дворецкий, принимающий у гостей пальто. И многие действительно послушно отдавали ему свои мушкеты. «На вот, возьми», — сказал он Итале, и Итале взял ружье и пороховницу. Из дверей дворца поспешно выбегали гвардейцы в красных мундирах, таких же ярких, как свежая кровь, и начинали строиться. Распахнутые двери зияли, точно черные разверстые пасти. Санджусто прилег на матрас, зарядил ружье, прицелился и выстрелил. Потом снова спокойно зарядил, прицелился, выстрелил. Итале старался ему подражать, но никак не мог сладить с австрийским мушкетом. До сих пор ему доводилось держать в руках только охотничьи ружья. Через некоторое время он оставил свои попытки, опустил заряженный мушкет и сказал:
— Пошли, Франческо.
— Куда? Зачем?
— Они взяли баррикаду на улице Палазай и скоро зайдут нам в тыл. Давай быстрее! К реке!
Друзья бросились бежать по улице Эбройи.
Выбираясь с площади Рукх, Брелавай потерял ружье и дважды был сбит с ног. В данный момент он сидел на крыше, примерно на середине пути от дворца Рукх до дворца Синалья, и смотрел вниз, на улицу Палазай. Вместе с ним на ту же крышу забрались еще шестеро мужчин, притащив с собой груду булыжников и обломки мебели. Внизу бурлила толпа; люди были сплошь в штатском. Теперь, когда паника улеглась, люди вновь горели гневом, однако никакой конкретной цели их гнев не имел. Отряды дворцовой стражи направились на восток и на юг, чтобы отрезать защитникам баррикад пути к отступлению и воссоединиться с отрядами полицейских, присланных в подкрепление. Брелавай тщетно старался высмотреть в толпе своих друзей — одного невысокого смуглого мужчину и двух очень высоких: Карантая, Сорде и Санджусто. Они могли быть сейчас где угодно. Могли, например, лежать мертвые на площади Рукх. Брелавай был весь покрыт синяками и ссадинами, его подташнивало от усталости и напряжения, однако в душе его по-прежнему горел огонь неукротимого гнева. Десятки раз ему казалось, что он видит в толпе знакомое лицо, однако оно тут же пропадало или оказывалось лицом совершенно чужого человека. С юга доносились звуки яростной перестрелки; Брелавай, прислушиваясь, продолжал всматриваться в толпу. Он чувствовал, что если бы счел своих друзей погибшими, то просто убежал бы отсюда домой, сдался бы, постарался бы спрятаться… Он оглядел тихие крыши, залитые утренним солнцем, уже почти ненавидя и этот город, и эту истерически-возбужденную толпу внизу. Если Сорде и Карантай убиты, то любое сопротивление ни к чему; эти камни, которые они притащили на крышу, намереваясь забросать солдат, очень скоро кончатся. Но пока что Брелавай держал себя в руках и старался поддержать боевой дух в той небольшой группе людей, которую привел с собой. Его самого поддерживала, правда, отнюдь не надежда, а мысль о том, что его друзья живы. Брелавай по природе своей был оптимистом и, кроме того, человеком очень верным, и эта верность в нем была глубже и сильнее любых убеждений, любого страха; из-за этой верности он и продолжал сейчас сидеть на крыше и упрямо ждать.
По улице Эбройи застучали подковы; Итале и Санджусто, спрятавшись в темной арке одного из дворов, видели, как мимо проехал полицейский эскадрон, направляясь ко дворцу Рукх. Друзья уже собирались уходить, когда во дворе появилась сутулая молодая женщина, за юбку которой держались двое ребятишек. Женщина испуганно застыла, глядя на Итале и Санджусто.
— Вы не могли бы дать нам воды? — спросил Итале, Она кивнула, вместе с детьми вернулась в темный подъезд и снова вышла во двор, неся большой черпак, а потом проводила мужчин к расположенному в глубине двора крытому колодцу. Она стояла и спокойно смотрела, как они пьют, а когда Итале стал благодарить ее, сказала:
— Ступайте к Менделю, мяснику. Туда уже все ушли.
Они пошли, куда она им велела, и вскоре обнаружили во дворе за кошерной мясной лавкой, притаившейся среди молчаливых домов с закрытыми ставнями, за глухой задней стеной синагоги несколько десятков евреев. Здесь, видно, решался вопрос об участии гетто в общем восстании. Надо сказать, в разработке планов евреи проявляли удивительное спокойствие и методичность. Среди них выделялся человек лет тридцати с прекрасными, но усталыми глазами; он держался с неким врожденным достоинством, явно обладал задатками лидера, а также — как узнали друзья — неплохим запасом пороха и патронов. Итале понял, что имя этого человека Мойше, но фамилии его узнать так и не сумел. Под руководством Мойше их маленький отряд занял несколько весьма выигрышных позиций на крышах вдоль улицы Эбройи. Вскоре в конце улицы показалась цепочка королевских гвардейцев в красных мундирах и на холеных норовистых конях. И тут с крыш на них посыпались камни и затрещали выстрелы, странным образом напоминая праздничный фейерверк. Послышались крики, заметались лошади. Некоторые из лошадей, с уже опустевшими седлами, отчаянно ржали и пытались убежать, спотыкаясь о волочившиеся по земле поводья и нервно озираясь по сторонам. Когда наступило временное затишье, Итале спросил у лежавшего рядом с ним Мойше:
— Откуда у тебя столько боеприпасов?
— Вчера ночью мы сожгли старый арсенал на улице Гельде.
— А для чего ты вообще ввязался в эту заваруху, Мойше?
— Ну, что касается нас, то тут любые перемены могут быть только к лучшему, — ответил еврей и, тряхнув пороховницу, чтобы лучше сыпался порох, искоса глянул на Итале. — А могу я узнать, зачем ты во все это ввязался?
— Я люблю свежий воздух.
— Для тебя это всего лишь игра!
— Вовсе нет.
— Восемь, — сказал Санджусто; это число означало убитых ими во время первой атаки. Итальянец был сам на себя не похож: лицо измученное, губы напряженно сжаты.
На дальнем конце улицы, куда отступили конные, на разрушенную баррикаду поднялось несколько человек. Один из них принялся выкрикивать высоким, пронзительным голосом:
— Сложите оружие и расходитесь по домам!..четыре часа… Расходитесь по домам!.. Общая амнистия на четыре часа… — С крыши одного из домов послышались выстрелы, и кричавший тут же исчез.
К утру гетто еще не успели отрезать от остального города, и сюда постоянно пробирались люди, принося свежие вести о схватках на улице Палазай и в районе Элейнапраде. Пока что по тем улицам, которые контролировала группа Мойше, засевшая на крышах, не прошел ни один полицейский ни с севера, ни с юга. Однако бунтовщики упорно оставались на местах и ждали, хотя все более очевидным становилось то, что они оказались в изоляции. Сознавать это было невыносимо; они отважно ходили в разведку и пытались завязать перестрелку, потому что теперь площадь Рукх была буквально вся заполнена полицейскими, прибывшими из гарнизона, расположенного ниже по реке. Именно отсюда, по всей очевидности, и посылалось подкрепление в северную часть столицы. Группе Мойше в конце концов удалось пробраться по крышам к тем домам, что буквально нависали над баррикадой, и открыть огонь. Полицейские сперва стреляли по ним снизу, а потом просто подожгли дома на северной стороне улицы. Деревянные строения вспыхивали, как стога сена. Женщины, весь день прятавшиеся в глубине своих дворов и квартир, выбегали на улицу, выбрасывали вещи из окон домов. Спускаясь по шаткой лестнице, Итале заметил детей, которые ждали своих матерей, присев на корточки возле сваленного в кучу домашнего скарба. Мойше остановился было, чтобы о чем-то спросить старого еврея, стоявшего возле детей, но тот вместо ответа лишь погрозил ему кулаком и с бессильной яростью принялся на все корки честить «проклятых мятежников». Мойше повел свою группу дальше, через залитую солнцем улицу, где перемешалось все — люди, перепуганные лошади, сломанные стулья и кровати… Над улицей висел запах дыма, еще полыхали подожженные дома. Мойше, знавший в гетто все ходы и выходы, вел их довольно уверенно, но почему-то они все время возвращались в одно и то же место — на улицу Эбройи, где можно было еще некоторое время продержаться, прячась в опустевших домах и стреляя из окон. Однако порох и патроны кончались. И каждый раз, после очередной перебежки в поисках укрытия, людей в их группе становилось все меньше, так что в конце концов они решили совсем разойтись, разбежаться в разные стороны. С Мойше остались только Итале и Санджусто. Ныряя из одного двора в другой, они совершенно неожиданно столкнулись с отрядом полицейских; никто из них не успел даже поднять ружье и выстрелить. Чтобы пробиться, им пришлось пустить в ход приклады, а потом, несмотря на открытый по ним огонь, удалось нырнуть в какой-то проходной двор и выскочить прямо к той мясной лавке, откуда их маленький отряд вышел сегодня утром. Полицейские их не преследовали. Затаившись в дальнем помещении лавки, они выжидали. Но звуков с улицы доносилось все меньше. Примерно через час Итале, преодолев дремоту, встал и осторожно выглянул за дверь. Вечерело. В дальнем конце улицы виднелся кусок ясного, бирюзового неба, на фоне которого отчетливо выделялась приземистая северная башня замка Рукх. С противоположной стороны улицы на него безмолвно, пустыми глазницами окон смотрели фасады разгромленных домов. В воздухе чувствовался еще довольно сильный сладковатый запах дыма. У порога лавки Итале заметил узел с одеждой и старый башмак — все это, видно, обронило какое-то семейство, спасавшееся от пожара.
— Похоже, все кончено, — сказал он, оборачиваясь к своим спутникам и выходя на улицу.
Санджусто и Мойше тоже вышли и встали с ним рядом. Во время последней стычки с полицией итальянца подстрелили, и теперь он едва держался на ногах и со стоном и проклятьями опустился на тротуар, баюкая раненую руку. Мойше сделал несколько шагов и осмотрел убитого мятежника, лежавшего посреди улицы рядом с трупом полицейского; заглянув мертвому в лицо, он только пожал плечами и вернулся назад.
— Ну, а теперь что? — спросил Итале. — Куда теперь?
— К черту! — сказал Санджусто по-итальянски. Его рука сильно распухла и болела все сильнее, его подташнивало, а на душе было погано: его не убили в этом сражении, ему снова придется пройти через все это, снова и снова… пока не закончится эта бесконечно долгая ссылка!.. — Господи, ну что за сволочная жизнь! — проворчал он злобно, на этот раз уже на диалекте Пьемонта, и медленно двинулся по улице, волоча за собой по камням мостовой свое пустое ружье.
— Вы как хотите, а я домой пойду, — сказал Мойше, отвечая на вопрос Итале. — У вас-то планы какие?
Итале молчал.
— В моем доме и вам будут рады, — сухо заметил еврей, готовый к резкому отказу.
— Спасибо тебе, — искренне поблагодарил его Итале и повернулся, чтобы посмотреть этому мужественному человеку в его прекрасные строгие глаза. Теперь, после всего пережитого, ему казалось, что они знают друг друга всю жизнь, однако теплых чувств между ними так и не возникло, было только доверие, безграничное доверие друг к другу — все и ничего. И оба не находили слов, чтобы попрощаться. — Нам, наверное, нужно попытаться отыскать своих товарищей, — честно признался Итале. И, сдержанно распрощавшись с Мойше, они расстались.
Итале и Санджусто решили пробраться к Геллескару; путь туда лежал вокруг Университетского холма, через Заречье, мимо кафедрального собора… Они шли страшно долго, точно в затянувшемся сне, сперва при свете заката, потом в сумерках. В светлое время они передвигались очень осторожно, но затем осмелели. Их не остановили даже полицейские, расположившиеся на площади перед собором. Отряды конной полиции, стуча подковами, проезжали мимо, пешие патрули попадались на каждом шагу, однако в общем, похоже, полицейских в городе стало ненамного больше. Улицы, правда, были почти пусты, но отдельные прохожие все же попадались, хотя и были очень молчаливы и замкнуты. Ни одной женщины друзья не встретили. Это был город, лишенный женщин. По дороге Итале и Санджусто довольно оживленно обсуждали возможные причины столь очевидной амнистии и пытались как-то восстановить общую картину того, что произошло за два дня восстания, особенно в районе Элейнапраде, пока они находились в гетто. Хотелось им знать, конечно, как обстоят дела в ассамблее. Говорил в основном Итале; он даже пытался шутить, надеясь подбодрить друга:
— Знаешь, награда ведь редко кого находит, а вот хомут всегда найдется — была бы шея!.. — На улице Сорден он спросил, какое сегодня число, но через некоторое время снова спросил об этом.
— Я же сказал: четырнадцатое, — откликнулся Санджусто.
— Разве я уже спрашивал?
— Спрашивал.
— Как твоя рука?
— Огнем горит.
— Ничего, здесь совсем недалеко. Можно было бы… — Итале не договорил. Он хотел предложить Санджусто остановиться и немного передохнуть, но это было бы глупо: пройти им оставалось не более двух кварталов. Ноги у него заплетались, он споткнулся.
— Хочешь, остановимся? — спросил Санджусто; на лице его застыла гримаса боли.
— Ну что ты! — воспротивился Итале. — Дом Геллескара в конце улицы. Хорошо бы, Томас уже оказался там! — Ему вдруг показалось, что и это он наверняка не раз уже говорил, и решил пока помолчать. Наконец они подошли к нужному дому и поднялись на крыльцо, украшенное величественными каменными кариатидами и старинными щитами и мечами. Дверь им открыл слуга в ливрее и провел их через гостиную прямо в библиотеку, где им навстречу радостно бросился старый граф, на живом морщинистом лице которого явственно читалась тревога. Итале протянул было руку, попытался ухватиться за плечо Санджусто, однако ноги его подкосились, и он без чувств рухнул на пол. Санджусто, и сам едва державшийся на ногах, страшно растерялся, оказавшись среди совершенно незнакомых ему людей, упал возле Итале на колени и все пытался привести его в чувство, в отчаянии шепча:
— Очнись, дорогой мой, слышишь? Очнись…
Глава 27
На следующий день в полдень Санджусто вошел в комнату Итале со специальным выпуском «Меркурия» — всего в одну страницу, поскольку все государственные издательства были сожжены в ночь с тринадцатого на четырнадцатое, и явно набранного в чьей-то частной типографии, возможно даже «Новесмы вербы». В газете ничего не говорилось о событиях в Париже, ничего — о том, перенесена ли сессия ассамблеи или же заседания будут продолжены, и ничего — о волнениях 13–14 августа; зато там была сводка новостей за 12-е, где главной новостью была просьба великой герцогини, с которой она обратилась к ассамблее, а также сообщалось, что, согласно требованию полиции, лица, незаконно проживающие в Красное, должны незамедлительно покинуть не только столицу, но и провинцию Мользен до 16 августа 1830 года, а если они этого не сделают, то по приказу правительства будут арестованы и заключены в тюрьму. Далее следовал список из шестидесяти трех фамилий, набранный очень грязно, с ошибками, и Санджусто прочитал его вслух, неуверенно запинаясь и с особенно заметным на сей раз итальянским акцентом.
— Разенне Луке. Ягове Пьер-Мария. Брелавай Томас-Алексис. Фабре Рауль. Френин Дживан…
— Вот тут они запоздали, — заметил Итале.
Санджусто продолжал читать; по крайней мере десятка два фамилий были Итале хорошо знакомы, некоторых же имен он даже никогда не слышал.
— …Орагон Стефан-Мария.
— Орагон! Итак, он первый из депутатов… А Ливенне случайно в списке нет?
— Граф Геллескар слышал, что Ливенне убит на улице Палазай…
— Ладно, читай дальше.
— Паллей Тедор. Паллей Салвате. Верной Рош. Сорде Итале. Эклезей Матиас-Марк. Чорин-Фаллескар Георг-Андре.
— А вот и еще один депутат!
Санджусто дочитал список до конца, некоторое время оба молчали.
— А Карантая в списке нет, — заметил Санджусто.
— Нет, — кивнул Итале.
Старый граф постоянно посылал слуг узнавать, что нового творится в городе. Ходили слухи, что Карантай серьезно ранен в схватке на улице
Палазай; но ни о Брелавае, ни о юном Верное узнать ничего не удалось.
— Значит, даже Орагона хотят выслать, — говорил Итале. — Это действительно серьезный удар! — Чувствуя, что голос его звучит как-то неестественно, он сел в кровати — кровать была огромная, величественная, как и все в доме Геллескара, с великолепными одеялами и пологом, напоминавшим занавес в оперном театре. Итале выглядел изможденным и осунувшимся; казалось, за эти два дня он снова сильно похудел и даже как будто стал меньше ростом.
— Тебе нужно немедленно уезжать из Красноя, — сказал с тревогой Санджусто. — После такого на помилование тебе даже надеяться нечего.
— Эх, если б удалось хоть что-то узнать о Брелавае!..
— Брелавай сумеет скрыться. Вряд ли он захочет попасть в тюрьму. А тебе нельзя ждать. У тебя в запасе всего одни сутки!
— А ты поедешь со мной?
— Меня в этом списке нет.
— Но ты запросто можешь оказаться в другом.
— Это верно. Почти наверняка и окажусь. — Санджусто сказал это совершенно спокойно. — Нет, я, пожалуй, немного подожду, пока все утихнет, а потом снова уеду во Францию.
— А я вернусь домой. Поедем со мной, Франческо. Хоть ненадолго.
— Спасибо, дружище. Но лучше в другой раз, когда мой визит не будет столь опасен для гостеприимных хозяев. Я непременно приеду и с огромным удовольствием!
— Ну пожалуйста! Сделай мне одолжение, а? Ты же не сможешь в ближайшее время даже границу пересечь. Тебя ни за что не выпустят. Поедешь во Францию попозже, когда все действительно утихнет. Я понимаю, почему тебя так туда тянет: здесь-то все кончено! Здесь просто незачем оставаться. И все же сейчас опасно пытаться выехать из Орсинии. Лучше какое-то время выждать, скрыться у нас, в горах. А потом мы постараемся вместе выпутаться из этой истории. Я ведь только одно и могу: уберечь тебя от ареста. Так позволь мне…
— Ну, хорошо. Я поеду с тобой, — вдруг быстро сказал Санджусто.
Итале даже дыхание затаил от неожиданности, потом выдохнул:
— Вот и прекрасно!
Некоторое время оба молчали. Похоже, и Санджусто испытывал облегчение, приняв приглашение Итале, но выразить свои чувства словами был не в состоянии.
— Если пока что все по-старому, то почтовый дилижанс в юго-западном направлении отправляется два раза в месяц по пятницам, а айзнарский — в ближайшую субботу. Сегодня у нас ведь пятнадцатое? Значит, на этой неделе можно будет уехать. Но придется ждать еще три дня, а я совсем не уверен, что это нам удастся.
Санджусто молча покачал головой.
— Мы можем, конечно, пойти и пешком… — размышлял вслух Итале.
— А это далеко?
— Не больше полутора сотен километров.
— Но нам придется выйти немедленно, чтобы завтра оказаться за пределами этой провинции.
Раненая рука Санджусто была аккуратно перевязана; пришлось даже наложить легкие шины, чтобы зафиксировать ее.
— Ты вряд ли сможешь пройти сто пятьдесят километров с такой рукой, — сказал Итале, понимая, что и сам вряд ли сможет их пройти, и испытывая непреодолимое отвращение к собственной слабости.
— Нет, думаю, что смогу. А вот ты, Итале, по-моему, еще не совсем здоров.
— Ничего, граф одолжит нам лошадей, чтобы мы могли доехать до Фонтанасфарая. Он отсюда километрах в пятнадцати. И это уже провинция Перана. А оттуда мы можем уже не спеша пойти пешком или дождаться почтовой кареты.
— Ну, хорошо, а деньги у тебя есть?
Они уставились друг на друга.
— Мелочь какая-то есть, по-моему.
— У меня в гостинице есть несколько крунеров, но туда мне уж больно не хочется идти, риск слишком велик.
— Нет-нет! Ни в коем случае! Граф, конечно же, одолжит нам необходимую сумму. Господи! Какой же я дурак! — Итале потер руками лицо, взъерошил короткий еще ежик отросших волос и рассмеялся. Опасность, абсурдность и безнадежность их положения в данный момент были ему и совершенно ясны и одновременно совершенно безразличны. Самое главное — что он не потерял своего друга, что Санджусто, этот храбрый и милый человек, не исчез, не растворился в неизвестности, как все остальные. Самое главное, что Санджусто не будет арестован, ибо он, Итале, этого не допустит. И более он ни о чем думать был не в состоянии. Он даже ту опасность, что могла грозить ему самому, способен был учитывать только в рамках опасности, грозившей Санджусто, хотя и для него самого возможность нового ареста была более чем велика.
Итале ни секунды не колебался, прося графа Геллескара одолжить ему лошадей и денег, и даже принялся шутить со стариком, которому очень не хотелось отпускать их в опасный путь, хотя старый граф прямо-таки мечтал бросить вызов всей Австро-Венгерской империи, посмевшей угрожать его дорогим гостям. Он еще долго спорил с Итале и Санджусто, доказывая, что оба они просто не в состоянии сейчас пускаться в столь утомительное путешествие, и уговаривал их остаться под тем предлогом, что полиции даже в голову не придет искать их у него в доме, «в доме какого-то старого солдата», как он выразился.
— Знаете, граф, в основе моей доблести всегда лежала осторожность, — заметил Итале. — Мы будем передвигаться только тогда, когда это будет нам достаточно удобно. И, пожалуйста, передайте это Георгу, когда он вернется домой. Я думаю, он вполне одобрит такой вариант доблести.
К вечеру Итале поднялся с постели и был сейчас одет в аккуратный, но весьма поношенный синий сюртук, на данный момент составлявший всю его собственность. Он старался держаться как можно прямее, чтобы убедить старого Геллескара, а заодно и себя самого, что вполне способен выдержать предстоящее путешествие. Порой, правда, он внутренне удивлялся, что все еще стоит на ногах и даже умудряется ходить, ибо испытывал страшную слабость и какую-то странную усталость; удивляло его и то, что он сумел не только принять вполне конкретное решение, но и убедить Санджусто, а ведь ему казалось, что он не в силах удержать в памяти и двух мыслей. И еще он никак не мог понять, как ему удается все время болтать, шутить и смеяться, если в горле постоянно стоит ком непролитых слез. Порой он готов был сдаться, но понимал, что тогда это невероятное напряжение закончится очередным глубоким обмороком. И все же сдаться ему в эти мгновения очень хотелось, сдаться, отбросить от себя все проблемы, как отбрасывают ногой попавшийся на дороге камешек, лечь в постель, закрыть глаза, уснуть, отдохнуть… Во всей этой суете больше не было смысла, ибо у них больше не было цели, им было неведомо дальнейшее направление. Но тем не менее мысли его и поступки по-прежнему были точно цепью прикованы к скале его неколебимой воли, его личности, его неистребимого желания во что бы то ни стало оставаться самим собой.
Решив как можно скорее покинуть гостеприимный дом Геллескара, друзья понимали, что это соответствует интересам обеих сторон — их самих и старого графа; так что закат еще не догорел, когда Итале, Санджусто и двое слуг графа верхом проехали по улице Тийпонтий мимо парка, мимо затихшего дворца Синалья, мимо каретного двора у Западных ворот, мимо гостиницы, где Итале когда-то встречался с Луизой, мимо возделанных полей, домишек северо-западных предместий, выехали наконец на равнину, совершенно золотистую в лучах заходящего солнца, и погнали своих коней в сторону недалеких предгорий. На дороге, что вилась над Колоннарманой, они остановились и оглянулись на город, раскинувшийся в излучине реки, — россыпь неярких светящихся точек в бескрайнем сером сумеречном пространстве. Эти огоньки были такими маленькими и легкими, что их, казалось, можно собрать в ладонь, точно застывшие капельки серебра. Постояв немного, путники двинулись дальше. Какое-то время дорогу им освещал месяц, висевший высоко в небесах над голыми вершинами гор, но к тому времени, как они добрались до Фонтанасфарая, месяц успел скрыться. Фонтанасфарай находился метров на триста выше Красноя, и здесь было значительно прохладнее. На улице неярко светились в тени деревьев цветные фонарики — зрелище было совершенно сказочное. Мимо неторопливо проезжали легкие коляски и открытые экипажи. Спешившись, путники зашли в первую же попавшуюся гостиницу.
— Здесь, похоже, дороговато, — заметил Итале, но Санджусто возразил:
— Ничего, подешевле будем завтра искать. — Итале спорить не стал. Он давно уже с трудом удерживался в седле, а уши лошади, на которой он ехал, странным образом то отдалялись от него, то приближались, и то же самое происходило со звездами, которые, например, сейчас вдруг собрались все вместе прямо у него над головой, образовав какое-то немыслимое облако на совершенно черном и пустом небосклоне, и это светящееся облако опустилось так низко, что он губами, лбом и щеками ощущал легкое холодное покалывание звездных лучей, и это отчего-то его тревожило.
Им отвели номер под самой крышей — по словам хозяина, это была последняя комната, еще оставшаяся свободной. Летом в этом курортном местечке было полно отдыхающих, спасавшихся от столичной жары и духоты.
— Да, — подтвердил Санджусто, который взял на себя все переговоры с хозяином гостиницы, — в Красное сейчас действительно очень жарко!
Как только хозяин ушел, Итале сразу лег и закрыл глаза. Санджусто, сильно страдая от боли, тихонько шипел и ругался. Он попытался было о чем-то спросить Итале, но тот не ответил. Он еще не спал, и ему даже, пожалуй, хотелось поговорить с Санджусто, но шевелить языком у него не было сил. Постель оказалась достаточно удобной, и он испытывал наслаждение уже просто от того, что наконец лег и вытянул ноги. Лишь где-то в самой глубине души, там, где рождаются сны и воспоминания, в тех немыслимых глубинах, где ему удалось затаиться и выжить после двух лет, проведенных в одиночной камере, еще торчал какой-то острый и твердый обломок, вызывавший тупую непреходящую боль. Все остальное кончилось, ушло, хотя умом он все еще сознавал, что на самом деле ничто не кончено, ничто не доведено до конца, но ему все равно придется вернуться домой, отправиться в ссылку. И он продолжал лежать неподвижно, с закрытыми глазами и видел перед собой лесистые склоны гор, отражавшиеся в водах притихшего озера.
Часть VII. Малафрена
Глава 28
Когда айзнарский почтовый дилижанс не запаздывал, что с ним иногда все же случалось, то прибывал в узловой пункт Эрреме примерно к четырем утра; от Красноя до Эрреме было часов двадцать пути. Пассажиров, следовавших в Айзнар, беспокоили, только чтобы поменять лошадей, а потом все опять погружались в дремоту, благо дороги здесь были относительно ровные. А вот пассажирам, следовавшим в Монтайну, приходилось в холодный предрассветный час пересаживаться на другой дилижанс, и они, особенно если ехали этим путем впервые, всегда недоверчиво спрашивали, глядя на сей диковинный экипаж: «Неужели НА ЭТОМ мы сумеем добраться до Партачейки?» А пассажиры бывалые, которым не раз приходилось уже путешествовать по юго-западным провинциям, просто тяжело вздыхали и готовились терпеть тяготы предстоящего пути. В дилижанс запрягали четверку мохнатых лошадок, низкорослых и широкогрудых, мальчонка лет десяти в бесформенной шапке, окинув презрительным взглядом пассажиров, садился верхом на коренника, а возница, высокий, темноволосый и очень спокойный, рот которого, казалось, заржавел и не открывался, а потому был способен издавать лишь нечленораздельные вопли, на которые совершенно не требовалось ответа, садился на козлы, кричал коням не обычные «Но!» или «Трогай!», а диковатое «Хой!», и дилижанс отправлялся в Монтайну, раскачиваясь и поскрипывая на ухабистой дороге, повернувшись спиной к солнцу и лицом к горам, что высились, синие и неприступные, на фоне быстро светлевшего рассветного неба.
Утром двадцатого августа пересадку в Эрреме делали четверо. Пассажиры, спотыкаясь в темноте и пробираясь между многочисленными повозками, перешли из большой кареты в маленькую. Вокруг царила суматоха, конюхи запрягали и распрягали лошадей, слышались крики возниц и хриплые сигналы их рожков.
— Неужели мы НА ЭТОМ поедем в Партачейку? — с недоверием спросила у возницы одна из пассажирок, молодая женщина.
— Ага, — только и вымолвил тот.
Санджусто помог женщине сесть в карету, возница протрубил в рожок, крикнул «Хой!», старенький экипаж протестующе застонал, заскрипел всеми своими суставами, и они тронулись в путь. Вскоре болезненное состояние дилижанса стало сказываться и на суставах троих его взрослых пассажиров. Четвертому же не было еще и двух лет, и он весил так мало, что бесконечные раскачивания и подтряхивания ничуть его не беспокоили, напротив, он воспринимал их как некое веселое развлечение. Его молодая мать и Санджусто вскоре задремали, а Итале и малыш продолжали бодрствовать. Мальчик то принимался играть с узлами, наваленными вокруг, то подбирал соломинки с пола кареты, то вдруг начинал озираться вокруг с задумчивым и даже печальным видом, но ни разу не пожаловался. За окошком кареты висел серый туман, было очень холодно. Итале сгорбился и поднял воротник пальто, стараясь погрузиться в него как можно глубже; руки он засунул в карманы. После тюрьмы Сен-Лазар, где от холода он страдал значительно сильнее, чем от всех прочих невзгод, Итале теперь все время мерз и стал даже бояться холода, поскольку не имел возможности ему сопротивляться. Сейчас, например, он изо всех сил сдерживал дрожь, стараясь хотя бы не стучать зубами. Чтобы отвлечься, он старался все время смотреть в окно или в узкую щель в передней стенке кареты, но там ему была видна в основном шляпа того мальчишки, что ехал верхом на кореннике, и кусочек серого неба. Но когда карета поворачивала, становились все же видны и вершины гор. Быстро наступал день. Теперь уже и округлые холмы по обе стороны от дороги были ярко освещены солнцем. В такие погожие летние дни в горах обычно убирают урожай. Впрочем, сено с лугов было давно уже скошено и убрано, и теперь наступила очередь зерновых. На полях, раскинувшихся по склонам холмов, виднелись ряды жнецов; их серпы, взлетая в воздух, поблескивали на солнце. Когда дилижанс проезжал по деревням, мимо помещичьих усадеб или хозяйств арендаторов, дома которых располагались обычно совсем рядом с дорогой, из-под колес врассыпную бросались с кудахтаньем белые и рыжие куры, а собаки долго неслись с лаем за дилижансом, пока он не скрывался из виду. Порой над горами, в синей, нагретой солнцем выси, лениво описывал круги коршун. Впереди, над длинными склонами и желтыми холмами предгорий, высились острые скалы горных вершин.
Итале вспомнил — теперь уж годы прошли с тех пор! — как, уезжая из этих краев, вытащил часы, чтобы точно заметить мгновение, когда родные вершины скроются с глаз; это был сентябрь, и время он запомнил: девять двадцать утра, вот только число вспомнить так и не смог. Тогда он ехал в Соларий, намереваясь в скором времени перебраться в Красной, а потом съездить и в Айзнар, Эстен, Ракаву. Ракава… Он вдруг вспомнил ту ледяную темницу, где провел столько дней прикованным к стене, и площадь Рукх, освещенную лучами восходящего солнца, и улицу Эбройи в дыму пожаров… Что ж, круг замкнулся, но и теперь он не знал, как дальше ляжет его путь и есть ли на свете такое место, которое он с чистым сердцем мог бы назвать Домом. Итале хотел было достать часы, но, не обнаружив их, решил, что они потеряны; потом вспомнил, что, поскольку часы больше не ходили, он просто оставил их на столе в квартире Карантая. Теперь они наверняка достались полицейским. Ну и пусть.
Санджусто судорожно вздохнул во сне. Хотя перед отправкой в путь знакомый кузнец в Фонтанасфарае как следует уложил ему руку в лубок, сильные боли у него не прекращались, и он старался как можно больше спать. Напротив него, тоже забившись в угол, спала юная мать. Ее еще совсем детское, округлое лицо казалось во сне странно суровым. Ее сынишка, соскользнув на пол кареты и устроившись между узлами, грустно посматривал оттуда и явно собирался заплакать. Вид у него был совершенно несчастный. Итале с виноватым видом отвел глаза. Ему не очень хотелось развлекать малыша, однако он был единственным бодрствующим из взрослых, и мальчик, несколько раз судорожно вздохнув, начал всхлипывать все громче, глядя прямо на Итале. Он был таким маленьким и беспомощным, что Итале не выдержал и, наклонившись к нему, сказал тихонько:
— Не плачь. Маму разбудишь.
Глазенки малыша тут же наполнились слезами, личико сморщилось, и он, как бы пробуя голос, негромко заревел.
— Вот черт! — выругался Итале, протянул руки и, вытащив ребенка из груды узлов, посадил к себе на колени. Прикосновение к этому легкому и хрупкому тельцу поразило его. Ну конечно же, малыш не виноват в том, что ему холодно и скучно!
Ребенок еще раза два всхлипнул, потом легонько вздохнул раза два, точно вторя печальным вздохам спящего Санджусто, сунул палец в рот и принялся крутить пуговицу на пальто Итале. Как называла его мать? Ах да, Стасио. «Отец-то Стасио умер, — рассказывала она кому-то в айзнарском дилижансе прошлой ночью. — Еще в июне. От чахотки». Итале почувствовал, что его руки легко касается ручка ребенка. Странно, эта женщина не назвала умершего по имени, не сказала «мой муж», нет — всего лишь «отец Стасио», словно вся суть умершего молодого мужчины заключалась в его отцовстве. Стасио нашел новую интересную пуговицу — на жилете Итале — и теперь осторожно ощупывал ее, точно скряга свое сокровище, но палец изо рта так и не выпускал. Постепенно головенка его клонилась все ниже, потом он положил ее Итале на плечо и уснул. Бедняга, наверное, просто замерз, думал Итале, а теперь вот согрелся, ну и пусть поспит. В окно Итале больше не смотрел; он не сводил глаз с маленькой, почти невесомой головенки, прильнувшей к его плечу. Волосы у малыша были каштановые и очень мягкие. Итале легонько погладил мальчика по голове, думая о своем давнем друге Эжене Бруное; у Бруноя волосы тоже были каштановые, только жесткие и сухие. Итале попытался вспомнить его лицо, но не смог. Да он по-настоящему почти ничего не мог вспомнить из своего прошлого, и каждый раз у него возникало лишь какое-то тупое сожаление. И стыд. И вслед за стыдом, как всегда, пришли мысли о бессмысленной гибели Изабера, но он постарался прогнать эти печальные мысли и стал думать о Френине, о Карантае… Хотя и эти мысли тоже оказались невеселы: Карантай, наверное, ранен или убит, а может, арестован и сидит в тюрьме, а вот что могло произойти с Брелаваем? Представив себе, что и Брелавая могли схватить, бросить в холодную темницу, приковать на цепь, Итале невольно сжал кулаки. Но тут же постарался расслабиться, чтобы не разбудить уснувшего мальчика. Ну что ж, этот список следовало все же завершить. Итак, Амадей мертв, а Луиза… Странно, он никогда не думал о ней как о друге, никогда не ставил ее в один ряд с другими… Луиза, недобрая, ничего не прощающая ни другим, ни себе самой, такая верная и преданная, но предавшая себя и преданная им… Да, преданная им, Итале, как и все остальные, впрочем! И оба они — и он, и Луиза — были преданы собственными страстями, собственными надеждами, собственной любовью. Чему бы он, Итале, ни пытался отдаться со всей своей страстью, со всем сердцем и умом, всюду он умудрялся нанести обиду, кого-то ранить, и хуже всего для него самого было сознавать это. Рука Итале, обнимавшая отяжелевшего во сне малыша, совершенно онемела, но он не шевелился, чтобы его не разбудить. А потом неожиданно задремал и сам.
Ближе к полудню карета остановилась в маленькой горной деревушке, и Итале с облегчением передал Стасио его матери и растер наконец затекшую руку. Потом вместе с Санджусто выбрался из кареты и спросил у возницы:
— Это уже Бара?
— Ага, — откликнулся возница довольно, надо сказать, дружелюбно: говор у этого пассажира был явно местный.
— Мы уже почти на самой границе, — сказал Итале, отходя на обочину дороги, где стоял, потягиваясь и зевая, Санджусто. — Еще чуть-чуть — и Монтайна, а там полиции и ее сыщикам до нас не добраться.
Друзья немного погуляли по залитым солнцем горбатым улочкам Бары, погладили голодную собаку, что подошла к ним, выпрашивая подачку. Говорить обоим не хотелось, и они вскоре повернули назад, чтобы позавтракать в харчевне, больше напоминавшей сарай, над дверями которой красовалась вывеска: «Отдых путешественника». Обыкновенная деревенская девушка подала им самую простую еду — хлеб и сыр. Итале огляделся: грязные стены, грязный пол, грубые скамьи, щербатый стол; в открытую дверь была видна залитая солнечным светом пустынная улица, на которой, кроме тощей собаки, гревшейся на солнце, не было ни души. Девушка, поставив на стол кувшин кисловатого местного вина, даже рот открыла от изумления, когда они попросили кофе. Она явно страдала базедовой болезнью: у нее был довольно заметный зоб, выпученные глаза смотрели туповато. Итале успел уже позабыть этот туповатый взгляд, столь характерный для жителей горных селений.
Итале выпил вина и взял несколько газет, явно оставленных здесь проезжающими; в одной из них во весь разворот был напечатан текст одной из песен, с какими скитаются по дорогам местные коробейники; другая, по сути дела, представляла собой листовку, которую он машинально начал читать. Под заголовком «РЕВОЛЮЦИЯ» там говорилось следующее: «27 июля жители Парижа от имени всего французского народа подняли восстание против…» Дальше Итале читать не стал, но все же невольно отыскал глазами самую нижнюю строчку: «13 августа 1830 года. Редакция журнала «Новесма верба». Санджусто все еще жевал кусок хлеба. Итале положил листовку, встал и вышел из харчевни на солнце. Перед ним был жалкий кособокий домишко — щелястая дверь, в окне вместо стекла промасленная бумага, у колодца роются в грязи свиньи… К ногам Итале все жалась та тощая белая собака. Он посмотрел в другую сторону: на дальнем конце коротенькой деревенской улицы победоносно возвышалась на своих огромных колесах почтовая карета, казавшаяся больше окружавших ее лачуг. За деревней улица вновь превращалась в извилистую горную дорогу, по которой им предстояло еще довольно долго ехать и которая уже привела их достаточно далеко.
— По-моему, лошадей уже запрягли, скоро поедем, — заметил Санджусто, тоже выходя на улицу.
Итале отвернулся и с такой силой оперся ладонями о стену харчевни, словно хотел столкнуть жалкий домишко под откос. Он чувствовал ладонями горячую сухую глину, жар солнца на плечах и думал: «Ничего, здесь у меня зато будут все основания спуститься наконец на землю; ведь я полагал, что непременно должен одержать победу, ибо помыслы мои были достаточно высоки, но потерпел поражение». Да еще какое! Все эти бесконечные слова, разговоры, споры оказались пустым сотрясением воздуха. Ложью. Потому что стальная цепь, которой ты прикован к стене, позволяет сделать не более двух шагов в сторону!
Пять лет он тосковал по дому, а теперь был вынужден возвращаться туда как беглец, был вынужден признаться себе, что дома-то у него и нет.
Медленно, упорно тащили дилижанс низкорослые лошадки, карета, покачиваясь, ползла по извилистой дороге вверх, и горы теперь заслоняли почти полнеба. Днем дилижанс остановился в Вермаре, а потом они, проехав километров пятнадцать по серпантину, поднялись еще метров на шестьсот; теперь дорога вела скорее на юг, чем на запад. Воздух становился все суше и прозрачнее, горы стали темно-синими, сверчки, кузнечики и цикады на склонах оглушительно звенели; мальчишка на спине коренника надвинул шапку на глаза и, чтобы не заснуть, монотонно что-то напевал. Одна из этих песен была Итале знакома:
Серая мгла да дождь осенний,
Спи, любимая, крепко спи!
Ах, разбила ты мое сердце,
Спи, пока не разбудят, спи…
— Не приставай к господам, Стасио!
— Ничего, он мне не мешает.
— Вы очень добры! Иди-ка сюда, сынок.
— Да пусть он у меня посидит. — Итале позволил малышу обследовать жилет, благодарный за то, что Стасио отвлек его от горьких мыслей о доме, а горы все толпились вокруг, глядя на него точно с упреком.
Дорога продолжала петлять, поднимаясь по щеке горы; мать Стасио, глянув в пропасть, по краю которой тащился дилижанс, побледнела и закрыла глаза.
— Ничего, — подбодрил ее Итале. — Еще километра три, и серпантин кончится, а дальше, до самого перевала, дорога почти прямая.
Теперь их обогнал бы даже пеший; упорные лошадки не сдавались и дружно натягивали поводья, мальчишка на кореннике окончательно проснулся, и над спинами лошадей то и дело свистел кнут возницы.
— Не скажете ли, господин, что это за горы?
— Это горы над озером Малафрена.
— Хой! Хой! — послышался сердитый крик возницы.
— Похоже, мы сейчас перевернемся, — равнодушно сообщил Санджусто.
Однако карета тут же выровнялась. Лошадки тянули исправно. Заходящее солнце светило теперь справа, и длинная тень горы Синвийи легла на лесистые склоны горы Сан-Дживан, стеной выросшей перед ними и отделявшей горную долину от открытых солнцу и ветрам предгорий.
— Очень похоже на те места, где я родился, — тихо промолвил Санджусто. — А если приглядеться — ничего общего! — Он помолчал и прибавил: — Значит, я все-таки с тобой поехал…
Итале рассеянно кивнул; он боролся с воспоминаниями о той пасхальной службе в айзнарском соборе, но избавиться от мыслей об этом никак не мог и наконец сказал вслух:
— Жаль, что я раньше не решился на все плюнуть и уехать домой! Тогда я еще не зашел так далеко, тогда я еще мог вернуться!
Санджусто остро на него глянул, помолчал и заметил:
— Пять-шесть лет — срок небольшой, Итале. А человек всегда в итоге возвращается домой.
— Но что он… с собой приносит?
— Разное. Не знаю.
— Ох, каким же я был раньше глупцом! Еще до того, как… Теперь-то я умный. Теперь-то я понимаю собственную глупость и безответственность! Но какой смысл в подобных уроках? Что хорошего в приобретенной таким способом премудрости, если за нее приходится платить надеждой?
— Не знаю, — повторил Санджусто очень тихо и смиренно.
Итале вдруг почувствовал жгучий стыд. Некоторое время он молчал, говорить о своих переживаниях ему совсем расхотелось. Привычка громко протестовать была в нем достаточно сильна, ибо возникла на благодатной почве, но теперь с этим пора было кончать и возвращаться к еще более старой привычке: к молчанию.
Снова проснулся Стасио, захныкал, и Итале, усадив малыша на колени, позволил ему играть с пуговицами на своем жилете. Горы, с одной стороны ярко освещенные солнцем, а с другой — совершенно черные, казалось, совсем сомкнулись над дорогой, однако лошади теперь бежали быстрее: дорога постепенно выровнялась, и вскоре, за перевалом, они увидели Партачейку, раскинувшуюся в узкой долине. Мальчишка на кореннике приветствовал ее появление протяжным свистом. Итале со стесненным сердцем смотрел на горбатые островерхие крыши Партачейки, на ее извилистые улицы, похожие на нарисованные серым карандашом ступени лестниц меж налезающих друг на друга домов, на монастырь Синвийя, хмуро взиравший на город с холма и казавшийся совершенно белым на фоне темного плеча горы, на гостиницу «Золотой лев», где он любил бывать еще ребенком и любоваться тем, как въезжают в город высокие запыленные экипажи из каких-то совсем уж отдаленных, прямо-таки невообразимых мест…
— А теперь куда? — спросил Санджусто, когда они уже стояли посреди булыжной мостовой. Итале, казавшийся совершенно растерянным, не двинулся с места.
— Не знаю. Я как-то не подумал…
В дверях «Золотого льва» появилась жена хозяина и с любопытством уставилась на молодых людей.
— Пошли, — решительно сказал Итале, и они стали подниматься по длинной лестнице с широкими, выложенными серой плиткой ступенями; миновав перекресток, они по узкому переулку добрались до второй такой же лестницы, которая привела их к воротам, за которыми виднелся старый сад. Здесь Итале наконец остановился.
— Итале, — Санджусто, видимо, тоже все это время что-то решал для себя, — знаешь, твои родственники… Все-таки мы явились как снег на голову. Будет лучше, если я пока остановлюсь в гостинице, а потом, когда это будет удобно, мы с тобой встретимся.
Итале с сердитым недоумением посмотрел на него, потом рассмеялся и сказал:
— А ты не сможешь остановиться в гостинице! У нас с тобой ни крунера не осталось. Ладно, не трусь, вперед! — И он рывком отворил калитку. Санджусто нерешительно последовал за ним по дорожке, обсаженной флоксами и анютиными глазками. На пороге дома их встретила юная служанка, при виде незнакомцев ставшая чрезвычайно неловкой, которая и провела их в гостиную, очень аккуратную, даже строго убранную комнату с широким окном. Вскоре туда вошла седовласая женщина, которая сперва тоже смотрела на молодых людей несколько озадаченно, потом удивление в ее глазах сменилось испугом, и она, схватившись рукой за горло, прошептала:
— Итале… Боже всемилостивый, Итале!
— Прости, прости, — говорил Итале, обнимая ее. — У меня не было ни малейшей возможности заранее дать знать о своем приезде. Прости меня, моя дорогая…
— Какой же ты худой! — прошептала Пернета, потом вдруг выпустила его из объятий и быстро сказала: — Не волнуйся, дорогой, все хорошо, это я просто от неожиданности. Ты же знаешь, в обморок я не падаю. — Она повернулась к Санджусто и поздоровалась с ним — изысканно вежливо, но с явным недоверием к чужаку, как то и подобает истинной уроженке Монтайны. Она пожала ему руку, вслух повторив его имя, когда Итале его ей представил, и тут же захлопотала, сперва пригласив их сесть, спрашивая, не хотят ли они умыться и поесть, совершенно уверенная, что они умирают от голода. Пернета ни словом не обмолвилась о том, что могло бы расстроить или смутить Итале и Санджусто, если не считать того первого, невольного восклицания. Спросила только, когда он вкратце описал причину своего неожиданного приезда, долго ли он пробудет в родных краях.
— Не знаю. — Это было сказано таким тоном, что Пернета тут же прекратила всякие расспросы. Эмануэль тоже сперва ни о чем друзей не расспрашивал, хотя, надо сказать, и был несколько удивлен, когда, вернувшись домой, обнаружил, что их маленькая служанка чрезвычайно возбуждена и озабочена, Пернета, напротив, неестественно спокойна и иронична, а его собственная спальня, ванная комната, бритвенные принадлежности и чистые рубашки принесены в жертву какому-то неизвестному иностранцу и неожиданно появившемуся у них в доме племяннику.
— Когда ты уехал из Красноя? — Таков был первый вопрос Эмануэля.
— Во вторник.
— Что же там происходит? На прошлой неделе почты не было, да и этот дилижанс ничего не привез…
— Газеты не выходят.
— Но почему? — недоумевал Эмануэль. Краткий рассказ о днях восстания только подлил масла в огонь. — То есть, если бы ты не приехал, мы тут могли бы и вовсе ничего не узнать? Боже мой! У нас в стране, можно сказать, власть неделю назад переменилась, а мы так ничего об этом и не знаем! Может быть, у нас уже и король появился?
— Нет, пока что по-прежнему правит великая герцогиня, — засмеялся Итале. — Да и вообще никаких особых перемен не произошло. Знаешь, я хочу попросить тебя… Я бы хотел поехать домой, повидать маму. Но… я пока не знаю, каково мое положение здесь. Я ведь был вынужден бежать из Красноя. Мне запрещено находиться в столице. Может быть, и здесь ко мне могут быть применены какие-то санкции… И я бы не хотел…
Эмануэль прервал его:
— А какое значение это имеет для твоих родителей?
— Не знаю.
— Господи, Итале, о чем ты говоришь?!
— Я говорю о своем отце.
— Да… тут ты, пожалуй, прав. Гвиде следовало бы сперва немного подготовить.
— Я ведь приехал к вам потому, что мне просто больше некуда было ехать, — сказал Итале, смертельно побледнев, — но если власти выдвинут против меня какие-то обвинения, поставят какие-то условия, я немедленно сразу же уеду за границу.
Санджусто, войдя в этот момент в комнату, так и застыл в дверях; на шее у него было купальное полотенце.
— Извините, — сказал он по-итальянски и тут же ретировался.
Дядя и племянник стояли лицом к лицу.
— Ты, дурак чертов! — заорал вдруг Эмануэль. — Разве тебе кто-нибудь хоть слово сказал о каких-то там условиях и обвинениях? Ведь я имел в виду всего лишь то, что Гвиде нездоров и его необходимо подготовить, чтобы избежать чересчур бурной реакции!
— Отец болен?
— Да, он с ноября плохо себя чувствует. Как ты думаешь, почему не он и не Элеонора, а именно я приезжал в Совену?
— Но ты же тогда сказал…
— Это он меня попросил не рассказывать тебе о его болезни. И я подчинился. Я всегда поступал так, как хотел Гвиде. Возможно, это было неправильно, не уверен. Но дело в том, что примерно месяц назад ему опять стало хуже. Я даже хотел написать тебе, но твои родители в один голос просили меня этого не делать.
— Зря, ведь я мог бы приехать!..
— И какой был бы от этого прок больному?
Итале присел на кровать; чувствовалось, что он с трудом держится на ногах. Он по-прежнему был очень бледен, и Эмануэль догадался наконец, что он вот-вот потеряет сознание.
— Никакого, — сказал Итале.
— Все не так плохо, мальчик мой. Сейчас Гвиде чувствует себя не хуже, чем прежде. Это все та же старая болезнь сердца; она может длиться десятки лет с переменным успехом. Я вовсе не хотел так тревожить тебя. Но тебе нельзя прийти к нему просто так, да еще рассерженным…
Итале покачал головой.
— Эмануэль, — послышался из-за двери голос Пернеты, — так, может, тебе съездить верхом на озеро и подготовить Гвиде и Элеонору? Скажи, что мы тоже скоро приедем. А я пока покормлю мальчиков ужином, велю запрячь в двуколку Аллегру, и через часок-другой мы будем там.
— Ты, пожалуй, права, — согласился Эмануэль и снова повернулся к Итале, желая как-то его подбодрить, но не находил нужных слов. Он не чувствовал себя вправе вмешиваться в отношения Гвиде и Итале, всегда характеризовавшиеся абсолютной верностью друг другу и вечным соперничеством, глубочайшим пониманием и резкой враждебностью, связанной с чрезвычайной душевной уязвимостью обоих. И каждый раз Эмануэль, стоило ему приблизиться к костру страстных взаимоотношений отца и сына, обжигал пальцы, терял дар речи, начинал путаться в выводах и догадках. И все же именно ему всегда приходилось первым сообщать Гвиде приятные и неприятные новости, касавшиеся Итале, всегда посредником в их спорах становился именно он. Так что Эмануэль оседлал лошадь и отправился в путь сквозь ставшие уже совсем длинными вечерние тени. Два с половиной года назад он тоже спешил на озеро, чтобы сообщить Гвиде об аресте Итале, и все сделал не так, как нужно, неосторожно расковыряв своими неуклюжими пальцами старую и болезненную рану. И сейчас, в разговоре с Итале, он совершенно неправильно понял мальчика, который всего лишь пытался сохранить остатки собственной гордости. Для этих двоих, Итале и Гвиде, гордость всегда была на первом месте! Сила, терпение, даже ярость — все уступало их гордости, их непреклонному желанию противостоять любым оскорблениям и равнодушному времени. Вечное сопротивление, а не соглашательство! Эти люди готовы были отдавать полными пригоршнями, но так и не научились принимать в дар. Суровость Гвиде в его сыне превратилась в безрассудную смелость, но в основе обоих характеров все равно было одно: гордость и уязвимость. Тяжело сильным людям в нашем мире, думал Эмануэль; от этого мира пощады не жди; никогда и никто из людей, бросивших вызов злу, не одерживал легкой победы.
Он надеялся застать Гвиде дома, в одиночестве, но нашел его в саду: они с Лаурой, судя по жестикуляции, увлеченно обсуждали новые посадки и даже не заметили, как Эмануэль подъехал к калитке. Лаура заметила его первой и радостно замахала рукой:
— Ой, дядя! Что, письмо пришло?
— В общем, да, — сказал он, улыбаясь. Так просто было бы рассказать обо всем Лауре! Но почему ему всегда так трудно сообщить что-либо Гвиде? — Кстати, Пернета тоже скоро подъедет. Вы нас обедом покормите?
— Конечно! Но где же письмо?
— Я его с собой не захватил, племяшка.
Лаура замолчала и насторожилась.
— Да это скорее записка, а не письмо. Итале спрашивает, можно ли ему приехать. Ты как, Гвиде, к этому относишься?
— Где он?
— В Партачейке. У меня дома. Приехал сегодня днем на почтовом дилижансе. С товарищем.
Гвиде не шелохнулся. Лаура молчала.
— Что же заставило его вернуться в Монтайну? — наконец спросил Гвиде.
— А ему больше некуда податься. Приехал в чем был. В Красное восстание. Ассамблея распущена. Два дня там шли настоящие бои. А Итале теперь в списке тех, кому запрещено проживание в столице и центральных провинциях. Он даже не знает точно, на какие провинции действие этого списка распространяется… Ты должен разрешить ему приехать домой, ни о чем его не спрашивая, не ставя ему никаких условий, Гвиде! Он потерял все, во имя чего работал…
— Условия? — пробормотал Гвиде и повернулся к Лауре. — Скажи матери, что я еду в Партачейку. — Он обогнул Эмануэля, вышел за калитку и двинулся к конюшне.
— Но они, возможно, уже едут сюда, — беспомощно сказал Эмануэль ему вслед, понимая, что остановить Гвиде невозможно, и тут же прибавил: — Да ладно, бери моего коня, он и устать-то не успел. — Гвиде вскочил в седло и тут же исчез из виду, а Лаура, глядя ему вслед, зябко повела плечами и нервно рассмеялась.
— Как это странно! — сказала она. — Ты спешил сюда, чтобы сообщить нам об Итале, а мы стояли и рассуждали о доме, о дороге. Все это как будто уже было с нами. И я стояла вот так же, а ты верхом поднимался к этой калитке, чтобы сказать, что Итале скоро приедет… Словно одна и та же картина, повторяющаяся многократно…
— Где мама, детка?
— В доме. — Они так и шли — она по одну сторону ограды, он по другую. Лаура шла быстро, даже торопливо, но, прежде чем войти в дом, она остановилась и еще раз оглянулась на сад в ясном вечернем свете, на пламенеющие розы, на пустые дорожки.
Когда они все наконец приехали домой, Лаура совсем растерялась, совершенно позабыв, что Эмануэль предупреждал ее: Итале приехал не один, а с каким-то своим приятелем. Она не сразу даже сообразила, кто из этих молодых мужчин — ее брат, когда бросилась навстречу вынырнувшей из густой тьмы двуколке. Она была настолько взволнована, что понимала лишь, что бежит теплым летним вечером по короткой траве и какой-то высокий человек выпрыгивает из двуколки ей навстречу и обнимает ее и мать. Ну да, это же Итале, это ведь его синий сюртук! И она тоже обнимала его, и он казался ей худеньким и хрупким, как ребенок, но лицо его было теперь лицом настоящего мужчины. Неужели это ее брат? А кто же тогда тот, второй, с рукой на перевязи? И почему он держится в стороне?
— Добро пожаловать домой! — ласково сказала она ему, и он после мгновенного замешательства улыбнулся ей, и кто-то рядом громко рассмеялся. И сразу же ей стало хорошо и легко, и время точно вдруг повернуло вспять, и она опять стала прежней Лаурой, и это ужасное ожидание кончилось, и все наконец собрались дома… — Входите, входите же! — нетерпеливо звала она их — отца, брата и этого незнакомца.
Глава 29
Как-то в сентябре, когда день уже клонился к вечеру, Итале проходил мимо садов Вальторсы, где золотистый свет, просвечивая сквозь ряды деревьев, ложился ровными полупрозрачными полосами на тропу, чередуясь с темными тенями, и по этой полосатой тропе навстречу Итале шла его сестра Лаура.
— Письмо! — крикнула она. — Дядя письмо привез!
Подойдя к нему ближе, Лаура спросила:
— Ну что, виноград созрел?
— Да, завтра в Орийе уже начнем убирать.
Они вышли на дорогу и пошли рядом; Итале на ходу вскрыл конверт и стал читать, хмурясь от бившего в глаза низкого солнца. Письмо было из Солария.
«Дорогой Итале! Старый граф пишет, что ты дома. Я тоже. Меня освободили 20-го, я успел добраться до Колон-нарманы, но там меня взяли и в сопровождении целого отряда полицейских отправили обратно. Впрочем, после трех допросов освободили, но стоило мне буквально перейти через улицу — и меня снова взяли и допрашивали еще дважды. Теперь я уже неделю как дома, но не могу с уверенностью сказать, что там и останусь в ближайшие дни. Невеста К. написала мне, что у него было тяжелое сотрясение мозга, но теперь он быстро поправляется. В октябре они хотят пожениться. Ты, я полагаю, уже знаешь, что юному В. повезло гораздо меньше. Впрочем, кто знает: может, в конце концов и окажется, что ему-то повезло как раз больше всех. Я заходил к Дж. Ф. Он носит корсет, атласный жилет, часы на золотой цепочке, женат, у него маленький сын, и он даже не пригласил меня заходить еще. Не слышал ли ты чего-нибудь о Карло? Никто о нем ничего не знает с той вечеринки, и я все время думаю о нем. Я собираюсь продолжить занятия и получить право на занятия адвокатской практикой, поскольку, как я теперь окончательно понимаю, журналистикой не прокормишься. Пожалуйста, дай о себе знать. Поверь, я всегда остаюсь твоим преданным другом.
Томас».
— Это ведь от господина Брелавая?
— Да. А ты что, знаешь его почерк?
— Он регулярно писал нам, когда ты был в тюрьме. И это он сообщил, что тебя арестовали. Ему, должно быть, нелегко приходилось: он ведь не мог сообщить ни одной радостной вести; но письма у него всегда были очень хорошие.
— На, прочти. — Итале пришлось объяснить сестре, что означают инициалы в письме Брелавая. — К. — это Карантай, ну ты знаешь, писатель. Его ранили на улице Палазай во время стычки со стражей. В. — Верной. Один студент, наш друг. Его убили. Дживан Френин — мой старый университетский приятель. Он три года назад уехал на родину, в Соларий, и стал теперь богатым торговцем. Значит, они все-таки и Брелавая занесли в список… Бедняга! До чего же ему там одиноко, наверно!
— А кто такой Карло?
— О, это же Санджусто! Он подписывал материалы, которые присылал нам из Англии, псевдонимом «Карло Франчески». Должно быть, Карло — это одно из его настоящих имен.
— Ты ведь довольно давно его знаешь?
— Ну, мы познакомились в 27-м году в Айзнаре. Но по-настоящему я узнал его только в июле.
— Он был с тобой во время… тех боев?
Итале кивнул. И глянул на нее искоса: тонкое, довольно бледное лицо; каштановые волосы скручены на затылке небрежным узлом. Лаура шла рядом, стараясь не отставать. За тот месяц, что он провел дома, он особенно
остро почувствовал, сколь благотворно действует на него одно лишь присутствие сестры, но как следует они до сих пор так и не поговорили, довольствуясь мимолетными замечаниями или вопросами, касавшимися здоровья Гвиде, хозяйственных дел или проблем со счетами. Лаура научилась отлично вести все бухгалтерские расчеты и записи, но, когда Итале стал хвалить ее за порядок и ясность во всех документах, она только вздохнула и сказала:
— Я их ненавижу. Я это делаю только потому, что больше папа мне ничего не позволяет. А записи я веду так аккуратно, потому что иначе сразу же запутаюсь. Я терпеть не могу цифры! Я бы с гораздо большим удовольствием конюшни чистила! Только он не позволит.
И Лаура рассмеялась, как бы снижая серьезность проблемы. Предельная искренность, столь свойственная ей в детстве, теперь сменилась в ней сдержанностью, даже скрытностью зрелой женщины, и Итале, шагая с нею радом, вдруг осознал, что совершенно ничего не знает о сестре, о ее жизни.
— Я все пытаюсь себе представить, — сказала Лаура задумчиво, — что ты там делал, в Красное?… И какова была твоя тамошняя жизнь? И эта революция…
— Восстание, — мягко поправил он.
— Восстание. Ты сказал про того студента: «Его убили». Я знаю, как господина Санджусто ранили в руку — в него выстрелил из ружья полицейский, который за ним гнался… И ты как-то раз упоминал о пожаре… Я немного представляла себе, чем ты занимался раньше, до ареста; я читала ваш журнал, газеты… Но в целом я просто не способна была вообразить себе ту твою жизнь, словно сама жила в совсем другом мире…
— В настоящем.
— Почему ты так говоришь?
— Потому что от той моей жизни ничего не осталось. С ней покончено… Она сгорела. Мгновенно. И пепел развеяли по ветру. Да, в общем, в ней ничего особенного и не было.
Лаура молча шла с ним рядом.
— Мечты юности! — сказал Итале пренебрежительно.
— Неправда! В течение последних пяти лет моей жизни придавала какой-то смысл только моя уверенность в том, что ты свободен, что ты трудишься во имя свободы, что ты делаешь то, чего не могу делать я, что ты делаешь это и для меня! Даже когда ты был в тюрьме, я и тогда верила в это, даже сильнее, чем когда-либо!
Он остановился, потрясенный этим страстным и неожиданным упреком; на мгновение взгляды их пересеклись, и он увидел, что Лаура понимает и то, о чем сам он не в силах сказать прямо: что он потерпел неудачу, даже, может быть, полное поражение, что она знает это и все же это ее не обескураживает и она отнюдь не воспринимает его как неудачника или глупца, иначе она никогда бы не упрекнула его в отступничестве.
— Господи, Лаура, ты не должна так слепо верить мне! — воскликнул он почти с отчаянием и уже без малейшей иронии. — Раньше, произнося пламенные речи о свободе, я ведь совсем не представлял себе, что такое тюрьма. Я вещал о добре и зле, но… не понимал, что такое зло, не понимал, что и я за него в ответе, — а я видел немало зла, немало смертей… И я тоже виноват в чужих смертях, Лаура, и я ничего не могу с этим поделать! Так что единственное, что мне еще осталось, это хранить молчание, не произносить тех слов, которые произношу сейчас. Позволь же мне это. Я больше не хочу приносить горе другим людям!
— Жизнь и сама по себе довольно зла и горька, — тихо возразила Лаура.
Вскоре вдали завиднелись сады, раскинувшиеся на холме над домом Сорде, и за ними — лесистые горные склоны.
— Если тебе отменят поражение в правах, — спросила Лаура, — ты вернешься в Красной?
— Не знаю. Во всяком случае, в ближайшем будущем вряд ли. Мне кажется, от меня здесь больше пользы, особенно пока отец болен.
— Да, — сказала она. — Конечно. Но он… Когда-нибудь он все равно должен был бы заболеть. А когда-нибудь он даже умрет, от этого ведь никуда не денешься, правда? И мы всегда это знали.
— Но когда-то я в это не верил; — тихо сказал Итале.
— Я знаю, — откликнулась Лаура, и он с удивлением увидел, что она улыбается. — Я, собственно, хотела сказать, что насчет этого тебе не стоит беспокоиться. Насчет поместья то есть. Если тебе нужно будет уехать. Мне, конечно, до Пьеры далеко, но справиться с хозяйством я вполне способна. Я хочу, чтобы ты это знал и мог на меня рассчитывать.
— Пока что я просто вернулся домой, — сказал Итале. — Ради бога, Лаура! Неужели ты хочешь, чтобы я снова куда-то уехал?
— Я хочу, чтобы ты понял: это совершенно неважно, что там твердят эти дураки из полиции! Что бы они ни говорили, ты совершенно свободный человек! — запальчиво и даже сердито воскликнула она. — Или, может, мне ты запретишь трудиться во имя свободы? Ах, Итале, ведь ты и есть моя свобода!
У него не нашлось слов, чтобы ответить ей.
Стоило им войти в дом, как Гвиде позвал Итале в библиотеку. Он хотел обсудить с сыном виды на урожай винограда. С тех пор как болезнь в очередной раз скрутила его, Гвиде, хотя и неохотно, признал, что все, включая доктора, были правы и придется сбавить обороты. Он стал отдыхать в строго определенные часы, а кое-какими хозяйственными делами и вовсе перестал заниматься, а также значительно реже стал бывать и в полях, и в конторе. Гвиде вообще сильно изменился: волосы совсем поседели, лицо и руки перестали быть такими загорелыми, и он, и без того высокий и худощавый, теперь казался еще костлявей и выше ростом. Итале, войдя в библиотеку, был поражен его сходством с Лаурой, они даже говорили с одинаковыми интонациями.
Им удалось очень быстро и при полном согласии обсудить как общее состояние виноградников, так и сроки сбора урожая, особенно если погода будет этому благоприятствовать.
— Но если станет жарче… — Гвиде не договорил, но оба поняли, что он имел в виду: тяжкий и не дающий возможности передохнуть труд на виноградниках становился невыносимо тяжелым, если жара устанавливалась на продолжительное время. Следовало также учитывать относительную неопытность Итале и то, что он еще не успел окончательно восстановить свои силы. — Ну да ничего, в конце концов, есть Брон, — спокойно закончил свою мысль Гвиде.
— Конечно. И Брон, и, слава богу, Санджусто.
— Да, этот парень в садах, похоже, очень даже может пригодиться. А ты в случае чего слушайся Брона.
Итале улыбнулся. Он давно уже ждал, когда отцу придется-таки похвалить Санджусто. «Очень даже может пригодиться» — это была высокая похвала в его устах.
— От Сорентая телеги пришли? — спросил Гвиде.
— Завтра утром будут здесь.
— Кто поедет?
— Карел.
Гвиде согласно кивнул.
— Он человек надежный, — сказал Итале. — Ему бы еще получиться немного.
— Зачем?
— Нам пора иметь настоящего управляющего. — Итале сказал это с какой-то равнодушной прямотой, прежде ему совершенно несвойственной. А вот Гвиде такая прямота была присуща всегда.
Гвиде явно оскорбило заявление сына, однако момент действительно был выбран точно: он прекрасно понимал, что не может более делать вид, что способен один тащить весь этот воз, а если Итале уедет… Впрочем, Гвиде не желал также показывать кому бы то ни было, что мысль об отъезде Итале, как бы заключенная внутри предложения взять наконец управляющего, его пугает. Поудобнее устроившись на своем любимом диване под окном, он тщетно пытался придумать какой-нибудь аргумент, способный опровергнуть предложенную Итале идею, и хмурился, понимая, что возразить ему, собственно, нечего. Даже попытка наложить вето — если бы это было в его власти — вряд ли стала бы достойным аргументом. Но власть уже ускользала у него из рук. За эти несколько последних недель он сам, как будто даже не заметив этого, как-то втихую отрекся от престола, а его сын, тоже словно и не подозревая об этом, вступил в права наследства.
— Ну что ж, — сказал наконец Гвиде. — И ты полагаешь, что Карел годится?
Итале, воспользовавшийся паузой, чтобы порыться на книжных полках, внимательно посмотрел на отца и, к своему удивлению, заметил, что глаза Гвиде блестят от удовольствия. А он-то ожидал, что вопрос об управляющем вызовет яростные споры!.. Однако его даже встревожило то, что Гвиде так легко с ним соглашается, да еще и улыбается при этом.
— Возможно, я слишком забегаю вперед…
— Возможно, — согласился Гвиде. — Кстати, у нас есть еще Паисси. Из него, пожалуй, получился бы управляющий получше, чем из Карела. А теперь ступай. Мне до самого ужина лежать полагается.
Итале поклонился и вышел, а Гвиде, подчиняясь приказам доктора, снова лег. Он чувствовал в себе какую-то удивительную легкость и пустоту; примерно так, казалось ему, должна чувствовать себя женщина после родов: легкой, спокойной, усталой. Забавно: он сравнивает себя с женщиной, да еще с роженицей! Но ведь он так хорошо помнил лицо Элеоноры в то утро, когда родился Итале, ее улыбку… Они, его жена и дети — вот средоточие его жизни. Все в них.
Над озером разгорался красный закат, погода менялась. На следующий день наступила жара. Потом стало еще жарче.
Итале вставал в четыре утра и весь день дотемна проводил на виноградниках. Кроме виноградных лоз, виноградных кистей, ящиков, корзин, телег, повозок, наполненных виноградом, он не замечал более ничего, разве что каменные давильни на заднем дворе, все в кляксах давленого винограда, источающие запах брожения, да еще, в виде краткой передышки от жары, прохладу темных подвалов, вырытых прямо в склоне горы. А в сентябрьском небе упрямо качался раскаленный белый круг солнца. Потом, когда эта адская работа была наконец сделана, подошла пора убирать урожай и других плодов и злаков. Молчаливый и погруженный в себя, раздражаясь, когда силы оказывались на исходе, а дела подгоняли, но все же старавшийся проявлять терпение, Итале, в общем, вполне справлялся с работой, не отвлекаясь, не оглядываясь назад и не особенно заглядывая вперед. Большую часть времени, за исключением кратких часов сна, он проводил под открытым небом, в полях, в садах и хозяйственных постройках, но отнюдь не в доме. Домой он приходил только поесть и поспать. Когда же работа давала ему краткую передышку, он отправлялся на охоту с Паисси, внуком Брона, и Берке Гаври, с которым у него завязалась некая осторожная дружба, или с Санджусто. В Партачейку Итале ездил крайне редко и ни к кому в гости не ходил. Когда же к ним заезжали Роденне, Сорентаи или еще кто-то из соседей, ему часто приходилось принимать гостей вместо Гвиде — и он делал это со сдержанной вежливостью, заботясь о том, чтобы гостеприимство в доме по-прежнему соблюдалось свято, но в общих разговорах почти не участвовал и сидел в основном молча, слушая, что говорят другие.
Элеонора молча наблюдала за сыном. Точно так же она наблюдала и за Гвиде все эти тридцать лет. Часто, занимаясь работой по дому или лежа без сна темными осенними ночами, она думала о том веселом ребенке, неуклюжем мальчике, красивом юноше, молодом мужчине, в которого этот юноша только еще начинал превращаться, когда они расстались, — она застала лишь самое начало этого процесса. Но теперь Итале стал совсем другим — суровым, беспокойным, молчаливым. Это был второй Гвиде, и все же он не был похож на того Гвиде, за которого она когда-то вышла замуж. В дни молодости Гвиде всегда и во всем преуспевал и не знал поражений. И Элеонора испытывала горькое разочарование: этот мир, предлагая юной душе такие широкие возможности, в действительности ставит человека перед крайне малым выбором. Точно такое же разочарование испытывала и ее дочь, а также Пьера, и Элеонора, чувствуя это в них, узнавала свои собственные переживания, но отнюдь не питала насчет дальнейшей судьбы девушек особых иллюзий. И уж, конечно, никаких иллюзий не питала на свой собственный счет.
Санджусто старался не унывать, работал наравне с Итале, да и в доме старался быть всем полезен, а порой выходил в озеро на «Фальконе». Невеста Карантая прислала друзьям зашифрованное предупреждение: власти разослали повсюду описание внешности Санджусто и караулят его на всех границах, готовясь арестовать как профессионального революционера и бунтовщика. Санджусто тут же объявил, точно принимая вызов, что в таком случае пойдет через горы, через перевал Валь Альтесма, где нет погранично-пропускных пунктов.
— А зачем? — спросил Итале. — И куда?
— Во Францию, разумеется!
— Не бросай меня в беде, а?
— Ладно, уйду, когда соберем груши.
— Зимой тебе через горы не пройти.
— Тогда я подожду до весны.
И Санджусто остался. И сделал это так легко и спокойно и продолжал быть таким веселым и приветливым, что Итале, в его теперешнем настроении, считал это само собой разумеющимся и ни разу не задавался вопросом о характере их духовной близости. Он, пожалуй, уже и вспомнить почти не мог, где ее корни. Он забыл даже, что до того, как они познакомились, Санджусто успел прожить довольно долгую жизнь, о которой он, Итале, не знал практически ничего. Уже в конце октября, в первый по-настоящему дождливый день, он как-то проходил по грушевому саду, высматривая Санджусто, но никак не мог его найти. Привязав у изгороди лошадей — своего коня и второго, которого вел в поводу, — он минут двадцать рыскал по саду, пока наконец не отыскал своего друга, который стоял под деревом с каким-то весьма странным выражением на лице. Итале успел лишь заметить, как за следующим рядом деревьев мелькнули темно-красная юбка и белая блузка и исчезли. Тихий теплый дождь без устали шелестел по листьям и траве.
— Я же тебя звал! — сказал укоризненно Итале, мокрый с головы до ног. — Я орал как помешанный!
— Да, я слышал. — И Санджусто подмигнул ему. Потом оттолкнулся от ствола дерева и пошел рядом с Итале.
— Это что, дочка Марты была, Аннина?
— Да.
Некоторое время Итале молча шагал по мокрой траве.
— Но ей ведь и пятнадцати, по-моему, еще нет, — сказал он.
— Я знаю.
Они молча сели на лошадей и молча тронулись в путь. Вдруг Санджусто ни с того ни с сего расхохотался. Итале вспыхнул и сердито от него отвернулся.
— Да знаю я все, не сердись! — со смехом сказал ему Санджусто. — Но ведь хорошенькие девушки для того и существуют, чтобы с ними кто-то любезничал, говорил им комплименты, смотрел на них влюблено. Или я не прав?
— Да, конечно, но я чувствую себя…
— Ответственным? Разумеется! Ребенка я ей не сделаю.
— Очень на это надеюсь.
— Так чего ж ты так злишься? — Теперь Санджусто заговорил несколько иным тоном. — Ведь ты на меня злишься, верно? Но чего ты от меня хочешь? Достоинства, воздержания, романтической страсти? Но все это у меня уже было. А теперь я предпочитаю просто целоваться в саду с хорошенькими девушками. Как это ни печально, но я на десять лет старше тебя. И уже пережил однажды романтическую страсть. О, я был безумно влюблен! И даже обручен с одной юной дамой… Но это было еще в 1819 году, в Милане. Господи, как же я был в нее влюблен! Я писал стихи, я худел, а потом вдобавок угодил за решетку и совсем отощал. А она тем временем взяла да и вышла замуж за австрийского офицера! Я узнал об этом, только когда из тюрьмы вышел. С тем и остался. Австрия отняла у меня моих детей еще до того, как они появились на свет… Так что я перебрался через горы и стал никем, вечным изгнанником. Но больше я в эти игры не играю. Нет, ни за что на свете! Больше никаких юных дам, никакой романтической любви! Ну а если мне навстречу попадется Аннина, да еще и улыбнется мне… Езус-Мария, Итале, чего ты от меня хочешь?
— Прости, Франческо, — пробормотал Итале, заикаясь и покраснев до ушей. Сказать ему было нечего. Но когда оглушительное чувство стыда несколько улеглось, он глубоко задумался над тем, что сказал ему Санджусто.
А итальянец между тем, невозмутимый как всегда, поднял свою молодую лошадку на дыбы и, задрав лицо к небесам, навстречу дождю, падавшему из клочковатых, быстро проплывавших над головой облаков, сперва что-то напевал вполголоса, а потом вдруг громко запел довольно приятным тенором:
— «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…» Ха! Ну и свинья же этот Россини! Ты знаешь, он, между прочим, написал ораторию для Меттерниха под названием «Священный союз»! Нет, эти композиторы — просто идиоты, блаженные идиоты! Видно, Господь лишил их разума. Ого, посмотри-ка: твой граф уже весь пепин собрал. Может, и нам пора начать? Эта маленькая графиня весьма мудро обращается со своими садами.
Итале не ответил. Они неторопливо ехали под дождем к дому на берегу озера.
Когда на второй день пребывания Итале в родном доме к ним приехали граф и Пьера, он очень нервничал, но стоило ему их увидеть, как все его сомнения и волнения раз — веялись. Он очень тепло поздоровался с графом Орлан-том, с огорчением отметив, как тот постарел. А вот Пьера показалась ему почти не изменившейся, хотя ей уже, должно быть, исполнилось двадцать один или двадцать два. Она по-прежнему была маленького роста, круглолицая, по-детски застенчивая. Здороваясь с ним, она лишь улыбнулась да сказала несколько обычных вежливых слов. Ему показалось, что столь свойственные ей в детстве живость и энергичность исчезли, испарились — несомненно, под воздействием здешней замкнутой и одинокой жизни, — но им на смену не пришли иные качества, которые могли бы быть свойственны взрослой женщине с богатым внутренним миром. Пьера представлялась ему цветком, который увял, не успев расцвести. И та, первая их встреча оставила у него привкус горечи; он как бы в очередной раз убедился в том, о чем впервые серьезно задумался в придорожной харчевне селения Бара: все то, ради чего он столько работал, все его стремление к свободе было заблуждением, попыткой поймать лунный луч, пустыми словами. Вот Эстенскар давно понял это. И Пьера — по-своему, конечно, — тоже это понимала. А еврей Мойше это просто знал. И подавальщица в баре, девушка с тупым взглядом и огрубевшими от работы, грязными руками, тоже понимала лучше, чем все они, вместе взятые, что никакой свободы не существует, хотя и не знала ничего иного, кроме собственных примитивных желаний, которым, впрочем, сбыться вряд ли суждено.
Лаура была в саду за домом. В дождевике и какой-то бесформенной шляпе она подрезала розы, посаженные еще ее дедом. Последние цветы уже опали, листья на промокших согнувшихся стеблях казались ржавыми. Лаура, заметив на дороге всадников, помахала им рукой с зажатыми в ней садовыми ножницами.
— А вот и… — сказал Санджусто, махнул рукой в ответ и вдруг умолк.
Лаура подошла к изгороди.
— Вы оба похожи на мокрых крыс, — заявила она, разглядывая Итале и Санджусто.
— По-моему, вы слишком рано срезаете свои розы, — сказал Санджусто.
— Я просто решила убрать сгнившие стебли и всякие подпорки.
Итале, придерживая коня, наблюдал за ними. Это была красивая пара: высокая улыбчивая женщина, изящные руки которой были мокры от дождя, и молодой мужчина с удивительно ярким и живым лицом, который, сидя верхом на лошади, с интересом расспрашивал свою прелестную собеседницу о mandevilia suaveolens.
— Да, у нас еще остался один куст, — говорила Лаура. — В самом начале дорожки, перед домом. Его еще дедушка посадил.
— Вы мне покажете? Я только отведу коня и сразу вернусь.
— Да ладно, я сам его отведу, — сказал Итале, и Санджусто, сунув ему поводья, тут же перемахнул через ограду и, продолжая беседовать с Лаурой, побрел куда-то по мокрому осеннему саду.
— Значит, «больше я в эти игры не играю»? — пробормотал Итале, усмехаясь про себя и ведя в поводу серого коня Санджусто. Он испытывал странное смешанное чувство: нежность и одновременно некоторую враждебность.
Дождливый туманный октябрь напоследок подарил несколько ясных золотых вечеров, а потом наступил холодный ноябрь, и недели через две Итале, проснувшись как-то утром, увидел за окном на фоне серых небес гору Охотник в белой снеговой шапке. В сельскохозяйственных работах наступало обычное зимнее затишье. Несмотря на раскисшие дороги, соседи Сорде по Валь Малафрене часто приезжали к ним в гости; почти каждый день Итале слышал доносившиеся из гостиной женские голоса, в доме постоянно царил гомон, Эва то и дело пробегала мимо него с подносом, неся печенье, клубничное вино, шерри… И несколько раз в неделю Касс запрягал лошадей в двуколку, чтобы отвезти Элеонору и Лауру к Паннесам или Сорентаям. В холодную погоду Гвиде редко выходил из дома, но старался понемногу работать — чинил упряжь, точил ножи, ремонтировал мебель, хотя раньше все это предоставлял делать слугам, а если брался за что-нибудь сам, то успевал сделать буквально за полчаса, еще до завтрака. Гвиде по-прежнему послушно отдыхал в библиотеке в установленные доктором часы, а потом, если в доме не было гостей, приходил в гостиную и сидел там, неторопливо и обстоятельно читая Вергилия, часто отрываясь от книги и о чем-то размышляя. Толстенная «Энеида» сохранилась у него еще со школьной поры, а потом «по наследству» досталась Итале. Это было очень удачное издание, со множеством комментариев и иллюстраций. Гвиде клал книгу на колени и читал, высоко подняв голову, ибо его дальнозоркость уже сильно давала себя знать. Итале никогда прежде не видел, чтобы отец так много читал; ему было странно видеть его в такой неподвижной позе и с чуть ли не на метр отодвинутой от глаз книгой. Казалось, Гвиде не столько читает, сколько впитывает историю Энея, молча проникаясь теплотой, героизмом и болью древних героев «Энеиды». Если приходили гости, Гвиде ласково здоровался с ними, но, побыв немного в гостиной для приличия, вскоре обычно вновь возвращался в ставшую для него привычной тишину библиотеки. Но если в гостиной были только Элеонора, Лаура и Пьера, он тоже оставался там. Итале приходил домой уже в сумерки и, сбросив наконец свою куртку из овчины, с наслаждением окунался в семейную атмосферу. Но до вечера он дома старался не появляться, по-прежнему пребывая во власти непонятного беспокойства, той самой нервной, неразумной энергии, благодаря которой он вернулся из Совены в Красной, пережил шестьдесят часов августовского восстания, успешно бежал из Красноя в Малафрену, сумел практически самостоятельно провести сбор винограда и заготовку вина и вообще пережить всю эту осень. Теперь, когда наступила зима и забот стало гораздо меньше, Итале сам выдумывал себе занятия, уходил на прогулку или на охоту. Домой он решался повернуть, лишь доведя себя чуть ли не до полного изнеможения, и тогда уже с удовольствием сидел у огня, разговаривал с Гвиде о делах, а с Санджусто о событиях в Греции и Бельгии. С женщинами же ему практически не о чем было говорить.
Однажды в декабре Итале вернулся домой довольно рано. Вслед за первым выпавшим снегом прошли дожди, и под ногами было настоящее месиво, а в воздухе висел тяжелый густой туман. Несмотря на свою неугомонную активность и неутомимость, Итале по-прежнему очень мерз и вообще сильно страдал от холода: было такое ощущение, что холод тюрьмы Сен-Лазар пропитал его насквозь и навсегда. В тот вечер он прямо-таки закоченел и сразу направился к горевшему камину. Была суббота; приехали Эмануэль и Пернета, граф Орлант и Пьера; даже Тетушка, которой уже исполнилось сто лет, восседала на высоком стуле с прямой спинкой, держа в руках неизменный клубок красной шерсти. За разговорами не заметили, как наступил вечер и стало совсем темно. Гостиную освещал лишь горевший камин. Санджусто что-то рассказывал о своей жизни в Англии — здесь его рассказы вполне заменяли чтение вслух хорошей книги. В конце концов граф Орлант сделал общий вывод:
— До чего же все-таки прекрасная, предприимчивая нация эти англичане! В астрономии они прямо-таки чудеса совершили.
Гвиде поднял голову и удивленно посмотрел на сына, пробиравшегося мимо его кресла поближе к огню:
— И ты здесь, Итале?
Темная комната, куда заглянула смерть, четыре горящих свечи, тело покойного деда, голос отца, обращенный к нему, испуганному ребенку…
— Да, папа. — Он сел на приступок у камина подле Гвиде и протянул руки к огню, стараясь подавить дрожь; ему казалось, он не согреется никогда.
— Итале, дорогой! — искренне обрадовалась ему мать. — Ты ведь, наверно, страшно голоден? У Эвы что-то там с цыплятами не получается. А со старым Георгом нужно объясняться часами! И в итоге у него хороши только супы, а жаркое из барашка вечно пересушено. Впрочем, толковать с Эвой все равно бесполезно — она правит у нас на кухне уже лет тридцать. Остается только смириться и стареть с нею вместе. Хотя вам, молодым, порой из-за ее упрямства приходится нелегко. Но ничего, зубы-то у вас тоже молодые…
— Дождь все идет? — спросил Итале граф Орлант.
— Идет. Еще сильнее стал.
И прежняя беседа потекла снова. Молчание хранили только Итале и Гвиде.
Но, как оказалось, молчала и Пьера, сидевшая напротив Итале у камина. Она, впрочем, всегда мало говорила, когда собиралась большая компания. Зато с Лаурой — Итале не раз и сам это видел — они могли болтать целыми днями и о чем угодно. В этой же гостиной, или на берегу озера, или за лодочным сараем. Охотно она разговаривала, похоже, только с одной Лаурой. В этот вечер Итале то и дело посматривал на Пьеру, думая о том, почему Санджусто все время твердит, что она хороша собой. Впрочем, итальянцу вообще было свойственно видеть красавицу в каждой женшине. А что, если он, Итале, сам когда-то убедил себя, что внешность Пьеры ничем не примечательна? Нет, если присмотреться, черты лица у нее очень недурны, такое милое нежное личико, а фигура — просто безупречна. И все-таки Пьера простовата! Ничего удивительного: всю жизнь провести в Малафрене и Партачейке, если не считать каких-то двух лет в монастырской школе Айзнара да неудачной помолвки с каким-то вдовцом чуть ли не сорока лет. А сейчас она всю себя отдает разваливающемуся хозяйству, пытаясь сама управлять поместьем. Что же тут странного, что она кажется сухой и бесцветной, как мертвая ветка дерева. Жизнь нанесла ей поражение еще до того, как она смогла вступить с ней в борьбу. Она и жить-то по-настоящему еще не успела начать. Где же ей было взять оружие, с помощью которого можно отбивать атаки безжалостной судьбы, отсрочить неизбежное, бороться, хотя в целом это, конечно же, абсолютно безнадежное сражение. Бедная девочка! Это не ее вина…
Так думал Итале, чувствуя с наслаждением, как жаркий огонь наконец согревает его, как приятно разгорелось лицо, как млеет все тело под рубашкой, становясь послушным и гибким. Пьера, отгородившись рукой от слишком сильного жара, искоса глянула на него. Ее тонкая, изящная рука была вся просвечена красным.
— Что-то ты к нам уже несколько дней не заглядывала? — ласково заметил Итале.
— Уж больно погода была противная, — откликнулась она. — Я, между прочим, наконец-то принесла твою книгу. Все забывала ее вернуть, а тут вдруг вспомнила.
— Какую книгу?
— Твою. Я ее прочитала, и мне она больше не нужна.
Итале изумленно смотрел на нее.
— Ты, наверно, забыл? Когда-то очень давно ты дал мне ее почитать — лет пять назад. Она называется «Новая жизнь».
— Я не почитать ее тебе дал. Я ее тебе подарил!
— Хорошо. В таком случае я возвращаю твой подарок, — упрямо сказала Пьера.
Эмануэль исподтишка наблюдал за ними, сидя боком к камину. Итале казался смущенным. Видно, Пьере надоело его высокомерное отношение. Ведь эта девочка отлично умела любого поставить на место. И она знала, что ее есть за что уважать: она ведь достигла прямо-таки невероятных успехов в умении управлять хозяйством. Берке Гаври, ее послушный помощник, давно признался Эмануэлю, что Пьере всего за два года удалось удвоить доход, получаемый от Вальторсы в наличных деньгах, и теперь она вкладывала деньги в различные усовершенствования. Эмануэль регулярно виделся с нею, когда она приезжала в Партачейку по делам поместья, и несколько раз выступал в качестве ее адвоката или юрисконсульта. Он считал эту девушку не только в высшей степени благоразумной, но и весьма решительной — а в общем, идеальной клиенткой! — хотя и считал втайне, что было бы куда лучше, если бы все эти деловые качества принадлежали не молодой девушке, а мужчине. «У Пьеры исключительно сильная воля», — с удивлением заметил он как-то в разговоре с Пернетой, и та откликнулась: «А ты предпочел бы, чтобы она была покорной дурочкой?» Разумеется, это было несправедливо по отношению к нему со стороны Пернеты! Он молил Бога, чтобы Пьере удалось как-то встряхнуть Итале, вывести его из этого странного молчаливого оцепенения. И пусть ее воля станет еще сильнее, ведь для выполнения подобной задачи ей потребуется не только ум, но и очень сильный характер. Смутить-то Итале было бы легко: мальчик всегда был неосторожным. Но вот добраться до глубин его души, завладеть им, попытаться его переделать — это задача не из легких.
— Пьера, — сказал Итале, — я ведь уже…
— Хочешь, я напишу что-нибудь на ней, чтобы это больше походило на подарок?
— Нет…
— Например, так: «Здесь кончается новая жизнь. От Пьеры Вальторскар — с любовью». Подойдет? Мне и ходить за ней не надо — она вон там, на сундуке, в моей рабочей корзинке.
— Пьера, послушай, это, конечно, было так давно, но…
— Времена меняются.
— Я ее назад не возьму! Можешь ее сжечь, если хочешь! — Итале вскочил и быстро отошел к окну, выходившему на юг. Там он и остался, повернувшись ко всем спиной.
А Пьера продолжала сидеть у камина; половина ее лица была в тени, половина освещена красными отблесками пламени — она специально повернула голову, чтобы видеть Итале. Но за ним не пошла и даже не встала. Руки ее с крепко переплетенными пальцами спокойно лежали на коленях.
Наконец возвестили, что обед готов. Направляясь рядом с Пернетой в столовую, Итале все время смотрел на свою сестру и Санджусто. Лаура и Франческо! Сонеты в честь прекрасной дамы! Нет, это, пожалуй, уже слишком! Какую глупость он совершил, пригласив сюда этого итальянца! Да и Санджусто тоже хорош! Человеку, лишенному дома и цели в жизни, следовало бы как следует подумать, прежде чем начать изображать этакого Петрарку, зная, что его ищет имперская полиция. Неужели они с Лаурой не понимают, что из этого ничего не выйдет? Точно лунатики, не ведающие, куда ступают во сне! Точно увлеченные спектаклем артисты! Вчера, например, Санджусто заявил:
— Жаль, что все мои средства вложены в наше поместье в Пьемонте! По-моему, я мог бы и здесь завести неплохое хозяйство — купил бы, например, акров пятьдесят земли и посадил бы такой вот сад… — Он рассмеялся и, пустив лошадь рысью, запел: — «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…»
Но сейчас, за столом, он был серьезен и, трудясь над бараниной, заметил:
— А знаешь, Итале, твоя сестра, мне кажется, разгадала смысл этого письма Карантая.
Несколько дней назад от Карантая пришло второе письмо; в нем сообщалось о некоторых из их общих друзей, о последних событиях в Красное, а в самом конце, в середине довольно длинной фразы, повествующей о чем-то несущественном, были весьма странные слова: «…поскольку романов я теперь больше не сочиняю…» Они тогда довольно долго обсуждали это письмо и эти слова, потому что зимой любые письма, любые вести извне всегда и непременно обсуждались в Монтайне всеми членами семьи. Были высказаны самые различные предположения относительно смысла данного замечания Карантая, но к окончательному выводу они так и не пришли.
— Мне кажется, — вступила в разговор Лаура, — что Карантай хотел сказать, что он еще не совсем оправился после ранения и пока просто не в состоянии писать. К тому же, похоже, и свадьба его отложена. Да и ты, Итале, сразу сказал, когда мы еще только первое письмо от него получили, что у него почерк очень сильно изменился.
— А что с ним случилось? — спросила Пернета.
— Его ударили саблей по голове во время стычки на улице Палазай.
— Бедняга! — откликнулся граф Орлант.
— Мне казалось, он хотел сказать… — Итале умолк. Рассуждения Лауры казались ему до тошноты правдоподобными. — Нет, только не это! — воскликнул он вдруг.
— Он вполне еще может поправиться, — спокойно возразил Санджусто, как всегда исполненный надежды, но в кои-то веки, сам того не ведая, приоткрывая — возможно, впрочем, это заметил лишь Итале — сущность этого оптимизма и спокойствия: глубокую неизбывную печаль, ставшую непременным условием его жизни.
— Мне очень понравилась его книга, — сказала Пернета, — особенно некоторые места.
— А мне она вся очень понравилась, — сказала Элеонора. — И хорошо бы, Пернета, ты наконец мне ее вернула! Ты ее уже три года привезти забываешь, а мне давно хочется еще раз ее перечитать. Хотя, честно сказать, под конец она становится такой грустной…
— Ты хочешь сказать, Леле, что так ее и не дочитала? — усмехнулся Эмануэль.
— Да, не захотелось. Боялась, что главный герой умрет. Я понимаю, это глупо — плакать над книгами, но я всегда плакала над «Новой Элоизой», а уж над романом Карантая причин плакать куда больше!
— У этой книги счастливый конец, мама, — успокоила ее Лаура, ласково и широко ей улыбаясь.
— Мне всегда казалось, что тот молодой человек — как там его звали? — Лийве, похож на Итале, — сказала Пернета.
— Конечно! Потому-то я и плакала, — попыталась оправдаться Элеонора.
— Между прочим, у Карантая роман был практически написан задолго до того, как мы с ним познакомились, — сказал Итале отчего-то сердито.
— Тем более. Значит, в нем заключена жизненная правда, — заметил Санджусто. — Карантай пишет о своем поколении, которое хорошо знает.
— Никакой жизненной правды в ней нет! — окончательно рассердился Итале. — Это великая книга, но в некотором смысле лживая, хотя сам Карантай — человек абсолютно честный и очень уравновешенный. А вот у героя его книги сплошные взлеты и падения, сплошные преувеличения. Нормальные люди так себя не ведут.
— Но зачем же писать роман о НОРМАЛЬНЫХ людях, начисто лишенных романтики? — спросил Эмануэль.
— Да, конечно… В какой-то степени ты прав. И это, безусловно, прекрасная книга. Лучшее, что у нас есть. Но Карантай мог бы написать… Да нет, он МОЖЕТ написать гораздо лучше!
— И непременно напишет, — уверенно сказал Санджусто, поднимая Свой бокал и как бы предлагая всем выпить за это. — Если будет на то воля божья.
И застольная беседа легко потекла дальше. К столу подавали вкусную сытную еду, которая с удовольствием уничтожалась, вокруг были милые, веселые, родные лица, горели свечи, дом дышал теплом и уютом, но душа Итале не знала покоя. За сегодняшний вечер он дважды испытал настоящее потрясение. Он избегал смотреть на Пьеру и старался не думать о Карантае. Пил он больше обычного, однако прежние мучительные вопросы продолжали терзать его. Вот они все сидят здесь, родные, близкие ему люди, так почему он не может снова войти в их круг? Почему они чувствуют себя дома, а он нет? Что же он сделал такого, что судьба лишает его дома?
— Ты как-то писал нам из Красноя об одном человеке, — вдруг обратился к нему Гвиде, прерывая его тяжкие раздумья и, как всегда, безо всяких предисловий, — который знал моего отца. Кто это?
Итале, застигнутый врасплох, попытался сосредоточиться и описать старого графа Геллескара. И, разумеется, в его описании граф оказался удивительно похож на одного из героев романа Карантая, что за столом было встречено с большим энтузиазмом. Тут же посыпался град вопросов, и Итале, рассказывая о том, как он познакомился с Геллескарами, был вынужден упомянуть Энрике и Луизу Палюдескар.
— Графиня Луиза! — воскликнула Пернета. — Так зовут героиню романа!
— Они совсем не похожи.
— Та, что в книге, очень красива, — заметила с легкой иронией Лаура.
— Настоящая тоже! — очень серьезно, чуть ли не с упреком возразил ей Эмануэль.
— Да, — поддержала его Пьера, — это действительно так. По-моему, Луиза Палюдескар — самая красивая из всех женщин, каких я только встречала в жизни.
— Где же ты ее видела? — вырвалось у Итале. Он был потрясен внезапно пришедшей ему в голову и совершенно невероятной мыслью о том, что Луиза и Пьера могли бы оказаться сейчас в одной комнате.
— В Айзнаре; в доме моего бывшего жениха.
— Я слышала, что она добра, — сказала Элеонора. Она говорила не менее серьезно, чем Эмануэль. — И я рада узнать, что она к тому же еще и очень красива. — И она глянула на сына с легкой тревогой или каким-то затаенным вопросом.
— Она скоро замуж выходит, — сказала Лаура. — Господин Карантай написал Итале об этом.
— Да, за Георга Геллескара. Этой весной, — кивнул Итале.
— Выпьем же за то, чтобы она была счастлива, — предложил Эмануэль, и они дружно подняли бокалы и выпили, а потом заговорили совсем о другом.
Глава 30
На следующий день погода была настолько отвратительной, что в церковь решилась отправиться одна Лаура. Пока она ждала в конюшне, когда Касс наконец запряжет лошадь — лошадь нетерпеливо била копытами и норовила вырваться, а Касс, ругаясь, возился с упряжью, — появился Итале и предложил:
— Давай я тебя отвезу.
— Не беспокойся, милый.
Но он, точно не слыша, шлепнул коня по крупу, заставив его присмиреть, и подал Лауре руку, подсаживая в экипаж. Они ехали в Сан-Лоренц по берегу озера под мелким частым дождем; вдоль дороги торчали голые, исхлестанные ветром деревья. Слева от них за деревьями виднелось серое озеро, казавшееся совершенно плоским.
— Ты давно перестал ходить в церковь? — спросила Лаура.
— Вот я сейчас, например, туда направляюсь, — усмехнулся Итале.
Копыта лошади скользили по жидкой грязи, с ветвей капала вода, а если они случайно задевали ветку, то сверху обрушивался легкий душ.
— Это произошло в тюрьме? — не унималась Лаура. — Пока ты там был, да?
Он ответил не сразу.
— Знаешь, я вообще не мог там думать как следует. Ни одна мысль в голове не удерживалась. И там всегда было темно. Самым близким к Богу занятием для меня там была математика… Да и она не очень-то помогала. А знаешь, что действительно помогало? Далеко не всегда, правда, но все же… Совсем не мысли о Боге. О Нем мне вообще думать не хотелось. А хотелось мне вспоминать о том, как вода в лодочном сарае летним полднем бывает словно подсвечена снизу. Или о наших тарелках… обыкновенных обеденных тарелках, которыми мы пользовались не далее как вчера. Если мне удавалось представить себе эти тарелки, я чувствовал, что могу жить дальше. Вот и все, что касается моей тамошней духовной пищи…
— Если не считать того, что дом созиждет Господь, — прошептала Лаура с улыбкой.
Он не совсем понял, что она имела в виду, но говорить ему больше не хотелось: слишком большого напряжения требовали от него даже малейшие воспоминания о Сан-Лазаре, хотя рассказать хоть что-то о тех ужасных годах Лауре было для него большим облегчением. Дальше они ехали молча.
В часовне Святого Антония уже собрались прихожане из Вальторсы: Пьера, Берке Гаври, Мария, две-три горничных и кучер Годин. В маленькой часовне было ужасно холодно и царил какой-то серый полумрак. Пока шла месса, Итале садился, вставал и преклонял колена со всеми вместе. И только когда отец Клемент затянул «Credo in unoom Deoom!»,
[32] ему вдруг захотелось рассмеяться от неожиданно охватившей его радости. Он понял, что имела в виду Лаура. Он понял, почему она могла сказать: «Моя свобода — это ты», понял то, чего не понимал раньше: это она — его свобода, и нельзя насовсем покинуть свой родной дом, пока он у тебя есть, пока у тебя есть такой дом, который ты всегда можешь покинуть. Ибо кто строит этот дом, для кого он построен, зачем его так берегут?
После службы отцу Ктементу, как всегда, захотелось поговорить с Лаурой. Итале ждал сестру на крыльце часовни. Старая Мария и горничные из Вальторсы тоже стояли на крыльце и ждали Година и Гаври, которые должны были подогнать к крыльцу повозку. Вскоре из церкви вышла Пьера, кутаясь в шаль. Она, быстро глянув на Итале, как всегда, вежливо поздоровалась и прошла мимо, спустившись с крыльца навстречу ветру и дождю. Но идти ей, собственно, было некуда, так что она остановилась посреди грязного двора у церковных ворот и стояла спиной к ним, маленькая, гордая, прямая. Итале подошел к ней.
— Почему бы тебе не подождать на крыльце?
Она не ответила и не обернулась.
— Ты все-таки лучше уйди под крышу, а я здесь постою, хорошо? — сказал он ласково, хотя и чуть насмешливо.
Она вскинула на него свои ясные глаза. Похоже, она плакала. А может, глаза ее просто слезились от ветра?
— Как хочешь, — промолвила она тихо и вернулась на крыльцо. Наконец Гаври подогнал повозку, обитатели Вальторсы уселись в нее, и повозка покатилась по знакомой дороге под соснами.
А Итале все стоял, опершись об ограду, и смотрел на озеро, на темные далекие горы. Ветер слепил глаза. Серые тучи быстро неслись прямо над головой, бесконечные, как бурный поток, но абсолютно бесшумные. Итале почему-то вспомнил небо над тюремным двором Сен-Лазара и о том, как во время прогулок над ним всю зиму неслись такие вот тучи — одну зиму, вторую, третью… Ко всему равнодушные, безучастные, прекрасные тучи… Нет, беречь в этой жизни ему было нечего. Жизнь пролетала, как эти тучи. Кто-то путешествует, кто-то остается дома, и порой они все же случайно встречаются, и в этих кратких встречах заключена вся цель путешествий первого и все верное ожидание второго. Но и то, и другое подобно — по форме и движению — серым тучам в небесах…
В нескольких метрах от Итале, за калиткой церковного кладбища, лежала могильная плита, на которой было начертано имя его деда, его, Итале, имя. И он вдруг вспомнил то мгновение — когда вчера вечером все сидели в гостиной, а он вошел и стал тихонько пробираться к камину, и отец сказал ему: «И ты здесь, Итале?» Вчера эти слова всколыхнули в нем еще свежие, страшные воспоминания. Но сейчас это уже не казалось ему таким ужасным. «Да, я здесь», — сказал он ветру.
Наконец Лаура вышла на крыльцо, и он поспешил за часовню, чтобы подогнать двуколку. Когда они ехали назад, ветер стал слабее, небо посветлело, дождь почти перестал и что-то тихо шептал над дорогой, пеленой проплывая над лесом и озером. Горы были полны таинственных звуков.
Зима была очень сырой, но снега выпало мало, и весна пришла рано. Уже к середине марта, когда северные ветры расчистили небо, лес покрылся зеленоватой дымкой, на концах темных ветвей проклюнулись молодые листочки, и такой же ясный зеленоватый свет волнами лился от озера по утрам, особенно в ветреную погоду. Поскольку в день весеннего равноденствия с утра лил дождь, Лаура и Итале отложили задуманную давно поездку в Эвальде, надеясь, что скоро наступят погожие деньки. Однако до начала
апреля дожди шли, практически не переставая, и за это время Лаура успела, не посоветовавшись с братом, пригласить буквально всех поехать вместе с ними в Эвальде, в том числе и Санджусто. Даже старый граф Вальторскар принял ее приглашение. Итале очень рассердился. Он предвкушал, что эта поездка будет такой, как в детстве, — то есть они поплывут туда одни, на заре, в маленькой лодке, соблюдая все правила давно установленного ими ритуала, который для них всегда означал начало настоящей весны. Ему казалось, что и Лаура думает так же. Но теперь эта немного таинственная поездка превращалась в обыкновенное развлечение, в пикник на том берегу озера у входа в пещеры. Все это совершенно бессмысленно. Да к тому же, несомненно, придется испытывать определенное напряжение, поскольку Пьера тоже поедет. С тех пор как он смотрел вслед ее повозке, медленно удалявшейся под соснами от часовни Святого Антония в тот зимний день, он чувствовал, что непременно должен объясниться с нею, но совершенно не представлял, что именно хочет ей сказать, да и догадаться о том, что бы она хотела от него услышать, был не в состоянии, поскольку сама Пьера вообще не желала с ним разговаривать.
Пять человек — это для «Фальконе» было слишком много, и было решено плыть на «Мазеппе». Это была последняя соломинка. Итале категорически отказался плыть на тот берег на такой корове! Нет, он поплывет только на своей собственной лодке и сам будет ею править! Он так и заявил тоном, не терпящим возражений. Так что в итоге он действительно тем апрельским утром плыл на «Фальконе», на четверть мили обогнав тяжеловесную «Мазеппу». И на руле у него сидела Пьера.
Они проплыли не меньше мили, прежде чем произнесли хоть слово. Да и то Итале говорил ей лишь, куда повернуть руль, пытаясь поймать свежий попутный ветер. Теперь «Фальконе» уверенно летела по волнам, и дом, оставшийся позади, становился все меньше, прячась в тени огромной горы Сан-Дживан. Грохот водопада уже на середине озера стал слышен довольно отчетливо, такая вокруг стояла тишина. Пьера не выпускала из рук весло и смотрела назад. Итале был виден лишь ее темноволосый затылок.
— Жаль, что ветер такой слабый, — сказала она вдруг. — Если бы он был посильнее, можно было бы плыть так до самого Кьяссафонте!
— Чтобы туда доплыть, даже при попутном ветре понадобится целый день, — откликнулся Итале.
Она посмотрела на него: он, скинув куртку, встал на ноги и принялся распутывать чалку. Худой, длинноногий, он держался уверенно, и яркое апрельское солнце играло в его волосах, грея ему спину и руки, сверкая на озерной воде у него за спиной, скользя по горным склонам на той стороне озера. Ветер ерошил каштановые волосы Итале, которые снова отросли и падали ему на глаза; и он откидывал их назад хорошо знакомым ей жестом.
— А кто-нибудь плавал отсюда до Кьяссы?
— Пьер Сорентай как-то раз отправился туда на веслах, да едва успел от деревни отойти и на скалу налетел.
— Хой! Хой! Эй, на «Фальконе»! — донесся до них голос графа Орланта.
— Вон там папа руками машет и что-то кричит, — засмеялась Пьера.
— Может, повернем?
— Нет уж, — решительно заявила она. И действительно, вскоре крики, доносившиеся с «Мазеппы», прекратились. — Надеюсь, они там не тонут? — насмешливо сказала Пьера, все же вглядываясь в силуэт «Мазеппы».
— Нет, конечно. Просто они нам завидуют, — сказал Итале; на душе у него становилось все легче, словно этот ветер и солнечный свет уносили прочь все мрачные мысли. Вот только ветерок, к сожалению, начинал стихать. Озеро лежало впереди, гладкое как зеркало.
— Нам, наверно, придется дальше идти на веслах? — спросила Пьера.
— Возможно. Особенно когда зайдем с подветренной стороны Охотника.
— Такая тишь!.. Точно в воздухе плывешь…
Но попутный ветер все же продержался, пока они не вошли в пролив Эвальде и не укрылись в тени нависавшей над ним горы. Здесь воздух был почти горячий, над водой висело полуденное марево, прозрачная коричневатая вода казалась совершенно неподвижной. Итале сел на весла, правя прямо к темным утесам и черным базальтовым скалам на берегу. Шум водопада заглушал теперь все остальные звуки, но видеть его они не могли — его скрывал утес, в котором поток, падая с высоты, пробил глубокую и узкую расщелину.
— Грести тяжело, как в масле, — сказал Итале почему-то шепотом, наверное, из-за странной тишины, царившей вокруг. Эта тишина была бы абсолютной, если бы не глухой рокот водопада и слабое журчание реки, впадавшей в озеро.
Они причалили к покрытой галькой небольшой косе справа от скалы Отшельника. Итале осушил весла и минутку просто посидел, передыхая, прежде чем вытащить лодку на берег.
— Выдохся, — бросил он, не глядя на Пьеру.
Она молча достала из-под банки на корме черпак и, зачерпнув в него до краев прозрачной озерной воды, протянула ему. Он взял ковш и стал пить.
Потом одним мощным рывком весел подогнал лодку к самому берегу и, когда по днищу заскрипела галька, прыгнул в воду и вытянул лодку так далеко на косу, что Пьера могла теперь сойти на землю, не замочив ног. Расчет его был превосходен, движения уверенны и красивы, и он, улыбаясь от удовольствия, протянул Пьере руку, помогая ей выйти из лодки.
А «Мазеппа» еще только входила в залив — черное пятно на сверкавшей воде.
— Интересно, они уже сели на весла?
Итале, дальнозоркий, как Гвиде, прищурился и сказал:
— Да.
— Значит, завтрака пока не будет.
Невидимый водопад глухо грохотал над притихшим озером.
— Давай поднимемся на самый верх. Откуда падает вода.
Узкая извилистая тропинка вела мимо скалы Отшельника. Пьера лезла вверх очень решительно, ловко двигаясь в своей темно-красной юбке, и, даже не замедляя шаг, легко перепрыгивала с одного валуна на другой; порой из-под ее ног с шумом скатывался вниз камень. Итале, немного отстав от нее, поднялся на вершину и застыл, потрясенный: все вокруг было залито солнечным светом; река, вырываясь из пещеры, бросалась вниз почти вертикально и падала в озеро. Зрелище было настолько завораживающим, что они продолжали смотреть на водопад, даже когда закружилась голова и заложило уши. Но потом все же отошли в сторонку и присели на валуны под невысоким отвесным утесом с внешней стороны пещер. Темная скала вся дрожала, точно от далекого грома: то был рев заключенной в темницу реки.
— А они догадаются, что мы здесь?
— Лаура их приведет. Мы всегда сюда поднимаемся.
Пьера вскочила, пытаясь разглядеть вторую лодку сквозь ветви росших внизу сосен. Пронизанный солнцем теплый воздух был напоен хвойным ароматом. Пьера беспокойно бродила по краю обрыва у самого водопада.
— Пьера, что это?
— Где?
Она медленно подошла к нему, прислушиваясь к голосам, уже доносившимся снизу сквозь глухой рев водопада. Итале протянул ей цветущую веточку какого-то горного растения. Она взяла ее и, слегка вздохнув, села с ним рядом.
— Не знаю. Красиво! Похоже на цветущий папоротник.
— Я этот кустарник только здесь встречал.
Пьера продолжала сидеть, задумчиво вертя в руках цветущую веточку и рассеянно глядя на хаотически разбросанные валуны, на высокие сосны, растущие меж скал, на сверкающую между ветвями гладь озера. Солнце висело сейчас точно в зените, и густо-синее небо казалось горячим, а поляна, на которой они сидели, в лучах яркого солнечного света была похожа на каменную чашу.
— Пьера, мне нужно спросить тебя… Лаура любит его?
— Конечно, — ответила она, не оборачиваясь.
— Франческо говорил со мною вчера вечером. Он сказал, что, если я скажу «нет», он не станет настаивать, даже с отцом разговаривать не станет. Я не знаю, как мне поступить.
Теперь она повернулась и наблюдала за ним, но в глазах ее не было ни упрека, ни насмешки, которых он так боялся.
— Решать, разумеется, будет сама Лаура, — снова заговорил Итале. — Но все это страшно огорчит отца. И не без оснований. Франческо — человек, не имеющий дома; он полностью зависит от тех средств, которые может выслать ему сестра. Кроме того, Австрия, по-моему, готова продолжать на него охотиться хоть до скончания веков. Он мог бы, конечно, уехать во Францию или в Англию, но что там будет делать Лаура? Она ведь никогда не хотела уезжать из Малафрены… А я привез Франческо сюда, так что вся ответственность лежит на мне, а я не знаю даже, что мне ему сказать!
— А почему бы, собственно, Лауре и не уехать из Малафрены? Между прочим, это я всегда хотела здесь остаться. А ей как раз всегда хотелось уехать, повидать мир. Ее дом будет там, где будет ее любимый.
Итале помолчал, потом воскликнул:
— Но он же не может сейчас уехать! Его ведь сразу арестуют на границе.
— А может, и не арестуют — особенно если он поедет в сопровождении жены и под другой фамилией, — вкрадчивым тоном заметила Пьера, сильно удивив этим Итале.
— Так вы с Лаурой все это уже обсудили?
— Ну, не это… На эту тему мы с ней практически вообще не говорили. Я знаю только, что она его любит. А почему бы им просто не остаться здесь? Если они сами захотят, разумеется. Например, у нас в старом флигеле никто не живет. Я, кстати, давно хотела привести его в порядок. К тому же Франческо, безусловно, способен принести немалую пользу, занимаясь сельским хозяйством.
— Да, это верно, — смущенно согласился Итале.
— Ты мог бы сделать его своим партнером.
— Партнером?
— Ну да. И если бы кто-то из вас захотел вдруг снова уехать, скажем, в Красной, то второй мог бы остаться и управлять поместьем.
— Пожалуй…
— А поскольку наш флигель давно пустует, они могли бы жить там. Я была бы рада, если бы в этом домике вновь появилась жизнь и кто-то о нем заботился.
— Погоди-ка минутку, — сказал Итале и тут же быстро заговорил сам: — Все это представляется вполне возможным и осуществимым, но ты, должно быть… немало думала об этом?
— Конечно!
Голос у нее вдруг дрогнул. Он внимательно посмотрел на нее; он был просто потрясен, хотя лицо его оставалось мрачным и каким-то застывшим.
— Я тоже кое о чем хотела тебя спросить… — промолвила Пьера и умолкла: она чувствовала, что из-за попыток все время держать себя в руках голос ее звучит чересчур пронзительно. Итале ободряюще кивнул, готовясь слушать, но она заговорила далеко не сразу. — Знаешь, всему этому есть так много причин… Привычка. Земли, расположенные по соседству. Ну и так далее… По-моему, взрослые обсуждали эту тему, когда мы еще были детьми. Люди всегда так делают. Извини, что я так отвратительно разговаривала с тобой тогда, в тот зимний вечер. Это было ужасно глупо! Вообще-то я просто пыталась высказать тебе то же самое, что скажу сейчас, но не сумела. Наши близкие думают и будут продолжать думать, что мы с тобой… что мы могли бы пожениться. Да только они ошибаются! И именно это, по-моему, мешает нам быть друзьями. — Тоненький напряженный голосок дрожал все сильнее, напоминая рябь, бегущую по воде, однако звучал по-прежнему чисто. — А я бы очень хотела быть тебе другом, Итале!
— Ты и так мой друг, — почти прошептал он; но сердце его говорило иное: ты — мой дом, моя родина; ты — мое странствие и его конец; о тебе — все мои заботы, и рядом с тобой так хорошо отдохнуть после долгой дороги.
— Хорошо, — сказала она и наконец перевела дыхание. Некоторое время оба молчали, сидя на траве в лучах жаркого полуденного солнца. — Но ты ведь когда-нибудь снова захочешь вернуться туда, верно?
— Да. Когда смогу.
— Ладно, — сказала она и вдруг улыбнулась. — Я просто не была уверена…
— Значит, ты все-таки оставишь у себя «Новую жизнь»?
— Я же извинилась! — сердито напомнила она.
— Сюда, поднимайтесь сюда, граф Орлант, — послышался в соснах на берегу голос Лауры.
— Ты должна оставить ее у себя! — настойчиво повторил Итале. — Я ведь не понимал, почему уехал отсюда, пока не вернулся назад: мне необходимо было вернуться, чтобы понять, что снова придется уехать, что я еще и не начинал ее, эту новую жизнь. Что я только ее начинаю. Так, видно, и умру, начиная, но не начав. Ну что, сохранишь эту книгу для меня, Пьера?
— Вот они где! — возвестил Санджусто, появляясь на тропе.
Несколько секунд Пьера смотрела Итале прямо в глаза, потом неловко вскочила и двинулась навстречу остальным.
— Ну и ну! — сказал граф Орлант, тяжело поднимаясь на площадку у водопада. — Вот это прогулка! Здравствуй, дочка!
— Вам пришлось на веслах идти? Вы так долго плыли!
— Да уж, пришлось. Мы с Лаурой очень старались, но все равно за господином Санджусто не успевали и плавали по кругу.
— А я думала, вы спрячетесь от жары в пещеру, — сказала Лаура. — Здесь так жарко! Прямо лето!
— Съешь яблочко, у тебя все лицо малиновое, — сказал Санджусто, роясь в корзине с припасами.
— Как это мило с твоей стороны! С удовольствием съем! Мы завтракать прямо сейчас будем?
— Да, — сказал Итале. — И как следует!
— А я сперва хочу осмотреть пещеры, — заявил Санджусто, мощно потягиваясь, разминая свои сильные руки и с восторгом оглядываясь вокруг.
— Тогда дай и мне яблоко, fratello mio.
[33]
— Дай ему глотнуть из бутылки, — посоветовал граф Орлант, — а потом в утешение дай ему яблочко. Так что, вы пойдете в пещеры?
— А вы разве не с нами, граф?
— Нет уж! Я хочу наконец посидеть спокойно. Пещеры, водопады и все такое прочее — это для молодых. А мне предоставьте возможность с удовольствием позавтракать в одиночестве. Ступайте же! Или вы боитесь, что я все съем?
— Ладно, мы через полчаса вернемся.
— Надень шляпу, если будешь сидеть на солнце, папа!
— Оставьте нам все же хотя бы несколько костей и обрезков, граф!
— Идите же, идите!
РАССКАЗЫ ОБ ОРСИНИИ
(сборник)
Орсиния — место выдуманное, где вершатся небывалые события и люди заново решают вечные вопросы. Наиболее удались писательнице исторические, подобные притчам рассказы входящие в этот сборник.
Фонтаны
Они знали — сами специально предоставив ему такую возможность — что доктор Керет вполне может попытаться искать в Париже политического убежища. А потому на самолете, летевшем на запад, в гостинице, на улицах, во время конференции, даже когда доктор выступал с докладом на заседании сектора цитологии — всегда неподалеку маячили какие-то неведомые ему личности, которые при необходимости представлялись как аспиранты или хорватские микробиологи, однако ни собственного имени, ни собственного лица не имели.
Поскольку присутствие доктора не только придавало вес делегации его родной страны, но и, в известной степени, являлось блестящим примером демократизма ее правительства — видите, мы даже ему разрешили приехать! — правительство и сочло его поездку в Париж выгодной для себя; однако агенты не спускали с доктора глаз. Впрочем, он к этому привык. В его маленькой стране за человеком переставали следить, только если он полностью замирал — переставал двигаться, говорить и мыслить. А Керет всегда был беспокойным, заметным. И потому, когда вдруг на шестой день своего пребывания в Париже, средь бела дня, во время многолюдной экскурсии он обнаружил, что каким-то образом отстал от остальных, то даже чуточку смутился. Неужели для этого достаточно было сделать всего несколько шагов в сторону по какой-то тропке?
Все это произошло в самом неподходящем для бегства месте. Огромный, пустынный, внушающий ужас дворец высился у него за спиной, желтый от золотистых лучей полдневного солнца. Тысячи разноцветных гномов сновали по террасам раскинувшегося вокруг парка, а дальше голубел абсолютно прямой, уходящий в немыслимую даль сентябрьского неба канал. Газоны были окаймлены купами каштанов тридцатиметровой вышины деревьев, старых, благородных, суровых, насквозь просвеченных солнцем. Они только что бродили под этими деревьями по тенистым дорожкам для верховой езды, где некогда совершали прогулки давно умершие короли, а потом экскурсовод снова вывел их группу на солнце, на выложенные мраморными плитами дорожки среди газонов. И тут прямо перед ними сверкая взлетели в воздух струи фонтанов.
Фонтаны били и пели где-то в светлой вышине над мраморными бассейнами. Небольшие уютные комнаты дворца, огромного как город, в котором никто не жил, равнодушие благородных деревьев, единственно подходящих обитателей этого слишком большого для людей парка, непреходящее ощущение осени и прошлого — все мгновенно было приведено в равновесие бьющими ввысь струями воды. Механические, точно записанные на пластинку голоса экскурсоводов смолкли, глаза экскурсантов, стремящиеся все как бы сфотографировать на память, наконец остановились и стали смотреть. Фонтаны, шумно ликуя, взлетали и обрушивались с таким шумом, точно уносили прочь саму смерть.
Они работали сорок минут. Потом затихли. Лишь короли могли позволить себе роскошь постоянно созерцать великие фонтаны Версаля в действии и жить вечно. А всяким республикам следовало знать свое место и свои возможности. Так что высокие белые водяные ракеты неуверенно вздрогнули и опали. Высохли груди нимф, водяные божества развезли, задыхаясь, рты, похожие на черные дыры. Ликующий глас взлетающей в небеса и падающей на землю огромной массы воды сменился слабым шелестом, неуверенным кашлем, вздохами. Все кончилось, и каждый из зрителей вдруг словно остался наедине с самим собой. Адам Керет повернулся, увидел перед собой тропу и пошел по ней — прочь от этих мраморных террас, под сень деревьев. За ним никто не последовал; вот в это-то мгновение, хотя сам он ничего сразу не заметил и не понял, он и совершил бегство, нарушив правила игры.
Теплые лучи послеполуденного солнца, падая на тропу сквозь деревья, расчертили ее полосами; по этим полосам света и тени рука об руку шли юноша и девушка. А за ними, сильно отставая и в полном одночестве, тащился Адам Керет. По щекам его бежали слезы.
Вскоре полосы теней, отбрасываемых деревьями, исчезли, и Керет обнаружил, что теперь тень отбрасывает только он сам — тропа кончилась, влюбленные исчезли, вокруг был залитый солнцем простор, а где-то далеко внизу виднелось множество деревьев в кадках. Он догадался, что вышел на террасу, находившуюся прямо над оранжереей. К югу простирались бескрайние леса, прекрасные леса Франции, озаренные осенним закатом. Здесь больше не трубили рога охотников, поднимая под королевский выстрел волка или дикого кабана; время великих забав миновало. Единственные, кто оставлял здесь следы, это юные влюбленные, что приезжали на автобусе из Парижа, гуляли среди деревьев и исчезали.
Безо всякой цели, все еще не сознавая того, что нарушил правила и совершил побег, Керет побрел назад по широким аллеям — к дворцу, который в наступающих сумерках казался уже не желтым, а бесцветным, словно утес над морским пляжем в тот час, когда уходят домой последние купальщики. Из-за дворца доносился приглушенный рев, похожий на шум прибоя — это заводили свои моторы автобусы, отправлявшиеся назад, в Париж. Керет остановился. Еще несколько крохотных фигурок суетились на террасах среди умолкнувших фонтанов. Где-то далеко слышался голос женщины, окликавшей ребенка, жалобный, как крик чайки. Керет резко повернулся и, не оглядываясь, устремился прочь, в густую сумеречную тень под деревьями, теперь уже убегая вполне сознательно и совершенно намеренно держась прямо, словно человек, который украл что-то — ананас, кошелек, буханку хлеба — прямо с магазинного прилавка и спрятал украденное под полой.
— Это мое, — сказал он вслух, обращаясь к высоким каштанам и дубам и чувствуя себя среди них, как вор среди полицейских. — Это мое! — Однако французские дубы и каштаны, посаженные для аристократов, никак не ответили на это яростное заявление представителя какой-то республики, да к тому же сделанное на чужом языке. Но все же их сумеречная тень, словно молчаливая соучастница, окутала его со всех сторон — как всегда лес укрывал беглеца.
В роще он пробыл недолго, от силы час или около того; ворота должны были вскоре запереть, а ему вовсе не хотелось оказаться запертым здесь. Он был здесь вовсе не для того, чтобы его заперли. Так что еще до наступления темноты Керет уже снова шагал по террасам, по-прежнему прямой и спокойный, точно король или прячущий под полой украденное воришка. Он обогнул огромный, бледный, глядевший множеством окон дворец, похожий на утес, и двинулся по усыпанной гравием дорожке дальше — как по морскому пляжу, над которым этот утес возвышался. Один автобус все еще что-то ворчал на стоянке — но он оказался синим, а не серым, вызывавшем в Керете ужас. Его автобус ушел! Ушел, унесен волнами в морской простор вместе с экскурсоводом, коллегами доктора Керета, здешними его знакомыми-микробиологами и тайными агентами. Все они исчезли вместе с автобусом и оставили Версаль в полном его распоряжении. Рядом с ним Людовик XIУ, казавшийся меньше ростом из-за того, что сидел на немыслимо громадном коне, точно утверждал существование этой абсолютной привилегии. Керет поднял голову и посмотрел на бронзовое лицо короля, на большой бронзовый нос Бурбонов — так малыш смотрит порой на старшего брата: любящим и чуть насмешливым взглядом. Керет вышел из ворот, заглянул в кафе на противоположной стороне дороги, ведущей в Париж, и сестра его принесла ему вермут, который он выпил, сидя под сикоморой за пыльным, выкрашенным зеленой краской столом. Ветер, дувший с юга, из тех лесов, был пропитан чуть горьковатыми ароматами ночи, осени и опавшей листвы. Вкус его напоминал вкус вермута.
Чувствуя себя совершенно свободным, он сам выбрал тропу и, когда ему этого захотелось, пошел на станцию пригородной электрички, купил билет и вернулся в Париж. На какой станции метро он вышел, не знает никто, возможно, даже он сам; он не помнил и того, по каким улицам скитался во время своего бегства. В одиннадцать часов вечера он стоял на мосту Сольферино у парапета — невысокий мужчина сорока семи лет в дрянном костюме; свободный человек. Он смотрел, как дрожат, отражаясь в темной воде спокойно текущей реки, огни моста Сольферино и других, дальних мостов. Вдоль реки по обоим ее берегам располагались возможные убежища: это дом правительства Франции, а там — посольства Америки и Англии… Он прошел мимо всех этих зданий. Наверное, было уже слишком поздно, чтобы стучаться куда-либо. Стоя на мосту между правым и левым берегом, он думал: Все, больше никаких убежищ не осталось. Как не осталось ни королевских тронов, ни волков, ни кабанов; даже африканские львы вымирают. Единственным безопасным убежищем для них является зоопарк.
Но он никогда особенно не заботился о собственной безопасности, а теперь подумал, что не особенно заботился и об убежище, обретя нечто значительно более ценное: свою семью, свое наследие. А здесь он по крайней мере прогулялся по саду, который больше чем жизнь, по тем дорожкам, где до него гуляли его старшие — коронованные — братья. После такой прогулки он, конечно же, никак не мог спрятаться в зоопарке. И Керет пошел по мосту дальше, под темные арки Лувра, возвращаясь в свою гостиницу и понимая теперь, что одновременно был и королем, и вором, а потому везде чувствовал себя как дома, а к родине его привязывала всего лишь обыкновенная верность. Да и что еще способно воздействовать на человека в наши дни? Царственной походкой Керет проследовал мимо агента тайной полиции, торчавшего в вестибюле гостиницы; за пазухой он прятал украденные, неиссякающие фонтаны Версаля.
Курган
Ночь спустилась по заснеженной дороге, идущей с гор. Тьма поглотила деревню, каменную башню Замка Вермеа, курган у дороги. Тьма стояла по углам комнат Замка, сидела под огромным столом и на каждой балке, ждала за плечами каждого человека у очага.
Гость сидел на лучшем месте, на угловом сиденье, выступающем с одной стороны двенадцатифутового очага. Хозяин, Фрейга, Лорд Замка, Граф Монтейн, сидел со всем обществом на камнях очага, хотя и ближе к огню чем остальные. Скрестив ноги, положив свои большие руки на колени, он упорно смотрел на огонь. Он думал о самом худшем часе, который он узнал за свои двадцать три года, о поездке на охоту, три осени назад, к горному озеру Малафрена. Он думал о том, как тонкая стрела варваров воткнулась в горло его отца; он помнил как холодная грязь текла у него по коленям, когда он преклонил колени у тела его отца в камышах, в окружении темных гор. Волосы его отца слегка шевелились в воде озера. И был странный вкус у него во рту, вкус смерти, как будто облизываешь бронзу. Он и теперь ощущал вкус бронзы. Он слушал женские голоса в комнате наверху.
Гость, путешествующий священник, рассказывал о своих путешествиях. Он пришел из Солари, внизу на южных равнинах. Даже купцы имели там каменные дома, сказал он. У баронов были дворцы и серебряные блюда, и они ели ростбиф. Вассалы Графа Фрейга и его слуги слушали раскрыв рты. Фрейга, слушая, чтобы занять время, хмурился. Гость уже пожаловался на конюшни, на холод, на баранину на завтрак, обед и ужин, на ветхое состояние Капеллы Вермеа и на службу Обедни, говоря так: «Арианизм!» — что он бормотал, втягивая воздух и крестясь. Он говорил старому Отцу Егусу, что все души в Вермеа были прокляты: они получили еретический баптизм. «Арианизм, Арианизм!» — прокричал он. Отец Егус, съежившись, думал что Арианизм есть дьявол, и пытался объяснить, что никто в его приходе никогда не был одержим, кроме одного из баранов графа, который имел один желтый глаз, а другой голубой, и боднул беременную девушку, так что она выкинула своего ребенка, но они побрызгали святой водой на барана и с ним более не было проблем, он действительно стал хорошим бараном, и девушка, которая была беременна, не состоя в браке, вышла замуж за хорошего крестьянина из Бара и родила ему пятерых маленьких Христиан в один год. — Ересь, прелюбодеяние, невежество! — ругался чужеземный священник. Теперь он молился двадцать минут прежде чем есть его баранину, забитую, приготовленную и поданную руками еретиков. «Что он хотел?» — подумал Фрейга. — «Ожидал ли он удобств зимой? Думал ли он, что они язычники, с этим его «Арианизм»? Нет сомнений, что он никогда не видел язычников, маленьких, черных, ужасных людей Малафрена и отчих курганов. Нет сомнений, что в него никогда не выпускали поганую стрелу. Это бы научило его различать язычников и Христиан», — думал Фрейга.
Когда гость казалось кончил хвастаться, до поры до времени, Фрейга сказал мальчишке, который лежал рядом с ним, подперев подбородок рукой:
— Спой нам песню, Гилберт.
Мальчишка улыбнулся и сел, и начал высоким, приятным голосом:
— Король Александр ехал впереди, В золотых доспехах был Александр, Золотые наголенники и огромный шлем, Его кольчуга вся была выкована из золота.
В золотом убранстве шел король, Христа призывал он, крестом себя осеняя, В холмах вечером.
Авангард армии Короля Александра Ехал на своих лошадях, великое множество, Вниз к равнинам Персии, Чтобы убивать и порабощать, они следовали за Королем, В холмах вечером.
Долгое монотонное пение продолжалось; Гилберт начал с середины и заканчивал на середине, задолго до смерти Александра «в холмах вечером». Это не имело значения, они все знали ее с начала и до конца.
— Почему вы заставляете петь мальчишку о поганых королях? — сказал гость.
Фрейга поднял голову.
— Александр был величайшим королем из Христианского мира.
— Он был греком, языческим идолопоклонником.
— Без сомнения вы знаете, что песня отличается от того, что мы делаем, — вежливо объяснил Фрейга. — Как мы поем: «Христа призывал он, осеняя себя крестом.»
Некоторые из мужчин улыбнулись.
— Может ваш слуга споет нам лучшую песню, — добавил Фрейга, чтобы его вежливость была искренней. И слуга священника, не заставив себя долго упрашивать, начал гнусаво петь духовную песню о святом, который жил двадцать лет в отчем доме, не узнанным, питаясь объедками.
Фрейга и его домочадцы слушали зачарованно. Новые песни редко доходили до них. Но певец скоро остановился, прерванный странным пронзительным воем откуда-то снаружи комнаты. Фрейга вскочил на ноги, вглядываясь в темноту холла. Затем он увидел, что его люди не двинулись, что они в молчании смотрят на него. Снова негромкий вой послышался из комнаты наверху. Юный граф сел.
— Закончи свою песнь. — сказал он.
Слуга священника быстро пробормотал остальную часть песни. Тишина сгустилась, когда он ее кончил.
— Ветер поднимается, — тихо сказал мужчина.
— Злая это зима.
— Снега по бедра, идя через проход от Малафрены вчера.
— Это их рук дело.
— Кого? Горного народа?
— Помнишь распотрошенную овцу, которую мы нашли прошлой осенью? Касс сказал тогда, что это дьявольский знак. Они были убиты для Одна, он имел в виду.
— Что еще это должно означать?
— О чем вы говорите? — потребовал чужеземный священник.
— Горный народ, сэр Священник. Язычники.
— Что за Одн?
Пауза.
— Ну, сэр, может лучше не говорить об этом.
— Почему?
— Ну, сэр, как вы говорите в песне, святые разговоры лучше, к ночи. — Касс, кузнец, говорил с достоинством, только поглядывая наверх, чтобы указать на комнату над головой, но другой, парнишка с болячками вокруг глаз, пробормотал:
— Курган имеет уши, Курган слышит…
— Курган? Тот холмик у дороги, вы имеете в виду?
Молчание.
Фрейга повернулся лицом к священнику.
— Они убивают для Одна, — сказал он мягким голосом, — на камнях, рядом с курганами в горах. Что внутри курганов, никто из людей не знает.
— Бедные язычники, нечестивцы, — печально пробормотал отец Егус.
— Камень для алтаря в нашей капелле пришел от Кургана, — сказал Гилберт.
— Что?
— Закрой свой рот, — сказал кузнец. — Он имеет в виду, сэр, что мы взяли камень на вершине горки из камней, рядом с Курганом, большой камень из мрамора, Отец Егус освятил его, и нет в нем зла.
— Прекрасный камень для алтаря, — согласился Отец Егус, кивая и улыбаясь, но в конце фразы еще один вой зазвенел наверху. Он пригнул голову и зашептал молитвы.
— Вы молитесь тоже, — сказал Фрейга, смотря на путника. Он нагнул голову и начал бормотать, поглядывая на Фрейгу уголком глаза.
В Замке было немного тепла, и кроме того, что давал очаг, и рассвет застал большинство из них на том же месте: Отец Егус свернулся как древний соня в камышах, странник свалился в своем закопченном углу, руки сложены на животе, Фрейга растянулся, лежа на спине, как человек, срубленный в сражении. Его люди похрапывали кругом него, во сне начиная было, но не заканчивая жестов. Фрейга проснулся первым. Он перешагнул через тела спящих и поднялся по каменным ступенькам на верхний этаж. Ренни, акушерка, встретила его в аванзале, где несколько девушек и собак спали на груде овечьих шкур.
— Нет еще, граф.
— Но уже прошло две ночи.
— Ах, она только начала, — сказала акушерка оскорбленно. — Должна же она отдохнуть, разве нет?
Фрейга повернулся и тяжело спустился вниз по витой лестнице. Женская оскорблённость тяготила его. Все женщины, все вчера; их лица были суровы, они были поглощены в свои мысли; они не обращали внимания на него. Он находился снаружи, за бортом, незначительный. Он не мог ничего сделать. Он сел за дубовый стол и закрыл лицо руками, стараясь думать о Галла, его жене. Ей было семнадцать; они были женаты десять месяцев. Он думал о ее круглом белом животе. Он пытался думать о ее лице, но не было ничего кроме вкуса бронзы на его языке.
— Дайте что-нибудь поесть! — крикнул он, стукнув кулаком по столу, и Замок Вермеа рывком пробудился от серой спячки утра. Мальчишки забегали, собаки затявкали, меха заревели на кухне, люди потягивались и сплевывали у огня. Фрейга сидел, зарыв голову в руках.
Женщины спустились вниз, по одной или по двое, к остальным у огромного очага и поклевали пищу. Их лица были суровы. Они говорили друг с другом, не обращаясь к мужчинам.
Снегопад прекратился, и ветер дул с гор, наваливая сугробы у стен и коровников, ветер настолько холодный, что как ножом перехватывал дыхание в горле.
— Почему слово Божье не было донесено до тех горных людей, приносящих в жертву овец? — это был пузатый священник, говорящий с Отцом Егусом и человеком с болячками вокруг глаз, Стефаном.
Они помедлили, не уверенные что под «приносящими в жертву» имеется в виду.
— Они не только овец убивают, — сказал Отец Егус.
Стефан улыбнулся:
— Нет, нет, нет, — сказал он, покачивая головой.
— Что вы имеете в виду? — голос странника был резок, и Отец Егус, слегка съежившись, произнес:
— Они… они также убивают коз.
— Овцы или козы, какая разница? Откуда они пришли, эти язычники? Почему им разрешают жить в стране Христа?
— Они всегда жили здесь, — сказал старый священник недоумевая.
— И вы никогда не пытались распространить учение Святой Церкви среди них?
— Я?
Это была хорошая шутка; мысль о том как маленький старый священник взбирается в горы — это было подходящее время рассмеяться. Отец Егус, хотя и не был тщеславен, но возможно почувствовал себя немного уязвленным, так как в конце концов он сказал более жестким голосом:
— У них есть свои боги, сэр.
— Их идолы, их дьяволы, их, как они это называют… Одн?
— Потише, священник, — внезапно вмешался Фрейга. — Обязательно вам называть это имя? Вы не знаете молитв?
После этого путник был менее надменен. С того времени как граф хрипло к нему обратился, очарование гостеприимства было разрушено, лица, которые смотрели на него, были суровы. В эту ночь его снова усадили на угловое сидение у огня, но он сидел там съежившись, не подвигая колени к теплу.
Не было песен у очага в ту ночь. Люди говорили приглушенно, умолкая от молчания Фрейга. Тьма ждала за их плечами. Не было ни звука кроме завываний ветра снаружи и завываний женщин наверху. Она была тиха весь день, но теперь хриплый, глухой крик шел снова и снова. Фрейга казалось невозможным, что она еще могла кричать. Она была худой и маленькой, девочкой, она не могла выносить столько боли в себе.
— Что за польза от них, там наверху! — разорвал он тишину. Его люди посмотрели на него, ничего не сказав. — Отец Егус! Есть какое-то зло в этом доме.
— Я могу только молиться, сын мой, — испуганно сказал старик.
— Тогда молись! У алтаря!
Он поторапливал Отца Егуса, шедшего перед ним, в черный холод, через двор, где сухой снег кружился невидимый на ветру, к капелле. Через некоторое время он вернулся один. Старый священник обещал провести ночь стоя на коленях у огня в небольшой келье за капеллой. У огромного очага только чужеземный священник еще бодрствовал. Фрейга сел на камни очага и долго ничего не говорил.
Странник посмотрел вверх и вздрогнул, увидев, что голубые глаза графа направлены прямо на него.
— Почему вы не спите?
— Мне не спится, граф.
— Лучше было бы, если бы вы спали.
Путешественник нервно моргнул, затем закрыл глаза и попытался сделать вид, что спит. Он подглядывал через полузакрытые веки за Фрейгой и пытался повторять, не шевеля губами, молитву, обращенную к своему покровителю-святому.
На взгляд Фрейги он выглядел как толстый черный паук. Лучи тьмы исходили от его тела, паутиной затягивая комнату.
Ветер стихал, оставляя тишину, в которой Фрейга слышал стоны своей жены, сухой, слабый звук.
Огонь угасал. Канаты и сети тьмы все плотнее и плотнее запутывались вокруг человека-паука в углу у очага. Крошечные блестки показались у него под бровями. Нижняя часть лица тихонько двигалась. Он углубился в свои заклинания. Ветер затих. Не было ни звука.
Фрейга встал. Священник посмотрел вверх на широкую золотую фигуру, вырисовывающуюся в темноте.
— Пошли со мной, — сказал Фрейга, но священник был слишком напуган, чтобы двигаться. Фрейга взял его за руку и рывком поставил на ноги.
— Граф, граф, что вы хотите? — прошептал святой отец, пытаясь освободиться.
— Пошли со мной, — сказал Фрейга и повел его по каменному полу, через темноту, к двери.
Фрейга был одет в тунику из шерсти овец; священник только в шерстяную мантию.
— Граф, — выдохнул он, труся рядом с Фрейгой через двор, — холодно, человек может замерзнуть до смерти, могут встретиться волки…
Фрейга сбросил тяжелые засовы внешних ворот Замка и открыл одну створку.
— Иди, — сказал он, указывая своим вложенным в ножны мечом.
Священник остановился.
— Нет, — произнес он.
Фрейга вытащил меч из ножен, короткий толстый клинок. Тыкая его концом в зад под шерстяной мантией, он вывел священника за ворота, повел вниз по деревенской улице к дороге, что вела в горы. Они шли медленно, так как снег был глубок, и их ноги проваливались в сугробы при каждом шаге. Воздух теперь был необычно неподвижен, как будто замерз. Фрейга посматривал вверх на небо. Над головой между высокими прозрачными облаками сияли, образовывая фигуру, похожую на рукоять меча, три ярких звезды. Некоторые называли фигуру Воин, другие Молчаливый, Одн молчаливый.
Священник бормотал одну молитву за другой, упорно продолжая скороговорку, переводя дух со свистом. Один раз он споткнулся и упал лицом в снег. Фрейга рывком поставил его на ноги. Он посмотрел вверх на лицо юноши в свете звезд, но ничего не сказал. Он продолжал волочить ноги, молясь негромко и упорно.
Башня и деревня Вермеа темнели позади них; вокруг них располагались голые холмы и равнины снега, бледные в свете звезд. Рядом с дорогой находился бугор, меньше чем в рост человека, напоминающий формой могилу. Рядом с ним, не покрытый снегом из-за ветра, стоял невысокий толстый столб или алтарь, сооруженный из неотесанных камней. Фрейга взял священника за плечо, таща его с дороги к алтарю рядом с Курганом.
— Граф, граф… — выдохнул священник, когда Фрейга схватил его за голову и отогнул ее назад. Его глаза казались белыми в свете звезд, его рот был открыт в пронзительном крике, но крик вышел только клокочущим свистом, когда Фрейга перерезал его горло.
Фрейга заставил тело согнуться над алтарем и резал и рвал толстую мантию, пока не смог вспороть живот. Кровь и внутренности брызнули на сухие камни и окутались паром на сухом снегу. Выпотрошенное тело упало вперед на камни как пустое пальто, руки болтались.
Живой человек опустился на тонкий, очищенный ветром снег, рядом с Курганом, все еще держа в руках меч. Земля сотрясалась и вздыхала, и крики раздавались в темноте.
Когда он поднял голову и огляделся кругом, все переменилось. Небо, беззвездное, поднималось высоким бледным сводом. Холмы и далекие горы были ясно различимы, не отбрасывали теней. Бесформенное тело, валявшееся на алтаре, было черно, снег у подножия Кургана был черен, руки Фрейги и клинок меча черен. Он пытался отмыть руки с помощью снега, и жгучая боль от этого привела его в сознание. Он встал, перед глазами у него поплыло, и пошатываясь на негнущихся ногах пошел назад в Вермеа. Пока шел, он чувствовал, что западный ветер, мягкий и влажный, поднимаясь вместе со днем, нес оттепель.
Ренни стояла у огромного очага, пока мальчишка Гильберт разводил огонь. Ее лицо было серым и надутым. Она с усмешкой проговорила Фрейге:
— Ну, граф, вы как раз вовремя вернулись!
Он стоял тяжело дыша с вялым лицом и не говорил.
— Пойдемте, тогда, — сказала акушерка. Он последовал за ней вверх по витой лестнице. Солома, которая устилала пол, была сметена к камину. Галла снова лежала в широкой, похожей на коробку постели, в брачной постели. Ее закрытые глаза глубоко запали. Она тихо посапывала. — Шш-ш! — произнесла акушерка, когда он хотел было приблизиться к ней. — Тише! Посмотрите сюда.
Она подняла туго завернутый сверток.
Через некоторое время, когда он все еще ничего не произнес, она резко выдохнула:
— Мальчик. Прекрасный, большой.
Фрейга протянул одну руку к свертку. Его ногти были покрыты коричневой коркой.
Акушерка прижала сверток к себе.
— Вы холодный, — сказала она резким оскорбленным шепотом. — Вот. — Она отогнула край материи, чтобы показать на мгновение крохотное розовое человеческое личико в свертке, затем снова его опустила.
Фрейга подошел к подножию кровати и встал на колени на полу и сгибался до тех пор, пока не коснулся лбом каменного пола. Он бормотал: «Господь Иисус Христос, благодарю тебя, воздаю хвалу тебе…
Епископ из Солари никогда не узнал, что сталось с его посланником на севере. Вероятно, являясь усердным человеком, он забрел слишком далеко в горы, где еще обитали язычники, и принял мученический венец.
Имя графа Фрейга долго жило в истории его провинции. За его жизнь был основан Бенедектинский монастырь в горах над озером Малафрена. Паства графа Фрейга и меч графа Фрейга кормили и защищали монахов в их первую тяжелую зиму там. На плохой латыни в их хрониках, черными чернилами на прочном пергаменте, он и его сын, после него, упоминались с признательностью, как верные стражи Церкви Господней.
Ильский Лес
— Нет, — сказал молодой доктор, — безусловно существуют такие преступления, которым нет прощения! Убийство не может оставаться безнаказанным. Его более умудренный жизненным опытом собеседник покачал головой.
— Возможно, существуют люди, которым нет прощения; преступления же… зависят…
— От чего? Отнять у человека жизнь! Это абсолютно непростительно! Разумеется, сюда не относятся некоторые случаи самообороны. Священность человеческой жизни…
— Совсем не тот предмет, о котором может судить Закон, — сухо прервал его старший собеседник. — Между прочим, кое-кто из моих родственников тоже совершил убийство. Даже два. — И, неотрывно глядя в огонь, он поведал свою историю.
Свою первую врачебную практику я получил на севере, в Валоне. Мы с сестрой приехали туда в 1902 году. Даже тогда это было на редкость унылое место. Владельцы старинных поместий распродали свои земли под плантации сахарной свеклы, а повсюду на юге и на западе высились мрачные холмы угольных копей. Куда ни глянь, всюду одна и та же удивительно монотонная равнина; лишь на самой восточной ее окраине, в Валоне Альте, появлялось слабое ощущение близких гор. Уже во время первой поездки в Валоне Альте я заметил недалеко от дороги довольно большую рощу. В самой долине все деревья давно уже вырубили, а здесь были настоящие березы с позолоченной осенью листвой, за рощей виднелся дом, за домом стеной стояли огромные старые дубы,
сейчас, в октябре, чуть отливавшие красным и коричневым. Дивное зрелище! Когда в воскресенье мы с сестрой отправились покататься, я нарочно поехал той дорогой, и Помона, как всегда чуть лениво, словно в полусне, сказала, что старый дом похож на замок из волшебной сказки, на серебряный замок в золотом лесу. У меня было несколько пациентов в Валоне Альте, и я всегда ездил туда только этим путем. Зимой, за голыми прозрачными деревьями старый дом был виден особенно хорошо; весной возле него часто куковала кукушка, а летом печально ворковали голуби. Я не знал, живет ли кто-нибудь в самом доме. И никогда об этом не спрашивал.
Первый год нашей жизни там приближался к концу; практики у меня оказалось несколько меньше, чем мне бы хотелось, но Пома, моя сестра Помона, отлично сводила концы с концами, несмотря на свой вечно сонный и абсолютно безмятежный вид. Так что мы, в общем, справлялись. Однажды вечером я вернулся домой и обнаружил записку: меня вызывали к больному в местечко Иле, расположенное неподалеку от дороги, ведущей в Валоне Альте. Я спросил Минну, нашу экономку, где это.
— Как же! В Ильском Лесу, конечно! — ответила она с таким видом, словно там леса, как в Сибири. — Сразу за старой мельницей.
— Наверное, тот серебряный замок, — сказала Помона, улыбаясь, и я тут же выехал в Иле. Я сгорал от любопытства. Вы ведь знаете, как это бывает: напридумываешь что-нибудь себе о незнакомом месте, а потом вдруг вас туда возьмут и позовут.
Когда я привязывал лошадь у коновязи, старые деревья окружали меня со всех сторон, а в окнах дома отражались последние красноватые отблески заката. Мне навстречу с крыльца спустился какой-то человек, отнюдь не похожий на героя волшебной сказки. Лет сорока, с характерным для северных областей продолговатым лицом с острыми чертами, твердым как кремень. Он тут же провел меня в дом. В доме было темно; мой провожатый освещал путь керосиновой лампой. Те комнаты, которые я успел как-то разглядеть, показались мне безжизненными, пустыми. Никаких ковров, ничего такого. В комнате наверху, куда мы вошли, ковра тоже не было; там стояли кровать, стол и несколько стульев; однако в камине жарко горел огонь. Когда нужно топливо, очень удобно иметь под боком лес.
Илескар, владелец этого леса, был болен пневмонией. Он оказался настоящим борцом. В течение последующих трех суток я то и дело заезжал в Иле, и мой пациент даже невольного вздоха ни разу не допустил — настолько держал себя в руках. На третью ночь мне пришлось принимать роды в Месовале, но я вскоре оставил роженицу на попечение акушерки — знаете, я был тогда молод и решил, что дети рождаются каждый день, а вот по-настоящему мужественный человек далеко не каждый день этот мир покидает. Илескар вел со смертью настоящее сражение, и я старался по мере сил помочь ему. Вдруг на рассвете температура у него резко упала, как часто бывает теперь при приеме разных новомодных лекарств, но тогда это не было действием какого-то лекарства; просто человек боролся и победил. Я возвращался из Иле домой в приподнятом настроении, любуясь светлеющим краем неба на востоке; день занимался облачный, ветреный.
Пока Илескар выздоравливал, я заезжал к нему каждый день. Что-то влекло меня туда. Да и такие ночи, как та, когда произошел кризис, случаются только в юности — с заката до восхода существуешь бок о бок с жизнью и смертью одновременно, а за окнами ждут лес, зима, тьма.
Я говорю «лес» в точности, как наша Минна, хотя это была всего-навсего роща из нескольких сотен деревьев. Впрочем, когда-то там действительно шумели настоящие леса. Они покрывали всю территорию Валоне Альте и принадлежали роду Илескаров. Однако в течение полутора столетий их упорно вырубали, и в итоге у последнего и единственного представителя этого древнего семейства осталась лишь эта роща, старый дом и доля в Кравайских плантациях — чтобы хоть как-то прожить. Вместе с Илескаром в доме жил еще Мартин, тот самый человек с лицом, точно вырубленным из кремня. Официально он считался слугой Илескара, хотя они и работали, и ели вместе. Мартин был человеком довольно странным, очень ревнивым, искренне преданным Илескару. Я, например, ощущал его преданность как некую вполне реальную силу; в ней не было и намека на сексуальное партнерство, скорее, чувствовалось некое собственническое желание обладать и защищать одновременно. Меня это не слишком удивляло. В Галвене Илескаре действительно было нечто такое, отчего подобное желание казалось вполне естественным. Естественно было восхищаться этим человеком и защищать его.
Историю Илескара я узнал главным образом от Минны; ее мать когда-то служила у его матери. Отец семейства, истратив все, что можно было истратить, заболел плевритом и умер. В двадцать лет Галвен поступил на службу в армию; в тридцать женился, вышел в отставку в чине капитана и вернулся в Иле. Примерно года через три жена бросила его, сбежав с каким-то типом из Браилавы. Об этом я уже немного знал от самого Галвена. Он был благодарен мне за частые визиты и, по-моему, понимал, что я ищу его дружбы. Видимо, он считал, что в данном случае отказывать в дружеском расположении не стоит. Я довольно бессвязно рассказал ему о нас с Помой, и он счел себя обязанным поведать мне о своем неудачном браке.
— Она оказалась чересчур слаба, — сказал он. У него был приятный, чуть хрипловатый голос. — А я принял ее слабость за очарование. Ошибся, бывает. Не ее вина. Просто ошибка. Вы ведь знаете, она меня бросила, ушла к другому. Я кивнул, чрезвычайно смущенный.
— Однажды я увидел, как он кнутом хлещет лошадь по морде, — проговорил Галвен по-прежнему задумчиво, в голосе его послышалась боль. — Он что было сил бил ее по глазам, пока они не превратились в две открытые раны. Когда я подбежал, он как раз перестал ее бить и так глубоко и удовлетворенно вздохнул, словно встал из-за стола после сытного обеда. Это была его собственная лошадь. Так что я ничего ему не сделал. Только велел немедленно убираться прочь. Мало конечно…
— Значит, вы с женой… в разводе?
— Да, — ответил он и посмотрел на Мартина, который поправлял дрова в камине у противоположной стены. Мартин кивнул, и Галвен снова сказал: — Да. — Он всего неделю назад встал с постели и выглядел усталым; все это показалось мне немножко странным, но я уже понял, что Илескар — вообще человек странный. И тут он вдруг прибавил: — Простите. Я давно позабыл, как следует разговаривать с цивилизованными людьми.
Тяжело было слушать, как он извиняется передо мной, так что я тут же заговорил о первом, что пришло мне в голову — о Поме, о себе, о Минне, о своих пациентах — и вскоре уже спрашивал его, нельзя ли мне как-нибудь приехать в Иле вместе с Помой, которая так восхищалась здешними местами.
— Мне, разумеется, было бы очень приятно, — сказал Галвен. — Но сперва дайте мне встать на ноги, хорошо? И потом… по-моему, этот дом похож на волчье логово, вам не кажется?. Но я точно оглох.
— Она даже ничего не заметит, — заявил я. — У нее самой комната, как джунгли — повсюду валяются всякие шарфы и шали, пузырьки, книжки, шпильки для волос… Да она никогда ничего не убирает! Никогда не может застегнуть пуговицы как следует, вечно все забывает, оставляет где-то, за ней, точно в кильватере судна, тянется целый шлейф из вещей. — Я не преувеличивал. Пома любила одежду из мягких тканей, особенно прозрачные легкие шарфы, и, где бы она ни побывала, обязательно оставался какой-нибудь шарф, то брошенный на ручку кресла, то зацепившийся за розовый куст, то клочком нежно-розовой пены упавший на пол. Помона была похожа в этом отношении на какого-то маленького зверька, который повсюду роняет клочки шерсти. Так кролики оставляют свой белый пух на колючих ветках шиповника в полях ранним утром. Когда Помона теряла очередной шарф, то вполне способна была прикрыть обнаженную шею первым же попавшимся лоскутом или платком, и я порой насмешливо спрашивал, что это у нее на плечах, уж не тряпка ли, которой она вытирает пыль на каминной полке? — и она непременно улыбалась в ответ своей очаровательной, растерянной, чуть ленивой улыбкой. Моя сестренка была милой, прелестной девочкой.
Однако меня страшно удивило, когда в ответ на предложение съездить где-нибудь на днях вместе в Иле она ни с того ни с сего ответила:
— Нет.
— Почему же нет? — Я даже расстроился. Я так много рассказывал ей об Илескаре, и она, по-моему, очень заинтересовалась.
— Ему там совсем не нужны ни женщины, ни вообще какие бы то ни было гости, — сказала она. — Оставь беднягу в покое.
— Чепуха. Он очень одинок и не знает, как ему выбраться из этого одиночества.
— В таком случае ты именно тот человек, который ему нужен, — сказала она с улыбкой. Я продолжал настаивать — видите ли, я вбил себе в голову, что непременно должен как-то помочь Галвену, — и в конце концов она объяснила: — У меня какое-то странное отношение к этому месту, Жиль. А когда ты рассказываешь об Илескаре, мне все время мерещится лес. Тот, прежний лес — такой, каким он, должно быть, был здесь когда-то. Величественный, мрачноватый, с полянами, которых не видел ни один человек, с такими местами, о которых люди когда-то давно знали, но теперь совсем позабыли. И полный диких зверей. В таком лесу обязательно заблудишься. По-моему, мне лучше остаться дома и привести в порядок свои розы.
Видимо, я стал говорить что-то насчет «женской нелогичности» и тому подобного. В общем, я давил на нее, как танк, и она все-таки уступила. Уступчивость была ее божьим даром точно так же, как неуступчивость — даром Галвена. День для нашего визита еще назначен не был, и это ее несколько успокоило. На самом деле прошло еще месяца два, прежде чем она наконец посетила Иле.
Я помню широкое февральское небо с тяжелыми тучами, висевшими над долиной. Когда мы подъехали, дом показался нам обнаженным среди мрачных зиних небес и голых деревьев. Было заметно, что на крыше, крытой гонтом, кое-где не хватает дощечек; в глаза бросались окна без занавесок, заросшие сорняками подъездные дорожки. Накануне я спал плохо, беспокойно: мне снилось, что я пытаюсь выследить кого-то в лесу, кажется, какого-то маленького зверька, но так его и не обнаруживаю.
Мартина нигде не было видно. Галвен сам привязал и распряг нашего пони, потом провел нас в дом. Он был в старых офицерских штанах со споротыми лампасами, в старой куртке и грубой вязки шерстяном шарфе. Я никогда раньше не замечал, насколько он беден, пока не посмотрел на все это глазами Помоны. В сравнении с ним мы казались просто богачами: у нас были теплые пальто, достаточно угля, собственная повозка и пони, собственные маленькие сокровища. У него же был лишь пустой дом.
Он или Мартин свалили один из дубов, чтобы накормить огромный камин на первом этаже. Стулья, на которых мы сидели, были принесены сверху, из комнаты Илескара. Мы замерзли и чувствовали себя неловко. Изысканная вежливость Галвена тоже казалась какой-то замороженной. Я спросил, где Мартин.
— Охотится, — последовал равнодушный ответ.
— А вы тоже любите охоту, господин Илескар? — поинтересовалась Помона. Голос ее звучал легко и спокойно, лицо в отблесках камина казалось розовым. Галвен посмотрел на нее и оттаял.
— Когда жива была моя жена, я частенько ходил на болота за утками, — сказал он. — Уток там осталось не так уж много, но мне нравилось бродить по болотам на рассвете и смотреть, как встает солнце.
— И кстати очень полезно для слабых легких, — вставил я. — Непременно постарайтесь снова начать ходить на охоту. — И вдруг все мы как-то сразу почувствовали себя свободнее. Галвен принялся рассказывать разные охотничьи истории, случавшиеся с членами его старинной семьи — например, легенды об охоте на диких кабанов, хотя в Валоне уже лет сто не было ни одного кабана. Слово за слово — мы вспомнили множество и всяких других историй, вроде тех, которые до сих любят рассказывать деревенские старики, вроде нашей Минны. Пома очень увлекалась такими преданиями, и Галвен поведал ей одну из местных легенд — отрывок не слишком сложного, однако весьма таинственного эпического сказания, где повествовалось о страшных снежных лавинах и вооруженных боевыми топорами героях; сказание это, должно быть, сложили некогда в высокогорных селениях, и в течение многих веков оно постепенно спускалось в долину, передаваемое из семьи в семью по наследству. Галвен рассказывал очень хорошо, негромким суховатым голосом, и мы заслушались его, сидя у жаркого огня, а за спинами у нас метались темные тени. Впоследствии я как-то раз попробовал вспомнить и записать эту сказку, но обнаружил, к сожалению, что помню лишь отдельные ее фрагменты; в моем пересказе вся поэзия из нее начисто улетучилась. Но однажды я слышал, как Пома рассказывала ее своим детям — слово в слово как тогда Галвен в Иле.
Когда мы возвращались обратно, мне показалось, что я заметил Мартина: он вышел из лесу и направлялся к дому, однако было слишком темно, чтобы говорить наверняка. За ужином Пома спросила:
— Жена Илескара умерла?
— Они в разводе. Она налила себе чаю и задумалась, склонившись над чашкой.
— Мартин, видно, нарочно избегал встречи с нами, — сказал я.
— Он, наверное, недоволен, что я туда приехала.
— Возможно. Да он вообще человек суровый. Но ведь Галвен тебе понравился, правда?
Пома кивнула и почти сразу, словно вспомнив о чем-то, улыбнулась. А вскоре, встав из-за стола, поплыла в свою комнату, оставив в кильватере прозрачный светло-розовый шарф, зацепившийся ниточкой за стул, на котором она сидела.
Прошло несколько недель, и Галвен сам заглянул к нам. Я был польщен и озадачен одновременно. Я никогда даже представить его себе не мог где-нибудь еще, кроме Иле, а уж тем более — стоящим посреди нашей крохотной квартирки, подобно всем прочим посетителям. Он раздобыл себе в Месовале лошадь. И был ужасно доволен, и очень серьезно объяснял нам, что на самом деле это очень хорошая кобыла, только старая и заезженная, и как нужно «приводить в порядок» такую измученную клячу.
— Когда я снова приведу ее в порядок, то вам, милая барышня, возможно, даже захочется на ней покататься, — сказал он Помоне, потому что та как-то упомянула, что очень любит верховую езду. — Это очень добрая лошадка.
Моя сестра тут же с радостью приняла его предложение; она никогда не могла устоять перед прогулкой верхом.
— А все моя лень, — оправдывалась она в таких случаях. — Когда едешь верхом, трудится лошадь, а ты просто сидишь.
Пока Галвен был у нас, Минна все время подглядывала в дверную щелку и после его ухода впервые за все это время выказала по отношению к нам некий намек на уважение. Похоже, в ее глазах мы наконец-то достигли пристойного положения в здешнем обществе. Я тут же воспользовался этим и спросил ее о том человеке из Браилавы.
— Он часто приезжал сюда охотиться. Господин Илескар тогда еще тоже любил развлечься. Конечно, такого веселья, как при его отце, не бывало, однако все же и у него гостили настоящие дамы и господа. Ну а этот приезжал охотиться. Говорят, что однажды он так избил свою лошадь, что та ослепла, и после этого они с господином Илескаром крупно поссорились, и господин Илескар велел ему убираться прочь. Однако, по-моему, он еще не раз приезжал сюда и все-таки в конце концов оставил господина Илескара в дураках.
Значит, насчет лошади все оказалось правдой. До рассказа Минны я не был окончательно в этом уверен. Галвен не лгал, но, по-моему, из-за постоянного одиночества уже не очень-то отличал правду от собственного невольного вымысла. Не знаю, что именно дало мне повод так думать; скорее всего, его собственные слова о том, что его жена умерла; впрочем, она ведь действительно умерла — по крайней мере, для него; даже если для остальных просто жила в другом городе. Так или иначе, а насмешливый тон Минны был мне неприятен, как неприятно было и ее дурацкое уважение к Илескару как к «настоящему джентльмену» и полнейшее неуважение к нему как к мужчине. Я так и сказал. Она только пожала своими могучими плечами.
— Тогда, доктор, объясните мне, почему он не бросился за ними в погоню? Почему позволил этому типу просто так увести от него жену?
Тут у нее явно был пунктик.
— Да она и не стоила того, чтоб за ней гоняться, — заявил я. Минна снова пожала плечами, и неудивительно: согласно ее представлениям — и Галвена тоже — уважающие себя люди так не поступают.
На самом деле мне тоже казалось просто непостижимым, что он спустил такое оскорбление. Я же видел, как он сражался с куда более страшным, чем любовник жены, врагом… А не вмешался ли в это дело Мартин? Ведь Мартин — стойкий христианин; у него совсем иная система ценностей. Впрочем, каким бы сильным и стойким ни был Мартин, он не смог бы удержать Галвена, если бы тот пожелал что-то сделать. Все это представлялось мне весьма любопытным, и на досуге мысли мои не раз возвращались к той истории. Именно пассивность Галвена и казалась совершенно несоответствующей его гордому, прямому, неуступчивому характеру, а я считал, что достаточно хорошо успел изучить его. Какого-то звена в той цепи событий явно не хватало.
В ту весну я несколько раз возил Пому в Иле покататься верхом; за зиму она немножко ослабела, и я предписал ей физические упражнения. Ее приезды доставляли Галвену огромное удовольствие. Давно уже он не чувствовал себя нужным другому человеческому существу. К июню, получив деньги от владельцев плантаций в Кравае, он купил себе второго коня. Этот конь назывался «конем Мартина», и Мартин действительно ездил на нем в Месоваль, однако куда чаще на нем ездил сам Галвен, особенно когда приезжала Помона и брала старую вороную кобылу. Они являли собой довольно забавную парочку: Галвен, кавалерист до мозга костей, верхом на крупном костлявом чалом жеребце, и Пома, ленивая, улыбающаяся, восседающая в дамском седле на толстой старой кобыле. Все лето по воскресеньям после обеда он заезжал к нам, ведя в поводу кобылу, забирал Пому, и весь остаток дня они катались верхом. С прогулок она возвращалась сияющая, румяная от ветра, а я эти чудесные метаморфозы приписывал воздействию физических упражнений на воздухе — ах, поистине нет больших глупцов на свете, чем молодые врачи!
А потом наступил тот августовский вечер. Он пришел на смену трудному жаркому дню, когда я, принимая тяжелые преждевременные роды, промучился пять часов и принял мертвых близнецов. Лишь часов в шесть я вернулся домой и прилег у себя в комнате. Я был совершенно измотан. Мертворожденные младенцы, тошнотворная тяжкая жара, серые от угольного дыма небеса над плоской скучной равниной — все это меня доконало. Лежа в полутьме, я услышал сперва негромкий стук копыт на пыльной дороге, а через некоторое время голоса Помоны и Галвена. Моя сестра сказала:
— Я не знаю, Галвен.
— Ты не можешь переехать туда, — послышался его голос. Если она и ответила ему что-то, то я не расслышал.
— Когда там начинает протекать крыша, — продолжал он, — то уж протекает как следует. Мы стараемся прикрыть старыми дощечками дыры, прибиваем их гвоздями… Нужны немалые деньги, чтобы сменить кровлю на таком доме. У меня денег нет. И профессии тоже. Меня так воспитывали — я и не должен был иметь какую-либо профессию. У таких, как я, обычно есть земля, но не деньги. А у меня и земли нет. У меня есть только пустой дом. В нем я живу, этот дом — точно я сам. И я не могу оставить его, Помона. Но ты там жить не сможешь. Там же ничего нет. Ничего!
— Там есть ты, — ответила она, или мне показалось, что она именно так ответила; она говорила очень тихо.
— Это все-равно.
— Почему же?
Последовало молчание.
— Не знаю, — проговорил он наконец. — Начинал-то я хорошо. Может быть, все случилось потому, что я вернулся. И привел ее в этот дом. Я действительно старался, старался подарить ей Иле. Это для меня все равно, что подарить собственную душу. Но ни к чему хорошему это не привело. И никогда не приведет. Все попытки бессмысленны, Помона! — В голосе его звучала боль, и она в ответ произнесла лишь его имя. После чего я перестал слышать, что они говорят друг другу — до меня доносилось лишь нежное спокойное воркованье. И хотя подслушивать стыдно, но слушать их было приятно — приятно было слышать эту воплощенную в звуках нежность. Но отчего-то мне стало не по себе, я ощущал ту же дурноту, что и днем, когда помогал рождаться этим мертвым близнецам. Нет, совершенно невозможно, чтобы моя сестра полюбила Галвена Илескара! И не потому, что он беден, не потому, что предпочитает жить в полуразрушенном доме на самом краю неизвестно чьих владений; он получил этот дом в наследство, он имел право жить там, где хочет. У каждого своя жизнь. И Пома тоже имела право выбрать его жизнь, если любит. Вовсе не это делало их любовь невозможной. А то недостающее звено. И еще нехватка чего-то очень существенного, какой-то серьезный изъян в самом Галвене, в его человеческой природе. Он не казался мне братом, как все остальные мужчины. Он представлялся мне чужаком, пришельцем из другой страны.
В тот вечер я без конца посматривал на Пому; прелестная была девушка, нежная, точно солнечный луч. Я проклинал себя за то, что не сумел разглядеть ее раньше, за то, что не был ей хорошим братом, за то, что никогда не брал ее с собой туда — ну хоть куда-нибудь! — где в веселой компании она могла бы выбирать из дюжины мужчин, готовых отдать ей руку и сердце. Вместо этого, я повез ее в Иле.
— Я тут все думал, — сказал я ей утром за завтраком, — и, знаешь, мне совершенно осточертели здешние места. Я готов попытать счастья в Браилаве. — Мне казалось, что я веду разговор исключительно тонко, пока в ее глазах не плеснулся ужас.
— Тебе действительно так ужасно здесь надоело? — слабым голосом спросила она.
— Здесь мы все время еле сводим концы с концами. Это несправедливо по отношению к тебе, Пома. Я уже начал писать письмо Коэну с просьбой подыскать мне какого-нибудь компаньона в столице.
— А может, тебе стоит еще немного подождать?
— Только не здесь. Этот путь нас никуда не приведет.
Она кивнула и при первой же возможности встала из-за стола. И не забыла ни шарфа, ни носового платка. Ни одного следа не оставила! Целый день она пряталась в своей комнате. У меня в тот день была всего пара вызовов, и, Боже мой, как же долго он тянулся, этот день!
После ужина я поливал розы, когда она подошла ко мне. Именно здесь, на этом самом месте они с Галвеном вчера разговаривали.
— Жиль, — промолвила она, — мне нужно кое-что сказать тебе.
— У тебя юбка за розовый куст зацепилась.
— Отцепи, пожалуйста, мне самой не достать. Я отломил шип и освободил ее.
— Мы с Галвеном любим друг друга, — сказала она.
— Ах вот как, — пробормотал я.
— Мы все обсудили. Ему кажется, что пожениться мы не можем: он слишком беден. Но я считаю, что тебе лучше все-таки об этом знать. И постараться понять, почему я не хочу уезжать из Валоне.
У меня не нашлось слов, чтобы сразу ответить ей. Точнее, слова душили меня. Наконец мне удалось выдавить:
— То есть, ты хочешь остаться здесь, несмотря.?
— Да. По крайней мере я смогу видеть его.
Она пробудилась, моя спящая красавица. Он разбудил ее; он дал ей то, чего ей недоставало, что лишь очень немногие мужчины могли бы ей дать: ощущение опасности, которое и лежит в основе любви. Теперь ей стало необходимо то, что было в ней всегда и всегда оставалось невостребованным — ее спокойствие, ее сила. Я долго и внимательно смотрел на нее и наконец вымолвил:
— Ты хочешь сказать, что будешь жить с ним?
Она смертельно побледнела и сказала:
— Да, если он попросит меня об этом. А как по-твоему, он меня об этом попросит? — Она очень рассердилась, а я был сражен наповал. Я стоял, все еще держа в руках лейку, и бормотал глупые извинения:
— Прости меня, Пома, я не хотел… Но что ты действительно собираешься предпринять?
— Не знаю, — ответила она все еще сердито.
— То есть, пока ты просто хотела бы продолжать жить здесь, а он — там, и… — Она уже почти подвела меня к тому, чтобы предложить ей выйти за него замуж. Теперь уже рассердился я. — Ну хорошо, я поговорю с ним.
— О чем? — воскликнула она, тут же вставая на его защиту.
— О том, что он намерен делать! Если он хочет жениться на тебе, то, конечно же, может подыскать себе какую-нибудь работу, верно?
— Он уже пробовал, — сказала она. — Его воспитали не для работы. И, знаешь, он ведь был болен.
Она произнесла это с таким достоинством и так уязвленно, что у меня защемило сердце.
— Ах, Пома, это-то я знаю! Да и ты знаешь прекрасно, как я его уважаю и люблю; он ведь был сперва именно моим другом, верно? Что же касается болезни — какой, кстати, болезни?. Порой мне кажется, что я никогда его по-настоящему не знал… — Я умолк — все равно она не поняла бы меня. Она слепо не замечала в своем лесу темных чащоб, а может, все они казались ей светлыми полянами. Она боялась за него; но его самого она не боялась совершенно. Итак, тем же вечером я отправился в Иле.
Галвена дома не оказалось. Мартин сказал, что он взял кобылу и поехал прогуляться. Сам же Мартин чистил упряжь в конюшне при свете фонаря и яркой луны, и я немного поговорил с ним, поджидая Галвена. В лунном свете рощи Иле казались настоящим большим лесом; березы и дом светились, точно серебряные; дубы стояли черной стеной. Мартин подошел ко мне, и мы, стоя в дверях конюшни, вместе покурили. Глядя на его освещенное луной лицо, я подумал, что, пожалуй, доверял бы ему, если б только сам он доверял мне.
— Мартин, я хочу кое о чем спросить вас. У меня для этого действительно веские причины. Он пыхтел своей трубочкой и молча ждал моего вопроса.
— Как по-вашему, Галвен в своем уме?
Мартин продолжал молчать, посасывая трубку, потом усмехнулся.
— В своем ли Галвен уме? — переспросил он. — Знаете, не мне судить. Я ведь тоже живу здесь, причем по собственной воле.
— Послушайте, Мартин, вы же понимаете, что я ему друг. Но он и моя сестра… любят друг друга, они поговаривают о том, чтобы пожениться. Кроме меня у нее больше никого нет, и я должен о ней позаботиться. Я бы хотел более подробно узнать о… — Я заколебался и все-таки выговорил: — О его первом браке.
Мартин смотрел куда-то в глубь двора, его светлые глаза были полны лунного света.
— Лучше не будем об этом, доктор. А вашу сестру следовало бы увезти отсюда.
— Но почему?
Он не ответил.
— Я имею право знать это.
— Да вы посмотрите на него! — вдруг взорвался Мартин, яростно на меня глядя. — Посмотрите на него как следует! Вы достаточно близко знакомы с ним, однако никогда не узнаете, каким он был, каким он должен был бы быть. Что сделано, то сделано, ничего уже не исправишь, и оставьте его в покое. А что с ней будет здесь, если на него снова найдет черная тоска? Мы с ним немало прожили вместе, и порой он за много дней подряд не произносил ни слова, и ничего сделать было нельзя, невозможно ничем помочь ему. Разве это жизнь для молоденькой девушки? Он не годится для того, чтобы жить с людьми. Нет, он не в своем уме, если вам угодно! Так что увезите ее отсюда!
В нем явно говорила не только ревность, однако и логика его рассуждений была мне не понятна. Собственно, те же аргументы против себя самого приводил и Галвен вчера вечером. Я был совершенно уверен, что никакой «черной тоски» Галвен не испытывал с тех пор, как познакомился с Помой. А вот дальше, в его прошлом, все для меня скрывалось во тьме.
— Он развелся со своей женой, Мартин?
— Она умерла.
— Вы это точно знаете?
Мартин кивнул.
— Ну хорошо, она мертва, и, значит, с этой историей покончено. Тогда мне остается только одно: поговорить с ним.
— Вы этого не сделаете!
В голосе его прозвучал не вопрос и не угроза, но ужас, самый настоящий ужас. Теперь я тщетно, как утопающий за соломинку, пытался уцепиться хоть за какое-нибудь здравое объяснение происходящего.
— Но ведь кому-то же нужно смотреть в лицо реальной действительности, — сказал я сердито. — Если они поженятся, им ведь нужно будет на что-то жить…
— На что-то жить, на что-то жить… А дело совсем и не в этом! Он ни на ком не может жениться, вот что. Увезите ее отсюда и поскорее!
— Но почему?
— Ладно. Вы спрашивали, в своем ли он уме, и я снова вам отвечу: нет, он не в своем уме. Ибо совершил нечто ужасное, о чем не знает, не помнит, но если ваша сестра переедет сюда, это вполне может случиться снова. Разве я могу быть уверенным, что этого не случится снова?
Я вдруг почувствовал сильное головокружение — слишком ветреной была ночь, слишком темным и высоким казался купол небес, слишком ярко серебрились деревья. Наконец я сумел прошептать:
— И это ужасное случилось с его женой?
Ответа не последовало.
— Ради Бога, Мартин!
— Хорошо, — тоже шепотом ответил он. — Слушайте. Он наткнулся на них в лесу. Вон там, среди дубов. — Мартин показал на мрачные огромные деревья, освещенные луной. — Он в то утро ходил на охоту. Прошел всего один день с тех пор, как он прогнал отсюда этого типа из Браилавы, велел тому убираться прочь и никогда больше не попадаться ему на глаза. А она ужасно на него разозлилась за это, полночи они ссорились, и он еще до рассвета ушел на болота. А вернулся довольно рано и застал их в дубовой роще, срезая путь. Наткнулся на них прямо среди бела дня. И тут же, не раздумывая, застрелил ее, а его так ударил прикладом ружья по голове, что мозги вышиб. Я услыхал рядом с домом стрельбу, выбежал и сразу нашел их. Его я отвел домой. У нас тогда гостили еще несколько человек, так я отослал гостей, сообщив им, что жена хозяина сбежала. В ту ночь он пытался покончить с собой, и мне пришлось следить за ним очень внимательно, пришлось даже связать его. — Голос Мартина дрожал и прерывался. — Много недель подряд он совсем не говорил, был словно бессловесное животное, и мне приходилось запирать его в доме. Но постепенно все как-то стерлось в его памяти, ушло, хотя временами на него опять находило, так что нужно было стеречь его днем и ночью. И дело даже не в ней, и не в том, что он наткнулся на них, точно на собак во время случки; самое страшное — что он их убил; вот это-то его и сломало. Но он все-таки выкарабкался, пришел в себя, снова стал вести себя, как нормальный человек, но только когда совершенно забыл все это. Да, он все забыл. Ничего не помнит. Ничего не знает о случившемся в действительности. Я рассказывал ему ту же историю, что и всем остальным: они сбежали, уехали за границу, и он в конце концов мне поверил. И верит, что так оно и было. Ну что, вы и теперь намерены привезти сюда сестру?
— Простите, Мартин, простите меня, — только и сумел выговорить я. Потом, помолчав и взяв себя в руки, спросил: — А они… что вы сделали с ними?
— Они лежат там же, где умерли. Может, вам хочется выкопать тела и удостовериться? — спросил он каким-то диким хриплым голосом. — Они там, в роще. Давайте, копайте, вот вам заступ, как раз им я и копал для них могилу. Вы ведь врач, вы никогда не поверите на слово, что Галвен смог сотворить такое с человеком. От головы, конечно, ничего не осталось, но… но… — Мартин вдруг закрыл руками лицо, присел на корточки и стал раскачиваться взад-вперед, взад вперед, содрогаясь от рыданий.
Я говорил ему всякие слова, пытаясь как-то утешить, а он мне в ответ сказал только одно:
— Если бы только я мог все забыть! И то, каким он был когда-то!
Потом он понемногу взял себя в руки, и я ушел, не дожидаясь Галвена. Я сказал «не дожидаясь» — на самом же деле я просто сбежал. Мне хотелось поскорее выбраться из тени этих деревьев. Всю обратную дорогу я подгонял своего пони, был счастлив, что дорога пустынна и вся просторная долина залита лунным светом. В дом я влетел, задыхаясь и дрожа, и… обнаружил там Галвена Илескара, который в одиночестве стоял у камина.
— Где моя сестра? — заорал я. Он изумленно и растерянно уставился на меня, потом, заикаясь, пробормотал:
— Наверху.
Я бросился наверх, прыгая через четыре ступеньки. Она действительно оказалась там — сидела в своей комнате на кровати, среди всяких шарфиков, лоскутков, обрезков и прочего хлама, который никогда не разбирала, и плакала.
— Жиль, — воскликнула она с таким же, как у Галвена, изумленным и растерянным видом, — что случилось?
— Ничего… Не знаю, о чем ты, — и я попятился из комнаты, хотя бедная девочка была перепугана до смерти. Однако она осталась ждать наверху, а я спустился к Галвену; знаете, они ведь специально это устроили, согласно тогдашним обычаям, мужчинам предоставлялась возможность самим все обсудить и найти решение.
Галвен задал мне тот же вопрос: «Что случилось, Жиль?», а что я мог ему ответить? Ну вот, он стоял передо мной и напряженно ждал, красивый, храбрый мужчина с ясными глазами, мой друг, готовый сообщить, что любит мою сестру, что подыскал себе работу, что будет верен своей будущей жене всю жизнь. А я, по всей видимости, должен был сказать в ответ: «Да нет, Галвен Илескар, кое-что мне тут не совсем ясно!», и рассказать ему, что именно неясно? Ох, действительно что-то тут было неясно, но только далеко, в темных глубинах прошлого, а не в тех поступках, которые он совершил потом. Неужели мне нужно было влезать во все это?
— Галвен, — сказал я, — Пома говорила со мной. Я просто не знаю, что и ответить. Я не могу запретить вам пожениться, но я не могу и… не могу… — И все. Слова застряли у меня в горле; слезы Мартина слепили меня.
— Ничто не сможет заставить меня причинить ей боль, — проговорил он очень спокойно и тихо, словно давая обет. Не знаю, понял ли он меня; не знаю, действительно ли, как то представлял себе Мартин, Галвен не ведал о том, что совершил. В общем-то, это не имело особого значения. Боль и вина за совершенное преступление остались в нем с тех пор навсегда. Это он понимал, понимал отлично и терпел свою боль без жалоб.
Ну что ж, это был еще не конец, хотя тут-то все и должно было бы кончиться. Однако то, что способен был терпеть он, я вытерпеть не сумел и в конце концов, подавляя в себе чувство жалости и сострадания, передал Поме рассказ Мартина. Я не мог позволить ей беззащитной зайти в самую чащу леса. Она выслушала меня, и я, еще не закончив говорить, понял, что потерял ее. Нет, она, разумеется, мне поверила. Да поможет ей Господь — по-моему, она уже все знала и раньше! Знала не то чтобы сами факты, но догадалась об истинном положении вещей. Однако мой рассказ заставил ее сделать выбор, принять чью-то сторону. И она этот выбор сделала. Сказала, что останется с Илескаром. В октябре они поженились.
Доктор прокашлялся и долго смотрел в огонь, не замечая нетерпения своего молодого собеседника.
— Ну и? — взорвался тот наконец, как шутиха. — Что же случилось потом?
— Что случилось? Да ничего особенного не случилось. Они продолжали жить в Иле. Галвен нашел себе место надзирателя на плантациях Кравая и через пару лет научился отлично с справляться со своими обязанностями. У них родились сын и дочь. А когда Галвену исполнилось пятьдесят, он умер: снова пневмония. Сердце не выдержало. Моя сестра по-прежнему живет в Иле. Я ее уже года два не видел, но надеюсь, что удастся провести у них Рождество… Ах да, я и забыл про причину, побудившую меня рассказать вам все это! Вы сказали, что существуют преступления, которым нет прощения. И я согласен с вами, что убийство следует считать одним из таких преступлений. Но все же среди множества людей, которых мне довелось встречать за свою долгую жизнь, больше всех я любил именно убийцу, и именно он потом стал мне зятем и братом… Вы понимаете, что я хочу сказать?
Ночные разговоры
— Самое лучшее — это женить его.
— Женить?
— Ш-ш-ш.
— Да кто за него пойдет?
— Любая! Он по-прежнему здоровенный красивый парень. За него любая пойдет.
Случайно коснувшись друг друга под простыней влажным от пота плечом или бедром, они резко отодвигались к краям кровати, потом снова лежали тихо, глядя во тьму.
— А как же его пенсия? — все-таки спросил Альбрехт. — Она ведь тогда ей достанется.
— Они же здесь будут жить! Где же еще? Любая из девчонок за такую возможность ухватится. И за квартиру ничего не нужно платить. Она бы помогала в магазине и о нем заботилась. Фигушки я отдам кому-то его пенсию — после всех моих трудов! Да я и родным детям бы ее не отдала! Они с женой заняли бы комнату твоего брата, а он перешел бы спать в гостиную…
Эта деталь сделала ее план настолько реальным, что Альбрехт надолго умолк и лишь с наслаждением почесывал свои влажные плечи. Потом он спросил:
— Ты что, уже кого-нибудь конкретного приметила?
В гостиной, за дверями их комнаты, скрипнула кровать: спящий там человек повернулся во сне. Сара минутку помолчала, потом сообщила шепотом:
— Алицию Бенат.
— Хм! — Альбрехт был удивлен. Пауза затянулась, и они незаметно погрузились в неспокойный из-за жары и духоты сон. Сара не поняла, что на какое-то время уснула, и вдруг с изумлением обнаружила, что сидит на кровати, а сбившаяся простыня запуталась у нее в ногах. Она встала и побрела в гостиную. Там спал ее племянник; гладкая бледная кожа на его обнаженных плечах и груди в сером рассветном свете казалась твердой, и он был похож на каменное изваяние.
— Чего ты так орешь?
Он резко сел на постели, хлопая широко раскрытыми глазами:
— В чем дело?
— Ты разговаривал во сне, что-то кричал. Мне ведь тоже нужно поспать.
Он затаился. Сара вернулась в постель, и больше не было слышно ни звука. Он лежал и слушал тишину. В конце концов снаружи что-то глубоко вздохнуло: занималась заря. До него долетело прохладное дыхание ветерка. Он тоже вздохнул, перевернулся на живот и провалился в сон, который показался ему ослепительно светлым, как наступающий день.
А вокруг спящего дома застыл в рассветных лучах город Ракава. Улицы, старинные крепостные стены с высокими воротами и сторожевыми башнями, громоздкие и неуклюжие здания фабрик, сады на южной холмистой окраине города — вся обжитая долина, на землях которой был построен город, лежала в бледном утреннем свете, обессиленная и неподвижная. Лишь кое-где на пустынных площадях шумели фонтаны. Западная часть долины все еще была окутана ночной прохладой. Длинная гряда облаков на востоке медленно рассеивалась, превращаясь в розоватый туман, потом из-за горизонта, словно край ковша с расплавленной сталью, появился краешек солнца, все вокруг заливая ярким дневным светом. Небо тут же поголубело, по земле от башен полосами протянулись длинные тени. На площадях у фонтанов начали собираться женщины. Улицы запестрели людьми, идущими на работу; потом над городом разнесся то усиливающийся, то чуть ослабевающий вой сирены на ткацкой фабрике Фермана, заглушавший неторопливый звон колокола в соборе.
В квартире хлопнула входная дверь. Внизу, во дворе, уже слышались пронзительные голоса детей. Санзо сел в постели, потом спустил ноги на пол и еще немного посидел на краешке кровати; одевшись, он прошел в комнату Альбрехта и Сары и постоял у окна. Он отличал яркий свет от тьмы, но это окно выходило во двор, и солнечные лучи сюда не попадали. Санзо стоял, держась руками за подоконник и время от времени поворачивая голову и пытаясь уловить границу между светом и тьмой, пока не услышал за спиной шаги отца. Он тут же пошел на кухню, чтобы сварить своему старику кофе.
Тетка на сей раз забыла положить спички на обычное место, слева от раковины, так что Санзо некоторое время пришлось шарить по столу и по полкам в поисках коробка. Руки его от желания ничего не уронить и не разбить, а также от этого неожиданного подвоха казались неживыми. Наконец он нащупал спички, брошенные посреди стола, на самом видном месте. Ах, если бы только он мог видеть! Когда он зажег газ, в кухню шаркающей походкой вошел отец.
— Как дела? — спросил Санзо.
— Да как всегда, как всегда. — Старик молчал, пока готовился кофе, потом попросил: — Знаешь, налей-ка лучше ты, у меня сегодня что-то руки не держат.
Санзо нащупал левой рукой чашку, потом правой рукой поднес поближе и наклонил над чашкой кофейник.
— Точно! — сказал Вольф и коснулся руки сына своими скрюченными артритом пальцами, помогая ему держать кофейник над чашкой. Так, вдвоем, они налили себе кофе. Оба молчали. Отец жевал кусок хлеба.
— Снова жара, — пробормотал он.
Синяя мясная муха жужжала и билась в окно. Кроме ее жужжания и звуков, издаваемых жующим отцом, вокруг Санзо больше, казалось, не было ничего. Стук в дверь прозвучал для него подобно выстрелу. Он вскочил. Отец продолжал как ни в чем не бывало жевать.
Санзо открыл дверь и спросил:
— Кто это?
— Привет, Санзо. Это я, Лиза.
— А, проходи, пожалуйста.
— Я муку принесла, мать занимала у вас в воскресенье, — шепнула она.
— Садись, у нас кофе горячий.
Семья Лизы Бенат жила напротив, в том же дворе; Санзо знал их всех с десяти лет, с тех пор как они с отцом переехали к Альбрехту и Саре. Он не очень ясно представлял себе, как теперь выглядит Алиция: в последний раз, когда он видел ее, ей было четырнадцать. Впрочем, и теперь голосок у нее был нежный, тоненький, детский.
Девушка по-прежнему стояла на пороге. Санзо пожал плечами и протянул руки, чтобы взять у нее принесенную муку. Она поспешила опустить мешочек ему прямо в подставленные ладони.
— Да пройди же ты, наконец, — сказал он. — Мы теперь с тобой совсем не встречаемся.
— Только на минутку. Мне надо вернуться и помочь маме.
— Со стиркой? А я думал, ты у Ребольтса работаешь.
— Они в конце прошлого месяца уволили шестьдесят закройщиков.
Она тоже присела за кухонный стол. Они поговорили о предполагаемой забастовке на ткацкой фабрике Фермана. Хотя Вольф, изуродованный артритом, уже пять лет не работал, он обо всем прекрасно знал от своих приятелей-пьяниц, а отец Лизы возглавлял местный профсоюз. Санзо говорил мало. Через некоторое время в разговоре возникла долгая пауза.
— Ну и что ты такого особенного увидела у него на лице? — услышал он вдруг голос старика.
Под Лизой скрипнул стул, но она не сказала ни слова.
— Смотри сколько хочешь, — сказал Санзо, — денег за это не берут. — Он встал и ощупью стал собирать со стола чашки и тарелки.
— Я, пожалуй, лучше пойду.
— Хорошо, иди! — Резко повернувшись к раковине, он не сумел определить, где Лиза стоит, и налетел на нее. — Извини, — сердито буркнул он, ибо терпеть не мог подобных просчетов, и вдруг почувствовал, как ее рука легонько коснулась его руки — всего на мгновение; потом ощутил на лице ее дыхание.
— Спасибо за кофе, Санзо, — сказала она.
Он повернулся к ней спиной и поставил чашки в раковину.
Лиза ушла, а через минуту ушел и Вольф, с
трудом преодолев четыре пролета лестницы. Обычно он просиживал большую часть дня во дворе и, прихрамывая, передвигался вслед за солнцем, по мере того как оно перемещалось с западной стены на восточную. А когда начинали завывать фабричные сирены, Вольф отправлялся навстречу старым приятелям, возвращавшимся с работы, и они шли в пивную на углу. Санзо вымыл посуду, убрал постели, потом взял свою палку и вышел на улицу. В госпитале для ветеранов войны его научили ремеслу, которым может заниматься и слепец, — плетению кресел из камыша, и Сара устроила настоящую охоту на местных торговцев подержанной мебелью, которых изводила по очереди до тех пор, пока один не согласился отдавать Санзо все заказы на изготовление и починку плетеной мебели, поступавшие к нему. Впрочем, часто никакой работы вообще не было, зато на этой неделе поступил заказ на починку сразу восьми кресел. До мастерской было одиннадцать кварталов, но Санзо хорошо знал привычные маршруты. Ему нравилась эта монотонная приятная работа — в тихой комнатке за магазином, наполненной запахами свежесрезанного камыша, лака, плесени и клея; она даже слегка завораживала его. Был уже пятый час, когда Санзо очнулся от своих мыслей, вышел, стуча палкой, на улицу и в булочной на углу купил себе булочку с сосиской. Потом двинулся дальше по знакомому маршруту — в магазин своего дяди: «Чекей: торговля канцелярскими принадлежностями». Магазин представлял собой узкую щель между двумя стенами; здесь продавалась писчая бумага, чернила, астрологические карты, струны, сонники, карандаши, кнопки. Санзо уже давно стал помогать Альбрехту, совершенно неспособному к подсчетам, вести бухгалтерские дела. Но теперь и подсчитывать, собственно, было почти нечего: покупатели заходили очень редко. Сейчас Санзо хорошо слышал, как Сара, нарочно распаляя себя, за что-то выговаривает Альбрехту, и внутрь не пошел — вернулся на улицу, так хлопнув за собой дверью, чтобы колокольчик зазвенел вовсю и Сара отвлеклась от ссоры и вышла к прилавку в надежде на покупателя. А Санзо поспешил прочь по третьему ежедневному маршруту: в парк. Было чудовищно жарко, хотя солнце уже садилось. Когда Санзо поднял голову и посмотрел на солнце, перед глазами поплыл тяжелый сероватый туман. Он отыскал ту скамейку, на которой сидел обычно. Насекомые гудели в сухой траве, город тяжело вздыхал, слышались голоса проходивших мимо людей, то дальше, то ближе — ему казалось, что они доносятся из пустоты. Почувствовав, что вокруг сгущаются вечерние тени, Санзо двинулся к дому. Голова уже болела вовсю. Довольно долго за ним тащилась бродячая собака. Он слышал ее тяжелое дыхание и цоканье когтей по тротуару. Раза два он замахивался на нее палкой, когда она начинала путаться у нею под ногами и жаться к коленкам, но ни разу не ударил ее.
После ужина, торопливо съеденного в тиши раскаленной кухни, он посидел во дворе с отцом, дядей Альбрехтом и Кассом Бенатом. Они говорили о забастовке, о новой технологии крашения тканей, из-за которой довольно много рабочих лишатся места, о десятнике, вчера убившем жену и детей. Стояло полное безветрие, вечер был липко-душным.
В десять легли спать. Санзо устал, но жара и духота в квартире не давали уснуть. Он лежал и без конца думал о том, что, наверное, стоит встать и выйти во двор, где гораздо прохладней. Тихо и непрерывно грохотал далекий гром, порой раскаты его чуть усиливались, порой замолкали совсем. Жаркая ночь обступала его со всех сторон, окутывала влажным своим покрывалом, прижималась к нему — он вспомнил, как девушка утром прижалась к нему на мгновение, когда он нечаянно налетел на нее. Внезапно в окна ударил порыв холодного ветра, стало легче дышать, раскаты грома слышались ближе. Застучали капли дождя. Санзо лежал неподвижно. Он знал — по серым вспышкам тумана перед глазами, — что в небесах сверкают молнии. Гром оглушительными ударами раздавался в колодце их двора. Дождь усилился, барабаня по стеклам. Когда гроза начала ослабевать, Санзо наконец почувствовал облегчение; его охватила истома, благостное, хотя и довольно слабое ощущение покоя; без стыда и страха он снова вспомнил пережитые утром мгновения, когда случайно коснулся Лизы, потом незаметно соскользнул в сон.
Вот уже три дня Сара была исключительно вежлива с ним. Не доверяя ей, Санзо попытался ее спровоцировать, но она, приберегая свои вспышки гнева для Вольфа и Альбрехта, оставляла спички там, где Санзо легко мог их найти, спрашивала, не нужно ли ему еще денег (из его же собственной пенсии) и не хочет ли он сходить в пивную. В конце концов она спросила: может быть, стоит кому-то приходить к ним иногда и читать ему вслух?
— Что именно читать? — поинтересовался Санзо.
— Газету, например, да все, что угодно! Может, тебе стало бы повеселей. Наверное, кто-нибудь из детей Бенатов смог бы это сделать. Хотя бы Лиза. Я ее вечно с книгой в руках вижу. Ты ведь раньше всегда так много читал!
— Это увлечение у меня давно прошло, — глупо и горько пошутил он, но Сара ничего не заметила и неслась дальше на всех парусах, увлеченно рассказывая, как идут дела в прачечной госпожи Бенат, как Лизу выгнали с работы, как и где искать книги, оставшиеся от матери Санзо, которая тоже была большой любительницей чтения, вечно с книжкой в руках. Санзо слушал вполуха, ничего не отвечая, однако совершенно не удивился, когда на следующий день к вечеру вдруг забежала Лиза, чтобы почитать ему. Сара обычно не сворачивала с избранного пути. Она даже успела откопать в одном из ящиков в комнате Вольфа три книги, принадлежавшие матери Санзо, старые романы в школьном издании. Лиза, которой, судя по ее голосу, было очень не по себе, тут же начала читать ему один из этих романов — книгу Карантая «Юность Лийве». Сперва она очень торопилась, кашляла, голос у нее садился от волнения, но потом увлеклась и с удовольствием читала почти до самого прихода Сары и Альбрехта, а под конец спросила:
— Мне завтра прийти?
— Если хочешь, — сказал Санзо. — Мне твой голос нравится.
На третий день она уже совершенно ничего не замечала вокруг и следила только за развитием сюжета этого длинного, изящно написанного любовного романа. Санзо романтическая история уже надоела, однако он настроен был миролюбиво и терпеливо слушал. Лиза приходила читать два-три раза в неделю после обеда, когда матери в прачечной не требовалась ее помощь; и Санзо привык на всякий случай возвращаться домой к четырем.
— Тебе, видно, нравится этот Лийве, — сказал он, когда однажды, закончив читать, Лиза закрыла книгу. Они сидели за кухонным столом. В кухне долгими сентябрьскими вечерами было уютно и тихо.
— Ах, он такой невезучий, — сказала девушка с таким горячим сочувствием, что самой стало смешно. Санзо тоже улыбнулся. Его красивое, напряженно застывшее лицо вдруг, благодаря этой улыбке, совершенно переменилось, ожило. Он протянул руку, отыскал книгу и пальцы Лизы на ней и накрыл руку девушки своей рукой.
— Неужели он тебе нравится именно поэтому?
— Не знаю!
Он резко поднялся и, обойдя вокруг стола, остановился возле нее. Он стоял так, что теперь она не смогла бы встать. Лицо его снова было напряженно-внимательным.
— Сейчас темно?
— Нет. Еще только вечер.
— Мне очень хотелось бы посмотреть на тебя, — сказал он, и его левая рука нежно, легонько коснулась лица Лизы. Она вздрогнула, но сразу замерла и сидела, не шевелясь. Санзо взял ее за плечи, сперва тоже очень легко, но потом сильно сжал их и, приподняв девушку со стула, прижал к себе. Он весь дрожал. Лиза вела себя совершенно спокойно. Он целовал ее губы, лицо, тщетно попытался расстегнуть блузку, но потом вдруг резко отстранился и выпустил ее.
Она глубоко вздохнула — точно всхлипнула. Легкий сентябрьский ветерок веял вокруг них, влетая в открытое в соседней комнате окно. Он стоял к ней спиной, и она мягко окликнула:
— Санзо…
— Ты лучше уйди, — сказал он. — Нет! Я не знаю… Извини меня. Уйди, Лиза.
Она минутку постояла, потом наклонилась и прижалась губами к его руке, которой он держался за край стола. Потом взяла свой платок и вышла. Закрыв за собой дверь, она постояла немного на лестничной площадке. Сперва ничего слышно не было, потом в квартире Санзо скрипнул стул, а потом она услышала, как он насвистывает песенку — очень тихо, настолько тихо, что она даже не была уверена, из-под его ли двери доносится свист. Потом кто-то начал подниматься по лестнице, и Лиза сбежала вниз, но песенка застряла у нее в голове; слова она знала, это была старая песня, и она напевала ее вполголоса, идя через двор:
Два нищих оборванца из дому вышли.
— Эй, братец, дай-ка мне поесть, —
Сказал один нищий.
Через два дня она пришла снова. Оба не знали, что сказать, и она тут же принялась читать. Они добрались до той главы, где к больному поэту Лийве на чердак приходит графиня Луиза; эта глава называлась «Их первая ночь». Губы у Лизы пересохли от волнения, голос несколько раз прерывался.
— Дай мне, пожалуйста, глоток воды, — сказала она, однако воды так и не получила. А когда встала из-за стола, то встал и он. И протянул к ней руку. И она эту руку взяла.
Но в том, как она прильнула к нему, чувствовалось нечто неясное, недоговоренное, некое движение души, подавленное в самом начале, еще до того, как она поняла, что чему-то противится.
— Ладно, — прошептал он, и его руки стали нежнее. Ее глаза были закрыты, его — открыты; они стояли так, не зажигая лампы, в темноте, совершенно одни.
На следующий день Лиза начала было читать, потому что они по-прежнему не могли разговаривать друг с другом, однако прервала чтение еще раньше. Потом несколько дней она помогала матери в прачечной. За работой она все время напевала ту песенку:
— Ступай-ка к булочнику в дом,
Дать ключ вели ему,
Скажи, что я тебя послал,
И спорить ни к чему!
Склоняясь над корытом, мать подхватила песенку. Но Лиза тут же петь перестала.
— А мне что, нельзя? У меня эта твоя песенка за день в ушах навязла. — Госпожа Бенат снова опустила в дымящуюся воду красные, изъеденные мылом руки. Лиза завела рукоятью машину для выжимания белья и сунула туда совершенно негнущийся рабочий комбинезон.
— Да полегче ты! Сломалась, что ли?
— Да нет, просто не лезет.
— Может, пуговица попала? Чего это ты в последнее время стала такая нервная?
— Ничего я не нервная.
— Я ведь не Санзо Чекей. Я тебя насквозь вижу, детка!
Обе молчали, пока Лиза продолжала сражаться с машиной. Госпожа Бенат подняла корзину с мокрым бельем, прижимая ее к груди, и со стоном поставила на стол.
— Ты это сама придумала — читать ему?
— Нет, его тетка попросила.
— Сара?
— Она сказала, что, может, это его немного развеселит.
— Развеселит, надо же! Значит, Сара? Да она бы уже давно выгнала и его, и Вольфа на улицу, если бы не их пенсии! И я не уверена, что стала бы ее за это винить. Хотя Санзо, правду сказать, сам о себе заботится, и куда лучше, чем можно было ожидать. — Госпожа Бенат водрузила на стол еще одну корзину с бельем, стряхнула с распухших рук хлопья мыльной пены и повернулась к дочери лицом: — А теперь послушай-ка меня внимательно, Алиция. Сара Чекей — женщина, конечно, достойная. Но ты впредь будешь слушаться меня, а не ее. Поняла?
— Да, мама.
Лиза в тот день после обеда была свободна, однако к Чекеям не пошла. Она повела младшую сестренку в парк на кукольный спектакль и возвратилась домой только уже совсем в сумерках, когда ветреный осенний вечер подходил к концу. В ту ночь она поудобнее улеглась в постели, вытянувшись на спине и вольно расправив руки, и стала думать о том, что сказала ей мать. Это имело непосредственное отношение к Санзо. Неужели Сара специально хотела оставить их с Санзо вдвоем? Но зачем? Уж конечно, не по той же причине, по какой ей самой, Лизе, хотелось остаться с Санзо наедине. Но тогда что в этом плохого? Неужели мать боится, что Лиза может влюбиться в Санзо?
Тут в ее мысленном разговоре с самой собой возникла небольшая пауза, а потом она подумала: «Но я ведь уже влюблена в него». Она как-то ни разу об этом не задумывалась в последние дни, с тех пор, как он впервые поцеловал ее; теперь же мысли ее прояснились, и все вдруг встало на свои места. Неужели она до сих пор этого не понимала? Странно, ведь это же совершенно очевидно! Но мама тоже должна понять ее; она ведь всегда все понимала, даже раньше, чем сама Лиза. Впрочем, она и не сказала ни слова предостережения, ни слова против Санзо. Она сказала только, чтобы Лиза держалась подальше от Сары. И это правильно. Лизе Сара тоже не нравилась, так что она охотно согласилась с требованием матери: больше не слушать Сару, что бы та ей ни говорила. А, между прочим, что Сара еще может ей сказать? И вообще, все это не имеет к Саре ни малейшего отношения.
— Санзо, — шепнула Лиза одними губами, чтобы не услышала ее сестра Ева, спавшая рядом; потом, довольная собой, она повернулась на бок, свернулась калачиком и уснула.
На следующий день она пошла к Чекеям и, когда они с Санзо как всегда сидели за столом в кухне, все посматривала на Санзо, разглядывая его. Глаза у него выглядели как у всех людей, слепоту выдавало лишь напряженное выражение лица да страшно изуродованный висок; даже под волосами видны были шрамы. Но разве ей эти шрамы отвратительны? Разве ей хочется убежать и не видеть их, хотя именно такое желание возникало у нее при встрече с ребенком, страдающим водянкой мозга, или с нищим, у которого вместо носа две огромные дыры? Нет, напротив, ей хотелось легко и нежно коснуться его шрамов — так, как он тогда впервые коснулся ее лица; ей хотелось погладить его по голове, провести пальцем по уголкам рта, сжать его сильную, спокойно лежащую на столе руку, когда он терпеливо ждет продолжения чтения или начала разговора… Единственное, что ее в нем раздражало порой, — это какая-то неосознанная пассивность, зависимость от обстоятельств, сквозившая и в его терпеливой манере выжидать, и в самой его смиренной позе. Человек с таким лицом и с такой фигурой просто не мог, не должен был проявлять такую пассивность!
— Сегодня мне что-то читать не хочется, — сказала она.
— Ладно, не будем.
— А ты не хочешь прогуляться? Погода чудесная.
— Хорошо.
Он надел куртку и последовал за ней по темной лестнице. На улице он просто пошел рядом, хотя палку с собой не взял. Она же брать его за руку не решалась.
— В парк?
— Нет. Пойдем на Холм. Там есть одно место, куда я раньше часто ходил, а теперь мне самому туда не добраться.
Холм на окраине Ракавы считался самой ее высокой точкой. Дома там были старые, огромные, вокруг — частные парки и сады. Лиза никогда здесь раньше не гуляла, хотя Холм находился всего в миле от ее родных кварталов. Сильный ветер дул с юга вдоль тихих незнакомых улиц. Она с любопытством и удовольствием осматривалась.
— Да тут кругом парк! Все улицы деревьями засажены, — восхищалась она.
— А где мы сейчас, на улице Совенскара?
— Я не заметила.
— Скорее всего так. Ты впереди, на той стороне, такой серой стены со стекляшками поверху не видишь? Мы должны мимо нее пройти.
Наконец они добрались до огромного, ничем не огороженного, совершенно одичавшего сада в конце узкого немощеного проезда. Лиза немножко боялась вторгаться на чужую территорию, да еще принадлежавшую какому-то богачу, но Санзо решительно шагал вперед, точно сам являлся здешним хозяином. Узкая подъездная аллея резко пошла в гору, сад стал еще гуще; ближе к вершине его лужайки и кусты ежевики все еще в какой-то степени сохраняли ту форму, которая им некогда была придана садовниками. Аллея подводила к дому, построенному почти у самой городской стены. Это был большой каменный дом, который своими пустыми окнами смотрел прямо на раскинувшийся внизу город.
Они сидели на склоне поросшего некошеной травой холма. Горячие лучи солнца, садившегося слева, за рощей, пробивались сквозь густую листву. Над равнинами, что простирались далеко за городские стены, висел то ли дым, то ли какая-то пелена. Отсюда была видна вся Ракава. Кое-где над крышами поднимались столбы дыма из труб, уносимого южным ветром. Невнятный тяжелый шум города точно специально оттенял мирную тишину этого заброшенного сада. Порой где-то вдали слышался лай собаки, или же, гулкий среди домов, стук лошадиных копыт, или чей-то оклик. На северной и восточной окраинах города, где городская стена давно разрушилась, громоздились фабрики — точно гигантские кубики среди маленьких игрушечных домов.
— Здесь по-прежнему никто не живет?
Лиза обернулась и посмотрела на пустой дом, на его черные незастеклённые окна:
— Похоже, тут никто никогда и не жил.
— Садовник из одного дома по соседству рассказывал мне — я тогда еще был совсем мальчишкой, — что этот дом пустует уже лет пятьдесят. Его какой-то иностранец построил. Приехал сюда, сколотил на здешних фабриках состояние с помощью каких-то своих машин, потом уехал. А дом так и не продал, просто бросил, и все. Садовник говорил, что в нем сорок комнат. — Санзо лежал навзничь на траве, подложив под голову руки; глаза его были закрыты; выражение лица спокойное, даже ленивое.
— Город отсюда занятно выглядит. Половина золотая, половина черная, и все дома стоят тесно, как игрушки в битком набитом ящике. Интересно, зачем так тесниться, если вокруг столько места? У долины за городскими стенами просто конца-края не видно!
— В детстве я сюда часто приходил. Мне тоже нравилось Ракаву отсюда рассматривать… Господи, что за вонючий городишко!
— Ну, отсюда-то он кажется просто прекрасным.
— Нет уж! Красной — вот действительно красивый город.
Он прожил в Красное целый год — лечился в госпитале для ветеранов войны после того, как противопехотная мина ослепила его.
— Значит, ты Красной еще раньше видел? — спросила Лиза, и он, понимая, что она имела в виду, кивнул:
— Да, в семнадцатом году, сразу после того как меня забрали в армию. Мне всегда хотелось туда вернуться. Красной — такой большой, такой живой город, там мертвечиной не разит, не то что у нас.
— Башни сейчас очень красивые отсюда, и Суд, и старая тюрьма… выступают из тени, точно чьи-то пальцы… А чем ты здесь занимался, когда раньше приходил сюда?
— Ничем. Просто бродил повсюду. В этот дом несколько раз залезал.
— И что, в нем действительно сорок комнат?
— Я никогда не считал. Там страшновато было, и все время привидения мерещились. А знаешь, что любопытно? Я всегда раньше считал, что заброшенный дом похож на слепого человека. И эти черные окна, словно пустые глазницы…
Голос его звучал спокойно, и лицо, освещенное ярким красноватым закатным солнцем, тоже было спокойным.
— Скорее всего графиня Луиза все-таки вернется к Лийве, — проговорила мечтательно Лиза.
Санзо рассмеялся. Действительно веселым, довольным смехом. И протянул к Лизе руку. Почувствовав ее пальцы, он притянул девушку к себе, и она легла с ним рядом, положив голову ему на плечо. Густая трава под ними была мягкой, как матрас. Лиза ничего не видела за вздымающейся перед ней грудью Санзо, кроме неба и верхушек каштанов в роще. Они лежали тихо под теплыми лучами заходящего солнца, и, наверное впервые в жизни, Лиза чувствовала себя абсолютно счастливой. Чувствуя обреченность, недолговечность этих мгновений, она не желала упустить из них ни капли. Однако все нарушил первым именно он. Сел и сказал:
— Солнце, наверное, село, что-то холодно становится.
И они пошли по широким тихим улицам обратно — в свой прежний мир. Улицы снова стали шумными, многолюдными: с фабрик домой возвращались рабочие, Санзо не выпускал Лизиной руки, и она старалась вести его бережно, однако каждый раз, когда кто-нибудь все-таки толкал его (на самом деле его толкали не чаще, чем ее), чувствовала свою вину. Он был высоким, шагал широко и абсолютно прямо, нисколько не заботясь о других прохожих, так что Лизе приходилось все время чуточку опережать его, чтобы избежать столкновений. Когда они подходили к своему дому, он уже снова хмурился, а она с трудом переводила дыхание. Они быстренько распрощались у его подъезда, и Лиза еще немного постояла во дворе, глядя ему вслед, когда он двинулся вверх по лестнице той же непоколебимой поступью, что и на улице. Хотя каждый шаг делал в темноте.
— Куда это ты ходила? — спросил низкий мужской голос у нее за спиной. Она так и подскочила от неожиданности.
— Гуляла с Санзо Чекеем, папа.
Касс Бенат, плотный, коренастый, широкоплечий, казавшийся в сумерках особенно крепким и массивным, проговорил задумчиво:
— А я думал, он отлично и сам умеет по улицам ходить.
— Да, верно. — Лиза широко улыбнулась. Отец стоял перед ней, о чем-то серьезно размышляя.
— Ладно, ступай домой, — сказал он наконец и направился к колонке во дворе: умыться.
— Но она же когда-нибудь все равно выйдет замуж.
— Возможно.
— Что значит «возможно»? Ей уже восемнадцать. Есть, конечно, девчонки и покрасивее, да только и она не из худших. Да она теперь в любой день может замуж выскочить.
— Не выскочит. Пока будет с этим Санзо путаться.
— Подвинь-ка подушку, она мне углом прямо в глаз попадает. Что значит «путаться»? Что ты хочешь этим сказать?
— Да я и сама не знаю.
Касс сел в постели.
— Ты к чему это ведешь? — хрипло спросил он.
— Ни к чему. Я-то свою девочку знаю. А вот кое-кто из соседей может тебе ох как много порассказать всякого. И друг другу тоже.
Помолчали.
— А все потому, что я веду себя как дура, — уронила во тьму миссис Бенат. — Господи, да мне это и в голову не приходило! Да и с чего? Он же СЛЕПОЙ!
Снова помолчали. Потом Касс заговорил, в голосе его слышалось напряжение:
— Санзо не виноват. Он парень хороший. И работал хорошо. Не его вина…
— Ну мне-то объяснять не нужно. Такой был хороший, высокий красивый мальчик! И серьезный, в точности как ты был когда-то. Пусть это глупо, да только хотелось бы знать, что там господь задумал…
— Да какая разница! А вот что ты намерена делать?
— С Сарой-то я справлюсь. Она сама мне поможет, уж я ее знаю. У нее терпения никакого. А вот как с девочкой быть… Ведь если с ней еще разок на эту тему поговорить, так она себе такого навообразит!
— Тогда поговори с ним.
На этот раз они молчали куда дольше. Касс уже наполовину заснул, когда его жена вдруг взорвалась:
— Что значит «поговори с ним»?
Касс что-то пробурчал.
— Сам поговори с ним, если это так просто!
— Кончай, старушка. Я устал.
— Тогда я умываю руки! — Она была очень сердита.
Касс протянул руку и шутливо шлепнул ее пониже спины. Она сердито фыркнула, вздохнула, они наконец улеглись, тесно прижавшись друг к другу, и вскоре уснули. А поднявшийся в темноте осенний ветер рыскал по улицам и дворам.
Старый Вольф в своей комнатке без окон слышал, как любопытный ветер посвистывает за стенами дома, пытаясь проникнуть внутрь. Из соседней комнаты доносился негромкий храп Альбрехта и басовитый — Сары. Потом, услышав какое-то поскрипывание и позвякивание, он встал, отыскал тапочки и старый драный халат и зашаркал на кухню. Там было темно.
— Санзо, это ты?
— Точно.
— Зажги-ка свечу. — Вольф подождал, чувствуя себя в кромешной тьме очень неуютно. Звякнула жестянка, чиркнула спичка, и вокруг крохотного голубоватого язычка пламени снова возник привычный мир.
— Горит?
— Опусти-ка ее пониже. Вот так.
Они сели за стол. Вольф все пытался прикрыть халатом мерзнувшие ноги. Санзо был одет, но рубашка застегнута криво; он выглядел злым и измученным. Перед ним на столе стояли бутылка и стакан. Он налил стакан до краев и подтолкнул его к отцу. Вольф поднял стакан обеими скрюченными руками и стал пить большими глотками, делая смачную паузу перед каждым. Устав ждать, Санзо взял себе другой стакан, наполнил его до половины и залпом выпил.
Осушив свой стакан до дна, Вольф некоторое время смотрел на сына, потом сказал:
— Александр…
— Что?
Вольф сидел, по-прежнему глядя на него, потом встал и снова повторил его имя, которым никто его никогда не называл, кроме матери, которая вот уже пятнадцать лет как умерла.
— Александр…
Он тронул сына за плечо своими неловкими пальцами, постоял возле него минутку и зашаркал прочь, в свою комнату.
Санзо снова налил себе и снова выпил. Он обнаружил, что в одиночку напиться довольно трудно; он никак не мог понять, достаточно ли уже захмелел. Вокруг словно был густой туман, который и не развеивался, и гуще тоже не становился. Пустота. «Пустота — не тьма», — сказал он, указывая пальцем, которого не мог видеть, на кого-то, незримо присутствующего рядом. У этих слов был великий смысл, но Санзо почему-то очень не понравился звук собственного голоса. Он ощупью поискал стакан, который вдруг исчез, потом глотнул прямо из бутылки. Туманная пустота осталась точно такой же, как прежде. «Уходи, уходи, уходи, — забормотал он. На этот раз звук собственного голоса был ему приятен. — Тебя все равно нет. Никого из вас нет. Никого здесь нет. А вот я как раз здесь! — Это утверждение его вполне удовлетворило, хотя к горлу неожиданно подкатила тошнота. — Я здесь», — сказал он. Губы не слушались и дрожали. Он уронил голову на руки, стараясь справиться с дурнотой. Голова так кружилась, что ему показалось, будто он падает со стула, однако никуда он не упал, а мгновенно и крепко уснул. Свеча возле его руки на столе постепенно догорела и погасла; Санзо спал, навалившись на стол, а ветер все свистел за окном, и улицы постепенно светлели с наступлением утра.
— А я и сказала-то только: чего это ты туда зачастила в последнее время?
— Да? Ну и что? — спросила госпожа Бенат спокойно, однако по-настоящему заинтересованно.
— Ой, она сразу завоображала! — возмутилась Ева, вторая дочь Бенатов. Ей было шестнадцать.
— Хм, правда?
— Он ведь даже работать не может, чего ж он тогда нос-то так дерет?
— Он работает.
— Ой, ну какие-то там стулья чинит! А воображает из себя! А теперь и она нос задрала, стоило мне спросить. Как тебе моя прическа? — Ева была очень хорошенькая, в точности как мать в шестнадцать лет. Нарядная, красиво причесанная, она собиралась на прогулку с очередным из многочисленных серьезных худосочных претендентов, добивавшихся ее внимания; чтобы заслужить право ухаживать за Евой, молодым людям требовалось пройти тщательнейший отбор; их оценивали как с точки зрения их собственных задатков, так и сравнивая с предшественниками; отбор Евиных поклонников осуществляли ее родители.
Когда Ева наконец ушла, госпожа Бенат отложила груду нуждавшихся в штопке вещей и заглянула в комнату младших детей. Лиза укачивала свою пятилетнюю сестренку, напевая все ту же песенку о двух оборванцах. От порывов поднявшегося еще прошлой ночью ветра звенели закрытые окна.
— Уснула? Пойдем-ка со мной, Лиза.
Лиза последовала за матерью на кухню.
— Приготовь нам по чашечке шоколада, пожалуйста. Я до смерти устала… Ох уж эта мне теснота! Если бы у нас была еще хоть одна комната, где вы могли бы посидеть со своими дружками! Не нравятся мне ваши прогулки, нехорошо это. Девушка должна быть дома, и ухажеры к ней должны приходить…
Она умолкла и, пока Лиза не сварила шоколад и не присела рядом с нею, не сказала ни слова. Потом наконец решилась:
— Не хочу я, чтоб ты продолжала к Чекеям ходить, дочка.
Лиза поставила на стол чашку и принялась разглаживать какую-то складочку на юбке. Потом стала теребить конец ремешка, торчавший из-под пряжки.
— Почему же, мама?
— Люди больно много болтают.
— Нужно же им болтать о чем-то.
— Ну, только не о моей дочери!
— Хорошо, а ему можно прийти сюда?
Госпожа Бенат растерялась; она не ожидала такой смелой, почти наглой атаки с фланга, тем более от Лизы. Потрясенная, она выпалила:
— Нет! Неужели ты хочешь сказать, что он за тобой ухаживает?
— Мне кажется, да.
— Он же слепой, Алиция!
— Я знаю, — очень серьезно ответила девушка.
— Он же не может… не может на жизнь заработать!
— У него пенсия — двести пятьдесят.
— Двести пятьдесят?
— Да, двести пятьдесят, больше, чем многие сейчас зарабатывают. Кроме того, работать могу я.
— Надеюсь, ты, Лиза, не собираешься за него замуж?
— Мы еще об этом не говорили.
— Но, Лиза! Разве ты не понимаешь…
В голосе госпожи Бенат послышалось отчаяние. Она умолкла и положила руки на стол — маленькие изящные руки, распухшие от горячей воды и едкого мыла.
— Лиза, послушай меня. Мне уже сорок. Половину своей жизни я прожила в этом городе. Подумай: двадцать лет в этих четырех комнатушках! Я приехала сюда почти твоей ровесницей. Ты ведь знаешь, я родилась в Фораное. Тоже старый городишко, но не такая западня, как Ракава. Твой дед работал на заводе обыкновенным рабочим, но у нас был и свой дом с небольшой гостиной, и свой двор с кустами роз. Перед смертью твоя бабушка — ты этого, конечно, не помнишь — все время спрашивала: когда же наконец мы вернемся домой? Сперва мне здесь очень даже понравилось; я была молода, любила твоего отца, и через год-два мы собирались снова переехать на север. Мы тогда часто говорили об этом. А потом родились вы. А потом началась война. Во время войны заработки были очень хорошие. Ну а теперь все в прошлом, и нечего ждать, кроме забастовок и урезания зарплаты. И вот я оглянулась на свою жизнь и поняла, что никогда мы отсюда не выберемся, так навсегда здесь и останемся. Знаешь, Лиза, когда я это поняла, то дала обет. Ты скажешь, что я в церкви годами не бываю, и это правда, но тут я пошла в церковь. И дала обет Святой Деве Совенской. Я сказала ей: Богородица Пресвятая, пусть я останусь здесь, я согласна, только дай моим детям возможность уехать отсюда — и больше ни слова жалобы от меня не услышишь, только их отпусти! — Госпожа Бенат подняла голову и посмотрела на дочь. Тон ее смягчился. — Ты ведь понимаешь, к чему я это говорю, Лиза? Твой отец — один на тысячу! А чем он может в конце жизни похвастаться? Да ничем. Ничего мы не скопили. Живем в той же квартирке, что и после свадьбы. И место у него все то же. И жалованье. Так здесь со всеми получается, в ловушке этой проклятой! Я уже вдоволь насмотрелась, как мой муж здесь пропадает, неужели теперь смотреть, как пропадает моя дочь? Ни за что! Я хочу, чтобы ты вышла замуж за обеспеченного человека и выбралась отсюда! Погоди, дай мне закончить. Если ты выйдешь за Санзо Чекея, вдвоем на его пенсию вы, конечно, сможете перебиться, но что, если дети появятся? В этом городишке сейчас для тебя никакой работы нет. А знаешь, куда ты переедешь после свадьбы? Через двор. Из четырехкомнатной квартиры в трехкомнатную. И будешь жить вместе с Сарой, Альбрехтом и отцом Санзо. И будешь задарма вкалывать в их лавчонке, где кишат крысы. И будешь связана с мужчиной, который в итоге тебя же возненавидит, потому что ничем не сможет тебе помочь. О, Санзо-то я хорошо знаю, он всегда был гордый! И не думай, что мне его не жаль. Но ты моя дочь, и это твоя жизнь, Лиза, и я не хочу, чтобы ты потратила всю свою жизнь зря!
Теперь она говорила громко, но в последний момент голос ее дрогнул. Вся в слезах, Лиза потянулась через стол и крепко сжала руки матери в своих:
— Послушай, мама, я обещаю тебе… если Санзо когда-нибудь заговорит… может быть, он этого никогда и не сделает, я не знаю… но если он все-таки заговорит о том, чтобы нам пожениться, и я к этому времени все еще не смогу найти работу, чтобы нам хватило денег для переезда в другой город, я скажу ему «нет».
— Неужели ты думаешь, что Санзо позволит тебе одной за двоих работать?
Глаза Лизы опухли от слез, щеки ее были мокры, но говорила она решительно и спокойно:
— Да, он гордый человек, мама, но не дурак.
— Господи, Лиза, неужели ты не можешь найти себе ЗДОРОВОГО мужа!
Лиза выпустила руки матери и села прямо. Она не сказала на это ни слова.
— Обещай, что не будешь больше видеться с ним, хорошо?
— Нет. Я не могу. Я уже пообещала тебе все, что могла, мама.
Воцарилось молчание.
— Ты мне ни в чем никогда не перечила, — задумчиво и печально проговорила госпожа Бенат. — Ты всегда была хорошей девочкой, всегда. А теперь ты выросла. И я не могу запирать тебя в доме, как гулящую девку. Касс, может, и сказал бы, что запирать надо, да я сама не могу так поступить с тобой. Так что тебе решать, Лиза. Ты можешь спасти и себя, и его. Или можешь понапрасну потратить целую жизнь.
— Спасти себя? Для чего? — спросила девушка, и в голосе ее не слышалось ни малейшей горечи. — Для меня никогда никого другого и не существовало, кроме него. Даже когда я еще совсем девчонкой была, еще до того как он в армию ушел. Забыть о таком — вот настоящий грех… И еще, может, отчасти грешен тот твой обет, мама.
Госпожа Бенат встала.
— Кто меня за него осудит? — устало сказала она. — Я хочу всего лишь избавить свою дочь от жалкой жизни, а она мне твердит, что это грех.
— Не твой грех, мама. Мой. Я не могу выполнить твои обеты!
— Что ж, пусть тогда господь простит нас обеих. И его, беднягу, тоже. Я ведь хотела как лучше, Лиза. — И госпожа Бенат, тяжело ступая, пошла к себе в комнату. Лиза осталась сидеть за столом, вертя в руках чайную ложку. Она не чувствовала себя победительницей, хотя впервые в жизни выступила против собственной матери и одержала над ней победу. Она ощущала только усталость; слезы то и дело вновь наворачивались ей на глаза. Этот разговор имел лишь одно преимущество: она больше никого на свете не боялась. В конце концов она заставила себя встать и пойти в комнату, которую делила с Евой. Там она отыскала карандаш, клочок бумаги и написала Санзо Чекею очень короткое письмо о том, что она его любит. Закончив писать, Лиза тщательно свернула листочек, положила в тяжеловатый старый медальон из позолоченной бронзы, подарок матери, и застегнула на шее цепочку. Потом легла в постель и долго лежала, прислушиваясь к бесконечному бесцельному вою ветра.
У Сары Чекей, как справедливо отметила госпожа Бенат, терпения не было ни на грош. В тот же вечер она спросила своего племянника, пока Вольф и Альбрехт торчали в пивной:
— Санзо, а ты никогда не думал о женитьбе? Да не строй ты такую рожу. Я серьезно. Я уже давно об этом думаю и скажу тебе почему. Неплохо бы тебе увидеть лицо Лизы Бенат, когда она на тебя смотрит. Вот почему я о твоей женитьбе задумалась.
Он повернулся к Саре и холодно спросил:
— А тебе какое дело до того, как она на меня смотрит?
— Глаза-то у меня есть! Трудно не заметить, что у тебя под носом творится! — Тут она даже дыхание затаила, но Санзо только засмеялся своим тревожным смехом.
— Ну что ж, давай смотри, — сказал он. — Только не вздумай мне об этом говорить.
— Послушай, Санзо Чекей, вот ты стоишь, гордо нос задравши, и притворяешься, будто тебе все на свете безразлично, а к тому, что я тебе говорю, даже прислушаться не желаешь, хотя, может, стоило бы. Ты думаешь, я с твоей женитьбы какую-нибудь выгоду буду иметь? Я просто думала о тебе и случайно заметила…
— Все, хватит, — сказал он. Но голос у него зазвенел и сорвался, что придало Саре сил, и она обрушила на него град оправданий и обвинений. — Довольно, — прервал ее Санзо. — Больше я с этой девушкой никогда встречаться не буду. — Поскольку деваться от Сары было некуда, он выбежал из квартиры, яростно хлопнув дверью, ссыпался по лестнице и только на улице остановился, обнаружив, что не взял ни палку, ни куртку и даже денег у него нет. Значит, Лиза решила заполучить его?
И Сара ей помогала? Они вместе строили свои гнусные планы, а он в их сети попался!.. Когда ужасное напряжение, плод унижения и бессильной ярости, начало спадать, Санзо совсем заблудился и понятия не имел, в каком направлении движется и далеко ли ушел от дома. Свое местонахождение он определил не сразу. Люди проходили мимо, занятые своими делами и разговорами, и не обращали на него никакого внимания, а может, считали, что он пьян. В конце концов он все-таки отыскал свой дом и подъезд, поднялся в квартиру, вытащил десять кронеров из отцовского бумажника и снова ринулся вниз, не взглянув на негодующую Сару, с грохотом захлопнув за собой дверь.
Он вернулся домой наутро, часов в десять, рухнул на свой диван в гостиной и проспал весь день. Было воскресенье, и дядя Альбрехт, которому пришлось неоднократно проходить мимо распростертой на диване фигуры племянника, в конце концов заявил Саре:
— С какой это стати парень снова напился? Вольф говорит, чтоб ты отобрала у него все деньги. Он так за все лето ни разу не напивался. Только сразу после госпиталя по-черному пил.
— Вот именно! Он только и способен — пропивать денежки, на которые они с отцом живут.
Альбрехт поскреб в затылке и ответил как всегда медленно и невпопад:
— Похоже, такая жизнь для двадцатишестилетнего парня — сущий ад.
На следующий день в четыре к ним пришла Лиза. Санзо предложил ей погулять, и они отправились на Холм, в сады. Стоял октябрь, небо было пасмурным, тучи готовы разразиться дождем. По дороге на Холм ни один не проронил ни слова. Они уселись на траву под стеной пустующего дома. Лиза зябко ежилась, глядя на серый город, на тысячи его улиц, на огромные здания фабрик. Солнца не было, над садом нависала зловещая темная тень каштановой рощи. Где-то далеко, на противоположном конце города раздался свисток поезда.
— Ну и как сегодня выглядит Ракава?
— Вся какая-то черно-серая.
Лиза заметила, что не говорит, а как-то по-детски лепечет. Однако он явно не совершал над собой насилия, задавая ей этот вопрос. Это хорошо, у нее даже чуточку на душе полегчало. Если б только они смогли разговаривать и дальше! Или если б он захотел коснуться ее, почувствовать, что она с ним рядом! Тогда все сразу встало бы на свои места. И он действительно вскоре потянулся к ней, и она с готовностью прильнула к нему, положила голову ему на плечо, но чувствовала в нем какое-то странное напряжение, он словно хотел сказать ей что-то важное, и она уже собралась спросить, что именно он хочет ей сказать, когда одной рукой он приподнял ее лицо и поцеловал. Поцелуй становился все более требовательным. Санзо резко повернулся и всей тяжестью навалился на нее, голова ее откинулась назад, его губы скользнули по ее шее, по груди… Она попыталась заговорить с ним, но не смогла, попыталась оттолкнуть его и тоже не сумела. Он буквально вдавил ее в землю, за его плечами даже небо исчезло. В животе у нее свернулся тугой узел, она уже ничего не видела, однако ей удалось выдохнуть слабым, еле слышным шепотом:
— Пусти.
Он не обратил на это ни малейшего внимания, только еще сильнее вдавил ее в жесткую мертвую траву, в темную землю — вдавил с такой силой, что она почувствовала дурноту, словно уже умирала. Однако, когда он одной рукой грубо попытался раздвинуть ей ноги и причинил резкую боль, она снова принялась яростно вырываться и билась у него в руках, точно пойманный зверек. С трудом ей удалось высвободить одну руку и оттолкнуть его голову, потом каким-то конвульсивным движением она вывернулась из-под него, встала на четвереньки, потом, пошатываясь, поднялась на ноги и бросилась бежать.
Санзо так и остался лежать, зарывшись лицом в траву.
Когда она вернулась и подошла к нему, он по-прежнему лежал неподвижно. Слезы, которые ей сперва удавалось сдерживать, потекли у нее по щекам, и она, остановившись возле него, мягко сказала:
— Ну же, Санзо, вставай!
Он не пошевелился.
— Ну же!
Через несколько минут он перевернулся на спину, потом сел. Его побелевшее лицо было все исчеркано красными царапинами — следами жесткой сухой травы. А глаза, когда он открыл их, смотрели куда-то в сторону, словно внимательно разглядывали каштаны в роще.
— Пойдем домой, Санзо, а? — прошептала она, глядя на это ужасное бледное лицо. Он поджал губы и зло сказал:
— Убирайся. Оставь меня в покое.
— Я хочу домой.
— Вот и ступай! Давай, давай, ты что, думаешь, я очень в тебе нуждаюсь? А ну быстро убирайся отсюда! — Он попытался оттолкнуть Лизу, но лишь слегка задел ее колено. Она вышла из сада и стала ждать у обочины дороги. Когда он проходил мимо, она даже дыхание затаила и решилась последовать за ним, только когда он отошел достаточно далеко. Она старалась ступать как можно тише. Пошел дождь, тонкие водяные нити падали с низкого затихшего неба почти отвесно.
Палки у Санзо с собой не было. Сперва он шел вперед весьма отважно — так он ходил, когда рядом с ним шла она. Потом начал постепенно замедлять ход, явно чувствуя себя неуверенно. Какое-то время он еще мог идти довольно быстро, она даже слышала, как он сквозь зубы насвистывает эту свою песенку. Но стоило ему спуститься с Холма, где на куда более шумных улицах он не мог ориентироваться по эху, он начал колебаться, выбирая направление, утратил ориентиры и в конце концов свернул не туда. Лиза шла теперь за ним почти след в след. Люди удивленно посматривали на них обоих. Наконец Санзо резко остановился, и она услышала, как он спросил как бы в пустоту:
— Это улица Баргей?
Какой-то мужчина, шедший ему навстречу, внимательно посмотрел на него и ответил:
— Нет, вы не там свернули. — Он взял Санзо за руку и отвел на перекресток, объяснив, в какую сторону ему следует идти и где свернуть, а потом стал спрашивать, слепой ли он, авария ли это на производстве, или же это с войны. Потом Санзо двинулся дальше, но, не пройдя и квартала, снова остановился и долго стоял. Лиза наконец догнала его и молча взяла за руку. Он дышал тяжело, точно измученный бегун.
— Лиза?
— Да, я. Пошли.
Но сначала он даже с места двинуться не мог, не мог сделать ни шагу.
А потом они медленно пошли дальше; дождь все усиливался. Когда они добрались до своего дома, он протянул руку, нащупал кирпичную стену у своего подъезда и, явно почувствовав облегчение, повернулся к Лизе и сказал:
— Больше не приходи.
— Спокойной ночи, Санзо, — сказала она в ответ.
— Видишь ли, все это ни к чему, — сказал он и тут же стал подниматься по лестнице. Лиза тоже пошла домой.
…В течение нескольких дней он уходил в мебельный магазин днем и торчал там до позднего вечера, возвращаясь домой только к ужину. Переделав всю работу в мастерской, он стал после обеда ходить в парк и продолжал эти прогулки, пока не задули зимние восточные ветры, принесшие дожди, ледяную крупу, мелкий, влажный грязноватый снежок. Когда приходилось весь день проводить в квартире, его постепенно охватывало такое нервное напряжение, что начинали дрожать руки и он часто не мог на ощупь найти
нужный предмет, порой не мог даже сказать, что именно держит в руках и держит ли вообще что-нибудь. Эта душевная маята вынуждала его все больше и больше времени проводить на улице, и в итоге он явился домой с кашлем и головной болью. Лихорадка трясла его неделю, приступы кашля становились все сильнее, и теперь температура подскакивала каждый раз, когда он пытался выйти из дому.
Поглупев от слабости и болезни, он почувствовал, что на душе стало легче. Зато для Сары наступили тяжелые времена. Теперь она должна была готовить для племянника и Вольфа завтрак, платить за дорогие патентованные лекарства от головной боли, порой мучила Санзо до слез, а ночью ей не давал спать его кашель. Она привыкла к тяжелой работе и всегда могла как-то излить свое недовольство в придирках и жалобах; но на этот раз хуже всего была не дополнительная нагрузка — Сару безумно раздражало постоянное присутствие Санзо в доме, его напряженное мучительное состояние, его меланхоличность, его слепота, его безделье, его молчание. Это настолько выводило ее из себя, что по дороге в магазин она начинала орать на бедного Альбрехта, выкрикивая:
— Я не могу больше! Не могу оставаться с ним в одном доме!
Единственным человеком, которому удалось спастись от тяжелой зимы, оказался старый Вольф. За несколько дней до Рождества он отправился в пивную с десятью кронерами, которые ему ежемесячно выдавала Сара из его же собственной пенсии, вернулся оттуда с бутылкой и стал подниматься по лестнице; он одолел три пролета, четвертый не смог. Сердечная недостаточность свалила его прямо на лестничной площадке, где его и нашли часом позже. В гробу он выглядел более крупным мужчиной, чем при жизни, а его темное мертвое лицо, напряженное, невидящее, было удивительно похоже на лицо сына. На похороны пришли все старые друзья и соседи Вольфа; ради этих похорон Чекеи залезли в долги. Были там и Бенаты, но голоса Лизы Санзо не слышал.
Санзо перебрался из гостиной в комнатку без окон, где прежде обитал его отец, и жизнь покатилась дальше, только Саре теперь стало чуточку полегче.
В январе один из Евиных поклонников, красильщик с фабрики Фермана, видимо, совершенно обескураженный бесконечным сражением с другими претендентами, стал посматривать по сторонам и заметил Лизу. Если она и взглянула на него когда-нибудь, то совершенно равнодушно; однако, когда он пригласил ее погулять, она согласилась. Лиза оставалась по-прежнему спокойной, сговорчивой, она ничуть не переменилась, разве что с матерью они стали куда ближе, разговаривали друг с другом как ровня и работали вместе тоже на равных. Мать, разумеется, не раз видела этого молодого человека, но Лизе ничего не сказала. Лиза тоже помалкивала, лишь порой как бы невзначай сообщала: «Сегодня после ужина пойду погуляю с Дживаном».
Однажды ночью ветер, дувший с промерзших насквозь восточных равнин, наконец улегся и с юга подул теплый влажный ветер, принесший сильный дождь. А утром между камнями во дворе вовсю полезла трава, с шумом забили городские фонтаны, на улицах звонко разносились людские голоса, по небу плыли небольшие голубоватые облачка. В ту ночь Лиза и Дживан шли по излюбленному маршруту местных влюбленных — через Восточные Ворота за городскую стену, к развалинам сторожевой башни; там, на холодном ветру, при свете звезд он попросил ее стать его женой. Лиза смотрела на темные склоны огромного Холма, на дальние равнины, на огни города, полускрытого разрушенной крепостной стеной. Ей потребовалось очень много времени, чтобы ответить.
— Я не могу, — сказала она.
— Почему же нет, Лиза?
Она покачала головой.
— Ты, наверное, была влюблена в кого-то, и он уехал, или оказался уже женатым, или что-то вроде того? Я понимаю. Я так и знал, что нечто подобное у тебя уже случалось.
— Тогда почему ты просишь моей руки? — с мукой в голосе спросила она. Он ответил ей прямо:
— Потому что все это у тебя в прошлом; теперь настала моя очередь.
Она была потрясена таким ответом, и он, почувствовав это, предложил ей неожиданно смущенно:
— Подумай.
— Хорошо. Но…
— Просто подумай, и все. Подумать всегда хорошо, Лиза. Я как раз тот, кто тебе нужен. И я не люблю менять свои решения и отступать.
Тут Лиза даже слегка улыбнулась, вспомнив его ухаживания за Евой. А впрочем, решила она, он ведь действительно говорит правду. Он парень застенчивый, но упорный. «А что, если я за него выйду?» — подумала Лиза и тут же почувствовала, что заражается его смущением, одновременно ощущая его поддержку, заботу, надежность.
— Знаешь, не стоит сейчас спрашивать меня об этом, — сказала она, чуть сердясь, так что он больше ни на чем не настаивал, а только попросил ее, когда они прощались у подъезда, еще раз подумать. Она обещала непременно сделать это. И думала действительно много.
С того дня в заброшенном саду на Холме прошло уже долгих пять месяцев, но она все еще просыпалась ночью от одного и того же страшного сна: колючая сухая осенняя трава колет спину, а она не может ни шевельнуться, ни сказать что-нибудь и ничего не видит. А потом ей казалось, что она очнулась ото сна, но почему-то видит только небо и дождь, падающий с неба прямо на нее. Вот о чем она должна была подумать как следует, только об этом.
Теперь, когда наступили солнечные деньки, она видела Санзо чаще. Она всегда первой заговаривала с ним. Чаще всего он сидел во дворе у колонки, как раньше его отец. Когда она приходила за водой для стирки, то обязательно здоровалась с ним:
— Добрый день, Санзо.
— Это ты, Лиза?
Его бледная кожа казалась неживой, а кисти рук — чересчур большими и тяжелыми на исхудавших запястьях.
Однажды, в начале апреля, она гладила белье в подвале, который ее мать снимала под прачечную. Свет проникал сюда через маленькие окошки, находившиеся высоко, под самым потолком, на уровне земли; было видно, как редкие, освещенные солнцем травинки шевелятся на ветру прямо за грязными оконными стеклами. Солнечный лучик наискось упал на рубашку, которую она гладила, и над тканью поднялся пар, сильно пахнувший озоном. Лиза запела:
Два нищих оборванца из дому вышли.
— Эй, братец, дай-ка мне поесть, —
Сказал один нищий.
— Ступай-ка к булочнику в дом,
Дать ключ вели ему,
Скажи, что я тебя послал,
Что спорить ни к чему!
Пришлось сбегать за водой: сбрызгивать белье было нечем. После полутемного подвала на ярком солнце у Лизы перед глазами вспыхнули и закрутились черные и золотые колеса. Все еще напевая вполголоса, она пошла к колонке.
Санзо тоже как раз вышел на улицу.
— Доброе утро, Лиза.
— Доброе утро, Санзо.
Он присел на скамейку, вытянул свои длинные ноги и подставил солнцу лицо. Она молча стояла у колонки и очень внимательно, оценивающе смотрела на него.
— Ты все еще здесь?
— Да, я здесь.
— Я тебя больше совсем не встречаю.
Она ничего не ответила. Просто села с ним рядом, аккуратно поставив кувшин с водой под скамейку.
— Тебе как в последнее время, получше?
— Да вроде.
— Спасибо солнышку! Теперь всем нам кажется, что можно забыть старые беды и начать новую жизнь. Весна пришла, настоящая весна! Понюхай-ка. — Она сорвала маленький белый цветочек, выросший меж каменных плит у колонки, и сунула ему в руку. — Да нет, он слишком маленький, чтобы его ощупывать! Ты его просто понюхай. Замечательно пахнет, в точности сдобные булочки.
Он уронил цветочек и наклонился, словно пытаясь увидеть, куда он упал.
— Чем ты в последнее время занималась? Помимо работы в прачечной?
— Ой, даже и не знаю. Через месяц наша Ева замуж выходит. За Венце Эстая. Они собираются переезжать на север, в Браилаву. Он каменщик, а там есть работа.
— Ну а сама-то ты как?
— Ну а я здесь остаюсь, — сказала она. Потом, уловив в его тоне мертвящую холодную снисходительность, прибавила: — Я помолвлена.
— С кем?
— С Дживаном Фенне.
— Чем он занимается?
— Он красильщик у Фермана. Секретарь местной секции профсоюзов.
Санзо встал, быстро прошелся по двору до арки ворот и обратно, потом как-то неуверенно снова подошел к Лизе. Он остановился в двух шагах от нее, бессильно повесив руки и чуть отвернув в сторону лицо.
— Что ж, хорошо. Поздравляю! — сказал он и повернулся, чтобы уйти.
— Санзо!
Он остановился, ожидая.
— Останься еще на минутку.
— Зачем?
— Потому что я так хочу.
Он стоял совершенно неподвижно.
— Я хотела сказать тебе… — Но слова застряли у нее в горле.
Он снова сел рядом с ней на скамью.
— Послушай, Лиза, — холодно сказал он, — теперь это уже совершенно не имеет значения.
— Нет, имеет, очень даже имеет! Я хотела сказать, что ни с кем я не помолвлена. Он просил моей руки, но я еще не дала согласия.
Санзо слушал, но на лице его ничто не отражалось.
— Зачем же ты сказала, что помолвлена?
— Не знаю. Чтобы тебя позлить.
— И что дальше?
— И все, — сказала Лиза. — А дальше я хотела сказать тебе, что даже если ты слеп, то это вовсе не значит, что нужно тут же оглохнуть, онеметь и страшно поглупеть. Я знаю, ты сильно болел, мне очень тебя жаль, но ты, конечно же, заболеешь еще сильнее, если это я была причиной твоей болезни.
Санзо так и застыл.
— Какого черта? — воскликнул он чуть погодя. Однако Лиза ему не ответила. Прошло довольно много времени, прежде чем он наконец повернулся, пытаясь на ощупь определить, здесь ли она. Руки его повисли в воздухе в незавершенном жесте, когда он нервно спросил: — Лиза, ты здесь?
— Здесь, рядом с тобой.
— Я думал, ты ушла.
— Я еще не все сказала.
— Что ж, продолжай. Никто тебе не мешает.
— Ты мешаешь.
Воцарилось молчание.
— Послушай, Лиза, я должен помешать тебе! Неужели ты не понимаешь?
— Нет, не понимаю. Санзо, дай мне объяснить…
— Нет. Не объясняй. Я ведь не каменный, Лиза.
Какое-то время они молча сидели рядышком, греясь на солнце.
— Ты лучше выходи за этого парня.
— Не могу.
— Не глупи.
— Никак у меня не получается за него выйти: все время ты на пути попадаешься.
Он отвернулся. Напряженным, задушенным голосом сказал:
— Я давно хотел перед тобой извиниться… — Он как-то неопределенно махнул рукой.
— Не надо! Не извиняйся.
Снова воцарилось молчание. Санзо выпрямился и потер руками глаза и лоб, точно они у него болели.
— Слушай, Лиза, весь этот разговор ни к чему. Честно. Есть еще ведь и твои родители, они-то что скажут? Впрочем, дело даже не в этом… Самое главное — то, что я живу с дядей и теткой и не могу… Мужчина должен иметь возможность что-то предложить…
— Не скромничай.
— Я и не скромничаю. Никогда этим не страдал. Я прекрасно понимаю, что представляю из себя, но это… это никакого значения не имеет — для меня. То есть, может быть, и имеет, но для кого-то другого…
— Я хочу выйти за тебя замуж, — сказала Лиза. — А ты, если хочешь на мне жениться, так женись! А если не хочешь, не надо. Тут я ничего не могу одна сделать. Но ты хотя бы помни: меня все это тоже касается!
— Так я только о тебе все время и думаю!
— Нет, неправда. Ты думаешь о себе, о том, что ты слепой, и все такое прочее. Позволь мне думать об этом и не думай, что мне это безразлично.
— Я думал о тебе. Всю зиму. Все время. Это… это никуда не годится, Лиза.
— Да, здесь — не годится.
— А где же еще? Где мы годимся? В том доме на Холме? Можем разделить его — по двадцать комнат на брата…
— Санзо, мне нужно закончить глажку, белье должно быть готово к обеду. Если мы что-то решим, то уж обсудить это со всех сторон как-нибудь сумеем. Я бы, например, хотела раз и навсегда убраться подальше от Ракавы.
— Вот как? — Он колебался. — А ты придешь сегодня после обеда?
— Хорошо.
Она ушла, покачивая кувшином. Спустившись в подвал, она остановилась у гладильной доски и вдруг разрыдалась. Она не плакала уже несколько месяцев; ей казалось, что она стала слишком взрослой, чтобы плакать, что теперь она никогда больше плакать не будет. Однако плакала, сама не зная почему; слезы бежали по щекам, точно река, освободившаяся от пут зимнего льда. Лиза не испытывала при этом ни радости, ни горя и, так и не перестав плакать, вновь принялась за работу.
В четыре она собралась было подняться в квартиру Чекеев, но Санзо поджидал ее во дворе. Они отправились на Холм, в заброшенный сад, и уселись на той же лужайке в тени каштанов. Молодая трава была еще редкой и нежной. В темно-зеленой гуще листвы кое-где желтовато-белыми свечами светились первые цветы. Над городом, в теплом голубом мареве кружили голуби.
— Там, возле дома, полно роз. Как ты думаешь, они не будут против, если я сорву несколько штук?
— Они? Кто это «они»?
— Вот и отлично. Я сейчас вернусь.
И принесла целый букет мелких колючих красных роз. Санзо лежал на спине, подложив руки под голову. Лиза села на землю с ним рядом. Мощный теплый ветер апреля дул со стороны заката.
— Слушай, — сказал Санзо, — а мы ведь тогда так ни о чем и не договорились, верно?
— Не знаю. Наверное, нет.
— Когда это ты стала такой?
— Какой «такой»?
— Ох, все ты прекрасно понимаешь! Ты раньше всегда была другой. — Он был совершенно спокоен, позволил себе расслабиться, и голос его звучал тепло и как-то по-детски, чуточку картаво. — Ты раньше вечно молчала… А знаешь что?
— Что?
— Мы ведь так и не дочитали до конца эту книгу.
Он зевнул и повернулся на бок, лицом к ней. Она накрыла рукой его пальцы.
— Когда ты была девочкой, ты все время улыбалась. А теперь?
— Не улыбаюсь с тех пор, как тебя встретила, — сказала она, улыбаясь.
Ее рука лежала на его пальцах совершенно спокойно.
— Послушай. У меня пенсия по потере трудоспособности — двести пятьдесят. На эти деньги вполне можно выбраться из Ракавы. Ты ведь хочешь уехать?
— Да, хочу.
— Хорошо, тогда у нас есть Красной. Там, кажется, не так скверно с работой, как здесь, и потом там жилье должно быть дешевле — это ведь большой город.
— Я тоже об этом думала. Там, наверное, разная работа найдется, не только на ткацких фабриках, как здесь. Я бы что-нибудь смогла подобрать себе.
— Я бы тоже. Наверное, и там можно плетеную мебель делать, если найдутся люди с деньгами, которым такая мебель по вкусу. А еще я мог бы мебель чинить. Я этим всю прошлую осень и здесь занимался. — Он словно прислушивался к собственным словам. Потом вдруг рассмеялся своим странным смехом, и лицо его совершенно переменилось. — Послушай, — сказал он, — и все-таки это никуда не годится! Ты что же, за руку меня в Красной поведешь? Нет, забудем об этом. Тебе-то и правда нужно уехать отсюда, причем поскорее и навсегда. Так что выходи замуж за этого парня и уезжай. Ну подумай ты головой, Лиза!
Он давно уже не лежал, а сидел, обхватив колени руками и отвернувшись от нее.
— Ты говоришь так, словно мы с тобой два нищих оборванца, — сказала она. — Словно нам нечего дать друг другу, словно нам некуда пойти!..
— Вот именно. В этом-то все и дело. Нечего дать и некуда пойти. Мне, например, нечего дать тебе. Неужели ты думаешь, что, если мы уедем отсюда, что-нибудь в этом отношении изменится? Неужели ты думаешь, что там я стану другим человеком? Неужели ты думаешь, что стоит мне завернуть за угол, и?.. — Он пытался шутить, но в словах его слышалась мука. Лиза стиснула пальцы.
— Нет, я, конечно, ничего такого не думаю, — сказала она. — И не вторь, пожалуйста, всем вокруг. Это они так считают. Говорят, что мы не можем уехать из Ракавы, что нам суждено остаться тут навечно, что я не могу выйти замуж за Санзо Чекея, раз он слепой, что мы не сумеем ничего добиться, раз у нас нет денег… Да, это правда, сущая правда. Но это еще далеко не все! Разве это справедливо, что хотя ты и нищий, но попрошайничать не должен? А что же еще тебе делать? И если тебе все-таки достался кусок хлеба, то неужели ты его выбросишь? Знаешь, Санзо, если бы ты чувствовал так, как я, ты взял бы то, что тебе дают, и уже не выпустил бы из рук!
— Лиза, — сказал он, — о господи, да я же не хочу выпускать это из рук!.. Ничего другого мне… — Он потянулся к ней, и она бросилась ему на шею; они сжали друг друга в объятиях. Он хотел было что-то сказать, но долгое время не мог вымолвить ни слова. — Ты знаешь, что я хочу тебя, что ты нужна мне, что больше для меня ничего на свете не существует, что больше у меня ничего и нет… — Он заикался, и она, отталкивая его, отвергая эту его нужду в ней, твердила: «Нет, нет, нет, нет», но сама все сильнее прижималась к нему. И даже сейчас сил у нее оказалось все-таки значительно меньше, чем у него. Через некоторое время он сам отпустил ее, взял ее руку, легонько погладил и сказал довольно спокойно: — Послушай, Лиза, я действительно… ты же знаешь! Только шансов у нас очень мало, Лиза.
— У нас их никогда не будет слишком много.
— Тебе-то удача вполне могла бы улыбнуться.
— Ты — моя удача, и пусть шансов у нас очень мало, — сказала она с легкой горечью и одновременно с глубокой верой.
Какое-то время он не знал, как ей ответить. Потом глубоко вздохнул и очень нежно сказал:
— То, что ты говорила насчет нищих… В госпитале, где я лежал два года назад, был один врач, и он тоже говорил что-то в этом роде, он все спрашивал меня: чего ты боишься, ты же, можно сказать, с того света вернулся? Так что же тебе терять?
— Я-то знаю, что мне терять, — сказала Лиза. — И ничего терять не собираюсь.
— А я знаю, что могу выиграть, — сказал он. — Вот это-то и пугает меня больше всего. — Он поднял голову; казалось, он вглядывается в раскинувшийся перед ними город. У него было жесткое и напряженное лицо сильного мужчины, и Лиза, взглянув на него, была потрясена; она даже зажмурилась. Она понимала, что все это — она, что это ее воля, ее присутствие сделали его таким свободным и сильным; но в эту свободу она должна будет войти с ним вместе, а она там никогда прежде не бывала. Там все было для нее темно, и она прошептала:
— Да, меня это тоже пугает.
— Что ж, придется держаться, — сказал он, обнимая ее за плечи. — Если ты сможешь держаться, то и я, конечно, смогу.
Они еще посидели немного, почти не разговаривая и глядя, как солнце постепенно тонет в апрельском тумане за дальней равниной, а на башнях и в окнах города вспыхивают в сумерках желтые огни. Когда солнце скрылось совсем, они вместе пошли вниз, в город, из своего молчаливого сада, где прекрасный заброшенный дом глядел на них пустыми глазницами окон, и окунулись в дым, шум и суету тысячи улиц, которые уже окутывала своим покрывалом ночь.
Дорога на восток
— Нет зла в этом мире, — шепнула госпожа Эрей кусту герани, росшему в ящике на окне; сын, услышав ее слова, тут же вспомнил о гусеницах, об озимой совке, о мучнистой росе, о всяких насекомых-паразитах; но мягкий солнечный свет играл на округлых зеленых листочках, на красных цветах, на седых волосах матери, и госпожа Эрей улыбалась, стоя у окна. Широкие рукава, соскользнув, до плеч обнажили ее поднятые руки — она казалась сейчас жрицей солнца. — Каждый цветок — тому доказательство. Я рада, что ты любишь цветы, Малер.
— Я гораздо больше люблю деревья, — сказал он, чувствуя себя усталым и раздраженным до предела. «До предела» было его любимым словом; он все время думал о себе именно так — он на пределе, на самом краю, на острой кромке; ему совершенно необходим отпуск.
— Но ведь ты бы не смог принести мне на день рождения, например, дуб! — Она засмеялась и обернулась к целому снопу великолепных октябрьских астр, которые ей принес сын, и он тоже улыбнулся, устало и как-то безжизненно развалившись в кресле. — Эх ты, бедный старый гриб! — ласково упрекнула его мать. Будучи мужчиной крупным, бледным и тяжеловесным, он терпеть не мог этого прозвища, чувствуя, что оно очень к нему подходит. — Да сядь ты прямее, улыбнись! Посмотри, какой славный денек, какие прекрасные цветы, и столько солнца в мой день рождения! Как можно не хотеть просто наслаждаться этим миром! Спасибо тебе за цветы, дорогой. — Она поцеловала его в лоб и, двигаясь как всегда энергично, вернулась к цветам на подоконнике.
— Иренталь исчез, — сказал Малер.
— Исчез?
— Еще на прошлой неделе. И за целую неделю никто даже имени его не упомянул.
Это была лобовая атака: Иренталя она знала; Иренталь когда-то сиживал у нее за столом; это был застенчивый, стремительный, курчавый человек; за обедом он еще попросил вторую порцию супа; имя такого человека нельзя было просто отмести, как любое другое, совершенно лишенное для нее и смысла, и содержания.
— И ты не знаешь, что с ним произошло?
— Конечно, знаю.
Она провела пальцем по краешку листка герани и сказала тихонько, точно разговаривая с цветком:
— Ну, наверное, не совсем.
— Действительно, я не знаю наверняка, застрелили его или просто упрятали за решетку, если ты это имеешь в виду.
— Ты не должен говорить с такой горечью, Малер, — сказала она.
— Мы ведь действительно толком не знаем, что с ним случилось. С ним, со всеми, кто исчезает, пропадает, кто теперь для нас утрачен. Мы ведь вообще знаем очень мало, ужасно мало. И все-таки мы знаем достаточно! Солнце светит нам и омывает всех нас своими лучами, солнце не разделяет людей на правых и виноватых, в его тепле нет горечи. По крайней мере это-то нам известно. И это великий урок всем нам. Жизнь — это дар, чудесный дар! И в ней нет места для горечи и ожесточения. Нет места. — Обращаясь к небесам, она и не заметила, как он встал.
— В ней есть место всему. Даже слишком много места. Иренталь был моим другом. Неужели и его… смерть — тоже чудесный дар? — Но он торопился и произнес эти слова невнятно, и она вовсе необязательно должна была их расслышать. Он снова сел, дожидаясь, пока мать закончит приготовления к ужину и накроет на стол. Ему хотелось спросить: «А что если бы вместо Иренталя арестовали меня?», но он так и не спросил. Она не может понять, думал он, потому что живет внутри себя и всегда только выглядывает из окошка, но двери никогда никому не открывает и никогда не выходит наружу… Тоска по Иренталю и слезы, которые он не умел выплакать, снова сдавили ему горло, но мысли уже ускользали прочь, на восток, на ту дорогу. Там воспоминания об исчезнувшем друге все еще были с ним, он представлял себе его боль, понимал, что такое горе, но и боль, и горе, и воспоминания как бы шли с ним рядом, а не были заперты в его душе. По этой дороге он мог идти под бременем печали, как под дождем.
Восточная дорога вела от Красноя через фермерские поля, мимо деревень в один город с серыми крепостными стенами, над которым высилась похожая на сторожевую башню старинная церковь. И деревни, и этот город, разумеется, были нанесены на карты, к тому же он однажды видел их собственными глазами — из окна поезда; они назывались Раскофью, Ранне, Маленне, Сорг. Все это были реально существующие места, и находились они не более чем в пятидесяти милях от столицы. Но в мыслях своих он всегда добирался до них пешком и оказывался, видимо, где-то в начале прошлого столетия, потому что на дороге не было ни машин, ни железнодорожных переездов. Это была обыкновенная проселочная дорога, и он шел по ней то при свете солнца, то под дождем, направляясь в Сорг и надеясь до вечера непременно добраться туда и отдохнуть. Он, конечно же, пошел бы в гостиницу на той улице, что ведет прямо к пузатому, напоминающему шестиугольную сторожевую башню собору. Предвкушать отдых было приятно. Он никогда не останавливался в этой гостинице, хотя один или два раза заходил в город и даже стоял у церковного портала — округлой арки из резного камня. А в остальное время он только шел и шел по дороге, то сияло солнце, то было пасмурно, и всегда у него за плечами был груз, причем каждый раз разный — то легче, то тяжелее. В тот ясный осенний день он зашел, кажется, слишком далеко, потому что шел до самой темноты; стало холодно, туман окутал мрачные опустевшие поля. Он понятия не имел, сколько еще осталось до Сорга, но был голоден и очень устал. Он присел на обочине дороги под деревьями и немного отдохнул. Спускалась тихая ночь. Он спустил с усталых плеч лямки заплечного мешка и сидел, ощущая покой в душе — он замерз, его снедала печаль, он ясно понимал все, что делается вокруг, но на душе у него все же было покойно. А вокруг клубился туман и сгущалась тьма.
— Ужин готов! — радостно возвестила мать. Он тут же встал и присоединился к ней за столом.
На следующий день он встретил эту цыганку. Трамвай перевез его на восточный берег реки, и он стоял, собираясь перейти через трамвайные рельсы, а ветер нес пыль по длинной улице, освещенной лучами заходящего солнца. Она остановилась с ним рядом и спросила:
— Не скажете, как мне пройти на улицу Гейле?
У нее был выговор не горожанки. По бледным щекам разметаны ветром пряди жестких и прямых черных волос. Лицо тонкое и худое, кожа да кости.
— Я как раз сам туда иду, — помолчав, сказал Малер и двинулся через улицу, не глядя, идет ли она за ним. Она шла.
— Я никогда раньше в Красное не бывала, — сказала она.
Она приехала сюда издалека, ее родиной были исхлестанные ветром равнины, окаймленные высокими горами, которые, растворяясь в темноте, казались совсем близкими; равнины эти заросли дикими травами, и среди них то тут, то там поднимался к небу дымок костра, клочьями разлетавшийся на ветру, и у костра пела женщина на своем странном языке, и мелодия песни улетала в простор синих замерзших сумерек.
— А я всю жизнь в Красное прожил, никогда в других городах не бывал, — откликнулся он и взглянул на нее. Она была примерно его лет, в дрянном ярком платьишке, держалась очень прямо и спокойно. — Вам какой номер нужен? — спросил он, потому что они уже свернули на улицу Гейле, и она ответила:
— Тридцать три. — Это был номер его дома. Они прошли рядом по тротуару, в свете вспыхнувших фонарей, Малер и эта хрупкая изящная цыганка. Они были чужие друг другу, но домой шли вместе.
— Я тоже в этом доме живу, — доставая ключ, пояснил он. Хотя вряд ли этим можно было что-то объяснить.
— Я, пожалуй, лучше позвоню, — сказала она. — Здесь живет одна моя подруга, но она меня не ждет. — И она принялась разыскивать нужную фамилию на почтовых ящиках. Так что впустить ее он не мог. Но все-таки обернулся, уже открыв дверь, и спросил:
— Простите, а вы откуда?
Она посмотрела на него с легкой удивленной усмешкой и ответила:
— Из Сорга.
Мать была на кухне. Цветущий куст герани пламенел на подоконнике, астры уже увядали. На пределе, на самом пределе. Он сел в то же кресло, прикрыл глаза, прислушиваясь к шагам над головой или за стеной; походка у того, кто там ходил, была легкой. Оказывается, эта женщина с легкой походкой явилась не из чужих долин, не из цыганского табора, а пришла в сумерках по знакомой дороге из Сорга в Красной, в его родной город, в его дом, в эту комнату. Разумеется, по этой дороге можно было пойти и на восток, и на запад, только он никогда прежде о такой возможности не задумывался. Он вошел в квартиру так тихо, что мать на кухне не услышала и прямо-таки подскочила, обнаружив его сидящим в кресле. В голосе ее звучал неподдельный ужас, когда она воскликнула:
— Ну разве так можно, Малер!
Потом она зажгла свет, погладила увядающие астры и принялась болтать.
На следующий день он столкнулся с Провином нос к носу. Он до сих пор не сказал Провину ни слова, даже «доброе утро» ни разу не сказал, хотя они в офисе работали рядом и над одними и теми же проектами (Государственное бюро проектирования и планирования при министерстве гражданской архитектуры, г. Красной; проект N2 «Государственное строительство жилых домов). Молодой человек догнал Малера, когда тот в пять часов выходил из здания проектного бюро.
— Господин Эрей, я бы хотел с вами поговорить.
— О чем?
— О чем угодно, — легко откликнулся Провин, отлично сознавая свое обаяние, однако с абсолютно серьезным видом. Он был хорош собой и держался исключительно вежливо. Чувствуя себя побежденным, выкуренным из своего убежища, обретенного в молчании, Малер не выдержал и сказал:
— Знаете, Провин, мне очень жаль. Вашей вины тут нет. У меня это все из-за Иренталя, того человека, что работал на вашем месте. К вам лично это не имеет ни малейшего отношения. И я действительно вел себя глупо. Мне очень жаль. Простите меня. — Он отвернулся.
— Нельзя же растрачивать свою ненависть впустую! — вдруг страстно воскликнул Провин.
Малер так и застыл.
— Хорошо. Теперь я непременно буду говорить вам «доброе утро». Это нетрудно. Но какая, собственно, разница? Разве для вас это имеет значение? Не все ли равно, разговариваем мы друг с другом или нет? Да и о чем, собственно, говорить?
— Нет, не все равно. У нас теперь ничего не осталось — кроме друг друга.
Они стояли лицом к лицу посреди улицы, с неба сыпался мелкий осенний дождик, вокруг сновали люди. Помолчав, Малер уронил:
— Нет, нам даже и этой малости не осталось, Провин. — И пошел от него прочь по улице Палазай к остановке своего трамвая. Но после долгой езды через весь город, по Старому Мосту на тот берег и после пешей прогулки под дождем от остановки трамвая до улицы Гейле на крыльце своего дома он снова встретил ту женщину из Сорга. Она попросила:
— Вы меня не впустите?
Он кивнул, отпирая дверь.
— Моя подруга забыла дать мне ключ, а ей самой пришлось уйти. Вот я и слонялась тут — надеялась, что вы вернетесь домой примерно в то же время, что и вчера… — Она была готова с ним вместе посмеяться над собственной непредусмотрительностью, но он не мог ни рассмеяться, ни что-либо сказать ей в ответ. Он поступил неправильно, оттолкнув Провина, совершенно неправильно. Он сам ведь все это время сотрудничал с врагами и помалкивал. А теперь должен заплатить за это молчание сполна, и цена ему будет тем выше, что говорить ему все-таки тогда хотелось и молчание превращалось в кляп. Он поднимался следом за ней по лестнице и молчал. И все-таки она явилась с той его родины, где он никогда не бывал.
— До свидания, — сказала она на его этаже, но уже без улыбки, чуть отвернув свое спокойное лицо.
— До свидания, — сказал он.
Он уселся и откинул голову на спинку кресла; мать была в соседней комнате; усталость все больше охватывала его. Он чувствовал себя чересчур усталым даже для того, чтобы путешествовать по той дороге. Разные мелкие события минувшего дня, офисная суета, толпа на улицах города — все это кружилось и мельтешило перед глазами; он, кажется, даже задремал. Потом на какое-то мгновение перед ним возникла та дорога, и впервые он увидел на ней людей: других людей. Не себя самого, не Иренталя, который был мертв, ни кого-либо из знакомых, а совершенно чужих людей со спокойными лицами. Все они шли на запад, ему навстречу, и, разминувшись с ним, следовали дальше. Он стоял неподвижно. Люди смотрели на него, но не говорили ни слова. Зато вдруг послышался резкий голос матери:
— Малер!
Он не пошевелился, но она никогда не могла просто оставить его в покое.
— Малер, ты что, заболел?
В болезни она не верила, хотя отец Малера несколько лет назад умер от рака; вся беда, утверждала она, полностью полагаясь на собственные ощущения, в его бесконечных раздумьях. Сама она никогда не болела, даже роды, даже те два выкидыша, что у нее случились, прошли совершенно безболезненно, даже весело. Так что с ее точки зрения боли не существовало совсем, существовал лишь страх перед болью, а на страх можно не обращать внимания. Однако она понимала, что Малер, как и его отец, никогда не мог избавиться от этого страха.
— Дорогой мой, — прошептала она, — не следует так терзать себя.
— Что ты, со мной все в порядке. — Все в порядке, все хорошо, абсолютно все в полном порядке.
— Это из-за Иренталя?
Она все-таки произнесла это имя, упомянула умершего, допустила существование смерти, позволила ей войти в эту комнату! Он ошеломленно смотрел на нее, переполненный благодарностью. Она вернула ему способность разговаривать.
— Да, — заикаясь проговорил он, — да, из-за него. Из-за него. Я не могу с этим смириться…
— Ты не должен надрывать себе сердце, милый. — Она погладила его по руке. Он сидел неподвижно, страстно желая, чтобы его приласкали, успокоили. — Это ведь не твоя вина, — сказала она, и в ее голосе вновь тихонько прозвучала знакомая экзальтация.
— Ты бы все равно ничего не смог сделать, никак не смог бы изменить положение вещей, и теперь тоже не можешь. А он каким был, таким и остался; может быть, он даже хотел этого ареста, ведь он такой беспокойный, бунтарь. Он пошел своим путем. А тебе нужно придерживаться реальной действительности, подчиниться неизбежному, Малер. Судьба вела его иным путем, чем тебя. Твой путь ведет домой. Так что когда ты поворачиваешься ко мне спиной и не желаешь со мной разговаривать, дорогой, то отвергаешь не меня, а собственную судьбу. В конце концов, у нас теперь ничего не осталось — кроме друг друга.
Он ничего не ответил, горько разочарованный, охваченный чувством собственной вины по отношению к матери, которая действительно полностью зависела от него, и по отношению к Иренталю и Провину, от которых он все пытался сбежать, путешествуя по несуществующей дороге в одиночестве и молчании. Но когда мать снова воздела руки и то ли продекламировала, то ли пропела: «Нет зла в этом мире, все в нем свершается не напрасно — если только посмотреть на него без страха!», в Малере что-то сломалось, чувство вины улетучилось без следа, и он встал.
— Это возможно только в одном случае: когда ты слеп, — сказал он и вышел из дому, хлопнув дверью.
Он вернулся пьяным, распевая песни, часа в три ночи. И проснулся слишком поздно, чтобы успеть побриться, и все-таки опоздал на работу; а после ланча в офис вообще не вернулся — сидел в людном полутемном баре, что за Дворцом Рукх. Сюда они с Иренталем обычно заходили перекусить днем и заказывали пиво и селедку. Когда к шести часам в баре появился Провин, Малер был уже снова пьян.
— Добрый вечер, Провин! Выпьете со мной?
— Спасибо, с удовольствием. Дживани сказал, что вы, возможно, здесь.
Они молча выпили, сидя рядом, притиснутые друг к другу толпой посетителей. Потом Малер выпрямился и торжественно произнес:
— Зла в этом мире не существует, Провин!
— Вот как? — изумился Провин, улыбаясь и глядя на него.
— Да. Никакого. Люди попадают в беду из-за своих высказываний, так что, когда их расстреливают, это их собственная вина, верно? И ничего страшного тут нет. А если же их всего лишь сажают в тюрьму, то тем лучше: в тюрьме легче хранить молчание. Если никто не будет говорить, то никто не будет и лгать, и на самом деле, зла по-настоящему действительно не существует — только ложь. Зло — это ложь. Нужно просто молчать, тогда мир сразу станет добрым. И все вокруг станут хорошими и добрыми. Полицейские — хорошие ребята, у них есть жены и дети, тайные агенты — тоже хорошие люди, настоящие патриоты, и солдаты тоже, и государство у нас хорошее, а мы хорошие граждане великой страны, только рот раскрывать попусту не нужно. Не стоит разговаривать друг с другом, не то невзначай соврешь. И все испортишь. Никогда ни с кем не разговаривайте. Особенно с женщинами. У вас есть мать, Провин? У меня нету. Меня родила девственница, причем совершенно безболезненно. Боль — вранье, ее не существует… ясно? — Он стукнул рукой по краю стойки с таким звуком, точно сломал сухую палку, охнул и побледнел. Побледнел и Провин. Все мужчины в баре — с мрачными лицами, в дешевых серых костюмах — сразу уставились на них; потом волны разговоров зашелестели снова, то усиливаясь, то ослабевая. На висевшем за стойкой календаре был октябрь 1956 года. Малер сунул за пазуху ушибленную руку, прижимая ее к груди, молча взял свой стакан левой рукой и допил пиво. «В Будапеште, в среду, — тихо повторял человеку в комбинезоне, видимо, штукатуру, сосед Малера, — в среду.»
— Так это все правда?
Провин кивнул:
— Правда.
— А вы не из Сорга, Провин?
— Нет, из Раскофью, это на несколько миль ближе. Может, зайдем ко мне домой, господин Эрей?
— Я слишком пьян, чтобы ходить в гости.
— У нас с женой отдельные комнаты. Я хотел поговорить с вами. Вот об этом, — и он кивнул в сторону человека в комбинезоне. — Еще есть возможность…
— Слишком поздно, — сказал Малер. — И слишком я пьян. Послушайте, вы знаете дорогу от Раскофью до Сорга?
Провин смотрел в пол.
— Вы что, тоже из этих мест?
— Нет. Я родился здесь, в Красное. Столичный мальчик. В Сорге никогда не бывал. Один раз видел шпиль тамошнего собора — из окна поезда, когда ехал на восток, на военную службу. По-моему, мне пора рассмотреть его поближе. Когда здесь начнется, как вы думаете? — как бы между прочим спросил он, когда они вышли из бара, но молодой человек не ответил.
Малер пошел на свою улицу Гейле пешком, через мост. Это была очень долгая прогулка, и он значительно протрезвел, когда добрался до дому. Мать выглядела несчастной и какой-то съежившейся, точно ссохшееся прямо в скорлупе старое ядрышко ореха. Это он был ее скорлупой, ее убежищем, а свою скорлупу надо беречь, надо прирасти к ней и медленно ссыхаться внутри нее, сохраняя собственную жизнь. Ее мир — без зла, без надежды, без потрясений — зависел только от него.
Пока он ел поздний холодный ужин, мать спросила, правда ли то, что она слышала сегодня на рынке.
— Да, — сказал он, — правда. И Запад намерен помогать им, намерен послать туда военную авиацию, может быть, ввести войска. Они своего добьются. — И тут он рассмеялся, а она не осмелилась спросить его, почему он смеется. На следующий день он как обычно пошел на работу. А в субботу рано утром к ним в дверь тихо постучалась та женщина из Сорга.
— Пожалуйста, помогите мне перебраться на тот берег, если это еще возможно.
Стараясь не разбудить мать, Малер спросил женщину, что она имеет в виду. Она объяснила, что все мосты перекрыты, и охранники ни за что не пропустят ее на тот берег, поскольку у нее нет вида на жительство в Красное, а ей совершенно необходимо добраться до железнодорожного вокзала, чтобы поскорее вернуться к семье, в Сорг. Она уже и так на день опаздывает.
— Если вы собираетесь на работу, я бы пошла с вами, понимаете, и они, может быть, разрешили бы вам перебраться на…
— Моя контора сегодня закрыта, — сказал он.
Она молчала.
— Ну, не знаю. Можно, конечно, попробовать… — и он посмотрел на нее сверху вниз, чувствуя себя очень толстым и громоздким в своем халате. — А трамваи ходят?
— Нет; говорят, весь транспорт остановлен. Кажется, даже и поезда. Но на западной стороне, в Приречном районе, говорят, все работает.
Было еще совсем рано и пасмурно; они вместе вышли из дому и двинулись по длинным улицам к реке.
— Скорее всего, они меня не пропустят, — сказал Малер. — Я ведь всего лишь архитектор. Если меня действительно остановят, можно еще попытаться как-то добраться до Грассе. Это пригородная станция, там останавливаются идущие на восток поезда. Грассе всего километрах в шести от Красноя. — Женщина кивнула. На ней было все то же яркое бедное платьишко; было холодно, и шли они быстро. Когда впереди завиднелся Старый Мост, они нерешительно остановились. По всему мосту вдоль изящной каменной балюстрады стояли со скучающим видом солдаты, однако они не ожидали увидеть там еще и огромный горбатый предмет неясных очертаний. Из него в сторону запада торчала пушка. Солдат только отмахнулся от предъявленного Малером удостоверения личности и велел ему идти домой. Они снова пошли по длинным пустынным улицам, где не видно было ни трамваев, ни машин, ни людей.
— Если вы хотите попробовать добраться до Грассе пешком, — сказал Малер, — то я пойду с вами.
Прядь жестких черных волос, растрепанных ветром, упала ей на щеку, когда она растерянно улыбнулась ему. Сейчас она была очень похожа на простую деревенскую женщину, заблудившуюся в большом городе.
— Вы очень добры. Вот только ходят ли поезда?
— Может быть и нет.
Тонкое бледное лицо ее было задумчивым; она слегка усмехнулась, столкнувшись лицом к лицу с непреодолимым препятствием.
— У вас там, в Сорге, дети?
— Да, двое. Я сюда приехала, чтобы получить компенсацию за мужа — у них на фабрике была авария, он потерял руку…
— До Сорга километров сорок. Пешком можно завтра к вечеру добраться.
— Я как раз об этом и думала. Но теперь везде, наверное, полицейские посты — и за городом, и повсюду на дорогах…
— Но не на тех, что ведут на восток.
— Мне немножко страшно, — тихо сказала она, помолчав немного; да, она больше уже не казалась ему цыганкой из диких степей — самая обыкновенная провинциалка, которая боится ходить одна по дорогам этой разоренной страны. Впрочем, ей и не нужно идти одной. Они вместе могли бы дойти по восточной дороге до Грассе, а потом спуститься на равнину и пробираться прямо между холмами от селения к селению, через поля, мимо одиноких ферм, пока осенним вечером перед ними не завиднеются серые стены Сорга и высокий шпиль собора. Сейчас из-за беспорядков дороги должны быть совершенно пусты — ни автобусов, ни мчащихся машин — и они словно шагнут в прошлый век или даже в более ранние века, вернутся к своему наследию, убегут прочь от смерти.
— Вам лучше пока переждать здесь, — сказал он, когда они свернули на улицу Гейле. Она подняла голову, взглянула в его мрачное лицо, но ничего не сказала. На лестничной площадке она прошептала:
— Спасибо вам. Вы были очень добры, что пошли со мной.
— Очень хотел бы вам помочь. — Он повернулся к своей двери.
Днем окна в их квартире без конца дрожали. Мать сидела, сложив руки на коленях, и смотрела поверх цветущей герани на сияющее солнцем небо, по которому бежали небольшие облачка.
— Я пойду пройдусь, мама, — сказал Малер. Она не пошевелилась; однако, когда он уже надел пальто, сказала:
— Там небезопасно.
— Да. Небезопасно.
— Останься дома, Малер.
— Там такое солнышко! Солнце омывает всех нас своими лучами, не правда ли? Ну а мне просто необходимо хорошенько вымыться.
Мать смотрела на него с ужасом. Она, всегда отвергавшая чужую беспомощность, теперь не знала, как ей самой попросить о помощи.
— Это немыслимо, это просто безумие, и все эти беспорядки… ты не должен иметь к ним никакого отношения, я этого не допущу! Я в это ни за что не поверю! — она точно заклинала его, протягивая воздетые вверх руки, а он стоял рядом, крупный грузный мужчина. Внизу на улице кто-то сперва долго кричал, потом наступила тишина, потом крик раздался снова; снова
задрожали стекла. Мать уронила воздетые руки и заплакала. — Но Малер, я же останусь одна!
— Да, ну что ж тут поделаешь, — мягко и задумчиво сказал он, стараясь не обидеть ее, — так уж теперь дела обстоят. — И, оставив ее в квартире, закрыл за собой дверь, спустился по лестнице и вышел на улицу; яркое октябрьское солнце сперва ослепило его, но потом он присоединился к идущей по улицам армии невооруженных людей и вместе с ними пошел на запад, к реке, но не через мост.
Братья и сестры
Раненый рабочий каменоломни лежал на высокой больничной кровати. В сознание он еще не приходил, но само его молчание было внушительным, давящим; его тело, накрытое простыней с намертво застывшими складками, и равнодушное лицо казались телом и лицом статуи. Мать рабочего, словно бросая вызов его молчанию и равнодушию, заговорила вдруг очень громко:
— Ну зачем, зачем ты это сделал? Или ты хочешь умереть раньше меня? Нет, вы только посмотрите на него, на моего сына, на моего красавца, моего ястреба, на мою полноводную реку! — Она точно выставляла напоказ свое горе, летела навстречу возможности выплеснуть его, точно жаворонок навстречу утренней заре. Молчание сына и громкий протест матери означали одно и то же: нестерпимое стало реальностью. Младший сын женщины стоял рядом и слушал. Молчание брата и крики матери измучили его, наполнили его душу тоской, огромной, как сама жизнь. Бесчувственное, безразличное ко всему тело брата, раскрошенное на куски, как кусок мела, давило на него своей тяжестью, ему хотелось убежать отсюда, спастись.
Спасенный стоял с ним рядом, невысокий, сутулый мужчина средних лет. В суставы его рук въелась известковая пыль. На него это все тоже производило тяжелое впечатление.
— Он спас мне жизнь, — сказал он Стефану, задыхаясь, словно хотел что-то объяснить этими словами. Голос его звучал безжизненно и монотонно — голос глухого человека.
— Да уж конечно, — сказал Стефан. — Он у нас такой.
Потом он вышел из палаты, чтобы перекусить. Все спрашивали его о брате.
— Он выживет, — говорил всем посетителям «Белого льва» Стефан. За завтраком он слишком много выпил. — Калекой останется, говорите? Это он-то? Костант? Да ему не меньше двух тонн известняка прямо на голову свалилось, и то не убило — он ведь и сам из камня. Он же на свет не родился, его в каменоломне вырубили. — Люди вокруг смеялись — то ли над его шутками, то ли над ним самим. — Да, вырубили его из камня! — упрямо повторил он. — Как и всех вас.
Он ушел из «Белого льва» и двинулся по улице Ардуре, миновал квартала четыре, оставил позади город, но продолжал идти на северо-восток, параллельно железнодорожным путям, что тянулись в том же направлении метрах в трехстах от дороги. Майское солнце над головой казалось маленьким и каким-то серым. Под ногами клубилась пыль, в которой кое-где торчала невысокая травка. Карст — огромная известняковая равнина — чуть шевелился вокруг него, дрожал в жарком мареве, похожем на прозрачные крылышки мух. Уменьшенные расстоянием, но все же суровые, в дрожащей сероватой мгле на горизонте высились горы. Он всю свою жизнь видел эти горы издали, только дважды вблизи, когда ездил на поезде в Брайлаву — туда и обратно. Он знал, что горы густо поросли лесом, темными елями, корни которых цепко держатся за берега быстрых ручьев; когда поезд с лязгом шел по горам, ветви елей то смыкались, то расступались над глубокими горными оврагами, освещенными восходящим солнцем, а дым от паровоза плыл вниз по зеленым склонам ущелий, словно оброненная вуаль. В горах бежали шумные сверкающие на солнце ручьи; и еще там были водопады. Здесь, на карстовой равнине, реки бежали под землей, молчаливые, запертые в темные каменные вены своих русел. Можно было целый день ехать верхом от Сфарой Кампе, но до гор все-таки не добраться и по-прежнему видеть вокруг ту же известняковую пыль, лишь на второй день к вечеру вы въезжали под сень деревьев, росших на берегах быстрых ручьев. Стефан Фабр присел на обочину неестественно прямой дороги, по которой шел, и уронил голову на колени. Он был здесь один, до города километра полтора, до железной дороги метров триста, до гор километров восемьдесят; он сидел и оплакивал своего брата. А равнина вокруг него дрожала, гримасничала в жарком мареве, точно лицо человека, мучимого болью.
После обеденного перерыва он опоздал на целый час. Он работал бухгалтером в «Чорин компани». К его столу подошел начальник отдела.
— Фабр, вам сегодня вовсе не обязательно было возвращаться на работу.
— Почему?
— Ну, может быть, вы хотели бы пойти в больницу…
— А чем я там могу помочь? Я ведь не могу его починить или сделать заново, верно?
— Ну, как хотите, — сказал начальник, отворачиваясь.
— Это ведь не я получил по башке двумя тоннами камней, что же мне-то в больнице делать? — Ему никто не ответил.
Когда в каменоломне случился обвал и Костант Фабр был ранен, ему исполнилось двадцать шесть; его брату было двадцать три, а их сестре Розане — тринадцать. Она как раз бурно росла, стала угрюмой, начала ощущать собственную значимость на этой земле. Она больше не бегала, как в детстве, а ходила степенно, неуклюже ступая и сутулясь, словно при каждом шаге преодолевала невольно некий порог. Розана говорила громко, а смеялась еще громче и сердито давала отпор всему, что ее задевало, — ветру, голосу, слову, которого не понимала, вечерней звезде… Она пока что не научилась воспринимать что-то равнодушно и спокойно, умела лишь отвергать нежелаемое. Обычно они со Стефаном ссорились, стараясь побольнее задеть друг друга, потому что каждый знал наиболее уязвимые и слабые места противника. Но в тот вечер когда он добрался домой, а мать еще не вернулась из больницы. Розана была молчалива и дом казался очень тихим. Она целый день думала о боли, о боли и о смерти; и на этот раз желание все отвергать изменило ей.
— Не смотри так мрачно, — сказал ей Стефан, когда она ставила на стол приготовленную к ужину фасоль. — Он поправится.
— Ты так думаешь?.. А тут кое-кто говорит, что он, возможно, оттуда не выйдет. Или станет… ну, ты понимаешь…
— Калекой? Нет, он непременно поправится.
— А почему, как ты думаешь, он бросился отталкивать того типа в сторону?
— Тут не может быть никаких «почему», Роз. Он это просто сделал, и все.
Он был тронут тем, что она задала эти вопросы именно ему, и удивлен уверенностью собственных ответов. Он и не думал, что у него вообще хоть какие-то ответы найдутся.
— Интересно… — сказала она.
— Что именно?
— Не знаю. Костант…
— У тебя ощущение, будто ты лишилась опоры, да? Что ж! Если из фундамента основной камень выбить, так и все остальные посыплются. — Розана не очень-то понимала брата; она не узнавала того места, куда вернулась сегодня, не узнавала родного дома, где стала такой же, как другие люди, и вместе с ними переживала теперь странное несчастье — остаться в живых. Стефан, во всяком случае, дальнейший путь ей указать не мог. — И мы теперь, — между тем продолжал он, — лежим порознь, каждый под собственной грудой камней. Хорошо хоть Костанта им удалось извлечь из-под той груды, что на него обрушилась, и накачать морфием… А помнишь, как однажды, еще совсем маленькой, ты заявила: «Когда вырасту, выйду замуж за Костанта…»?
Розана кивнула:
— Конечно, помню. И он тогда прямо взбесился.
— Это потому, что мать засмеялась.
— Это вы с отцом засмеялись.
Оба к еде не притронулись. Стены комнаты во тьме будто сдвинулись — поближе к керосиновой лампе.
— А как было, когда умер папа?
— Ты же с нами ходила, — удивился Стефан.
— Да, мне уже девять исполнилось. Но я ничего толком не помню. Только то, что было так же жарко, как сейчас, и еще — огромное количество ночных бабочек, которые бились в стекло. Он ведь ночью умер, да?
— По-моему, да.
— Так как это было? — Она пыталась разведать незнакомую территорию.
— Не знаю. Он просто умер. Это больше ни на что не похоже.
Их отец умер от пневмонии сорокашестилетним, проработав тридцать лет в карьере. Стефан помнил его смерть ненамного лучше Розаны. Отец не был краеугольным камнем в фундаменте их семьи.
— У нас фруктов никаких в доме нет?
Розана не ответила. Она неотрывно смотрела на пустое место за столом, где обычно сидел их старший брат. Лоб и темные брови у нее были точно такими же, как у Костанта: похожесть для родственников — опознавательный знак, семейное удостоверение личности, а этих брата и сестру легко было опознать по характерному рисунку бровей, по одинаковой форме лба, они были удивительно похожи, так что у Стефана на мгновение возникло ощущение, что Костант сидит с ними вместе за столом и молчаливо осмысливает собственное отсутствие.
— Так фрукты у нас есть или нет?
— В кладовке, кажется, есть яблоки, — ответила Розана, точно очнувшись и так спокойно, что Стефану даже показалось, что он разговаривает со взрослой женщиной, очень спокойной взрослой женщиной, которую нечаянно вывел из задумчивости своим вопросом; и он с нежностью сказал этой женщине:
— Знаешь что, собирайся! Давай сходим в больницу. Медики теперь, наверное, уже оставили его в покое.
Глухой, которого спас Костант, уже снова торчал в больнице. С ним пришла и его дочка. Стефан знал, что она работает в мясной лавке. Ее отца в палату, разумеется, не пустили, и он целых полчаса продержал Стефана в душном и жарком вестибюле, где пахло дезинфекцией и смолой от нагретого соснового пола. Он то начинал ходить вокруг Стефана, то присаживался, то вскакивал, все время споря сам с собой, и говорил громким, ровным, монотонным голосом, как все глухие.
— Больше я в эту чертову яму не вернусь! Нет уж! А что, если бы я вчера сказал, что с завтрашнего дня в карьер ни ногой? Как бы теперь дела обстояли, интересно? Небось, ни я, ни ты не торчали бы здесь сейчас, да и его, твоего брата, здесь бы сейчас не было. Все мы были бы дома. Дома — живые и невредимые, понял? Нет, я в эту яму не вернусь! Ни за что! Господом клянусь. Уеду я отсюда, на ферму уеду, вот и все. Я там вырос, в предгорьях, на западе; и брат мой там живет. Вот я вернусь туда и стану работать на ферме с ним вместе. А в яму эту я больше не полезу.
Его дочь сидела на деревянной скамье очень прямо и совершенно неподвижно. У нее было узкое лицо, волосы зачесаны назад и собраны в пучок.
— Вам не жарко? — спросил Стефан, и она с мрачным видом ответила:
— Нет, ничего.
Голосок у нее был чистый, и она очень четко выговаривала слова — привыкла говорить с глухим отцом. Поскольку Стефан больше ничего ей не сказал, она снова мрачно потупилась и застыла, сложив руки на коленях. Глухой все еще продолжал что-то говорить. Стефан провел влажной ладонью по волосам и попытался прервать его:
— Все это хорошо, Сачик. По-моему, план у тебя отличный. Действительно, к чему губить оставшуюся жизнь в этих норах? — Но глухой продолжал говорить.
— Он вас не слышит.
— Вы не могли бы увести его домой?
— Я не смогла увести его отсюда даже пообедать. Он все говорит и говорит без умолку.
Теперь она говорила не так звонко и отчетливо, возможно от смущения, и Стефан этому почему-то обрадовался. Он снова провел влажной от пота рукой по волосам и внимательно посмотрел на нее: ему вдруг вспомнились те горы, туманная дымка в ущельях и водопады.
— Знаете что, вы ступайте домой, — он вдруг услышал в собственном голосе ту же мягкость и ясность, как и у нее, — а мы с ним на часок сходим в «Белого льва», хорошо?
— Но тогда вы не сможете повидать брата.
— Он никуда не убежит. Идите домой.
В «Белом льве» они очень много выпили. Сачик не умолкая говорил о ферме в предгорьях, а Стефан — о горах и о том единственном годе, который провел в столичном колледже. Ни тот, ни другой друг друга не слышали. Оба пьяные, они пешком побрели домой; Стефан проводил Сачика в один из тех домов-близнецов, имеющих одну общую стену, которые компания «Чорин» построила на западной окраине города в 95-м, когда был открыт новый карьер. Сразу за домами начинался карст; бескрайняя равнина, вся изрытая, искромсанная, монотонная, отражала лунный свет и как бы сама неярко светилась — светом, уже трижды отраженным от солнца. Щербатая луна, тоже светившаяся отраженным от солнца светом, висела в небесах, точно брошенное хозяйкой на спинку стула белье, которое нуждается в починке.
— Ты передай своей дочери, что все в порядке, — сказал Стефан, покачиваясь на пороге дома Сачика. — Все в порядке, — повторил он еще раз, и Сачик с энтузиазмом подхватил:
— В-все в-в порядке!
Стефан добрался до дому, так и не успев протрезветь, и тот трагический день слился в его памяти с другими днями этого года, он помнил лишь отдельные его фрагменты: закрытые глаза брата, взгляд той темноволосой девушки, луну, равнодушно взиравшую с небес, и фрагменты эти не казались ему частями чего-то целого, а вспоминались всегда по отдельности, с большими промежутками во времени.
На карстовой равнине ни ручьев, ни рек нет; питьевая вода в Сфарой Кампе добывается из глубоких скважин; она очень чистая и совершенно безвкусная. Эката Сачик все время чувствовала на губах непривычный вкус родниковой воды, которую они пили теперь на ферме. Она мыла в раковине грязную кастрюлю, старательно скребла ее жесткой щеткой и была совершенно поглощена этой малоприятной работой. К донышку пригорела еда, и налитая в кастрюлю вода, тускло поблескивавшая при свете лампы, сразу стала коричневой. Здесь, на ферме, никто не умел как следует готовить. Придется ей рано или поздно взять готовку в свои руки, тогда, по крайней мере, они наконец смогут есть по-человечески. Ей нравилась работа по дому, нравилось мыть и чистить, склоняться с пылающими щеками над плитой, которую нужно было топить дровами, звать людей к ужину; это была живая и довольно непростая работа, совсем не такая скучная, как служба кассиршей в мясной лавке, где целый день она только и делала, что давала сдачу и здоровалась с покупателями. Эката уехала из города вместе с родителями, потому что от работы в лавке ее уже тошнило. На ферме семья дяди приняла их четверых без излишних вопросов и комментариев, как принимают явления природы — больше ртов теперь нужно прокормить, зато больше стало и рабочих рук. Ферма была довольно большая, но небогатая. Мать Экаты, женщина слабая и недужная, едва поспевала за шумной и суетливой теткой и ее недавно овдовевшей дочерью. Мужчины — дядя Экаты, ее отец и брат — входили в дом прямо в грязных башмаках и без конца вели разговоры о том, не стоит ли купить еще одну свинью.
— Конечно, здесь куда лучше, чем в городе. В городе вообще ничего хорошего нет, — сказала кузина Экаты. Эката ничего ей не ответила. Ей просто нечего было ответить.
— Я думаю, Мартин все-таки вскоре в город вернется, — сказала она, помолчав. — Он никогда не хотел на земле работать. — И действительно, через какое-то время ее брат, которому стукнуло шестнадцать, вернулся в Сфарой Кампе и стал работать в карьере.
Он снял меблированную комнату с питанием. Его окно выходило прямо на задний двор Фабров — огороженный участок пыльной, поросшей сорняками земли с печально торчавшей в углу елкой. Хозяйка меблированных комнат, вдова рабочего из каменоломен, темноволосая, спокойная и державшаяся очень прямо женщина, напоминала Мартину его сестру Экату. С ней он чувствовал себя взрослым мужчиной, ему было с ней легко. Но когда хозяйка уходила из дому, ее дочка и другие постояльцы — четверо двадцатилетних парней — устанавливали свои порядки; они смеялись, хлопали друг друга по спине, а один из них, железнодорожный служащий из Брайлавы, доставал гитару и принимался наигрывать популярные песенки, поблескивая маслянистыми, темными, точно изюмины, глазами. Дочка хозяйки, тридцатилетняя незамужняя особа, смеялась слишком громко и слишком сильно суетилась; блузка у нее вечно вылезала на спине из-под пояска юбки, но она даже не думала ее заправлять. Мартин никак не мог понять, чего это они так галдят и веселятся и почему без конца хлопают друг друга по плечу? И зачем все эти песни, смех и шутки? Они и над Мартином подшучивали, но он, разумеется, только плечами пожимал и огрызался. Как-то раз он в ответ на их приставания грубо выругался — так отвечают на неуместные шутки рабочие каменоломен. Тогда гитарист отвел его в сторонку и очень серьезно объяснил, как следует вести себя в присутствии дам. Мартин слушал, покраснев и потупившись.
Он был крупный широкоплечий юноша и все думал, что ничего не стоит взять и свернуть шею этому типу из Брайлавы. Но ничего подобного он, конечно, не сделал. Не имел права. Этот тип да и все остальные здесь были взрослыми людьми и понимали о жизни нечто такое, о чем он еще понятия не имел. Это нечто как раз и служило причиной их непомерного веселья, суеты, подмигивания, пения и игры на гитаре. Пока он сам этого не поймет, они имеют полное право делать ему подобные замечания. Он пошел к себе наверх и, высунувшись в окно, закурил сигарету. Дымок от сигареты повис в неподвижных сумерках, окутавших елку в углу чужого двора, крыши домов — весь мир, точно заключив его внутрь голубоватого хрустального купола. На соседском дворе появилась Розана Фабр и легким движением выплеснула воду из миски, в которой мыла посуду; потом постояла немного, глядя на небо. Из окна она казалась Мартину совсем маленькой и тоже как бы пойманной в голубой кристалл. Ее темная головка была запрокинута вверх, оттененная воротником белой блузки. Весь карст в радиусе восьмидесяти километров застыл в полной неподвижности, лишь стекали и падали на землю последние капельки воды с миски Розаны да завивался кольцами дымок от сигареты, просачивавшийся сквозь пальцы Мартина. Мартин медленно и осторожно втянул руку в комнату, чтобы сигаретный дым не привлек ненароком внимания девушки. Розана вздохнула, постучала миской о крыльцо, чтобы вытряхнуть из нее остатки воды, хотя вода уже и так вся стекла, повернулась и снова вошла в дом; хлопнула дверь. Голубоватый воздух тут же сомкнулся, и на том месте, где только что стояла девушка, не осталось ни малейшего следа. Мартин прошептал этому безупречно прозрачному воздуху то самое слово, которое ему только что посоветовали никогда не произносить в присутствии дам, и через мгновение, словно в ответ, вспыхнула высоко в небе, где-то на северо-западе, ясная вечерняя звезда.
Костант Фабр, вернувшись из больницы домой, целыми днями сидел один. Теперь он был уже в состоянии пройти через комнату на костылях. Как он проводил эти долгие молчаливые дни, никто понятия не имел. Он и сам не знал, как ему это удается. От природы активный, он был самым сильным и сообразительным рабочим на каменоломнях и в двадцать три года уже стал десятником. Костант совершенно не умел бездельничать и оставаться в одиночестве. Он всегда отдавал все свое время работе. Теперь время, должно быть, решило взять свое. Ему оставалось лишь наблюдать, что время делает с ним; наблюдать без ужаса, без нетерпения, осторожно, как ученик наблюдает за работой мастера. Он все свои силы использовал теперь на то, чтобы обучиться своему новому занятию — быть слабым. Молчание, в котором теперь протекали его дни, липло к нему, въедалось в него, точно известковая пыль, когда-то въедавшаяся в его кожу.
Мать до шести работала в бакалейной лавке; Стефан приходил с работы в пять. По вечерам примерно в течение часа братья бывали вдвоем. Стефан раньше проводил этот час во дворе под елкой, дышал воздухом и с глупым видом наблюдал, как стрелой носятся за невидимыми насекомыми ласточки в бесконечно долго сгущавшихся сумерках, или же сидел в «Белом льве». Теперь же он сразу шел домой, приносил Костанту «Брайлавский вестник», и оба читали газету одновременно, передавая листы друг другу. Стефан каждый раз собирался завести с братом разговор, но почему-то все не заводил. Известковая пыль сковывала губы. И каждый день этот час проходил одинаково, в молчании. Старший брат сидел неподвижно, склонив красивое спокойное лицо над газетой. Он читал медленнее Стефана, и тому приходилось ждать, чтобы обменяться с ним газетными листами. Стефан следил, как глаза Костанта двигаются от слова к слову. Потом обычно приходила Розана, громко распрощавшись со школьными приятелями, чуть позже возвращалась с работы мать, в комнатах начинали хлопать двери, звучать громкие голоса, из кухни тянуло дымком, там стучали, звенели тарелками, и невыносимо долгий час кончался.
Однажды вечером, едва начав читать газету, Костант вдруг отложил ее. Он долго молчал, но даже не пошевелился, и поглощенный чтением Стефан ничего не заметил.
— Стефан, там, рядом с тобой моя трубка.
— Да-да, конечно, — пробормотал Стефан и передал ему трубку. Костант набил ее, закурил, попыхтел ею немного, потом отложил. Его правый кулак лежал на подлокотнике кресла тяжело и спокойно, точно сжимал узел совершенно неподъемного одиночества. Стефан спрятался за газетой, и молчание затянулось.
Я ему сейчас прочитаю вслух об этой коалиции профсоюзов, подумал Стефан, но читать не стал. Его глаза настойчиво искали какую-нибудь другую статью, которую можно было читать про себя. Почему я не могу с ним разговаривать?
— Роз подрастает, — сказал Костант.
— Да, у нее все хорошо, — пробормотал Стефан.
— За ней вскоре нужно будет приглядывать. Я все думал об этом. Наш город не годится для молоденькой девушки. Парни здесь дикие, а мужчины грубые.
— Так они везде такие.
— Да, наверное, — согласился Костант. Костант никогда никуда не уезжал с карстовой равнины, никогда не бывал даже за пределами Сфарой Кампе. И ничего, кроме этих известняков, улицы Ардуре, улицы Чорин и улицы Гульхельм, да еще страшно далеких гор и огромного неба над головой, в своей жизни не видел. — Знаешь, — сказал он, снова беря в руки трубку, — по-моему. Роз у нас немного чересчур своевольная.
— Это точно, да и парни дважды подумают, прежде чем завести шашни с сестрой Костанта Фабра, — сказал Стефан. — Но тебя-то она во всяком случае непременно послушается.
— И тебя тоже.
— Меня? А меня-то с какой стати?
— С такой, — ответил Костант, впрочем, Стефан и так уже оправился от смущения.
— Да за что ей меня уважать? У нее вполне достаточно здравого смысла. Ни ты, ни я ведь не очень-то слушали, когда отец нам что-нибудь говорил, верно? Ну и тут то же самое.
— Ты на него не похож. Если ты это имел в виду. Ты ведь образование получил.
— Да уж, образование! Я просто профессор! Господи, да я ведь всего какой-то год в Педагогическом проучился!
— А кстати, почему ты бросил учиться, Стефан?
Это явно был не праздный вопрос; он исходил из самой глубины молчания Костанта, из его сурового, задумчивого неведения. Смущенный тем, что, как и Розана, так сильно занимает мысли этого сдержанного и значительно превосходящего его во всех отношениях человека, Стефан сказал первое, что пришло в голову:
— Я все время боялся провалиться на экзаменах. Так что даже и не работал как следует.
И оказалось, что именно в этих, простых, как стакан воды, словах и заключена та правда, которой он наедине с собой никак не желал признавать.
Костант кивнул, обдумывая, насколько серьезна проблема возможного провала на экзаменах, поскольку сам с этой проблемой никогда, разумеется, не сталкивался; потом сказал своим звучным мягким голосом:
— Ты зря теряешь время — здесь, в Кампе.
— Вот как? А как же ты сам?
— Я ничего не теряю. Мне же никогда не удавалось получить стипендию. — Костант улыбнулся, и добродушие этой улыбки разозлило Стефана.
— Да ты никогда и не пытался ее получить, ты отправился прямо в этот чертов карьер, едва тебе стукнуло пятнадцать. Послушай, а тебе никогда не хотелось знать… ты никогда не останавливался на минутку, чтобы спросить себя: а что я, собственно, здесь делаю, почему все время работаю в этой норе, ради чего? Неужели я так и буду работать там по шесть дней в неделю всю оставшуюся жизнь? Существуют ведь и другие способы зарабатывать нормально. Так ВО ИМЯ ЧЕГО нужно надрываться на каменоломнях? Почему вообще люди остаются здесь, в этом Богом проклятом городишке, на этой Богом проклятой изрытой норами каменистой земле, где даже не растет ничего? Почему они не снимутся с места и не переедут куда-нибудь еще? А ты мне говоришь о даром потраченном времени! Ну ответь, во имя чего. Господи ты Боже мой, все это — неужели в жизни больше ничего нет?
— Об этом я тоже думал.
— А я уже несколько лет ни о чем вообще не думаю.
— Тогда почему бы тебе не уехать отсюда?
— Потому что я боюсь. Боюсь, что получится то же самое, что в Брайлаве, в колледже. Но ты…
— У меня здесь работа. Это моя работа, я умею ее делать. Куда бы ты ни поехал, везде можно задать тот же самый вопрос: во имя чего все это?
— Я знаю. — Стефан встал. Он был тонкий, стройный, подвижный и беспокойный. Говорил, часто не заканчивая предложений. Руки его застывали в незавершенном жесте. — Знаю. От себя никуда не уедешь. Но для меня это означает одно, а для тебя — опять же нечто совсем иное. Ты растрачиваешь здесь свою душу, Костант. Точно так же ты поступил тогда, героически позволив размазать себя по земле ради этого Сачика, идиота, который не способен даже вовремя разглядеть, что на него камни рушатся…
— Он же не может СЛЫШАТЬ, — упрекнул его Костант, но Стефан был уже не в силах остановиться.
— Не в этом дело! А в том — и вообще, пусть такие, как он, сами о себе заботятся, — кто для тебя этот глухой, что значит для тебя его жизнь! Почему ты полез туда за ним, хотя видел, что начался обвал? Ведь по той же причине ты в карьер тогда пошел работать, по той же причине ты всю жизнь оттуда не вылезал! Собственно, причины нет никакой. Просто так сложилось. Просто так случилось. И ты позволяешь, чтобы с тобой «случалось», ты принимаешь все, что судьба тебе подсунет, если тебе кажется, что ты сможешь выдержать это и вести себя при этом так, как тебе хочется!
Он совсем не это собирался сказать. Он хотел, чтобы говорил Костант. Но слова вылетали у него изо рта и со стуком рассыпались вокруг, как градины. Костант сидел тихо, его сильная рука была крепко сжата; помолчав, он сказал:
— Что-то ты больно много на мой счет напридумывал.
Это не было самоуничижением. Самоуничижение Костанту вообще не было свойственно. В основе его долготерпения всегда ощущалась гордость. Он отлично понимал страстное желание Стефана, но не мог разделить его, обладая удивительно целостным, самодостаточным характером. И он безусловно продолжал бы жить по-прежнему, не изменяя своей изумительной, хотя и уязвимой целостности души и тела, с достоинством встречая любые невзгоды, точно король, изгнанный в каменистую пустыню, который, точно семя будущего урожая, держит в плотно сжатом кулаке все свое королевство — города, деревья, людей, горы, поля и стаи птиц весною; и молчит, поскольку рядом нет никого, кто мог бы поговорить с ним на его родном языке.
— Но послушай! Ты же сам только что сказал: я тоже думал, для чего все это, неужели это все, что есть в жизни?.. Если ты действительно так думал, то должен же был искать ответ на эти вопросы!
Костант долго молчал, потом ответил:
— Я его почти нашел. В мае прошлого года.
Стефан перестал метаться по комнате, притих и уставился в окно. Ему стало страшно.
— Это… это не ответ, — пробормотал он.
— Да, можно было и получше ответ найти, — согласился Костант.
— Слушай, ты тут совсем в маразм впадешь, сидя один… Вот что тебе нужно: женщина! — снова вдохновился Стефан и опять беспокойно забегал по комнате, не договаривая слова, не заканчивая фразы, то и дело поглядывая в окно, за которым сгущались сумерки ранней осени, точно дым поднимавшиеся от каменных тротуаров, ясно видимых теперь под оголившимися ветвями деревьев. Брат у него за спиной рассмеялся. — Но я ведь правду говорю! — горько, не оборачиваясь, сказал Стефан.
— Возможно. А как насчет тебя самого?
— Вон они там снова на крыльце сидят, у того подъезда, где вдова Катални живет. Сама-то она, должно быть, в больнице, на ночном Дежурстве. Слышишь гитару? Это парень из Брайлавы играет, он в железнодорожной конторе работает, ни одной юбки мимо не пропускает. Даже за Ноной Катални ухлестывает. Там теперь и сынишка Сачика живет. Кто-то мне говорил, что он на Новом Карьере работает. Может, даже в твоей бригаде.
— Чей сынишка?
— Сачика.
— А я думал, они из города уехали.
— Они и уехали, куда-то на запад, на какую-то ферму в предгорьях. Только сын его, должно быть, все-таки тут предпочел остаться.
— А где же дочка?
— С отцом уехала, насколько я знаю.
На этот раз молчание затянулось, оно затопило их, как широкое озеро, на поверхности которого плавали последние слова их разговора, отрывочные, неясные, исчезающие. В комнате стало почти темно. Костант потянулся и вздохнул. Стефан почувствовал, как душу его охватывает покой, такой же непостижимый и реальный, как наступление тьмы. Ну вот они и поговорили, только ни к чему не пришли; впрочем, все еще впереди; когда-нибудь они обязательно сделают следующий шаг. Но в данный момент он чувствовал облегчение — сейчас он спокойнее относился и к брату, и к самому себе.
— Вечера короче становятся, — тихо заметил Костант.
— Я ее раза два видел. По субботам она приезжает сюда с фургоном.
— А где их ферма?
— Где-то на западе, в предгорьях, так мне, во всяком случае, старый Сачик рассказывал.
— Я бы туда верхом съездил, если б мог, — сказал Костант и чиркнул спичкой, раскуривая трубку. Вспыхнувший в прозрачных сумерках, наполнявших комнату, огонек тоже показался Стефану удивительно мирным; вечер за окном, похоже, стал темнее. Гитарный перезвон прекратился; теперь на крыльце громко смеялись.
— Если увижу ее в субботу, попрошу заглянуть к нам.
Костант не ответил. Да Стефану и не нужен был его ответ. Впервые в жизни брат попросил его о помощи.
Вошла мать, высокая, громкоголосая, усталая. Под ее шагами заскрипели, заплакали полы, на кухне тут же что-то зазвенело и зашипело. Все в ее присутствии становилось шумным, молчали лишь оба ее сына: Стефан, который матери избегал, и Костант, которого она считала своим хозяином.
По субботам Стефан уходил с работы в полдень. Он медленно прошелся по улице Ардуре, высматривая фургон с фермы и знакомую чалую лошадь. Не обнаружив ни того, ни другого, он отправился в кафе, одновременно успокоенный и раздосадованный. Миновала еще суббота, потом еще одна. Стоял октябрь, дни стали короче. Как-то раз на улице Гульхельма Стефан увидел впереди себя Мартина Сачика; догнав его, он поздоровался:
— Эй, Сачик, добрый вечер.
Парнишка туповато смотрел на него своими серыми глазами; лицо, руки и одежда Мартина были серыми от известковой пыли, а походка — медлительная и степенная — как у пятидесятилетнего.
— Ты в какой бригаде работаешь?
— В пятой. — Он выговаривал слова так же четко, как и его сестра.
— Это бригада моего брата.
— Я знаю. — Они немного прошлись вместе. — Говорят, он через месяц снова в карьер вернется?
Стефан покачал головой.
— А семья твоя все еще на ферме? — спросил он, и Мартин кивнул.
Они остановились у подъезда вдовы Катални. Добравшись наконец до дому и предвкушая скорый обед, Мартин несколько ожил. Ему явно было приятно, что Стефан Фабр заговорил с ним, однако он ничуть не смутился. Стефан славился своим умом, но считался человеком мрачным и неуравновешенным, то есть мужчиной как бы наполовину, а вот про его брата все говорили, что в нем не один мужчина, полтора.
— Они недалеко от Верре живут, — сказал Мартин. — Гнусное местечко. Я так и не смог привыкнуть.
— А твоя сестра что, смогла?
— Она считает, что должна была остаться с мамой. Хотя ей, по-моему, тоже следовало бы вернуться. Ужасно там гнусно все-таки.
— Ну тут тоже не рай Божий, — сказал Стефан.
— А там они до потери сознания вкалывают и денег за это ни шиша. На этих фермах все какие-то чокнутые. Папаше моему там самое место. — Мартин чувствовал себя настоящим мужчиной, говоря так неуважительно об отце. Но Стефан Фабр глянул на него отнюдь не с уважением и сказал:
— Возможно. Ну ладно, привет, Сачик.
Мартин, чувствуя себя морально уничтоженным, нырнул в подъезд. Господи, когда же он наконец станет взрослым! Когда другие мужчины перестанут презирать и учить его! Да и какое, собственно, ему дело до того, что Стефан Фабр презрительно посмотрел на него и отвернулся?
На следующий день Мартин встретил на улице Розану Фабр. Она была с подругой, он — с приятелем; в прошлом году они еще все вместе учились в школе.
— Как поживаешь. Роз? — громко спросил Мартин, подталкивая приятеля локтем. Однако девушки прошли мимо, высокомерные, как цапли.
— Вон та хороша — прямо огонь! — сказал Мартин.
— Эта? Так она же еще ребенок, — удивился его приятель.
— В том-то и дело! — с таинственным видом заявил Мартин и грубо захохотал, потом поднял голову и вдруг увидел прямо перед собой Стефана Фабра, который переходил улицу. На мгновение Мартину показалось, что он со всех сторон окружен и пути к спасению нет.
Стефан направлялся в «Белого льва», но, проходя мимо гостиницы, увидел во дворе платной конюшни, имевшейся при ней, знакомую чалую лошадь. Он зашел и уселся в выкрашенном коричневой краской вестибюле, пропахшем конским потом, упряжью и старой паутиной. Пришлось просидеть часа два, прежде чем она наконец появилась. Она держалась очень прямо, темные волосы были повязаны черным платком. Он так долго ждал ее и она оказалась именно такой, какой и должна была быть, что он с наслаждением любовался ею и опомнился, только когда она уже прошла мимо и начала подниматься по лестнице.
— Госпожа Сачик! — окликнул он ее.
Она остановилась и удивленно оглянулась.
— Я хотел попросить вас об одном одолжении. — Голос Стефана после столь долгого, странно затянувшегося и будто безвременного ожидания звучал хрипло. — Скажите, вы сегодня в городе ночевать останетесь?
— Да.
— Костант о вас часто спрашивает. Он все хотел поговорить с вами о вашем отце. Он ведь по-прежнему не выходит из дому да и вообще много ходить пока не может.
— У отца все прекрасно.
— Знаете, а что, если…
— Я могла бы заглянуть к нему. Я как раз собиралась навестить Мартина. Вы ведь рядом живете, верно?
— О, чудесно! Это просто… Я подожду вас.
Эката сбегала наверх, вымыла запыленные руки и лицо, потом попыталась было как-то оживить свое серенькое платьице кружевным воротничком, который захватила с собой и хотела завтра надеть в церковь. Потом сняла его. Потом снова повязала свои черные волосы черным платком, спустилась в вестибюль и вышла вместе со Стефаном под бледное октябрьское солнце. До его дома было шесть кварталов. Когда она увидела Костанта Фабра, у нее даже голова закружилась. Она никогда раньше не видела его так близко, разве что в больнице, но там его отгораживали от нее гипсовые повязки, бинты, жара, боль, болтовня отца. Теперь она его разглядела.
Они начали разговор очень легко. Она бы чувствовала себя с ним и совсем свободной, если б не его исключительная красота, которая сбивала ее с толку. Он говорил с ней серьезно и просто, голос его звучал обнадеживающе. Совсем другое дело — его младший брат; у того и смотреть-то было не на что, но с ним Эката постоянно испытывала неловкость и смущение. Костант и сам был спокоен и на других действовал успокаивающе; Стефан же налетал, точно осенний ветер, напоенный горечью, порывистый; с ним ничего невозможно было предсказать заранее.
— Ну и как вам там живется? — спросил Костант, и она охотно ответила:
— Хорошо. Немного скучновато, правда.
— Говорят, у фермеров самая тяжелая работа на свете.
— Я ничего не имею против тяжелой работы. А вот грязь да навоз ужасно противные.
— А деревня там рядом есть?
— Ну, мы живем как раз посредине между Верре и Лотимой. Но у нас есть соседи, да и вообще там все друг друга знают, куда ни пойди километров на тридцать вокруг.
— Значит, и нас тоже можно вашими соседями считать, — вмешался Стефан, но больше ничего не прибавил и затих. Он чувствовал себя лишним в компании этих двоих. Костант удобно устроился в кресле, вытянув хромую ногу и согнув другую, колено которой обхватил сцепленными пальцами. Эката, очень прямая, сидела лицом к нему, руки ее спокойно лежали на коленях. Они не были похожи, однако вполне могли бы сойти за брата и сестру. Стефан встал, пробормотал невнятные извинения и вышел на двор. Дул северный ветер. В раскисшей земле под елкой и в сорняках копались воробьи. Развешанные на бельевой веревке, натянутой между двумя железными столбиками, рубашки, нижнее белье и две простыни хлопали на ветру, а потом бессильно повисали, точно отдыхая. В воздухе пахло озоном. Стефан перемахнул через изгородь, прошел, срезая путь, двором Катални и вышел на улицу, ведущую на запад. Через несколько кварталов улица кончилась. Старые колеи тянулись дальше, в карьер, заброшенный лет двадцать назад, когда рабочие наткнулись на подземные источники; теперь в карьере образовалось настоящее озеро метра четыре глубиной. Летом там купались мальчишки. Стефан тоже когда-то купался там, испытывая, правда, постоянный ужас, потому что плавать по-настоящему не умел, а дна в этом озере даже у берега было не достать и вода обжигала ледяным холодом. Три года назад там утонул какой-то мальчик, а в прошлом году утопился рабочий, который ослеп из-за попавших в глаза осколков известняка. Заброшенный карьер все еще называли Западным. Там когда-то в юности работал отец Стефана. Стефан присел на краю карьера, глядя, как мечется, бьется над серой равнодушной водой запертый со всех сторон, попавший в ловушку ветер.
— Ой, мне же нужно еще с Мартином повидаться! — сказала Эката и встала. Костант потянулся было за костылями, но передумал и сказал:
— Слишком долго мне на ноги подниматься.
— А ты далеко на костылях можешь пройти?
— Отсюда до туда, — сказал он, показывая на кухню. — Ноги-то у меня ничего. Все дело спина тормозит.
— И когда ты от своих костылей избавишься?
— Доктор говорит, к Пасхе. Ну уж тогда я их сразу утоплю в Западном Карьере… — Оба улыбнулись. Она чувствовала к нему нежность и очень гордилась знакомством с ним.
— А ты, интересно, будешь приезжать в Кампе, когда погода совсем испортится?
— Не знаю еще. От дороги зависит.
— Когда снова приедешь, заходи, — пригласил он. — Если захочешь, конечно.
— Зайду обязательно.
И тут они наконец заметили, что Стефана дома нет.
— Даже и не знаю, куда он мог пойти, — сказал Костант. — Он у нас такой — куда-то уходит, откуда-то приходит, неугомонный. А твой брат, Мартин, говорят, хороший парень и с командой нашей сработался.
— Он еще совсем мальчишка, — сказала Эката.
— Да, сперва тяжело приходится. Я в карьер пришел, когда мне пятнадцать стукнуло. Зато потом, когда наберешься сил и свое дело знаешь, идет легко. Ну ладно, передавай привет домашним. — Она пожала его большую твердую теплую руку и заставила себя уйти. На пороге она нос к носу столкнулась со Стефаном. И он покраснел. Ее это потрясло — она никогда не видела, чтобы мужчины так краснели. Потом он заговорил с ней — как всегда сразу о главном:
— Ты ведь на год позже меня в школе училась, верно?
— Да.
— И ты дружила с Розой Байенин. Она тоже на следующий год, как и я, стипендию получила.
— Она теперь в школе работает, детей учит. В Валоне.
— Она-то получше меня своей стипендией распорядилась… Знаешь, я все думал, как это странно получается, когда растешь в таком городке, как наш: сперва вроде все знакомые, а потом встретишь кого-нибудь, и сразу ясно, что никого ты не знаешь.
Она не знала, что ответить. Он попрощался и вошел в дом, а она отправилась по своим делам, потуже затянув платок, потому что ветер усилился.
Через минуту после Стефана в квартиру вошли мать и Розана.
— С кем это ты на крыльце разговаривал? — резко спросила мать. — Надеюсь, не с Ноной Катални?
— Правильно надеешься, — откликнулся Стефан.
— Ну ладно. Смотри поосторожней с этой особой, она особенно любит в таких, как ты, свои когти запускать. Очень мило будет смотреться, когда ты станешь ее щенка выгуливать, а она пока что — материных постояльцев-мужчин развлекать. — И мать, и Розана захохотали одинаковым утробным смехом. — Так с кем ты там разговаривал, а?
— Тебе-то какое дело? — рявкнул он. Их смех всегда приводил его в бешенство; этот смех был похож на град грязных грохочущих камней, от которых невозможно увернуться.
— А такое мне дело, что я желаю знать, кто это торчит у меня на крыльце, и сейчас я тебе разъясню, почему мне до этого дело есть… — Слова точно давали выход клокотавшему в ней гневу и прочим страстям. — Ты у нас такой важный, образованный, ты у нас даже в колледж учиться ездил, да только обратно приполз — в этот вот самый дом! Разве я неправду говорю? Ну так учти: я желаю знать, кто в мой дом без меня является… — Но тут Розана закричала:
— А я знаю, кто это был! Это сестра Мартина Сачика!
Внезапно рядом с ними выросла огромная фигура Костанта; он сутулился, опираясь на костыли.
— Немедленно прекратите, — сказал он, и они тут же умолкли.
Больше никто не сказал о визите Экаты Сачик в их дом ни слова — ни сразу, ни потом. Братья помалкивали, а мать не спрашивала.
Мартин повел сестру обедать в кафе «Колокол», где обедали чиновники из «Чорин компани» и заезжие гости. Он гордился собственной предусмотрительностью, белыми скатертями, красивыми ложками и вилками, хоть и побаивался официанта. Он сам в ставшем тесноватым воскресном костюме рядом с сестрой, одетой в знакомое серенькое платьице, казался себе удивительно взрослым, этаким искушенным кавалером. А Эката смотрела в меню замечательно спокойно, и на лице ее ровным счетом ничего не отразилось, когда она прошептала брату:
— Но здесь же указаны два совсем разных супа!
— Да, ну и что? — Он говорил тоном бывалого человека.
— Может, ты тогда сам выберешь, какой лучше?
— Да, пожалуй.
— Ты должен это сделать, иначе мы наедимся, а до второго добраться не успеем… — Они захихикали. Плечи Экаты вздрагивали от смеха; она прикрыла лицо салфеткой, но салфетка оказалась такой огромной… — Мартин, погляди-ка, мне тут простынку дали… — Теперь оба тряслись от смеха, похрюкивая и постанывая, а тем временем официант с другой такой же «простынкой» на плече неумолимо приближался к ним.
Обед был заказан неслышно и съеден по всем
правилам этикета — локти плотно прижаты к бокам. На десерт подали пудинг из молотых каштанов, и Эката, позволив себе чуточку расслабиться и расставить локти, лакомилась с наслаждением и говорила:
— Роза Байенин писала мне, что в том городе, где она теперь живет, целая каштановая роща и все осенью ходят туда и собирают каштаны, а сами деревья растут густо-густо, и под ними темно, как ночью. И роща эта на самом берегу реки… — Она была возбуждена приездом в город после шести недель жизни на ферме, разговором с Костантом и этим обедом в настоящем ресторане. — Это же просто замечательно! — воскликнула она, хотя вряд ли могла бы объяснить, что именно имела в виду — то ли ей представлялись золотистые полосы солнечного света, пробивавшиеся сквозь темную густую листву каштанов, росших на берегу, то ли ветер, дувший против течения, морщивший воду в тени деревьев и приносивший запахи листьев, реки и еще пудинга из молотых каштанов, то ли весь этот залитый солнцем мир лесов, рек и незнакомых людей.
— Я видел, как ты со Стефаном Фабром разговаривала, — сказал Мартин.
— Я у них дома была.
— Зачем?
— Они меня попросили зайти.
— А зачем?
— Просто хотели узнать, как нам на ферме живется.
— Меня, например, они ни разу об этом не спрашивали.
— Ну, так ты же не живешь на ферме, глупый. А ты действительно работаешь в бригаде Костанта? Вообще-то ты и сам иногда мог бы к ним заглянуть. Костант такой замечательный человек! Он тебе понравится.
Мартин что-то проворчал. Ему почему-то было неприятно, что Эката ходила к Фабрам домой. Он и сам не знал почему. Ему казалось, что ее визит все усложнил. Розана, наверное, тоже была там. Он не хотел, чтобы сестра узнала что-нибудь насчет Розаны. А что, собственно, она могла узнать насчет Розаны? Он постарался не думать об этом и нахмурился.
— А младший из братьев, Стефан, кажется, у Чорина в конторе работает, да?
— Да, бухгалтером или кем-то в этом роде. Все его гением считали, даже в колледж отправили, да только вышибли его оттуда.
— Я знаю. — Эката любовно посмотрела на последнюю ложку пудинга и отправила ее в рот. — Это все знают.
— Мне он не нравится, — заявил Мартин.
— Почему же?
— Не нравится, и все. — Ему стало легче, все свое раздражение он вылил на Стефана. — Хочешь кофе?
— Ох нет.
— Давай, а? Я выпью. — И он уверенно заказал кофе им обоим. Эката любовалась братом и с удовольствием пила кофе.
— Какое это счастье — иметь брата, — сказала она.
Утром Мартин зашел за ней в гостиницу, и они вместе направились в церковь; когда они пели лютеранские гимны, то каждый слышал голос другого, сильный и чистый, и обоим это было очень приятно, и почему-то хотелось смеяться. В церкви они заметили и Стефана Фабра.
— Он часто приходит? — спросила Эката Мартина, когда служба кончилась.
— Нет, — ответил Мартин, хотя понятия об этом не имел, поскольку сам не был в церкви с мая. Он чувствовал тупое раздражение после чересчур долгой проповеди. — Этот тип просто возле тебя увивается.
Сестра не ответила.
— Ты же сама говорила, что он тебя в гостинице поджидал. Чтобы на свидание со своим братцем отвести. А теперь он с тобой на улице заговаривает. В церкви вдруг объявился. — Из чувства самообороны он вытаскивал откуда-то все новые и новые обвинения против Стефана и теперь, произнося их вслух, считал вполне убедительными.
— Мартин, — сказала Эката, — если я кого из людей и способна ненавидеть, так это тех, кто сует свой нос в чужие дела.
— Если бы ты не была моей сестрой…
— Если бы я не была твоей сестрой, мне не пришлось бы слушать все эти глупости. Может быть, сходишь попросишь, чтобы привели мою лошадь? — Так что расстались они, чуточку злясь друг на друга, что, впрочем, быстро прошло под воздействием времени и расстояния.
В конце ноября, когда Эката снова приехала в Сфарой Кампе, она снова зашла к Фабрам. Ей хотелось этого самой, к тому же она обещала Костанту непременно зайти, и все-таки пришлось совершить над собой некоторое насилие; однако, обнаружив, что дома только Костант и Розана, а Стефана нет, она почувствовала значительное облегчение. Мартин в прошлый раз растревожил ее своими дурацкими упреками и вопросами. Впрочем, видеть она хотела именно Костанта.
Зато Костанту хотелось поговорить о Стефане.
— Он вечно где-то бродит или торчит в «Белом льве». Беспокойный он какой-то. Только время зря тратит. Как-то мы с ним разговаривали, так он мне сказал, что боится уезжать из Кампе. Я все думал, что он этим хотел сказать? Чего именно он боится?
— Ну, у него, наверно, нигде больше друзей нет, только здесь, — предположила Эката.
— Здесь их, надо сказать, тоже немного. Он ведь среди рабочих чиновника изображает, а среди чиновников — рабочего. Я видел, как он ведет себя, когда сюда приходят мои приятели. И почему он не хочет быть таким, какой он на самом деле есть?
— А может, он не уверен, какой он есть на самом деле?
— Ну, так он этого и не узнает, если все время будет слоняться, как лунатик, да вино пить в «Белом льве», — сказал Костант твердо, уверенный в собственной целостности. — И еще вечно ссоры затевать. В этом месяце он дрался уже три раза. И каждый раз ему, бедняге, здорово доставалось. — Костант засмеялся. Эката не ожидала увидеть невинную улыбку ребенка на этом суровом лице. Сразу стало ясно, что он по-настоящему добрый человек, что он искренне тревожится за Стефана; даже в его смехе не слышалось насмешки, он был исключительно добродушным. Как и Стефан, она дивилась ему, его красоте, его силе, но ей он вовсе не казался понапрасну загубленным. Господь хранит свой дом и знает слуг своих. Если он послал этого чистого душой, во всех отношениях замечательного человека жить в безвестности на этой каменной равнине, то ведь и равнина эта — тоже часть его дома, часть его странного хозяйства, как камни и розы, как реки, что бегут вечно и не пересыхают, как тигры, как океан, как личинки мух, как звезды, которые тоже, оказывается, не вечны.
Розана, сидя у камина, прислушивалась к их разговору. Она сидела молча, неуклюжая, ссутулившаяся, хотя в последнее время стала следить за собой и старалась держаться прямо, как когда-то в детстве — то есть примерно год назад. Говорят, привыкаешь быть миллионером; вот и девочка через год-два тоже привыкает быть женщиной. Розана училась носить богатое и тяжелое платье собственного наследия. Вот и сейчас она внимательно слушала других, то есть занималась тем, что раньше делала крайне редко. Она никогда еще не слышала, чтобы взрослые разговаривали между собой так, как эти двое. Она вообще нормального разговора ни разу не слышала. Послушав минут двадцать, она неслышно выскользнула из комнаты. Она узнала достаточно много, даже слишком много, и теперь ей нужно было время, чтобы все как следует усвоить, а потом потренироваться самой. Впрочем, тренироваться она начала немедленно: выпрямилась и важно, неторопливо, плавной походкой вышла на улицу; лицо ее было спокойным, как у Экаты Сачик.
— Что, Роз, наяву спишь? — насмешливо окликнул ее Мартин Сачик от подъезда, где жила вдова Катални. Она улыбнулась ему и сказала:
— Здравствуй, Мартин. — Он замолк и уставился на нее. Потом осторожно спросил:
— Ты куда идешь?
— Никуда; просто гуляю. А твоя сестра у нас.
— Правда? — Он вдруг рассердился, хоть это было и глупо, а Розана продолжала свои упражнения.
— Да, — вежливо подтвердила она. — Зашла моего брата навестить.
— Которого?
— Костанта, конечно! С какой стати ей Стефана-то навещать? — удивилась Розана, на минуту забыв о своей новой роли и улыбаясь во весь рот.
— А ты с какой стати тут одна слоняешься?
— А почему бы мне тут не слоняться? — возмутилась она, уязвленная словом «слоняться», но тут же снова возвратилась к исключительно вежливой форме беседы.
— Ладно, тогда и я с тобой пойду.
— Что ж, почему бы и нет?
Они шли по улице Гульхельма, пока она не превратилась в две заросшие сорной травой колеи.
— Не хочешь прогуляться до Западного Карьера?
— Почему бы и нет? — Розане очень нравилось это выражение; оно звучало очень по-взрослому.
Они брели по неглубокой каменистой колее, а вокруг расстилалась бесконечная равнина, покрытая сухой травой, слишком короткой, чтобы клониться под северо-западным ветром. Груды облаков неслись навстречу, и им казалось, что это они идут так быстро и вся серая равнина тоже скользит куда-то с ними вместе.
— От этих облаков голова кружится, — сказал Мартин, — как когда голову задерешь и на верхушку флагштока смотришь.
Они шли, задрав головы и видя только эти мчавшиеся по небу облака. Розане вдруг показалось, что хоть они и ступают по земле, но уже доросли до небес и идут сквозь них, как птицы, парящие высоко на просторе. Она поглядела на Мартина: он тоже шагал сквозь небеса.
Они вышли к заброшенному карьеру и остановились, глядя вниз, на воду, которую теребил порывистый, пойманный в ловушку ветер.
— Хочешь поплавать?
— Почему бы и нет?
— Вон там следы мулов. Прямо в воду уходят, смешно, да?
— Ну и холодно здесь!
— Пойдем по той тропке. Там ветра почти не чувствуется — стена загораживает. Вон оттуда Пеник прыгнул, его вытащили как раз здесь, прямо под нами.
Розана стояла на самом краешке карьера. Серый ветер проносился мимо нее.
— Ты думаешь, он сам хотел прыгнуть? То есть, по-моему, он слепой был, может, он просто свалился…
— Нет, он все-таки немножко видел. Его собирались послать в Брайлаву на операцию. Пошли. — Она последовала за ним к началу тропы, ведущей вниз. Сверху тропа казалась очень крутой. А Розана с прошлого года стала боязливой. Она спускалась, медленно, осторожно ступая по полустертой каменистой тропке в глубь карьера.
— А здесь держись, — сказал Мартин, останавливаясь у особенно крутого спуска и подавая ей руку. Потом они сразу расцепили руки, и Мартин снова пошел впереди туда, где тропа уходила под воду, на оказавшееся теперь под толщей воды дно карьера. Вода была темно-серой, свинцовой, неспокойной, поверхность ее была испещрена множеством складок и кругов, встречавшихся и переплетавшихся, созданных несильным ветерком, который бился в ловушке старого карьера, заставляя воду неустанно лизать его стены.
— Может, мне дальше пойти? — прошептал Мартин, и шепот его разнесся в тишине громким эхом.
— Почему бы и нет?
И он пошел прямо в воду.
— Стой! — крикнула Розана, но вода уже достигала его колен. Потом Мартин обернулся к ней и, вдруг потеряв равновесие, закачался и шлепнулся прямо на уходившую в озеро тропу, обдав Розану душем брызг. Крики и плеск породили многократное эхо, отражавшееся от каменных стен.
— Ты сумасшедший! Ты зачем это сделал?
Мартин сел, снял свои огромные башмаки, вылил из них воду и, стуча зубами, рассмеялся беззвучным смехом.
— Ты зачем это сделал? — повторила Розана.
— Да так, просто захотелось, — ответил он. Потом схватил ее за руку, притянул к себе, заставил опуститься на колени и поцеловал. Поцелуй затянулся. Розана принялась вырываться, потом с силой оттолкнула Мартина и убежала. Но этого он почти не заметил. Он лежал на камнях, у самой кромки воды и смеялся; он чувствовал себя таким же твердым, как эта земля, он даже руку поднять не мог… Потом сел. Рот открыт, взгляд невидящий. Потом не спеша надел свои мокрые тяжелые башмаки и двинулся вверх по тропе. Розана уже стояла на краю карьера и снизу казалась занесенным туда ветром клочком тьмы на фоне огромного движущегося неба.
— Скорей! — крикнула она, и ветер сделал ее голос острым как нож. — Поднимайся скорей, попробуй-ка меня поймать!
При его приближении она бросилась бежать. Он за ней. Бежать в мокрых тяжелых башмаках и штанах было трудно. Однако, пробежав метров сто, он все-таки догнал Розану и попытался перехватить обе ее руки. Ее рассерженное лицо на мгновение мелькнуло совсем близко, потом она вывернулась и снова бросилась бежать по направлению к городу. Мартин помчался следом и бежал, пока совсем не задохнулся. В начале улицы Гульхельма Розана остановилась и подождала его. Потом они рядом пошли по тротуару.
— Ты похож на выловленную из воды драную кошку, — насмешливо, чуть задыхаясь, шепнула она.
— Молчи уж лучше, — в тон ей откликнулся он, — ты на свою юбку посмотри — вся в грязи.
Перед подъездом Мартина они остановились и посмотрели друг на друга; он рассмеялся.
— До свиданья. Роз! — сказал он. Ей захотелось его укусить.
— Пока! — бросила она и двинулась к соседнему подъезду, стараясь идти не слишком медленно и не слишком быстро, ощущая спиной его взгляд, точно прикосновение рук к своему телу.
Не обнаружив брата у него дома, Эката вернулась в гостиницу и стала ждать Мартина; они опять собирались пообедать вместе в «Колоколе». Эката попросила портье сразу послать ее брата наверх, и буквально через несколько минут в дверь постучали. На пороге стоял Стефан Фабр. Он был бледен, даже какого-то сероватого оттенка, лицо измятое, точно неубранная постель.
— Я хотел спросить… — Голос его куда-то ускользнул. — Не пообедаешь ли ты со мной? — пробормотал он, глядя мимо нее в глубь комнаты.
— За мной брат сейчас должен зайти. А вот и он. — Но оказалось, что это управляющий гостиницей, который громко сказал:
— Извините, барышня, но у нас внизу есть гостиная. — Эката Тупо смотрела на него. — Вы поймите, барышня, вот вы просили портье послать наверх вашего брата, а он не знает, как ваш брат выглядит. Зато я знаю. Это моя обязанность. Так что для интимных бесед внизу есть очень милая гостиная. Договорились? Вы хотите останавливаться в респектабельной гостинице, а я хочу для вас же сохранить ее респектабельность, понимаете?
Стефан оттолкнул его и с грохотом бросился по лестнице вниз.
— Он же пьян, барышня, — сказал управляющий с упреком.
— Убирайтесь, — и Эката захлопнула дверь у него перед носом. Потом села на кровать, стиснула руки, но Сидеть спокойно не могла. Вскочила, схватила пальто, платок, но, так и не надев их, сбежала по лестнице, швырнула ключ на стойку портье, возле которой стоял управляющий с выпученными от изумления глазами, и выбежала на улицу. Улица Ардуре тонула во тьме, круглые островки света были лишь возле уличных фонарей; зимний ветер продувал улицу насквозь. Эката прошла два квартала на запад, потом перешла на другую сторону и пошла в обратном направлении, миновав целых восемь кварталов. «Белый лев» уже снабдили зимними дверями, и ей не было видно, что там внутри. Ледяной ветер мчался по улицам, словно стремительный горный поток. Когда Эката вышла на улицу Гульхельм, то встретила там Мартина. Он как раз выходил из дому. Они отправились ужинать в «Колокол». Оба были задумчивы и чувствовали себя не в своей тарелке. Сидели притихшие, разговаривали мало и были благодарны друг другу за компанию.
На следующее утро Эката пошла в церковь одна. Сперва она убедилась, что Стефана там нет, и с облегчением опустила глаза. Ее со всех сторон обступили каменные стены церкви, пространство было наполнено безжизненным голосом проповедника, и Эката отдыхала, как судно в гавани. Но, услышав слова пастора: «И подниму я глаза свои на холмы, откуда идет помощь мне», она вздрогнула и еще раз оглядела помещение церкви в поисках Стефана, потихоньку поворачивая голову и скашивая глаза. Самой проповеди она практически не слышала. Однако после окончания службы уходить из церкви ей не хотелось. Она вышла оттуда вместе с последними прихожанами. Пастор задержал ее в дверях и стал расспрашивать о матери. И тут она заметила Стефана: он ждал внизу у крыльца.
Эката подошла к нему.
— Я хотел извиниться за вчерашнее, — выпалил он.
— Ничего страшного.
Он был без шапки, ветер трепал его светлые, но казавшиеся какими-то запыленными волосы, бросал пряди ему в глаза, он хмурился и все пытался убрать волосы с лица.
— Я был пьян, — сказал он.
— Я знаю.
Они пошли по улице рядом.
— Я беспокоилась о тебе, — сказала Эката.
— С какой стати? Я не так уж сильно напился.
— Не знаю.
Они молча перешли на другую сторону улицы.
— Костанту нравится с тобой беседовать. Он мне сам сказал. — Тон у него был неприязненный. Эката сухо ответила:
— Мне тоже нравится разговаривать с ним.
— Всем нравится. Еще бы, ведь это такая честь!
Она промолчала.
— Разве не так?
Она понимала, что это действительно так, но продолжала молчать. Они были уже совсем близко от гостиницы. Стефан остановился.
— Не хочу окончательно портить твою репутацию.
— Не вижу в этом ничего смешного.
— Я и не смеюсь. Я хотел сказать только, что не стану провожать тебя до входа, чтобы не ставить в неловкое положение.
— Мне нечего стыдиться.
— А мне есть чего. И мне стыдно. Ты уж извини меня, Эката.
— Тебе вовсе не обязательно без конца извиняться. — Слушая ее чуть хрипловатый голос, он снова вспомнил о горных туманах, о вечерних сумерках, о густых лесах.
— Вот я и не стану. — Он засмеялся. — Ты что, прямо сразу поедешь?
— Придется. Сейчас рано темнеет.
Оба колебались.
— Ты не можешь оказать мне одну услугу?
— Конечно, могу.
— Присмотри, пожалуйста, как мою лошадь запрягают, а? В прошлый раз мне минут через пятнадцать пришлось останавливаться и подтягивать всю упряжь. Сделаешь? А я пока соберусь.
Когда Эката вышла из гостиницы, готовая повозка стояла у крыльца, а Стефан сидел на козлах.
— Я тебя провожу, можно? Прокачусь с тобой немного. — Она кивнула, он подал ей руку, помогая сесть в повозку, и они поехали по улице Ардуре на запад, через карст.
— Ох уж этот чертов управляющий! — сказала Эката. — Все утро возле моей комнаты шаркал и гнусно улыбался…
Стефан рассмеялся, но ничего не сказал. Он казался настороженным, погруженным в себя. Дул холодный ветер. Старенький чалый постукивал копытами по дороге. Прошло несколько минут, и Стефан наконец объяснил свое молчание:
— Я ведь никогда раньше лошадью не правил.
— Я тоже. Только вот этим чалым. Он спокойный, от него никаких неприятностей.
Ветер свистел на бескрайней равнине, покрытой сухой травой, все пытался сорвать с Экаты ее черный платок, упорно швырял Стефану в глаза пряди светлых волос.
— Ты только посмотри! — тихо проговорил Стефан. — Каких-то пять сантиметров жалкой земли, а под ней сплошной камень! Хоть весь день в любом направлении можешь ехать — везде тот же известняк и тонкий слой земли сверху. Знаешь, сколько всего деревьев в Кампе? Пятьдесят четыре. Я их специально пересчитал. И больше ни одного деревца до самых гор. Ни единого. — Стефан разговаривал точно с самим собой, голос его звучал негромко, чуть суховато, мелодично. — Когда я ехал на поезде в Брайлаву, то все высматривал первое новое дерево, пятьдесят пятое. Им оказался огромный дуб возле одной из ферм в предгорьях. А потом вдруг деревья появились повсюду, их полно во всех горных долинах, и я уже не успевал считать. Но мне бы очень хотелось попробовать пересчитать их.
— Видно, тебе тут просто опротивело.
— Не знаю. Что-то, пожалуй, опротивело. Я чувствую себя страшно маленьким, вроде муравья, даже еще меньше, едва разглядеть можно. И вот я ползу куда-то по огромному полу, но так никуда и не приползаю — куда же тут приползешь? Вот посмотри на нас со стороны: мы ведь с тобой тоже ползем сейчас по полу без конца и без края… А вон над нами и потолок… Похоже, с севера идет снеговая туча.
— Надеюсь, до вечера снега не будет.
— Слушай, а как вам там живется, на ферме?
Она подумала, прежде чем ответить, потом тихо ответила:
— Там жизнь очень замкнутая.
— Твой отец такой жизнью доволен?
— По-моему, он в Кампе никогда себя нормальным человеком не чувствовал.
— Есть люди, которые, видно, созданы из земли, из глины, — сказал Стефан. Голос его, как всегда, легко ускользал за пределы слышимости, точно ему было все равно, слышат ли его. — А есть такие, кто сделан из камня. Те, кто способен нормально жить в Кампе, сделаны из камня. — «Такие, как мой брат», — подумал он, но вслух этого не сказал, однако она все равно услышала.
— Почему ты не уедешь отсюда?
— То же самое и Костант говорит. Легко сказать. Видишь ли, если бы Костант отсюда уехал, он бы и себя с собой захватил. И я тоже никуда от себя не денусь… Так что не важно, куда именно переедешь. Все равно от себя не уйти. Да еще не известно, с чем встретишься. — Он направил лошадь прямее. — Я, пожалуй, здесь спрыгну. Мы, должно быть, уже километров пять проехали. Посмотри-ка, вон там наш муравейник. — С высоты козел они, оглянувшись, увидели темное пятно города на бледном фоне равнины: шпиль собора казался не больше булавочной головки; окна домов и слюдяные вкрапления на кровлях поблескивали в редких лучах зимнего солнца; далеко за городом под высоким, затянутым темно-серыми тучами небом ясно видны были очертания гор.
Стефан передал вожжи Экате.
— Спасибо за прогулку, — сказал он и выпрыгнул из повозки.
— Тебе спасибо за компанию, Стефан.
Он махнул на прощанье рукой, и Эката поехала дальше. Она чувствовала, что жестоко бросать его посреди карста и заставлять возвращаться пешком, но, когда оглянулась, Стефан был уже далеко и все больше удалялся от нее, быстро шагая по сужающимся к горизонту колеям под бескрайними небесами.
Она добралась до фермы еще до наступления темноты, в воздухе уже кружились легкие снежинки — первый снег наступающей зимы. Из окошка кухни она весь прошедший месяц видела холмы, затянутые пеленой дождя. А в первые дни декабря, выглянув из окна спальни ясным утром, наступившим после обильных снегопадов, она увидела белую равнину и нестерпимо сверкающие горы далеко на востоке. Больше поездок в Сфарой Кампе не было. За покупками дядя Экаты ездил в Верре или Лотиму, унылые деревушки, похожие на раскисший под дождем картон. На равнине после снегопадов или затяжных дождей было слишком легко сбиться с пути, потеряв колею.
— И куда ты тогда заедешь? — спрашивал Экату дядя.
— Сперва скажи, куда ты сам заехал? — говорила ему Эката тихим сухим голосом, похожим на голос Стефана. Но дядя не придавал ее словам значения.
На рождество, взяв лошадь напрокат, приехал Мартин. Но уже через несколько часов заскучал и стал приставать к Экате с вопросами.
— А что это за штуковину тетя носит на шее?
— Это луковица, надетая на гвоздик. Помогает от ревматизма.
— О Господи! — Эката засмеялась. — Да тут у них все насквозь луком пропахло и старым фланелевым бельем! Неужели ты не чувствуешь?
— Нет. А в морозные дни они даже вьюшки в печах закрывают. Считают, пусть лучше дымно, только не холодно.
— Знаешь, Эката, возвращайся-ка ты в город со мной вместе!
— Мама нездорова.
— Но ей ведь уже ничем не поможешь.
— Да. Только я буду чувствовать себя последней дрянью, если брошу ее одну без особых на то причин. Сперва — самое главное. — Эката похудела; скулы выступали сильнее, глаза провалились и потемнели. — У тебя-то как дела? — поспешила она перевести разговор на другую тему.
— Нормально. Мы довольно долго не работали — из-за снегопадов.
— Слушай, а ты здорово вырос!
— Ага.
Мартин уселся на жесткий диван в их деревенской гостиной, и диван жалобно скрипнул под его крупным телом почти взрослого мужчины; да и держался Мартин спокойно и уверенно, как взрослый.
— Ты уже с кем-нибудь встречаешься?
— Нет. — И оба засмеялись. — Послушай, я тут видел Фабра, и он просил тебе передать пожелание весело провести зиму. Ему лучше. Он теперь выходит — с тросточкой.
На другом конце комнаты промелькнула их двоюродная сестра — в старых мужских ботинках, для тепла набитых соломой. В этих же башмаках она шныряла туда-сюда и по грязному, покрытому льдом и снегом двору фермы. Мартин посмотрел ей вслед с отвращением.
— Я с ним довольно долго беседовал. Недели две назад. Надеюсь, к Пасхе он действительно вернется в карьер, как обещают. Он ведь десятник в той бригаде, где я работаю, ты, наверно, знаешь? — Глядя на брата, Эката поняла, в кого именно он влюблен.
— Я рада, что он тебе нравится.
— Да в Кампе больше ни одного мужика нет, чтобы ему хоть бы по плечо был! Тебе ведь он тоже нравится, верно?
— Ну конечно!
— Знаешь, когда он спросил про тебя, я подумал…
— Ты неправильно подумал, — оборвала его Эката. — Может быть, все-таки перестанешь совать нос в чужие дела, Мартин?
— Я же еще ничего не сказал! — сделал он слабую попытку защититься; он по-прежнему испытывал благоговейный страх перед старшей сестрой. И хорошо помнил, как высмеяла его Розана Фабр, когда он попытался посплетничать с ней насчет Костанта и Экаты. Это было несколько дней назад, пронзительно светлым зимним утром. Розана развешивала на заднем дворе простыни, а он перевесился через забор, чтобы поболтать с ней. «Господи, ты что, с ума сошел? — издевалась над Мартином Розана, а мокрые простыни шлепали ее по лицу, ветер трепал волосы. — Эти двое? Да никогда в жизни!» Он попробовал спорить, но Розана и слушать не захотела. «Костант ни на ком из здешних жениться не намерен. Он себе невесту выберет в дальних краях, может быть, в Красное, а может, женится на теперешней жене управляющего или на королеве — во всяком случае, на красавице, у которой будут и слуги, и все такое. Просто она в один прекрасный день пойдет по улице Ардуре и увидит Костанта, который тоже совершенно случайно ей навстречу попадется, — раз и готово!»
«А что готово-то?» — спросил он, совершенно завороженный ее уверенностью профессионального предсказателя судеб. «Не знаю! — ответила она и накинула на веревку еще одну простыню. — Может, они убегут вместе. Может, что-то еще. Я знаю только, что Костант свою судьбу знает заранее и намерен ждать». «Ну хорошо, раз ты такая умная, скажи, у тебя-то судьба какая?» Розана во весь рот ухмыльнулась, сверкнула темными глазищами из-под черных длинных ресниц и прошипела, как кошка: «Ох уж эти мне мужчины!», а белоснежные в солнечных лучах простыни и рубахи хлопали и бились вокруг нее на ветру.
Январь укрыл угрюмую равнину снегами, потом наступил февраль, принес серые тучи, день за днем медленно плывшие с севера на юг: тяжелая и долгая была зима. Костант Фабр иногда ездил с кем-нибудь на карьеры Чорина, примыкавшие к городу с севера; он стоял, наблюдая за работой бригад и непрерывно тянущейся вереницей вагонеток, а кругом лежали белые снега да тускло белел на свежих срезах известняк в карьере. Каждый считал своим долгом подойти к Костанту, высокому мужчине, опиравшемуся на трость, и спросить, как идут дела и когда он собирается снова приступить к работе.
— Говорят, еще несколько недель подождать нужно, — обычно отвечал он. Компания по требованию страховых агентов сохраняла за ним место до апреля. Костант чувствовал себя практически здоровым, он уже мог дойти от карьера до города, не опираясь на трость, и испытывал горькое раздражение от того, что сидел без дела. Вернувшись в город, он чаще всего шел в «Белого льва» и сидел там в дымном теплом полумраке, пока не начинали приходить другие рабочие; зимой они кончали работу в четыре из-за обильных снегопадов и ранних сумерек. Все это были крупные серьезные мужчины; рядом с ними даже воздух, казалось, нагревался от жара их могучих тел, и над головами рабочих повисал парок; слышалось непрерывное гудение их грубых голосов. В пять в «Белом льве» появлялся Стефан, худой, подвижный, в белой рубашке и легких туфлях — странноватая фигура в здешней компании. Обычно Стефан подсаживался к Костанту, но отношения у них были довольно натянутые. Оба словно чего-то нетерпеливо ждали.
— Добрый вечер, — улыбаясь, сказал, проходя мимо их столика, Мартин Сачик, большой, сильный, усталый парень. — Добрый вечер, Стефан.
— Для тебя, паренек, я господин Фабр, — сказал Стефан своим тихим голосом, который тем не менее тоже выделялся на убаюкивающем фоне густых, гудящих точно в улье голосов рабочих. Мартин, однако, решил не оглядываться и не обращать на его слова внимания.
— Ты чего к этому мальчишке цепляешься?
— А не желаю, чтобы меня называл по имени каждый щенок с карьера. Я и не каждому взрослому мужику это позволяю. Вы что, меня за городского дурачка держите?
— Вообще-то порой ты ведешь себя именно так, — уронил Костант и допил свое пиво.
— Хватит, наслушался я твоих советов.
— А с меня хватит твоего самодовольства. Ступай в «Колокол», если здешняя компания тебя не устраивает.
Стефан встал, швырнул на столик деньги и ушел.
Было первое марта; северную половину неба над городом сплошь затянули тяжелые тучи; кромка этой облачной гряды казалась серебристо-голубой, а за ней, на юге, начиналось совершенно чистое голубое небо, в нем над западными холмами висел месяц, похожий на лунку ногтя, и рядом сияла вечерняя звезда. Стефан молча шел по улицам, в спину ему дул ветер, который тоже молчал. Дома его гнев, казалось, сам принял форму комнаты, прямоугольного темного затхлого помещения, где полно столов и стульев с острыми краями и где светилась желтоватым светом керосиновая лампа. И вдруг эта лампа выскользнула у него из рук, точно живая, и разлетелась вдребезги, ударившись об угол стола. Стефан на четвереньках собирал осколки стекла, когда вошел его брат.
— Почему ты меня преследуешь?
— Я пришел к себе домой.
— Может, мне в таком случае вернуться в «Белого льва»?
— Да иди ты, черт бы тебя побрал, куда хочешь! — Костант сел и вытащил вчерашнюю газету. Стефан, по-прежнему стоя на коленях и держа на ладони осколки стекла, заговорил первым:
— Послушай. Я знаю, почему ты хочешь, чтобы я гладил младшего Сачика по головке. Во-первых, он на тебя как на Господа Бога глядит, и это еще понятно. Но, во-вторых, у него есть сестра. А ты бы хотел, чтобы все их семейство стало ручным, верно? Чтобы, как и все прочие, они ели у тебя из рук, да? Ну так вот, пусть я буду тем единственным, кто этого не делает и делать не будет, и всю игру тебе испорчу. — Он встал, пошел к помойному ведру, которое стояло на кухне рядом с грудой скопившегося за неделю и приготовленного для стирки грязного белья, и выбросил осколки в ведро. Некоторое время он постоял там, рассматривая ладонь: осколочек стекла поблескивал, впившись в сустав указательного пальца. Он, видно, сжал руку, разговаривая с Костантом. Стефан вытащил осколок и сунул кровоточащий палец в рот. В кухню вошел Костант.
— Какую игру ты имел в виду, Стефан? — спросил он.
— Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду.
— Вот и скажи внятно.
— Я имел в виду ее, Экату. Кстати, зачем она тебе? Она ведь тебе не нужна. Тебе ничего не нужно. Ты же у нас настоящий оловянный божок.
— Заткнулся бы ты.
— Нечего мне приказывать! Это я, черт побери, и сам умею! Но и от нее ты отстань. Она достанется мне, а не тебе! Я украду ее у тебя из-под самого носа, возьму прямо у тебя на глазах… — Огромные руки Костанта сжали плечи Стефана и так встряхнули его, что голова чуть не оторвалась. Он вырвался и ударил Костанта кулаком прямо в лицо, но при этом и сам ощутил жесткий удар и отлетел назад, точно вагонетка, нагнавшая остальной состав, споткнулся и неловко упал куда-то за груду грязного белья. Голова его с глухим стуком ударилась об пол — точно нечаянно уронили дыню.
Костант стоял спиной к плите и рассматривал костяшки пальцев на своей правой руке; потом посмотрел на Стефана, чье лицо вдруг покрылось мертвенной бледностью и стало странно серьезным. Костант быстро вытащил из стопки белья чистую наволочку, намочил ее в раковине и опустился на колени рядом со Стефаном. Сделать это было непросто: правая нога у него все еще не гнулась. Костант стер тонкую темную струйку крови, стекавшую у Стефана изо рта. Лицо брата исказилось, он вздохнул, открыл глаза и посмотрел на склонившегося над ним Костанта почти бессмысленно, с трудом узнавая его. Так смотрит порой грудной ребенок.
— Вот так-то лучше, — сказал Костант. Он тоже был бледен.
Стефан приподнялся, опершись на одну руку.
— Я упал? — удивленно спросил он слабым голосом. Потом внимательно посмотрел на Костанта, и лицо его снова стало напряженным.
— Стефан…
Стефан встал — сперва на четвереньки, потом выпрямился во весь рост. Костант взял его за руку, но он руку отнял, рванулся к двери и выбежал на улицу. Стоя на пороге, Костант видел, как Стефан перемахнул через ограду и, срезая путь, длинными неровными прыжками бросился через двор вдовы Катални на улицу Гульхельма. Костант с застывшим печальным лицом еще несколько минут постоял в дверях, потом тоже вышел на улицу и торопливо зашагал в ту же сторону. Черные валы туч уже закрывали почти все небо, лишь на самом юге виднелась тоненькая голубовато-зеленая полоска. Луна и звезды тоже исчезли. Костант шел по старой колее к Западному Карьеру. Впереди никого не было видно. Стоя на краю карьера и глядя на воду, спокойную, подернутую пеленой, словно отражавшую снег, который должен был вот-вот пойти, он один раз громко позвал: «Стефан!» Легкие жгло, горло пересохло — он зря так спешил: ответа не последовало. Здесь сейчас было не время и не место окликать брата по имени. Это все равно помочь не могло. Костант повернулся и пошел обратно. Теперь он шел медленно, чуть прихрамывая.
— Дайте мне лошадь, хочу в Колле съездить, — сказал Стефан конюху в платной конюшне. Тот уставился на его разбитую, перепачканную кровью физиономию.
— Уже темно. На дорогах скользко, все обледенело.
— У вас же должны быть лошади с шипастыми подковами. Я заплачу вдвойне.
— Ну ладно…
Сев на лошадь, Стефан сразу повернул направо, на улицу Ардуре, то есть в сторону Верре, а не Колле. Конюх закричал что-то ему вслед. Но Стефан лишь пришпорил лошадь, и та пошла рысью, а потом, когда мощеная улица кончилась, понеслась галопом. Полоску голубовато-зеленого неба на юго-западе тоже затянули тучи. Стефану вдруг показалось, что он сползает куда-то вбок, и он сильнее ухватился за переднюю луку седла, но поводья натягивать не стал. Когда лошадь совсем выдохлась и сама пошла шагом, стало уже совсем темно — и на земле, и на небе. В тишине всхрапнула лошадь, скрипнуло седло, в замерзшей траве просвистел ветер. Стефан спешился и внимательно посмотрел вокруг. Лошадь, в общем, все время держалась старой, проложенной вагонетками колеи и сейчас стояла метрах в полутора от нее. Лошадь и человек двинулись дальше; сидя в седле, человек не мог видеть колею, так что позволил лошади самой выбирать дорогу через равнину.
Ехали они долго; вдруг в покачивающейся тьме что-то легонько коснулось лица Стефана.
Он ощупал щеку. Правая челюсть опухла и одеревенела, а правая рука, сжимавшая вожжи, закоченела настолько, что когда он попытался перехватить вожжи левой рукой, то даже не понял, шевелятся у него пальцы или нет. Он был без перчаток, хотя и в зимней куртке, которую так и не успел снять, когда — все это случилось очень давно — пришел домой, а потом разбил керосиновую лампу. Держа вожжи левой рукой, он сунул правую за пазуху, чтобы немного отогрелась. Лошадь послушно шла шагом, понурив голову. И снова что-то легонько коснулось лица Стефана — словно шелковистой кисточкой провели по опухшей щеке и разбитой воспаленной губе. Самих редких снежных хлопьев он видеть не мог. Их прикосновение было нежным и совсем не холодным. Он даже ждал этих редких ласковых прикосновений. Стефан снова перехватил вожжи правой рукой, а левой ухватился за теплую, жесткую, чуть влажноватую конскую гриву. Лошадь его прикосновение явно успокоило. Пытаясь хоть что-нибудь увидеть впереди, Стефан понял только, где находится горизонт, а может, ему и это почудилось; сама же равнина словно куда-то исчезла. Исчезли и небеса над головой. Лошадь мягко ступала во тьме, внутри ее, сквозь ее.
Изредка слово «заблудился» высвечивалось само собой, вспыхивало в темноте, словно зажженная спичка, и тогда Стефан пытался остановить лошадь, но лошадь продолжала идти. И Стефан отпустил вожжи, положил уставшую руку на переднюю луку седла и позволил себя везти.
Вдруг лошадь вскинула голову и даже пошла рысцой. Стефан вцепился в ее влажную гриву и ошалело заморгал: сквозь намерзшие на ресницах льдинки он увидел паутину света. Свет постепенно приобретал все более отчетливую форму прямоугольника, становился желтоватым, и наконец Стефан отчетливо разглядел окно дома. Интересно, кто это живет в полном одиночестве посреди бескрайней заснеженной равнины? Потом по обе стороны выросли неясные очертания каких-то стен — то ли сараи и амбары, то ли целая улица домов. Оказалось, что это Верре. Лошадь остановилась и так тяжко вздохнула, что подпруга громко скрипнула. Стефан уже не помнил, как уехал из Сфарой Кампе; потрясенный, он продолжал сидеть на потной лошади посреди погруженного во тьму Верре. Где-то на втором этаже светилось окно. Падали редкие крупные хлопья снега, который точно бросали сверху пригоршнями. На земле снега оставалось мало, он таял практически на лету, этот легкий весенний снежок. Стефан подъехал к тому дому, где горел свет, и крикнул:
— Скажите, где дорога на Лотиму?
Дверь в доме открылась, в полосе света посверкивая кружились снежинки.
— Вы доктор?
— Нет. Как мне добраться до Лотимы?
— Следующий поворот направо. Если доктора встретите, скажите, чтоб поторопился!
Лошадь покидала селение неохотно, она уже хромала на одну ногу, а вскоре захромала и на вторую. Стефан по-прежнему сидел прямо, высматривая первые проблески рассвета, который, по его расчетам, должен был вскоре наступить. Теперь он ехал на север, ветер швырял снег прямо ему в лицо, слепя и не давая ничего разглядеть, хотя в окружавшей его со всех сторон тьме и так видно было очень плохо. Начался подъем, потом дорога пошла вниз, потом снова поползла вверх. Лошадь остановилась и, поскольку Стефан сидел без движения, свернула влево, сделала несколько неуверенных шагов, снова остановилась, вся дрожа, и заржала. Стефан спешился и сперва упал на четвереньки: ноги совершенно закоченели и не желали слушаться. Возле дорожки, ведущей куда-то вбок, виднелась изгородь поскотины. Он оставил лошадь на дорожке, а сам пошел к дому с темными стенами и заснеженной крышей, неожиданно возникшему перед ним. Он отыскал дверь, постучал, подождал немного и снова постучал; зазвенело стекло в окошке, и прямо у него над головой раздался голос насмерть перепуганной женщины:
— Кто там?
— Это ферма Сачиков?
— Нет! А кто это?
— Я что, мимо их дома проехал?
— А вы случайно не доктор?
— Доктор.
— Их дом следующий, но только слева от дороги. Дать вам фонарь, доктор?
Женщина спустилась вниз и дала ему фонарь и спички; она держала в руке свечу, свет которой сперва почти ослепил его, так что лица ее он так и не разглядел.
Теперь он повел лошадь в поводу, держа в левой руке фонарь. Лошадь, спотыкаясь, послушно и терпеливо шла за ним, ее влажные темные глаза поблескивали в свете фонаря, и у Стефана вдруг от жалости к ней защемило сердце. Они шли очень медленно, и он все высматривал вдали первые проблески зари.
Стефан чуть было не прошел мимо дома, когда тот вдруг мелькнул где-то слева, и снег, прибитый к его северной стене ветрами, отразил свет фонаря. Стефан развернул лошадь и повел обратно. Взвизгнули столбики ворот. Вокруг толпились темные сараи. Он постучал, подождал, снова постучал. Где-то в доме мелькнул огонек, дверь отворилась, и снова в чьей-то руке на уровне его глаз возникла свеча, на время ослепив его.
— Кто это?
— Это ты, Эката?
— Кто это? Стефан?
— Я, должно быть, пропустил еще один дом, тот, что посредине…
— Входи же…
— У меня лошадь. Это конюшня?
— Нет, вон там, левее…
Он уже вполне пришел в себя, когда отыскал для своей лошади свободное стойло, стащил у чалого Сачиков немного сена и воды, нашел какой-то мешок и немного вытер коня; ему казалось, что он со всем этим справился отлично, однако, подойдя снова к дому, почувствовал, как дрожат от слабости колени, и с трудом сумел рассмотреть комнату, куда Эката втащила его за руку. Да и саму Экату он видел неясно. Она была в пальто, накинутом поверх чего-то белого, наверное ночной сорочки.
— Ох, парень, — сказала она, — ты что же, сегодня вечером из Кампе выехал?
— Бедная старая лошадь, — сказал он и улыбнулся. На самом деле он произнес эти слова вслух немного позже, сперва ему это лишь показалось: они все время вертелись у него в голове. Он присел на диван, и Эката сказала ему:
— Посиди минутку. — Потом вроде бы она на какое-то время вышла из комнаты, а потом вдруг в руки ему сунули чашку с чем-то горячим. Он глотнул, обжег рот, и этот глоток горячего бренди настолько оживил его, что он сумел наконец разглядеть Экату: она ворошила почти остывшие угли, потом раздула огонь и подбросила дров.
— Видишь ли, мне хотелось поговорить с тобой, — начал Стефан и мгновенно уснул.
Эката сняла с него башмаки, положила его ноги на диван, достала одеяло, укутала его, поворошила дрова, чтоб горели веселей, но он не шелохнулся. Она погасила лампу и в темноте скользнула наверх. Ее кровать стояла у окна, и она из своей мансарды хорошо видела и слышала, как за окном в темноте идет обильный мягкий снег.
В дверь стучали; Эката резко приподнялась и села в постели; стены и потолок мансарды были залиты ровным отраженным от свежевыпавшего снега светом. В дверь заглядывал дядя в желтовато-белом шерстяном нижнем белье. Волосы у него вокруг лысой макушки стояли дыбом, как тонкая проволока. Белки глаз были того же цвета, что и нижнее белье.
— Кто это там, внизу?
Чуть позже Эката потихоньку объяснила Стефану, что нужно говорить: он ехал в Лотиму по делам «Чорин компани» и выехал он из Кампе еще днем, однако пришлось задержаться, потому что лошади в подкову попал камень, а потом еще и снег повалил.
— Но к чему все это вранье? — спрашивал он смущенно; сейчас он был похож на ребенка, сонного и усталого.
— Мне же нужно было им что-то сказать.
Он почесал в затылке.
— А когда я сюда добрался?
— Ночью, часа в два.
Он вспомнил, как надеялся на скорый рассвет. Все это было очень, очень давно.
— А на самом-то деле зачем ты приехал? — спросила Эката. Она убирала после завтрака со стола; ее лицо казалось суровым, хотя голос звучал очень мягко.
— Я подрался, — сказал Стефан. — С Костантом.
Она замерла, держа в каждой руке по тарелке и внимательно глядя на него.
— Что, думаешь, не ударил ли я его слишком сильно? — Стефан рассмеялся. Голова была пустой и легкой до головокружения,
в теле — свинцовая тяжесть усталости. — Нет, это он из меня дух вышиб. Неужели ты думаешь, что я мог бы с ним справиться?
— Не знаю, — печально сказала Эката.
— Я в драках всегда проигрываю, — сказал Стефан. — И убегаю.
Подошел глухой отец Экаты, одетый по-уличному — в тяжелых башмаках и в старой кацавейке, сшитой из одеяла; по-прежнему шел снег.
— А сегодня вы до Лотимы не доберетесь, господин Стефан, — с каким-то злобным удовлетворением сообщил он; голос его звучал как всегда громко и монотонно. — Томас говорит, лошадка ваша на все четыре захромала. — Это обстоятельство уже обсуждалось за завтраком, но глухой тогда не расслышал.
Он так и не спросил, как себя чувствует Костант, а когда наконец все-таки задал этот вопрос, то в голосе его звучало то же злобное удовлетворение:
— А братец ваш, небось, опять на каменоломнях вкалывает? — Он и не пытался выслушать ответ.
Большую часть дня Стефан продремал у огня. Лишь кузина Экаты проявила по поводу его появления в доме какое-то любопытство. Когда они с Экатой готовили ужин, кузина сказала:
— Говорят, его брат — очень красивый мужчина.
— Костант? Самый красивый из всех, кого я видела, — улыбнулась Эката, кроша луковицу.
— Этого-то я, пожалуй, красивым не назвала бы, — осторожно продолжала кузина.
Лук щипал глаза; Эката рассмеялась, вытерла слезы, высморкалась и покачала головой.
— Да уж, — сказала она.
После ужина Эката вынесла помои и объедки свиньям, вернулась на кухню и увидела там Стефана. Она была в отцовской куртке, в башмаках на деревянной подошве и все в том же черном платке. За нею следом на кухню ворвался морозный ветер, и ей не сразу удалось захлопнуть дверь.
— Разъяснило, — сказала она Стефану. — Но ветер теперь с юга дует.
— Эката, ты поняла, зачем я сюда приехал?
— А ты сам-то понял? — откликнулась она, глядя на него снизу вверх. Потом прошла и поставила на место помойное ведро.
— Да.
— Ну тогда, наверно, и я поняла.
— Да тут у вас просто поговорить негде! — вдруг рассердился Стефан: дядины деревянные башмаки загрохотали на пороге кухни.
— У меня есть своя комната, — с раздражением бросила Эката, сразу вспомнив, какие тонкие там стены, а за стенкой спит кузина, а напротив — ее родители… Она сердито нахмурилась и сказала: — Нет. Подождем до завтрашнего утра.
Рано утром кузина Экаты потихоньку вышла из дому и куда-то быстро пошла по дороге. Через полчаса она уже возвращалась обратно. Ее набитые соломой башмаки чавкали в снежной каше и грязи. Жена соседа, жившего от них через один дом, рассказала: «Ну так он доктором назвался, а я еще его спросила, кто же это у них заболел, и фонарь ему дала, темень такая, что лица-то мне его не разглядеть было, я и решила, это доктор, так ведь он и сам так сказал…» Кузина Экаты с удовольствием повторяла про себя слова соседки и прикидывала, когда лучше прищучить Стефана и Экату — при свидетелях или наедине, — как вдруг из-за поворота заснеженной, сверкавшей на солнце дороги рысью выбежали две лошади: наемная из городской конюшни и их старый чалый. На них верхом сидели Стефан и Эката; оба смеялись.
— Куда это вы собрались? — крикнула им, вся задрожав, кузина.
— Подальше отсюда, — откликнулся Стефан. Молодые люди проехали мимо, вода в лужах веером разлеталась под копытами их коней и сверкала на мартовском солнце алмазными брызгами. Вскоре оба всадника скрылись вдали.
Неделя за городом
В Кливленде, штат Огайо, было солнечное утро 1962 года, а в Красное шел дождь, и улицы, зажатые между серыми стенами домов, были полны народа.
— Черт, прямо за воротник льет, — пожаловался Казимир, но его приятель в соседней кабинке уличного ватерклозета не расслышал — был увлечен собственным монологом:
— Историческая необходимость — это солецизм чистейшей воды! Ведь история не что иное, как то, чему необходимо было случиться. Однако и расширять значение этого понятия тоже нельзя. Кто его знает, что, собственно, случится дальше…
Оба вышли на улицу; Казимир, на ходу застегивая брюки, заметил мальчика, который не сводил глаз с огромного, метра два с половиной длиной черного футляра, похожего на гроб и прислоненного к стене ватерклозета.
— Что это? — спросил мальчик, и Казимир пояснил:
— Здесь тело моей двоюродной прабабушки. — Он подхватил «гроб» и вслед за Стефаном Фабром скрылся в пелене дождя.
— Фарс! Детерминизм — это фарс. Все что угодно, лишь бы не испытывать благоговейного страха. Нет, вы покажите мне истоки, семя всего этого? — Стефан остановился и ткнул пальцем в грудь Казимиру. — Хорошо, я покажу его вам: это яблочное зернышко. Но могу ли я утверждать, что из него вырастет яблоня? Нет! Мы полагаем, что существует Закон, поскольку не существует свободы. Однако никакого Закона тоже не существует. А существуют развитие и гибель, радость и ужас, и существует бездна — все остальное выдумываем мы. Так, сейчас мы опоздаем на поезд.
Они принялись яростно проталкиваться сквозь толпу на улице Тийпонтий. Дождь полил вовсю. Стефан Фабр решительно продвигался вперед, размахивая своим портфелем; губы строго сжаты, бледное лицо мокро от дождя.
— Господи, и почему ты не взял с собой вместо этого гроба какое-нибудь пикколо? Дай-ка я понесу, — и он отобрал у Казимира футляр, когда тот в очередной раз столкнулся со спешившим на автобус чиновником.
— Наука, влачащая бремя Искусства, — провозгласил Казимир. — Что, тяжело? — Однако его друг, нахмурившись, волок футляр дальше, хотя, к тому времени как они добрались до Западного вокзала, здорово задыхался.
По платформе, окутанной клубами паровозного дыма и пеленой дождя, они уже бежали вместе с другими пассажирами, прислушиваясь к пронзительным свисткам и гремевшему из динамиков голосу, что-то назойливо повторявшему на санскрите. Совершенно без сил они ввалились в первый же вагон, но все купе оказались на удивление пусты. Видимо, вот-вот отправиться должен был совсем другой поезд — битком набитая пригородная электричка. Минут десять они сидели совершенно неподвижно.
— Что, кроме нас больше пассажиров нет? — мрачно спросил Стефан Фабр, подойдя к окну.
Потом поезд один раз громко свистнул, и стены за окном поплыли назад. Капли дождя ударялись о стекла, оставляя на них косые дорожки. По причудливо переплетающемуся множеству рельсов они взлетели на мост; отсюда оба молодых человека могли заглянуть в окна чужих спален, мимо пролетали кирпичные стены жилых домов с огромными надписями на них. Потом вдруг все исчезло, утонуло во тьме дождливого вечера, уплыло куда-то на восток. Теперь видна была только гряда холмов, казавшихся черными на фоне бесцветного, начинающего очищаться от туч неба.
— Ну вот мы и за городом, — сказал Стефан Фабр.
Он вытащил из портфеля, из-под стопки носков и маек журнал по биохимии, надел очки в темной оправе и погрузился в чтение. Казимир откинул прилипшие ко лбу мокрые волосы, прочитал надпись на оконном стекле — «Не высовывайтесь!» — осмотрел трясущиеся на ходу стены купе, полюбовался дорожками, которые оставляли на стекле дождевые капли, потом задремал и в ужасе проснулся: ему приснилось, что вокруг него рушатся стены. Поезд только что отошел от Окаца. Стефан сидел, глядя в окошко, бледный, черноволосый, своей отрешенностью подтверждая реальность привидевшегося Казимиру кошмара.
— Ничего не разглядеть, — сообщил Стефан. — Ночь кругом. Только за городом еще и осталась настоящая темная ночь. — Он смотрел куда-то вдаль, всматривался сквозь собственное отражение в стекле в ночь, наполнившую его глаза благословенной тьмой.
— Итак, мы с тобой едем на поезде, идущем в Айзнар, — сказал Казимир, — но мы не можем быть уверены, что он идет именно туда. С тем же успехом он может идти и в Пекин. Он может также сойти с рельсов, и тогда всем нам конец. А если мы все-таки приедем в Айзнар? Что такое Айзнар? Просто слово и ничего больше. Господи, какой мрак! — Казимир снова вдруг вспомнил рушащиеся стены из своего кошмара.
— Напротив, твои рассуждения должны вселять бодрость, — откликнулся его друг, — ибо нужен немалый труд, чтобы наш мир не рассыпался, особенно если смотришь на него под таким углом. И труд этот безусловно имеет смысл. Строить города, поддерживать кров дома своего верностью… Нет, не верой. Верностью. — Стефан снова уставился во тьму за окном сквозь отражавшиеся в стекле собственные глаза. Казимир протянул ему половину шоколадки, похожей на глину. Они подъезжали к Айзнару.
Дождь поливал усыпанные золотистыми листьями сикомор тротуары; улицы были освещены плохо; автобус, идущий до Вермейра и Превне, поджидал пассажиров под промокшими насквозь деревьями. Футляр устроили на заднем сиденье. В проходе цыпленок со шнурком на шее скреб пол в поисках зерен, другой конец шнурка держала в руке какая-то женщина с копной курчавых волос; пьяненький рабочий с фермы громко разговаривал с водителем автобуса. Автобус, постанывая, выезжал из Айзнара на южную дорогу, погружаясь в деревенскую ночь, ту самую благословенную ночь и темноту, которой уже не бывает в городе.
— …А я и говорю ему: ты ведь не знаешь, что завтра случится…
— Послушай, — сказал Казимир Стефану, — если Вселенная бесконечна, то значит ли это, что все, способное в принципе в ней случиться, уже где-то случается — не здесь, не с нами, в другом временном измерении?
— …А он мне: в субботу, говорит, в субботу…
— Не знаю. Наверное. Неизвестно ведь, что именно в ней возможно. И слава Богу. Если б мы это знали, я бы, пожалуй, застрелился, а ты?
— …возвращаюсь в субботу, а я ему: в субботу, значит, черт бы ее побрал…
В Вермейре развалины главной башни замка были мокры от дождя; здесь пьяный сошел, и в автобусе наконец стало тихо. Стефан Фабр помрачнел, нахохлился, сообщил, что у него болит горло, и погрузился в некрепкий сон смертельно уставшего человека. Голова у него раскачивалась в такт бесконечным ухабам на неровной, бегущей по предгорьям дороги, а автобус все стремился на запад, пробивая фарами туннель света в кромешной черноте. Вдруг над дорогой склонилось какое-то огромное дерево, точно предлагая автобусу убежище. Это был старый дуб, и автобус остановился под ним. Двери открылись, в салон ворвался свежий воздух, замелькали огоньки фонариков, форменные ботинки, фуражки. Откидывая со лба светлые волосы. Казимир пробормотал:
— Ну вот, вечно одно и то же. Понимаешь, здесь всего километров восемь до границы. — Молодые люди вытащили из нагрудных карманов документы.
— Так. Фабр Стефан, город Красной, улица Томе, 136. Студент, МР 64100282А. Аугескар Казимир, город Красной, улица Сорден, 4. Студент, МР 80104944А. Куда направляетесь?
— В Превне.
— Оба? По служебным делам?
— В отпуск. Хотим недельку в деревне пожить.
— А это что такое?
— Футляр для виолончели.
— А что в нем?
— Виолончель.
Футляр поставили на пол, открыли, снова закрыли, вытащили из автобуса и положили на землю. Потом снова открыли, и в свете электрических фонариков возникла виолончель, огромная и одновременно хрупкая — волшебный предмет среди грязи, армейских ботинок, армейских ремней с металлическими пряжками и фуражек.
— Ее нельзя на мокрую землю ставить! — возмутился Казимир. Стефан, сидевший напротив, незаметно толкнул его.
Таможенники ощупывали виолончель, трясли ее что было сил.
— Послушай, Кази, может она открывается?
— Нет, она целая, ее открыть невозможно.
Один из этих людей, толстяк, похлопал инструмент по блестящему деревянному боку и отпустил какую-то шутку в адрес собственной жены. Стефан засмеялся, но тут кто-то еще грубо схватил виолончель, заскрипели колки, и в шуме дождя и ворчании работающего на холостых оборотах автобусного двигателя возник странный, резкий, быстро умолкнувший звук: лопнула струна. Стефан схватил Казимира за руку. Когда автобус снова тронулся в путь и они снова оказались рядом в теплой душной темноте, Казимир сказал:
— Извини, Стефан. Спасибо тебе.
— Ты сможешь ее исправить?
— Да, просто колок сломался. Я поставлю другой.
— Господи, как горло дерет. — Стефан потер виски и прикрыл ладонью глаза. — Похоже, я действительно простудился. Черт бы побрал этот дождь!
— Мы уже к Превне подъезжаем.
В Превне единственная улица, освещенная двумя фонарями, терялась в тумане моросящего дождя. За крышами домов что-то темнело — то ли верхушки деревьев, то ли холмы. Стефана и Казимира никто не встретил, поскольку Казимир забыл указать в письме, какого числа к вечеру они приедут. Он позвонил по единственному здесь телефону-автомату и вернулся к Стефану, который ожидал его вместе с виолончелью в футляре, сидя за столиком в кафе в здании местной почты.
— Дело в том, что отец уехал на вызов. Так что или пошли пешком, или придется подождать здесь. Ты уж извини, пожалуйста. — Продолговатое лицо Казимира было расстроенным и виноватым. — Здесь всего километра три.
Решили пойти пешком. Они молча шагали по грязной дороге среди полей сквозь дождь и тьму. В воздухе пахло сырой землей. Казимир начал было насвистывать, но капли дождя попадали в рот, и вскоре он перестал свистеть. Темнота была такой непроницаемой, что идти приходилось очень медленно, не зная, куда попадет при следующем шаге нога. Стефан не мог бы сказать даже, насколько ровной была дорога. Стояла тишь, лишь в полях вокруг слышался бесконечный шепот дождевых капель. Начался подъем. Впереди темнела вершина холма, в темноте казавшаяся лишь еще одним, более плотным сгустком тьмы. Стефан остановился и поднял воротник пальто; голова у него кружилась. Передохнув, он снова двинулся вперед и в промозглой, полной шепота дождя тишине явственно услышал где-то за холмом негромкий, но звонкий девичий смех. Потом на вершине холма вдруг вспыхнули огни, мерцающие, манящие.
— Что это? — спросил растерянно Стефан и остановился. Чары тьмы были разрушены. Прозвенел детский крик:
— Вон они!
Огни впереди затанцевали и стали спускаться к ним, они со всех сторон были окружены огнями, зовущими голосами, из темноты в свете электрических фонариков появлялись чьи-то лица и руки и снова исчезали в ночи; вновь, но на этот раз совсем рядом, прозвучал тот же очаровательный девичий смех.
— Отец так и не вернулся, а вы все не появлялись, ну мы и решили пойти вас встречать.
— А ты привез своего друга? Где же он?
— Привет, Кази! — Светлая голова Казимира склонялась то к одному, то к другому.
— А где же твоя скрипочка? Ты разве ее с собой не захватил?
— Тут всю неделю льет и льет.
— Виолончель мы оставили у господина Праспайеца на почте.
— Давайте вместе сходим за ней, так приятно прогуляться!
— Меня зовут Бендика, а вас? Стефан?
Она засмеялась, когда они в темноте попытались пожать друг другу руки, потом подняла фонарь повыше и оказалась темноволосой и очень высокой, почти такой же высокой, как брат; ее единственную из всех Стефан рассмотрел достаточно хорошо. А потом они все вместе пошли назад в Превне, болтая, смеясь, мигая фонариками, свет которых метался по дороге и по сорной траве у обочин; порою же столб света взлетал вверх, пытаясь пробиться сквозь ставший из-за дождя очень плотным воздух. Стефану удалось увидеть их всех сразу лишь на почте, пока Казимир ходил за своей виолончелью: двое мальчиков, мужчина, высокая девушка по имени Бендика, та молоденькая блондинка, что особенно нежно расцеловала Казимира, еще одна блондинка, помоложе, — он рассматривал их всего минуту, а потом они снова вышли на дорогу, и ему снова пришлось гадать, которая же из трех девушек — а может, из четырех? — смеялась тогда вдали за холмом. Холодный дождь касался его разгоряченного лица. Рядом с ним, направив свет фонарика на дорогу, шел тот мужчина.
— Меня зовут Йоахим Брет, — сообщил он.
— А, вы энзимами занимаетесь! — голос у Стефана звучал хрипло.
— Да, а вы чем?
— Молекулярной генетикой.
— Да не может быть! Замечательно! Вы, наверное, с Метором работаете? Заглянете ко мне потом, хорошо? Вы американские журналы регулярно читаете?
— И, словно поднимаясь виток за витком по спирали, они проговорили так половину пути. Брет был словоохотлив, Стефан лаконичен — он по-прежнему чувствовал головокружение и все время прислушивался к смеху девушек, которые, к сожалению, смеялись одновременно, так что проверить себя он никак не мог. Потом вдруг все смолкли, слышны были лишь звонкие голоса мальчишек, бежавших далеко впереди.
— А вон и дом наш, — сказала рядом со Стефаном высокая Бендика и указала куда-то в сторону неведомого желтого сияния.
— Ты еще тут, Стефан? — окликнул его из темноты Казимир.
Он что-то проворчал в ответ; его раздражал их глупый добродушный смех, бесконечное веселье, суета, крики, переполненный энтузиазмом Брет, сияние желтых окон впереди, для всех них означавших дом. Только не для него. В прихожей они сняли с себя мокрые пальто и куртки и куда-то разбежались, но потом собрались снова и их стало еще больше, когда все стали рассаживаться вокруг стола в темноватой комнате с высокими потолками, наполняя ее шумом и светом принесенных с собой ламп. На столе уже дымился кофе и стоял пирог, испеченный матерью Казимира. Она поспешно, хотя и спокойно сновала туда-сюда. Голова ее была украшена короной кос, еще довольно темных, но с сильной проседью. Фигурой она напоминала виолончель Казимира. У нее было семеро детей, и она тут же присоединила к ним Стефана, не делая между ним и своими сыновьями никаких различий. Детей между собой она различала только по именам — Валерия, Бендика, Антоний, Брюна, Казимир, Йоахим, Поль. Шутки и смех не умолкали, невысокая темноволосая девушка смеялась прямо-таки до слез, Казимир уже не убирал со лба свои светлые волосы. Тут же двое одиннадцатилетних близнецов непрерывно ссорились из-за пустяков. Потом худой улыбающийся Йоахим взял гитару и заиграл, склонив голову, точно любопытная ворона. Его правая рука, перебиравшая струны, то ли была искалечена, то ли это было врожденное уродство. Все запели, не пел один Стефан: он этих песен не знал и у него страшно болело горло. Впрочем, он так или иначе петь бы ни за что не стал и теперь сидел, враждебно поглядывая на остальных. Вошел доктор Аугескар. Он поздоровался с Казимиром за руку и сразу затмил его собой — высокий король и хрупкий, не похожий на него сын-наследник.
— А где же твой друг? Простите, что не смог вас встретить — срочно вызвали. Пришлось подниматься в горы. Удалил аппендикс прямо на обеденном столе, точно гуся перед Рождеством потрошил. Ступай-ка спать, Антоний. Бендика, принеси мне стакан. Тебе налить, Йоахим? А вам, Фабр? — Он разлил красное вино и сел со всеми вместе за огромный круглый стол. Они снова запели. Доктор Аугескар первым начинал песню и вел остальных. Казалось, что его одного вполне достаточно, чтобы заполнить всю комнату. Одна из его светловолосых дочек пыталась кокетничать со Стефаном, маленькая темноволосая по-прежнему корчилась от смеха, Бендика поддразнивала Казимира, Брет исполнил любовную песню на шведском — было еще не поздно, часов одиннадцать вечера. Стефан вдруг поймал на себе взгляд серых ясных глаз доктора Аугескара, брошенный из-под его светлых бровей.
— Вы простужены?
— Да.
— В таком случае вам лучше лечь в постель. Диана, где у нас Фабр будет спать?
Казимир тут же с виноватым видом вскочил и повел Стефана наверх, по коридору, где пахло сеном и дождем, мимо бесконечных комнат.
— Когда у вас завтракают?
— О, в любое время! — У Казимира всегда были очень приблизительные представления о времени. — Спокойной ночи, Стефан.
Однако ночь выдалась беспокойная. Ему стало совсем плохо, всю ночь изуродованная рука Брета рвала одну длинную, свернувшуюся кольцами струну за другой, и они лопались со знакомым жалобным звуком, а он приговаривал, ухмыляясь: «Так-то ты за ними ухаживаешь — хуже всех». Утром Стефан встать не смог. Залитые солнцем стены почему-то кренились к нему, обступая кровать, а небо вытягивалось в голубую ленту и проникало в комнату через окна, а потом надувалось, точно огромный воздушный шар. Он лежал в постели, запустив руки в свои черные жесткие волосы, и стонал. Волосы, казалось, кололи голову, как булавки. Потом вошел тот высокий мужчина с золотисто-седой головой и очень уверенно объявил:
— Мальчик мой, да вы совсем больны.
Эти слова пролились ему на душу бальзамом. Да, болен, он болен, а стены и небо в полном порядке.
— Ничего себе температурка! — сказал доктор. Стефан в ответ улыбнулся и чуть не расплакался, чувствуя себя важной персоной, о которой теперь позаботится этот одинаково добрый ко всем пациентам большой человек, похожий на короля, такой же уверенный в себе и такой же равнодушно-снисходительный к окружающим, как солнце в небе. Но солнечный свет не проникал в темную чащу его недуга, в потайные пещеры и закутки его страданий, а через некоторое время туда перестала поступать и живительная влага — вода.
Дом стоял тихий и днем, залитый лучами сентябрьского солнца, и ночью.
В тот вечер госпожа Аугескар, уронив на колени шерстяные нитки, иглу и носки, которые штопала, все время поднимала свою украшенную короной кос голову и прислушивалась к звукам наверху — так, много лет назад, слушала она, не плачет ли ее первенец Казимир в своей колыбельке.
— Бедный мальчик, — шептала она. И Брюна тоже поднимала свою светлую головку и прислушивалась, впервые услышав одинокий зов из тех темных лесов болезни и одиночества, в которых сама ни разу не бывала. Дом стоял вокруг них спокойно, как крепость. На следующий день мальчикам разрешили играть на улице дотемна, пока не пошел дождь. Казимир что-то выпиливал посреди кухни для своей виолончели. Его лицо, склоненное над блестящим грифом, было спокойным и замкнутым; он продолжал работать, даже когда на кухню заходил кто-то еще из молодежи поболтать. Пришедший обычно садился на табуретку, или пристраивался у раковины, или прислонялся к стене, и начинались бесконечные разговоры — в конце концов, собравшимся на каникулы семерым молодым людям не под силу было подолгу хранить молчание. Но среди их болтовни все время как бы слышался глубокий, негромкий, мелодичный голос виолончели, говорившей без слов; голос ее был похож на тот зов из чащи леса, который все слышался Брюне, так что она, утратив вдруг терпение и наскучив зависимостью от остальных, сама по себе, не воспринимая себя в данном случае ни как дочь, третью по счету, ни как четвертого ребенка в семье, ни как члена всей этой молодой компании, скользнула по лестнице наверх, чтобы собственными глазами увидеть, какова она, эта тяжелая болезнь, эта смертельная опасность.
Такого она не видела никогда. Молодой человек спал. Он был очень бледен; черные волосы, разметавшиеся по белой подушке, казались четкой надписью — но только на чужом языке.
Брюна вернулась вниз и сказала матери, что заглядывала к больному и тот спокойно спит; что ж, в какой-то степени это была правда, но не вся. Только что наверху она еще раз получила подтверждение тому, что было раньше для нее недоступно, непостижимо; теперь она была уже готова пройти сквозь темную лесную чащу; она стала взрослой и понимала, что вполне может тоже умереть. И ее провожатым в этом лесу стал тот молодой человек, что явился к ним в пелене дождя уже больной пневмонией.
На пятый день после обеда Брюна снова поднялась в его комнату. Он уже потихоньку поправлялся и лежал, слабый, но довольный, размышляя о той утренней прогулке лет десять назад, когда они с отцом и дедушкой отправились на карьеры. Стоял апрель, карстовая равнина уже подсохла и была залита солнцем. Всюду цвели голубые цветочки. Когда они миновали карьеры «Чорин компани», разговор вдруг переключился на политику, и Стефан понял, что они специально ушли подальше от города, чтобы иметь возможность хоть что-то сказать друг другу вслух и чтобы ребенок тоже послушал, что говорят взрослые. «Знаешь, муравьев-рабочих, муравьев-солдат всегда будет предостаточно, хватит, чтобы все муравейники заполнить», — сказал отец. Дедушка, сухой, резкий, все еще порывистый, хотя ему уже перевалило за семьдесят, воскликнул сердито, хотя на самом деле был куда мягче сына и почти настолько же уязвим, как его тринадцатилетний внук: «Ну так уезжай отсюда, Коста! Почему же ты отсюда не уезжаешь?» Впрочем, он просто подначивал отца. Ни дед, ни отец никогда бы оттуда не уехали, никуда бы не сбежали. И Стефан шагал рядом с ними как взрослый мужчина среди взрослых мужчин; они вместе шли по бесплодной равнине, голубой от апрельских недолговечных цветов; отец и дед разделяли с ним свой гнев, свое бесплодное беспомощное ожесточение, свою недолговечную, словно взметнувшиеся языки синего пламени, ярость. Разговаривая в полный голос под открытым небом, они вручили Стефану ключи от мира взрослых, от той тюрьмы, где обитали сами и где, конечно же, станет жить и он. Но они знавали и другие дома. Ему же пока не довелось. Как-то раз дедушка, Стефан Фабр, положил руку на плечо Стефана-внука и сказал:
«А что бы мы делали со свободой, Коста, если б ее имели? Что сделал с ней Запад? Сожрал. Набил ею брюхо. Большое, прямо-таки выдающееся брюхо — вот что такое Запад. Хотя правит этим брюхом мудрая голова, голова настоящего мужчины, обладающая мужским разумом и мужским взглядом на вещи; зато все остальное на Западе — это брюхо. Такой человек не способен ходить. Он только и делает, что сидит за столом и все ест, ест да придумывает машины, которые поставляют ему еще больше еды… Порой он бросает еду под стол черным и желтым крысам, чтобы те не подтачивали стены его дома. Но он-то сидит там, а мы по-прежнему здесь, и в животах у нас пусто, один воздух, воздух и раковые опухоли, воздух и бесплодная ярость. Но мы еще можем ходить. Так что мы с Западом друг другу подходим. Мы подходим для иностранного плуга. Почуяв запах пищи, мы орем, как ослы, и лягаемся… Так люди ли мы после этого, Коста? Я что-то сомневаюсь».
Все это время рука его ласково, успокаивающе сжимала плечо внука, ведь мальчик понятия не имел о своем наследии, рожденный в тюрьме, где плохо — все, где нет ни гнева, ни понимания, ни гордости, где ничего хорошего не осталось, кроме ожесточенного упрямства и верности друг другу. Да, это еще у нас осталось, говорила ему тяжелая дедова рука. Так что, когда светловолосая девушка вошла в комнату, где Стефан лежал слабый и довольный, он посмотрел на нее как бы из той залитой солнцем апрельской бесплодной равнины — с доверием и радостью, ведь она не имела никакого отношения к смерти его деда и отца; первый умер в поезде при депортации, а второго и еще сорок два человека с ним вместе расстреляли за городом, где-то на равнине во время репрессий 1956 года.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Стефана девушка, и он ответил:
— Отлично.
— Может, хочешь чего-нибудь? Так я принесу.
Он покачал головой. Она вспомнила, как его черные волосы на белой подушке и бледное лицо казались ей четко написанными на белой бумаге, но совершенно непонятными греческими словами; сейчас же глаза его были открыты, и говорил он на ее языке. И тот самый голос, который несколько ночей назад едва слышно звал ее из черной чащи лихорадочного бреда, брата смерти, произнес вполне понятные слова:
— Я никак не могу вспомнить твое имя.
Он оказался очень милым, очень симпатичным, этот Стефан Фабр. Он все еще был ошеломлен тем, что так неожиданно заболел, но сейчас явно радовался, что видит Брюну.
— Меня зовут Брюна, я следующая за Кази. Хочешь что-нибудь почитать? Тебе здесь не скучно?
— Скучно? Ну что ты! Ты и представить себе не можешь, как это приятно — лежать и ничего не делать. Мне раньше никогда не доводилось. Твои родители так добры, а весь этот огромный дом и поля вокруг… Знаешь, я все лежу и думаю: Господи, неужели это происходит со мной? И это я лежу здесь, в мирном тихом доме, среди просторов полей, и эта комната полностью в моем распоряжении, и можно сколько угодно бездельничать?
Она рассмеялась, и он узнал ее по смеху: именно его он слышал тогда под дождем в темноте, прежде чем на вершине холма засветились огоньки. Ее светлые волосы были разделены пробором ровно посередине и с обеих сторон слегка подкручены внутрь, оттеняя тоже довольно светлые и густые брови; а вот какого цвета были у нее глаза, определить Стефан не мог: то ли серо-карие, то ли просто серые. Теперь он наконец услышал ее смех совсем рядом, при свете дня — ласковый, задорный. «О, моя красавица, нежная и тонкая, о, молодая кобылица, не знавшая упряжи, боязливая и норовистая, смех твой девичий…»
Желая, чтобы она осталась подольше, он спросил:
— А ты всегда здесь живешь?
— Летом — да, — ответила она, глядя на него своими непонятными сияющими глазами под шапкой светлых волос. — А ты где вырос?
— В Сфарой Кампе, на севере.
— Твоя семья и теперь там живет?
— Там живет моя сестра. — Ему было смешно, что она по-детски спрашивает о семье. Наверное, она ужасно наивна и еще более непостоянна и в то же время целостна, чем даже Казимир, который существует как бы в иной реальности, недосягаемой для других, недоступной для нескромных вопросов о соответствии. Чтобы еще задержать ее, он сказал:
— У меня сейчас столько времени для размышлений! Только за сегодняшний день я передумал больше, чем за последние три года.
— О чем же ты думаешь?
— Об одном венгерском аристократе… знаешь эту историю? Его взяли в плен турки, а потом продали в рабство. В шестнадцатом веке. И какой-то турок купил его и стал запрягать в плуг, как вола, и несчастный пахал землю, а по спине его гулял кнут. Но в конце концов родным удалось его выкупить. Приехав домой, он взял свою шпагу и вернулся на поля сражений. И там ему удалось взять в плен своего бывшего хозяина, который некогда купил его как раба. Он привез турка в свое поместье, снял с него цепи и вывел из дому. Несчастный турок все высматривал кол, на который его посадят, или яму, где он будет медленно гнить, а все станут на него мочиться и лишь в самом конце сожгут, или рвущихся с поводка собак, или, по крайней мере, плеть. Но ничего так и не заметил. Только тот венгр, которого он когда-то купил, а потом продал родственникам, стоял с ним рядом. И повторял: «Ступай же, возвращайся домой…»
— И он вернулся?
— Нет, он остался и принял христианство. Но я не поэтому думаю о нем.
— А почему?
— Мне бы тоже хотелось быть таким благородным, настоящим аристократом, как тот венгр, — сказал Стефан Фабр и улыбнулся.
Да, он был упрям, этот мрачноватый юноша, и хотя лежал перед нею поверженный, все же побежденным себя не чувствовал. Он улыбался, в его черных глазах поблескивал огонек. В свои двадцать пять он уже не питал ни малейших иллюзий относительно реальной жизни, никому не доверял и наивностью отнюдь не отличался. Об этом свидетельствовали те холодные огоньки, что играли в его глазах. Однако сейчас он на время смирился с судьбой, упрямый человечек, обладающий, впрочем, достаточной внутренней силой, достаточной значимостью. Девушка посмотрела на его сильные грубоватые руки, лежавшие поверх одеяла, потом — на сиявшие солнцем окна и подумала о том, что он и так аристократ духа; от Казимира, который редко рассказывал о жизни своего друга, она знала немного, собственно, один-единственный, но вполне реальный факт: Стефан вместе с другими нищими студентами снимал одну комнатушку на пятерых, и они сумели втиснуть туда всего три кровати.
Занавеси на трех огромных окнах были откинуты, и комнату наполняла тишина сентябрьского полудня. Деревенского полудня. С далеких полей доносился звонкий мальчишеский голос.
— Ну, теперь быть аристократом не так-то просто, — тихо проговорила Брюна и потупилась; она ничего не хотела подчеркнуть своими словами, но почему-то чувствовала себя подавленной, усталой, в сердце не осталось ни нежности, ни восхищения. Он, конечно же, поправится и вернется неделей позже в свой город, в комнату, где три кровати и пятеро жильцов, где на пыльном полу валяются ботинки, а в раковине — прилипшие волосы… Вернется в свои аудитории и лаборатории, а после окончания получит место инспектора санитарной службы на государственной ферме где-нибудь на севере или на северо-востоке и двухкомнатную квартирку в государственном доме в пригородах небольшого городка, славящегося своими сталеплавильными комбинатами; женится на черноволосой женщине, которая будет учить третьеклассников по одобренным государством учебникам, родит ему одного ребенка и сделает два законных аборта; и в итоге они доживут до взрыва водородной бомбы… Ах, неужели нет никакого выхода из этого? Никакого?
— Говорят, ты очень умный?
— Свою работу, во всяком случае, я делаю отлично.
— Ты ведь научными исследованиями занимаешься, верно?
— Да, по биологии.
Раз так, то лаборатории, видимо, останутся; а квартира, возможно, будет четырехкомнатной и в пригородах Красноя; двое детей, никаких абортов, двухнедельный отпуск летом в горах, а потом — водородная бомба. Или не будет водородной бомбы. Это, собственно, безразлично.
— А что именно ты исследуешь?
— Некоторые виды молекул. Молекулярную структуру живых организмов, структуру жизни.
Странно звучало: структура жизни. И, разумеется, он разговаривал с ней как с маленькой; ничего нельзя объяснить в двух словах, говаривал ее отец, а уж тем более если речь идет о жизни. Значит, он хорошо разбирается в молекулярной структуре жизни? А ведь это его беззвучный зов слышала она, то кричали его воспаленные легкие, и их неслышный крик едва долетал из темной страны, что соседствует со смертью; но она услышала его зов, а ее мать тогда прошептала лишь: «Бедный мальчик!» Она, Брюна, ответила на его крик и последовала за ним — в темные края. А теперь он снова вернул ее к жизни.
— Ах, — сказала она, по-прежнему не поднимая глаз, — я ничего этого не понимаю. Я такая глупая.
— Почему тебя назвали Брюной, ты ведь блондинка?
[34] Она изумленно вскинула на него глаза и рассмеялась:
— До десяти месяцев я была совершенно лысой! — Она будто увидела его заново — и черт бы побрал все это будущее, если все его возможные варианты связаны лишь с грязными раковинами, двухнедельными отпусками и ядерными бомбами! Или с коллективным братством! Или с арфами и райскими девами! Господи, как все это убого и тоскливо! Нет, вся радость — в прошлом и настоящем, и вся правда тоже, и вся верность слову, и человеческая плоть. По-настоящему значимы лишь те мгновения, что проживаешь сейчас, ибо будущее, как бы его ни воспринимать, имеет лишь одну постоянную величину: смерть. А мгновения настоящего непредсказуемы. Просто невозможно сказать, что случится в следующую минуту.
В комнату вошел Казимир с букетом красных и синих цветов.
— Мама просила узнать, хочешь ли ты на ужин гренки с яйцом и молоком, — сказал он.
— Овсянка, овсянка, тра-ля-ля-ля-ля-ля, — пропела Брюна, ставя принесенные Казимиром васильки и маки в стеклянную вазу. Здесь три раза в день ели овсяную кашу, различные блюда из домашней птицы, репы, картошки; один из младших братьев, Антоний, выращивал салат латук. Готовила мать, а уборкой занимались дочери; прислуги не было, как не было и пшеничной муки, говядины, молока — во всяком случае, с этим простились еще до того, как родилась Брюна. Они жили в своем большом старом деревенском доме, точно на временном поселении, без всяких удобств. Как цыгане, говаривала хозяйка дома; она была дочерью профессора, родилась в обеспеченной среде, вышла замуж за обеспеченного человека, но отказалась от царивших в этой среде порядков, от сытой и праздной жизни без жалоб, не уступив, однако, ни одного из тех отличительных признаков профессорской среды, которыми по привилегии она некогда была награждена. Так что Казимир, при всей его мягкости, мог сохранять полную собственную неприкосновенность и никому ничего не рассказывать. Так что Брюна все еще представлялась как младшая сестра Казимира и спрашивала других об их семьях. Так что Стефан ощущал себя здесь как дома, как в крепости, как в родной семье. Все трое — Стефан, Казимир и Брюна — громко смеялись, когда вошел доктор Аугескар.
— Немедленно все вон отсюда, — спокойно сказал он, стоя в дверях с видом абсолютного монарха, этакий король-солнце, герой солярного мифа. Казимир и Брюна, смеясь и, как дети, строя Стефану рожи у отца за спиной, вышли из комнаты. — Хорошенького понемножку, — приговаривал доктор Аугескар, выслушивая и выстукивая больного. Стефан тоже притих и лежал с виноватым видом, улыбаясь, точно ребенок.
Седьмой день, когда Стефану и Казимиру полагалось сесть в автобус, потом в поезд и вернуться в Красной, поскольку уже начались занятия в университете, выдался очень жарким. Он сменился теплым вечером, все окна в доме были распахнуты настежь, навстречу неумолчному хору лягушек у реки, звону сверчков в полях и юго-западному ветру, приносившему из-за пожелтевших осенних холмов лесные ароматы. Занавеси на окнах шевелил вечерний ветерок, в открытые окна светили с небес шесть звезд, таких ярких в сухом прозрачном воздухе, что, казалось, могут поджечь занавеси. Брюна сидела возле кровати Стефана на полу. Казимир, словно огромный сноп пшеницы, возлежал поперек постели у него в ногах, Бендика, муж которой уехал в Красной, возилась со своим пятимесячным первенцем, сидя в кресле у незажженного камина. Йоахим забрался на подоконник, рукава его рубашки были закатаны, на худой руке виднелись голубоватые буквы и цифры: ОА46992; он наигрывал на гитаре мелодию старинной английской песенки:
Все ж справедлив и стоек будь,
Любовь на чудеса способна,
Она морозам летом иль грозе
порою зимнею подобна.
Любимым сердцем дорожа до смертного порога, Ты проживешь достойней всех и радостнее многих.
Поскольку Йоахиму нравились песни о достоинствах и невзгодах любви, он пел их на всех мыслимых языках, известных ему и неизвестных, то вскоре он принялся бренчать мелодию «Plaisir d'Amour»,
[35] потом вдруг запечалился, стал подтягивать струны, а между тем на коленях у Бендики проснулось дитя и громко потребовало внимания к себе. Казимир взял малыша у сестры и стал подбрасывать вверх, а Бендика мягко протестовала:
— Кази, он ведь только что поел, он срыгнет!
— Я твой дядя. Я дядя Казимир, а в карманах у меня полным-полно мятных лепешек и папских индульгенций. Ну-ка посмотри на меня, у-у-ух! Ты ведь не посмеешь плюнуть дядюшке в лицо? Конечно, не посмеешь! Конечно, лучше, чтобы тебя стошнило прямо тете на платье, вот и иди к ней! — Он сунул ребенка Брюне, и тот, не мигая, уставился на тетку, потом радостно замахал ручонками, и его пухленький шелковистый животик показался между рубашонкой и пеленкой, в которую были завернуты ножки. Брюна внимательно и молча смотрела на него. «Кто ты?» — спросил ее ребенок взглядом. «А кто ты?» — беззвучно спросила в ответ девушка, словно зачарованная. Стефан наблюдал за ними, негромко и весело звенели аккорды в ля мажоре, улетая из освещенной комнаты в темную сухую осеннюю ночь. Наконец длинноногая молодая мать унесла ребенка, чтобы уложить его спать. Казимир выключил свет, и в комнату вошла осенняя ночь. Теперь голоса молодых людей смешивались с хором сверчков и лягушек, доносившимся с полей и с берега реки.
— Ты очень разумно поступил, что заболел, Стефан, — сказал Казимир, снова падая поперек постели; его длинные пальцы странно белели в сумерках.
— Продолжай в том же духе, и мы сможем прожить здесь всю зиму.
— Лучше весь год. Долгие, долгие годы. У тебя твоя скрипочка-то настроена?
— Еще бы! Я тут Шуберта разучивал. Па-па-пум-па!
— Когда концерт?
— Да в октябре где-то. Времени еще полно. Пум, пум — плыви, плыви, рыбка-форель. Ах! — Длинные белые пальцы словно играли на виолончели.
— А почему ты вообще виолончель выбрал, Казимир? — спросил, перекрывая вопли лягушек и сверчков, голос Йоахима, донесшийся откуда-то с подоконника и словно прилетевший из болотистых низин и распаханных полей.
— Потому, что он постеснялся возразить, — прошелестел легким ветерком голос Брюны.
— Потому, что он враг всего легковыполнимого, — послышался суховатый мрачный голос Стефана. Остальные молчали.
— Нет, просто я оказался чрезвычайно многообещающим учеником, — заявил Казимир, — и мне пришлось решать, хочу я сыграть концерт Дворжака перед восхищенной публикой и получить главную премию на конкурсе исполнителей или не хочу. Мне нравится вести второй голос. Пум-па-пум. А вот когда я умру, то прошу положить мое тело в футляр для виолончели и в состоянии глубокой заморозки отправить срочной почтой Пабло Касальсу,
[36] а на футляр прилепить табличку: «Тело величайшего виолончелиста Центральной Европы».
В темноте вздохнул горячий ветер. Казимир умолк, кажется, иссякнув. Брюна и Стефан готовы были переключиться на другую тему, однако Йоахим не унимался. Вдруг он заговорил о каком-то человеке, который помогал людям перебираться через границу; сейчас в юго-западном крае о нем шло немало разговоров. По слухам это был молодой парень, которому удалось сбежать из тюрьмы и добраться до Англии. Потом он вернулся, наладил здесь переправу через границу и за последние десять месяцев вывел более сотни человек. Лишь недавно тайной полиции удалось нащупать его след, и теперь она устроила на него настоящую охоту.
— Что это? Донкихотство? Предательство? Героизм? — вопрошал Йоахим.
— Да он же у нас на чердаке прячется, — сказал Казимир, а Стефан прибавил:
— И мечтает о горячих гренках. — Им не хотелось говорить на эту тему; не хотелось никого судить; они воспринимали предательство и верность лишь в непосредственном проявлении, считая, что невозможно их оценить и взвесить отдельно от сиюминутного поступка, точно кусок мяса. Один только Брет, которому повезло родиться не в этой тюрьме, продолжал возбужденно настаивать на продолжении разговора. В Превне кишат агенты тайной полиции, вещал он, и даже если выйдешь купить вечернюю газету, у тебя все равно документы обязательно проверят.
— Может, проще сделать татуировку, как у тебя? — предложил Казимир. — Подвинь-ка свои конечности, Стефан.
— Лучше сам подвинь свою жирную задницу.
— Мой-то номер никуда не годится, это еще немецкий. Еще парочка таких войн, и у меня просто чистого места на руках не останется.
— А ты смени кожу — как змея.
— Нет, не выйдет. Они ее
тогда насквозь прожгли, до кости.
— А ты и кости ликвидируй, — сказал Стефан, — стань медузой. Или амебой. Зато когда прижмут, можно размножиться простым делением. И два маленьких бесхребетных Стефана возникнут там, где по расчетам врага должен быть всего один за номером 64100282А. А потом появится четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь Стефанов! Я бы тогда мог полностью покрыть собой всю поверхность земного шара, если мои естественные враги мне не помешают.
Кровать затряслась, в темноте засмеялась Брюна.
— Сыграй снова эту английскую песенку, Йоахим, — попросила она.
Все ж справедлив и стоек будь, Любовь на чудеса способна…
— Стефан… — сказала Брюна на четырнадцатый день, сидя светлым полуднем на зеленом берегу болотистой реки с южной стороны дома. Стефан устроился, положив голову ей на колени. Услышав свое имя, он открыл глаза:
— Что, нам уже пора?
— Нет.
Он снова закрыл глаза и мечтательно сказал:
— Брюна… — Потом вдруг вскочил и уселся с нею рядом. — О Господи, Брюна! Лучше бы ты все-таки не была девственницей. — Она осторожно засмеялась, с любопытством наблюдая за ним. Она казалась совершенно беззащитной. — Если бы только… Прямо здесь, сейчас!.. Я ведь послезавтра должен уехать!
— И все-таки под самыми окнами кухни не стоит, — ласково сказала она. Дом был в тридцати шагах. Стефан снова рухнул на землю, спрятал лицо в сгибе руки Брюны, прижавшись щекой к ее теплому бедру и чувствуя губами нежность кожи. Она погладила его по голове, коснулась пальцами ямки на шее, чуть ниже затылка.
— А мы не могли бы пожениться? Хочешь выйти за меня замуж?
— Хочу. Да, я хочу выйти за тебя замуж, Стефан.
Он еще немножко полежал так, потом сел, на этот раз неторопливо, и стал смотреть куда-то вдаль, за тростники, за болотистые берега сверкавшей на солнце реки — на холмы и далекие горы.
— Я на следующий год получу диплом.
— Я тоже через полтора года получу свой учительский сертификат.
Оба помолчали.
— Вообще-то я уже сейчас мог бы бросить учебу и начать работать. Нам ведь придется платить за квартиру… — Стены жалкой меблированной комнатушки, выходящей окнами во дворик, увешанный грязноватым сушащимся бельем, обступили их, как стены крепости. — Да ладно, — сказал он. — Вот только ужасно жаль терять все это. — Он с трудом оторвал глаза от сверкающей воды и далеких гор. Теплый вечерний ветер пролетал мимо них. — Ладно. Но, Брюна; ты просто не представляешь, насколько все это для меня ново! Ведь я никогда в жизни не просыпался на рассвете, еще до восхода солнца, в собственной комнате с высокими огромными окнами, не лежал, слушая абсолютную тишину вокруг, не гулял по просторам полей ясным октябрьским утром, не сидел за столом в компании светловолосых смеющихся братьев и сестер, не беседовал ранним вечером на берегу реки с любимой девушкой… Конечно, я давно знал, что порядок, покой и доброта должны существовать в этом мире, но никогда не надеялся сам встретиться с ними, не говоря уж о том, чтобы жить среди всего этого! И послезавтра я должен уезжать отсюда… — Нет, она этого не понимала. Она сама была этой деревенской тишиной, и благословенной тьмой, и сверкающим ручьем, и ветром, и холмами, и прохладным домом; все это было ее, было с ней нераздельно; она не могла понять его. Но это она впустила его, незнакомца, в свой дом дождливой ночью, и этот незнакомец непременно принесет ей горе… Она села с ним рядом и тихонько проговорила:
— Я думаю, что нам стоит попробовать, Стефан, да, стоит.
— Ты права, стоит. Мы займем денег. Мы станем просить милостыню, станем воровать, станем обчищать чужие карманы. Знаешь что, лучше я стану великим ученым и создам жизнь в пробирке. После нищенского существования в годы студенчества молодой Фабр быстро достиг уровня выдающегося ученого… Мы будем ездить на конференции в Вену. В Париж. Черт с ней, с жизнью в пробирке! Нет, я придумал кое-что получше! Ты у меня забеременеешь в пять минут! Ах ты, красавица, смеешься? Я тебе покажу, как смеяться, девчонка, моя маленькая форель, моя милая… — И там, прямо под окнами дома, вблизи застывших в солнечном свете гор, рядом с игравшими в теннис мальчишками, она лежала в его объятиях, распластавшись под тяжестью его тела, нежная, светловолосая, обмякшая, сама чистота, чистота плоти и духа, слившихся в одной мысли: пусть войдет в мой дом, пусть войдет.
Не сейчас, не здесь. Его желания путались, ожесточая сердце. Он откатился от нее, перевернулся и лежал на траве лицом вверх, глядя в небо. В черных глазах его мерцал огонь. Брюна села рядом, коснулась его плеча. Прежде душа ее всегда пребывала в покое. Стефан сел, и она посмотрела на него, как смотрела тогда на младенца Бендики — внимательно, с задумчивым узнаванием. Она не гордилась им, ничего от него не таила, никак его не судила. Вот он; и он такой, какой есть.
— Мы будем бедны, Брюна. Это неразумно.
— Наверное, — сказала она спокойно, наблюдая за ним.
Он встал и отряхнул с брюк травинки.
— Я люблю Брюну! — крикнул он, воздев руки; и залитые солнцем склоны холмов за болотистой речкой, уже окутанные сумерками, коротко откликнулись ему неясным далеким эхом, не похожим ни на ее имя, ни на его голос. — Видишь? — улыбаясь, сказал он, глядя на нее сверху вниз. — Даже эхо что-то отвечает. Вставай, солнце уже садится, а может, ты хочешь, чтобы я снова заболел пневмонией? — Она протянула руку, и он потянул ее вверх, к себе. — Я буду тебе очень верным мужем, Брюна, — сказал он. Он был невысок, и когда они стояли рядом, ей не требовалось поднимать к нему лицо: их лица были почти на одном уровне. — Хотя бы это я должен дать тебе, — сказал он.
— И это все, что я могу тебе дать. Тебя еще, возможно, начнет от моей верности тошнить, знаешь ли. — Ее туманные глаза, то ли серо-карие, то ли серые, внимательно смотрели на него. Он молча поднял руку, на мгновение коснулся ее светлых волос, разделенных пробором, и они пошли назад, к дому, мимо теннисного корта, где Казимир с одной стороны и двое мальчишек с другой отбивали мячи, пропускали их, прыгали и орали. Под дубом сидел Йоахим, наигрывая какую-то новую песенку.
— А эта на каком языке? — спросила у него Брюна. В тени она, казалось, вся светилась от счастья. Он покивал, собираясь отвечать ей, потом его изуродованная правая рука легла поверх струн.
— На греческом; я нашел ее в одной книжке; в ней говорится: «О, юные влюбленные, что под моим окном проходят, не замечают они, верно, что дождь давно уже идет?»
Брюна громко рассмеялась; Стефан, стоя с нею рядом, чуть отвернулся и наблюдал за тремя игроками, которые носились по корту в медленно наползавшей на площадку тени, но мяч время от времени взлетал так высоко, что успевал еще захватить золотистый отблеск заходящего солнца.
На следующий день они с Казимиром отправились пешком в Превне покупать билеты; а еще Казимиру хотелось заглянуть на тамошнюю еженедельную ярмарку. Ему всегда очень нравились всякие базары, ярмарки, аукционы, людской шум и суета, крики продавцов, ручные тележки с красной и белой репой, груды старой обуви, горы набивного ситца, поленницы сырных брусков в синей обертке, запах лука, свежей лаванды, пота и пыли. Дорога, которая в ночь их прибытия сюда показалась Стефану такой долгой, сейчас, теплым осенним утром привела их в Превне совсем быстро.
— Йоахим говорил, они все еще ищут того парня — что беженцев через границу переводил, — сообщил Казимир. Высокий, хрупкий, он спокойно и быстро шагал рядом с другом; светлая непокрытая голова его светилась на солнце.
— Мы с Брюной пожениться хотим, — сказал ему Стефан.
— Правда?
— Да.
Казимир на мгновение притормозил, потом пошел дальше своей легкой походкой, сунув руки в карманы. По лицу его расплывалась улыбка.
— Нет, в самом деле?
— Ну конечно!
Казимир остановился, вытащил правую руку из кармана и сунул ее Стефану; тот с удовольствием ее пожал.
— Неплохо, — сказал Казимир. — Отлично потрудились. — Он даже чуточку покраснел. — Что ж, по крайней мере, это нечто реальное. — И он двинулся дальше, снова сунув руки в карманы; Стефан быстро глянул на его продолговатое, спокойное, юное лицо. — Безусловно реальное. Настоящее. — Он немного помолчал и прибавил: — Куда там Шуберту.
— Главная проблема, конечно, в том, чтобы найти жилье. Но я могу немного взять в долг для начала; Метор все еще хочет, чтобы я участвовал в работе над тем проектом… мы бы хотели не особенно тянуть… если, конечно, твои родители согласятся. — Казимир с восхищением слушал: перечисление всех этих обстоятельств лишь подтверждало главный, основной факт; с таким же восхищением он наблюдал на ярмарке за продавцами и покупателями, смотрел на горы турнепса и обуви, на стойки и тележки с товарами, ибо все это подтверждало жизненную потребность людей в еде и общении.
— Все у тебя уладится, — сказал он. — И квартиру ты найдешь.
— Надеюсь, — откликнулся Стефан; он, впрочем, никогда в этом и не сомневался. Он поднял с земли камень, подбросил его в воздух, поймал и что было силы запустил им в сторону поля, видневшегося слева от них; камень только на солнце сверкнул. — Если бы ты знал, Казимир, как я счастлив!
— Ну, в какой-то степени я могу себе это представить. Знаешь, дай-ка мне еще раз пожать твою руку. — Они снова остановились и обменялись рукопожатием. — Слушай, а с нами ты поселиться не хочешь, Кази?
— Ладно, только купите мне раскладушку.
Они уже входили в город. По главной улице Превне между засиженными мухами витринами магазинов сползал грузовик цвета хаки; между старыми домами, стены которых были разрисованы давно выцветшими гирляндами цветов, и над их крышами виднелись вершины желтоватых гор. Обсаженная липами пыльная рыночная площадь была вся покрыта пятнышками теней от листвы. Посреди нее торчало несколько прилавков, какие-то стойки, пара тележек, да какой-то безносый мужчина торговал леденцами; три упорных кобеля с униженным видом преследовали белую суку; что-то обсуждали старухи в черных огромных шалях и старики в черных куртках; долговязый телеграфист с почты прислонился к дверному косяку и время от времени сплевывал на землю; два толстяка вполголоса пытались договориться о покупке пачки сигарет.
— Обычно тут куда многолюднее, — сказал Казимир. — Когда я был мальчишкой, сюда привозили груды сыра из Портачейки и овощей, прямо-таки целые горы овощей. За овощами в Превне отовсюду приезжали.
Они с довольным видом слонялись меж рыночными рядами, ощущая братское родство друг с другом. Стефан хотел что-нибудь купить Брюне, все равно что, какой-нибудь шарф, например. Но попадались только какие-то отвратительные грязные шмотки без пуговиц да растрескавшиеся стоптанные башмаки.
— Слушай, купи ей кочан капусты, — предложил Казимир, и Стефан купил огромный красный кочан, а потом они пошли на почту — она же телеграф-телефон-бар — покупать билеты до Айзнара.
— Два билета на айзнарский автобус, господин Праспайец.
— Что, возвращаться приходится? Снова за работу?
— Да уж.
К кассе вдруг подошли трое мужчин — двое со стороны Казимира, один со стороны Стефана. Потребовали предъявить удостоверения личности.
— Так, Фабр Стефан, город Красной, улица Томе, дом 136, студент, МР 64100282А. Аугескар Казимир, город Красной, улица Сорден, дом 4, студент, МР 80104944А. Вы в Айзнар по делу?
— У нас там пересадка на поезд до Краснея.
Мужчины молча вернулись к своему столику.
— Все время тут сидят, вот уже дней десять, — еле слышно пробормотал управляющий, — всех клиентов распугали, работать не дают, — и прибавил громче: — Прибавьте-ка еще одну сотенную купюру, господин Казимир; вы что ж, меня обжулить решили?
Тут же двое мужчин, один весьма плотного телосложения, другой худощавый, с армейской портупеей под пиджаком, снова очутились возле них. Улыбка управляющего тут же погасла, как выключенный телевизионный экран. Он тупо смотрел, как агенты полиции обшаривают карманы молодых людей и ощупывают их с головы до ног. Когда они снова вернулись к своему столику, он молча вручил Казимиру сдачу и молодые люди молча вышли на улицу. Там Казимир остановился и постоял, глядя на золотистые липы, на золотящуюся, покрытую пятнышками теней пыль на площади, где по-прежнему три кобеля таскались за белой сукой с униженным видом и горящими глазами, смеялась женщина, по виду домашняя хозяйка, ей громко вторил какой-то старичок, двое мальчишек в поисках чего-то шныряли среди тележек с товаром, а рядом, понурив голову и подняв одно ухо, стоял серенький ослик.
— Так, ладно, — сказал Стефан. Казимир промолчал. — Как бы в амебу не превратиться; я, по-моему, уже начал размножаться делением, — снова сказал Стефан. — Хватит, пошли, Кази. — Они медленно двинулись через площадь.
— Правее, — и Казимир чуточку спрямил путь.
— Просто бред какой-то, — пробормотал Стефан. — А что, у этого управляющего фамилия действительно Праспайец?
— Да, Эвандер Праспайец. У него еще брат есть, управляющий на винном заводе. Белизариус Праспайец.
Стефан улыбнулся. У Казимира тоже на лице появился призрак улыбки. Они уже миновали рыночную площадь и собирались перейти на другую сторону улицы.
— Черт, я же капусту свою там забыл! — воскликнул Стефан, обернулся и увидел, что какие-то люди бегут по рыночной площади, лавируя между повозками и прилавками. Послышались громкие хлопки. Казимир как-то странно пошатнулся, попытался схватить Стефана за плечо, промахнулся, из горла у него вырвался не то сдавленный кашель, не то рвота, он судорожно взмахнул руками и упал навзничь. Он неподвижно лежал у ног Стефана; глаза его были открыты, рот тоже, изо рта стекала струйка крови. Стефан застыл как вкопанный. Потом, оглядевшись, упал на колени рядом с Казимиром, но тот на него не смотрел. Вдруг кто-то потянул его вверх, схватил за руку; вокруг толпились какие-то мужчины, один из них размахивал какой-то бумажкой и выкрикивал:
— Он это! Тот самый гад! Вот что с такими гадами случается. А это его документишки поддельные! Да он это, он!
Стефану хотелось быть поближе к Казимиру, но его не пускали; он видел мужские спины, собаку, краснощекую женщину, стоявшую поодаль, под золотистыми деревьями, и с любопытством глядевшую на него. Сперва он решил, что его просто поддерживают, помогают удержаться на ногах — колени были как ватные, — но тут его заставили повернуться и куда-то идти. Он попытался вырваться и крикнул: «Казимир!»
…Он лежал ничком на постели, но вовсе не в той комнате с высокими окнами, не в доме Аугескаров. Он понимал, что это не его постель, но продолжал думать, что это она и что ему слышатся крики мальчишек на теннисном корте. Потом он решил, что это его комната в Красное и рядом спят его приятели. Долгое время он лежал неподвижно, голова болела ужасно. Потом он сел и наконец осмотрелся. Стены обиты сосновыми досками, на двери зарешеченное окошечко, на каменном полу окурки и следы засохшей мочи. Охранник принес ему завтрак; это был тот самый плотного сложения полицейский, который подходил к ним на почте. Разговаривать с ним он не стал. Под ногтями обеих рук застряли занозы от сосновых досок пола; Стефану пришлось немало повозиться, вытаскивая их.
На третий день явился другой охранник, толстый, с темной бородкой, провонявший потом и луком, в точности как торговцы на том рынке под липами.
— В каком я городе?
— В Превне.
Охранник запер за собой дверь и сунул ему в зарешеченное окошечко сигарету, потом дал прикурить.
— Скажите, мой друг умер? Почему в него стреляли?
— Просто человеку, которого они искали, удалось удрать, — сказал охранник. — Тебе больше не нужно, а? Завтра тебя выпустят.
— Значит, его убили?
Охранник проворчал «да» и ушел. Через некоторое время в зарешеченное окошко влетели полпачки сигарет и коробок спичек и упали на пол у ног Стефана, сидевшего на койке. На следующий день его выпустили. Он никого так и не увидел, кроме толстого охранника с темной бородкой, который проводил его до дверей тюрьмы. Потом он долго стоял на главной улице Превне, примерно в квартале от рыночной площади. Закат уже догорел, было холодно, над липами, над крышами, над далекими горами куполом вздымалось ясное темно-синее небо.
Билет до Айзнара по-прежнему был у него в кармане. Он медленно, осторожно дошел до рыночной площади, пересек ее, скрываясь в тени темных деревьев, и остановился возле почты. Ни одного автобуса видно не было. Он понятия не имел, по какому расписанию они ходят. Потом вошел в дверь почты, прошел в кафе и присел, понурившись, дрожа от холода, за один из трех имевшихся там столиков. Вскоре из задней комнатки появился управляющий.
— Скажите, когда будет следующий автобус? — Он никак не мог вспомнить фамилию этого человека — то ли Праспец, то ли Прайеспец, что-то в этом роде.
— В Айзнар? В восемь двадцать утра, — ответил тот.
— А в Портачейку? — помолчав, спросил Стефан.
— Есть местный рейс, в десять.
— Вечера?
— Да, в десять вечера.
— Вы можете обменять это на… билет до Портачейки? — Стефан вытащил и протянул управляющему свой билет до Айзнара. Тот взял его и о чем-то задумался.
— Подождите, я посмотрю. — Он снова вышел в заднюю комнатку. Стефан неторопливо приготовил мелочь — расплатиться за чашку кофе — и склонился над столом. Было десять минут восьмого, если верить будильнику с белым циферблатом, стоявшему на стойке. В семь тридцать вошли три местных жителя, все трое были огромного роста и желали выпить пивка. Стефан задвинул свой стул как можно глубже в угол и сидел, уставившись в стену и время от времени украдкой поглядывая на посетителей и на будильник. Его по-прежнему бил озноб; через некоторое время он не выдержал: уронил голову на руки и прикрыл глаза.
И тут услышал голос Брюны прямо над головой:
— Стефан!
Она присела к нему за столик. Волосы, обрамлявшие ее лицо, казались очень светлыми, точно хлопковое волокно. Стефан никак не мог заставить себя поднять голову, подпертую стоявшими на столе руками. Потом посмотрел на Брюну и опустил глаза.
— Нам позвонил господин Праспайец. Куда ты собирался ехать?
Он не ответил.
— Они что, велели тебе убираться из города?
Он покачал головой.
— Значит, они тебя просто отпустили? Ну так пошли же! Я принесла твое пальто, ты наверняка замерз. Пойдем домой, Стефан. — Она встала, и он встрепенулся; взял у нее свое пальто и сказал:
— Нет. Я не могу.
— Почему же?
— Это опасно для тебя. И потом, с какими глазами я туда приду?
— С какими глазами? Ну хватит, пойдем. Мне хочется поскорей отсюда уйти. Завтра мы снова переезжаем в Красной, ждали только тебя. Ну пошли же, Стефан. — Он встал и пошел следом за ней. Уже наступила ночь. Они пересекли улицу и пошли дальше по проселочной дороге. Брюна освещала путь электрическим фонариком. Стефана она держала за руку; оба молчали. Вокруг были только темные поля да звезды.
— А ты не знаешь, что они сделали…
— Нам сказали, что его увезли куда-то на грузовике.
— Я не… Ведь все в городе его знали, и все-таки… — Он почувствовал, как она пожала плечами, и они молча пошли дальше. Дорога опять казалась Стефану очень длинной, как в первый раз, когда они с Казимиром шли здесь в темноте. Начался подъем на холм — именно тогда в тот раз и появились вокруг них те огоньки среди дождя.
— Пошли скорей, Стефан, — почему-то смущенно попросила его шедшая рядом с ним девушка, — ты совсем замерз.
Однако ему пришлось остановиться, отойти от нее и на ощупь искать у обочины дороги что-нибудь — изгородь или дерево, — к чему можно было бы прислониться, пока не перестанут литься слезы; но он так ничего и не нашел. Просто стоял в темноте и плакал, и она стояла с ним рядом. Наконец он обернулся к ней, и они пошли дальше. Камни и сорные травы казались белыми в неровном круге света от ее фонарика. Когда они миновали вершину холма, она сказала по-прежнему смущенно, но упрямо:
— Я сказала маме, что мы хотим пожениться. Когда мы услышали, что тебя посадили в тюрьму, я пошла и сказала ей. Отцу, правда, еще не говорила. Случившееся… его просто убило, он никак не может смириться с его гибелью. А мама все восприняла нормально, когда я ей сказала. Я бы хотела, чтобы мы поженились как можно скорее, если, конечно, ты еще этого хочешь, Стефан.
Он молча шагал с нею рядом, потом сказал:
— Все правильно. Нельзя просто так упускать свое счастье. — Сквозь деревья, внизу и прямо перед ними, желтым светились окна дома; над ними сияли звезды да несколько легких облачков проплывало по небу. — Нельзя.
An die Musik[37]
— Тут вас кто-то спрашивает. Некий господин Гайе.
Отто Эгорин кивнул. Это был его единственный свободный день в Фораное, и неизбежным казалось, что какие-то юнцы, подающие надежды, непременно отыщут его и день, естественно, пропадет. По тону слуги он догадался, что «кто-то» — персона не слишком важная. Впрочем, он слишком долго занимался исключительно делами жены, организовывая ей концертное турне, и теперь воспринимал почти как развлечение очередного поклонника своего таланта, рвущегося к нему в ученики.
— Проводите его сюда, — сказал Отто, вновь занялся письмом, которое писал, и поднял голову, только когда посетитель успел вдоволь налюбоваться его крупной и совершенно лысой головой. Он отлично знал, что первое подобное впечатление навсегда гасит практически любые наглые поползновения. Однако этот посетитель наглым отнюдь не выглядел: невысокий, в дешевеньком костюме, он держал за руку маленького мальчика и что-то, заикаясь, бормотал насчет чудовищной бесцеремонности… драгоценного времени… великой привилегии…
— Так-так, ну хорошо, — промолвил импресарио, в меру доброжелательно, ибо знал, что если таким вот застенчивым сразу не помочь освоиться, то на них уйдет куда больше времени, чем на самого дерзкого наглеца, — значит, он у вас играет гаммы с тех пор, как научился сидеть, а «Аппассионату» — с трех лет? Или, может, вы сами пишете для него сонаты, дорогой мой? — Ребенок не мигая смотрел на него холодными темными глазами. Мужчина стал еще больше заикаться и совсем умолк.
— Ради бога простите меня, господин Эгорин, — заговорил он снова, — я бы никогда не осмелился… но моя жена больна, и по воскресеньям я вожу мальчика гулять, чтобы хоть немного освободить ее от забот… — Мучительно было видеть, как он то краснеет, то бледнеет. — Он никаких хлопот не причинит! — вырвалось у него.
— В таком случае, о ком идет речь, господин Гайе? — довольно сухо спросил Отто.
— Я пишу музыку, — сказал Гайе, и Отто наконец понял, что ошибся: не мальчика предлагали ему в качестве очередного вундеркинда; у мужчины под мышкой торчал небольшой сверток — скатанная в трубку нотная бумага.
— Ах так! Ну хорошо, дайте-ка мне посмотреть, пожалуйста, — сказал Отто, протягивая руку. Именно этого момента он больше всего опасался при общении со стеснительными людьми. Однако Гайе не стал объяснять в течение получаса, что именно он хотел написать, как и почему, комкая свои сочинения и потея, а молча протянул ноты Эгорину и, когда тот сделал приглашающий жест, присел на жесткий гостиничный диван. Мальчик сел с ним рядом; оба явно нервничали, однако казались покорными и смотрели на Отто одинаковыми, странно неподвижными темными глазами. — Видите ли, господин Гайе, в конце концов, вы ведь именно за этим сюда пришли, верно? Самое главное для вас — музыка, которую вы мне принесли. И вы хотите, чтобы я на нее взглянул. Мне тоже хочется посмотреть ваше произведение, так что прошу меня извинить. — С этими словами ему обычно удавалось вырвать манускрипт из рук застенчивых говорунов и посмотреть его. Однако мужчина просто кивнул в ответ и пояснил едва слышно:
— Здесь четыре песни и ч-ч-часть реквиема.
Отто нахмурился. В последнее время он часто говорил, что понятия не имел о том, сколько идиотов на свете пишут песни, пока не женился на певице. Однако мрачные подозрения улеглись, стоило ему взглянуть на первую песню; это оказался дуэт для тенора и баритона, и Отто даже решил, что стоит разгладить хмурые складки на лбу. Последняя из четырех песен особенно привлекла его внимание; это было одно из лирических стихотворений Гёте, положенное на музыку. Отто даже вылез из-за письменного стола и двинулся в сторону пианино, однако вовремя остановился: ни к чему зря обнадеживать. С такими посетителями нужно ухо держать востро, не то сыграешь хотя бы одну ноту из сочиненной ими дребедени, и они уже считают себя равными Бетховену и уверены, что через месяц непременно будут выступать в столице в программе Отто Эгорина. Впрочем, на этот раз попалась настоящая музыка — замечательная мелодия в первом голосе и полный томления, изящный, тихий аккомпанемент. Он перешел к реквиему, точнее — к трем его фрагментам: Kyrie eleison, Benedictus, Sanctus.
[38] Почерк был аккуратный, но торопливый и мелкий. Ну да, нотная бумага ведь дорогая, подумал Отто, взглянув на башмаки посетителя. В ушах у него звучало соло тенора, сопровождаемое громом органа, тромбонов и контрабасов. «Benedictus qui venit in nomine Domini»
[39]… — очень интересно задумано: как раз когда кажется, что грохот инструментов вот-вот сведет тебя с ума, мелодия вдруг становится прозрачной, простой, и можно поклясться: именно такой она и была все время. А тенор, черт бы его побрал! Piano, да еще на самых верхних нотах! Нет, вы найдите мне такой тенор, чтобы все это спел, да и сумел заглушить ревущие тромбоны! Так, теперь Sanctus: что ж, замечательно, ага, труба… нет, в самом деле замечательно! Отто поднял голову. Он, сам того не замечая, отбивал рукой ритм, кивал, улыбался и что-то бормотал себе под нос. Ну и музыка!
— Подойдите-ка сюда! — сказал он сердито. — Как ваше имя? Что это такое?
— Ладислас Гайе. Это… это… вторая труба.
— А почему не помечено? Вот здесь, сыграйте-ка!
Они прошли Sanctus с начала и до конца пять раз.
— Плам, пла-ам, плам! — гудел Отто, изображая трубу. — Прекрасно! А почему у вас здесь басы вступают, раз-два-три-четыре — Р-РАЗ! — и вступают басы, как слоны, а зачем, собственно?
— Чтобы вернуться к началу, послушайте, вот орган аккомпанирует тенорам, — и пианино загрохотало, а Гайе запел хрипловатым тенорком. — Вот является Саваоф, потом вступают виолончели и ревут слоны, четыре слона, Sanctus! Sanctus! Sanctus!
Гайе пересел на прежнее место. Отто с трудом оторвался от последней ноты. В комнате стояла тишина.
Отто поправил увядающую красную розу в вазе, стоявшей на взятом напрокат пианино, и спросил:
— А где вы, собственно, надеетесь услышать исполнение этого реквиема?
Композитор молчал.
— Нужен женский хор. И два мужских. И оркестр в полном составе — с духовыми, с органом. Ну-ну. Дайте-ка мне еще разок взглянуть на ваши песни. Для мессы вы больше ничего не написали?
— «Верую», только еще оркестровка не готова.
— Полагаю, там вы введете двойное количество ударных, а? Ну хорошо. Так которая из них на слова Гёте? Дайте-ка я сыграю. — Он дважды сыграл песню с начала и до конца, потом долго молчал, машинально наигрывая одну из причудливых, точно недоговоренных музыкальных фраз аккомпанемента. — А знаете, первоклассная музыка! — заявил он наконец. — Просто первоклассная. Нет, какого черта! Вы что, пианист? Кто вы, собственно, такой?
— Обыкновенный чиновник.
— Чиновник? Какой еще чиновник? Так это что, ваше хобби, а? Вы этим в свободное время развлекаетесь?
— Нет, это… это то, что я…
Отто поднял голову и посмотрел на него: какой-то коротышка в жалком костюме, бледный от волнения, неразговорчивый…
— Я бы хотел кое-что узнать о вас поподробнее, Гайе! В конце концов, вы вторглись ко мне, заявили: «Я пишу музыку», показали мне кое-что — маловато, правда, но очень неплохо. Очень… Да, очень, особенно вот эта песня и ваш Sanctus, впрочем, и Benedictus — тоже настоящая работа. Мне просто не оторваться! Но я и раньше видел неплохие произведения — на бумаге. Вот вы когда-нибудь выступали со своими на публике? Сколько вам лет, кстати?
— Тридцать.
— Что вы еще написали?
— Ничего. Во всяком случае, ничего достаточно крупного…
— К тридцати-то годам? Всего четыре песни и половину реквиема?
— У меня мало времени остается для работы.
— Господи, какая чепуха! Чепуха! Невозможно написать такое, не имея никакой практики. Где вы учились?
— Здесь, в Школе Канторов… до девятнадцати лет.
— У кого? У Бердике, у Чея?
— У Чея и у мадам Везерин.
— Никогда о такой не слышал. И больше вы мне ничего не покажете?
— Остальное хуже или еще не закончено…
— Сколько вам было лет, когда вы написали эту песню?
Гайе колебался:
— По-моему, лет двадцать.
— Десять лет назад! А что вы остальное-то время делали? Скажете «хочу музыку писать», да? Ну так и пишите! Что я еще могу вам посоветовать? Эти вещи хороши, даже очень хороши, а тот пассаж с ревущими тромбонами просто отличный! Дорогой мой, вы безусловно можете писать музыку, но чем я-то могу помочь? Не могу же я опубликовать четыре песни и полреквиема, написанные никому не известным учеником Васласа Чея? Ясно, что нет. Вам, насколько я понимаю, требовалось чье-то одобрение? Что ж, это в моих силах. Я полностью одобряю вашу деятельность. Да, одобряю и призываю вас писать больше музыки, больше. Почему вы ее не пишете?
— Я понимаю, как это мало, — сдавленным голосом проговорил Гайе. Лицо его было искажено, рука елозила по узлу галстука, мяла и терзала его. Он вызывал у Отто одновременно жалость и раздражение.
— Да, крайне мало, но почему бы не написать еще? — спросил Отто, стараясь быть дружелюбным.
Гайе потупился, словно разглядывая клавиши, потом коснулся их рукой; он весь дрожал.
— Видите ли, — начал он, потом вдруг резко отвернулся, сгорбился, спрятал лицо в ладонях и разрыдался. Отто так и застыл на вертящейся табуретке у фортепиано. Мальчик, о котором никто не вспоминал, все это время смирно просидел на диване, свесив ножки в серых чулках; теперь он соскользнул на пол и бросился к отцу; и, разумеется, тоже захныкал. Он упорно тянул отца за куртку, пытаясь достать его руку, и шептал:
— Папа, не надо, папа, пожалуйста, не надо.
Гайе опустился на колени и одной рукой обнял ребенка:
— Извини, Васли. Не волнуйся, все хорошо… — Но он никак не мог успокоиться, и Отто встал, позвал горничную жены и величественно приказал:
— Возьмите-ка этого молодого человека да угостите его чем-нибудь вкусненьким, пусть порадуется, хорошо?
Горничная, спокойная молодая швейцарка, абсолютно уверенная, что все жители Центральной Европы сумасшедшие, кивнула и, совершенно не обращая внимания на плачущего мужчину, сказала:
— Пойдем-ка со мной, малыш. Как тебя зовут?
Но ребенок продолжал цепляться за отца.
— Ступай с этой госпожой, Васли, — сказал Гайе, и мальчик позволил девушке взять себя за руку и увести.
— Хороший у вас малыш, — сказал Отто. — А теперь, Гайе, присядьте-ка. Бренди? Немножко, а? — Он открыл дверцы бюро, выдвинул какой-то ящик, фыркая и что-то ворча себе под нос, протянул Гайе стакан и снова уселся за стол.
— Я не могу… — начал было совершенно измученный Гайе.
— Да, не можете; и я не могу; что ж, бывает. Возможно, вас это удивляет больше, чем меня. А теперь послушайте, Ладислас Гайе. У меня нет времени заниматься чужими бедами, у меня слишком много собственных забот. Но раз уж мы с вами так далеко зашли, то я бы хотел знать: из-за чего вы сдались?
Гайе покачал головой и ответил по-прежнему покорно; смиренное выражение исчезло у него с лица, лишь пока они занимались его сочинениями. Он вынужден был бросить музыкальное училище, когда умер его отец; теперь ему приходится содержать мать, жену и троих детей, будучи жалким чиновником на заводе, изготовляющем шарикоподшипники и прочие мелкие детали. Там он работает уже одиннадцать лет. Четыре раза в неделю по вечерам он дает уроки игры на фортепиано, и ему разрешают пользоваться классом в Школе Канторов.
Некоторое время Отто молчал; ему просто нечего было сказать в ответ.
— Господь явно позаботился, чтобы ваш жизненный путь был достаточно тернист. Не повезло вам, — заметил он. Гайе не ответил. И действительно, слова «повезло» или «не повезло» не годились для описания той нескончаемой череды несправедливостей, от которых Ладислас Гайе, как и многие другие, страдал так жестоко, зато Отто Эгорин, неизвестно по какой причине, не страдал совершенно. — Почему вы решили прийти ко мне, Гайе?
— Мне это было необходимо. Я знал, что вы, вероятно, скажете: этого мало. Однако, услышав о вашем скором приезде сюда, я поклялся обязательно повидать вас. Я должен был сделать это. Меня, конечно, знают в Школе, но там все слишком заняты с другими учениками; с тех пор как умер Чей, не осталось никого… Мне необходимо было вас увидеть! Не для того чтобы вы меня приободрили — просто очень хотелось увидеть того, кто живет ради музыки, кто организует половину всех концертов в стране, кто символизирует собой…
— Успех, — договорил за него Отто Эгорин. — Да, я понимаю. Я ведь хотел стать композитором. Когда мне было двадцать и я жил в Вене, то вечно ходил к дому Моцарта или к могиле Бетховена. Я взывал к Малеру, к Рихарду Штраусу, ко всем композиторам, которые когда-либо посещали Вену. Я тщательно изучал их путь к успеху — как живых, так и мертвых. Когда-то они написали музыку, которую исполняют до сих пор. Видите ли, уже тогда я понимал: сам я настоящим композитором не являюсь, так что мне нужно ощутить реальность их существования, чтобы жизнь обрела хоть какой-то смысл. Впрочем, вас это не касается. Вам и нужно-то всего лишь напомнить, что музыка существует вечно. Я прав? И что не все на этом белом свете занимаются изготовлением шарикоподшипников.
Гайе кивнул.
— А что, больше некому позаботиться о вашей матери? — вдруг спросил Отто.
— Моя сестра вышла замуж за чеха, они живут в Праге… А она прикована к постели, моя мать то есть…
— Понятно. Да еще имеется жена, у которой нервы не в порядке, детишки, бесконечные счета и этот шарикоподшипниковый завод… Верно? Ну что ж, Гайе, не знаю, что вам и сказать. Видите ли, был на свете Шуберт. Я часто думаю о нем — это вовсе не вы заставили меня о нем вспомнить — и никак не могу понять, для чего господь создал Франца Шуберта? Чтобы искупить чужие грехи? И почему он убил его именно тогда, когда был достигнут уровень его последнего квинтета?.. Но сам-то Шуберт не задумывался, зачем господь его создал. Разумеется, затем, чтобы писать музыку! Du holde Kunst, ich danke dir!
[40] Невероятно! Маленький, болезненный, безобразный, развалина в очках! Ему так и не довелось услышать, как исполняют его произведения… Du holde Kunst! Как лучше — «о, милосердное Искусство» или «о, возлюбленное Искусство»? Точно искусство способно быть добрым или милосердным! А вы никогда не думали, что надо все это бросить, Гайе? Только не музыку. Все остальное, а?
Он выдержал взгляд странных, холодных и темных глаз, не испытывая ни стыда, ни желания извиниться. Гайе ведь сам только что сказал: он, Отто Эгорин, живет ради музыки. И это действительно так. Он мог бы проявить буржуазную доброту и сочувственно отнестись к этому бедняге, которому ничего в мире не нужно, чтобы быть хорошим композитором, разве что немножко денег; но он ни за что не стал бы извиняться перед его больной матерью, или больной женой, или тремя детишками. Если живешь ради музыки, то и живи ради нее.
— Я не так устроен.
— Значит, вы не годитесь и для того, чтобы писать музыку.
— Вы думали иначе, когда читали мой Sanctus.
— Du lieber Herr Gott! — взорвался Отто. Он был большим патриотом, но мать его была уроженкой Вены, он и сам вырос в Вене, так что в моменты сильного душевного волнения переходил на немецкий. — Ну хорошо! А вам никогда не приходило в голову, мой дорогой молодой друг, что вы берете на себя некую ответственность, если пишете нечто вроде этого? Что с вас за ваш Sanctus еще спросится? Что у музыки не бывает ни артрита, ни расстроенных нервов, ни голодного брюха, ни «папа, папа, я хочу то, я хочу это», но тем не менее она зависит от вас, от вас одного? Другие тоже могут кормить детей и ухаживать за больными женщинами. Но больше никто не может написать вашу музыку!
— Да, я понимаю.
— Но не совсем уверены, что кто-нибудь возьмется кормить ваших детей и содержать ваших больных женщин. Возможно, и нет. Так-так… вы слишком мягки, слишком мягки, Гайе. — И Отто забегал по комнате на своих кривоватых ногах, фыркая и гримасничая.
— Можно мне прислать вам реквием, когда я его закончу?
— Да. Да, разумеется! Мне было бы очень приятно. Только когда же это случится? Лет через десять? «Гайе? А кто, черт побери, это такой? Где я его встречал?.. Но, знаете, очень неплохо… у молодого человека явно есть задатки…» А вам уже будет сорок, вы уже начнете уставать, уже сами вплотную подойдете к артриту или расстройству нервной системы… Но, конечно же, присылайте мне свой реквием! Вы очень талантливы, Гайе, и обладаете великим мужеством, но чересчур мягки; вам не стоит писать такие большие вещи, как реквием. Вы не можете служить двум господам сразу. Пишите песни, небольшие пьесы, что-нибудь такое, о чем можно думать во время работы на этом вашем богом забытом предприятии, а записать потом, ночью, когда ваше семейство хотя бы на пять минут оставит вас в покое. Пишите на чем придется, хоть на неоплаченных счетах, и присылайте мне, только не думайте, что непременно нужно покупать лучшую нотную бумагу по два с половиной кронера за лист! Этого вы себе позволить не можете. А вот когда ваши вещи будут опубликованы, тогда другое дело. Присылайте, присылайте мне свои песни, и не через десять лет, а через месяц, считая от сегодняшнего дня, и если они будут такими же хорошими, как та, что на слова Гёте, я отдам вам целое отделение в концерте моей жены, который состоится в декабре в Красное. Пишите небольшие песни, а не огромные мессы. Гуго Вольф — вы ведь знаете Гуго Вольфа? — так вот, Гуго Вольф писал только песни, ясно?
Он опасался, что Гайе, преисполненный благодарности, снова сорвется, и все-таки был доволен собой, мудрым и великодушным: он ведь уже сумел осчастливить этого бедолагу и теперь имел право на собственную выгоду. Второй голос той мелодии на слова Гёте все еще звучал в голове — вольный, незатейливый, печальный и прекрасный. Потом вдруг заговорил сам Гайе, и Отто не сразу понял — хотя и не особенно удивился, — что в словах его звучит отнюдь не благодарность.
— Реквием — именно то, для чего я предназначен, он живет у меня внутри. А песни — да, они порой рождаются сразу в большом количестве, но я никогда не имел возможности записать их, даже если хотел: для этого потребовался бы целый день. Видите ли, этот реквием и еще одна симфония, над которой я в последнее время работал, обладают как бы определенным объемом и весом, ты долгое время носишь их в себе и всегда можешь продолжить работу над ними, если появляется время. Я понимаю, этот мой реквием кажется несколько амбициозным. Однако я уже знаю, что именно хотел бы сказать в нем. И это будет неплохо. Понимаете, я уже умею выразить то, что должен был выразить. Я уже начал работу над ним и теперь обязан ее закончить.
Отто давно уже перестал бегать по комнате, остановился и смотрел на Гайе недоверчиво, но с неким дружелюбным долготерпением.
— Ба! — сказал он. — Так какого же черта тогда вы явились ко мне? Да еще и нюни тут распустили? А сами заявляете: спасибо, мол, большое за ваши советы и предложения, но я все-таки попытаюсь достигнуть недостижимого? Невежество, безрассудство — нет, это все я пережить могу — но вот глупость, абсолютную глупость артистов у меня больше нет сил выносить!
Смущенный, снова ставший покорным, Гайе сидел перед ним в своем жалком костюме и сам тоже казался жалким; все в нем свидетельствовало о крайней нужде, о чрезмерном напряжении, о постоянном недоедании, о неизбывных бытовых неурядицах и заботах. Отто отлично понимал: можно кричать на него хоть два часа, можно пообещать ему рекомендательные письма, публикацию его произведений, выступления перед публикой — Гайе все равно ничего не услышит и будет лишь повторять невнятно и заикаясь: «Сперва я должен закончить реквием…»
— Вы читаете по-немецки?
— Да.
— Это хорошо. Значит, как только ваш реквием будет закончен, сразу начинайте писать песни. На немецком. Или на французском, если он вам больше нравится, публика к нему привыкла. Знаете, в Вене и Париже не станут особенно слушать песни на языке, вроде нашего, на каком-нибудь румынском или датском — они для публики всего лишь забава, этакое фольклорное явление. А мы с вами хотим, чтобы вашу музыку слушали, так что пишите в расчете на крупные государства и помните, что большинство певцов — идиоты. Договорились?
— Вы очень добры, господин Эгорин, — сказал Гайе, но отнюдь не покорным тоном, а с холодным достоинством, позабавившим Отто. Он явно понял, что Отто уступил его упрямому безрассудству, как уступил бы безрассудству любого великого, знаменитого артиста, которого стал бы обхаживать с шуточками, а ведь его, Гайе, он мог бы с тем же успехом запросто раздавить, как какого-нибудь жучка. И он догадался: Отто побежден.
— Вот только отложили бы вы этих своих громогласных слонов хоть ненадолго, хоть на несколько вечеров, и написали бы что-нибудь такое, знаете ли, что можно было бы опубликовать, вставить в концерт, что вы сами смогли бы услышать в чужом исполнении, — говорил Отто по-прежнему иронично, по-прежнему с легким раздражением, однако вполне уважительно, и тут вдруг дверь со стуком распахнулась. Вошла жена Отто Эгорина, которая волокла за собой сынишку Гайе. Следом за ними шла горничная-швейцарка. В комнате мгновенно стало много народу — мужчины, женщины, дети, — зазвучало множество голосов, запахло духами, заблестели драгоценности.
— Отто, посмотри, кого я обнаружила у Анны Элизы! Ты видел когда-нибудь такое обворожительное дитя? Нет, ты только посмотри, какие у него глаза — огромные, темные, трагические! Его зовут Васли, и он любит шоколад. Такое чудо, настоящий маленький мужчина! Нет, ты когда-нибудь видел подобного ребенка? Как вы поживаете? Я очень рада… Вы ведь отец Васли?.. Ну да, разумеется! Те же глаза! Господи, какая отвратительная дыра — этот городишко! Отто, я хочу уехать отсюда сразу после концерта, на первом же поезде, мне все равно, пусть он хоть в три утра отходит. У меня такое ощущение, что я уже похожа на те огромные заброшенные дома за
рекой — у них окна, как пустые глазницы черепа, и пялятся, пялятся, пялятся без конца! Почему эти дома не снесут, если там больше никто не живет? Никогда, ни за что больше не поеду на гастроли в провинцию, провались оно, это вдохновляющее воздействие национального искусства! Не могу я петь здесь на каждом кладбище, Отто. Анна Элиза, приготовьте мне ванну, пожалуйста. Я чувствую себя грязной, прямо-таки бурой от грязи, такого же цвета, как их гречневая крупа. Вы из администрации Сорга?
— Я уже говорил с ними по телефону, — вмешался Отто, зная, что Гайе ничего не сможет ей ответить. — А господин Гайе — композитор, дорогая, он пишет мессы. — Он не сказал «песни», потому что это слово тут же привлекло бы внимание Эгорины. Он пытался хоть чем-то отплатить Гайе, давая ему предметный практический урок. Эгорина, которой мессы были совершенно не интересны, продолжала болтать о своем. Перед каждым концертом из нее в течение двадцати четырех часов изливался бесконечный поток слов, она умолкала, только когда выходила на сцену петь — высокая, великолепная, сияющая улыбкой. После концерта она обычно становилась очень тихой и задумчивой. По словам Отто, она являлась «самым прекрасным музыкальным инструментом в мире». Он женился на ней только потому, что это было единственным способом удержать ее от выступлений в опереттах; упрямая, глупая и чувствительная, что было в ней прямо пропорционально ее таланту, Эгорина ужасно боялась провала и желала добиться успеха надежным путем. Женившись на ней, Отто заставил ее пойти к победе нелегким путем солистки хора. В октябре она должна была впервые петь в опере — в «Арабелле» Штрауса. Вполне возможно, что перед этим она будет говорить не умолкая в течение полутора месяцев. Но Отто вполне мог вынести это испытание. Эгорина, в общем, отличалась красотой и добродушием; кроме того, совсем не обязательно было ее слушать. Она не очень-то обращала внимание на то, слушают ее или нет; главное — чье-то присутствие, аудитория.
Она продолжала говорить. Из ванной комнаты доносился звук льющейся воды. Зазвонил телефон, Эгорина взяла трубку. За все это время Гайе не промолвил ни слова. Мальчик с мрачным видом стоял с ним рядом. Эгорина совершенно забыла о Васли после своего торжественного выхода и теперь ругалась с кем-то по телефону, как извозчик.
Гайе встал. Облегченно вздохнув, Отто проводил его до дверей, протянул две контрамарки на завтрашний концерт Эгорины и, пожав плечами, отверг всякую благодарность:
— Да что вы, в самом деле! Нам тут и билеты-то распродать не удалось! Какая музыка — совершенно тухлый город!
У них за спиной продолжал литься восхитительный голос Эгорины, взрывы ее смеха казались струями великолепного фонтана.
— Господи! Да какое мне дело, что там этот еврейчик скажет? — пропела она, и снова золотистыми колокольчиками зазвенел ее смех.
— Знаете, Гайе, — сказал Отто Эгорин, — этот мир вообще не очень-то годится для музыки. Особенно теперь, в 1938 году. Вы не единственный, кто мучается вопросами: а что такое добро? кому нужна музыка? кто хочет ее слушать? А действительно, кто, если Европа кишит военными, точно труп червями? Если в России пишут симфонии, желая торжественно отметить открытие очередной птицефабрики на Урале? Если музыка годится лишь для того, чтобы Пуци наигрывал на фортепиано, успокаивая нервы Вождя? Знаете, к тому времени, как вы закончите свой реквием, все церкви, вполне возможно, взлетят на воздух, а мужской хор будет выступать исключительно в военной форме, а потом и он тоже взлетит на воздух. Если же этого все-таки не произойдет, пришлите ваш реквием мне, мне это небезразлично. Впрочем, особых надежд я не питаю. Я, как и вы, на стороне проигравших. И она тоже, моя Эгорина. Можете мне не верить, но это так. Она-то никогда этому не поверит… А музыка сейчас ни к чему, она сейчас бесполезна, Гайе. Она утратила свою силу. Но вы пишите — песни, реквием, — пишите, это никому не приносит вреда. А я буду продолжать свою концертную деятельность, это тоже никому не приносит вреда. Но это не спасет нас…
Ладислас Гайе с сыном пошли от гостиницы пешком, через старый мост над рекой Рас; их дом находился в Старом Городе, в одном из унылых, беспорядочно застроенных кварталов северного берега. Все приличные современные дома Фораноя были на южном берегу, в Новом Городе. Стоял ясный теплый день; поздняя весна. Они остановились на мосту, любуясь отражавшимися в темной воде арками; каждая из них, соединяясь со своим отражением, образовывала идеальную окружность. Мимо проплыла баржа, тяжело нагруженная упаковочными клетями, и Васли, которого отец взял на руки, иначе ему ничего не было видно из-за каменных перил моста, сплюнул вниз, прямо на одну из клетей.
— Как тебе не стыдно! — сказал Ладислас без особого, впрочем, возмущения. Он был счастлив. Неважно, что он заикался и лепетал что-то, как ребенок, перед великим импресарио Отто Эгорином. Неважно, что сам он безумно устал, что сегодня жена особенно не в форме, что они давно уже опаздывают домой. Ему было безразлично все, кроме маленькой твердой ладошки сына, которую он сжимал в руке, и ветра, который здесь, на мосту, перекинутом меж двумя городами, уносил прочь все лишние звуки и оставлял человека в тишине, омытой теплом молчаливых солнечных лучей; здесь, сейчас Отто Эгорин знал, кто он такой: музыкант, композитор. И признание его таковым тем, пусть единственным, человеком давало ему силы и ощущение свободы. Ничего, что он лишь какое-то мгновение испытывал это чувство — собственной силы и свободы: ему и этого было довольно. В голове звучал Sanctus — партия трубы.
— Папа, а зачем у той большой дамы в ушах такие странные штучки? И почему она все время спрашивала меня, люблю ли я шоколад? Разве бывает, чтобы люди не любили шоколад?
— Это драгоценные камни, Васли, сережки такие. А про шоколад я не знаю. — Труба все еще пела у него в ушах. Ах, если б только они с малышом могли задержаться здесь подольше, в этом солнечном свете и тишине, между двумя мгновениями… Но они двинулись дальше, в Старый Город, мимо верфей, мимо заброшенных каменных домов, вверх по склону холма, к своему убогому жилищу. Васли вырвал руку и тут же исчез в толпе орущих детей, кишевших во дворе. Ладислас Гайе окликнул было его, потом сдался, поднялся по темной лестнице на третий этаж, открыл дверь в темную прихожую и сразу прошел в темноватую кухню — первую из трех комнат их квартиры. Жена чистила за кухонным столом картошку. В грязном белом халате и грязных розовых синелевых шлепанцах на босу ногу.
— Уже шесть часов, Ладис, — сказала она, не оборачиваясь.
— Я был в Новом Городе.
— А ребенка-то зачем в такую даль потащил? Где он, кстати? И где Тоня и Дживана? Я их звала, звала… Во дворе их нет, это точно. Да, так зачем ты таскался в Новый Город с ребенком?
— Я ходил к…
— Ох, спина у меня сегодня ноет — сил нет! А все из-за жары. И почему это лето здесь всегда такое жаркое?
— Давай я почищу.
— Нет уж, я сама закончу. Не мог бы ты, наконец, прочистить горелки в духовке, Ладис? Я тебя об этом раз сто, наверно, просила! Мне ее теперь вообще не зажечь, там все засорилось, а с такой спиной я ее чистить не могу.
— Хорошо. Только рубашку переодену.
— Послушай-ка, Ладис… Ладис! А что, Васли так и гуляет в хорошем костюме? Спустись и немедленно уведи мальчика со двора! Ты что, считаешь, мы в состоянии каждый раз отдавать в чистку его воскресный костюм? Ладис, ты слышишь? Спустись и приведи его домой! Ну почему ты никогда ни о чем не думаешь? Васли наверняка уже по уши в грязи. К тому же он водится с этими хулиганами и вечно играет у колонки!
— Иду, иду, не погоняй меня, ладно?
…В сентябре задули восточные ветры. Ветер пролетал мимо пустых каменных домов, спускался к сверкающей реке, морща ее поверхность, поднимал сухую пыль на улицах, стремясь запорошить глаза людям, идущим с работы. Ладислас Гайе миновал уличного оратора, и навстречу ему попалась маленькая девочка, которая, громко плача, бежала по крутой улочке; потом он прошел мимо газетного киоска, заметив крупными буквами напечатанный заголовок: «Пребывание мистера Невилла Чемберлена в Мюнхене». У обочины был припаркован большой автомобиль, возле него собралась целая толпа. Потом Ладислас обошел группу юнцов, наблюдавших за кулачным боем, миновал двух женщин, задушевно беседовавших друг с другом на всю улицу — одна стояла на краю тротуара, а вторая, одетая в синий с малиновыми цветами атласный халат, свесилась из окна. Он вроде бы видел и слышал все это, но все-таки не видел и не слышал ничего. Он очень устал. Вот и дом. Маленькие дочки Ладисласа Гайе играли во дворе, в темном колодце, окруженном со всех сторон стенами четырехэтажных домов. Он заметил их среди множества других девчонок, визжавших у двери в полуподвал, но не остановился, а сразу поднялся по темной лестнице, вошел в прихожую и проследовал на кухню. В последнее время его жене стало получше, поскольку жара стала ослабевать, но в данный момент она пребывала в дурном расположении духа. Глаза у нее были явно на мокром месте. Оказалось, что Васли вместе со старшими мальчишками был пойман за отвратительным занятием: они мучили кошку, а в итоге облили животное керосином и собирались поджечь.
— Никчемный мальчишка! Маленькое чудовище! Как нормальному ребенку может прийти в голову такая гадость?
Васли, запертый в средней комнате, ревел от злости. Ладислас Гайе сел за кухонный стол и опустил голову на руки. Перед глазами все плыло. Жена продолжала свой гневный монолог по поводу «никчемного мальчишки» и его дворовых приятелей.
— …да еще эта госпожа Рассе вечно сует повсюду свой нос! Влезла сюда, даже не постучавшись, да еще спрашивает, знаю ли я, что собирается сделать мой драгоценный Васли, словно ее собственными сорванцами можно гордиться! Вот уж у кого рожи — грязней не придумаешь и глаза красные, как у кроликов! Ну что, ты намерен как-то наказать его, Ладис? Или так и будешь сидеть? Может, ты думаешь, я одна могу с ним справиться? Или тебя и такой сынок устраивает?
— А что мне с ним делать? И вообще, мы сегодня есть будем или нет? У меня в восемь урок, ты же знаешь. И ради бога, дай мне минутку посидеть спокойно.
— Спокойно? Значит, хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Ну да, какое тебе дело до того, что твой сынок превращается в грубое животное, становится таким, как все здесь! Ну ладно, раз ты сам этого хочешь, с какой стати мне-то беспокоиться. — Она зашлепала по кухне в своих розовых шлепанцах, накрывая на стол.
— Маленькие дети всегда жестоки, — сказал Ладислас. — Они еще не понимают, что такое жестокость. Потом поймут.
Жена только плечами пожала. Васли теперь уже рыдал у самой двери: понял, что отец вернулся домой. Ладислас еще минутку подождал, потом прошел в соседнюю комнату и немного посидел с мальчиком, не зажигая света. Из третьей комнаты, где лежала бабушка, доносилась громкая танцевальная музыка. Ладислас специально для нее купил в комиссионке этот радиоприемник; радио было ее единственным развлечением, она только и говорила, что об услышанном по радио. Васли жался к отцу; плакать он перестал и выглядел совершенно измученным.
— Ты не должен так поступать, Васли. Ни ты, ни другие мальчики, — шепнул ему отец. — Бедная кошка ведь куда слабее вас, она даже защитить себя не может.
Васли молчал. Казалось, вся жестокость, вся нищета, вся тьма этого мира, настоящая и грядущая, окружают их в этой комнате. Рядом в вальсе ревели тромбоны. Васли жался к отцу и не говорил ни слова.
Среди рева тромбонов, густого, точно сладкая микстура от кашля, Гайе на мгновение услышал глубокие чистые звуки — свой Sanctus, точно гром небесный средь ясных звезд, из-за края Вселенной. Словно на мгновение с дома вдруг сорвали крышу и ему удалось заглянуть прямо в темную бездну. По радио заговорил ведущий — гладко и восторженно. Гайе снова вернулся на кухню и сказал жене, пытаясь перекрыть пронзительные голоса дочек:
— Английский премьер-министр сейчас в Мюнхене, с Гитлером встречается.
Она не ответила и молча поставила на стол тарелки с едой — суп и картошку. Она все еще была очень рассержена.
— Ешь да язык придержи, бесстыдник! — рявкнула она на Васли, который уже обо всем забыл и вовсю болтал с сестрами.
Пока Гайе спускался с холма и шел по мосту через Рас в сгустившихся сумерках, мелодия, которую он написал когда-то, упорно звучала у него в ушах. Это была последняя из семи песен, которые еще в августе он сочинил сразу, одну за другой; он все думал, достаточно ли семи песен, чтобы отослать Отто Эгорину в Красной, и стоит ли переписать их для этого начисто. Но сейчас его почему-то тревожили последние строки стихотворения: «Не жалуюсь я, ибо это ты в милости твоей обрушиваешь на головы нам стены того, что мы строили, дабы могли мы увидеть небо». Он повторил их вполголоса; здесь музыка должна звучать так… Гайе пропел мелодию про себя, потом повторил всю песню с начала до конца, прислушиваясь к аккомпанементу. Да, именно так. Господи, хоть бы его ученик опоздал, чтобы успеть наиграть аккомпанемент в Школе до начала урока. Однако опоздал на этот раз он сам, а когда урок закончился, голова была забита этюдами Клементи, и, хотя основная мелодия теперь слышалась уже совершенно ясно, как следует расслышать аккомпанемент он не мог — услышать его так же ясно, как слышал на мосту. Он пробовал повторить сперва стихотворение, потом всю мелодию, пробовал снова и снова, но туг явился сторож со своей метелкой и заявил, что пора запирать Школу. Гайе двинулся домой. Дул сильный холодный ветер, небо расчистилось, река казалась черной, как нефть, в ней отражались арки моста. На мосту он ненадолго остановился, но так и не услышал больше той музыки. Не смог.
Вернувшись домой, он сел за кухонный стол и стал просматривать запись основной мелодии, но этот вариант оказался куда слабее услышанного на мосту. Однако теперь у него не было ни инструмента, ни соответствующего настроения. Он забыл даже тональность, в которой звучал тот аккомпанемент, который так ему нравился. Все сразу стало как бы недосягаемым. Он понимал, что слишком устал, что работа не пойдет, но упрямо продолжал работать и сердился, тщетно пытаясь снова услышать музыку и записать услышанное. С полчаса он просидел без движения, даже пальцами ни разу не пошевелил. У противоположного конца стола сидела жена и чинила Тонино платье, одновременно слушая какую-то передачу по бабушкиному радио. Он закрыл уши руками. Жена что-то сказала насчет музыки, но он не слушал. Полная неспособность записать хоть одну музыкальную фразу душила его, давила непереносимой тяжестью, в груди точно застрял огромный булыжник. Я никогда не дождусь перемен, подумал он, и тут же почувствовал облегчение, просветление, а затем и уверенность в своих силах. И догадался, что та мелодия снова всплывает в его душе, понял, что снова слышит ее. Нет, ему не требовалось ее записывать: она была написана давным-давно, и никому больше не нужно было из-за нее страдать. Ее пела Легман:
[41]
Du hold Kunst, ich danke dir.
Он долго еще сидел неподвижно. Музыка не спасет нас, сказал тогда Отто Эгорин. Не спасет ни вас, Отто, ни меня, ни ее — ту крупную женщину, в голосе которой звенят позолоченные колокольчики, но у нее нет детей и она их иметь не хочет. Она не спасет и Легман, которая пела эту песню; и Шуберта, который ее написал и уже сто лет как лежит в могиле. Да и какой вообще от музыки прок? Никакого. В этом-то все и дело, подумал Гайе. Миру с его государствами, армиями, заводами и великими Вождями музыка говорит: «Все это неуместно», а страдающему человеку она, уверенная в себе и нежная, как истинное божество, шепчет: «Слушай». Ибо быть спасенным — не самое главное. Музыка ничего не спасает. Милосердная и одновременно равнодушная, она отвергает и разрушает любые убежища, стены любых домов, построенных людьми для себя, чтобы люди эти смогли увидеть небо!
Гайе отодвинул исчерканные разлинованные листы бумаги, маленький томик стихов, ручку и чернильницу. Потом потянулся и зевнул.
— Спокойной ночи, — тихо сказал он жене и пошел спать.
Дом
Солнечный свет, как всегда в октябре, желтыми полосами ложился поперек улицы; сотни сухих золотистых полудней шуршали под ногами. Лишь почтенный возраст спасал сикоморы от излишней назойливости. Зато в течение нескольких кварталов ее буквально преследовали фамильярно-дружески настроенные тени знакомых кирпичных стен и балконов. Фонтаны разговаривали с ней так, словно она никуда и не уезжала. Ее не было здесь восемь лет, а этот дурацкий город даже не заметил ее отсутствия; залитый солнечным светом, наполненный шумом множества фонтанов, он обступал ее со всех сторон, точно стены родного дома. Смущенная и обиженная, она прошла мимо дома номер 18 по улице Рейн, даже не взглянув ни на дверь в парадном, ни на ограду сада, хотя каким-то образом — не глазами — все-таки заметила, что и дверь, и калитка в сад заперты. После этого город постепенно отступился и оставил ее наконец в покое. Через один-два квартала он ее уже практически не узнавал. Фонтаны теперь разговаривали с кем-то другим. Теперь ее охватило иное смущение: она не узнавала ни перекрестков, ни подъездов домов, ни окон, ни витрин магазинов и, стыдясь, вынуждена была обращаться с вопросами к уличным указателям и табличкам с номерами домов, а когда отыскала нужный дом и в нем оказалось несколько подъездов, то пришлось войти и сперва спросить у открытых дверей, туда ли она попала. Неубранные постели, семейные ссоры, не до конца застегнутые платья отослали ее наверх, на четвертый этаж, но там на ее стук ответила лишь изящная надпись на дверной табличке: Ф. Л. ПАНИН. Она заглянула внутрь. Комната в мансарде была забита тяжелыми диванами и столами и имела вид разоренного жилища; комната казалась абсолютно чужой, залитой солнцем, душной и беззащитной.
Напротив она увидела занавешенный дверной проем и спросила:
— Есть кто-нибудь дома? — Из-за занавески ей ответил полусонный голос:
— Подождите минутку, пожалуйста.
Она подождала.
И он появился оттуда собственной персоной и прошел к ней через комнату, в точности такой, как прежде, ничуть не изменившийся за прошедшие восемь лет, как не изменились и камни на городской мостовой, и солнечный свет, пронизывающий этот город. Итак, ее ужасные сны стали явью: в этих снах он и она останавливались в придорожных гостиницах, направляясь к высоким серым горам, а потом не могли отыскать комнаты друг друга в холодных коридорах; а в Красное зимними вечерами точные копии этого человека его походкой переходили на другую сторону улицы, озирались по сторонам и поворачивали голову в точности как он. Но теперь это был он сам.
— Извините, я спал.
— Я Мария.
Он так и застыл. Пиджак висел на нем как на вешалке. Она заметила, что и волосы у него приобрели какой-то сероватый оттенок… да, он поседел. Он стоял перед ней худой, седой, сильно изменившийся. Она бы, наверное, не узнала его, если б встретила случайно на улице. Они пожали друг другу руки.
— Садись, Мария, — сказал он. Оба уселись в огромные обшарпанные кресла. На голом полу меж ними лежала полоса того неповторимо ясного солнечного света, какой бывает осенью только в Айзнаре. — Обычно я сплю в чулане, но Панины разрешают мне пользоваться этой комнатой, когда их нет дома. Они оба целыми днями на работе, в ГПР.
— Ты ведь тоже там работаешь… в вечернюю смену, да? Я уже собиралась оставить тебе записку.
— Да, обычно в это время я уже ухожу на работу. Но сейчас взял несколько дней отгулов. У меня грипп.
Ей следовало бы знать, что сам он никаких вопросов задавать не будет. Он и сам не любил отвечать на вопросы, и редко задавал их другим. Ему мешало чувство собственного достоинства, настолько глубокое и всеобъемлющее, что распространялось и на всех остальных мужчин и женщин, которых он изначально воспринимал как людей достойных доверия и разумных и избавлял от всяких вопросов. Как только он умудрился выжить в этом мире, в этой публичной исповедальне?
— У меня двухнедельный отпуск, — сказала она. — Я работаю в Красное, преподаю. В начальной школе.
Его улыбка на лице совершенно незнакомого человека смущала ее.
— С Дживаном я развелась.
Он смотрел прямо в солнечное пятно на полу. Она ответила и на следующий вопрос, которого он не задал:
— Четыре года назад.
Потом, от растерянности и желания как-то защититься, вытащила сигареты. Но прежде чем отгородиться от него пеленой дыма, собрала все свое мужество и протянула пачку ему прямо над полосой солнечного света:
— Хочешь?
— Да, спасибо. — Он взял сигарету, осмотрел, понюхал и с довольным видом прикурил от зажженной ею спички. Затянувшись, он тут же страшно закашлялся; кашель был изнуряющий, глубокий, похожий на взрывы или залпы тяжелой артиллерии; таких громких звуков она от него никогда в жизни не слышала. Несмотря на кашель, он буквально не сводил с сигареты глаз, а немного отдышавшись, тут же снова затянулся, не вдыхая, однако, дым.
— Не стоит тебе курить, — беспомощно пролепетала она.
— Да я давно уже не курю, — сказал он. Капли пота выступили у него на лбу, даже повисли на волосах, которые, как она теперь разглядела, были лишь отчасти тронуты сединой. Вскоре он аккуратно затушил сигарету и сунул бычок в нагрудный карман рубашки. Все это он проделал легко и непринужденно, хотя потом посмотрел на нее виноватыми глазами. Она не была с ним в те годы, когда он научился экономить недокуренные бычки, так что его действия могли ее смутить; и она тут же постаралась вести себя как ни в чем не бывало, зная, как он не любит смущать людей.
Чужая комната, мебель из чьего-то еще дома молча окружали их.
— Мария, а зачем ты сюда приехала? — Этот вопрос вполне мог бы принадлежать любому другому человеку, только не ему, как и тон, которым он его задал; только глаза были его — ясные, честные, упрямые.
— Чтобы повидаться с тобой. Точнее, чтобы поговорить с тобой, Пьер. Почувствовала, что мне это необходимо. Я очень одинока. То есть куда хуже: я одна. Предоставлена самой себе. Там, в Красное, я аутсайдер, я никому ничего не могу сказать, я не нужна им. Я раньше думала — пока мы были женаты, — что если буду сама по себе, буду зависеть только от себя, то сразу найду массу интересных людей, заведу собственных друзей, свой круг общения, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Однако я заблуждалась. Вот у тебя и тогда были друзья и, я полагаю, есть и теперь. Ты всегда находишь, о чем поговорить с теми, с кем ты встречаешься. Я этого никогда не умела, я никогда ни с кем по-настоящему не дружила. У меня никогда не было близких друзей, кроме тебя. Наверное, я и сама не очень-то стремилась к подобной близости. А теперь мечтаю о ней. — Она умолкла и разрыдалась, слушая собственные рыдания с тем же ужасом, с каким слушала его кашель. — Я так долго не выдержу. Все разваливается вокруг. Я совершенно утратила самообладание. — Она снова торопливо заговорила: — Здесь у вас соль еще продается? В Красное просто невозможно ее купить, люди скупили ее всю, считая, что если завернуться в простыни, смоченные соленой водой, то это помогает залечить лучевые ожоги. Это правда? Я не знаю. А здесь тоже все боятся? Впрочем, разговоры идут не только о бомбах, но и о бактериологической войне, например, и о том, что Земля и так перенаселена, но на ней с каждым днем рождается все больше и больше людей и скоро все мы будем точно крысы в тесном ящике. Похоже, никто ни на что хорошее больше не надеется. А годы идут, становишься все старше, все чаще думаешь о смерти, и тогда мир вокруг кажется мрачным и бессмысленным… И все равно — что жить, что умереть. Такое ощущение, что стоишь ночью одна на ветру, а ледяной ветер продувает тебя насквозь… Я стараюсь, правда, держаться, стараюсь вести себя достойно, но, знаешь, я больше и в это тоже не верю. Я чувствую себя каким-то муравьем среди кишения других муравьев, и с этим мне одной не справиться!
Щадя то ли ее чувства, то ли свои собственные, он отошел к окну и стоял там, и теперь заговорил оттуда, не оборачиваясь, но голос его звучал мягко:
— Никому с этим в одиночку не справиться. Однако и вспять тоже повернуть нельзя, дорогая. Этого тоже не может никто.
— Я и не пытаюсь повернуть вспять. Правда! Я пытаюсь лишь заново познакомиться с тобой, прямо сейчас, здесь, разве ты этого не понимаешь? Что ж, вот мы снова и встретились. И ты единственный человек, с которым я действительно когда-либо была близка. Все остальные шли иными дорогами, жили другой жизнью. Разве ты никогда не задумывался о том, что мне следовало к тебе вернуться?
— Ни разу.
— Но я же никогда не оставляла тебя, Пьер! Я сбежала всего лишь потому, что поняла: я принадлежу тебе, и считала единственным способом стать самой собой — избавление от тебя. Ну вот я и стала самой собой — уж себя-то я получила в избытке! А на самом деле я вела себя как глупая собака, которая рвется в сторону, пока позволяет поводок.
— Что ж, у поводка ведь два конца, — сказал он, наклоняясь к окну и словно желая рассмотреть что-то сквозь стекло — то ли конек крыши, то ли облако, то ли далекую серую горную вершину. — И я свой конец из рук выпустил.
Она попыталась пригладить светлые рыжеватые волосы, которые упрямыми прядками выбивались из уложенных в пучок кос. Голос у нее все еще дрожал, но она сказала с достоинством:
— Я говорила вовсе не о любви, Пьер.
— В таком случае я не понимаю.
— Я имела в виду верность, преданность. Когда кого-то другого воспринимаешь как часть собственной жизни. Это либо есть, либо нет. У нас было. И я нашу верность нарушила. И ты меня отпустил. Но на неверность ты не способен.
Он снова сел в кресло напротив нее. Теперь у нее хватило мужества посмотреть ему в лицо и убедиться, что в действительности он почти не изменился; появились, конечно, новые морщинки, да и выглядел он изможденным — то ли из-за болезни, то ли из-за жизненных передряг, — но то были всего лишь следы утрат, а не перемен в нем самом.
— Послушай, Мария, милая… — это звучало как самое лучшее утешение, хотя она отлично-понимала: он просто добр, как и со всеми, — не имеет значения, как ты все это пытаешься представить, но ты безусловно хочешь повернуть время вспять. А ведь там, позади, не осталось ничего, к чему можно было бы вернуться. Как ни крути. — И он посмотрел на нее так ласково, точно надеялся смягчить реальную действительность.
— Но что все-таки случилось? Можешь мне рассказать? Пусть не сейчас, если не хочешь. Когда-нибудь. Я разговаривала с Моше, но мне не хотелось спрашивать о тебе. Я ведь приехала сюда, считая, что ты по-прежнему живешь в том доме на улице Рейн, ну и… так далее.
— Видишь ли, при правительстве Пентора мы опубликовали несколько книг, из-за которых у Дома было немало неприятностей, когда к власти снова пришла Р. Е. П. Берной, если ты его помнишь, и я в ту осень попали в тюрьму, нас пытали, потом мы оказались на севере, в горах. Меня выпустили два года назад. И, разумеется, я больше не имею права занимать ответственные государственные посты, а стало быть, и работать на благо Дома. — Он по-прежнему называл «Домом» издательскую фирму «Корре и сыновья», которой владела и управляла его семья с 1813 по 1946 год. Когда фирма была национализирована, его оставили там в качестве управляющего. Он работал там, когда Мария встретила его и вышла за него замуж, а потом бросила. Ей и в голову никогда не приходило, что он может это место потерять.
Он вытащил из кармана рубашки тот бычок, взял со стола коробок спичек, но так и не закурил.
— В общем, короче: сейчас я отнюдь не в том же положении, как во времена нашей совместной жизни. Видишь ли, во-первых, я нигде толком не работаю. А во-вторых, слишком много воды утекло. Так что вряд ли уместно теперь говорить о верности. — Он все-таки закурил — очень аккуратно и осторожно, стараясь не затягиваться.
Настольная лампа была в ярко-красном абажуре с помпонами — точно из другого мира. Мария развлекалась тем, что раскачивала пыльные красные шарики пальцем, словно пересчитывая их. Лицо ее казалось хмурым, замкнутым.
— Что ж, но когда же вообще имеет смысл говорить о ней? Только если тебя совсем загнали в угол? Неужели ты совсем сдался, Пьер?
Он красноречиво промолчал.
— У меня не было таких неприятностей, я не сидела в тюрьме, у меня есть работа и жилье. Так что я прожила эти годы куда лучше. Но посмотри на меня: я ведь как потерявшаяся собака. Ты, по крайней мере, можешь по-прежнему уважать себя вне зависимости от того, что у тебя отнято, а я утратила именно то, что называется самоуважением.
— Ты, — проговорил он, вдруг побледнев от гнева, — отняла у меня способность уважать себя восемь лет назад!
Это была неправда, но она не винила его в том, что он верит собственным заблуждениям; она настойчиво продолжала:
— Ну хорошо, но раз ни у тебя, ни у меня никакого самоуважения не осталось, значит, ничто не может помешать нам вновь узнать друг друга.
Теперь его молчание было скорее нерешительным.
Мария отсчитала девять хлопчатобумажных шариков, потом еще девять.
— Я вот что хочу сказать тебе, Пьер, нет, должна сказать: мне хочется понять, не могли бы мы снова сойтись, не могла бы я вернуться к тебе. Нет, не вернуться — просто приходить. При теперешнем положении вещей я ведь тоже могла бы чем-то помочь тебе. Я, конечно, просто милостыню просить пришла, но я же не знала… Я могу перевестись в какую-нибудь здешнюю школу. И, в конце концов, можно подыскать две комнаты рядом, чтобы в случае болезни, например, кто-то был рядом. Так было бы куда лучше для нас обоих. Больше смысла. — Лицо ее вздрагивало, она с трудом сдерживала слезы и все-таки не удержалась — расплакалась и вскочила, намереваясь уйти, но зацепилась рукавом за бахрому абажура, и лампа с грохотом упала. — Ох, извини! Извини, что я вообще сюда пришла! — выкрикнула она, подняла лампу и тщетно попыталась выправить абажур. Он отнял у нее лампу.
— Тут лампочка разбилась, видишь, а абажур крепится прямо к патрону. Не плачь, Мария. Придется нам купить новую лампочку. Ну, пожалуйста, милая. Ничего страшного не случилось.
— Сейчас я схожу за новой лампочкой. А потом уйду.
— Я же не сказал «уходи». — Он отодвинулся от нее. — Впрочем, я и «приходи» не говорил. Я вообще не знаю, что тебе сказать. Ты тогда уехала насовсем с этим ублюдком Дживаном Пелле, развелась со мной, а теперь приезжаешь и заявляешь, что верность — единственное, что имеет смысл. Да неужели? И моя верность имела смысл? А ведь тогда ты утверждала, что верность — это буржуазный предрассудок, придуманный женатыми людьми, которые не имеют мужества жить так, как им хочется.
— Ничего я не утверждала, я просто повторяла это следом за Дживаном, и ты прекрасно все понимал!
— Мне все равно, за кем ты это повторяла. Мне ты сказала именно так! — Он задохнулся. Перевел дыхание, глянул на криво сидящий абажур, помолчал еще немного и сказал: — Ладно. Погоди-ка. — И снова замолчал. Теперь молчали оба. Золотистый луч солнца неслышно скользил по комнате — солнце краешком уже коснулось мирных полей к западу от Айзнара. Сквозь клубившуюся в солнечном свете пыль она видела его лицо. Когда-то он был красивым мужчиной — четырнадцать лет назад, когда они поженились. Красивым и счастливым. Гордым, добрым человеком, очень любившим свою работу. В нем тогда было некое очарование, целостность.
И вот ничего не осталось. В этом мире больше не хватало места для целостных людей, они его занимали слишком много. То, что сделала тогда с ним она, оказалось лишь частью общего плана по обстругиванию, подгонке таких, как он, под общий, значительно меньший размер, и вот им обрубили все сучья, очистили от коры, распилили на мелкие куски, чтобы в ткани теперешней жизни не оставалось ничего твердого, крупного.
Над комодом висело зеркало в позолоченной раме, и Мария подошла к нему — переплести косы и уложить их. В зеркале отражался бурый воздух необжитой, неуютной квартиры, обшарпанные стены, так и не поднятые жалюзи. А ее лицо казалось лишь еще одним неясным пятном среди множества серебристых потертостей на поверхности старого зеркального стекла. Она заглянула за занавеску и увидела керогаз, кушетку, пару ящиков, служивших буфетом и письменным столом. При виде жалкой кушетки она вспомнила дубовое ложе в их доме на улице Рейн, откинутые белые простыни, небрежно отброшенное белое покрывало, когда просыпалась жарким летним утром навстречу неумолчному шелесту фонтанов, доносившемуся из открытых окон, в которые ночью лился лунный свет, а теперь — сверкающие солнечные лучи; и белые занавески на окнах чуть-чуть шевелились… да, так было летом, в годы их супружества.
— Ах, — вздохнула она — слишком сильно сдавили ее сейчас прошлое и будущее, не давая дышать. — Должно же быть место, куда можно пойти, какое-то направление всему, разве нет?.. Пьер, а что случилось с Берноем?
— Заболел тифом, в тюрьме.
— Я помню, как он приходил к нам с девушкой, с той, что бросила тогда свой жемчуг в бокал с вином, да только жемчуг у нее был искусственный…
— С Ниной Фарбей.
— Так они все-таки поженились?
— Нет, он женился на старшей из сестер Акосте. Она теперь живет там, на восточном берегу, я иногда встречаю ее. У них родилось двое сыновей. — Он встал, потер руками лицо, быстро прошел мимо нее к ящику у своей постели и достал оттуда галстук и расческу. Потом привел себя в порядок перед зеркалом, которое не желало его видеть.
— Послушай, Пьер, я хочу еще кое-что сказать тебе. Через некоторое время после того, как мы поженились, Дживан сказал, что его, в сущности, побудило жениться на мне именно то, что я, как ему было известно, не могу иметь детей. Не знаю, почему — он ведь говорил много подобных вещей, но все они меня как-то не задевали, — эти его слова заставили меня задуматься и понять, что скорее всего именно поэтому я и ушла от тебя. Когда я узнала, что у меня не может быть детей — после того выкидыша, ну, ты помнишь, — это вроде бы не казалось таким уж страшным. Однако я чувствовала, что с каждым днем становлюсь все легче, все легковесней, и ничего мне на свете не нужно, все безразлично, и все мои поступки значения не имеют. А ты был настоящим, и то, что делал ты, по-прежнему имело значение. Все имело для тебя значение, кроме меня.
— Жаль, что ты тогда мне этого не сказала.
— Тогда я еще этого не понимала.
— Ну ладно, пошли.
— Давай я сама схожу; там холодно. Где здесь поблизости магазин?
— Ничего, я тоже хочу пройтись. — Они спустились по шаткой лестнице. Глотнув свежего воздуха, он задохнулся, точно нырнув в горное озеро, и снова сперва ужасно закашлялся, но вскоре кашель прекратился, и они спокойно двинулись дальше. Шли они довольно быстро — было холодно; холодный воздух, золотистый закатный свет и густые синие тени веселили и бодрили. «А как поживает такой-то?» — ей было интересно узнать о старых знакомых, и он охотно рассказывал ей. Нет, эта сеть дружб, знакомств, кровного родства, родства по браку, по делу, по темпераменту, более ста тридцати лет назад сплетенная его семьей и оберегаемая их Домом, пользовавшимся особым положением в провинциальном городке, все еще держала его, более того, он, благодаря своему общительному характеру, значительно укрепил и расширил ее. Мария всегда считала себя человеком, способным лишь на немногочисленные сильные привязанности и не слишком подходящим для радушных гостеприимных вечеров за обеденным столом и посиделок у камина, которые занимали существенное место в его жизни. Теперь же она поняла, что это было совсем не так — просто она ревновала его к другим. Она ревновала Пьера к его друзьям; она с завистью относилась к тому, что он вечно дарил им подарки; она завидовала всему — его обходительности, его доброте, его способности привязываться к людям. И его знаниям, и тому, с каким удовольствием он жил.
Они зашли в скобяную лавку, и он попросил лампочку в сорок ватт. Пока продавец искал ее и заполнял счет, Мария вытащила деньги, однако Пьер уже успел положить деньги на прилавок.
— Это же я разбила! — тихонько сказала она.
— Ты моя гостья. А это — моя лампа.
— Нет, не твоя! Это лампа Паниных.
— Вот, пожалуйста, — вежливо сказал он продавцу, протягивая деньги, и, обрадованный своей победой, спросил у нее, когда они уже выходили из магазина: — Ты ко мне шла по улице Рейн?
— Да.
Он улыбнулся; теперь, в лучах заходящего солнца, лицо его казалось оживленным.
— А на дом ты хоть посмотрела?
— Нет.
— Я так и знал! — В красноватых отблесках он вспыхнул, как спичка. — Знаешь, пойдем на него посмотрим, а? Он ведь совсем не изменился. Нет, если не хочешь, пожалуйста, скажи сразу. Я ведь, когда вернулся, сперва даже пройти мимо него не мог… — Теперь они вместе шли тем же путем, каким она пришла сюда. — Это, конечно, мой подводный камень, — продолжал он тем же легким тоном, — моя погибель. Как у тебя — стремление к изоляции, к одиночеству. Меня губит тяга к обладанию. Любовь к одному, определенному месту. Люди на самом деле для меня менее важны, в отличие от тебя. Но, в общем-то, и я через какое-то время догадался, как и ты: все дело в верности, в преданности. То есть обладание и преданность на самом деле между собой не связаны. Можно потерять свой дом, но сохранить верность ему. Теперь я даже полюбил порой пройти мимо нашего дома. Какое-то время его использовали под государственное учреждение, печатали какие-то формуляры или что-то в этом роде, а теперь я даже и не знаю, что там.
Вскоре они уже шли по тротуару, усыпанному сухими листьями сикомор, вдоль садовых оград, мимо тихих, украшенных резьбой фасадов старых домов. Вечерний ветерок приносил сладостные ароматы осени. Они остановились возле дома номер 18 по улице Рейн: золотистый оштукатуренный фасад; чугунный балкон над парадным, двери которого открывались прямо на тротуар; высокие красивые окна по обе стороны от двери и еще три окна на втором этаже. Дикая яблоня прислонилась к стене садовой ограды. Весной окна восточных спален открывались прямо навстречу пенной кипени ее цветения. На площади перед домом весело играла струя воды в фонтане с неглубоким бассейном; стоя возле садовой калитки, они слышали, как фонтану на площади вторит тихое бормотание маленького фонтанчика в саду, украшенного фигурой наяды. Когда летом окна были распахнуты, говор воды наполнял весь дом. Стоя у запертой двери, у запертой калитки в сад, у окон с опущенными жалюзи, она вспоминала открытые навстречу лунному и солнечному свету окна, шорох листьев, звуки плещущей воды, звонкие голоса.
— Частная собственность — это кража, — задумчиво проговорил Пьер Корре, глядя на свой дом.
— Он кажется пустым. И все жалюзи опущены.
— Да, пожалуй. Ну что ж, пошли дальше.
Пройдя квартала два, она сказала:
— Ничто и приводит в никуда. Вот мы подошли к нему и постояли на улице, словно какие-то туристы. А ведь его построила твоя семья, ты в нем родился, мы в нем жили. Много лет. И не только мы с тобой — все эти годы в нем жили люди. И теперь все разрушено. Все распалось.
Пока они шли, порой разъединяемые спешащим куда-то прохожим или старушкой, толкающей перед собой тележку с дровами, улицы Айзнара постепенно заполнялись возвращавшимися с работы людьми. Мария не умолкала:
— Это ведь у меня не просто чисто субъективное ощущение полной изоляции — я не только собственного одиночества больше выносить не в силах. У меня такое ощущение, что в мире все распадается, все разбито, разрушено, все беспорядочно вздыбилось — люди, годы, события — и превратилось в груду обломков, каких-то не связанных между собой кусков и кусочков. И ничто больше не имеет значения. Если начинаешь с ничего, так неважно, какой именно путь ты изберешь. Но ведь это должно быть важно!
Обходя тележку с луком, он пробормотал не то «должно», не то «не должно».
— Должно! И поэтому я сюда вернулась. У нас был путь впереди, разве я не права? По-моему, в этом и заключается брак — он означает путешествие вдвоем, не разлучаясь ни днем, ни ночью. Я испугалась идти дальше, решила, что заблудилась, утратила свое драгоценное «я». Понимаешь? А потом взяла и убежала от тебя. Но только убежать не сумела, некуда мне было бежать. Был только один путь. Я стала твоей женой в двадцать один год, с тех пор прошло четырнадцать лет, я два раза разводилась, однако я по-прежнему твоя жена. И всегда была ею. Все мои поступки после того, как мне исполнилось двадцать, совершались благодаря тебе, для тебя, вместе с тобой, против тебя. Все остальные в счет не шли — разве что в сравнении, в соотнесении с тобой, в противопоставлении тебе. Ты — дом, куда я всегда могу прийти. Вне зависимости от того, открыты двери или заперты.
Он молча шагал с нею рядом.
— Можно мне здесь остаться, Пьер?
Его голос с трудом пробился сквозь гул голосов и уличные шумы:
— Но в том доме больше нет дверей. Да и самого дома не осталось.
Он казался усталым и сердитым; на нее он не смотрел. Они добрались до его дома, поднялись по лестнице и вошли в квартиру Паниных.
— Мы могли бы найти что-нибудь получше этого, — сказала она застенчиво.
— Нужно же человеку хоть иногда уединиться…
В комнате было почти темно, окно казалось четырехугольным куском бесцветного ясного вечернего неба. Он присел на диван. Она вставила в патрон новую лампочку, закрепила абажур с бубенчиками, включила и снова выключила свет. Сидевший в неуклюжей позе Пьер понемногу расслабился; его тело, лишенное сумерками той привлекательности и той вещественности, которая и определяет вес человека на земле, сейчас казалось лишь тенью среди прочих теней. Мария опустилась на пол у его ног. Потом взяла его за руку. Они сидели в полной тишине; и эта тишина, окутавшая их, была тяжелой, плотной, ощутимой, она обладала и долгим прошлым, и будущим, точно длинная дорога, по которой идешь вечерней порой.
Стуча обувью, в комнату вошли какие-то люди, включили свет, заговорили, изумленно уставились на них: оба некрасивые, с невинными лицами, обоим лет по двадцать; высокий тонкий молодой человек и молодая беременная женщина. Мария вскочила, приглаживая волосы. Пьер тоже встал.
— Это Панины, Мария, — сказал он. — Мартин, Анна, познакомьтесь: это Мария Корре. Моя жена.
Хозяйка замка Моге
Они встретились впервые, когда им было по девятнадцать; потом еще раз, когда обоим было по двадцать три. В том, что после этого они встретились лишь однажды и очень нескоро, был виноват Андре. Такого просчета никак не ожидали те, кто
знал его девятнадцатилетним: он тогда парил над собственной судьбой, подобно ястребу. И глаза у него были ястребиные — ясные, немигающие, неукротимые. Это замечали все. Даже лицо его можно было рассмотреть, лишь когда он закрывал глаза во время сна; красивое бесстрастное лицо героя, лицо пассивного человека, ибо не герои творят историю — это дело ученых, историков, — но, будучи существами пассивными, позволяют потоку жизни нести себя, и он в итоге выносит их в эпицентр перемен, на вершину удачи или военной славы.
Она, Изабелла Ориана Могескар, наследница графов Гелле и князей Моге, жила в замке Моге на высоком берегу реки Мользен. Молодой Андре Калинскар ехал просить ее руки. Фамильный экипаж Калинскаров, проехав с полчаса по владениям Моге, достиг городских ворот и медленно пополз по крутой дороге на обнесенную крепостной стеной вершину холма, миновал поднятые ворота двухметровой толщины и остановился на площади перед замком. Старинный замок был весь увит диким виноградом с красными листьями и особенно красив сейчас, осенью. Каштаны вокруг сверкали чистым золотом. Над золотистыми деревьями, над башнями замка светилось ясное неяркое холодное октябрьское небо. Андре с любопытством смотрел по сторонам широко раскрытыми, немигающими глазами ястреба.
В лишенном окон парадном вестибюле на первом этаже замка, где на стенах висели седла, мушкеты, различное охотничье, кавалерийское и боевое оружие, два старых боевых друга, отец Андре и князь Могескар, радостно обняли друг друга. Наверху, в комнатах, обставленных со спокойным комфортом и окнами выходивших на реку, гостей приветствовала принцесса Изабелла. Это была хорошенькая рыжеватая блондинка, с продолговатым спокойным личиком и серо-голубыми глазами — этакая Осень в обличье юной девушки. Она оказалась высокой, выше Андре. Поклонившись ей и выпрямившись, он старательно расправил спину и плечи и все равно чувствовал разницу в их росте — по крайней мере сантиметра два.
В тот вечер за столом собралось человек восемнадцать — гости, вассалы и сами Могескары: Изабелла, ее отец и два ее брата. Георг, веселый пятнадцатилетний юноша, болтал с Андре об охоте; его старший брат и наследник Моге Брант взглянул на него пару раз, прислушался, о чем они говорят, и, удовлетворенный, гордо повернул свою светловолосую голову в другую сторону: сестра его, конечно же, не унизится до этого парнишки Калинскара. Андре стиснул зубы и постарался не смотреть на Бранта, а стал смотреть, как его мать беседует с принцессой Изабеллой. Обе то и дело посматривали в его сторону, видимо, говорили о нем. В стальных глазах матери он как всегда видел гордость, а в глазах девушки… Что же он там видел? Нет, не насмешку и не одобрение. Она просто его видела. Видела ясно, насквозь. Это действовало возбуждающе. Впервые он почувствовал, что чужая оценка вполне может возбуждать не меньше, чем страсть.
На следующий день уже ближе к вечеру, оставив отца и хозяина замка заново переживать былые сражения, Андре поднялся на крышу и стоял на ветру возле круглой башни, глядя вдаль — на реку Мользен и на холмы в закатном золоте солнца. Изабелла сама подошла к нему, решительно ступая по каменным плитам и двигаясь против ветра, и без излишних приветствий, точно знала его давным-давно, начала сразу:
— Мне давно хотелось поговорить с вами.
Ее красота и золотое сияние вокруг грели его сердце, он чувствовал себя одновременно храбрым и спокойным.
— И мне с вами, принцесса!
— По-моему, вы человек великодушный… — проговорила она. Ее легкий голосок звучал чуть хрипловато, чуть гортанно, и это было удивительно приятно. Он слегка поклонился, восторженные слова роились у него в голове, но что-то мешало ему высказать их вслух, и он лишь удивленно спросил:
— Почему вы так решили?
— Ну, это очень легко заметить, — ответила она нетерпеливо. — Но скажите, могу я говорить с вами, как мужчина с мужчиной?
— Как мужчина?..
— Послушайте, князь Андре, вчера, впервые увидев вас, я сразу подумала: «Наконец-то я встретила друга». Я не ошиблась?
Это мольба или вызов? Он был тронут и сказал:
— Вы были правы.
— В таком случае могу ли я просить вас, мой друг, не жениться на мне? Я замуж не собираюсь.
Воцарилось длительное молчание.
— Я поступлю сообразно вашим желаниям, принцесса.
— О, вы даже не спорите! — вскричала девушка, вся вспыхнув и светясь от радости. — Я знала, знала, что вы мне друг! Пожалуйста, князь Андре, не печальтесь и не думайте, что вас провели. Остальным я отказывала, не задумываясь. Но с вами я так не могла. Видите ли, если я сама наотрез откажусь выходить замуж, отец отошлет меня в монастырь. Так что вообще отказаться от замужества я не могу, я могу только отказывать поочередно каждому претенденту. Понимаете? — Он понимал; хотя если бы она дала ему время подумать, он бы непременно пришел к выводу, что в конце концов ей все-таки придется решить — замужество или монастырь, ведь она, как ни крути, девушка. Но времени подумать она ему не дала. — Что ж, претенденты продолжают приезжать, однако я веду себя в точности как принцесса Рания из сказки — помните, три вопроса, а потом головы бесчисленных женихов на кольях вокруг дворца? Это так жестоко и так утомительно… — Она вздохнула и, опершись на перила ограды рядом с Андре, стала смотреть вдаль на позолоченный солнцем мир, улыбающаяся, необъяснимая, дружелюбная.
— Лучше бы вы и мне задали те свои три вопроса, — сказал он тоскливо.
— Да нет у меня никаких вопросов! Мне нечего спросить у вас.
— Нечего спросить, потому что мне нечего дать вам! Так будет точнее.
— Ах, но ведь вы уже дали мне то, что я у вас просила… обещание не просить моей руки!
Он кивнул. Он ни за что не стал бы выяснять причины ее просьбы; ему не позволили бы этого собственная гордость и ощущение крайней уязвимости принцессы. Однако она со свойственной ей очаровательной непоследовательностью сама назвала их:
— Я хочу, князь Андре, лишь одного: чтобы меня оставили в покое. Хочу прожить свою жизнь, как мне нравится! Может быть, потом я пойму… Но пока что лишь один-единственный предмет вызывает у меня вопросы: я сама. Неужели я слишком слаба для того, чтобы прожить свою собственную жизнь, отыскать свой собственный путь в ней? Я родилась в этом замке, мои предки с давних времен были его хозяевами, правили здесь. К этому привыкаешь. Посмотрите на эти стены и увидите, почему никто из атаковавших замок Моге не смог его взять. Ах, жизнь человеческая могла бы быть так прекрасна! Одному Господу известно, что может с нами приключиться! Разве я не права, князь Андре? Нельзя слишком торопиться в выборе своей судьбы. А если я выйду замуж, то заранее известно, что со мной будет потом, кем и какой я стану. А я не желаю этого знать! Мне ничего не нужно, кроме свободы.
— А мне казалось, — сказал Андре с изумлением, точно делая открытие, — женщины по большей части и выходят замуж именно для того, чтобы свободу обрести.
— Значит, этим женщинам нужно меньше, чем мне. Что-то во мне есть такое, там, внутри, твердое и сверкающее одновременно — ну как мне это вам описать? Это живет во мне и все же как бы не существует; это мое, и именно я должна пронести это по жизни, но оно не принадлежит мне, и я не могу передать это никому.
Интересно, она говорит о своей девственности или же о своей судьбе? Она очень странная, думал Андре, но сколь трогательна, сколь возвышенна эта ее странность. Какими бы самонадеянными и наивными ни были ее утверждения, она безусловно в высшей степени достойна уважения; и хотя теперь ему было запрещено любить ее страстно, она все же поразила его в самое сердце, в самое средоточие нежности — первая из женщин, которая оказалась на это способна. Она пребывала в его душе в полном одиночестве — и сейчас тоже стояла с ним рядом, но как бы совершенно одна.
— А вашему брату известны ваши намерения?
— Бранту? Нет. Мой отец очень добрый человек, а Брант нет. Если отец умрет, Брант силой заставит меня выйти замуж.
— Значит, у вас нет никого…
— У меня есть вы, — сказала она и улыбнулась. — А потому я должна отослать вас прочь. Но друг есть друг, и не важно, далеко он или близко.
— Далеко ль я буду, иль близко, позовите меня, принцесса, если я вам понадоблюсь. Я приду. — В его голосе зазвучала вдруг пылкая страсть и достоинство; он точно давал ей обет — так лишь в ранней юности мужчина способен целиком посвятить себя редчайшему и опаснейшему из чувств, его охвативших. Она смотрела на него, потрясенная, на минуту пожалев о своей нежной и неосторожной гордости, и он взял ее за руку, точно заслужил право на это. Перед ними несла свои воды река, и воды ее в закатных лучах казались красными.
— Да, я непременно позову вас, — сказала она. — Я никогда еще не испытывала такой благодарности к мужчине, князь Андре.
Он ушел от нее, преисполненный восторга и восхищения; однако, едва добравшись до своей комнаты, бессильно рухнул в кресло: его внезапно охватила смертельная усталость, он с трудом сдерживал слезы и часто моргал.
Так они встретились впервые — на ветру, на крыше замка, в золоте закатных лучей. Им было по девятнадцать. Потом Калинскары вернулись домой. Миновало четыре года, и на второй из них, в 1640-м, началась великая битва за престол, известная как Война Трех Королей.
Как и большая часть знатных, но небогатых дворянских семейств, Калинскары приняли сторону претендента, герцога Дживана Совенскара. Андре вступил в его войско и к 1643 году, когда они упорно продвигались по провинции Мользен к Красною и брали один город за другим, получил чин капитана. Именно ему Совенскар поручил осаду последней твердыни сторонников короля на восточном берегу реки Мользен — города и замка Моге. А сам стал пробиваться к столице, намереваясь захватить трон и корону. И вот однажды, в июне, Андре лежал на поросшей жесткой травой вершине холма, опустив подбородок на руки, и осматривал раскинувшуюся перед ним долину, серо-голубые крыши города, стены замка, вздымавшиеся из зелени каштанов, точно из прибрежной волны, круглую башню и сверкавшую вдали реку.
— Ну, где поставим тяжелые пушки, капитан?
Старый князь давно умер, а Брант Могескар был убит еще в марте на востоке страны. Если бы тогда король Гульхельм послал войска через реку, чтобы защитить своих сторонников, его соперник, возможно, не скакал бы сейчас верхом в Красной, твердо рассчитывая получить трон и корону. Однако помощь не поступила, и теперь замок Могескаров был осажден. Сдаваться его защитники не желали. Один из лейтенантов Андре, прибывший в Моге несколько дней назад с кавалерийским взводом, предложил Георгу Могескару переговоры, однако самого принца ему даже увидеть не удалось. Его принимала принцесса, девушка очень, по его словам, хорошенькая, но твердая как сталь. От переговоров она отказалась. «Могескары в торги не вступают. Если замок будет осажден, мы станем держать оборону. Если вы сторонники претендента, то мы дожидаемся здесь своего короля и будем ждать его».
Андре по-прежнему изучал рыжевато-коричневые стены.
— Итак, Сотен, главное решить, что мы будем брать первым — город или замок?
Но главная проблема была вовсе не в этом. Она оказалась куда страшнее.
Лейтенант Сотен присел на траву рядом со своим капитаном и надул свои и без того округлые щеки.
— Сперва замок, — сказал он. — Мы потеряем не одну неделю на штурм этого города, а потом окажется, что замок-то еще не взят.
— Вы рассчитываете разрушить эти стены с такими пушками, как у нас? А между тем, стоит нам взять город, и в замке тут же примут наши условия.
— Капитан, эта женщина в замке ни за что никаких условий не примет.
— Откуда вы знаете?
— Я ее видел!
— И я тоже, — сказал Андре. — Пушки мы поставим вот здесь, напротив южной городской стены, и завтра на рассвете начнем артиллерийский обстрел. Нас просили во что бы то ни стало взять замок, не разрушая его. Что ж, придется ради этого пожертвовать городом. Выбора у нас нет. — Голос его звучал мрачно, однако в душе он чувствовал некий подъем. Уж он-то предоставил бы ей любой выбор: пусть выведет свои войска из этого безнадежного сражения, пусть докажет, на что она способна, пусть воспользуется тем мужеством, которое тогда ощущала в своей груди, как нечто твердое и сверкающее, точно меч, таящийся в ножнах.
Он ведь был вполне достойным претендентом на ее руку, человеком сходного темперамента, мужества и храбрости, однако она его отвергла. Что ж, справедливо. Ей ведь нужен был не возлюбленный, а противник, а он представлял из себя противника действительно сильного, достойного. Интересно, а вспомнит она его имя, если кто-то случайно назовет его? Если кто-то в замке скажет ей: «Осадой руководит капитан Калинскар»? «Андре Калинскар?» Она, возможно, нахмурится, узнав, что он принял сторону герцога, а не короля, но все же в глубине души будет довольна таким противником.
Город они взяли — ценой трехнедельных боев и множества человеческих жизней. Впоследствии, уже став маршалом королевской армии, Калинскар в пьяном виде любил повторять: «Я могу любой город взять! Я же взял Моге». Стены города были замечательно укреплены, арсенал замка казался неистощимым, а защитники Моге сражались с поразительной самоотдачей и твердостью. Они выдерживали артиллерийские обстрелы и бесконечные штурмы, голыми руками тушили пожары, питались буквально святым воздухом и в последних тяжких боях врукопашную бились за каждый дом — от городских ворот до предзамковых укреплений; а будучи взяты в плен, повторяли: «Только ради нее».
Ее он еще не видел. И боялся увидеть в гуще резни на узких улицах разрушенного города. По вечерам он все смотрел на высокие, метров сорок, стены замка, на дымящиеся бойницы, на знакомую круглую башню, приобретавшую на закате красно-коричневый оттенок. Замок пока оставался нетронутым.
— А может, им огонька в пороховой погреб подбросить? — спросил как-то лейтенант Сотен, весело надувая пухлые щеки. Капитан Калинскар резко обернулся. Его ястребиные глаза были красными и воспаленными от дыма и усталости.
— Я возьму Моге только целиком, не разрушив его! Вы что же, хотите взорвать лучший замок страны только потому, что устали воевать? Господь свидетель, лейтенант, я научу вас уважать!.. — «Уважать? Кого? Что?» — подумал Сотен, однако предпочел промолчать. Он прекрасно знал, что Калинскар — лучший офицер в армии, и вполне готов был ему подчиняться и следовать за ним — в бой, в безумие, куда угодно. Собственно, все они уже почти утратили разум от бесконечных сражений, от усталости, от ослепляющей пыли и испепеляющей летней жары.
Артиллерийский обстрел замка велся круглые сутки, один штурм следовал за другим — главное было не дать его защитникам ни минуты передышки. В предрассветных сумерках Андре удалось пробраться со своим отрядом к самой стене крепости, частично разрушенной взрывом, однако там их окружили защитники замка. В темной тени замковых стен они бились на мечах и на шпагах, стычка была беспорядочной, бессмысленной, и Андре стал созывать своих людей, чтобы отступить, когда вдруг понял: шпаги в руках нет. Он ощупью стал искать ее, но руки почему-то не слушались, а неуклюже скользили по камням и комкам грязи. Вдруг что-то холодное и шероховатое коснулось его лица: земля. Он широко открыл глаза и провалился во тьму.
Во дворе замка паслись две коровы — последние из огромного стада. В пять утра в покои принцессы принесли чашку молока, а чуть позже явился капитан крепости, чтобы, как всегда, сообщить о ночных событиях. Новостей особых не было, так что Изабелла слушала не слишком внимательно и мысленно прикидывала, когда сможет подойти подкрепление от короля Гульхельма, если, разумеется, гонец сумел до него добраться. Вряд ли им понадобится менее десяти дней. Десять дней — долгий срок. Прошло лишь три дня с тех пор, как пал город, и это уже казалось событием далекого прошлого или, по крайней мере, прошлого года. Тем не менее они могли бы продержаться и десять дней, и даже две недели, если это будет необходимо. Конечно же, король пошлет им подмогу!
— …и они собираются прислать гонца, чтобы узнать о нем, — говорил между тем Брейе.
— О нем? — Ее тяжелый взгляд остановился на капитане Брейе.
— Ну да, об этом капитане.
— Каком еще капитане?
— Я же как раз об этом рассказываю, ваша милость. Сегодня утром наш отряд устроил засаду и взял его в плен.
— Ах он пленный! Немедленно приведите его сюда!
— Он получил тяжкое сабельное ранение в голову, ваша милость.
— А говорить он может? Хорошо, я сама пойду к нему. Как его имя?
— Калинскар.
Она последовала за Брейе мимо неубранных комнат, где на постелях валялись мушкеты, по длинному коридору с паркетным полом, где под ногами похрустывали хрустальные подвески с разбитых канделябров, в парадный зал на восточной стороне замка, теперь превращенный в госпиталь. Дубовые кровати, некоторые с балдахинами, разоренные и неприбранные, стояли повсюду на зеркальном полу, точно корабли в гавани после шторма. Пленный спал. Она присела рядом, глядя ему в лицо, смуглое, суровое, странно покорное. Где-то в глубине души шевельнулась боль; нет, воля ее была непоколебима, однако сама она устала, смертельно устала и печалилась, видя перед собой своего поверженного врага. Раненый шевельнулся, открыл глаза, и тут она сразу узнала его.
Помолчав, она наконец произнесла:
— Значит, это вы, князь Андре.
Он слегка улыбнулся и шепнул что-то неслышное.
— Хирург считает вашу рану не слишком опасной. Это вы возглавляли осаду?
— Да, — совершенно ясно проговорил он.
— С самого начала?
— Да.
Она подняла голову и посмотрела на окна, закрытые ставнями, пропускавшими внутрь лишь неясный намек на горячее июльское солнце.
— Вы наш первый пленный. Что нового в стране?
— Первого Дживан Совенскар был коронован в Красное. А Гульхельм по-прежнему находится в Айзнаре.
— Что-то неважные у вас новости, капитан, — промолвила она тихо и равнодушно. Потом обвела взглядом остальные кровати, расставленные в огромном зале, и знаком велела Брейе отойти подальше. Ее раздражало, что они с Андре не могут поговорить наедине. Однако сказать ей оказалось нечего.
— Вы здесь одна, принцесса?
Он задал ей вопрос тем же тоном, что и тогда, на крыше замка, освещенной закатными лучами.
— Брант погиб, — ответила она.
— Я знаю. Но ваш младший брат… В тот раз мы с ним отлично поохотились на болотах.
— Георг сейчас здесь. Он участвовал в обороне Кастро. Взорвалась мортира. Его ослепило. Вы и в Кастре руководили осадой?
— Нет. Но воевал там.
Несколько секунд она смотрела ему прямо в глаза.
— Мне очень жаль, — сказала она. — Очень жаль Георга. И себя. И вас, который поклялся быть моим другом.
— Вам действительно жаль? А мне нет. Я сделал все, что мог. Я достаточно послужил во имя вашей славы. Вы знаете, даже мои собственные солдаты поют о вас песни — песни о Хозяйке замка Моге, об ангеле, что хранит его стены. И в Красное о вас говорят, и тоже поют песни… Ну а теперь вы к тому же взяли меня в плен, вот вам и новая победа. Люди говорят о вас с восхищением и удивлением. Даже ваши враги. Вы завоевали ее, свою желанную свободу! Вы всегда оставались самой собой. — Он говорил торопливо, однако, когда умолк, желая передохнуть, и на мгновение прикрыл глаза, лицо его тут же стало прежним: спокойным и юным. Изабелла посидела еще минутку молча, потом вдруг вскочила и торопливо вышла из комнаты, спотыкаясь на ходу, точно расплакавшаяся девчонка, которая еще не умеет носить свое тяжелое, длинное платье и вся обсыпалась пудрой.
Открыв глаза, Андре обнаружил, что Изабелла ушла, а на ее месте стоит старый капитан крепости и смотрит на него с ненавистью и любопытством.
— Я восхищаюсь ею не меньше, чем вы! — заявил он Брейе. — Больше, куда больше вас, обитателей замка! Больше всех на свете! Целых четыре года… — Но Брейе не дослушал и тоже уже ушел. — Дайте мне воды, я хочу пить! — сердито потребовал Андре, потом затих и лежал молча, глядя в потолок. Послышался рев, и замок содрогнулся: что это? Потом раздались три глухих удара, глубоких, леденящих кровь, пронзавших его тело насквозь, словно острая зубная боль. Потом снова раздался рев, его кровать затряслась… И он наконец догадался: это артиллерийский обстрел. Сотен выполнял его же приказ. — Прекратите это, — попытался он крикнуть, однако чудовищный рев все продолжался. — Немедленно прекратите! Мне так нужно поспать. Прекратите же, Сотен! Прекратите огонь!
Среди ночи бред прекратился. Очнувшись, Андре увидел, что кто-то сидит у изголовья его кровати. Между ним и сидящим горела свеча; в желтоватом круге ее света была видна мужская рука и рукав одежды.
— Кто это? — с трудом выговорил он. Мужчина встал, теперь стало видно его страшно изуродованное лицо. Собственно, от лица ничего не осталось, кроме рта и подбородка. Их очертания были нежны — рот и подбородок мальчика лет девятнадцати. Все остальное — едва поджившие шрамы.
— Я Георг Могескар. Вы меня понимаете?
— Да, — ответил Андре сдавленным голосом.
— Вы не могли бы приподняться? Нужно кое-что написать. Я мог бы подержать бумагу.
— Что же я должен написать?
Оба говорили шепотом.
— Я бы хотел сдать противнику замок, — сказал Могескар. — Но при условии, что моей сестре дадут возможность выбраться отсюда и спокойно уехать. Я сдам вам крепость только после этого. Вы согласны?
— Я… погодите…
— Напишите своему заместителю, что я сдам замок только при этом единственном условии. Я знаю: Совенскар мечтает его заполучить. Напишите: если мою сестру будут удерживать здесь, я взорву и замок, и вас, и себя, и ее. Тогда все это обратится в пыль. Видите ли, мне-то самому терять нечего. — Его почти мальчишеский голос звучал ровно, хотя и хрипловато. Он говорил медленно и абсолютно уверенно.
— Эти… ваши условия справедливы, — сказал Андре.
Могескар поставил в круг света чернильницу, нащупал ее верх, обмакнул перо и передал его Андре, положив перед ним лист бумаги. Андре с трудом приподнялся, чтобы иметь возможность писать. Он уже с минуту царапал пером по бумаге, когда Могескар вдруг сказал:
— А я хорошо помню вас, Калинскар. Мы охотились вместе на дальних болотах. Вы отлично стреляли.
Андре перестал писать и посмотрел на него. Ему все казалось, что этот мальчик вот-вот снимет свою ужасную маску и взору явится его прежнее лицо.
— Когда принцесса покинет замок? Должен ли мой заместитель выделить сопровождающих, чтобы она спокойно переправилась через реку?
— Завтра, в одиннадцать вечера. Ее будут сопровождать четверо наших людей. Один из них должен вернуться — это послужит гарантией ее спасения. Похоже, Калинскар, это милость Господня, что осадой руководите именно вы. Я вас помню, я вам доверяю. — Его голос был удивительно похож на голос Изабеллы: легкий, самоуверенный, чуть гортанный. — Надеюсь, вы можете положиться на своего заместителя? Он сохранит все в тайне?
Андре потер виски — ужасно болела голова. Слова, написанные им, разъезжались вкривь и вкось.
— Сохранит ли он в тайне? Так вы хотите, чтобы… все условия… вы хотите, чтобы ее спасение было организовано втайне?
— Разумеется! Как вы думаете: хочется мне, чтобы говорили, будто я предал свою мужественную сестру ради собственного спасения? Неужели вы думаете, что она уедет, если будет знать цену своей свободы? Ведь она считает, что отправится молить короля Гульхельма о помощи, а я пока постараюсь здесь продержаться!
— Принц, она никогда не простит…
— Мне нужно не ее прощение; я хочу, чтобы она была жива. Она последняя из нашей семьи. Если она останется здесь, то непременно постарается погибнуть, если вы в конце концов все-таки замок возьмете. Я ставлю на кон и замок Моге, и доверие Изабеллы ко мне ради сохранения ее жизни.
— Простите, принц, — сказал Андре прерывающимся голосом, в котором слышались слезы. — Я не сразу вас понял. Голова у меня работает плохо. — Он обмакнул перо в чернильницу, которую держал перед ним слепой, приписал еще одно предложение, подул на листок, свернул его и вложил в руку принца.
— Можно мне повидать ее, прежде чем она уедет?
— Не думаю, чтобы она согласилась прийти к вам, Калинскар. Она вас боится. Она не знает, что предам-то ее я. — Могескар убрал руку, и она исчезла в окутывавшей его тьме. Свеча горела лишь возле постели Андре — единственный огонек во всем высоком длинном зале, — и он не мог оторвать глаз от этого золотистого пульсирующего облачка света.
Через два дня замок Моге был сдан, а его хозяйка, ничего не ведая, полная надежд, мчалась верхом по нейтральным землям на запад, в Айзнар.
В третий и последний раз они встретились совершенно случайно. В 47-м Андре Калинскар не воспользовался приглашением принца Георга Могескара остановиться в замке на пути к границе, где произошло военное столкновение. Не в его правилах было избегать свидетельств своей первой крупной и замечательной победы и отказывать во встрече бывшему противнику, гордому и благодарному, и можно было предположить, что он либо боится заезжать в замок Моге, либо совесть у него нечиста, хотя вряд ли его можно было обвинить в чем-то подобном. Но тем не менее он в замок Моге не заехал. А встреча его и Изабеллы произошла тридцать семь лет спустя на одном из зимних балов в доме графа Алексиса Геллескара в Красное. Кто-то вдруг взял Андре за руку и сказал:
— Принцесса, позвольте мне представить вам маршала Калинскара. А это принцесса Изабелла Пройедскар.
Он как всегда низко поклонился, однако, выпрямившись, застыл, вытянулся в струнку: эта женщина оказалась выше его по крайней мере сантиметра на два. Ее седые волосы согласно тогдашней моде были высоко подняты и уложены в прихотливую, со множеством локонов прическу. Вставки на платье украшала причудливая вышивка мелким жемчугом. С полного бледного лица прямо на него смотрели серо-голубые глаза — смотрели с явным дружелюбием. Она улыбалась:
— Я знакома с князем Андре, — проговорила она.
— Принцесса! — пробормотал он, потрясенный.
Она располнела и стала теперь крупной импозантной дамой, весьма уверенной в себе. А он так и остался худым, кожа да кости, и к тому же хромал на правую ногу.
— Моя младшая дочь Ориана. — Девушка лет семнадцати сделала ему реверанс, с любопытством на него поглядывая — еще бы, герой, прошел три войны, тридцать лет провел на полях сражений, заставил распавшееся было государство вновь стать единым, чем и заслужил простую и не подлежащую сомнениям славу в народе! Ах, что за тощий маленький старикашка, сказали девичьи глаза.
— А ваш брат, принцесса…
— Георг давно умер, князь Андре. Теперь хозяин Моге — мой кузен Энрике. Но скажите, а вы женаты? Я знаю о вас не больше того, что известно всему свету. Мы с вами так давно не виделись, князь! Со времен нашей последней встречи прошло в два раза больше лет, чем сейчас этой девочке… — Тон у Изабеллы был материнский, жалостливый. Былая самоуверенность, даже заносчивость, и былая легкость исчезли; исчезли и те чуть гортанные нотки, выдававшие сдерживаемую страстность и опасения. Теперь она больше никаких опасений в его присутствии не испытывала. И ничего не боялась. Это была замужняя дама, мать, бабушка; дни ее клонились к закату, меч в ножнах повешен на стену за ненадобностью, замок отнят; и ни один мужчина больше не являлся ее врагом.
— Да, я был женат, принцесса. Но моя жена умерла в родах, а я в то время воевал. Это случилось очень давно. — Он говорил резко, отрывисто.
Она ответила банальностью и по-прежнему жалостливым тоном:
— Ах, как печальна жизнь, князь Андре!
— А когда-то вы и не подумали бы сказать так — помните, на стенах замка Моге. — Голос его звучал еще более отрывисто: сердце пронзила острая боль при виде ее — такой. Она равнодушно посмотрела на него своими серо-голубыми глазами — просто посмотрела, и все.
— Да, пожалуй, — согласилась она, — вы правы. Но если бы мне тогда позволили умереть на стенах замка Моге, я бы сочла это счастьем, веря, что жизнь заключает в себе великий страх и великую радость.
— Но это действительно так, принцесса! — сказал Андре Калинскар, поднимая к ней свое смуглое лицо — не успокоившийся и еще не до конца реализовавший свои возможности человек. Она лишь улыбнулась в ответ и сказала своим ровным материнским тоном:
— Для вас — возможно.
Подошли другие гости, и она, улыбаясь, заговорила с ними. Андре отошел в сторонку; он выглядел больным и печальным; он думал о том, насколько был прав, ни разу больше не посетив замок Моге. Все это время он мог считать себя честным человеком. И в течение сорока лет с надеждой и радостью вспоминал красные октябрьские листья дикого винограда, вьющегося по стене замка, и жаркие летние вечера времен его осады. Только теперь он понял, что предал тогда все это, утратил самое драгоценное. Пассивный герой, он полностью отдался в руки Судьбы; однако дар, который он задолжал ей, единственное, что может быть даровано солдату, — это смерть. А он тогда утаил ее дар. Не смирился с Судьбою. И теперь, шестидесятилетний, после стольких лет, стольких войн, стольких стран, должен оглянуться и увидеть наконец, что все потеряно, что сражался он зря, что в замке нет никакой принцессы.
Воображаемые страны
— Мы не сможем поехать к реке в воскресенье, — сказал барон за завтраком, — ведь в пятницу мы уезжаем.
Оба малыша изумленно посмотрели на него. Потом Зида попросила как ни в чем не бывало:
— Передай мне, пожалуйста, варенье, — но Поль, который был на целый год старше, уже вспомнил, отыскал где-то в дальнем, запылившемся уголке памяти темноватую столовую и серые окна, за которыми вечно шел дождь.
— Мы возвращаемся в город? — спросил он. Отец кивнул. И сразу же залитый солнцем холм за окном совершенно переменился: теперь он почему-то был повернут лицом к северу, а не к югу. В тот день по лесу будто пробежал красно-желтый пожар; виноградные кисти отяжелели, налились соком; убранные, нагретые августовским солнцем поля, обнесенные изгородями, широко раскинулись в дымке сентябрьского утра, мирные, беспредельные. Утром, едва проснувшись, Поль сразу понял: наступила осень и сегодня уже среда.
— Сегодня среда, — сказал он Зиде, — завтра будет четверг, а потом пятница — и мы уедем.
— А я никуда уезжать не собираюсь, — равнодушно ответила она и ушла в Маленькую Рощу — трудиться над ловушкой для единорога. Она смастерила ее из корзинки для яиц и множества маленьких лоскутков, к которым была привязана самая разнообразная приманка. Зида возилась с ловушкой с тех пор, как они обнаружили следы, однако Поль сильно сомневался, что в такую ловушку можно поймать хотя бы белку. Сам он, понимая, что осень все-таки наступила и времени осталось мало, со всех ног бросился на Высокий Утес, рассчитывая закончить туннель до отъезда в город.
По всем комнатам дома ласточкой метался голос баронессы. В данный момент он доносился с лестницы, ведущей на чердак:
— Ах, Роза! Ну где же наконец этот синий чемодан?
Однако Роза не отвечала, и баронесса сама последовала за своим голосом и, догнав его, обнаружила и Розу, и потерянный чемодан внизу у лестницы, а потом полетела дальше через холл, чтобы снова радостно воссоединиться с собственным голосом и Розой уже у входа в подвал. Барон в своем кабинете слышал, как Томас, ворча, тащил чемодан наверх, тяжело пересчитывая ступеньки башмаками, а Роза и баронесса в это время опустошали шкафы в детской, складывая в стопки рубашки и платьица, работая методично и ловко, как заправские воры.
— Что это вы тут делаете? — сурово спросила у них Зида, забежав на минутку за вешалкой для пальто, в которой, по ее расчетам, единорог мог бы запутаться копытом.
— Вещи укладываем, — ответила служанка.
— Мои не укладывайте, — велела Зида и удалилась. Роза продолжала опустошать шкафчик.
А барон между тем спокойно продолжал читать, испытывая лишь легкое чувство сожаления, порожденное, возможно, доносившимся из дальних комнат нежным голосом жены, а может быть, лучами осеннего солнца на письменном столе, проникшими меж раздвинутыми шторами.
В соседней комнате его старший сын Станислас уложил в небольшой плоский чемодан микроскоп, теннисную ракетку и коробку с камнями, под каждым из которых была аккуратная наклейка. Потом плюнул на все и собираться перестал. Сунув в карман записную книжку, он прошел через прохладную красную гостиную, через холл, спустился по лестнице и вышел на широкий двор. Неожиданно яркое солнце ослепило его. Под Четырьмя Вязами сидел и читал Иосиф.
— Ты куда это направился? — спросил он мальчика. — Жарко ведь. — Однако у Станисласа времени на разговоры не было.
— Я скоро вернусь, — вежливо ответил он и двинулся дальше, вверх по пыльной дороге, залитой солнцем, мимо Высокого Утеса, где копался в земле его сводный брат Поль. Здесь он на минутку остановился, чтобы оценить инженерное мастерство брата. По всему Утесу, переплетаясь, тянулись извилистые дорожки из белой глины. У моста, взлетавшего над промоиной, стояли припаркованные ситроены и роллс-ройсы. Туннель был почти готов; Поль завершал процесс его расширения.
— Хороший туннель, — похвалил Станислас, а великий строитель, просияв от гордости, откликнулся:
— Да, к вечеру закончу; уже можно будет ездить. Придешь на торжественную церемонию?
Станислас кивнул. Теперь его путь вел вверх по пологому длинному склону холма; вскоре он свернул и, перескочив через канаву, оказался в своих владениях, в царстве деревьев. Несколько шагов — и совершенно исчезли все воспоминания о пыльной дороге и ярком солнечном свете. Над головой и под ногами шуршала листва; воздух казался зеленой водой, и сквозь него проплывали птицы, вздымались темные стволы, обремененные пышными кронами, стремясь навстречу другой великой Стихии — воздушному пространству и небесам. Сперва Станислас подошел к Дубу и, раскинув руки, тщетно попытался его обнять хотя бы на четверть толщины. Грудью и щекой он прижался к жесткой шероховатой коре и вдохнул ее запах, запах древесных грибов, мха и лишайников; перед глазами была только эта темная кора. Такой большой вещи ему, конечно, никогда не удержать в руках. Старый Дуб, полный жизни, даже не заметил присутствия мальчика. Улыбаясь, Станислас пошел не спеша от дерева к дереву; в кармане лежала записная книжка с картами его страны; самые дальние ее пределы на карту нанесены еще не были.
Иосиф Броне провел лето, помогая своему профессору составлять документацию по истории Десяти Провинций в период раннего средневековья. Сейчас он сидел в неудобной позе под вязами и читал. Деревенский ветерок переворачивал страницы, сушил губы. Иосиф поднял глаза от написанной на латыни хроники сражения, проигранного девять столетий тому назад, и посмотрел на крышу дома, носившего название Асгард. Прямоугольное здание самого дома разнообразили пристроенные со всех сторон веранды, сараи и конюшни; углы Асгарда были расположены точно по компасу; он стоял посреди плоского двора, а на некотором расстоянии от него во всех направлениях у подошвы холмов раскинулись поля, за которыми вверх тянулись уже более крутые склоны гор, за вершинами которых виднелось небо. Дом казался белой коробкой посреди голубой с желтым миски. Сперва Иосиф, только что окончивший колледж, собиравшийся осенью поступать в иезуитскую семинарию и готовый без конца возиться с источниками, делать выписки, переписывать сноски, был очень удивлен тем, что семья барона назвала свой дом так же, как обитель северных богов. Но теперь это его больше не удивляло. За лето здесь случилось столько неожиданного и так мало, как казалось ему, они успели сделать! Историческое исследование, над которым они трудились, требовало по крайней мере еще несколько лет для своего завершения. Так что за три месяца он так и не узнал, куда это ходит Станислас, один, по горной дороге. А на пятницу был назначен отъезд. Сейчас или никогда, решил Иосиф, встал и пошел в ту сторону, куда ушел мальчик, мимо довольно большой насыпи метра в четыре высотой, примерно на середине которой висел младший из братьев, Поль, и рыл руками землю, подражая реву экскаватора. Несколько игрушечных машинок пристроились внизу. Иосиф хотел подняться на вершину холма, откуда рассчитывал увидеть, куда это ходит Станислас. Вдалеке мелькнула и исчезла чья-то ферма; в небо взлетел жаворонок и запел, казалось, совсем близко от солнца; однако до желанной вершины было еще далеко. Оставалось только повернуть назад и снова спуститься к подножию холма по той же дороге. Однако, когда он уже подошел к небольшой рощице, расположенной чуть выше Асгарда, Станислас вынырнул откуда-то прямо на дорогу, быстрый, как тень ястреба. Иосиф окликнул его, и они подошли друг к другу в облаках белой, пронизанной солнцем пыли.
— Господи, откуда ты взялся? — удивился Иосиф, утирая пот с лица.
— Из Большого Леса, — серьезно ответил Станислас. — Это вон там. — Действительно, у него за спиной толпились темные и густые деревья.
— Там, небось, прохладно? — с завистью спросил Иосиф. — А чем ты, собственно, там занимаешься?
— О, разными вещами! Например, наношу на карту всякие следы и тропинки. Просто так, конечно, ради развлечения. Эта роща ведь на самом деле куда больше, чем кажется отсюда. — Станислас заколебался, помолчал и прибавил:
— Ты ведь никогда там не был? Тебе, наверно, было бы приятно познакомиться с Дубом.
И юноша следом за ним перепрыгнул через канаву и пошел сквозь плотную зеленую мглу к Дубу. Он никогда еще не видел таких больших деревьев! Впрочем, он их вообще не слишком много видел в своей жизни.
— По-моему, он очень старый, — с уважением сказал он, совершенно ошеломленный, взирая снизу вверх на ветви гигантского Дуба; их ряды представлялись ему множеством галактик, где вместо звезд — бесконечные зеленые листья.
— О да, лет сто, а может, двести или триста, а может, шестьсот, — сказал мальчик. — Попробуй-ка обхватить его руками! — Иосиф изо всех сил раскинул руки, тщетно стараясь не касаться щекой шершавой коры. — Его только четыре человека обхватить могут, и то с трудом, — пояснил Станислас. — Знаешь, я его Иггдрасилем называю. Конечно, Иггдрасиль — ясень, а не дуб, но все-таки. А хочешь посмотреть Рощу Локи?
Пыльная дорога и жаркий белый солнечный свет остались где-то далеко позади. Юноша следом за своим провожатым все глубже погружался в этот зеленый лабиринт, в эту игру в мифологические имена, принадлежавшие, однако, вполне реальным деревьям, тихому воздуху, земле. Под высокими серыми ольховинами, росшими у сухого русла ручья, они поговорили о гибели Бальдра, и Станислас указал Иосифу на темные сгустки омелы высоко на ветвях дубов, хотя и более мелких, чем тот. Покинув рощу, они побрели по дороге — вниз, к Асгарду. Иосиф чувствовал себя неловко в темном «приличном» костюме, который купил на последнем курсе. В кармане у него лежала книжка, написанная на мертвом языке. И хотя по лицу у него стекали капли пота, он был страшно доволен. Пусть сам он никаких карт не составлял и вообще слишком поздно попал в этот лес, зато все же Хоть один раз успел по нему пройтись! Поль все еще копал свой туннель, словно не слыша доносившихся от дома ударов по металлическому треугольнику; этими ударами всех созывали к столу, на посиделки у камина, помогали заблудившимся детям отыскать дорогу и отмечали все сколько-нибудь значимые события.
— Пошли-ка быстрей, обедать пора! — велел Полю Станислас. Мальчик соскользнул с насыпи, и они пошли к дому все вместе — одному семь, другому четырнадцать, третьему двадцать один.
Потом Иосиф помогал профессору паковать книги — целых два чемодана, небольшая библиотечка по истории средних веков. Но Иосиф любил книги читать, а не укладывать в чемоданы. Однако его попросил помочь сам профессор. Не Томас. «Вы не поможете мне уложить книги?» — сказал он. Ничего не поделаешь, хотя такая работа была совсем ему не по нраву. Он с отвращением разбирал книги и стопку за стопкой складывал в ненасытные железные сундуки; сам профессор работал энергично и увлеченно, баюкая инкунабулы, точно младенцев, с каждым томом обращаясь ловко и с любовью. Потом опустился на колени, запер чемоданы и сказал:
— Спасибо, Иосиф! Теперь все. — И опустил бронзовые скобы, словно подводя итог их летних трудов. Да, теперь действительно все. Иосиф сделал за это время удивительно много, он даже не рассчитывал на такие результаты, но теперь делать было больше нечего. И он, безутешный, поплелся в тень Четырех Вязов. Оказалось, что там уже сидит жена профессора, в которую он успел буквально влюбиться.
— Я стащила ваш стул, — дружелюбно сообщила она, — а вы садитесь прямо на травку. — Честно говоря, там было больше мусора, чем травы, но все здесь называли это «травкой», и он подчинился. — Мы с Розой обе совершенно без сил, — продолжала она, — даже думать о завтрашнем дне не хочется. Самое худшее — последний день перед отъездом: постельное белье, столовое серебро, все тарелки вверх дном, мышеловки повсюду… да еще вечно какая-нибудь кукла потеряется, а найдется только после того, как все будут несколько часов искать ее, переворачивая кучи белья… потом еще нужно повсюду подмести, все запереть… Ох, до чего же я ненавижу эти сборы! И ненавижу запирать этот дом! — Голос у нее звучал легко, чуть жалобно, словно крик птицы в роще; как и птице, ей было безразлично, слышит ли кто-нибудь ее жалобы и как звучит ее голос. — Надеюсь, вам здесь понравилось? — спросила она.
— Очень, баронесса!
— Вот и хорошо. Я понимаю, Северин совершенно замучил вас работой. И все мы такие неорганизованные — и мы сами, и наши дети, и наши гости. Кажется, здесь каждый существует сам по себе, а вместе мы собираемся только перед отъездом… Надеюсь, вас это не очень огорчало?
Действительно, все лето приливами и отливами дом заполняли волны бесконечных гостей: друзья детей, друзья баронессы, друзья, коллеги и соседи барона, просто охотники на уток, ночевавшие в пустующей конюшне, поскольку все свободные комнаты оказывались заняты польскими медиевистами и приятельницами баронессы с целыми выводками детей, и самый младший из них каждый раз умудрялся свалиться в пруд. Ничего удивительного, что сейчас здесь казалось так тихо, по-осеннему тихо: большая часть комнат пустовала, поверхность пруда была зеркально гладкой, холмы тихи, нигде не слышался смех.
— Мне было очень приятно
познакомиться с вашими детьми, — сказал Иосиф.
— Особенно со Станисласом. — Тут он покраснел как свекла: именно Станислас то и не был ее сыном. Она улыбнулась и сказала чуть смущенно:
— Станислас очень милый. А в четырнадцать лет… Четырнадцать лет — такой опасный возраст! Вдруг сразу начинаешь понимать, на что способен ты сам и какова будет плата за это… Однако Станислас очень сдержанный и милый мальчик. Зато Поль и Зида в его возрасте пойдут напролом, с ними тяжело придется. Дело в том, что Станислас познал вкус утраты таким юным… А когда вы собираетесь сдавать экзамены в духовную семинарию? — спросила она, мгновенно меняя тему.
— Через месяц, — отвечал он, потупясь.
— И вы совершенно уверены, что предназначены именно для такой жизни? — снова спросила она.
Помолчав, по-прежнему не глядя ей в глаза и видя перед собой только сверкающую белизну ее платья и золотисто-зеленую листву, он промолвил:
— А почему вы спрашиваете об этом, баронесса?
— Потому что меня ужасает даже сама идея целибата! — воскликнула она, и ему захотелось вытянуться на земле, пестреющей листьями вяза, похожими на легкие овальные золотые монетки, и умереть.
— Бесплодие, — сказала она. — Видите ли, человеческое бесплодие — вот чего я боюсь смертельно и считаю своим врагом. Я знаю, у людей есть и другие враги, но бесплодие я ненавижу сильнее всего, ибо оно делает человеческую жизнь менее значимой, чем смерть. Да и союзники его поистине чудовищны: голод, болезни, уродства, извращения, чрезмерные амбиции, чрезмерно развитый инстинкт самосохранения… Господи, и что только делают там эти дети?
За обедом Поль попросил Станисласа еще разок сыграть в «гибель богов», Станислас согласился, и вот теперь «великанская зима» с ревом обрушивалась на стены крепости Асгард — берега глубокой дренажной канавы за прудом. Один швырял молнии со стен, а Тор…
— Станислас! — окликнула мальчика баронесса, приподнимаясь со своего стула, тонкая, вся в белом. Иосиф смотрел на нее во все глаза. — Не позволяй, пожалуйста, Зиде размахивать молотком!
— Я же Тор, я же Тор, я должна иметь молот! — затараторила Зида. Станислас быстро вмешался в игру и велел Зиде, опустившейся на четвереньки, приготовиться к очередному штурму крепости.
— Она теперь будет великим Волком Фенриром, — крикнул Станислас матери; в его звонком голосе, всколыхнувшем жаркую тишину послеобеденной поры, слышался чуть заметный смех. Мрачный и суровый Поль, прищурившись, сжал свой посох и лицом к лицу встретил атакующие армии Хеля, царства мертвых.
— Пойду-ка я приготовлю всем лимонад, — сказала баронесса и ушла, оставив Иосифа в одиночестве, и он наконец упал ничком на землю, наповал сраженный той невыносимой нежностью и тоской, которые эта женщина пробудила в нем и которые никак не хотели вновь засыпать. А тем временем у пруда Один бился с армией царства мертвых на залитых солнцем стенах небесного города Асгарда.
На следующий день все в доме было разрушено, нерушимо стояли лишь сами его стены. Внутри громоздились бесконечные ящики и коробки, куда-то спешили люди с вещами. От всеобщей суматохи удалось спастись только Томасу и Зиде — Томас соображал медленно и к тому же считался жителем Асгарда всего лишь около года, так что он убрался подметать двор от греха подальше, а Зида весь день проторчала в Маленькой Роще. В пять Поль пронзительно завопил, высунувшись из окна своей комнаты:
— Машина! Машина! Машина едет!
Огромное черное такси образца 1923 года со стонами въехало во двор, пробираясь точно ощупью — его слепые, выпуклые глаза-фары сверкали в закатных лучах солнца. Коробки, ящики, гигантский синий чемодан и два железных сундука были погружены в машину Томасом, Станисласом, Иосифом и водителем такси, жителем соседней деревни, под неусыпным наблюдением барона Северина Эгидескара, заведующего кафедрой медиевистики в университете Краснея.
— А завтра в восемь вы захватите нас и все остальное и отвезете на станцию, хорошо?
Водитель такси, который в течение семи лет отвозил их на станцию в первых числах сентября, молча кивнул. Потом такси, нагруженное немалым имуществом целых семи человек, потащилось прочь, скрипя на спусках ручкой переключения скоростей в усталой тиши раннего ясного вечера, а дом так и остался разоренным, с опустевшими комнатами.
Теперь уже постарался удрать сам барон. Раскуривая трубку, он неторопливо, с оглядкой, точно человек, спасающийся бегством, двинулся мимо пруда, мимо Томасова загона для кур, вдоль изгороди, через которую перевешивались переросшие ее сорняки, качая тяжелыми макушками, вниз по залитой солнцем дороге к рощице плакучих берез, называемой также Маленькой Рощей.
— Зида, ты где? — окликнул он, останавливаясь в легкой прогретой тени. Тишину вокруг нарушало лишь неумолчное стрекотание кузнечиков в полях. Ответа не последовало. Окутанный облаком голубоватого трубочного дыма, он прошел еще немного и снова остановился, заметив корзину для яиц, украшенную множеством крошечных лоскутков и кусочков цветной бумаги. На поросшей мохом, сильно истоптанной лужайке рядом с корзинкой валялась деревянная вешалка для пальто. В одной из ячеек корзинки виднелась яичная скорлупа, покрашенная золотой краской, в другой — кусочек кварца, в третьей — корочка хлеба. Чуть поодаль лежала и крепко спала босая маленькая девочка, задрав попку выше головы. Барон присел на мох с нею рядом и снова раскурил свою трубку, созерцая корзинку для яиц. Потом пощекотал девочке пятки. Она хрюкнула от смеха, начиная просыпаться, и барон взял дочку на руки.
— Что это такое?
— Ловушка. Чтобы единорога поймать. — Она смахнула со лба локоны, в которых запутались опавшие листья, и поудобнее устроилась у отца на коленях.
— Ну и как, поймала?
— Нет.
— А хоть одного видела?
— Мы с Полем нашли следы.
— С раздвоенным копытцем, да?
Она кивнула. Стараясь не рассмеяться, барон вспомнил соседского поросенка, который, гуляя среди березовых стволов, казался серебристым.
— Говорят, их могут поймать только девушки, — шепнул он Зиде. А потом оба долгое время молчали, сидя совершенно неподвижно.
— Наверное, ужинать пора, — сказал барон. — Вот только все скатерти, ножи и вилки уже упакованы. Интересно, как же мы будем есть?
— Руками! — Зида моментально вскочила и бросилась к дому.
— Надень туфли, — строго велел он. Девочка вернулась и неохотно всунула свои маленькие, холодные, грязные ножонки в кожаные сандалии, а потом с криком «Скорей, папа!» умчалась. Он быстро и в то же время как бы колеблясь двинулся за ней, стараясь не отставать; он шел среди длинных неясных теней берез, вдоль ограды, мимо загонов для кур и сверкающего пруда — шел сдаваться в плен.
Потом все уселись прямо на землю под Четырьмя Вязами. На ужин была ветчина, пикули, холодные жареные баклажаны, черствый хлеб и терпкое красное вино. Листья вяза, словно легкие монетки, падали вниз, прилипая к хлебу. Чистое, ясное закатное небо отражалось в пруду и в стаканах с вином. Станислас и Поль только что занимались борьбой, так что к ломтикам ветчины прилипли комочки земли, которые баронесса и Роза, шутливо причитая, все пытались смахнуть. Потом мальчишки умчались к Большому Утесу — запускать машинки через туннель и обсуждать, сильны ли будут разрушения, вызванные грядущими зимними дождями. Потому что дожди непременно начнутся. И все те девять месяцев, что они проживут в разлуке с Асгардом, дождь будет молотить по дорогам и склонам холмов, так что туннель скорее всего разрушится. Станислас на минутку поднял голову, думая о том, как выглядит Дуб в зимнее время — он ни разу не видел его зимой, и ему казалось, что тогда корни огромного дерева, обхватывая, наверное, весь земной шар, жадно пьют темную дождевую воду, скопившуюся под землей. Зида уже дважды прокатилась вокруг дома верхом на единороге, громко вопя от радости, ибо ужин — под открытым небом, прямо на траве, когда можно есть руками и сидеть до первой звезды (которая видна, только если как следует прищуриться), загорающейся над высокими полями в сумерках. После этого, еще громче вопя от злости, Зида была унесена Розой в постель, однако заснула мгновенно. Одна за другой высыпали яркие звезды. Один за другим представители младшего поколения отправлялись спать. Ушел и Томас, унеся последние полбутылки, и долго пел хриплым голосом в дорийском ладе у себя над конюшней. Под вязами остались только сам барон и его жена. В ночном осеннем небе над ними светились желтые листья и звезды.
— Уезжать не хочется, — прошептала она.
— Мне тоже.
— Давай отошлем книги и одежду в город, а сами останемся здесь без них…
— Навсегда, — закончил он; но этого себе позволить они не могли. В соблюдении времен года лежал порядок, который был этим людям жизненно необходим. Они еще долго сидели рядышком, как двадцатилетние влюбленные. Потом барон встал и сказал:
— Пойдем, уже поздно, Фрейя. — И они двинулись сквозь тьму к дому, вошли в него и закрыли за собой дверь.
Солнечным ранним утром, уже одетые в пальто и шляпы, все прямо на крыльце напились горячего молока и кофе, заедая его черствым хлебом.
— Машина! Машина едет! — крикнул Поль, роняя свой кусок в грязь. Скрипя коробкой передач, чуть посверкивая фарами, подъехало такси и остановилось во дворе. Зида уставилась на него, как на врага, и расплакалась. До конца храня верность лету и начатым важным делам, она была унесена в такси на руках и всунута на сиденье головой вперед. При этом она не переставала вопить: «Не поеду! Не желаю я никуда ехать!» Поскрипывая и постанывая, такси тронулось с места. Голова Станисласа тут же высунулась из правого переднего окна, голова баронессы — из левого заднего, а красная злая физиономия Зиды прижалась к овальному заднему окошку; все трое видели, как Томас махал им на прощанье, стоя на солнышке под белыми стенами Асгарда, окруженного холмами. Поль доступа к окошку не имел, однако мысли его уже были заняты совсем иным: поездом, дорогой, и он уже видел — на том конце ленты дыма из паровозной трубы и сверкающих рельсов — горящие свечи в темной, высокой столовой; изумленные вытаращенные глаза лошадки-качалки в углу чердака; мокрые от дождя осенние листья над головой по дороге в школу; серую улицу, словно ставшую короче от холода и туманных сумерек, в которых уже виден далекий веселый свет декабрьских фонариков.
Однако все это было очень давно, почти сорок лет тому назад. Не знаю, бывает ли так теперь, хотя бы в воображаемых странах.
Две задержки на Северной линии
Глава 1
По пути в Парагвананзу
Этой весной река сильно разлилась, затопив железнодорожную насыпь на всем протяжении от Брайлавы до Краснея. Двухчасовая поездка растянулась на полдня. Поезд переходил с одного пути на другой, подолгу стоял, медленно передвигался от одной деревни до прилегающей к ней следующей, через холмы провинции Мользен под неутомимым проливным дождем. Из-за дождя сумерки наступили раньше обычного, но сквозь полумрак виднелись чертополох, жестяные крыши, отдаленный сарай, одинокий тополь и тропинки, ведущие к вырисовывающейся в наступающей темноте ферме безымянной деревни, находящейся где-то к западу от столицы. Внезапно, через пятьдесят минут ожидания и неизвестности, сумрачный пейзаж за окном заслонило стремительное движение чего-то темного.
— Это товарный! Скоро поедем, — сказал моряк, который знал все на свете.
Семья из Месовала возликовала. Когда тропинки, чертополох, крыши, сарай и дерево появились снова, поезд действительно начал двигаться, и постепенно, равнодушно и медленно унылый пейзаж навсегда остался позади в дождливых сумерках. Семья из Месовала и моряк поздравили друг друга.
— Теперь, когда мы снова тронулись, самое большее еще полчаса — и мы наконец приедем в Красной.
Эдвард Орте снова открыл книгу. Прочитав страницу или две, он поднял голову. За окном почти совсем стемнело. Где-то вдалеке сверкнул и пропал свет фар одинокой машины. В темноте окна, под зелеными жалюзи на фоне мерцающего дождя Эдвард увидел отражение своего лица.
Он посмотрел на это отражение с уверенностью. В двадцать лет Эдвард невзлюбил свою внешность. В сорок — смирился и принял ее. Глубокие морщины, длинный нос, длинный подбородок — вот каков Эдвард Орте; он смотрел на отражение как на равного, без восхищения или презрения. Но форма бровей напомнила Эдварду, как часто люди говорили ему: «Как ты похож на нее», «У Эдварда мамины глаза». Как глупо — будто эти глаза не принадлежат ему, будто он не может претендовать на то, чтобы видеть мир самому. Тем не менее во вторые двадцать лет жизни он взял от этого мира все, что хотел.
Несмотря на различные пересуды и неудачное начало этого путешествия, Эдвард знал, куда едет и что случится. Брат Николас встретит его на Северной станции, повезет на восток через омытый дождем город в дом, где Эдвард родился. Мать поприветствует его, сидя в постели под розовой лампой. Если на сей раз дело обошлось легким приступом, мать будет выглядеть довольно неплохо и говорить тихим голосом; если же приступ оказался достаточно серьезным, чтобы напугать ее, она поведет себя неестественно оживленно и весело. Все зададут друг другу вопросы и ответят на них. Потом состоится ужин внизу, беседа с Николасом и его молчаливой женой, а потом Эдвард отправится спать, слушая дождь за окном спальни, в которой спал первые двадцать лет своей жизни. Почти наверняка сестра Реция убежит рано: вспомнит, что оставила в Соларии трех маленьких детей, и в панике спешно отправится домой, так же неожиданно, как уехала оттуда. Николас никогда не присылал Эдварду телеграмм, а просто звонил по телефону и зачитывал докторский отчет об очередном приступе. Зато Реция преуспела в наведении паники. Она избегала ухаживания за больной матерью и лишь время от времени высылала Эдварду телеграммы «ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО», о драматическом смысле которых оставалось только догадываться. Матери вполне хватало визитов Николаса дважды в неделю, и она не имела ни малейшего желания видеть Эдварда или Рецию. Незваные гости могли разрушить привычный распорядок дня и заставляли мать тратить накопленную энергию на показной интерес в делах детей, которые на самом деле уже давно не интересовали ее. Но Реция настолько нуждалась в соблюдении общепринятых традиции и приличий, что регулярно для достижения этого задействовала самые крайние методы. Когда кто-то получает телеграмму «ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО» и дело касается больной матери, он приезжает. Для определенных ходов в шахматах есть лишь определенные реакции. Эдвард Орте, более сдержанный и здравый сторонник общепринятых приличий, подчинял свою волю правилам без слова жалобы. Но все это напоминало ему игру в шахматы без доски, это катание по рельсам взад и вперед: все та же бессмысленная поездка три раза за два года — или за три года с первого приступа? — настолько бессмысленная, напрасная трата времени, что Эдвард даже не думал о том, едет ли поезд всю ночь, как ехал весь день, передвигаясь по холмам с одной запасной ветки на другую, не по основной колее, и не приближаясь к цели; Эдварду было абсолютно все равно.
Когда он сошел с поезда и во влажной сумятице, царящей на платформе, отблесках фонарей и отголосках Северной станции обнаружил, что никто его не встречает, то почувствовал себя разочарованным, обманутым. Хотя чувство было неуместным. Николас просто не выдержал бы пять часов ожидания, даже ради того, чтобы встретить брата. Эдвард сначала хотел позвонить домой и сообщить, что прибыл, а затем сам удивился, почему ему пришла в голову такая мысль. Все из-за дурацкого разочарования, что его никто не встретил. Он вышел из вокзала, чтобы поймать такси. На автобусной остановке возле стоянки такси ждал автобус
N41; Эдвард без промедления сел в него. Как давно — наверное, десять лет назад… пятнадцать… нет, еще больше — он ездил на автобусе через город по шумным улицам Краснея, темным и мерцающим в сумерках мартовской ночи. Свет уличных фонарей, отражавшийся в реках черного асфальта, напомнил Эдварду о временах, когда студентом он возвращался с поздних занятий в университете. 41-й остановился на старой остановке у подножия холма, и вошли двое студенток — бледные, серьезные девушки. Вода в Мользене, бегущем вдоль каменной набережной под старым мостом, поднялась очень высоко; все пассажиры вытягивали шеи, чтобы увидеть реку, и кто-то сказал за спиной Эдварда:
— Вода уже подбирается к складам за железнодорожным мостом.
Автобус стонал, покачивался, останавливался, кренясь на пути через длинные прямые улицы Трасфьюва. Орте надо было выходить на последней остановке. Автобус с единственным пассажиром в очередной раз со вздохом захлопнул двери и поехал дальше, оставляя за собой тишину еще не спящего пригорода, провинциальную тишину. Дождь шел не переставая. На углу около фонаря стояло молодое дерево, вздрагивающее под ярким светом, который пронзал его свежие зеленые листья. В путешествии не предвиделось более ни задержек, ни изменений. Последние полквартала до дома Орте прошел пешком.
Он тихонько постучал, открыл незапертую дверь и вошел. По непонятным причинам холл был ярко освещен. В гостиной звучал чей-то громкий, незнакомый голос. Может, там какая-то вечеринка? Неужели вечеринка? Эдвард снял пальто, чтобы повесить его на вешалку. В этот момент в холл вошел мальчик, попятился от неожиданности, остановился и посмотрел на вошедшего ясными смелыми глазами.
— Ты кто? — спросил Орте, и когда мальчик задал такой же вопрос и получил ответ, сказал: — Меня тоже зовут Эдвард Орте.
На мгновение у Эдварда закружилась голова. Он очень боялся таких внезапных головокружений, когда появлялось ощущение, будто он летит в разверзнувшуюся под ногами бездну.
— Я твой дядя. — Эдвард стряхнул со шляпы капли дождя и повесил ее. — А где твоя мама?
— В комнате с роялем. С организаторами похорон. — Мальчик продолжал глазеть на Эдварда, изучая его так спокойно, словно находился в собственном доме.
«Если он не отойдет в сторону, я не смогу пройти в комнату мимо него», — подумал Орте.
— О, Эдвард! — воскликнула Реция, входя в холл и видя брата. — Ах, бедный Эдвард! — И внезапно она разрыдалась.
Реция потянула Эдварда за собой и подвела к Николасу, который мягко и серьезно пожал брату руку и сказал ровным голосом:
— Ты уже уехал. Мы не могли дозвониться до тебя. Очень быстро, гораздо быстрее, чем ожидалось, но совершенно безболезненно в конце…
— Да, я понимаю, — ответил Орте, держа брата за руку. Под ним снова словно разверзлась пропасть. — Поезд… — пробормотал он.
— Почти ровно в два часа, — сказал Николас.
— Мы весь день звонили на станцию, — сказала Реция. — Вся железная дорога выше Ариса затоплена. Бедный Эдвард, ты, наверное, совершенно измучился! И не знал весь день, весь день! — Слезы текли по ее лицу так обильно и легко, как дождь за окнами поезда.
Прежде чем пойти наверх и увидеть мать. Орте собирался задать Николасу несколько вопросов: был ли последний приступ на самом деле серьезным? принимает ли мать все те же лекарства? тяжелой ли ангиной она переболела? Эдвард все еще хотел задать эти вопросы, на которые пока так и не получил ответа. Николас же продолжал рассказывать ему о смерти матери, хотя Эдвард и не спрашивал, как все случилось. От долгого путешествия в голове его все еще царила какая-то неразбериха. Головокружение почти прекратилось, бездна закрылась, и он отпустил руку Николаса. Реция вертелась рядом, улыбаясь и плача одновременно. Николас выглядел напряженным и усталым, глаза его казались огромными за стеклами толстых очков. «А как, интересно, — подумал Эдвард, — выгляжу я сам? Чувствую ли горе?» Он заглянул в себя с опасением, но не нашел ничего, кроме продолжающегося неприятного легкого головокружения. Нет, горем это не назовешь. Не должен ли он хотеть плакать?
— Она наверху?
Николас рассказал о новых правительственных правилах, которые, по его мнению, являются наиболее разумными и деликатными. Тело отвезли в крематорий Восточного района; пришел человек с бумагами, чтобы договориться о церемонии прощания и церковной службе, и когда приехал Эдвард, они как раз уже все согласовали. Все вышли из холла, прошли в гостиную, представили Эдварду работника похоронного бюро. Затем Николас пошел проводить этого человека. Это его голос слышал Орте, когда вошел в дом. Громкий голос и яркие огни, как на вечеринке.
— Я встретил, — сказал Эдвард Орте сестре, немного помедлив, — маленького Эдварда. — И пожалел о сказанном, потому что племянник, названный в его честь, не мог быть этим мальчиком, который выглядел гораздо старше и который сказал, что фамилия его Орте. Или нет? Ведь фамилия должна быть Перен: Реция после замужества взяла эту фамилию. Но кто же тогда этот мальчик?
— Да, я хотела, чтобы дети тоже приехали, — говорила Реция. — Томас подъедет завтра утром. Надеюсь, дождь прекратится — дороги, наверное, ужасные.
Эдвард обратил внимание на ее ровные, цвета слоновой кости зубы. Ей уже — о, невероятно! — тридцать восемь. Он бы не узнал ее, встретив на улице. Реция посмотрела на брата серо-голубыми глазами.
— Ты устал, — сказала она тоном, который обычно раздражал Эдварда. Можно ли говорить людям, как они себя чувствуют?
Но сейчас эти слова понравились ему. Он не ощущал усталости, но, если выглядел устало или устал, сам того не замечая, наверное, у него все же было чувство, о котором он не знал, соответствующее чувство.
— Иди поешь чего-нибудь, этот человек ушел. Ты, наверное, умираешь от голода! Дети едят на кухне. О, Эдвард, все так странно! — сказала Реция, проворно увлекая его за собой.
На кухне было тепло и полно народу. Повар-домоправительница Вера, которая работала очень давно, хотя появилась в доме после того как уехал Эдвард, что-то приветственно пробормотала. Она расстроена, это понятно: сможет ли пожилая женщина с больными ногами найти новую работу? Конечно, Николас и Реция позаботятся о ней. Все дети Реции сидели за столом: мальчик, которого Эдвард встретил в холле, старшая сестра и малыш, которого все называли Рири, когда Эдвард видел его в последний раз, и к которому теперь все обращались по-взрослому: Рауль. Еще на кухне находилась кузина мужа Реции, которая жила с ними, — невысокая, угрюмая девушка лет двадцати. Жена Николаса Нина вышла из-за стола, чтобы поприветствовать Эдварда и обнять его. Когда она заговорила, Эдвард вспомнил о том, о чем не думал с тех пор, как получил письмо Николаса около двух недель назад. Николас и Нина усыновили ребенка — писал ли Николас, что это мальчик? Усыновление показалось Эдварду столь показным и ненужным поступком, что он еще раз внимательно перечитал письмо и подумал, что дело это неприятное и весьма смущающее, но сейчас не помнил, что именно написал Николас. И как-то неудобно спрашивать об этом Нину. Старушка Вера, пытаясь продемонстрировать свою нужность, настойчиво предлагала Эдварду чаи, и ему пришлось сесть вместе со всеми в ярко освещенной шумной кухне, немного поесть и выпить чая.
Постепенно шум затих. Никто особо с Эдвардом не разговаривал; Нина смотрела на него своими печальными, темными глазами. Эдвард с облегчением начал понимать, что его обычно серьезное выражение лица и поведение могут быть приняты за хорошее владение собой и послужат щитом, за которым можно спрятать от самого себя отсутствие печали, спрятать нечто не существующее в пустой душе.
В завершение всего Эдварда не пустили спать в его комнате. Вообще все прошло не так, как он ожидал. Дом был переполнен. Оказалось, что с момента усыновления Николас и Нина отказались от квартиры в Старом квартале, переселились обратно в родительский дом и собирались жить там до тех пор, пока у них не появится шанс переехать в большую квартиру. Они жили в старой комнате Эдварда, а их ребенок — в бывшей комнате Николаса, Реция и трое ее детей устроились в детской, кузина — на тахте в гостиной, и для Эдварда не осталось ничего, кроме кожаной тахты, стоящей внизу, на застекленной веранде. Только комната матери пустовала. Эдвард так и не зашел туда. Он не ходил наверх. Реция принесла вниз шерстяные пледы, потом стеганое одеяло и наконец теплую пижаму Николаса.
— Здесь ужасно, бедный Эдвард, ужасно. Если ты наденешь вот это, то не замерзнешь. Ах, как все странно! — Она заплела волосы на ночь и надела розовый шерстяной халат. Реция выглядела доброжелательной, участливой, по-матерински прекрасной; ее лицо светилось, словно она слушала музыку. «Вот оно, горе», — подумал Эдвард.
— Все нормально, — сказал он.
— Но у тебя всегда по ночам мерзли ноги. Ужасно, что пришлось устроить тебя здесь. Не знаю, что мы будем делать, когда приедет Томас. О, Эдвард, мне бы так хотелось, чтобы ты женился, — ненавижу, когда люди одиноки! Я знаю, тебе все равно, но мне — нет. Занавески не закрываются, что ли? Ах, Господи Боже мой, я оборвала кайму. Что ж, здесь нечего закрывать, кроме дождя. — В глазах Реции стояли слезы. Она обняла Эдварда, и на мгновение его окутали ее тепло и сила. — Спокойной ночи! — сказала она и вышла, закрыв за собой стеклянную занавешенную дверь. Эдвард услышал голоса сестры и кузины в другой комнате.
Реция пошла наверх. В доме стало тихо. Эдвард поправил пледы, стеганое одеяло и лег на кушетку. Он читал книгу, за которую взялся в поезде: долгосрочный проект относительно целей и распределения фондов департамента, который в мае попадет в распоряжение их бюро. Дождь стучал в окно над кушеткой. У Эдварда замерзли руки. Внезапно в соседней комнате погас свет, стеклянная занавешенная дверь потемнела, и свет от маленькой настольной лампы показался очень тусклым. В соседней комнате спала кузина. Дом был полон неизвестных Эдварду людей. Ему было странно лежать на этой холодной кушетке, ночью, в дождь. Обычно на ней спали только летом, в жару. Поездка оказалась не такой, в какую он отправился. Приехать домой — вот оно, правильное направление, которое сейчас потеряло всякий смысл и окончилось в странном месте. Неужели беспорядок — это то, что все называют горем? «Она умерла, — подумал Эдвард. — Она умерла, а я лежу, удобно оперевшись на подлокотник кушетки, держу на согнутых под одеялом коленях открытую книгу, смотрю на страницы сто сорок четыре, сто сорок пять и жду собственной реакции на случившееся. Я уехал из дома так давно!» Сто сорок четыре, сто сорок пять… Взгляд Эдварда вернулся к книге. Он дочитал до конца главу. Часы показывали полтретьего ночи. Эдвард выключил лампу на бронзовой подставке и свернулся калачиком под одеялами, слушая, как дождь равномерно стучит в окно…
— Я еду в Парагвай, — сказал Эдвард моряку, расстроившись, что никто его об этом не спрашивает. — В Парагвананзу, столицу страны.
Через долгое-долгое время Эдвард встретил моряка около путей, затопленных половодьем. А когда, преодолев ужасные препятствия, он добрался до цели, до Парагвананзы, там оказалось все то же самое, что и здесь, дома.
Глава 2
Метемпсихоз
Когда пришло письмо от адвоката, Эдвард Руссе сначала даже не задумался о завещанном ему доме и лишь попытался выловить из потаенных глубин памяти хоть какие-то обрывки воспоминаний о внешности, характере или хотя бы походке брата маминого отца — двоюродного деда. Старик счел нужным оставить Эдварду дом в Брайлаве или сделал это по причине малочисленности наследников. Эдвард всю жизнь прожил в Красное; когда ему исполнилось девять или десять лет, он ездил вместе с мамой навестить родственников, живущих на севере, но из всего путешествия теперь мог вспомнить лишь тривиальные вещи: курицу с выводком цыплят на заднем дворе у корзины, человека, который громко пел, стоя на углу улицы у подножия огромного (как тогда показалось Эдварду) темно-синего холма. И от дедушки, которому принадлежал дом, и от его брата, который дом унаследовал, в памяти остались лишь громкие старческие голоса и ощущение неуютности, царящее в темных комнатах. Глуховатый старик, какой-то чужой и совершенно не похожий на Эдварда и его родственников. Висящие на печи скрещенные мечи с плетеными рукоятками и гравированными лезвиями — шашки. Эдвард никогда раньше не видел шашки. Ему не разрешали играть с этими красивыми мечами. Даже сам старик никогда не притрагивался к ним, никогда их не полировал. Если бы Эдварду разрешили взять шашки, он бы начистил потемневшие лезвия. А сейчас ему было стыдно за неблагодарность своего ума, в котором сохранились лишь воспоминания о детской зависти — и ни единого мимолетного впечатления о человеке, который подарил ему дом, — даже если на самом деле Эдварду дом вовсе не нужен и он предпочел бы, чтобы старик не вспоминал о нем, неблагодарном внучатом племяннике, который совершенно не помнил своего двоюродного деда.
Что ему делать с этим домом в Брайлаве? Что ответить на письмо адвоката? Эдвард работал в бюро жилищного строительства, получал скромную зарплату, никогда не связывался ни с какими адвокатами и вообще остерегался их. Его жена придумала бы, как ответить на письмо; она обладала чутьем на такие вещи и вдобавок хорошими манерами. Представив, что написала бы Елена, Эдвард накропал короткое, вежливое послание адвокату, отправил его, а затем фактически сразу забыл и о двоюродном деде, и о наследстве, и о собственности в Брайлаве. Он был сильно загружен, поскольку взял на себя дополнительно дело реорганизации и упрощения ведения отчетов, в котором хорошо разбирался. Окружающие сказали бы, что Эдвард стремится потерять себя в работе, но ему всегда нравилась его работа, нравилась до сих пор, и он знал, что не может в ней потеряться. Напротив, он постоянно находил себя в работе, в выполненных заданиях, видел себя в коллегах. На каждом углу улицы, ведущей к бюро, он встречал самого себя, возвращающегося с работы домой на улицу Сайдре, где его ждала Елена, преподающая в колледже прикладных искусств, ждала каждый день, кроме вечеров по средам, когда она вела занятия с четырех до шести.
Дни Эдварда всегда перемежались такими тире, разделяясь не на периоды, а на перерывы между ними, паузы, пустые места, в которых он останавливал сам себя, чтобы не оканчивать мысль, чтобы даже не пытаться завершить мысли, у которых больше нет конца. Так же было и в этом случае: Елена не вела занятия с четырех до шести по средам, потому что она умерла от аневризмы сердца три месяца назад. И всегда мысли Эдварда вели к одному и тому же, останавливались, уплывали в бесконечность и там разрушались, как в печи крематория.
Эдвард знал, что справился бы со своим несчастьем быстрее, без этих пауз, не думая постоянно об одном и том же, если бы хорошо спал. Но теперь он мог спать не более двух или трех часов, а потом просыпался и лежал без сна столько же, сколько ему удалось проспать. Он попробовал пить, потом принимал снотворное, которое порекомендовал друг. И то и другое принесло ему пять часов сна, два часа кошмаров и день болезненного отчаяния. Тогда Эдвард принялся читать во время ночных бодрствовании. Читал все подряд, но предпочитал историю — историю других стран. Иногда в три часа ночи он плакал, читая про Испанию в эпоху Ренессанса, и не замечал собственных слез. Он не видел снов. Все сны забрала с собой Елена, и они ушли вместе с ней уже слишком далеко, чтобы найти обратную дорогу к Эдварду. Сны затерялись, иссякли, высохли где-то в той плотной каменистой темноте, в которую ушла Елена, очень медленно, с трудом, не дыша, прокладывая путь вперед. Эдвард чувствовал, что она теперь где-то далеко, в каком-то другом измерении, которое он даже не мог себе представить.
Пришло второе письмо из Брайлавы. В конверте из толстой бумаги, тяжелом и зловещем. Покорившись судьбе, Эдвард открыл его. Письмо адвоката оказалось коротким. Сдержанно, расплывчато, в виде предложения, с должной предосторожностью адвокат сообщал, что, поскольку дела стоят на месте, Эдвард должен знать: если он решит продать дом, то получит за него хорошие деньги (учитывая профессиональную квалификацию Эдварда, адвокат полагал, что тот хорошо информирован в данном вопросе). Далее адвокат — Эдвард представил себе седовласого мужчину лет шестидесяти, чисто выбритого, с длинной верхней губой — заметил, что в северном отделении адвокатского бюро в Красное есть несколько агентов по недвижимости с хорошей репутацией, на тот случай, если Эдвард не хочет заниматься этим делом сам. Однако, поскольку в доме остались личные вещи, могут потребоваться, хотя бы ненадолго, личное присутствие наследника и его решение относительно мебели, бумаг, книг и прочих вещей, которые могут представлять собой материальную, денежную или памятную ценность. К письму прилагались какие-то документы — судя по внешнему виду, акты, описания и прочее, касающееся собственности, — и старый, довольно потертый кожаный мешочек с шестью ключами на стальном кольце.
Странно, что адвокат прислал ключи, не дождавшись очередного ответа Эдварда и не познакомившись с ним лично. Именно ключи придали конверту странную форму и сделали его тяжелым. Эдвард с любопытством вытащил их, положил на левую ладонь и стал рассматривать. Два одинаковых ключа — судя по всему, от старой, респектабельной передней двери. Других четыре оказались совершенно разными: один бы подошел, вероятно, к висячему замку, другой — с брелоком в виде бочонка — был похож на ключ от часов, третий — плоский железный — по-видимому, от подвала или кладовой, и последний — из латуни, с замысловатыми выемками — вероятно, от какой-то старой мебели, платяного шкафа или секретера. Эдвард с нарастающим беспокойством вообразил латунную замочную скважину в резном красном дереве, полки за стеклом, какие-то бумаги в полупустых выдвижных ящиках.
Эдвард попросил два выходных в конце месяца. Он поедет в Брайлаву в среду вечерним поездом, вернется в воскресенье. Достаточно. Встретится с адвокатом, увидит дом, договорится, чтобы его очистили от ненужных вещей и выставили на продажу. Заодно, делая все эти дела, он сможет посмотреть город, где родилась и провела детство его мать. А на деньги, вырученные за дом, он поедет в Испанию.
Шальные, не заработанные деньги надо тратить сразу, иначе они принесут беду. А сколько стоит поездка в Египет? Эдварду всегда хотелось увидеть пирамиды. Одетых в красные плащи, как в кино размахивающих шашками, охраняющих сокровища Египта английских солдат, численность которых уменьшалась на глазах равнодушного сфинкса, как исчезает вода, льющаяся на песок. Ему хотелось побывать в Сахаре, в этом пекле, огромной пустыне.
Поезд резко дернулся и снова остановился. В купе пока больше никого не было; молодая пара, занявшая места напротив, громко смеялась в коридоре. Они шутили с друзьями, стоящими на платформе, но наконец закричали, помахали руками и, балуясь, громко захлопнули окно, когда поезд тихо и целенаправленно заскользил вперед. Глаза Эдварда наполнились слезами, и, переводя дыхание, он тихонько всхлипнул. Приведенный в ужас отчаянным положением, в которое его ввергло всепоглощающее горе, он стиснул кулаки, закрыл глаза и притворился, что спит, хотя лицо его пылало, а дыхание не было равномерным. Он заранее проклинал Египет, чертов Египет, проклятые Толедо и Мадрид. Слезы высохли. За окном, в тихой дымке сентябрьского полудня, проплывали северные пригороды, дороги и виадуки.
Молодая пара вернулась в купе, они больше не смеялись и не разговаривали, все их оживление оказалось показным — для друзей на Северной станции. Эдвард продолжал смотреть в окно. Поезд плавно шел на север, поравнявшись с набережной Мользена. Река была широкой, спокойной, гладкой, бледно-голубая вода струилась меж низких берегов. Вдоль реки, залитые поздним солнечным светом, росли ивы. Дымка сгущалась; впереди, на севере, как будто там шел дождь, виднелась тяжелая гряда синих облаков. Эдвард рано ушел с работы, чтобы попасть на пятичасовой экспресс. Он прибудет в Брайлаву в полшестого, всю дорогу двигаясь вдоль реки. Глядя на спокойную воду, Эдвард задремал.
В четверть шестого раздался страшный шум, после чего наступила тишина. Пока Эдвард вставал с пола купе, где по непонятным причинам оказался, молодой человек пнул его в плечо.
— Осторожнее! — взбешенно крикнул Эдвард, поднимая портфель, который тоже валялся на полу.
В коридоре слышались тихие взволнованные голоса.
— Ой, ой, ой, ой, — монотонно повторяла молодая женщина.
Голоса превратились в гул, как в студенческой аудитории на перерыве; шум раздавался и в поезде, и вдоль путей: крики, восклицания, жалобы. Выяснилось, что поезд столкнулся с сенокосилкой — двигатель ее заглох на переезде — и никто не пострадал, кроме водителя косилки, который погиб. Паровоз сошел с рельсов, и до тех пор, пока из Брайлавы не придет другой паровоз, поезд будет стоять. Еще одна пауза, очередное тире, вместо очередного периода жизни — не-прибытие. Эдвард немного побродил вдоль путей под поздним сентябрьским солнцем. Другой паровоз прибыл лишь около семи часов, с юга, а не с севера, и потянул поезд назад, на запасную ветку местной станции под названием Исестно, которая даже не упоминалась в графике Северной линии Красной — Брайлава. Тем временем наступили сумерки, начался дождь, и пассажиры с нетерпением ждали, пока починят пути, пока приедет паровоз из Брайлавы и оттянет поезд обратно на основной путь. В результате Эдвард прибыл на станцию Самени в пол-одиннадцатого.
В поезде пассажиров не кормили, на мрачной станции Исестно тоже не продавали ничего съестного, но Эдвард не чувствовал голода, продвигаясь к выходу под ярко освещенными сводами похожей на пещеру станции Самени с портфелем в руке — единственным багажом, взятым в дорогу. Сойдя наконец с поезда, он чувствовал себя взволнованным. Он собирался приехать в полседьмого, найти около вокзала отель, поужинать, но сейчас ему не хотелось есть стоя в вокзальном буфете вместе с другими пассажирами. Эдвард хотел домой. Люди спешили мимо него, проходили через высокую дверь и исчезали в дождливой ночи.
— Такси?
— Пожалуй, да, — ответил Эдвард.
— Куда вам, сэр?
— Улица Каменни, четырнадцать.
— Это в районе Предгорья, — сказал водитель такси, и в памяти Эдварда всплыли название района и темно-синие скалы, нависавшие над поющим человеком, стоящим у холма.
Такси тронулось, громыхнув заляпанными грязью окнами и дверями. В машине было темно и уютно. Эдвард погружался в сон, в замешательстве заставлял себя проснуться и снова засыпал.
— Четырнадцать, вы сказали?
— Да.
— Похоже, это здесь. Вот двенадцатый дом.
Эдвард не видел номера. Но дом стоял, шел дождь, вокруг — лишь деревья и темнота. Эдвард заплатил водителю, который попрощался сухим, вежливым голосом с северным акцентом.
Три каменные ступеньки, растущие вокруг кустарники и что-то вроде ограды или решетки; номер «14» над довольно богато украшенной деревянной дверью. Странный город, странная улица, непонятно чей дом. Первый из двух одинаковых ключей подошел к замку. Эдвард открыл дверь, заглянул внутрь и поднялся на две ступеньки, оставив дверь за спиной приоткрытой, чтобы в случае чего ретироваться.
Непроглядная тьма, сухо, холодно. Стук дождя по высокой крыше. И никаких других звуков.
Эдвард нащупал выключатель справа от двери. И почувствовал, что должен сказать: «Я пришел». Кому? Он включил свет.
Передняя была гораздо меньше, чем казалась в темноте. У Эдварда сначала сложилось впечатление, что он находится в каком-то огромном, практически неограниченном пространстве, но теперь он увидел, что стоит в тихой запущенной передней старого дома в дождливую ночь. Потертая и грязноватая ковровая дорожка покрывала пол, выложенный красивыми черными и серыми плитками. Чья-то шляпа из старого войлока, шляпа двоюродного дедушки, одиноко лежала на невысоком комоде. Под потолком — люстра из желтоватого мутного стекла.
Дверь за спиной Эдварда все еще оставалась приоткрытой. Он вернулся, закрыл ее и автоматически положил ключи в карман брюк.
Ступеньки вели наверх и влево. За ними находился коридор: двери справа и в дальнем конце, обе закрыты. Справа, вероятно, гостиная, а дальняя дверь ведет на кухню. Где-то здесь должна находиться и столовая — может, по пути на кухню; именно в темной столовой Эдвард когда-то слышал громкие старческие голоса. Надо бы заглянуть в комнаты, но он очень устал. В последние несколько ночей Эдвард очень плохо спал и от этой поездки с ее волнениями, чужой смертью и долгой задержкой в пути все еще плохо себя чувствовал. Коридор — прекрасно, старая шляпа — очень хорошо, но этого было вполне достаточно. Желтоватый свет озарял ступеньки так же тускло, как и переднюю. Эдвард пошел наверх, держась за узкие, потертые лакированные перила. На верхней ступеньке он повернул, прошел по коридору к последней двери, открыл ее и включил свет. Он не знал, почему выбрал именно эту дверь и бывал ли на верхнем этаже этого дома в детстве.
Эдвард оказался в спальне, возможно, самом большом помещении дома. Может, в этой комнате когда-то спал его двоюродный дед, может, тут он и умер, если только не скончался в больнице, или это — комната его дедушки, или никто не использовал ее тридцать лет. В спальне было чисто, царил небольшой беспорядок, кровать, стол, стулья, два окна, камин. Постель застелена аккуратно и чисто, старое голубое покрывало туго натянуто. В тусклой стеклянной люстре отсутствовала лампа.
Эдвард поставил портфель у кровати.
Ванная комната находилась на другом конце коридора. Сначала Эдвард подумал, что вода отключена: труба застонала, когда он повернул вентиль. Но затем кран выплюнул ржавчину, изрыгнул потоки красной жижи, и наконец пошла чистая вода. Ему хотелось пить. Эдвард стал пить прямо из крана. Вода оказалась очень холодной, пахла ржавчиной и имела необъяснимый северный привкус.
В коридоре стоял старый книжный шкаф со стеклянными полками. Эдвард на минутку остановился возле него, но тусклое сияние лампы еле освещало названия каких-то неизвестных Эдварду книг. Он не хотел читать, а потому пошел в спальню и откинул голубое покрывало. Постель была застелена тяжелыми льняными простынями и темным одеялом. Эдвард разделся, повесил пиджак и брюки в пустой стенной шкаф, выключил свет, лег в холодную постель в темной комнате, которая казалась зловещей из-за света отдаленного уличного фонаря, мерцающего сквозь дождь, или из-за загадочных теней,
отбрасываемых листьями. Эдвард вытянулся, положил голову на твердую подушку и заснул.
Проснулся он солнечным утром, лежа на боку, глядя на скрещенные кавалерийские шашки, которые висели на печи.
«Это орудия, — подумал Эдвард, — назначение которых так же ясно, как назначение иголки или молотка. И цель их, причина существования и назначение — смерть; они сделаны, чтобы убивать людей». Слегка гравированные и до сих пор не отполированные лезвия несли смерть, фактически даже его собственную, которую Эдвард теперь видел ясно и спокойно, потому что, пока глаза его рассматривали шашки, мозг думал о том, что находится в других комнатах, которые он не видел прошлой ночью. И комнаты эти, ключи от которых лежали у Эдварда в кармане, вернут его к жизни; он попросит перевести его на работу в бюро в Брайлаве, увидит цветение вишен в горах в марте, второй раз женится. Все это будет потом, а пока хватит этой комнаты, скрещенных шашек, солнечного света; Эдвард прибыл на свою станцию назначения.
Глоток воздуха
Это волшебная сказка. О том, как люди стоят под легким падающим снежком. И что-то светится и слегка дрожит, издавая серебристый звон. Глаза сияют. Голоса поют. Люди смеются и плачут, пожимают друг другу руки, обнимаются. И что-то светится и слегка дрожит. Они живут долго и счастливо. А снег все падает на крыши домов, заметает парки, площади, реку.
Это старая история. Жил-был в далеком королевстве, в своем дворце один добрый король. Но страна его была опутана злыми чарами. И хлеба сгорали на корню, а с деревьев в лесу опадали листья, и все вокруг сохло и погибало.
Это камень. Обыкновенная брусчатка, которой вымощена площадь, раскинувшаяся на склоне холма перед старой крепостью с красноватыми стенами и почти без окон, которая называется дворец Рух. Эту площадь вымостили брусчаткой почти триста лет назад, и с тех пор по этим камням прошло множество ног — босых и обутых, маленьких детских ножек, и подкованных лошадиных копыт, и солдатских сапог; и колеса все катились и катились по этой площади, колеса повозок, тележек, карет, мягкие шины машин, гусеницы танков. И, разумеется, по ней то и дело пробегали собачьи лапы. Площадь, бывало, покрывали и кучки собачьего дерьма, и кровь, но и то и другое вскоре смывала вода, выплеснутая из ведер, или льющаяся из шланга, или упавшая с неба в виде дождя. Говорят, что нельзя полностью смыть с камня кровь, как нельзя и пропитать ею камень; на камнях не остается пятен. Часть брусчатки на нижнем краю площади Рух у входа на ту улицу, что ведет через старый Еврейский квартал к реке, раза два выковыривали, строя из нее баррикады, и некоторые из камней даже обнаружили, что умеют летать, но летали они недолго. Вскоре их вернули на прежнее место или заменили другими. Им, впрочем, это было совершенно безразлично. Человек, в которого попал летящий камень, упал, как камень, рядом с тем камнем, который его убил. А человек, которому прострелили голову, упал рядом, и его кровь залила этот камень, а может, и другой, камням-то все равно. Солдаты смыли кровь убитого, выплескивая воду из ведер, тех самых ведер, из которых пили их лошади. А через некоторое время пошел дождь. Потом выпал снег. Колокола вызванивали время — Рождество, Новый год. Какой-то танк остановился, давя камни своими гусеницами. Можно было подумать, что после такой тяжелой громадины, как танк, след непременно останется, но на брусчатке не осталось ни единой отметины. И только все эти ноги, босые и обутые, сумели за столько веков изменить эти камни, заставили их блестеть, сделали их не то чтобы гладкими, но какими-то более мягкими, что ли, точно кожа или мех животного. Ничем не запятнанный, не имеющий никаких следов, ко всему равнодушный, этот камень действительно приобрел качество вещи, которую сама жизнь очень долго носила, точно одежду. Так что это весьма могущественный камень, и тот, кто на него наступит, может полностью перемениться.
Это правдивая история. Она вошла, открыв дверь ключом, и окликнула:
— Мам? Это я, Фана. — И мать из кухни их большой квартиры крикнула ей:
— Я здесь! — И они обнялись, встретившись в кухонном дверном проеме.
— Идем же, пошли скорей!
— Но куда?
— Сегодня же четверг, мама!
— Ах да, — сказала Брюна Фабр, отступая к плите и совершая неясные жесты, словно защищающие эти кастрюли, посудные полотенца и половники.
— Ты же сама сказала!
— Но сейчас уже почти четыре…
— Мы вполне успеем вернуться к половине седьмого.
— Мне еще столько нужно прочитать — все эти тесты для продвинутых…
— Ты должна пойти, мама! Должна. Ты сама увидишь!
Только каменное сердце способно сопротивляться этим сияющим глазам, этим уговорам, этому уверенному тону…
— Идем же! — снова сказала дочь, и мать, ворча, пошла за ней.
— Только ради тебя, — сказала она уже на лестнице.
А в автобусе еще раз повторила:
— Только ради тебя. Мне это не нужно.
— Почему ты так говоришь?
Брюна ответила ей не сразу; она смотрела в окно автобуса на серый город, обступавший их со всех сторон, на мертвое ноябрьское небо, мелькавшее меж крыш.
— Ну, видишь ли, — начала она, — до того, как убили Казн, моего брата Казимира, я, наверное, могла считать, что настало мое время. Но я тогда была слишком молода. И слишком глупа. А потом они убили Кази…
— По ошибке.
— Нет, не по ошибке. Они охотились на человека, который переводил людей через границу, и упустили его. Так что им осталось только…
— Только арестовать первого попавшегося и сообщить в Центральное управление.
Брюна кивнула.
— Ему тогда было примерно столько лет, сколько тебе сейчас, — сказала она. Автобус остановился, и на этой остановке село сразу очень много народу, люди толпились в проходе. — И с тех пор, вот уже двадцать семь лет, всегда все слишком поздно. Для меня. Сперва я была слишком глупа, а потом стало слишком поздно. Теперь твое время. Я свое упустила.
— Ничего, ты сама увидишь, — сказала Стефана. — И времени еще вполне хватит, чтобы завершить круг.
А это уже История. Солдаты стоят в ряд перед дворцом с красноватыми стенами, в которых почти нет окон; их мушкеты взяты на изготовку. И прямо на солдат идут по камням молодые люди и поют:
За этой тьмой придет рассвет,
Твой вечный день наступит, о Свобода!
И солдаты стреляют из ружей. И после этого молодые люди живут долго и счастливо.
* * *
Это биология.
— Да где же все, черт побери?
— Сегодня четверг, — сказал Стефан Фабр и тут же взорвался: — Проклятье! — потому что цифры на экране компьютера опять начали прыгать и мигать. Стефан был в толстом свитере, поверх которого надел еще пальто и шарф, поскольку биологическая лаборатория отапливалась только с помощью переносного обогревателя, и если его включали одновременно с компьютером, то тут же вылетали пробки. — Между прочим, есть программы, благодаря которым это можно сделать за две секунды, — заметил он, с мрачным видом колотя по клавиатуре.
Авелин подошел, глянул на экран и спросил:
— Что это?
— Сравнительный подсчет молекул ДНК. Да я на пальцах мог бы это быстрее сделать!
Авелин, лысый, щеголеватый, бледный, темноглазый мужчина лет сорока, прошелся по лаборатории и нервно заглянул в пухлую папку с отчетами.
— Не могу я руководить университетом, пока все это продолжается! — пробормотал он. — Вообще-то я думал, что ты тоже туда пойдешь.
Фабр ввел в компьютер новые данные и спросил:
— Почему ты так решил?
— Потому что ты идеалист.
— Правда? — Фабр чуть отстранился от компьютера, потянулся, покрутил головой, разминая мышцы, и сказал: — Но я изо всех сил стараюсь не быть идеалистом.
— Реалистом стать нельзя, им нужно родиться. — Его относительно молодой собеседник сел на лабораторный табурет, долго изучал покрытую шрамами и пятнами поверхность рабочего стола и наконец заявил: — Все, все разваливается!
— Ты что, действительно так думаешь?
Авелин кивнул и сказал:
— Ты же слышал то сообщение из Праги. — Фабр тоже кивнул, но промолчал. — И на прошлой неделе… И на этой… И в следующем году будет то же… Это как землетрясение. Сыплются камни… все рушится… только что было здание, и вот его нет. Историю всегда кто-то делает. А потому я и не понимаю, почему ты здесь, а не там.
— Не понимаешь? Ты это серьезно?
Авелин улыбнулся:
— Совершенно серьезно.
— Ну, хорошо. — Фабр встал и принялся ходить туда-сюда по длинной комнате, говоря на ходу. Он казался довольно хрупким, волосы седые, но движения юношески живые, точные. — Значит, наука или политическая активность, или — или: выбирай. Я верно тебя понял? Выбор — это ведь тоже ответственность. Так что собственную ответственность я выбрал вполне ответственно. Я выбрал науку и отрекся от любой другой деятельности. Кроме ответственной научной деятельности. Они там могут менять правила сколько угодно; здесь же они менять правила не могут; а если попытаются, я окажу сопротивление. Вот оно, мое сопротивление. — Он шлепнул ладонью по лабораторному табурету и резко повернулся. — Я читаю студентам лекции. И когда я их читаю, то хожу взад-вперед, как сейчас. Итак. На чем основывается мой выбор. Я с северо-востока. Ты помнишь, что творилось в пятьдесят шестом на северо-востоке? У меня и дед, и отец были репрессированы. В шестидесятом я приехал сюда, в университет, а в шестьдесят втором моего лучшего друга, брата моей жены… Мы с ним шли по деревенскому рынку и о чем-то разговаривали, и он вдруг остановился, умолк… Его застрелили. Вроде как по ошибке. Хорошо, да? Он был музыкантом. Реалистом. Я чувствовал, что я в долгу перед ним, перед ними — понимаешь? Что я обязан жить осторожно, ответственно, делать все, что в моих силах. И самое большое, что я сумел сделать, это создать вот это, — он обвел рукой лабораторию. — Это у меня действительно неплохо получается. В общем, я по-прежнему стараюсь быть реалистом. Насколько это возможно в данных обстоятельствах, которые имеют все меньше и меньше отношения к реальной действительности. Но ведь это всего лишь обстоятельства. Те самые обстоятельства, при которых я делаю свою работу так тщательно, как только могу.
Авелин по-прежнему сидел на лабораторной табуретке, опустив голову. Когда Фабр закончил свой монолог, он кивнул, помолчал немного и спросил:
— Но хотелось бы все же знать: разве это реалистично — отделять обстоятельства от работы, как это делаешь ты?
— Почти столь же реалистично, как отделять тело от души, — ответил Фабр. Он еще раз потянулся и опять воздвигся перед компьютером. — Я хочу ввести данные этих серий в компьютер, — сказал он, и руки его легли на клавиатуру, а взгляд уперся в столбцы цифр, которые он переносил в память компьютера. Минут через пять-шесть он включил принтер и заговорил, не оборачиваясь: — Слушай, Дживан, неужели ты это серьезно? Ты действительно считаешь, что все разваливается?
— Да. Я думаю, эксперимент закончен.
Принтер скрипел и щелкал, и они заговорили громче, чтобы слышать друг друга.
— Ты хочешь сказать, у нас?
— И у нас, и везде. Они это отлично понимают там, на площади Рух. Ты сходи туда. И увидишь. Подобное ликование возможно, пожалуй, только по случаю смерти какого-нибудь тирана или провала величайшей надежды.
— Или того и другого.
— Да, или того и другого, — согласился Авелин.
Принтер зажевал бумагу, и Фабр открыл крышку, пытаясь вытащить смятый листок. Руки у него дрожали. Авелин, протянув свои ловкие и спокойные руки у него за спиной, склонился к принтеру и, заметив уголок листа, застрявшего в щели, вытащил его.
— Скоро, — сказал он, — у нас будет настоящий «Ай-Би-Эм». «Мактошин». Мечта всей жизни.
— «Макинтош», — поправил его Фабр.
— Там на все буквально пара секунд требуется.
Фабр снова запустил принтер и огляделся.
— Послушай, принципы…
Глаза Авелина как-то странно блеснули; казалось, они полны слез; он тряхнул головой и сказал:
— Слишком многое зависит от обстоятельств!
Это ключ. Он запирает и отпирает дверь в квартиру 2–1 дома № 43 на улице Прадинестраде в Старом Северном квартале города Красной. Квартира отличная, всем на зависть; там есть кухня с кастрюлями, кухонными полотенцами, ложками и прочими необходимыми вещами, две спальни, одна из которых используется и как гостиная — там стоят кресла, полно книг, письменный стол завален бумагами. Кроме того, из окон этой квартиры открывается потрясающий вид на реку Молзен, что поблескивает в просвете между двумя соседними домами. Вода в реке сейчас какого-то свинцового оттенка, и над ней высятся голые черные деревья. В квартире никого нет, и свет не горит. Уходя, Брюна Фабр заперла дверь ключом, висевшим на одном стальном кольце с ключом от ее кабинета в лицее и ключом от квартиры ее сестры Бендики в Трасфьюве, бросила ключи в свою маленькую сумочку из искусственной кожи, уже порядком обтрепанную по углам, и защелкнула замочек. У дочери Брюны, Стефаны, ключ от квартиры лежал в кармане джинсов, привязанный к плетеному шнурку вместе с ключом от ее шкафчика в дортуаре G Краснойского университета, который она закончила по специальности «Орсинийская и славянская литература» и где теперь работала над диссертацией, посвященной поэзии раннего романтизма. Впрочем, свой шкафчик она никогда и не запирала. Женщины дошли по Прадинестраде до автобусной остановки на углу, через три дома от них, и сели там на автобус № 18, который идет по бульвару Сеттентре из Северного Красноя в центр.
Зажатые множеством других вещей в тесноте дамской сумочки и в тесном и теплом кармане джинсов, ключ от квартиры и его дубликат лежат неподвижно, молча, всеми забытые. Единственное, что умеет делать ключ, это отпирать и запирать свою дверь; это его единственная функция, его единственное предназначение; у него есть некая ответственность, но нет никаких прав. Он может запереть дверь или ее отпереть. Его можно найти или выбросить.
Это история. Когда-то давным-давно, в 1830-м, в 1848-м, в 1866-м, в 1918-м, в 1947-м, в 1956 году камни летали. Они летали по воздуху, как голуби, и людские сердца — да, и сердца тоже! — были тогда крылаты. То были годы, когда летали камни, взмывали ввысь сердца и пели молодые голоса. А солдаты поднимали мушкеты и брали их на изготовку или прицеливались из винтовок или из автоматов. Они были молоды, те солдаты. И они стреляли. И камни вновь ложились на землю, и голуби падали. Есть такой красный камень, который называется «голубиная кровь»; это разновидность рубина. Те красные камни на площади Рух никогда рубинами не были; выплесни на них ведро воды или дай дождю пролиться над ними, и они снова станут серыми, как свинец, самыми обыкновенными камнями. И лишь иногда, в определенные годы, эти камни летали и превращались в рубины.
Это автобус. Он не имеет никакого отношения к волшебным сказкам, и в нем нет ничего романтического; это вещь, безусловно, самая что ни на есть реалистическая; хотя с определенной точки зрения, в принципе и даже на самом деле, автобус в высшей степени идеалистичен. Городской автобус, набитый людьми, на городской улице, в одной из стран Центральной Европы, ноябрьским днем взял да и застрял. В чем дело? О господи! Эх, черт побери! Нет, автобус не застрял; и его двигатель, как ни странно, вовсе не сломался; он просто не мог ехать дальше. Но почему? Да потому, что перед ним стоял еще какой-то автобус, а дальше — еще один и прямо на перекрестке; такое впечатление, будто остановилось все движение на свете. Никто из пассажиров этого автобуса еще никогда не слышал слова «пробка» — этого названия экзотического недуга, которым страдает загадочный Запад. В Красное не так много частных автомобилей, чтобы они могли создавать уличные пробки, даже если их водители и знают, что это такое. Там, конечно, имеются и автомобили, и немало одышливых идеалистических автобусов, но единственное, что в Красное способно остановить транспортный поток, это люди. Существует нечто вроде уравнения, суть которого за долгие годы доказали экспериментально, хотя, возможно, эти эксперименты и были недостаточно научными и объективными; тем не менее они давали неплохие результаты, отлично, надо отметить, документированные и подтвержденные повторными опытами: в этом городе не хватит людей, чтобы остановить танк. Даже в куда более крупных городах, что и было весьма доказательно продемонстрировано не далее как прошлой весной, не хватит людей, чтобы остановить танк. Однако их там вполне достаточно, чтобы остановить автобус, что они и делают. Не бросаясь на него в лоб, не размахивая знаменами и не распевая песни о
вечном дне Свободы, а просто собираясь на улицах и тем самым мешая автобусу проехать; они основываются на том предположении, что водитель автобуса не обучен ни убивать людей, ни кончать жизнь самоубийством; и, основываясь на том же предположении — благодаря которому стойко держатся или падают в прах все крупные города, — люди не дают проехать и всем прочим автобусам и автомобилям, они и друг другу преграждают путь, так что, в общем, никто особенно никуда и не движется — в физическом смысле этого слова.
— Придется нам отсюда идти пешком, — сказала Стефана, и ее мать, прижимая к себе свою сумочку из искусственной кожи, испуганно воскликнула:
— Ох, Фана, это же невозможно! Ты только погляди на эту толпу! Что это они… Они что?…
— Сегодня же четверг, мадам, — сказал какой-то крупный краснолицый мужчина, стоявший рядом с ними в проходе. Все между тем выбирались из автобуса, толкаясь и переговариваясь.
— Еще вчера я подъехала на целых четыре квартала ближе! — сердито сказала какая-то женщина, и краснолицый мужчина откликнулся:
— Ну, вчера! Сегодня-то четверг.
— Пятнадцать тысяч в прошлый раз было, — сказал кто-то, и кто-то другой высказал предположение:
— А сегодня тысяч пятьдесят будет!
— Нет, к площади нам ни за что не пробраться, даже, по-моему, и пытаться не стоит, — сказала дочери Брюна, когда они вместе со всеми вывалились из автобуса.
— Ты, главное, за меня держись и руки моей не выпускай. И ни о чем не тревожься, — заявила ей дочь, высокая, решительная молодая женщина, пишущая диссертацию о поэзии раннего романтизма, и покрепче ухватила мать за руку. — В общем-то, совершенно неважно, куда мы сумеем добраться, но хорошо было бы все же показать тебе, что творится на площади. Давай попробуем. Попытаемся обогнуть здание почтамта и пройти задами.
Однако задами, похоже, пытались пройти все. Стефана и Брюна с трудом перебрались на ту сторону улицы, то и дело останавливаясь и пытаясь увернуться от столкновений, но все же, хотя и не слишком решительно, проталкивались сквозь толпу; затем, повернув как бы против течения, поспешно нырнули в какой-то почти пустой переулок, срезали угол, пройдя через мощеный двор на задах Центрального Почтамта, и присоединились к еще более плотной толпе, которая медленно ползла по широкой улице, растекаясь во все стороны между домами.
— Вон он, дворец, видишь? — сказала Стефана; сама она уже видела его, потому что была выше матери ростом. — Он еще так далеко, что добраться туда мы сможем разве что благодаря избыточному давлению толпы. — И, решив положиться на это избыточное давление, они были вынуждены разъединить руки. Брюна сразу погрустнела и все повторяла:
— Это слишком далеко, здесь тоже вполне хорошо видно. Вон крыша дворца. Ничего ведь не произойдет, да? То есть я хочу сказать, неужели кто-то будет выступать с речью? — Думала она, правда, совсем не об этом, но ей не хотелось позорить своими страхами дочь, которой еще и на свете не было, когда камни на площади превращались в рубины. Да и говорила она очень тихо, потому что, хотя вокруг и была тесная толпа толкавшихся, толкаемых и как бы выдавливаемых на площадь Рух людей, они не особенно шумели, лишь негромко переговаривались друг с другом самыми обычными голосами. И только время от времени откуда-то из тех рядов, что были ближе к дворцу, доносились выкрики — громко звучало чье-то имя, и его подхватывало множество голосов, и оно начинало звучать громко и раскатисто, точно бьющиеся о берег волны прибоя. Затем толпа снова затихала, невнятно рокоча, как море в затишье меж набегающими валами.
Зажглись уличные фонари. Площадь Рух была освещена неярко; от старинных, украшенных литьем фонарей с двойными шарами-светильниками в воздухе разливался мягкий безмятежный свет. И в этом свете со сразу потемневшего неба на землю, кружась, падали маленькие сухие снежинки.
Снежинки таяли и превращались в капельки воды на коротких темных волосах Стефаны и на шарфе Брюны, которым она обмотала свою светловолосую, коротко стриженную голову, чтобы не мерзли уши.
Наконец Стефана остановилась, и Брюна тут же вытянулась в струнку, стараясь хоть что-то разглядеть впереди. Они стояли на самом высоком краю площади, напротив старой аптеки для бедняков, так что, вытянув шею, Брюне удалось увидеть собравшуюся на площади огромную толпу; лица людей белели в сумерках, столь же бесчисленные, как эти падающие с неба снежинки. Однако в сгущавшейся тьме, среди усиливавшегося снегопада ей не было видно никакого пути назад, домой. Ей казалось, что она заблудилась в лесу. Дворец, в стенах которого тускло светились над толпой редкие окна, был погружен в молчание. Никто оттуда не выходил и туда тоже никто не входил. Там заседало правительство; там находились бразды правления государством. Это была обитель власти, государственная силовая установка, пороховой склад государства, его величайшая бомба. Государственная мощь была как бы втиснута в эти старые красные стены и находилась там под давлением, силой загнанная туда и все копившаяся там в течение многих лет и веков, так что если теперь произойдет взрыв, то разрушительная сила его будет поистине ужасающей, способной разметать эти стены, превратив их в тучи острых каменных осколков. А здесь, снаружи, на открытом пространстве виднелись в сумеречном свете лишь мягкие беззащитные лица людей, их сияющие глаза, маленькие мягкие девичьи груди, человеческие животы и бедра, прикрытые обычной одеждой.
Брюна посмотрела вниз, на тротуар и на свои ноги. Ноги у нее уже здорово замерзли. Надо было надеть теплые сапожки, но кто же знал, что пойдет снег; да и Фана все время ее торопила. Брюна чувствовала себя настолько несчастной — замерзшей, заблудившейся, одинокой, — что чуть не плакала. Она вздернула подбородок, закусила губу, потом стиснула зубы и выпрямилась, ощущая коченеющими ногами ледяные камни брусчатки.
Послышался какой-то звук, разлетевшийся, как искры костра, и хрупкий, как эти крошечные снежные кристаллики. Толпа совершенно примолкла, лишь изредка по ней пробегала волна тихого смеха и шепота, и в воцарившейся тишине все продолжал звучать тот негромкий, непродолжительный, серебристый звон.
— Что это? — спросила Брюна, начиная улыбаться. — Зачем они это делают?
Это заседание комитета. Вряд ли вы захотите, чтобы я стала описывать заседание какого-то комитета, верно? Обычно он заседает по пятницам с одиннадцати утра в нижнем этаже министерства экономики. Однако и в одиннадцать вечера в пятницу заседание продолжается, и за этим заседанием наблюдает множество людей, миллионы людей, а все благодаря тому иностранцу с телевизионной камерой, одноглазой, с длинным рылом объектива, которая мгновенно ловит и как бы всасывает в себя все, что происходит вокруг. Этот оператор уже давно поймал в объектив высокую темноволосую девушку, которая столь красноречиво выступает в защиту некоего решения относительно возвращения в столицу некоего человека. Но миллионы телезрителей так и не поймут ее аргументации, ибо говорит она на своем родном, непонятном большинству людей языке, и никто ее речь не переводит. И все же зрители поймут, с каким наслаждением блуждает по ее молодому лицу телекамера, как бы всасывая его в себя своей вытянутой пастью и единственным глазом.
Это история любви. Прошло еще два часа, и тот телеоператор давно уже ушел, а заседание комитета все продолжалось.
— Нет, послушайте, — говорила девушка, — это серьезно. Ведь именно в такие моменты и совершаются предательства. Свободные выборы — да, конечно, но если мы сейчас не заглянем хотя бы на шаг вперед, то когда же нам удастся это сделать? И кто это сделает? Страна мы или жалкие прихлебатели, постоянно меняющие хозяев?
— Но вперед нужно двигаться постепенно, шаг за шагом, консолидируя…
— И ждать, когда плотина не выдержит и прорвется? Пороги нужно преодолевать быстро! И всем сразу!
— Но вопрос в выборе направления…
— Вот именно, в выборе, а не в бездумном следовании событиям.
— Но все события развиваются в одном направлении.
— Ну да, только направление у них обратное! Вот увидите!
— И к чему приведет развитие этих событий? К зависимости от Запада, а не от Востока, как и говорила Фана?
— Зависимость неизбежна… Нам нужно перестроиться, но не допустить оккупации…
— Черта с два — не допустить! Это будет оккупация с помощью их денег, их рынков, их ценностей — так сказать, материальная. Ты же не думаешь, что мы сможем выстоять против них? Что значит социальная справедливость по сравнению с цветным телевизором? Да мы эту битву проиграем еще до ее начала! Скажи, каковы наши теперешние позиции?
— Они такие же, как и всегда, и абсолютно непригодны для обороны.
— Он прав. Нет, серьезно. Мы действительно стоим на тех же позициях, что и всегда. Все остальные их давно покинули. Кроме нас. Они просто подхватили наши лозунги, нагнали нас, и в данный момент, только в данный момент мы и могли бы действовать. И в этой непригодной для обороны позиции наша сила. Но только в данный момент. Действовать мы можем
только в данный момент.
— Чтобы воспрепятствовать распространению среди населения цветных телевизоров? Как? Дамба уже прорвана! И поток товаров устремился сюда. Мы просто тонем в этом потоке.
— Ничего, не потонем, если правильно определим направление, и прямо сейчас…
— Но послушает ли нас Режи? Почему мы поворачиваем назад, когда нам следовало бы идти вперед? Если мы…
— Мы должны установить…
— Нет! Мы должны действовать! Свобода может быть установлена только в момент свободы…
Они кричали все одновременно охрипшими, измученными голосами. Они уже слишком давно только говорили и слушали друг друга, и пили плохой кофе, и целыми днями, неделями жили за счет одной лишь любви. Да, за счет любви; и все это были споры и ссоры людей влюбленных. Только ради любви он умоляет ее, а она гневается именно из-за любви. Все всегда делалось во имя и ради любви. Именно поэтому длинное рыло телекамеры и совалось без конца в эту грязноватую подвальную комнату, всасывая в себя подробности встречи этих влюбленных людей. Камера всегда жадно ищет любви, стремится показать истинную любовь; ведь если не сумеешь показать что-то подлинное, настоящее, то и сам не сможешь смотреть на это по телевизору; а вскоре и вовсе окажешься не в состоянии отличить нечто подлинное от тех жалких подделок, что мелькают на телеэкране, где обещают, что все можно сделать за две секунды. Но настоящие влюбленные понимают, в чем здесь разница.
Это волшебная сказка, и вы знаете, что в конце волшебной сказки, после слов о том, что они, как говорится, жили долго и счастливо, нет никакого «потом». Злые чары разрушены; верный слуга получил половину королевства в награду, а король с тех пор правил долго и справедливо. Вспомните тот момент, когда совершается предательство, и не задавайте больше вопросов. Не спрашивайте, вырастет ли снова на отравленных полях белозерная пшеница. Не спрашивайте, зазеленеют ли снова деревья в лесу той весной. Не спрашивайте, что получила в награду та девушка. Вспомните сказку о Кощее Бессмертном, чья жизнь была на конце иглы, а игла — в яйце, яйцо — в лебеде, лебедь — в орле, орел — в волке, а волк — во дворце, стены которого построены из магических камней, камней власти. Колдовство внутри колдовства! Нам еще очень далеко до того яйца, в котором находится игла, которую нужно сломать, чтобы Кощей Бессмертный смог умереть. А сказка кончается. И тысячи, тысячи и тысячи людей все стоят на вымощенном брусчаткой склоне перед дворцом. Снежинки искрами мелькают в воздухе, и люди поют. Вы знаете эту песню; это старая песня, в которой много таких слов, как «страна», «любовь», «свободная», на том языке, который вы знаете с рождения, дольше всех прочих языков. Слова этой песни заставляют один камень в мостовой отделяться от другого, слова этой песни не дают пройти танкам, слова этой песни изменяют мир, если ее споют в нужный момент нужные люди после того, как многие уже сложили головы только за то, что пели эту песню.
Тысяча дверей распахнулись в стенах дворца. Солдаты положили на землю свое оружие и запели. Злые чары были разрушены. Добрый король вернулся в свое королевство, и люди танцевали от радости на вымощенных камнем улицах города.
И мы не спрашиваем, что случилось потом. Но мы можем снова рассказать эту историю с самого начала, мы можем рассказывать эту историю до тех пор, пока не поймем ее правильно.
— Моя дочь — член Центрального комитета совета студенческой деятельности, — сообщил Стефан Фабр своему соседу Флоренсу Аске, стоя вместе с ним в очереди перед входом в булочную на улице Прадинестраде. По его голосу сложно было понять, как он к этому относится.
— Я знаю. Эррескар видел ее по телевизору, — сказал Аске.
— По ее словам, они решили, что доставить сюда Режи — единственный способ обеспечить мгновенный и надежный переход. Они считают, что армия его примет.
Они, шаркая ногами, приблизились еще на шаг к дверям булочной.
Аске, старик с тяжелым коричневым лицом и узкими глазами, вытянул губы трубкой, обдумывая услышанное.
— Ты же был в правительстве Режи, — сказал Фабр. Аске кивнул.
— Был. Министром образования. Одну неделю, — сказал он и хрипло, как морской лев, что-то пролаял — то ли закашлялся, то ли засмеялся.
— И как ты думаешь, сумеет он справиться с этой задачей?
Аске по самый нос закутался в свой грязноватый шарф и сказал:
— Ну, в общем-то, Режи неглуп. Но он уже старик. А как насчет того ученого, того твоего физика?
— Рочоя? Дочка говорит, что идея их Комитета заключается в том, чтобы сперва привести к власти Режи — для осуществления переходного периода, а также в качестве символа, некоего связующего звена с пятьдесят шестым годом, понимаешь? А Рочой, если, конечно, останется жив, будет единственным, за кого они будут голосовать на выборах.
— Ох уж эти мечты о выборах…
Они приблизились к дверям еще на шаг. Теперь они стояли уже у самой витрины, и от двери их отделяло всего каких-то восемь или десять человек.
— Но почему они выдвигают стариков? — удивился Аске, и сам старик. — Эти мальчики и девочки, эти молодые люди? За каким чертом мы им снова понадобились?
— Не знаю, — покачал головой Фабр. — Я все-таки думаю, они понимают, что делают. Она как-то и меня к ним на собрание привела, представляешь? Просто заставила меня туда пойти. Явилась в лабораторию… А ну, пошли со мной! Оставь ты все это, и пошли! Я пошел. Никаких вопросов. Она там командует. Там вообще командуют ребята, которым от силы года двадцать два — двадцать три. Их слушаются. Они ищут некую социальную структуру, некий общественный порядок, но весьма избирательно: насилие — это для них поражение, утрата всякого выбора. Они абсолютно уверены в своей правоте и совершенно ничего не знают. Как весенние… как те ягнята, что весной народились! Они никогда еще ничего не делали, но совершенно точно знают, как и что нужно делать.
— Стефан, — прервала Фабра его жена Брюна; она уже довольно давно стояла с ним рядом и успела кое-что услышать, — ты решил прочесть лекцию? Привет, милый. Привет, Флоренс, я только что видела Маргариту на рынке, мы с ней в очереди за капустой стояли. А я, Стефан, в центр направляюсь. Когда вернусь? Ну, не знаю… что-нибудь в начале восьмого.
— Опять? — спросил он, и Аске тоже спросил:
— Опять в центр?
— Сегодня же четверг, — сказала Брюна и, вытащив из сумочки ключи — от двух квартир и своего служебного кабинета, — потрясла ими в воздухе перед носом у мужчин. Ключи серебристо зазвенели; Брюна улыбнулась.
— Я тоже пойду с тобой, — заявил Стефан Фабр.
— Ох-хо-хо! — вздохнул Аске. — И я, черт возьми, тоже пойду. Неужели человек жив только хлебом единым?
— А Маргарита не будет беспокоиться, не решит, что ты куда-то пропал? — спросила Брюна, когда они, покинув очередь в булочную, двинулись к автобусной остановке.
— Да, это вечная проблема с вами, с женщинами, — проворчал старик. — Все вы беспокоитесь о том, что ОНА будет беспокоиться. Да. Она будет беспокоиться. А вы разве не беспокоитесь из-за своей дочки, а? Из-за Фаны?
— Да, — сказал Стефан, — я беспокоюсь.
— Нет, — сказала Брюна, — ничуть. Я и сама ее боюсь, и я боюсь за нее, и очень ее уважаю. Она дала мне ключи от своей квартиры. — И она на ходу крепко, обеими руками прижала к себе свою сумочку из искусственной кожи.
Это правда. Они стояли на камнях под легким падающим снежком и прислушивались к серебристому, Дрожащему звуку тысяч ключей, которыми потряхивали в воздухе, отпирая воздуху двери, давая людям глоток воздуха, — и случилось это давным-давно.

ЛЕГЕНДЫ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
(цикл)

Книга I. ПРОКЛЯТЫЙ ДАР
Люди из Нагорья обладают необычными и иногда даже смертельно опасными способностями. Девочка Грай может общаться с животными, и ее родители не могут понять, почему она не хочет использовать свой дар для охоты…
Оррек — взглядом, словом и жестом способен разрушить все что угодно. К своему ужасу он не может управлять своим «диким даром». И тогда, чтобы обрести контроль над ситуацией, его отец лишает Оррека зрения…
Оррек и Грай вместе познают истинную природу их даров и наконец решают, как им эффективно воспользоваться этим…
Глава 1
Он был совсем несчастным, когда приблудился к нам. Пропащий человек, и, боюсь, те серебряные ложки, которые он у нас украл, тоже его не спасли. Особенно там, куда он отправился, сбежав из Каспроманта. И все же путь нам указал именно он, этот жалкий беглец.
Это Грай сказала, что он — беглец. Она почему-то сразу решила, что он совершил у себя на родине нечто ужасное, убийство или предательство, и теперь скрывался от возмездия. И правда, что еще могло привести сюда жителя Нижних Земель?
— Да простое незнание, — возразил я ей. — Он ничего о нас не знает, вот и не боится нас.
— Нет, он сказал, что люди его предупреждали. Говорили, чтоб не ходил в те края, где колдуны и ведьмы живут.
— Но он ведь ничего не знает о том, на что мы способны, — сказал я. — Считает это пустой болтовней, слухами, сказками…
Несомненно, правы были мы оба. Конечно же, Эммон был беглецом. И хорошо еще, если его погнала сюда честно заработанная слава вора или просто скука. Он был похож на щенка гончей — такой же беспокойный, бесстрашный, любопытный и непоследовательный — и повсюду совал свой нос. Вспоминая теперь, какой у него был акцент и какие странные обороты речи, я понимаю, что пришел он издалека, с самого юга, из краев более далеких, чем даже Алгаланда, где истории о Верхних Землях кажутся просто выдумками, старинными легендами о том, как в далеких северных краях, среди покрытых вечными снегами гор живет племя злых колдунов, которые творят немыслимые вещи.
Если бы Эммон поверил тому, что ему рассказывали в Даннере, он никогда бы не решился пойти в Каспромант. А если бы он поверил нам, то никогда не отправился бы еще выше в горы. Ему очень нравились всякие старинные истории, и он всегда внимательно слушал то, что рассказывали ему мы, но вряд ли он нам верил. Ну что ж, городской человек, к тому же из образованных, и немало бродил на своем веку по Нижним Землям. Мир он, можно сказать, повидал. А кем были мы с Грай? Что мы знали о мире, слепой мальчик и молчаливая девочка шестнадцати лет, всю жизнь окруженные дикими предрассудками, нищетой и убожеством забытых богом и людьми горных ферм, которые мы так гордо называли своими владениями? А он — в своей ленивой доброте — побуждал нас рассказывать о тех великих дарах, которыми владеем мы, жители Верхних Земель, и при этом отлично видел, какую жалкую жизнь мы вынуждены влачить, сколько на фермах искалеченных, отсталых, темных людей, сколь сильно наше невежество, сколь мало мы знаем о том, что лежит за пределами этих унылых гор и холмов. Наверное, слушая все это, он про себя смеялся: вот уж воистину великими дарами обладают эти бедняги!
Мы с Грай очень боялись, что, покинув нас, он отправился в Геремант. Тяжело было думать о том, что он, возможно, и сейчас еще там — живой, но угодивший в рабство; и ноги его скручены спиралью, а вместо лица морда чудовища, если так захотелось Эррою, или же он совсем ослеп, по-настоящему (ведь я-то был слеп как раз не по-настоящему). Ведь Эррой ни за что не стал бы терпеть легкомысленные выходки Эммона и его нахальное высокомерие. Наверняка и часа бы не вытерпел!
Я старался, чтобы Эммон и моему-то отцу, Каноку, не слишком часто попадался на глаза и не слишком распускал язык в его присутствии, потому что терпения у Канока хватило бы ненадолго, да и нрав у него был суровый. Однако я совсем не боялся, что отец станет пользоваться своим даром без достаточно веской на то причины. Впрочем, он обращал на Эммона крайне мало внимания. Как и на всех прочих. С тех пор как умерла моя мать, он целиком был поглощен своим горем и затаенной жаждой мести, лелея эту боль, точно дитя. Грай, которая знала все птичьи гнезда вокруг, в том числе и орлиные, однажды видела самца грифа, который сам высиживал два больших серебристых яйца в гнезде на высоком утесе, после того как какой-то пастух убил его подругу, когда она полетела охотиться для них обоих. И теперь гриф высиживал своих будущих детенышей один, не сходя с гнезда и умирая от голода, — вот так и мой отец «высиживал» свою месть.
Для нас с Грай Эммон стал настоящей находкой. Точно яркое неведомое существо, он ворвался в наш мрачный мир. Он щедро утолял наше любопытство, ибо, как оказалось, мы умирали от духовного голода, хотя раньше об этом не подозревали.
Впрочем, рассказывать о Нижних Землях он не любил. Нет, он всегда отвечал на любой мой вопрос, но ответы его зачастую были шутливыми, или уклончивыми, или просто непонятными. Возможно, в его прошлой жизни было немало такого, что он хотел бы скрыть; к тому же он не умел так остро все подмечать и так ярко рассказывать о любой мелочи, как это умела Грай. Когда Грай была моими глазами, она могла, например, в точности описать, как выглядит новорожденный бычок, какая у него курчавая шкурка с синеватым отливом, какие узловатые ножки и маленькие мохнатые бугорки на месте будущих рогов, так что я почти видел его. А когда я просил Эммона рассказать о городе Деррис-Уотере, он говорил, что городишко так себе, торговли там почти никакой, жизнь скучная. Но я-то знал — по рассказам матери, — что в Деррис-Уотере высокие дома из красного камня, и длинные улицы, и выложенные сланцевой плиткой лестницы, ведущие к причалам, где всегда полно речных судов; что там есть птичий рынок, и рыбный рынок, и рынок, где торгуют всякими специями, благовониями и медом, и блошиный рынок, где торгуют всяким старьем, и рынок, где торгуют только новой одеждой. А еще мать говорила, что в Деррис-Уотере устраивают огромные гончарные ярмарки и на них съезжается очень много людей из верховий и из низовий реки Тронд и даже с далеких океанских берегов.
Может, Эммону просто не повезло, когда он пытался воровать в Деррис-Уотере?
В общем, как бы то ни было, а он всегда предпочитал сам задавать нам вопросы, а потом, устроившись поудобнее, внимательно слушать наши рассказы — в основном мои. Я-то был готов рассказывать, были бы слушатели. А Грай всегда старалась помалкивать и наблюдать — такой уж у нее был характер, — но Эммон и ее мог запросто в разговор втянуть.
Сомневаюсь, что он понимал, как ему повезло, когда он наткнулся на нас. Впрочем, он весьма ценил наше гостеприимство и то, как мы старались помочь ему скоротать жестокую дождливую зиму. Он явно жалел нас и, несомненно, очень скучал. И был ужасно любопытным.
— Ну и что такого особенно страшного в умении этого парня из Гереманта? — насмешливо спрашивал он, и я тут же изо всех сил начинал убеждать его в том, что сказал чистую правду. У нас о таких вещах, вообще-то, болтать не полагалось — даже промеж себя. А уж тем, кто обладал даром, и вовсе не к лицу было хвастаться или кого-то обсуждать.
— Их род обладает даром твистинга, — сказал я.
— Они что же, крутиться как-то особенно умеют? Как в танце?
— Нет. — Нужные слова оказалось подобрать очень трудно. Да и произнести их вслух — тоже. — Они людей скручивают.
— Скручивают? Может быть, заставляют их вертеться?
— Нет. Скручивают им руки. Или шею. Или все тело возьмут да и перекрутят. — Я, как мог, изогнулся, пытаясь показать ему, как это бывает, но чувствуя некоторое беспокойство: уж больно опасную тему мы затронули. Потом я догадался привести пример: — Ты видел старого Гоннена? Того лесоруба, что живет у дороги за Ноб-Хиллом? Мы вчера как раз мимо проходили. Грай тебе еще его имя назвала.
— Такой весь согнутый, как щелкунчик?
— Да. Так вот, это с ним брантор Эррой сотворил!
— Значит, это он его чуть ли не вдвое согнул? А зачем?
— Наказал. Сказал, что застиг его на месте преступления, когда он в землях Гере лес воровал.
Некоторое время Эммон молчал, потом задумчиво промолвил:
— Ревматизм тоже может иногда человека так скрутить…
— С Гонненом это случилось, когда он еще совсем молодым был.
— Так ты сам этого не видел? И не помнишь, как это произошло?
— Нет, — сказал я, раздосадованный его легкомысленной недоверчивостью. — Зато он это хорошо помнит! И мой отец тоже. Гоннен ему рассказывал. Он говорил, что в Геремант тогда даже не заходил, а лес рубил поблизости, на нашей земле. Просто брантор Эррой так заорал, когда его увидел, что он испугался и побежал куда глаза глядят. А на спине охапку сучьев нес. А потом вдруг упал, и, когда поднялся, оказалось, что спина у него вся прямо-таки перекручена и на ней вырос
горб. Горб у него и сейчас есть. А жена его говорит, что каждый раз, вставая с постели, он прямо-таки криком кричит от боли.
— И как же брантору удалось с ним такое сотворить?
Слово «брантор» Эммон впервые услышал у нас; он говорил, что у них, в Нижних Землях, такого слова нет. Брантор — это хозяин или хозяйка земель, поместья или целого края, а также самый главный человек в семье, обладающий самым сильным даром. Мой отец, например, был брантором Каспроманта. А мать Грай — брантором семейства Барре из Роддманта, а отец Грай — брантором всего Роддманта и главным в семействе Родд. Мы с Грай были наследниками этих семейств, орлятами, подрастающими в больших гнездах.
Я не был уверен, что мне следует ответить на вопрос Эммона. Тон у него, правда, насмешливым не был, но я все же сомневался, стоит ли вообще хоть как-то распространяться о наших тайных возможностях.
Эммону ответила Грай.
— Брантор просто посмотрел на него, — сказала она очень тихо. Теперь, когда я был слеп, мне ее тихий голос всегда казался чем-то вроде легкого ветерка, играющего в листве деревьев. — А потом указал на него левой рукой или только указательным пальцем левой руки и, возможно, произнес его имя, прибавив еще одно-два слова. И все.
— Какие же это слова?
Грай некоторое время молчала, потом, слегка пожав плечами, сказала:
— Это дар семейства Гере, а не нашей семьи. Мы не знаем, как он действует.
— Он?
— Ну да, их дар.
— А как действует твой дар? Что можешь делать ты? — спросил Эммон. Теперь он стал совсем серьезным, но чувствовалось, что он прямо-таки сгорает от любопытства. — Твой дар, наверное, имеет отношение к охоте? Я прав?
— Дар Барре — это умение призывать, — сказала Грай.
— Призывать? Кого же вы призываете?
— Животных.
— Оленей? — После каждого его вопроса возникала небольшая пауза, вполне достаточная для кивка. Я представлял себе лицо Грай во время этого ответного кивка — напряженное, замкнутое. — Зайцев? Диких свиней? Медведей? Ну хорошо, ты призовешь медведя, и он придет к тебе, и что ты будешь с ним делать?
— Охотники убьют его. — Грай помолчала и тихо прибавила: — Но я не призываю зверей, чтобы их убивали охотники.
И голос ее, когда она это сказала, стал похож не на шелест листьев, а на свист ветра в скалах.
Наш друг вряд ли, конечно, понял, что она имела в виду, но тон ее, видимо, несколько его охладил. Он не стал больше к ней приставать и повернулся ко мне:
— Ну а ты, Оррек? Каков твой дар?
— У меня тот же дар, что и у моих предков, — сказал я. — Дар нашего рода, рода Каспро, называется «разрушение связей». И я ничего не скажу тебе о нем, Эммон. Прости.
— Это ты должен простить мою бестактность, Оррек! — возразил Эммон немного удивленно, и голос его звучал так тепло и ласково, с такими мягкими интонациями, свойственными жителям Нижних Земель, что я сразу вспомнил мать, и глаза мои, скрытые ото всех под повязкой, налились слезами.
То ли Эммон, то ли Грай разожгли огонь в камине, и я почувствовал, как приятное тепло коснулось моих застывших ног. Мы устроились, как всегда, у большого камина в гостиной Каменного Дома Каспро и сидели на каменных скамьях, составлявших как бы одно целое с облицовкой камина. Вечер был холодный, какие часто бывают в конце января. Ветер в каминной трубе выл и ухал, точно там поселились гигантские совы. Женщины со своей пряжей тоже собрались у камина, но с противоположной его стороны, где было больше света. Порой они перебрасывались парой слов или негромко затягивали какую-то длинную заунывную песню, какие обычно поют за подобным занятием, а мы трое в своем уголке, у южной стены гостиной, продолжали беседу.
— Ну а каковы дары остальных жителей вашего края? — спросил неугомонный Эммон. — О них-то, надеюсь, тебе можно рассказать? На что еще способны здешние бранторы, живущие в таких же каменных замках, как ваш? Или у них иные жилища? Какими силами или талантами владеют они? Из-за чего их следует опасаться?
В его словах мне всегда слышалось какое-то легкое недоверие, неизменно пробуждавшее во мне желание сразу же ему возразить.
— Женщины рода Корде могут ослепить человека, — сказал я, — или сделать его глухим, или отнять у него речь.
— Ну это уж совсем никуда не годится! — возмутился Эммон. Мои слова явно произвели на него впечатление.
— Некоторые из мужчин рода Корде тоже обладают этим даром, — промолвила Грай.
— А твой отец, Грай, брантор Роддманта, обладает тем же даром, что и твоя мать?
— Семейство Родд владеет даром ножа, — сказала Грай.
— И что это означает?
— Они могут одним лишь взглядом послать нож человеку прямо в сердце, или перерезать ему горло, или изувечить его этим ножом до неузнаваемости. Лишь бы этот нож находился для них в пределах видимости.
— Клянусь именами всех сыновей Чорна! Вот это фокус! Ничего себе! Я рад, что свой дар ты унаследовала от матери!
— Я тоже этому рада, — тихо сказала Грай.
Эммон так долго квохтал от восторга, что я лишь с огромным трудом подавил желание немедленно рассказать ему о том, на что способны члены моей семьи. Однако рассказывать я стал о семействе Олм, способном зажечь огонь в любом месте, которое увидят и на которое укажут; и о Каллемахах, которые одним словом и жестом могут сдвинуть с места любой тяжелый предмет, даже дом или холм. Я рассказал ему, что фамильный дар Моргов — это способность предвидеть события и читать чужие мысли, так что они всегда могут узнать, о чем ты думаешь. Но тут Грай возразила, сказав, что Морги видят только чужие болезни или слабости, но согласилась со мной в том, что Морги все же соседи весьма неприятные, хотя и не слишком опасные. Впрочем, они и сами сознают это, а потому стараются держаться от других подальше и предпочитают оставаться в своих далеких и бедных северных долинах, и о них известно довольно мало, если не считать того, что они умеют выращивать отличных коней.
Затем я рассказал Эммону то, о чем слышал всю свою жизнь, — о крупных землевладельцах Хелварманта, Тиброманта, Барреманта и о воинах из рода Каррантагов, чьи владения расположены высоко в горах, на северо-востоке. Дар Хелваров называется «очищение» и считается родственным дару нашего рода, так что я о нем особенно распространяться не стал. Дар Тибро называется «узда», а дар Барре — «метла». Человек из Тиброманта запросто мог лишить тебя воли и заставить подчиниться любому своему желанию; это и называлось уздой, потому что тебя водили, как коня в поводу. А женщина из рода Барре могла начисто лишить человека способности соображать, сделать его полным идиотом, лишенным даже способности говорить; этот дар назывался «метла», и такого полного «выметания» из головы врага всех мыслей они достигали всего лишь взглядом, жестом да несколькими словами.
Но об этих дарах даже и мы с Грай знали только понаслышке. Здесь, в Верхних Землях, не было никого из представителей этих родов; и бранторы Каррантагов также не желали иметь с нами ничего общего, хотя их люди то и дело шныряли по нашим горам в поисках рабов.
— А вы, значит, отбиваетесь от них, управляя ножами, огнем и тому подобными вещами? — сказал Эммон. — Теперь я понимаю, почему ваши жилища расположены так далеко друг от друга! А что за люди живут на западе? В том обширном крае, который называется, кажется, Драммант? Их брантор тоже чем-то опасен? Мне бы хотелось об этом знать, прежде чем я случайно повстречаюсь с каким-нибудь представителем этого семейства.
Я промолчал, но Грай ответила Эммону:
— Дар брантора Огге — это медленное лишение сил.
Эммон рассмеялся. Откуда ему было знать, что уж над этим-то смеяться никак не стоит.
— Ну вот, час от часу не легче! — воскликнул он. — Ладно, беру назад свои слова насчет тех людей, что способны видеть чужие внутренности и слышать чужие мысли. В конце концов, их дар ведь может оказаться и весьма полезным.
— Только не во время налета, — заметил я.
— Вы что же, все время друг с другом воюете?
— Естественно.
— А зачем?
— Если не будешь драться, над тобой возьмут верх и твой род утратит чистоту, — заявил я презрительно, удивляясь его невежеству. — Ведь для того людям и даны различные дары — для защиты своих владений и своего достоинства, для охраны своего рода. Если бы наши предки не могли себя защитить, мы были бы уже лишены фамильного дара. Мы утратили бы его, смешиваясь с представителями других родов, с простолюдинами или даже с каллюками… — Я заставил себя умолкнуть. Это невольно сорвавшееся с губ слово было презрительной кличкой — так у нас называли жителей Нижних Земель, не обладавших никакими магическими способностями, и раньше я это слово никогда вслух не произносил.
Потому что моя мать тоже была из каллюков. В Драмманте, например, ее все так и называли.
Я слышал, как Эммон встал и принялся помешивать кочергой угли в камине. Потом вернулся на прежнее место и, помолчав, спросил:
— Значит, эти ваши способности, эти дары передаются по наследству, от отца к сыну, как, скажем, курносый нос?
— И от матери к дочери, — сказала Грай, а я промолчал.
— То есть вам приходится заключать браки внутри своего рода, чтобы сохранить свой дар? Ну это я, допустим, могу понять. Но неужели дар сразу исчезнет, если кто-то не найдет себе пару среди своих дальних родственников?
— У Каррантагов этой проблемы вообще нет, — сказал я. — У них и земля богаче, и владения обширней, и людей там живет значительно больше. Там брантор возглавляет десять, а то и больше семей, принадлежащих к одному роду и проживающих на одной территории. А у нас семьи поменьше. И дар действительно может ослабеть или исчезнуть, если слишком часто будут заключаться браки с представителями других родов. Хотя, если дар действительно силен, он все равно сохраняется и передается по наследству — от матери к дочери, от отца к сыну.
— Итак, — Эммон повернулся к Грай, — умение зачаровывать животных ты унаследовала от матери, бранторши вашего рода? — Он придал этому слову форму женского рода, что звучало на редкость нелепо. — А Оррек свой дар получил от брантора Канока? Нет-нет, я больше ни слова не спрошу тебя о твоем даре, Оррек! Но я вот что хочу спросить: скажи мне чисто по-дружески, ты слеп от рождения? Или это ведьмы из Кордеманта, о которых ты говорил, с тобой такое сотворили? Во время очередной феодальной междоусобицы или грабительского налета?
Я не знал, как избежать ответа на этот вопрос, но уклониться не сумел и сказал:
— Нет. Это мой отец запечатал мне глаза.
— Твой отец? Тебя ослепил твой отец?
Я кивнул.
Глава 2
Понять, что твоя жизнь — это всего лишь некая история, которую потом узнают другие, особенно полезно, когда ты еще только на середине жизненного пути, ибо тогда ты постараешься прожить свою жизнь хорошо. Но глупо было бы думать, что теперь тебе известно и как пойдет твоя жизнь, и как она закончится. Это ты узнаешь только тогда, когда жизнь твоя действительно подойдет к концу.
Но даже если все уже закончилось, даже если речь идет о чьей-то чужой жизни, о жизни того, кто жил сто лет назад, чью историю я слышал уже много-много раз, каждый раз, слушая ее снова, я боюсь и надеюсь, словно и до сих пор не знаю, как именно она должна закончиться. Я как бы снова и снова проживаю эту историю, и она снова и снова оживает во мне. Между прочим, это очень даже неплохой способ перехитрить смерть. История человеческой жизни — это, как полагает смерть, такая штука, которой именно она, смерть, кладет конец. Но смерть не в силах понять, что хоть эти истории и кончаются смертью, но не кончаются вместе с нею.
Истории других людей могут стать частью твоей собственной жизненной истории, ее основой, тем фундаментом, с которого произрастает твоя история. Так было, например, с той историей, которую мой отец рассказывал мне о Слепом Каддарде; и с историей налета моего отца на город Дьюнет; и с историями моей матери о жизни в Нижних Землях, а также с ее историями о тех временах, «когда Кумбело был королем».
Когда я думаю о своем детстве, я словно снова вхожу в зал Каменного Дома, снова сажусь на скамью у камина, или стою посреди нашего грязноватого двора, или захожу на конюшню Каспроманта, где мой отец всегда поддерживал идеальную чистоту. Я вижу себя в огороде вместе с матерью, которая собирает бобы, или с нею вместе у камина в ее маленькой гостиной, что в круглой башне; или мы с Грай вновь поднимаемся на вершину холма, открытую всем ветрам, и эти истории никогда не кончаются…
Высокий толстый посох из тисового дерева довольно грубой работы, рукоять которого была до черноты отполирована за долгие годы, всегда висел возле двери Каменного Дома в полутемной прихожей. Это был посох Слепого Каддарда. Трогать его запрещалось. Когда я впервые о нем узнал, то еще не доставал макушкой до его рукояти, но уже тогда часто подходил к нему и украдкой касался его ладонью — от этого у меня сладко замирало сердце, потому что делать это было запрещено и потому что история посоха была окутана тайной.
Наверное, думал я тогда, этот брантор Каддард — отец моего отца, ибо по малолетству еще не способен был погрузиться в глубины фамильной истории. Я знал только, что деда моего звали Оррек и меня назвали в его честь. Так что в итоге получалось, что у моего отца было целых два отца. Но меня это почему-то ничуть не смущало, наоборот, казалось чрезвычайно интересным.
В тот день мы с отцом на конюшне чистили лошадей. Отец никому из слуг не доверял ухаживать за своими драгоценными лошадьми и меня начал этому учить, таская с собой на конюшню, когда мне было всего года три. Я помню, что взобрался на высокий табурет и старательно выбирал старую зимнюю шерсть из шкуры нашей чалой кобылы. Через некоторое время я спросил отца, который чистил большого серого жеребца Грейлага в соседнем стойле:
— А почему ты назвал меня именем только одного из своих отцов?
— А у меня был только один отец, — слегка удивившись, ответил он, — в честь которого я тебя и назвал. Почти у всех приличных людей бывает только один отец. — И он засмеялся. Отец мой смеялся нечасто, но тут я еще долго видел у него на губах суховатую улыбку.
— А кто же тогда брантор Каддард? — И вдруг, еще до того, как отец успел мне ответить, я сообразил: — Так он был отцом твоего отца!
— Отцом деда моего отца, — уточнил Канок, окутанный облаком пыли и лошадиной зимней шерсти. Я тоже вернулся к прежнему занятию, за что и был вознагражден — жжением в глазах, в носу и во рту, а также полосой чистенькой светло-рыжей летней шерсти шириной примерно с мою ладонь, появившейся на боку нашей славной Чалой, и тем явным удовольствием, с которым она это восприняла. Чалая у нас была как кошка: стоило ее приласкать — и она тут же клала голову тебе на плечо. Но обниматься с ней мне было некогда; я оттолкнул ее и продолжил работу, пытаясь расширить замечательно яркую полоску у нее на боку. Что-то слишком много дедов и отцов, чтобы всех их можно было упомнить одному человеку! — думал я.
Тем временем мой настоящий отец, Канок, подошел поближе к тому стойлу, где я трудился, и, вытирая вспотевшее лицо, стал наблюдать за мной. Я же, явно рисуясь, протаскивал гребень по шкуре слишком длинными и плавными движениями, чтобы от них была хоть какая-то польза, но отец мне никаких замечаний не делал. А потом, помолчав, сказал вот что:
— У Каддарда был самый сильный дар в нашем роду, да и на всех западных холмах, пожалуй. Самый сильный, какой помнит наша история. Каков наш дар, Оррек?
Я перестал работать, сошел со своей подставки — осторожно, потому что для меня она была очень высокой, да еще и стояла лицом к отцу. Когда он произнес мое имя, я встал и замер, глядя на него: так я делал всегда, с тех пор как себя помню.
— Наш дар — это разрушение связей, — сказал я.
Он кивнул. Он всегда был со мною снисходительно-нежен. У меня никогда не возникало ни малейшего страха, что он может причинить мне хоть какое-то зло. Подчиняться ему хотелось не всегда, однако, подчинившись ему, я всегда испытывал несказанное удовольствие. И наградой мне всегда служила его удовлетворенная улыбка.
— И что это значит?
Я ответил так, как он учил меня:
— Это значит, что мы способны погубить, разрушить, уничтожить любые связи в человеческом теле и в любом предмете.
— Ты видел, как я применяю свой дар?
— Я видел, как ты заставил плошку разлететься на мелкие кусочки.
— А ты видел когда-нибудь, что я могу сделать с живым существом?
— Я видел, как ты посмотрел на иву и она стала черной и совсем мягкой.
Я надеялся, что на этом он и остановится, но на этот раз он почему-то все продолжал задавать свои вопросы:
— А ты видел, во что я могу превратить животное?
— Я видел, как ты… ты… заставил крысу умереть.
— Как же это было? — Голос отца был тих и безжалостен.
Это случилось зимой. У нас во дворе. Крыса угодила в ловушку. Молодая крыса. Она свалилась в бочку для дождевой воды и не смогла оттуда выбраться. Дарре, наш дворовый, первым увидел ее. Мой отец сказал: «Подойди-ка сюда, Оррек». Я подошел, и он велел: «А теперь стой спокойно и смотри». Я замер и стал смотреть. Я даже шею вытянул, чтоб видеть, как эта крыса плавает в бочке; воды там было примерно до половины. Мой отец встал над бочкой, пристально посмотрел на крысу, шевельнул левой рукой и что-то еле слышно произнес или просто резко выдохнул воздух, не знаю. И крыса скорчилась, вздрогнула и всплыла, повернувшись на бок. Мой отец правой рукой выудил ее из воды. Она лежала у него на ладони бесформенным комком, точно мокрая тряпка. Но я видел ее хвост и лапки с крохотными коготками. «Коснись ее, Оррек», — сказал отец. Я коснулся. Она была совершенно мягкой, точно лишилась костей и стала похожа на мешочек с жидкой кашей. «Я разрушил в ее теле все связи», — сказал отец, пристально на меня глядя, и я испугался, встретившись с его взглядом.
— Ты разрушил в ее теле все связи, — повторил я теперь, вернувшись из того дня в конюшню, и во рту у меня сразу пересохло; мне было страшно смотреть отцу в глаза.
Он кивнул.
— Таков мой дар, — сказал он, — и у тебя он тоже будет. И постепенно я научу тебя им пользоваться. Что значит — уметь пользоваться своим даром, Оррек?
— Это значит — управлять им глазами, рукой, дыханием и волей. — Я сказал так, как он меня учил.
Он кивнул, явно удовлетворенный моим ответом, и я вздохнул с облегчением. Однако отец и не думал прекращать очередной урок.
— Посмотри на этот комок шерсти, Оррек, — велел он. Спутанный комок лошадиной шерсти валялся на полу возле моей ступни. Я вытащил его из гривы чалой кобылы и бросил на соломенную подстилку. Сперва я думал, что отец станет меня бранить за то, что я мусорю в стойле, но у него на уме было нечто совсем иное.
— Смотри только на него. Только на него, Оррек. Никуда глаз не отводи. Сосредоточь все свое внимание только на этом клочке шерсти.
Я подчинился.
— Теперь шевельни рукой… так… — Отец зашел сзади и осторожно приподнял мою левую руку — всю, от плеча до кисти, — пока мои дрожащие от напряжения пальцы не указали точно на комок шерсти. — Так и держи руку. А теперь повторяй за мной, но постарайся сказать это не голосом, а как бы одним дыханием. — И он прошептал что-то, на мой взгляд лишенное всякого смысла, и я повторил это за ним, держа руку так, чтобы она указывала на комок шерсти, и не сводя с этого комка глаз.
Сперва я ничего не заметил; все осталось по-прежнему. Потом Чалая вздохнула, переступила с ноги на ногу, и я услыхал, как ветерок шевельнулся за дверью конюшни, а спутанный клочок шерсти на полу слегка сдвинулся с места.
— Он движется! — вскричал я.
— Это всего лишь ветер, — мягко возразил отец, и в голосе его послышалась улыбка. Он вообще как-то приободрился, даже плечи расправил. — Погоди немного. Тебе еще и шести нет.
— Тогда ты сам это сделай, отец! — потребовал я почему-то обвиняющим тоном, страшно взволнованный, даже сердитый. — Давай, уничтожь его!
Я, по-моему, даже не заметил, шевельнул ли он рукой, вздохнул ли. Спутанная шерсть, валявшаяся на полу, вдруг распушилась, расправилась, затем превратилась в горстку пыли и исчезла, а вместо нее на полу осталось лишь несколько чистых длинных светло-рыжих волосков.
— Ничего, наш дар придет и к тебе, — сказал Канок. — Он очень силен в нашем роду. Но сильнее всего он проявился в Каддарде. Сядь-ка. Ты уже достаточно большой, чтобы услышать его историю.
Я взобрался на свой табурет. А отец так и остался стоять в дверях. Он был худой, темноволосый, с голыми ногами, в тяжелом черном килте и в короткой куртке, какие носят у нас в горах. Его темные глаза ярко горели на перепачканном лице. Руки у него тоже были перепачканы, но все равно очень красивы — сильные, спокойные, не суетливые. Говорил он тихим голосом, но все равно сразу чувствовалось, как сильна его воля.
И я узнал от него историю Слепого Каддарда.
— Каддард проявил свой дар раньше всех в нашем роду, — сказал мой отец, — и раньше всех детей в самых знатных семьях рода Каррантагов. В три года он порой бросит взгляд на какую-нибудь свою игрушку — и игрушка разваливается на куски; он мог развязать взглядом любой узел. А в четыре года он сумел защитить себя от бросившейся на него собаки; собака испугала его, и он уничтожил ее. Как я — ту крысу.
Канок помолчал, ожидая, что я кивну в знак того, что все понял.
— Слуги его откровенно боялись, а его мать однажды сказала: «Пока его воля — это всего лишь воля ребенка, он представляет собой опасность для всех, в том числе и для нас самих». Она тоже была из нашего рода, как и ее муж, Оррек; они были двоюродными братом и сестрой. И Оррек прислушался к словам жены. И они решили на три года завязать ребенку глаза, чтобы он не мог невольно воспользоваться своим даром. А пока стали учить его и всячески тренировать его волю. Как я сейчас учу и тренирую тебя. Учился Каддард хорошо. И в награду за безупречное послушание и отличные успехи ему была снова дарована возможность видеть. Повязку сняли, и Каддард вел себя очень осторожно, применяя свой великий дар только во время упражнений и только к таким вещам, которые не имели ни особого значения, ни особой ценности.
Лишь дважды в юности ему довелось по-настоящему продемонстрировать свою силу. Когда брантор Драмманта стал особенно часто угонять скот с чужих пастбищ, родители Каддарда специально пригласили соседа в Каспромант, чтобы он мог полюбоваться тем, как мальчик, которому тогда было лет двенадцать, остановит в полете стаю диких гусей. Лишь взглянув в небо, Каддард заставил гусей упасть к своим ногам и улыбнулся гостю, словно сделал это, лишь желая его развлечь. «Острый глазок», — сказал Драм. И ни разу с тех пор не угнал ни одной коровы из нашего стада.
А когда Каддарду исполнилось семнадцать, из обширных земель Каррантагов к нам явился вооруженный отряд под предводительством брантора Тиброманта. Они охотились на рабов; Каррантагам были нужны мужчины и женщины для работы на новых полях, которые сперва еще предстояло расчистить. Жители Каспроманта сбежались в Каменный Дом в поисках защиты; они боялись попасть в рабство и до конца жизни в поте лица трудиться на чужого господина, не имея ничего своего, даже воли, и лишь выполняя его приказы, ибо брантор Тиброманта обладал даром узды и мог полностью подчинить себе любого. Отец Каддарда, Оррек, надеялся, что им удастся удержать оборону, но Каддард, не сказав ему ни слова, потихоньку ушел из дома и, держась опушки леса, выследил сперва одного горца, затем второго, потом еще одного и по очереди их уничтожил…
Я видел ту крысу. Шкурка с жидкой кашей внутри.
— Он подождал, пока остальные захватчики обнаружат тела погибших, — продолжал отец, — и, держа в руках флаг перемирия, вышел на склон холма и остановился там лицом к Долгой Меже. Он был совершенно один. И крикнул налетчикам: «Вы видели, что я сделал. Я находился от этих людей на расстоянии мили, а может, и больше. — Ему приходилось кричать громко, через весь луг, потому что захватчики спрятались за изгородью, выложенной из крупных камней на Долгой Меже. — Не прячьтесь за камнями, не поможет! — крикнул им Каддард и мгновенно превратил в пыль один из самых больших камней, за которым как раз прятался брантор Тиброманта. — Мой глаз остер и силен», — с удовлетворением заметил Каддард и стал ждать ответа. И брантор Тиброманта сказал: «Да, твой глаз остер и силен, Каспро». И Каддард спросил его: «Так вы, значит, пришли сюда, чтобы забрать наших людей в рабство?» И Тибро признался: «Да, нам очень нужны люди». И Каддард сказал: «Я дам вам двух человек, которые будут работать на вас, но как обычные работники, а не как рабы, которых вы оболванили с помощью вашего дара!» — «Хорошо, — сказал брантор Тиброманта, — это щедрый дар, и мы принимаем его и твои условия». И тогда Каддард вернулся домой, вызвал двух наших молодых серфов и отвел их к горцам, сказав, что некоторое время они будут работать на них. А Тибро он сказал: «Возвращайся теперь к себе в горы. Я не стану тебя преследовать».
И горцы ушли. И с тех пор никогда больше не совершали подобных налетов на наши владения.
Вот так Каддард Сильный Глаз прославился и стал известен каждому в Верхних Землях.
Отец умолк, давая мне возможность поразмыслить над тем, что я услышал. Через некоторое время я осторожно взглянул на него, желая узнать, можно ли уже задать ему мучивший меня вопрос. Похоже, было уже можно, и я спросил его о том, что мне хотелось знать больше всего:
— А тем нашим молодым серфам хотелось отправиться в Тибромант?
— Нет, — сказал отец. — И Каддарду не хотелось отправлять их на службу к другому господину и терять рабочие руки, которые и в Каспроманте всегда очень нужны. Но согласно обычаю, если ты применил свой дар, то должен что-то предложить тому, кто от твоего дара пострадал. Это очень важно. Запомни. Повтори, что я сказал.
— Очень важно подарить что-нибудь тому, кто пострадал от применения твоего дара.
Отец одобрительно кивнул.
— Дар от дара, — подтвердил он еле слышно. — Ну а через какое-то время старый Оррек отправился со своей женой и слугами на верхнюю ферму и навсегда покинул Каменный Дом, оставив его своему сыну Каддарду, который и сменил его на посту брантора Каспроманта. И наши владения процветали. Говорят, в те дни на Каменистых Холмах одних овец насчитывалось тысяча голов. А наши белые быки славились на всю округу. Даже из Дьюнера и Даннера приходили люди, желая заранее заключить с нами сделку на покупку этих бычков. Каддард женился на женщине из рода Барре, уроженке Драмманта. Семедан ее звали, и свадьба у них была поистине великолепная. Говорят, Драм хотел, чтобы на Семедан женился его собственный сын, но она ему отказала, несмотря на всю власть и богатство Драмов, и вышла за Каддарда. На их свадьбу люди собрались со всего Западного края.
Канок умолк и шлепнул по крупу чалую кобылу, нечаянно задевшую его своим спутанным хвостом. Кобыла шарахнулась и стала тыкаться в меня мордой, словно прося, чтобы я еще повычёсывал из нее старую шерсть и колючки.
— Семедан обладала даром, свойственным ее роду, — снова заговорил отец. — Она ходила с Каддардом на охоту и подманивала оленей, лосей и диких свиней. У них родились дочь Ассал и сын Канок. И все шло хорошо. Но через несколько лет случилась страшно холодная зима, да и лето оказалось холодным и засушливым. Даже трава не уродилась, и на пастбищах скоту не хватало корма. А зерновые и подавно не удались. Среди наших белых быков начался падеж. И за один сезон погибло почти все поголовье этого замечательного скота. И среди людей тоже свирепствовали болезни. Семедан родила мертвого ребенка и долго болела после этого. Засуха продолжалась целых два года, и наше хозяйство совсем пришло в упадок. И Каддард ничего не мог поделать. Природа ему подчиняться не желала. И он жил, снедаемый бессильным гневом и отчаянием.
Я следил за лицом отца. Горе, отчаяние, гнев сменяли друг друга на его лице, точно перед глазами у него вновь вставало то, о чем он рассказывал мне.
— Наши несчастья привели к тому, что люди Драмманта стали вести себя все более нагло; они принялись совершать налеты и грабежи, а однажды выкрали отличного жеребца с нашего западного пастбища. Каддард погнался за конокрадами и настиг их на полпути к Драмманту. Злой и распаленный преследованием, он не сумел сдержать свою силу и уничтожил их всех. Их было шестеро, и один из них оказался племянником брантора Драмманта. Но Драм не мог призвать к кровной мести, потому что его люди откровенно занимались воровством и выкрали у нас лучшего коня. Но этот случай положил начало страшной ненависти между бранторами наших земель.
Да и наши люди после этого случая стали бояться бешеного нрава Каддарда. Если его не слушалась собака, он тут же ее уничтожал. Случайно промахнувшись на охоте, он уничтожал всю растительность вокруг того места, где скрывалась дичь, и деревья и кусты долго еще стояли почерневшими, мертвыми. Один пастух как-то осмелился дерзко ответить Каддарду, и тот в гневе изувечил ему всю руку до плеча. Дети в страхе разбегались, лишь завидев его тень.
Тяжелые времена и в семье порождают ссоры. Как-то раз Каддард стал упрашивать жену пойти с ним на охоту и подманить для него зверей. Она отказывалась, говоря, что нездорова. Он стал требовать, сердито говоря: «Идем. Я должен кого-нибудь подстрелить, в доме совсем не осталось мяса». Но Семедан заупрямилась и сказала: «Иди и охоться. А я не пойду. Я плохо себя чувствую». И, отвернувшись от мужа, заговорила о чем-то со своей служанкой, которую очень любила. Это была девочка лет двенадцати, которая помогала ей ухаживать за детьми. Каддард пришел в ярость. Он встал перед ними и заявил: «Делай, что я говорю, или и с тобой будет то же!» А потом глазами, рукой, дыханием и усилием воли ударил эту девочку, и бедняжка так и осела на пол, точно вдруг лишившись всех своих костей.
Громко вскрикнув, Семедан упала возле девочки на колени, увидела, что та мертва, и гневно воскликнула, повернувшись к Каддарду: «Ну, бей! Что, меня-то небось не решишься уничтожить?» И она так презрительно на него посмотрела, что он, не помня себя, в слепой ярости своей убил и ее.
Собрались слуги, которые все видели, и женщины с трудом удерживали плакавших детей Семедан, не пуская их к безжизненному телу матери.
А Каддард стремительно пошел прочь и поднялся в комнату своей жены. И никто не осмелился за ним последовать.
Когда он понял, что натворил, то сразу решил, как ему поступить. Теперь он не мог больше доверять себе, не мог управлять собственным даром, а потому ослепил себя.
Правда, впервые рассказывая мне эту историю, Канок не сказал, как Каддард ослепил себя. Я был слишком юн и слишком напуган страшной правдивостью этой истории, чтобы расспрашивать его или чему-то удивляться. Но через несколько лет, став старше, я все же спросил у отца, чем воспользовался Каддард, чтобы ослепить себя? Кинжалом? Нет, ответил мне Канок, он воспользовался своим же убийственным даром.
Среди вещей, принадлежавших Семедан, он нашел зеркало в серебряной раме, сделанное в виде выпрыгнувшего из воды лосося. Купцы, приезжавшие к нам из Дьюнера и Даннера, чтобы заключить сделки с поставщиками скота и шерстяных изделий, иногда привозили с собой кое-какие редкие игрушки и забавы. В первый год своего брака Каддард отдал за это зеркало великолепного белого быка, желая сделать подарок молодой жене. И вот теперь он взял это зеркало в руки, посмотрел в него и увидел собственные глаза. А потом рукой, дыханием, усилием воли и всей дарованной ему силой ударил прямо по этим отраженным в зеркале глазам, и зеркало разлетелось вдребезги. А Каддард ослеп.
Никто не стал мстить ему за убийство жены и девочки-служанки. Ослепнув, Каддард оставался брантором Каспроманта, пока не научил своего старшего сына Канока пользоваться фамильным даром. Вскоре брантором стал Канок, а Слепой Каддард отправился на верхнюю ферму и долго жил там среди пастухов, пока не умер.
Мне совсем не понравился печальный и пугающий конец этой истории. Услышав ее впервые, я постарался поскорее выбросить большую ее часть из головы. Мне была по душе только первая ее часть — о мальчике, наделенном таким могущественным даром, которого боялась даже его родная мать, и об отважном юноше, который в одиночку сумел прогнать многочисленных врагов и спасти свои земли. Порой я ходил один на какой-нибудь холм, открытый всем ветрам, и воображал, что я — Каддард Сильный Глаз. Сотни раз я надменно заявлял перепуганным захватчикам с Высокогорья: «Вы видели, что я сделал! А ведь я находился от них на расстоянии мили!» А потом я сталкивал вниз валун, за которым якобы прятались мои враги, и заставлял их трусливо разбегаться на четвереньках во все стороны, как тараканов. Я помнил, как именно отец велел мне тогда держать левую руку, и каждый раз пробовал свои силы, упершись взглядом в какой-нибудь камень и подняв руку, как полагается, но никак не мог припомнить то слово, которое он тогда шепнул мне. Если это, конечно, было слово. «Говори дыханием, а не голосом», — советовал он тогда. Но слово ускользало каждый раз, когда мне уже казалось, что я его вспомнил, и губы не складывались, когда я пытался снова его произнести, если, конечно, губы мои когда-либо вообще его произносили. Я пробовал снова и снова, но с моих губ не слетало ни звука. Однажды, потеряв терпение, я прошипел нечто совершенно бессмысленное и сделал вид, будто все же заставил камень сдвинуться с места и развалиться на куски, и в воображении моем захватчики обратились в бегство, а я выкрикивал им вслед: «Будете знать, как сильны и остры мои глаза!»
А потом я всегда шел посмотреть, что же сталось с «поверженным в прах» валуном, и один или два раза я был совершенно уверен, что на нем или появилась небольшая трещинка, или от него отвалился кусочек.
Иногда, когда мне надоедало все время быть Каддардом, я становился одним из тех юношей-серфов, которых Каддард отдал в услужение горцам. Разумеется, мне удавалось бежать — с помощью различных хитроумных уловок и устройств — и уйти от погони, а потом я уводил своих преследователей в страшные топи, которые хорошо знал, зато не знали они, и в итоге возвращался в Каспромант. Почему серф непременно должен был так уж стремиться в Каспромант, где его ожидало почти такое же рабство, как и в Тиброманте, откуда он столь успешно сбежал, я не знал, да мне это и в голову никогда не приходило. Скорее всего, именно так поступил бы любой мальчишка вроде меня: пришел бы домой. Впрочем, мы хорошо обращались с нашими фермерами и пастухами, и достаток у них был почти такой же, как у нас, живущих в Каменном Доме. Наше благополучие имело единую основу. И вовсе не страх перед даром нашей семьи держал этих людей рядом с нами из поколения в поколение. Наш дар защищал их. Боялись они в основном того, чего не знали или не понимали, а к тому, что было им уже известно, знакомо с детства, они, можно сказать, даже льнули. Так что я твердо знал, куда идти, если меня уведут враги и мне удастся от них сбежать. Я был уверен: нет другого такого места во всех Верхних Землях, а может, и во всем мире, о котором рассказывала мне мать, какое я смог бы полюбить сильнее, чем эти бесплодные холмы, тощие рощицы, мрачные скалы и губительные трясины нашего Каспроманта. Я и теперь совершенно уверен в этом.
Глава 3
Второй очень важной для меня историей, рассказанной отцом, была история о налете на Дьюнет. В этой истории мне нравилось все, потому что у нее был самый счастливый конец, какой только можно было придумать. Она заканчивалась, насколько я мог судить, моим появлением на свет.
Мой отец, тогда еще совсем молодой человек, решил жениться и искал себе невесту. Люди из нашего рода жили не только в Каспроманте, но и в Кордеманте, и в Драмманте. Мой дед позаботился о том, чтобы поддерживать добрые отношения с семейством Корде, и даже пытался исправить давно испорченные отношения с Драммантом: не участвовал в грабительских набегах на их земли, запрещал своим людям воровать у них овец и так далее. Во-первых, он не хотел ничем вредить своим родственникам, проживавшим в этих землях, а затем, видимо, надеялся, что его сыну удастся отыскать там себе невесту. Наш дар передавался от отца к сыну, но никто не сомневался в том, что если и мать будет принадлежать к столь одаренному роду, то в детях дар только усилится. Итак, поскольку в Каспроманте не нашлось ни одной подходящей девушки, пришлось искать в Кордеманте, где имелось несколько родственных нам семей, но во всех были только сыновья. Нашлась, правда, одна женщина брачного возраста, но, к сожалению, лет на двадцать старше Канока. Впрочем, такие браки были не такой уже редкостью, а раньше и вовсе заключались довольно часто, чтобы любым способом сохранить дар. Но Канок колебался, и, прежде чем Оррек успел заставить сына вступить в брак с этой пожилой особой, брантор Огге из Драмманта женил на ней своего младшего сына. Жителей Кордеманта Огге давно прижал к ногтю, так что и в этом случае они были вынуждены уступить ему.
Таким образом, оставались только те семьи из рода Каспро, что жили в Драмманте. Там имелись две вполне подходящие девушки на выданье, особенно если им дать еще несколько лет подрасти. Обе они с радостью вышли бы замуж за кого-нибудь из Каспроманта, но старинная вражда между Драммантом и Каспромантом во времена правления брантора Огге была очень сильна, и Огге с презрением отверг предложение Оррека и тут же выдал девушек замуж — одной тогда было четырнадцать, а другой пятнадцать лет. Первую он отдал за какого-то фермера, а вторую — за серфа.
Это было настоящим оскорблением — причем умышленным — как для самих девушек, так и для всего рода Каспро, но что еще хуже — подобные браки сильно ослабляли наш дар. Мало кто в Верхних Землях одобрял подобное самоуправство. Честное состязание в умениях и способностях — это одно, а нечестные попытки исподтишка ослабить дар противника — это совсем другое. Но Драммант тогда обладал значительной властью, и брантор Огге творил в своих землях, что хотел.
Короче, ни одной подходящей женщины из рода Каспро, на которой Канок мог бы жениться, так и не нашлось. Впрочем, он не особенно об этом и жалел. Он так мне и сказал:
— Спасибо Огге, что он спас меня от той старухи из Кордеманта, а потом и от этих жалких курочек, малолеток из Драмманта. Мне оставалось одно, и я сказал отцу: «Раз так, я совершу грабительский налет».
Оррек считал, что его сын собрался грабить кого-то из более слабых соседей или, может быть, отправиться на север, в Моргамант, который славился своими прекрасными конями и прекрасными женщинами. Но у Канока на уме была куда более дерзкая затея. Он собрал отряд — десяток крепких молодых фермеров из Каспроманта, двоих или троих наших родственников из Кордеманта, Тернока из семейства Родд и еще кое-кого из Каспроманта или из соседних земель. Все эти молодые люди считали, что кража небольшой группы серфов или какого-либо имущества — отличное развлечение, так что все они встретились однажды майским утром у подножия холма на перекрестке дорог и поскакали на юг.
А надо сказать, что за последние семьдесят лет на Нижние Земли никто ни разу не совершил ни одного грабительского налета.
Фермеры в отряде Канока были одеты в толстые грубые кожаные куртки, заменявшие им боевые доспехи; на головах у них красовались бронзовые шлемы, а вооружены они были копьями, дубинками и длинными кинжалами — на тот случай, если дойдет до кровопролития. Родовитые же юноши облачились в черные фетровые килты, из-под которых сверкали их голые коленки, и куртки; шляп они не надели, а свои длинные черные волосы заплели в косу и закрутили на затылке в пучок. У них не было никакого оружия, кроме охотничьих ножей, собственных глаз и фамильного дара.
— Когда я увидел, сколько нас собралось, — рассказывал Канок, — то пожалел, что сперва не выкрал в Моргаманте несколько тамошних коней. Наш отряд смотрелся бы отлично, если бы не те жалкие животные, на которых ехало верхом большинство моих «воинов». У меня-то был Король — я знал, что это один из предков нашей Чалой, высокий рыжий жеребец, которого сам я, правда, помнил с трудом, — а вот Тернок ехал на вислогубой кобыле, используемой обычно на пахотных работах, и у Батро не нашлось ничего лучше пегого полуслепого пони. Хотя мулы были довольно красивы — мы взяли трех мулов из тех красавцев, которых разводил мой отец. Но мулов мы вели в поводу: им предстояло везти домой награбленное нами добро.
Отец рассмеялся. Он всегда приходил в отличное расположение духа, рассказывая эту историю. Я четко представлял себе эту небольшую процессию: суровые ясноглазые молодые мужчины верхом на жалких спотыкающихся лошадях едут гуськом по извивающейся в густой траве каменистой тропе, что ведет из Высокогорья в долину. Гора Эйрн виднелась прямо у них за спиной, а рядом — Баррик с ее серыми утесами; потом стали видны, все сильнее нависая над остальным миром, огромные, одетые в белые снежные шапки вершины тех гор, что находятся на земле Каррантагов.
А впереди, насколько мог видеть глаз, расстилались зеленые холмы — «зеленые, как берилл», говорил мой отец, и глаза его туманили воспоминания о прошлом, об этих богатых безлюдных землях.
В первый день они не встретили ни единого человека, не увидели никаких признаков человеческого жилья, им не попалось ни стада коров, ни отары овец — только куропатки бросались врассыпную из-под копыт да в небе кружили коршуны. Жители Нижних Земель оставили нечто вроде широкой полосы отчуждения между своими владениями и территорией горцев. Отряд не спеша тащился целый день вслед за подслеповатым пони Батро и остановился на ночлег на склоне одного из зеленых холмов. И лишь на следующий день поздним утром они впервые заметили стада овец и коз на пастбищах, обнесенных каменными изгородями, и увидели в отдалении домик какого-то фермера и мельницу в долине у ручья. Тропа постепенно превратилась в проезжую дорогу, которая становилась все шире и теперь пролегала уже меж распаханными полями; вскоре они увидели дым над каминными трубами и красные черепичные крыши на залитом солнцем склоне холма — это был город Дьюнет.
Я не знаю, чего хотел добиться мой отец, отправляясь со своим отрядом в Нижние Земли, — может быть, действительно совершить налет на перепуганных жителей города, захватить как можно больше добра и столь же быстро отступить или же достойно, поражая воображение горожан своим грозным видом, въехать в город и предъявить требования совсем иного рода, подкрепив их
угрозой применить свои нешуточные способности. Но что бы ни имел в виду Канок, в город он въехал не галопом, а спокойно, без криков и бряцания оружием, в боевом порядке. Так что жители почти не обратили на его отряд внимания, и тот спокойно добрался до рыночной площади, пробираясь сквозь толпы людей, спешивших на ярмарку пешком и в конных повозках и пригнанных на продажу стада скота. Наконец люди разглядели, кто к ним пожаловал, и стали кричать: «Горцы! Горцы! Колдуны!» — а некоторые тут же бросились бежать, стали поспешно запирать двери своих домов и лавок, пытаясь спасти выставленные на продажу товары. Но те, что пытались убежать, оказались в ловушке, потому что путь с площади им преградили те, что пришли посмотреть на происходящее здесь; возникла давка, прилавки были перевернуты, полотняные навесы сброшены на землю, лошади, сорвавшись с привязи, метались по площади, снося все на своем пути, громко мычал скот, а отряд фермеров из Каспроманта под предводительством Канока размахивал копьями и дубинками, до смерти пугая торговок рыбой и местных кузнецов. Канок попытался было прекратить панику, грозно крича и ругаясь, причем поносил он не столько горожан, сколько свое «войско», и в итоге пригрозил, что применит свой дар, так что они все же собрались вокруг него, но многие упорно прижимали к груди то, что уже успели стащить с рыночных прилавков, — розовую шаль или медный чугунок.
Отец так мне и сказал:
— Я отлично понимал: если дело дойдет до кровопролития, мы проиграем. Ведь нас была всего горстка, а этих горожан — сотни! — Откуда ему было знать, что такое город? Он ведь в жизни ни в одном городе не бывал. — Если бы я позволил своим начать грабить дома горожан, — продолжал он, — они легко перебили бы нас по одному. Лишь я и Тернок обладали достаточно сильным даром, пригодным и для атаки, и для обороны. Да и что мы могли там взять? Вся площадь была усыпана добром — едой, всякими товарами, одеждой… Разве мы могли все это взять с собой? Мы ведь совсем не за этим туда приехали. Я хотел найти себе жену, но не знал, как это сделать, тем более что все так по-дурацки сложилось. Да и не нужно нам было это барахло; единственное, что нам действительно требовалось, — это рабочие руки, которых в Верхних Землях всегда не хватало. Но было ясно: если я немедленно хотя бы немного не запугаю собравшихся вокруг людей, они на нас накинутся. И я поднял флаг переговоров. Как ни странно, они знали, что это такое, и немного притихли. А потом из окна большого дома, что высился прямо над рыночной площадью, высунулся какой-то мужчина и тоже стал махать какой-то белой тряпкой.
И тогда я громко провозгласил: «Мое имя Канок, я из благородного рода Каспро и обладаю даром мгновенного уничтожения, который сейчас вам и продемонстрирую». И я, превратив в бесформенную груду один из рыночных прилавков, обернулся к толпе, чтобы убедиться, что все это видели. После этого я направил свой взгляд на угол того большого каменного амбара, что выходил прямо на площадь, неторопливо простер в этом направлении свою ничуть не дрожавшую левую руку, и все увидели, как стена здания вздрогнула, вздулась, из нее на землю посыпались камни и в стене возникла довольно большая дыра, которая все расширялась, а хранившиеся в амбаре мешки с зерном точно взорвались. Потом шум падавших камней усилился, и люди в ужасе закричали: «Довольно, довольно!» Так что я приостановил действие своего дара и снова повернулся лицом к толпе. Теперь они уже гораздо сильнее хотели вступить со мной в переговоры и для начала спросили, что мне от них нужно. И я сказал: «Женщин и мальчиков».
И тут на площади и на всех прилегающих к ней улицах поднялся невообразимый вой. Люди высовывались из окон домов и кричали: «Нет! Нет! Убейте этих колдунов!» Их вопли сливались и были похожи на потусторонние голоса, что слышатся во время сильной бури. Мой конь встал на дыбы и тревожно заржал. И тут в круп ему вонзилась стрела. Я поднял глаза и этажом выше того окна, из которого со мной вели переговоры люди с белой тряпкой в руках, увидел лучника, уже вложившего в лук новую стрелу. И я в гневе ударил его своим взглядом. И он рухнул из окна на мостовую, точно мешок с дерьмом, и остался лежать там бесформенной грудой. А я, заметив, что какой-то человек в толпе поднял камень, собираясь швырнуть им в меня, направил свой взгляд на него, но разрушил только ту его руку, что держала камень, и рука тут же повисла бессильной плетью. Он страшно закричал, и вокруг тоже все закричали, завыли, а в том месте, где упал лучник, возник настоящий водоворот. «Я уничтожу каждого, кто двинется с места!» — громко крикнул я. Они все так и застыли.
Потом Канок велел своим людям окружить его плотным кольцом, пока он будет вести переговоры. Тернок охранял его сзади. И горожане — во всяком случае, те, что вели с ним переговоры от лица города, — согласились скрепя сердце отдать ему пять женщин и пять мальчиков. Сперва они, правда, сказали, что им потребуется время, чтобы собрать «дань», как они это называли, но Канок мгновенно прекратил всякие споры, заявив: «Пришлите сюда немедленно пару десятков тех и других, а уж мы сами выберем таких, которые нам подойдут». И он слегка приподнял свою левую руку; завидев это, горожане тут же согласились с его требованиями.
Прошло всего несколько минут, которые Каноку показались долгими часами; толпа на улицах то рассеивалась, то снова собиралась, подступая все ближе, а ему оставалось лишь осаживать своего разгоряченного коня да самому держать ухо востро, следя, как бы в окне не показался очередной шустрый лучник. Наконец привели какое-то количество мальчиков и женщин — их гнали на рыночную площадь по улицам города, они плакали и умоляли отпустить их, а некоторые даже падали на коленях и ползли на четвереньках, но и их поднимали и заставляли двигаться дальше пинками и ударами кнута. Всего собралось пять мальчиков, все не старше десяти лет, и четыре женщины: две совсем молоденькие девушки из серфов, полумертвые от страха, и две женщины постарше в грязной вонючей одежде, которые покорно шли сами. Наверное, они думали, что жизнь среди колдунов не может быть хуже, чем рабское существование в работницах у дубильщика кож. Больше во всем городе не сумели, видно, найти никого.
Канок решил, что вряд ли стоит настаивать на своих условиях, ибо чем дольше они оставались в окружении враждебно настроенной толпы, тем ближе был тот миг, когда кто-нибудь все же не выдержит и выпустит в него стрелу или бросит камнем, а потом неизбежно начнется потасовка и их попросту разорвут на куски.
И все-таки он не мог допустить, чтобы какие-то торговцы так нагло провели его.
— Здесь только четыре женщины, — сказал он.
Переговорщики заныли, но времени спорить с ними у Канока не было. Окинув взглядом площадь и окружавшие ее большие дома, он заметил в окне узкого дома на углу женскую фигуру. Женщина была в бледно-зеленом платье цвета ивовых листьев, что, собственно, и привлекло его внимание. Кроме того, она не пряталась, а стояла у окна совершенно открыто и смотрела вниз, прямо на него.
— Ее, — сказал Канок, указывая на эту женщину. Он указал на нее правой рукой, но все вокруг так испуганно ахнули, что он даже рассмеялся. И с нарочито грозным видом воздел правую, безопасную, руку, делая вид, что сейчас всех уничтожит.
Вдруг дверь углового дома отворилась и наружу вышла та женщина в платье цвета ивовых листьев. Она остановилась на крыльце, и Канок мог теперь хорошо ее рассмотреть. Она была молода, небольшого роста, тоненькая. Ее длинные черные волосы красивой волной падали на зеленую ткань платья.
— Будешь моей женой? — спросил ее Канок.
Она на минутку застыла, потом сказала «да» и медленно пошла к нему по разгромленной рыночной площади. На ногах у нее были легкие черные сандалии, сплетенные из ремешков. Канок протянул ей левую руку. Она поставила ногу в стремя, и он, легко вскинув ее в седло, усадил перед собой.
— Можете взять себе этих мулов вместе с упряжью! — крикнул Канок жителям города, помня о «даре дара». Если учесть, сколь небогато было его семейство, это был поистине королевский подарок, а ведь он понимал, что жители Дьюнета запросто могли бы все это отобрать у него, если бы сумели преодолеть свой страх.
Остальных женщин и мальчиков также посадили на лошадей, и отряд Канока спокойно, в боевом порядке двинулся в обратный путь; толпа на улицах молча расступалась перед ними, пока они не выехали за городскую стену и не двинулись по северной дороге к нашим горам.
Так закончился последний грабительский налет жителей Каспроманта на Нижние Земли. Ни Канок, ни его жена никогда больше не ездили по этой дороге.
Ее звали Меле Аулитта. И владела она платьем цвета ивовых листьев, маленькими плетеными сандалиями, в которые сунула ноги, прежде чем выйти из дома, и маленькой подвеской на шее — опалом на серебряной цепочке. Это и было все ее приданое. Канок женился на ней ровно через четыре дня после того, как привез в Каменный Дом. За четыре дня его мать и служанки успели приготовить для новобрачной и наряд, и прочие необходимые вещи; они очень спешили, но работали с огромной радостью и охотой. А потом брантор Оррек поженил их в главном зале Каменного Дома, и на свадьбе присутствовали все члены бравого отряда Канока, ездившего грабить Нижние Земли, все члены семейства Каспро и все жители Западного края, кто только сумел прибыть в Каспромант, чтобы плясать на веселой свадьбе.
— А потом, — сказал я, когда мой отец умолк, закончив рассказывать эту историю, — мама родила меня!
Меле Аулитта родилась и выросла в Деррис-Уотере, в Бенгдрамане, и была четвертой из пяти дочерей священника и одновременно члена городского магистрата. Это высокий пост, так что этот священник-судья с супругой были людьми весьма обеспеченными и воспитывали своих дочерей в праздности и роскоши, хотя и достаточно строго, ибо религия требовала от тамошних женщин скромности, чистоты, покорности и предоставляла немало возможностей жестоко наказать и унизить тех, кто оказывал неповиновение. Но Адилд Аулитта был отцом добрым и снисходительным, мечтая о том, чтобы его дочери стали посвященными городскому храму девственницами. Меле научили читать и писать, затем она немного занималась математикой и очень много — священной историей и поэзией; ей преподали также начатки градостроительства и архитектуры — в качестве подготовки к почетной карьере храмовой девственницы, которую прочил ей отец. Учиться Меле нравилось, и ученицей она была превосходной.
Но когда ей исполнилось восемнадцать, что-то случилось в ее жизни, отчего все сразу переменилось. Я не знаю, что именно там произошло, — она никогда об этом не говорила; стоило спросить — и она, улыбнувшись, переводила разговор на другую тему. Возможно, в нее влюбился ее наставник, а обвинили во всем именно ее. Возможно, у нее был тайный возлюбленный и она даже бегала к нему на свидания. А может, все было куда менее серьезно. Впрочем, ни малейшая тень не должна пятнать репутацию той, что готовится стать храмовой девственницей, от чистоты и непорочности которой зависит благополучие и процветание всего Бенгдрамана. Мне даже приходило в голову, что Меле нарочно все это устроила, чтобы избежать уготованной ей участи провести всю жизнь в городском храме. В общем, в наказание ее отослали из дома к дальним родственникам, жившим на севере, в провинциальном, похожем на большую деревню Дьюнете. Родственники Меле тоже были людьми уважаемыми, порядочными и глаз с нее не спускали, подыскивая для нее среди местных жителей подходящего жениха и без конца приглашая в дом мужчин «на смотрины».
— Один, — со смехом рассказывала она, — был такой маленький, толстенький да еще и с розовым носиком, похожим на пятачок, и, как оказалось, торговал свиньями! А другой был очень высоким и ужасно худым; он одиннадцать раз в день по целому часу молился и хотел, чтобы я молилась с ним вместе.
В общем, когда она выглянула из окна и увидела Канока из Каспроманта верхом на рыжем жеребце, увидела, как он одним взглядом уничтожает людей и дома, то сразу же выбрала его. Точно так же как и он сразу выбрал ее.
— Но как же тебе удалось уговорить твоих родственников отпустить тебя? — спрашивал я, зная ответ и заранее им наслаждаясь.
— А я и не уговаривала. Они все попрятались под столы и под стулья, чтобы этот «колдун» случайно их не заметил и не смог бы им тоже кости растворить. И я просто сказала им: «Не бойтесь. Разве не сказано, что «девственница спасет ваши дома и имущество ваше»?» А потом спустилась по лестнице и вышла из дому.
— А откуда ты знала, что отец тебе ничего не сделает?
— Да уж знала, — усмехнулась она.
Она не знала ни куда едет, ни что из всего этого выйдет, как не знал и Канок, когда спускался с гор, что такое Дьюнет; он-то думал, что Дьюнет похож на наши деревни: несколько домов, хозяйственные постройки, поскотина и десятка два жителей, большая часть которых одновременно отправилась на охоту. Возможно, и Меле тоже думала, что едет в такое место, которое не слишком отличается от ее родного города или, по крайней мере, от Дьюнета, где она жила у родственников и где у нее был такой чистый, теплый, светлый и уютный дом, всегда полный людей. Откуда ей было знать, как живут в горах?
Для жителей равнин горные области были проклятым, ненавистным краем, о котором они постарались попросту забыть. Они почти ничего не знали о горцах. Любой воинственный народ давным-давно бы уже послал туда армию и очистил свои горные тылы от столь опасных соседей и столь нелепых пережитков прошлого, но Бенгдраман и Урдайл — государства мирные, и основное их население — это купцы, земледельцы, ученые и священнослужители, а не воины. Единственное, что сделали жители Нижних Земель, — это повернулись к горам спиной и забыли о тех, кто там живет. Даже в Дьюнете, по словам моей матери, многие уже не верили в страшные сказки о жителях «страны Каррантагов» — чудовищах, похожих на гоблинов, которые верхом на конях устремлялись с гор на равнины, захватывая города, сжигая урожай в полях и повергая в прах целые армии с помощью одного лишь взгляда или мановения руки. Считалось, что подобное случалось очень, очень давно, «когда королем был Кумбело», а в наше время ничего такого быть просто не может. И жители Дьюнета спокойно торговали с горцами и покупали у них замечательных коров и быков цвета молока, но, как сами эти торговцы рассказывали моей матери, эта замечательная порода скота постепенно сошла на нет, ведь земли наверху страшно бедные. И теперь, утверждали эти торговцы, в старых горных селениях почти никто не живет, кроме пастухов да самых бедных фермеров, которые чуть ли не выскребают жалкие урожаи со своих каменистых полей.
В основном, как впоследствии убедилась моя мать, эти рассказы оказались довольно правдивыми. Хотя и не совсем.
Однако она справедливо считала, что правда далеко не всегда однозначна для всех, как, впрочем, и те домыслы, что потом превращаются в сказки.
Все приключения с героями историй, которые она рассказывала нам в детстве, случались в те времена, «когда королем был Кумбело». В те времена храбрые молодые рыцари-священники успешно сражались с демонами в обличье огромных псов и побеждали их; в те времена существовали злые колдуны из страны Каррантагов, говорящие рыбы, способные предупреждать о землетрясениях, и девочка-нищенка, получившая в подарок тележку, сделанную из лунных лучей. Остальные истории моей матери не имели к временам, «когда королем был Кумбело», ни малейшего отношения, и говорилось в них совсем не о приключениях. Если не считать ее собственной истории, начавшейся в тот момент, когда она вышла за порог своего дома и пошла через рыночную площадь навстречу моему отцу. В этой истории пересекались две основные линии ее повествований и встречались две правды.
Те истории моей матери, в которых не говорилось о приключениях, были просто описаниями повседневной жизни благополучного семейства из небольшого городка в сонных Нижних Землях. Но мне эти истории нравились не меньше, а может, и больше, чем истории о приключениях. И я просил мать: «Расскажи о Деррис-Уотере!» И по-моему, ей нравилось рассказывать об этом не только потому, что это доставляло удовольствие мне, но и потому, что так она могла хоть немного излить свою тоску по родным краям. В Верхних Землях она всегда оставалась чужестранкой, ее всегда окружали чужие ей люди, как бы сильно она их ни любила и как бы хорошо они к ней ни относились. Моя мать была веселой, жизнерадостной, очень живой, но я знал, что счастливейшими минутами ее жизни были те, когда она, свернувшись клубком на ковре перед камином в своей маленькой круглой гостиной, расположенной в башне, рассказывала мне, чем торговали на рынках Деррис-Уотера, как они с сестрами подглядывали за отцом, когда тот надевал на себя все эти ужасные корсеты «с толщинкой» и пышные одежды священника-магистрата и отправлялся на службу, с трудом ковыляя в своих башмаках на высокой подошве и с высоченными каблуками, благодаря которым казался выше всех прочих людей, и как ее отец сразу уменьшался в размерах, когда скидывал с себя и эти башмаки, и все эти одежды, и прочую дребедень. Она рассказывала мне, как плавала вместе с друзьями на корабле до самого устья реки Тронд, где эта река впадает в море. Она и о море мне рассказывала. Она говорила, что ракушки, хрупкие и разноцветные, которые мы изредка находили в отвалах и на горных осыпях и которые очень ценились в наших играх, — это бывшие живые существа, некогда обитавшие в море, близ берега.
Отец, вернувшись с полей, обычно входил в комнату матери только с чисто вымытыми руками и в чистой обуви — ибо она твердо придерживалась определенных принципов, ранее совершенно незнакомых Каменному Дому, — и тоже присаживался, чтобы послушать ее рассказы. Он очень любил слушать, как ее звонкий голос журчит, точно ручеек, веселый и чистый, и в нем слышатся свойственные речам жителей Нижних Земель мягкость и живость. Для сородичей моей матери умение говорить, рассказывать считалось искусством, приносящим удовольствие, а не просто необходимым для общения инструментом. И вместе с ней это искусство и удовольствие, получаемое от него, стало известно и в Каспроманте. И я твердо знаю: это она зажгла тот свет, что горел в глазах моего отца.
Глава 4
Междоусобицы, как и дружеские связи между различными родами Верхних Земель, корнями своими уходили в незапамятные времена; эти давние времена даже представить себе было невозможно. Например, семьи Каспро и Драм всегда между собой не ладили. Зато семьи Каспро, Родд и Барре всегда пребывали в дружеских отношениях, во всяком случае достаточно дружеских, чтобы даже после ссоры через какое-то время эти отношения непременно снова восстанавливались.
Но если Драммант процветал — в основном нагло воруя скот и отнимая земли у более слабых соседей, — Каспромант, Роддмант и Барремант переживали далеко не лучшие времена. Казалось, время их расцвета осталось в прошлом и никогда больше не вернется; особенно это касалось рода Каспро. Даже во времена Слепого Каддарда сила и численность этого семейства опасно уменьшились, хотя оно еще владело довольно большой территорией и имело в своем распоряжении около тридцати семей фермеров и серфов.
Фермеры, впрочем, почти всегда были нашими дальними родственниками, и кое у кого из них даже проявлялся порой фамильный дар Каспро, хотя и довольно слабый; у серфов же не было ни родства с нами, ни нашего дара. Но и те и другие обязаны были присягнуть на верность своему господину, а также имели право обращаться к нему со своими требованиями. По большей части и серфы, и фермеры со своими семьями жили на той земле, которую обрабатывали, так же давно, как семья брантора проживала в своем Каменном Доме, а то и дольше. Полевые работы и распределение урожая, скота, леса и всего остального велись согласно древним обычаям, и все вопросы решались сообща на советах, собиравшихся довольно часто. Людям в наших краях редко приходилось напоминать о том, что брантор волен распоряжаться их жизнью и смертью. То, что Каддард тогда в порыве неразумной щедрости подарил двух серфов семейству Тибро, было, по сути, исключением. Казавшийся безрассудным и нарушающим древние традиции поступок Каддарда на самом деле спас наши земли от грозных захватчиков, ибо враги, приняв этот дар, угодили в сети его с виду экстравагантного великодушия. Его ответный дар, этот «дар дара», был, возможно, и чересчур щедрым, однако Каддард воспользовался им весьма мудро. Зато в тех случаях, когда брантор использовал свой дар против своих же людей, как, например, Эррой в Гереманте или Огге в Драмманте, это никогда не приносило добра.
А вот дар рода Барре никогда нельзя было применить в целях устрашения. Способность выманить дикого зверя из леса, или приласкать испуганного жеребенка, или обсудить что-то с гончим псом, безусловно, считалась даром, но такой дар не давал человеку возможности ощутить свое превосходство — особенно по сравнению с теми, кто одним взглядом мог поджечь стог принадлежащего тебе сена или убить твою гончую, а то и тебя самого. А потому род Барре давным-давно утратил свои владения; их земли перешли к Хелварам из рода Каррантагов. Представители рода Барре разбредались по окрестным землям и заключали браки с представителями других семейств Западного края, стараясь как-то сохранить в чистоте свой род и свой дар, чтобы не ослабить и не утратить его, но, разумеется, не всегда могли это сделать. Некоторые наши фермеры, например, были из рода Барре. Почти все наши целители и ветеринары, а также птицеводы и псари — во всяком случае, по женской линии — принадлежали к роду Барре. Сохранились и отдельные «чистые» семьи этого рода — в Гереманте, Кордеманте и Роддманте.
Представители семейства Родд, обладавшие даром ножа, могли бы не только отлично защищать свои земли, но и нападать на чужие, если б только захотели, но для этого им не хватало твердости характера. Они не были настоящими землевладельцами, настоящими феодалами, их куда больше интересовала охота на лосей, чем междоусобицы или захват чужих территорий. В отличие от большей части горцев, чересчур гордых и исполненных собственного достоинства, жители Роддманта предпочитали сами выращивать отличный скот, а не воровать его. Тех молочного цвета быков, которыми некогда славился наш Каспромант, на самом деле вывели в Роддманте. А мои далекие предки попросту крали у тамошних жителей коров и быков, пока не собрали у себя достаточно большое для разведения этой породы стадо. В Роддманте также умели очень неплохо возделывать землю и собирали хорошие урожаи; в целом жили они небедно, но даже и не пытались расширять свои владения и не претендовали на то, чтобы называться великим родом. Представители семейства Родд довольно часто вступали в брак с членами рода Барре, так что во времена моего детства в Роддманте было два брантора — родители Грай: ее мать, Парн Барре, и ее отец, Тернок Родд.
Наши семьи издавна поддерживали хорошие отношения — насколько это вообще возможно в горах. А Тернок с моим отцом были настоящими друзьями. Это ведь Тернок на своей вислогубой лошадке сопровождал отца во время знаменитого налета на Дьюнет. В награду он тогда получил одну из девочек-серфов, но вскоре отдал ее Бато Каспро из Кордеманта, хозяину второй девочки, потому что они были сестрами и очень тосковали в разлуке. За год до того налета Тернок и Парн поженились. Парн выросла в Роддманте, и в ее жилах текло немного крови Роддов. Через месяц после того, как моя мать родила меня, Парн тоже родила — девочку, Грай.
Так что мы с Грай стали друзьями, можно сказать, с колыбели. Мы были еще совсем малышами, но, когда наши родители приходили друг к другу в гости, уже убегали от них и играли вдвоем. Я был, по-моему, первым, кто увидел, как дар Грай обретает силу, хоть и не уверен, что помню это сам; возможно, я просто припоминаю это по каким-то ее рассказам. Дети ведь умеют отлично видеть то, о чем им рассказывают. И вот что, например, стоит у меня перед глазами: мы с Грай сидим на дальнем краю огромного огорода в Роддманте и строим домики из земли и веточек, и вдруг из небольшой рощицы, что раскинулась за домом, выходит здоровенный лось и идет прямо к нам. Это настоящий исполин — он выше дома, а его ветвистые рога затмевают солнце. Лось идет медленно, направляясь прямо к Грай, а она протягивает руку, и огромный бык утыкается носом ей в ладошку, словно здороваясь. «Зачем он пришел сюда?» — спрашиваю я, и она говорит: «Потому что я его позвала». И больше я об этом дне ничего не помню.
Спустя несколько лет, когда я рассказал все это отцу, он заявил, что такого просто быть не могло, ведь Грай тогда было всего года четыре, а дар проявляется не раньше девяти-десяти лет.
— Но ведь Каддарду было всего три! — напомнил я ему.
Мать, присутствовавшая при нашем разговоре, тихонько коснулась пальцем моей руки: «Не перечь отцу». Канок всегда казался ей каким-то слишком напряженным, встревоженным, и она защищала его от меня, такого беспечного и самоуверенного, но делала это удивительно тактично.
Грай была моим самым лучшим товарищем. Мы вечно что-то придумывали, вечно попадали во всякие переделки, и нам вечно влетало. Хуже всего было, когда мы выпустили на волю всех кур и цыплят. Грай утверждала, что запросто может научить их делать всякие фокусы — например, ходить строем, взлетать и садиться ей на палец и тому подобное. «Таков мой дар», — самоуверенно заявила она. Нам было тогда лет по шесть. В общем, мы пошли на большой птичий двор Роддманта, загнали в угол несколько цыплят-подростков и попытались кое-чему научить их — все равно чему, лишь бы слушались. Это было так увлекательно, что мы совершенно не заметили, что калитка в курином загоне так и осталась распахнутой настежь. В итоге все несушки последовали за петухом в лес и расселись по деревьям, а мы долго и тщетно пытались загнать их обратно. Парн, которой ничего не стоило бы просто призвать кур к порядку, дома, как назло, не оказалось, ее попросили участвовать в очередной охоте. В общем, хорошо в результате было только лисицам в лесу, которые были нам с Грай весьма благодарны. Грай тогда ужасно расстроилась. Она чувствовала себя особенно виноватой, потому что уход за птицей входил в число ее личных обязанностей. Я никогда больше не видел, чтобы она так горько плакала. Весь тот вечер и весь следующий день она бродила по лесу, сзывая пропавших кур и жалким дрожащим голосом, точно безутешная перепелка, выкликая: «Бидди! Лили! Сноуи! Фэн!»
В Роддманте мы то и дело попадали во всякие неприятные истории, а когда Грай приезжала к нам, в Каспромант, со своими родителями или только с отцом, никаких несчастий не случалось. Моя мать очень любила Грай. И порой просила ее:
— Встань-ка там, Грай! — Грай послушно вставала, и моя мать смотрела на нее до тех пор, пока девочка не начинала вертеться и нервно хихикать. — Ну ладно тебе, постой еще немножко спокойно, — уговаривала ее моя мать. — Разве ты не понимаешь, что я так внимательно смотрю на тебя, потому что хочу родить точно такую же хорошую девочку, как ты.
— А ты роди себе точно такого же мальчика, как Оррек, — предлагала ей семилетняя Грай, но моя мать не соглашалась:
— Нет! У меня уже есть один Оррек. Мне и одного вполне достаточно. А теперь мне нужна маленькая Грай!
Мать Грай, Парн, казалась мне немного странноватой, какой-то беспокойной. У нее был очень сильный дар, и сама она иногда вела себя точно дикое лесное существо. Ее редкостные способности пользовались большим спросом среди охотников, и она, призывая для них дичь, часто не бывала дома, уходя с ними в далекие горные края. Когда же она оставалась в Роддманте, то выглядела так, словно сидит в клетке и смотрит на тебя сквозь прутья. Парн и ее муж Тернок всегда были очень вежливы и осторожны друг с другом. А единственная дочь Парн, похоже, не слишком интересовала их.
— А Парн учила тебя пользоваться вашим даром? — однажды спросил я Грай, очень гордясь теми уроками, которые преподал мне отец.
Грай покачала головой:
— Она говорит, что не человек пользуется своим даром, а дар использует того человека, которому он дан.
— Но ведь нужно же научиться им управлять, правда? — со знанием дела заявил я, чувствуя себя очень умным и опытным.
— Мне не нужно, — тихо возразила Грай.
Вообще-то, Грай была похожа на мать: такая же тихая, но упрямая. Она, например, ни за что не стала бы со мной спорить, отстаивать собственное мнение, но и менять его ни за что бы не стала. Мне хотелось излить свои мысли в словах. А она предпочитала молчание. Но когда моя мать начинала рассказывать свои истории, Грай, по-прежнему как бы окутанная своим молчанием, слушала ее так внимательно, что запоминала каждое ее слово, удерживая его в душе и лелея потом, как настоящее сокровище.
— Ты прирожденная слушательница, — говорила ей Меле. — Ты умеешь не только призвать к себе кого угодно, но кого угодно выслушать. Это редкое умение. Ты ведь прислушиваешься к тому, что говорят мыши, правда?
Грай молча кивала.
— И что же они говорят?
— Так, разные мышиные вещи, — смущалась Грай. Она всегда была очень застенчивой, даже с Меле, которую любила всем сердцем.
— А ты не могла бы призвать тех мышей, что гнездятся у меня в кладовой, и предложить им, чтобы они переселились в конюшню? — спросила моя мать.
Грай обдумала ее вопрос.
— Но ведь тогда им придется как-то переправлять на конюшню и всех своих малышей, — засомневалась она.
— Ага, — сказала Меле. — Об этом я и не подумала. Тогда вопрос снят. Кроме того, на конюшне живет кот.
— Но ведь этого кота ты могла бы принести и в кладовку? — сказала Грай. У нее был совершенно непредсказуемый ход мыслей; она видела мир так, как видят мыши, или кошки, или моя мать, — и все сразу, одновременно. А потому ее мир казался мне непостижимо сложным. Она не защищала собственное мнение еще и потому, что в душе ее уже как бы жило несколько противоборствующих мнений почти обо всем на свете. Но если она принимала решение, сбить ее с пути было невозможно.
— Ты не могла бы рассказать мне о той девочке, что была добра к муравьям? — попросила она как-то мою мать, страшно смущаясь, словно эта просьба казалась ей совершенно непосильной.
— О девочке, что была добра к муравьям… — задумчиво повторила Меле, как будто произнося название какой-то книги.
Она уже рассказывала нам, что многие свои истории почерпнула из книг, имевшихся у нее в детстве, и ей постоянно кажется, будто она снова читает нам эти книги вслух. Впервые услышав об этом, Грай сразу спросила: «А что такое книга?»
В общем, в ответ на ее просьбу рассказать историю о девочке, что была добра к муравьям, моя мать снова как бы стала «читать» нам ту книгу, которой у нее уже не было.
Давным-давно, когда королем еще был Кумбело, в одной деревне жила вдова с четырьмя дочерьми. И жили они совсем не плохо, но потом эта женщина заболела и никак не могла поправиться. И однажды к ним зашла одна старая мудрая целительница, осмотрела ее и сказала:
— Ничто тебе не поможет, кроме глотка воды из Колодца Моря.
— Ах, что же мне делать? Значит, теперь я наверняка умру! — воскликнула вдова. — Ведь мне, больной, не добраться до этого колодца.
— А разве у тебя нет четырех дочерей? — спросила целительница.
И вдова стала слезно просить свою старшую дочь пойти к Колодцу Моря и принести немного целебной воды.
— А за это я отдам тебе всю мою любовь и самую мою лучшую шляпку в придачу, — пообещала она.
И ее старшая дочь отправилась к морю; шла она, шла и присела немножко отдохнуть. И увидела, как муравьи пытаются затащить в муравейник дохлую осу.
— Фу, противные! — сказала девушка, раздавила муравьев каблуком и пошла себе дальше. До берега моря было далеко, но она все же добралась туда и увидела, как огромные волны набегают на берег, лижут песок и убегают обратно. — Ох, да тут этой воды сколько хочешь! — воскликнула девушка.
Она зачерпнула морской воды и отнесла ее матери.
— Вот целебная вода, мама, — сказала она, и мать залпом выпила принесенную воду. Но до чего же вода эта оказалась горькой да соленой! У бедной вдовы даже слезы на глазах выступили. Но она поблагодарила дочь и отдала ей свою самую лучшую шляпку. Девушка надела ее, и так эта шляпка ей шла, что она очень скоро подцепила себе жениха.
А мать ее все больше слабела. Наконец она решилась попросить вторую свою дочь пойти и набрать для нее воды в Колодце Моря, пообещав ей свою материнскую любовь и свое самое лучшее кружевное платье в придачу. И девушка пошла к морю. Шла она, шла и присела отдохнуть. И увидела человека, который пахал свое поле на быке, а ярмо на быке было надето криво и уже натерло животному кровавую рану на шее. Но девушка решила, что ей до этого нет никакого дела, и пошла себе дальше. И вот она пришла на берег моря. Морские волны с грохотом обрушивались на песчаный берег.
— Да уж, воды тут хватает! — воскликнула девушка, набрала морской воды и отправилась домой. — Вот твоя вода, мама, — сказала она, — давай мне кружевное платье!
Горькой, ох какой горькой и соленой оказалась та вода! Но мать все же заставила себя отпить глоток. А девушка, стоило ей выйти в новом кружевном платье, тут же нашла себе жениха. Вскоре мать поняла, что смерть ее близко, и еле слышным голосом попросила свою третью дочку пойти за целебной водой.
— Та вода, которую они приносили мне, никак не могла быть водой из Колодца Моря, — сказала она дочери, — уж больно она была горька. Сходи за целебной водой, и я отдам тебе всю свою любовь.
— Да зачем она мне? — небрежно сказала дочь. — Ты лучше мне дом отдай, тогда схожу.
И мать пообещала отдать ей дом. В приподнятом настроении девушка пустилась в путь и, ни разу не останавливаясь, дошла прямиком до берега моря. И там, среди песчаных дюн, встретила серого гуся со сломанным крылом. Он шел к ней, волоча по земле крыло, и словно молил о помощи.
— Убирайся прочь, дурак! — сказала ему девушка и прошла мимо. Огромные пенистые волны с грохотом обрушивались на песчаный берег. — Ох, сколько тут воды! — воскликнула она, подставила принесенный сосуд и, наполнив его, поспешила домой.
— Вот тебе вода, мама, а теперь выметайся отсюда! — заявила она. — Теперь это мой дом!
— Неужели ты мне и умереть в своей постели не дашь, детка? — горестно спросила мать.
— Ну если ты поторопишься, то так и быть, оставайся пока, — смилостивилась дочь. — Но давай поскорее, потому что соседский парень хочет на мне жениться. А раз теперь у меня есть дом, мы с сестрами решили устроить большой пир.
И мать, лежа на смертном одре, обливалась горько-солеными слезами, когда к ней вдруг подошла самая младшая из ее дочерей и сказала:
— Не плачь, мама. Я принесу тебе глоток той воды.
— Нет, все бесполезно, детка. Колодец Моря слишком далеко, а ты слишком молода. И у меня ничего не осталось, чтобы подарить тебе. Нет, придется мне умирать.
— А я все-таки попробую, — сказала девушка и быстро вышла из дома.
Шла она, шла и вдруг увидела на обочине дороги муравьев, которые с трудом пытались дотащить до муравейника тела своих погибших товарищей.
— Эй, погодите-ка, мне-то куда легче это сделать, — сказала девушка муравьям, собрала их всех на ладошку и перенесла в муравейник.
Пошла она дальше. И видит, бык пашет землю, а ярмо до крови натерло ему шею.
— Сейчас я все исправлю, — сказала девушка пахарю и, сделав из своего фартука повязку, прикрыла ею рану, а ярмо пристроила так, что быку сразу стало куда удобнее.
Наконец она пришла на берег моря и увидела среди песчаных дюн серого гуся со сломанным крылом.
— Ах, бедняжка! — воскликнула она и, сняв юбку, разорвала ее на полоски и перевязала сломанное гусиное крыло.
А потом спустилась к воде. Тихо катились к берегу сверкающие морские волны. Девушка попробовала морскую воду — та была горько-соленой. Но далеко в море виднелся остров, этакая гора над искрящейся на солнце водой.
— Наверное, это там Колодец Моря, — промолвила она вслух, — но как же мне туда добраться? Мне ведь никогда до этого острова не доплыть.
Но все же она решила попробовать; сняла башмаки и уже входила в воду, собираясь плыть к острову, когда услышала позади какой-то плеск и увидела, что по мелководью к ней шлепает большой белый бык с серебряными рогами.
— Залезай мне на спину, — сказал ей бык, — и я отвезу тебя.
Девушка взобралась быку на спину и ухватилась за рога. Они вошли в воду и поплыли.
Вскоре они добрались до далекого острова, но прибрежные скалы там оказались отвесными, как стены, и гладкими, как стекло.
— Как же мне залезть на эти скалы? — задумчиво промолвила девушка. — Уж больно они круты и высоки. Нет, не залезть мне. — Но все же она стала карабкаться вверх, и вдруг к ней подлетел серый гусь. Он был огромным, больше орла, и сказал ей:
— Садись ко мне на спину, я отнесу тебя. — Она уселась между крыльями, и гусь легко перенес ее на самую вершину горы. Там девушка обнаружила глубокий колодец с чистейшей водой, набрала этой воды в бутыль, и серый гусь отнес ее назад, на берег, а белый бык плыл за ними следом.
Но стоило серому гусю коснуться песка, как он превратился в человека — высокого, красивого юношу. И девушка увидела, что с правого его плеча свисают полоски ее разорванной на бинты юбки.
— Я правитель этого моря, — сказал он. — И очень хотел бы, милая, взять тебя в жены.
— Сперва я должна отнести эту воду матери, — ответила девушка.
И они вместе с юношей сели на спину белому быку и отправились в деревню. Мать девушки была уже совсем при смерти. Но стоило ей проглотить всего одну капельку принесенной воды, и она приподняла голову; потом проглотила еще капельку — и села. А после третьей капельки встала с постели и, выпив еще капельку, принялась танцевать от радости.
— Это самая сладкая вода в мире! — восклицала она. А потом вместе со своей младшей дочерью и повелителем моря уселась на спину белому быку и отправилась в его серебряный дворец, где и сыграли свадьбу. И вдова, совсем поправившись, весело танцевала на свадебном пиру.
— А муравьи? — прошептала Грай.
— Ах да, муравьи, — спохватилась моя мать. — Неужели же те муравьи оказались неблагодарными? Ничего подобного! Они тоже пришли на свадьбу, постаравшись ползти как можно быстрее, и принесли в подарок золотое кольцо, целых сто лет пролежавшее в земле под их муравейником; это кольцо и стало обручальным для младшей дочери вдовы.
— А в прошлый раз… — неуверенно начала Грай.
— Что — в прошлый раз?
— В прошлый раз ты говорила… ты говорила, что потом муравьи пошли и съели все печенье и все сласти, приготовленные к свадьбе старших сестер.
— Ну да, съели. Это им раз плюнуть. Муравьи вообще много чего умеют. Но самое главное — они вездесущи, то есть могут повсюду быть как бы одновременно, — совершенно серьезно заверила ее моя мать. А потом вдруг рассмеялась, и мы тоже стали смеяться с нею вместе, потому что она совсем позабыла про муравьев.
Вопрос Грай: «А что такое книга?» — заставил мою мать задуматься о таких вещах, на которые в Каменном Доме Каспроманта либо вовсе не обращали внимания, либо просто позабыли, что такое существует на свете. Никто в Каспроманте не умел ни читать, ни писать; а овец мы пересчитывали, делая зарубки на палочке. И это у нас совсем не считалось зазорным, но моя мать говорила, что это сущий позор. Не знаю уж, думала ли она когда-либо о том, чтобы вернуться в родные края — хотя бы на время, в гости, — или о том, чтобы пригласить своих родных в гости к нам; только вряд ли это было возможно. Но судьба детей ее тревожила. Она и представить себе не могла, чтобы ее сын отправился в широкий мир неученым, неграмотным, точно распоследний нищий с городских улиц. Нет, такого ей гордость никогда не позволила бы!
В Верхних Землях книг сроду не водилось, и мать решила сделать книгу сама. Она покрыла глазурью квадратики тонкого льняного полотна, распрямила их катками для глажки, сделала из дубовых орешков чернила, заточила гусиные перья и написала для нас букварь. А потом стала учить нас читать и писать — сперва мы писали палочками на земле, потом гусиными перьями на растянутом и выглаженном полотне. Затаив дыхание, мы старательно царапали перьями и без конца сажали огромные кляксы. Но мать стирала полотно, смывая бледные чернила, и мы снова могли писать. Грай все это казалось очень трудным, но она продолжала занятия — исключительно из любви к моей матери. А мне чтение и письмо ужасно нравились и представлялись самым легким занятием на свете.
— Напиши мне книгу! — просил я, и Меле записала для меня историю Раниу. Она отнеслась к этой работе очень ответственно. Надо помнить, какое образование дали ей в родном доме, так что она, конечно, сразу решила, что моей первой — а возможно, и единственной — книгой должно быть жизнеописание какого-нибудь святого. Она довольно хорошо помнила содержание «Истории чудесных деяний лорда Раниу», а чего не помнила наизусть, то пересказала своими словами. Я получил эту книгу в подарок, когда мне исполнилось девять лет: сорок прямоугольных «страниц», от края до края исписанных бледными четкими буквами и прошитых по краю синими нитками. Я много раз разглядывал и читал эту книгу. Даже выучив ее наизусть, я все равно продолжал перечитывать ее, бережно храня это рукописное творение не столько из-за самой истории, которая в нем излагалась, сколько из-за того сокровенного, что стояло за этими страницами. За ними мне виделись все остальные истории, которые рассказывала мне мать, а также все те истории, которые никто и никому еще никогда не рассказывал.
Глава 5
Я помню, что и отец продолжал учить меня, но, поскольку из меня вряд ли мог получиться второй Каддард, способный терроризировать всех своим неуправляемым даром, ему оставалось лишь рассказывать, как мне следует тренировать свою волю и глаз, и терпеливо ждать, когда мой дар проявится сам. Он говорил, что ему было девять лет, когда он впервые сумел на расстоянии уничтожить слепня. Отец, по природе своей человек крайне нетерпеливый, старательно вырабатывал в себе терпение путем строжайшего самовоспитания и был уверен, что и я впоследствии смогу справиться со своими недостатками. Он довольно часто испытывал меня, а уж я старался изо всех сил — ел глазом предмет, властно указывая на него рукой, и шепотом произносил те магические слова, которые должны были пробудить мой дар и мою волю.
— А что такое воля? —
как-то спросил я отца.
— Твердое намерение, — сказал он. — Ты должен иметь твердое намерение непременно заставить свой дар заработать. Потому что, если им пользоваться без особого желания, можно натворить больших бед.
— А что ты чувствуешь, когда пользуешься им?
Отец нахмурился, довольно долго думал и наконец сказал:
— Это все возникает как бы сразу. — Его левая рука непроизвольно шевельнулась. — И ты чувствуешь себя узлом, ты крепко держишь сразу дюжину тонких и прочных нитей, которыми управляешь. Или как если бы ты стал вдруг луком, в котором не одна тетива, а дюжина, и все они натянуты так, что ты с трудом их удерживаешь, пока сам себе не скажешь: «Пора!» И тогда твоя сила вылетает из тебя, точно множество стрел сразу.
— Значит, ты как бы приказываешь своей силе разрушить то, на что смотришь?
Отец снова нахмурился:
— Понимаешь, об этом невозможно рассказать словами. Я и слов-то таких не знаю.
— Но ты же рассказал… Ты же знал, что сказать, правда?
Но я уже понял, что имел в виду Канок: ЭТО всегда бывает по-разному и обозначить ЭТО одним и тем же словом невозможно, а может, и слова-то такого в языке вообще нет. То, что он произносил, пользуясь своим даром, звучало скорее как сильный выдох, этакое «Ха!» — словно у человека, совершающего значительное и резкое движение всем телом; но все же был в этом звуке и некий тайный смысл, которого я никак не мог постигнуть, хоть и старался во всем подражать отцу.
— Это приходит само собой… И наш дар начинает действовать. — Вот и все, что сумел сказать мне отец. Такие разговоры были для него очень мучительны, потому что он не мог ответить на мои вопросы. Впрочем, мне и не следовало их задавать. Да, определенно, мне не следовало их задавать!
Тревога моя стала усиливаться, когда мне исполнилось двенадцать, потом тринадцать, но мой дар все никак не проявлялся. Эта тревога преследовала меня не только наяву, но и во сне: мне без конца снилось, что я вот-вот совершу некий великий подвиг, разрушу до основания огромную каменную башню и уничтожу всех жителей какого-то вражеского селения… А иногда, уже совершив нечто подобное, я пробирался к дому среди руин и безликих мертвецов, в телах которых совсем не осталось костей… Но почему-то мне всегда снился тот период, который либо предшествует акту уничтожения, либо следует непосредственно за ним.
Когда я просыпался после такого сна, сердце мое стучало в груди, точно копыта лошади, бегущей галопом, но я старался поскорее взять себя в руки, отогнать владевший мной ужас, ибо так мне велел поступать Канок. Дрожа от неведомого страха и едва дыша, я впивался взглядом в резной набалдашник в изножье кровати, едва видимый в предрассветной мгле, и поднимал левую руку по направлению к нему, исполненный решимости сокрушить этот черный деревянный узел. Потом с силой выдыхал воздух из груди — «Ха!» — и, крепко зажмурившись, молился про себя, чтобы мое заветное желание, моя воля были наконец исполнены. Но когда я открывал глаза, деревянный набалдашник оказывался ничуть не поврежденным. Значит, время мое еще не пришло, с горечью думал я.
Пока мне не исполнилось четырнадцать, мы почти не поддерживали отношений с Драммантом. Наибольшую опасность среди наших соседей представлял для нас Эррой из Гереманта, с которым мы пребывали в состоянии настороженной враждебности. Нам с Грай было строжайшим образом запрещено ходить в сторону границы с его владениями, которая проходила через Рябиновую рощу. Мы подчинились. Мы не раз видели и Бента Гоннена, и того человека, у которого руки были вывернуты назад. Брантор Эррой сотворил это с ним в одном из приступов особой веселости — подобные вещи он называл шутками. А тот, с вывернутыми руками, был одним из его серфов. «Взял и в один миг сделал человека совершенно бесполезным! — сокрушались наши люди. — И зачем?» Но громко критиковать брантора Эрроя никто не осмеливался. Он явно был не в своем уме, но вслух этого никто не говорил. Все помалкивали, хотя намеки отпускали достаточно прозрачные.
От Каспроманта Эррой старался держаться подальше. Правда, он изуродовал спину нашему серфу Гоннену, но Гоннен, что бы он там сам ни говорил, наверняка все же перешел заповедную черту и воровал лес в Гереманте. По законам Верхних Земель это до некоторой степени оправдывало даже столь жестокое наказание. Мой отец, правда, мстить Эррою не стал, но поднялся в Рябиновую рощу, подождал, когда Эррой будет неподалеку и сможет увидеть, что произойдет. А затем Канок призвал свою силу, и ужасная полоса разрушений пролегла через всю рощу вдоль границы Каспроманта и Гереманта, — казалось, там пролетела шаровая молния, уничтожая все на своем пути и оставляя по краям частокол из мертвых, обугленных, покрытых черной листвой деревьев. Канок ни слова не сказал Эррою, хотя знал, что тот притаился в дальнем конце рощи, наблюдая за происходящим. Эррой тоже ничего ему не сказал, но больше вблизи той границы, что проходила по роще, его никто никогда не видел.
Еще со времен своего налета на Дьюнет мой отец пользовался незыблемой репутацией человека опасного. И ему не требовалось устраивать какие-то эффектные представления, чтобы эту репутацию подтвердить. «Быстрый глаз у этого Каспро!» — говорили люди. И я каждый раз испытывал дикую гордость, услышав это. Я гордился отцом, нашим родом и нашим даром.
Геремант был довольно бедным краем, и управлял им Эррой плохо, так что особая опасность с той стороны нам не грозила. А вот Драммант — совсем другое дело. Это был край вполне благополучный, и с каждым годом он становился все богаче. Говорили, что члены семейства Драм давно лелеют надежду стать бранторами всех земель Каррантагов, — впрочем, они и без того вели себя чрезвычайно высокомерно и нахально, требовали с более слабых соседей то военный налог, то дань, словно были правителями всех Верхних Земель! И все же более слабые поместья старались откупиться от них — платя овцами, или коровами, или шерстью, или даже серфами, которых Драм и вымогал у них, а иногда и попросту крал. Его боялись, ибо дар этого рода был действительно страшен. Он действовал медленно, и действие его сперва казалось незаметным — в отличие, скажем, от дара ножа или нашего дара разрушения связей. Но Огге из Драмманта мог пройти, например, по вашему полю или пастбищу, и на следующий год зерно непременно начало бы гнить в земле сразу после посева, а на пастбище в течение многих лет не выросло бы ни травинки. Он мог наслать страшную болезнь, далеко не сразу заметную глазу, на овечью отару, на стадо коров, на чью-то семью…
Все до одного умерли в Римманте, маленьком поместье близ юго-западной границы Драмманта. Брантор Огге явился туда со своими требованиями, но брантор Римманта встретил его на пороге и с презрением велел убираться прочь, пригрозив применить свой дар огня. Огге ушел, а ночью прокрался к их дому и, не торопясь, воспользовался своим даром, — по слухам, его дар заключался не в способности действовать взглядом, словом, рукой и волей, а в нашептывании каких-то особых слов и в сотворении особых жестов, так что это были настоящие магические чары, для плетения которых требовалось известное время. И вскоре все семейство Римм и всех людей в их доме поразил странный и тяжкий недуг, и в течение последующих четырех лет там умерли все до одного.
Канок сомневался в правдивости этой истории — во всяком случае, в том виде, в каком ее обычно рассказывали. «Драм не мог применить свой дар в темноте, да еще будучи снаружи дома, когда они все были внутри, — уверенно возражал он. — Его дар похож на наш и действует через глаза. Возможно, Драм просто рассыпал там какую-то отраву. А может, жителей Римманта поразила болезнь и вовсе не имевшая к Драму никакого отношения». И тем не менее все считали Огге Драма причиной гибели жителей Римманта. А он, разумеется, не замедлил этим воспользоваться, тут же присоединив земли Римманта к своим владениям.
Но нас все эти распри долгое время совершенно не касались. А потом два брата Корде вдруг принялись враждовать из-за наследства и титула брантора Кордеманта, и Огге Драм, направив большой вооруженный отряд в южную часть Кордеманта, заявил, что сделал это в целях сохранения мира. Братья продолжали ссориться — ах, глупцы! — и не заметили, как Огге втихомолку отхватил лучшую часть их земель. И теперь Драммант стал граничить на юге непосредственно с Каспромантом. Так Огге Драм стал нашим соседом.
И с тех пор настроение у моего отца становилось все более мрачным. Он чувствовал, что и его семья, и все жители Каспроманта подвергаются опасности, а защитить нас может лишь он один. Чувство ответственности у него было развито чрезвычайно; и свой дар он считал привилегией, накладывавшей на него определенные обязательства; для него, таким образом, могущество являлось и определенным ограничением свободы. Будь он молод и не женат, то, я думаю, вполне мог бы поднять своих людей и пойти на Драммант войной, чтобы сразу решить все вопросы, даже если б для этого пришлось поставить на карту собственную жизнь. Но Канок был хозяином своих владений, он отвечал за судьбы многих людей, у него была молодая беззащитная жена, малолетний сын, и никто из его родственников не обладал столь же могущественным даром, как у него, и не мог встать с ним плечом к плечу на защиту своей земли. Кроме, как он, возможно, надеялся, подрастающего сына.
Вот тут-то и крылась загвоздка, которая усиливала тревогу Канока. Его сыну было уже тринадцать лет, но он не проявлял ни малейших признаков фамильного дара.
Я давно уже наизусть выучил все уроки отца насчет того, как этим даром пользоваться, но применить свои знания на практике я не мог. Это было все равно что учиться ездить верхом, не имея возможности хотя бы посидеть в седле.
Я знал, как остро и сильно это тревожит Канока, ибо он был не в силах скрыть это. И тут Меле не могла служить ему ни помощью, ни утешением, как служила во всем остальном; не могла она и быть между нами посредником, чтобы хоть отчасти облегчить тот груз, который мы невольно взвалили друг другу на плечи. Ибо она ничего не знала ни о самом даре, ни о том, как он действует. Все это было ей совершенно чуждо. Она ведь была чужой в наших краях. Она никогда даже не видела, как Канок пользуется своей силой, — впрочем, нет, один раз все-таки видела: тогда, на рыночной площади в Дьюнете, когда он убил одного из нападавших и искалечил другого. А в Каспроманте ему совершенно не хотелось демонстрировать жене свой дар разрушения. Тем более что его дар пугал Меле; она его не понимала или, точнее, понимала лишь отчасти.
Оставив в Рябиновой роще целую просеку из вывороченной земли и мертвых деревьев для устрашения Эрроя, Канок использовал свой дар только для того, чтобы показать мне, как это делается и какова цена такой страшной способности. Он никогда не пользовался этим даром во время охоты: разрушенные кости и внутренние органы зверей приводили людей в такой ужас, что никому и в голову бы не пришло есть такую дичь. Да и вообще, Канок считал, что подобный дар не годится, так сказать, для повседневного использования и подходит только для дел действительно серьезных. Так что Меле иногда почти забывала о том, что ее муж наделен столь ужасным даром, и тем более не видела никаких причин беспокоиться, что у меня этот дар может и не проявиться.
И, лишь услышав наконец, что я впервые попробовал свою силу, она встревожилась.
Встревожился и я.
Мы ехали рядом с отцом — он на своем сером жеребце, а я на Чалой. С нами был еще Аллок, один наш молодой фермер, тоже из рода Каспро и тоже умевший «кое-что делать глазами» — например, развязывать узлы и т. п. Возможно, он мог бы даже убить крысу, если бы, по его собственным словам, смотрел на нее столько времени, вот только ему не попадалось таких крыс, которые захотели бы достаточно долго торчать у него перед носом и ждать, когда он соизволит наконец их укокошить. Аллок был парень добродушный, очень любил лошадей и прекрасно с ними ладил, — в общем, из него получился отличный конюх, о котором так долго мечтал мой отец. Аллок ехал на молодом, двухгодовалом жеребчике, сыне нашей Чалой. Мы старательно его обучали, ибо мой отец был уверен, что из него получится такой же могучий рыжий жеребец, на каком он когда-то скакал в Дьюнет.
Мы добрались до наших юго-западных пастбищ, где паслись овечьи отары, внимательно поглядывая по сторонам, хотя Канок нас к этому и не призывал; нелишним было проверить, не забредали ли в наши земли непрошеные гости из Драмманта, не смешались ли их овцы с нашими, потому что потом их пастухи запросто могли потребовать своих овец назад, а заодно прихватить и несколько наших. Об этой их привычке нас давно предупреждали жители Кордеманта, в течение долгого времени жившие с Драмом бок о бок. Мы действительно приметили несколько чужих животных среди наших горных овечек, покрытых грубоватой курчавой шерстью. Пастухи у нас красили овцам уши луковым отваром, чтобы их легко было отличить, скажем, от овец Эрроя, который вечно разрешал своим пастухам пускать овец на наши пастбища, а потом еще и заявлял, что мы «украли его животных». Впрочем, с тех пор как мой отец «отметился» в Рябиновой роще, Эррой подобными вещами заниматься перестал.
Мы свернули южнее, отыскали пастуха с собаками и велели ему отсечь овец, принадлежащих Драму, и отогнать их за пределы наших владений. Затем мы снова поехали на запад и, увидев в ограде пролом, принялись его латать. Лицо Канока, когда он, закончив работу, снова сел на коня, совсем помрачнело. Мы с Аллоком в испуганном молчании ехали за ним следом. Мы спускались по склону холма, когда жеребец отца, Грейлаг, поскользнулся, наступив передней ногой на скрытую в траве сланцевую пластину, дико взбрыкнул, но на ногах устоял. Канок тоже в седле удержался, но все же низко наклонился, чтобы посмотреть, не вывихнул ли Грейлаг ногу. И тут я заметил на таком же плоском камне, куда в следующее мгновение должен был ступить Грейлаг, гадюку, приготовившуюся к нападению. Я громко закричал и указал на змею. Канок, осадив коня, посмотрел сперва на меня, потом на змею, взмахнул левой рукой и преспокойно уселся в седло — все эти действия он проделал, казалось, в одну секунду. Грейлаг резко, на всех четырех ногах прыгнул в сторону, спасаясь от ядовитой твари.
А гадюка лежала на камне и была похожа на сдернутый с ноги чулок, плоская и безжизненная.
Мы с Аллоком так и застыли в седлах, в ужасе глядя на нее; у обоих левые руки замерли в воздухе, по-прежнему указывая в том направлении.
Канок погладил Грейлага по шее, успокоил его и осторожно спешился. Осмотрев мертвую змею, он внимательно глянул на меня и сказал с каким-то странным выражением на лице — застывшим и одновременно свирепым:
— Неплохо, сынок.
Я с глупым видом уставился на него.
— Действительно неплохо! — подхватил Аллок, сияя во весь рот. — Клянусь священным камнем, это же страшно ядовитая тварь! И крупная какая! Вполне могла прокусить нашему брантору ногу до кости!
Я посмотрел на голые, мускулистые и смуглые ноги отца.
Аллок спрыгнул с седла и подошел к камню поближе, чтобы посмотреть на мертвую гадюку, потому что рыжий жеребчик даже с места сдвинуться не желал.
— Ну точно! Совсем дохлая! — с удовольствием воскликнул Аллок. — И видно, сильный глаз на нее действовал! Посмотри, видишь у нее ядовитые клыки? Отвратительная тварь! — Он сплюнул, помолчал и снова повторил: — Да, сильный у тебя глаз!
— Но я не… — И я растерянно посмотрел на отца.
— Эта змея была уже мертва, когда я ее увидел, — сказал Канок.
— Но ведь ты…
Он нахмурился, хотя и не слишком сердито.
— Это ведь ты ее ударил? — спросил он.
— Точно, он! — вмешался Аллок. — Я сам видел! Молодец, Оррек! И глаз у тебя быстрый как молния!
— Но я…
Канок продолжал внимательно смотреть на меня, и взгляд его был настолько суров, что я снова осекся.
Впрочем, помолчав, я все же попытался объяснить:
— Но ведь и сегодня все было, как и прежде, когда у меня ничего не получалось… — Я еще немного помолчал. Мне хотелось плакать. Все это случилось так неожиданно; и похоже, я что-то сделал, но ничего не чувствовал и даже не заметил, как сделал это. — Я ничего особенного не почувствовал, — признался я с трудом.
Отец еще некоторое время молча смотрел на меня, потом сказал:
— И все же это произошло. — И больше он не прибавил ни слова; легко вскочил в седло и двинулся дальше. Аллок был занят ловлей рыжего жеребчика, который больше не желал, чтобы на нем ехали верхом, так что тот странный миг миновал. И мне не хотелось оборачиваться, не хотелось смотреть на то, что прежде было змеей.
Мы поехали дальше, к ограде, тянувшейся вдоль границы, и нашли то место, где к нам перебирались овцы Драма; камни из ограды здесь явно вынули совсем недавно. Остаток утра мы потратили на восстановление ограды, отыскав проломы и еще в нескольких местах поблизости.
Мне все еще настолько не верилось, что я мог убить ту змею, что я старался даже не думать об этом, и отец вечером застал меня врасплох, вдруг заговорив о моем «подвиге» с матерью. Он сообщил ей об этом кратко и сухо, в своей обычной манере, и мать даже не сразу поняла, что сегодня я наконец проявил свой дар и, возможно, спас жизнь отцу. Она, как и я, тоже очень растерялась, и вместо слов похвалы или радости у нее вырвались лишь слова тревоги.
— Так они, значит, такие опасные, эти гадюки? — все повторяла она. — А я и не знала, что они такие ядовитые. Но ведь они же могут заползти куда угодно, а там дети бегают, играют!
— Ну да, — сказал Канок. — Их на холмах всегда было полным-полно. К счастью, они не подползают слишком близко к домам.
То, что наша жизнь с детства неизбежно и постоянно подвергалась риску, Канок воспринимал как некую данность, и Меле порой приходилось пересиливать себя, чтобы примириться с этим. Получалось это у нее не слишком хорошо, но, с другой стороны, она всегда была защищена от любой угрозы. Канок делал для этого все возможное; и раньше никогда ей и не лгал.
— Между прочим, именно гадюки и дали нашему дару одно старинное название, — сказал он матери. — Раньше его часто называли «дар гадюки». — Канок быстро глянул на меня — лишь глаза блеснули, и взгляд их был мрачен и тверд; это был тот же взгляд, что и там, на склоне холма. — Их яд и наш дар действуют примерно одинаково.
Меле охнула, притихла. Потом сказала все же:
— Я знаю, ты рад, что этот дар у Оррека все-таки проявился. — Немало мужества ей потребовалось, чтобы это сказать.
— А я никогда и не сомневался, что он проявится, — ответил отец. Это было сказано, чтобы подбодрить и ее, и меня, но я не уверен, что она или я были способны принять такую поддержку.
В ту ночь я очень долго не мог уснуть, что, согласитесь, странно для подростка моих лет. Я снова и снова обдумывал случившееся, и тревожные сомнения все глубже проникали в мою душу. Наконец я все же уснул, и снились мне тревожные и странные сны. Проснулся я очень рано, встал и сразу пошел на конюшню. В кои-то веки я оказался там раньше отца, но и он вскоре тоже пришел, зевая, протирая заспанные глаза.
— Здравствуй, Оррек, — сказал он.
— Отец, — сказал я, — я хочу… насчет той змеи…
Он слегка наклонил голову.
— Я знаю: я старался использовать и руку, и глаз, но я не думаю, что убил ее. Моя воля… Я же ничего не почувствовал! Все было точно так же, как и раньше. — Горло у меня болезненно сдавило, глаза щипало.
— Но ты же не думаешь, что это сделал Аллок? — с легким презрением сказал отец. — Он на такое не способен.
— А ты? Это ведь ты ударил ее?..
— Нет. Когда я ее увидел, она была уже мертва, — повторил он в точности те же слова, что и вчера. И все же мне показалось, что в его голосе и глазах проскользнула некая искра задумчивости, или вопрос, или даже сомнение. Но это продолжалось лишь мгновение. К нему тут же вернулась прежняя твердость, хотя лицо его все еще было несколько размягченным, но уже не таким, каким я его увидел, когда он стоял в дверях конюшни и сонно зевал. — Да, я ударил эту змею, — сказал он. — Но после того, как это уже сделал ты. Я уверен, что первым был ты. И ты сделал это очень быстро — и рукой, и глазом.
— Но как же я тогда смогу узнать, что воспользовался своим даром, если… если мне кажется, что все осталось по-прежнему? Как и тогда, когда у меня ничего не получалось?
Мои вопросы явно застали отца врасплох. Он нахмурился, задумался, а потом сказал не слишком уверенно:
— А может быть, тебе прямо сейчас попробовать еще раз, Оррек? На чем-нибудь маленьком, незначительном? Ну, например, на этой вот травке? — И он указал на кустик одуванчика, выросший между камнями двора рядом с конюшней.
Я уставился на одуванчик полными слез глазами. Я не смог их сдержать, закрыл руками лицо и расплакался.
— Я не хочу, не хочу! — выкрикивал я. — Я не могу! Не могу и не хочу!
Отец подошел ко мне, опустился на колени, обнял меня и дал мне выплакаться.
— Все хорошо, дорогой, — сказал он, когда я стал наконец успокаиваться. — Все будет хорошо. Но это действительно очень нелегко — привыкать к своему дару. Иди-ка умойся.
И больше мы с ним о моем даре не говорили — во всяком случае, некоторое время.
Глава 6
После этого в течение нескольких дней мы специально ездили с Аллоком в те места. Мы чинили, а кое-где и перекладывали каменную изгородь вдоль наших юго-западных пастбищ, ясно давая пастухам по ту сторону границы понять, что в этой изгороди нам знаком каждый камень и мы сразу заметим, если они хоть один расшатают или вынут. И на третий или четвертый день мы увидели, что к нам по длинному пологому склону холма направляется группа всадников. Они ехали прямиком через те пастбища, что некогда принадлежали роду Корде, а теперь стали собственностью Драмманта. Овцы с громким блеянием разбегались в разные стороны, ибо всадники мчались с приличной скоростью, и скорость эта все увеличивалась, ведь участок земли там был почти ровным. День стоял облачный, туманный, и мы насквозь промокли от мелкого дождя, сеявшегося с неба, и все перепачкались, таская мокрые грязные камни.
— Ох, клянусь священным камнем, это же сам старый змей! — пробормотал Аллок. Но мой отец так на него глянул, что он сразу примолк, а отец, повернувшись к подъехавшим всадникам, сказал громко и спокойно:
— Доброго дня тебе, брантор Огге.
Мы с восторгом смотрели на драммантских коней. То были поистине прекрасные животные. Брантор ехал на великолепной медового цвета кобыле, которая, впрочем, выглядела слишком изящной и хрупкой для его массивной фигуры. Огге Драму было лет шестьдесят, но он был еще могуч: грудь как бочка, бычья шея. На нем были черный килт и куртка горца, но и то и другое из тонкой тканой шерсти, а не из фетра, и на коне уздечка была серебряная. Его голые голени бугрились мускулами. Я в основном видел именно его здоровенные голые ножищи, а лицо — лишь мельком, потому что в глаза ему смотреть не решался. Сколько себя помню, я слышал о бранторе Огге только плохое. Да и сейчас это стремительное приближение его вооруженного отряда — Огге лишь у самой ограды натянул вожжи — тоже радостных надежд не сулило.
— Чинишь ограду, Каспро? — спросил он густым, но неожиданно добродушным басом. — Хорошее дело. У меня есть несколько человек, отлично владеющих искусством сухой кладки. Я пришлю их тебе, пусть помогут.
— Мы сегодня как раз все заканчиваем, — сказал Канок, — но все равно спасибо за предложение.
— А я все-таки их пришлю. У ограды ведь две стороны, верно?
— Что ж, пусть работают, — любезно согласился мой отец, но лицо у него было при этом тверже камня, который он держал в руках.
— Один из этих парнишек ведь твой, верно? — сказал Огге, разглядывая Аллока и меня. Оскорбление было хорошо замаскировано. Он наверняка знал, что сын Канока — еще мальчишка, а не двадцатилетний молодой человек. Ему просто хотелось намекнуть, что он не в силах отличить сына брантора от простого серфа. Во всяком случае, мы трое восприняли это именно так.
— Мой, — ответил отец, не называя меня и явно не собираясь меня ему представлять. Он на меня даже не взглянул, и Огге, сменив тему, сказал:
— Теперь, когда наши земли граничат друг с другом, я хочу пригласить вас с женой погостить у нас в Драмманте. Если я, скажем, подъеду к тебе через денек-другой, ты дома будешь?
— Непременно, — ответил Канок. — И буду очень рад принять тебя.
— Хорошо, хорошо. Я заеду. — Огге небрежно махнул рукой в великодушном прощании, ударил пятками по бокам кобылу и легким галопом двинулся во главе своей свиты вдоль каменной ограды.
— Ах, — выдохнул Аллок, — какая очаровательная кобылка! Прямо вся медовая! — Он был помешан на лошадях не меньше моего отца. Оба только и думали, как бы улучшить поголовье нашего жалкого «табуна», и строили всякие планы. — Вот бы ее спарить с Бранти! Через годок, глядишь, такой отличный жеребенок мог бы получиться!
— А какую цену пришлось бы за это заплатить? — резко возразил Канок.
После этой встречи отец часто бывал очень напряженным и сердитым. Матери он велел быть постоянно готовой к визиту Огге, и она, разумеется, послушалась. А потом они стали ждать. Канок никуда из дома не отлучался, не желая, чтобы Меле принимала брантора Огге в одиночку. Однако прошло, наверно, с полмесяца, прежде чем он соизволил наконец явиться.
Сопровождение у него было все то же — в основном люди из его рода, но никаких женщин. Мой отец в своей бескомпромиссной гордости воспринял это как оскорбление. И не спустил его обидчику.
— Жаль, что жена с тобой не приехала! — воскликнул он без улыбки.
И Огге тут же принялся извиняться и оправдываться, говоря, что его жена страшно занята: «Столько забот, ты ж понимаешь?» — и к тому же в последнее время она неважно себя чувствует.
— Но в будущем она надеется приветствовать вас в Драмманте, — сказал он, поворачиваясь к Меле. — В былые-то времена мы куда чаще ездили в гости к соседям. Одичали мы у себя в горах; совсем позабыли о древних обычаях, а ведь горцы всегда отличались гостеприимством. В городах-то оно, конечно, иначе; там, говорят, у каждого человека соседей — что ворон на падали.
— И там по-разному бывает, — спокойно заметила моя мать. Рядом с его медвежьей тушей она казалась совсем маленькой и хрупкой, но пугливой не выглядела и говорила тихо, как всегда, несмотря на громовые раскаты его голоса, в котором постоянно чувствовалась скрытая угроза.
— А это, должно быть, твой парнишка? Впрочем, я его и в тот раз видел. — И он вдруг повернулся ко мне. — Его, верно, Каддард зовут?
— Оррек, — сказала моя мать, поскольку я безмолвствовал, но вежливо поклониться все же себя заставил.
— А ну-ка, Оррек, дай на тебя поближе посмотреть, — прогремел у меня над головой его бас. — Небось опасаешься дара Драмов, а? — обидно засмеялся он.
Сердце мое билось уже почти в горле, мешая дышать, но я заставил себя высоко поднять голову и посмотреть прямо в его огромное лицо, нависшее надо мной. Глазки Огге почти скрывались в тяжелых набрякших веках и казались узкими щелками; и взгляд у него был такой же холодный и равнодушный, как у змеи.
— Я слышал, ты уже проявил свой дар? — Змеиные глаза его блеснули, когда он быстро глянул на моего отца.
Разумеется, Аллок тогда растрезвонил всем в доме о том, как я убил гадюку, но меня всегда удивляло, как быстро любая молва перелетает в горах с места на место и ее тут же узнают все, даже те, кто друг другу и слова ни разу в жизни не сказал.
— Да, проявил, — ответил ему Канок, глядя при этом на меня, а не на Огге.
— Значит, слухи, несмотря ни на что, были верными! — Огге отчего-то даже обрадовался и заговорил так тепло и горячо, что мне и в голову не пришло, к чему он на самом деле клонит, а ведь на уме у него было дерзкое оскорбление в адрес моей матери. — Истинный дар рода Каспро — вот что сейчас мне хотелось бы видеть! У нас, в Драмманте, из вашего рода есть лишь несколько женщин, они, конечно, отчасти сохраняют этот дар, да только применить его не могут. Может быть, молодой Оррек устроит для нас небольшое представление? Ты как, парень, не против? — Бас Огге звучал дружелюбно, но настойчиво. Отказаться было невозможно. Я ничего не сказал, но вежливость требовала хоть какого-то ответа, и я кивнул.
— Хорошо, тогда мы отловим несколько змей к твоему приезду. Или, может, ты лучше избавишь наши амбары от крыс и кошек, если тебе это больше по нраву? Я рад услышать, что дар Каспро сохранился, несмотря ни на что. — Это он сказал все тем же добродушным гулким басом, обращаясь уже к моему отцу. — Дело в том, что есть у меня одна мыслишка — насчет моей внучки, дочери младшего сына, — и эту мыслишку мы вполне можем обсудить, когда вы прибудете в Драммант. — Огге встал и повернулся к моей матери. — Ну вот, теперь ты видела, что я не такое уж чудовище, как тебе, наверно, рассказывали. Надеюсь, ты окажешь нам честь? Скажем, в мае, хорошо? Когда дороги подсохнут.
— С удовольствием, — сказала Меле, тоже встала и поклонилась ему, сложив пальцы под подбородком кончиками друг к другу, — это жест вежливого уважения у жителей Нижних Земель, хотя у нас он совершенно не принят.
Огге так и уставился на нее. Как если бы этот жест вдруг сделал Меле видимой для него. До того он почти и не смотрел ни на кого из нас. Она стояла с выражением почтения и отчужденности на лице, очень красивая и гордая, и красота ее была совершенно не похожа на красоту наших женщин: она была такая тонкая, легкая, быстрая, живая. Я видел, как меняется громадная физиономия Огге от наплыва самых невероятных чувств; я мог лишь догадываться об их происхождении: они были порождены удивлением, завистью, неутоленным голодом, ненавистью…
Потом Огге окликнул своих людей, которые с удовольствием угощались за столом, накрытым для гостей моей матерью, и, вскочив на коней, они тут же поехали прочь. А Меле, посмотрев на остатки пиршества, сказала: «Что ж, они неплохо поели», — и в ее голосе чувствовалась гордость хозяйки и одновременно некоторое разочарование, потому что на столе не осталось ничего из тех лакомств, которые она с такой заботой и усердием готовила, рассчитывая побаловать ими и нас.
— Точно вороны на падали, — сухо процитировал Канок.
И Меле со смехом заметила:
— Да уж, он явно не дипломат!
— Вряд ли кто-нибудь знает, кто он на самом деле. Интересно, зачем он приезжал?
— Похоже, его интересовал Оррек.
Отец глянул на меня: мне явно полагалось теперь уйти, но я точно врос в пол, во что бы то ни стало желая дослушать.
— Возможно, — сказал он, явно стараясь перевести разговор на другую тему, чтобы я все-таки ушел и не смог услышать, что он еще скажет матери.
Но мать мое присутствие совершенно не смущало.
— Неужели он всерьез говорил о помолвке? — спросила она.
— Та девочка как раз подходящего возраста.
— Но Орреку еще нет и четырнадцати!
— Она чуть младше. Я думаю, ей лет двенадцать-тринадцать. Зато мать у нее из рода Каспро.
— И что? Неужели только поэтому двое детей должны отныне считаться женихом и невестой?
— А что тут такого? — сказал Канок довольно жестким тоном. — Это ведь всего лишь первичная договоренность. Помолвка. До свадьбы нужно подождать еще несколько лет.
— Но они ведь совсем дети! Какие тут могут быть предварительные договоренности!
— Лучше все-таки решать подобные вещи раз и навсегда. От брака в наших краях зависит слишком многое.
— Даже слышать об этом не желаю! — помотала она головой. Она говорила тихо и отнюдь не высокомерно, однако возражала отцу крайне редко; возможно, именно это и вынудило его, и без того пребывавшего в страшном напряжении, перейти ту границу, которую он в ином случае никогда переходить бы не стал.
— Я не знаю, что задумал Драм, но если он предлагает помолвку, то предложение это весьма великодушное, и нам следует отнестись к нему со всем вниманием. Другой девушки, действительно принадлежащей к роду Каспро, нет во всем Западном крае. — Канок посмотрел на меня, и я невольно вспомнил, что именно таким задумчивым оценивающим взглядом он смотрит на жеребчиков и молодых кобыл, решая, какое у той или иной пары получится потомство. Потом он отвернулся и сказал: — Мне только совершенно непонятно, с какой стати он вдруг решил предлагать это нам. Возможно, он надеется на некую компенсацию…
Меле молча смотрела на него.
Нет, все это надо было срочно обдумать! Неужели Огге хочет как-то оправдаться перед отцом за то, что когда-то увел у него из-под носа всех трех невест, способных сохранить чистоту рода Каспро, и заставил его отправиться искать себе жену в Нижних Землях, где он в отчаянии и женился на такой, которая вообще, по нашим меркам, была без роду без племени?
Моя мать покраснела, такой красной я ее никогда не видел: ее смуглая кожа потемнела, как зимнее небо в час заката.
— А ты что же, ожидал… компенсации? — осторожно спросила она.
Но Канока, казалось, ничто не трогало; он оставался неколебимым как скала.
— Это было бы только справедливо, — сказал он. — И тогда у нас нашлись бы средства на починку каменных изгородей на границе наших владений. — Он прошелся по комнате. — Даредан была тогда еще совсем не старой. Не слишком старой, во всяком случае. Она же смогла родить Себбу Драму дочь. — Он снова подошел к нам и остановился, глядя в пол и что-то обдумывая. — Мы обязательно должны подумать над его предложением. Если он его повторит, конечно. Драм — очень опасный враг. Но он может быть и неплохим другом. И если уж он предлагает мне дружбу, я должен ее принять. Да и для Оррека такая возможность — самое лучшее, на что я мог надеяться.
Меле молчала. Она уже высказала свои соображения, и больше ей добавить было нечего. Если практика подобных помолвок между детьми и была ей внове и казалась отвратительной, то принцип договоренности родителей о браке для своих детей, как и использование брака в качестве финансового и социального залога, был ей хорошо знаком. А вот в вопросах отношений между хозяевами здешних владений, а также в сложностях, связанных с чистотой родословной, она совершенно не разбиралась и вынуждена была полагаться на опыт и знания моего отца.
Но у меня имелись собственные соображения на сей счет, и я, чувствуя, что мать скорее на моей стороне, решился высказаться.
— Но если вы помолвите меня с этой девушкой из Драмманта, — сказал я, — то как же Грай?
Канок и Меле разом обернулись и посмотрели на меня.
— А что Грай? — спросил Канок, притворяясь, будто ничего не понимает, хотя получалось это у него очень плохо.
— Мы с Грай тоже хотели бы заключить помолвку.
— Ты еще слишком мал, чтобы что-то решать! — взорвалась моя мать и тут же поняла, что зашла слишком далеко.
Отец некоторое время стоял молча, потом заговорил — осторожно, медленно, тяжело роняя слова и после каждого предложения делая паузу:
— Мы с Терноком говорили об этом. Грай из великого рода, и фамильный дар очень силен в ней. Мать хочет помолвить Грай с Аннреном Барре из Кордеманта, чтобы сохранить чистоту их дара. Впрочем, ничего еще не решено. Но эта девушка из Драмманта действительно принадлежит к нашему роду, Оррек. И для меня это очень важно, да и для тебя тоже. И для всех жителей Каспроманта. Такой возможностью пренебрегать нельзя. Драм — наш ближайший сосед, а родство — это наилучший способ наладить дружеские отношения.
— Но с Роддмантом-то мы всегда дружили! — возразил я уверенно.
— И я отнюдь не склонен недооценивать эту дружбу. — Отец задумчиво смотрел на разоренный стол и явно испытывал неуверенность, несмотря на все свои решительные заявления. — Впрочем, пока что тут не о чем говорить. Драм, возможно, ничего подобного более и не станет нам предлагать. Он ведь всегда одновременно пользуется и кнутом и пряником, а после ушата горячей воды может опрокинуть на тебя и ушат холодной. Вот поедем к ним в мае и постараемся разузнать, что имелось в виду. Вполне возможно, я неправильно его понял.
— Он, конечно, человек грубый и невоспитанный, но, как мне показалось, настроен вполне дружелюбно, — осторожно заметила Меле. «Грубый и невоспитанный» — в ее устах эти слова носили самый негативный смысл. Она применяла их ко всем. В данном случае это означало, что Огге Драм ей, безусловно, не понравился, но она чувствует себя неуверенно, ибо подобное безосновательное недоверие ей, вообще-то, совсем не свойственно. Видя в каждом человеке прежде всего доброжелательность, даже если ее там не было и в помине, она зачастую сама как бы создавала ее. И люди относились к ней с открытой душой; даже самые противные, вечно обиженные фермеры разговаривали с нею сердечно, а скупые на слова старухи из серфов поверяли ей свои горести и печали, точно сестре.
Я не мог дождаться, когда наконец увижусь с Грай и расскажу ей о визите Драма. Все это время меня держали дома, пока Огге наконец не осуществил свою прихоть. Обычно-то я был волен идти куда хочу, как только выполню всю порученную мне работу. В общем, на следующий же день я сказал матери, что поеду верхом в Роддмант. Она так посмотрела на меня своими ясными глазами, что я покраснел. Но вслух она ничего мне не сказала. И я пошел к отцу спросить, можно ли мне взять рыжего жеребчика. В этот раз, разговаривая с Каноком, я отчего-то испытывал непривычную уверенность. Во-первых, он видел, как я продемонстрировал наш фамильный дар, и, во-вторых, слышал мои смелые речи после визита Огге и заявления о возможной помолвке с его внучкой. И меня совсем не удивило, когда он разрешил мне взять рыжего Бранти и даже не напомнил, чтобы я держал его подальше от коров и быков, а потом не забыл выгулять как следует. А ведь он непременно напомнил бы мне об этом еще совсем недавно! Но тогда я был мальчишкой тринадцати лет, а теперь стал вполне взрослым, четырнадцатилетним мужчиной.
Глава 7
Я отправился в путь и, как всякий мужчина, был исполнен ощущения собственной важности и ответственности за близких. Рыжий Бранти бежал легким приятным галопом, и на пологих открытых склонах холмов его галоп напоминал скорее полет птицы. Он, кстати, не обращал ни малейшего внимания на глупых коров, пяливших на него глаза, и вел себя идеально, словно тоже преисполнился уважения к моему новому положению взрослого мужчины. Я был страшно доволен нами обоими. Мы резвым галопом подлетели к Каменному Дому Роддманта, и какая-то девчонка бросилась сообщать Грай о моем приезде. Я же в дом не спешил, неторопливо выгуливая Бранти по двору, чтобы конь немного остыл. Бранти и впрямь становился таким красавцем, что любому ездоку было впору им гордиться, а уж я и вовсе выступал по двору, точно павлин. Грай выбежала во двор и радостно бросилась к нам. Бранти, разумеется, тут же потянулся к ней, получил лакомство, посмотрел на нее с величайшим интересом, потом вдруг насторожил уши, шагнул к ней и прижался своим высоким лбом к ее лбу. Она приняла это торжественное приветствие как должное, ласково погладила коня по челке, легонько дунула ему в ноздри и заговорила с ним, издавая какие-то тихие невнятные звуки, которые называла речью животных. Мне она не сказала ни слова, но улыбка ее была радостной.
— Когда Бранти остынет, давай сходим к водопаду, — предложил я.
Мы отвели жеребца в стойло, дали ему сена и немного овса, а потом спустились в свою излюбленную лощину, где примерно в миле от мельницы, установленной на здешней речушке, к одному потоку присоединялся другой и оба рукава реки, слившись воедино, мчались дальше, образуя перекаты, и в одном месте падали с довольно высокого утеса шумливым водопадом в небольшое, но глубокое озерцо. От водопада постоянно тянуло холодным ветерком, заставлявшим кланяться кусты дикой азалии и черные ивы на берегу озера. В зарослях какая-то маленькая птаха без умолку пела свою простенькую песенку, а у нижнего края озерца издавна гнездился дрозд. Там мы перебрались вброд на другой берег и стали купаться; мы ныряли под водопад, карабкались на скалы, плавали, брызгались, кричали и, наконец, взобрались на большую плоскую скалу, нагретую солнцем, и улеглись там, чтобы немного просохнуть. Среди весны вода в озере была просто ледяная, но мы, точно выдры, никогда не чувствовали холода.
Названия этого скалистого выступа мы не знали, но он уже много лет подряд служил нам любимым местом для обсуждения всяких важных дел.
Некоторое время мы просто лежали, тяжело дыша и впитывая солнечное тепло. Но в душе у меня накопилось столько всего, что мне просто необходимо было немедленно все выложить Грай.
— Вчера к нам брантор Огге заезжал, — начал я.
— Я его тоже однажды видела, — равнодушно откликнулась она, — когда мать брала меня в их края на охоту. У него такой вид, словно он бочонок проглотил.
— Огге обладает могущественным даром, — тупо повторил я слова отца. Я хотел, чтобы она признала величие Огге и потом должным образом оценила мое самопожертвование, — ведь я же отказался стать его зятем. Но в эти минуты я еще не успел рассказать ей об этом, а потом, когда для этого пришло время, вдруг оказалось, что сделать это ужасно трудно.
Мы лежали голова к голове, прижавшись животами к теплой гладкой скале, точно две тощие ящерицы. Так было очень удобно разговаривать совсем тихо, как любила Грай. Она не была скрытной и вопить порой могла громче дикой кошки, но разговаривать всегда предпочитала тихим голосом.
— Он пригласил нас в мае приехать в Драммант.
Грай промолчала.
— Он сказал, что хочет познакомить меня со своей внучкой. Она по материнской линии тоже из рода Каспро. — Я прямо-таки слышал в собственном голосе отголоски отцовских аргументов.
Грай что-то невнятно пробормотала и надолго умолкла. Глаза ее были закрыты. Спутанные мокрые волосы закрывали ту половину лица, которую я мог видеть, а другой щекой она прижималась к скале. Мне даже показалось, что она уснула.
— И ты поедешь? — шепотом спросила она наконец.
— Знакомиться с его внучкой? Конечно.
— И согласишься быть с ней помолвленным? — Глаз она по-прежнему не открывала.
— Нет, что ты! — воскликнул я возмущенно, но несколько неуверенно.
— Вот как?
Помолчав немного, я сказал: «Да, так!» — хотя и не так возмущенно, но ничуть не более уверенно.
— Мать меня тоже помолвить хочет, — сказала Грай. Она приподняла голову и теперь смотрела прямо перед собой, упершись подбородком в скалу.
— С Аннреном Барре из Кордеманта, — сказал я, очень довольный тем, что узнал об этом раньше нее. Но Грай мое сообщение совсем не понравилось. Она
ненавидела, когда о ней говорили за глаза. Ей нравилось жить незаметно, как та птичка в зарослях черных ив. Она молчала, а я чувствовал себя полным дураком. Чтобы как-то замять допущенную неловкость, я пробормотал: — Мой отец говорил об этом с твоим отцом. — Но Грай по-прежнему молчала, и я решил: она ведь спросила меня, так почему же мне нельзя спросить ее? Но как же трудно оказалось это сделать! Но я заставил себя произнести тот же вопрос: — И ты поедешь?
— Не знаю, — процедила она сквозь зубы, все так же упираясь подбородком в камень и глядя перед собой.
Ну вот, пожалуйста! Я с такой готовностью ответил на ее вопрос! Еще бы, разве можно было променять Грай на какую-то внучку? Но Грай-то не выказывала никакого особого желания отказываться от помолвки с этим Аннреном Барре ради меня! И я, глубоко уязвленный, выпалил:
— А я всегда думал… — и осекся.
— Я тоже так всегда думала, — прошептала Грай. И прибавила еще тише, так, что слова ее почти заглушил шум водопада: — Я сказала матери, что не хочу никакой помолвки, пока мне не исполнится пятнадцать. Ни с кем. Отец согласился. А мать рассердилась.
Грай вдруг перевернулась на спину и легла, раскинув руки и глядя в небо. Я сделал то же самое. Руки наши почти касались друг друга на теплом камне, однако лежали неподвижно.
— Значит, пока тебе не исполнится пятнадцать, — эхом повторил я.
— Пока нам не исполнится пятнадцать, — сказала она довольно громко и решительно.
И больше мы за долгое время не сказали друг другу ни слова.
Я лежал над озером и чувствовал, как счастье пронизывает меня, подобно солнечным лучам, а под собой я чувствовал такую же мощную опору, как та скала подо мной.
— Призови птичку, — шепотом попросил я Грай.
Она просвистела три какие-то ноты, и из качающихся под скалой густых зарослей мгновенно прилетел нежный ответ. Через минуту птичка пропела снова, но Грай ей не ответила.
Она могла бы призвать птичку к себе, и та села бы ей на ладонь или на палец, но она этого не сделала. Когда в прошлом году ее дар стал входить в полную силу, мы часто пользовались им для разных игр. Например, Грай заставляла меня ждать на лесной поляне, но не говорила, что мне предстоит увидеть, и я ждал с напряженным вниманием охотника, пока внезапно, всегда поражая меня до глубины души, передо мной не появлялась, например, косуля с детенышами. Или я вдруг чувствовал запах лисы, начинал озираться и наконец замечал, что лиса сидит в траве, в двух шагах от меня, спокойная, как домашняя кошка, элегантно обвив хвостом лапки. А один раз я почувствовал какой-то противный пугающий запах, от которого у меня по всему телу поползли мурашки, и увидел бурого медведя, который шел через поляну, ступая тяжело, но совершенно неслышно; в мою сторону он даже не посмотрел и вскоре исчез в лесу. Лишь через некоторое время после очередного представления Грай появлялась на поляне и, застенчиво улыбаясь, спрашивала: «Ну, тебе понравилось?» В случае с медведем я сказал, что медведей мне больше, пожалуй, показывать не стоит, а она ответила, что этот медведь не здешний; он живет в западных отрогах горы Эйрн, но из-за разлива реки спустился сюда на рыбную ловлю. Она могла призвать коршуна из поднебесья или заставить форель из озерца под водопадом высоко подпрыгивать, точно танцуя. Она могла отвести рой пчел туда, куда это было нужно пчеловоду. А однажды, исключительно из вредности, она заставила целый рой слепней гнать одного противного пастуха по всему болоту под горой Красная Пирамида. Спрятавшись там, мы смотрели, как бедняга скачет и машет руками, точно ветряная мельница, пытаясь спастись от преследовавших его проклятых насекомых, и давились смехом до слез.
Но тогда мы были еще детьми.
А теперь, когда мы лежали рядышком и смотрели в небо сквозь беспокойно трепещущую листву, чувствуя под собой теплую скалу, а над собой — горячее солнце, в мою душу, тесня ощущение мирного счастья, стала прокрадываться мысль о том, что я пришел сюда, чтобы поговорить с Грай не только о помолвках. Ведь ни я, ни она так ни словом и не обмолвились о том, что мой дар тоже наконец вошел в силу.
С того дня прошло уже недели две. Все это время мы с Грай не виделись — сперва потому, что я ездил с отцом и Аллоком чинить ограду, а потом нам пришлось сидеть дома и ждать, когда к нам соизволит заглянуть этот Огге. Если уж Огге, как оказалось, успел узнать, что я уничтожил ту гадюку, то и Грай наверняка слышала об этом. И все же она ничего мне не сказала. И я ничего не сказал ей.
Она ждет, чтобы я заговорил первым, думал я. А потом решил: она, наверное, хочет, чтобы я продемонстрировал ей свой дар. Показал его — как это делала она, легко и просто свистнув той птичке. Но я не мог вести себя столь же естественно. Стоило мне подумать о том, чтобы применить эту разрушительную силу, таившуюся во мне, и из меня, казалось, начинало уходить все живое тепло, а мирное настроение тут же улетучивалось. Нет, я не мог этого сделать! Я сердился, спрашивая себя: а почему, собственно, я должен кого-то убивать, что-то разрушать? Почему у меня именно такой дар? Да не стану я, не хочу, не буду!.. И тут какой-то внутренний голос говорил мне: ты должен всего лишь распустить узел в своей душе, освободить свои инстинкты. Пусть Грай, например, завяжет ленту в узел покрепче, а ты одним взглядом этот узел развяжешь. Любой, кто обладает таким даром, может легко это сделать. Аллок, например… Но какой-то другой голос сердито возразил: нет, я не буду, я не хочу ничего развязывать и уничтожать!
Я сел и уронил голову на руки.
Грай села рядом. Некоторое время она старательно сдирала болячку с почти поджившей царапины на своей загорелой ноге, потом вытянула ноги перед собой, любуясь ими и растопырив веером пальчики. Я был поглощен своими переживаниями — внезапным страхом и гневом, — но все же заметил, что она хочет мне что-то сказать, что она готовится к этому.
— Прошлый раз я вместе с матерью ездила в Кордемант, — начала она наконец.
— Значит, ты его видела?
— Кого?
— Этого Аннрена.
— Так я его и раньше не раз видела, — сказала она, точно отмахиваясь от этой темы, как совершенно несущественной. — Нет, мы ездили на большую охоту. Охотились на лосей. И охотники просили нас приманить стадо, которое медленно спускалось по берегу Ренни от подножия горы Эйрн. Все шестеро были вооружены луками, и мать хотела, чтобы с ними на охоту отправилась именно я. А я лосей призывать не хотела. Но мать сказала, что я должна. Она сказала, что люди ни за что не поверят, что у меня вообще есть какой-то дар, если я им пользоваться не буду. А я сказала, что лучше буду за лошадьми на конюшне ухаживать. Но она заявила, что за лошадьми кто угодно может ухаживать, а охотники просят подманить для них лосей. «Ты не должна отказываться от использования своего дара, — сказала она, — если в нем у кого-то возникает необходимость». Так что на охоту я пошла. И призвала лосей. — Мне казалось, Грай, сидя на нашей высокой скале, снова видит, как эти лоси спокойно подходят к ней… Она тяжело вздохнула и сказала: — Они подошли… И пятерых охотники убили. Трех молодых самцов, одного старого и лосиху. Перед отъездом они дали нам с собой кучу мяса и еще много всего — целую флягу меда, гору пряжи и всякие ткани. А мне они подарили красивую шаль. Я тебе ее покажу. Мать была просто счастлива. А еще они подарили нам нож. Вот это действительно просто прелесть! Рукоять у него сделана из лосиного рога и оправлена в серебро. Отец говорит, что это старинный боевой кинжал. Собственно, его отцу в подарок и прислали. И Ханно Корде еще пошутил: «Ты нам даешь, когда нужно, а мы — когда тебе даже и не нужно совсем!» Но отцу все равно кинжал очень понравился. — Обхватив руками колени, Грай снова вздохнула, но уже не с таким несчастным видом, хотя чувствовалось, что ее по-прежнему что-то гнетет.
Не знаю, зачем она рассказала мне эту историю. В общем, особого повода и не требовалось: мы с ней всегда все рассказывали друг другу — все, что приходило в голову. Она точно не хвасталась; она вообще никогда не хвасталась. Я так и не понял, что именно та охота на лосей значила для нее. Была ли она горда своим успехом или же нет? Возможно, она и сама этого не понимала и рассказала именно для того, чтобы понять. Но я чувствовал: рассказывая об охоте, она как бы просила, чтобы и я рассказал ей о том, как впервые и столь победоносно применил свой дар. Но я не мог об этом рассказывать.
— А когда ты кого-то призываешь… — начал было я и умолк.
Она терпеливо ждала.
— На что это бывает похоже?
— Не знаю. — Она явно не поняла вопроса. Да я и сам едва понимал его.
— Когда ты впервые попробовала применить свой дар, — сказал я, возобновляя атаку, — ты поняла, что он действует? Ты чувствовала что-то особенное?
— Ах, вот ты о чем… Да, чувствовала. — И больше она не прибавила ни слова.
Я ждал. Она молчала довольно долго. Потом все же пояснила:
— Он просто действует. — Грай нахмурилась, пошевелила пальцами ноги и прибавила: — Но у нас ведь совсем иной дар, чем у тебя, Оррек. Ты должен использовать свой глаз и…
Она колебалась, и я перечислил как заповедь:
— Глаз, руку, слово, волю.
— Да. А когда призываешь, то просто нужно определить, где находится тот, кого следует позвать, и подумать о нем. Конечно, каждый раз бывает по-разному, но, в общем, ты словно протягиваешь кому-то руку или вслух окликаешь его, но почти никогда ни рукой, ни голосом мы не пользуемся.
— Но ты знаешь, когда твой дар действует?
— Да. Потому что знаю, где те, кого я призываю, и они отвечают мне. Или приходят… И между нами возникает связь — словно вот отсюда, — и Грай коснулась груди, — протягивается невидимая нить, струна. И она натянута очень туго. Стоит лишь тронуть ее — и она запоет, зазвучит… — Я слушал ее разинув рот и выглядел, должно быть, совсем глупо. Грай покачала головой. — Ох, об этом так трудно рассказывать!
— Но ты же знаешь, как применять твой дар?
— Ну конечно! Я ведь еще до того, как призову кого-нибудь, уже чувствую эту связь, эту струну. Только тогда она не так сильно натянута.
Я понурился. Я был в отчаянии. Я попытался хоть как-то рассказать Грай о той змее, но слова не шли с языка. И Грай спросила:
— А что ты чувствовал, когда ту гадюку убил?
Вот так, очень просто она освободила меня от мучительного молчания и поисков нужных слов.
Но я не мог принять эту свободу. Я все-таки стал рассказывать и вдруг разрыдался. Впрочем, плакать я тут же перестал — мне стало стыдно, и я был страшно зол на себя.
— Ничего особенного я не почувствовал, — честно признался я. — Это было просто… просто никак! Никаких усилий не потребовало. А сколько вокруг этого шуму! Глупо!
Я встал, подошел к самому краю скалы и, присев на корточки и опершись руками о колени, нагнулся вперед и вытянул шею, чтобы увидеть озерцо под водопадом. Мне хотелось сделать что-нибудь безрассудное, смелое, совершить какую-нибудь бесшабашную глупость.
— Бежим на берег! — крикнул я, оборачиваясь к Грай. — Спорим, я обгоню тебя! — Грай тут же вскочила, ловкая и быстрая, как белка. Я выиграл, но сильно ободрал оба колена.
Я долго ехал на Бранти домой по залитым солнцем холмам, потом как следует выгулял коня, чтоб остыл, вытер его полотенцем, почистил щеткой, напоил, накормил и оставил в стойле презрительно фыркать на старушку Чалую. В дом я пошел с сознанием полностью выполненного долга, чувствуя себя настоящим мужчиной, хозяином. Отец ничего мне не сказал, и это тоже было нормально: так, как и должно быть; то, что я сделал, он воспринял как само собой разумеющееся. После ужина мать рассказала нам историю из «Чамбана», саги о жителях Бенгдрамана, которую знала наизусть почти целиком. В этой истории повествовалось о налете, который совершил герой Хамнеда на город злых духов; о том, как он потерпел поражение в бою с правителем этих духов, и о его бегстве в пустыню. Отец слушал не менее внимательно, чем я. Я хорошо помню тот вечер. Он показался мне последним… то ли в нашей счастливой семейной жизни, то ли в моем детстве. Я не знаю, что именно тогда закончилось, но на следующее утро, проснувшись, я оказался в совершенно ином мире.
— Пойдем-ка со мной, Оррек, — сказал мне отец уже ближе к полудню, и я решил, что он просто хочет со мною вместе прокатиться верхом, но он повел меня в сторону Рябиновой рощи. Когда наш дом скрылся из виду и мы оказались на заросшей травой полянке у Рябинового ручья, отец наконец остановился, а до того он не сказал мне ни единого слова.
— Покажи мне свой дар, Оррек, — попросил он так, что отказаться было невозможно.
Я уже говорил, что подчиняться отцу всегда доставляло мне удовольствие, хотя частенько удовольствие это было не из легких. Но это была давняя привычка, приобретенная еще в раннем детстве, и я всегда следовал ей. Мне просто никогда и в голову не приходило, что я могу не подчиниться отцу. Да я никогда этого и не хотел. Все его просьбы, даже самые трудновыполнимые и непонятные, всегда в итоге оказывались разумными и правильными. Я прекрасно понимал, чего он хочет от меня и почему он просит об этом. Но делать это я не желал.
Кремень и кресало могут годами лежать рядом совершенно спокойно, но ударь ими друг о друга — и посыплются искры. Мятеж, бунт, протест всегда возникают мгновенно, без предупреждения, точно искра, порождающая яркое пламя.
Я стоял к отцу лицом — я всегда так стоял, когда он обращался ко мне, — и молчал.
Он указал мне на заросли кипрея и еще какой-то травы и предложил — не приказал, а именно предложил бодрым тоном:
— Попробуй-ка распутать эти травы.
Я застыл как вкопанный. Лишь взглянув на этот кипрей, я больше ни разу в ту сторону даже не посмотрел.
Некоторое время отец выжидал. Потом вздохнул, и что-то неуловимо изменилось во всем его облике; я чувствовал, какое от него исходит напряжение, хотя он молчал. Потом он вдруг очень тихо спросил:
— Так ты выполнишь мою просьбу?
— Нет, — ответил я.
Снова повисло тягостное молчание. Я слышал слабое журчание ручья, пение птиц в роще, мычание коров на ближнем пастбище.
— Ты можешь это сделать?
— Я не стану этого делать.
Снова помолчав, он сказал:
— Тут нечего бояться, Оррек. — Голос его звучал ласково.
Я закусил губу, сжал кулаки и ответил:
— Я не боюсь.
— Чтобы уметь управлять своим даром, ты прежде всего должен им пользоваться. — Канок говорил по-прежнему мягко, ласково, и это ослабляло мою решимость.
— Я не буду им пользоваться.
— Но тогда он может воспользоваться тобой.
Это было неожиданно. Вот и Грай что-то такое говорила мне о своем даре и о том, как он использует ее. Но сейчас я не мог вспомнить ее слов. Я был смущен, но признавать этого не желал.
И упрямо покачал головой.
Отец нахмурился; он гордо вскинул голову, словно перед ним стоял враг, а не родной сын, и всякая ласка из его голоса тут же исчезла.
— Ты должен продемонстрировать мне свой дар, Оррек, — отчеканил он. — Если не хочешь мне, то покажи его другим. Тут выбор за тобой. Обладать определенным могуществом означает также служить этому могуществу. Пройдет время, и ты станешь брантором Каспроманта. Здешние жители будут зависеть от тебя, как сейчас — от меня. Ты должен доказать им, что они могут на тебя рассчитывать. И должен научиться использовать свой дар — но для этого тоже нужна тренировка.
Я снова покачал головой.
После очередной невыносимо мучительной паузы он спросил почти шепотом:
— Тебя тревожит то, что это своего рода убийство?
Я не был уверен, что дело именно в этом, в этой моей способности убивать, что я из-за этого и взбунтовался. Я, конечно, думал об этом, но не слишком отчетливо, хотя каждый раз меня охватывал тошнотворный ужас, стоило мне вспомнить ту крысу или ту гадюку… Но сейчас я одно знал твердо: я не желал, чтобы меня испытывали, не желал пробовать в действии ту ужасную силу, что, возможно, живет во мне, и не желал, чтобы эта сила завладела всем моим существом. Но в словах Канока была лазейка, которой я и воспользовался. И кивнул.
А Канок тяжко вздохнул — это было единственным проявлением разочарования или нетерпения с его стороны — и отвернулся. Потом пошарил в кармане куртки и выудил оттуда кусок бечевки. Он всегда носил с собой всякие такие вещи — в хозяйстве все могло пригодиться. Завязав веревку узлом, он бросил ее на землю между нами и молча посмотрел сперва на нее, потом на меня.
— Я тебе не собачка, чтобы всякие фокусы показывать! — огрызнулся я, и тут же воцарилась ужасная звенящая тишина.
— Послушай, Оррек, — сказал отец, выдержав паузу. — В Драмманте ты обязан будешь непременно показать свой дар. Мы за этим туда и едем, если уж говорить начистоту. Если ты этого не сделаешь, что подумает о тебе Огге Драм? Это ты себе представляешь? Если ты откажешься использовать свою силу, нашим людям не к кому будет обратиться за защитой. — Он тяжко вздохнул и дрожащим от сдерживаемого гнева голосом прибавил: — Неужели ты думаешь, что мне нравится убивать крыс? Я ведь не терьер какой-то. — Он отвернулся, помолчал, потом продолжил: — Подумай о своем долге, Оррек. О нашем долге. Подумай об этом как следует. И когда поймешь, в чем заключается твой долг, приходи ко мне.
Затем Канок наклонился, подобрал с земли веревку, развязал на ней узел, снова сунул ее в карман и стал быстро подниматься по склону холма к Рябиновой роще.
И теперь я каждый раз вспоминаю, как бережно он тогда подобрал ту жалкую веревку; веревки у нас были редкостью, и разбрасываться ими было нельзя. И снова слезы выступают у меня на глазах, но не слезы стыда и ярости, как в тот день, когда я, рыдая, брел вдоль ручья и ничего не видел перед собой.
Глава 8
После того случая отношения у нас с отцом сильно изменились — теперь между нами стояли его требование и мой отказ. Однако внешне это почти никак не проявлялось. Несколько дней отец этой темы вообще не касался и уж больше ничего, разумеется, мне не приказывал, лишь как бы между прочим спросил однажды, когда мы возвращались домой после объезда наших восточных пастбищ:
— Ну что, не хочешь ли сейчас испытать свой дар?
Но моя решимость за это время еще больше возросла; я был защищен этой решимостью, точно стеной; я прятался в ней, как в сторожевой башне замка, и от требований и вопросов отца, и от своих собственных тревог и сомнений. Так что ответил я моментально:
— Нет.
Моя непоколебимость, должно быть, поразила его. Он ничего больше не сказал. Он вообще все время молчал, пока мы ехали домой. И до конца дня тоже со мной не разговаривал. И вид у него был усталый и суровый. Мать, конечно, заметила это, а возможно, догадывалась и о причине.
На следующее утро она попросила меня подняться к ней в башню, сказав, что шьет мне новую куртку и ее надо померить. Я долго стоял перед нею с вытянутыми в стороны руками, точно огородное пугало, а она ползала вокруг меня на коленях, что-то наметывала, отмечала, где нужно сделать прорезные петли, и только потом сказала, не разжимая губ, поскольку во рту у нее были булавки:
— Твой отец беспокоится.
Я нахмурился и ничего не ответил.
Она вынула булавки изо рта и, не вставая с колен, села на пятки. И посмотрела на меня.
— Он говорит, что не понимает, почему брантор Огге так вел себя: сам напросился в гости, нас к себе пригласил, да еще и всякие намеки отпускал насчет помолвки. Канок говорит, что между родами Драм и Каспро никогда не было дружеских отношений. Но я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Я так ему и сказала. А он только головой покачал. Все это очень его тревожит.
Я ожидал от нее совсем иных слов. И был очень удивлен и даже несколько отвлекся от собственных мыслей. Я, правда, не знал, что ей сказать, и, стараясь найти какие-то ободряющие и не слишком глупые слова, предположил:
— А может, это потому, что теперь у нас с ними общая граница? — Лучше я ничего придумать не сумел.
— По-моему, как раз это отца и беспокоит, — сказала Меле. Снова сунув булавки в рот, она принялась подкалывать полу куртки. Это была настоящая мужская куртка из черного фетра, моя первая «взрослая» куртка.
— В общем, — сказала она, вынимая изо рта булавки и снова откидываясь на пятки, чтобы оценить проделанную работу, — я буду очень рада, когда этот визит к Драмам окажется позади!
Я чувствовал, что моя вина так велика, что прямо-таки придавливает меня к полу, словно новая черная куртка сделана из свинца.
— Мам, — сказал я, — отец хочет, чтобы я упражнялся в применении своего дара, а я не хочу, и это его сердит.
— Я знаю, — сказала она, осматривая меня со всех сторон. Потом вдруг подняла голову и посмотрела мне прямо в лицо, продолжая сидеть передо мной на полу. — Но в этих делах я не могу помочь ни тебе, ни ему. Ты и сам это знаешь, Оррек, правда? Я не понимаю, что такое эти ваши дары. И в ваши отношения с отцом встревать не хочу. Мне очень тяжело видеть вас обоих такими несчастными, но я могу сказать только одно: это ради тебя, ради всех нас он просит тебя научиться применять твой дар. Он бы не стал просить, если бы в этом было что-то дурное, постыдное. И ты это прекрасно понимаешь.
Меле, разумеется, вынуждена была принять сторону отца. Это было правильно и справедливо, и в то же время я чувствовал, что это немного нечестно по отношению ко мне: почему вся сила должна непременно быть на его стороне? Почему ему принадлежат все права, все его доводы считаются правильными и даже Меле всегда на его стороне? Почему они всегда оставляют меня в одиночестве, глупого, упрямого мальчишку, не способного ни использовать свой дар, ни предъявить свои права, ни привести сколько-нибудь весомые аргументы. Понимая всю чудовищную несправедливость подобного положения, я не стал даже пытаться что-то объяснять матери. И гордо промолчал, погрузившись в свой яростный стыд, спрятавшись за каменными стенами своего упрямого сопротивления.
— Ты не хочешь пользоваться своим даром, потому что тебе неприятно причинять вред живым существам, да, Оррек? — спросила меня мать чуть ли не застенчиво. Даже со мной она стеснялась говорить о таких вещах, как мой «великий дар», потому что слишком мало о нем знала.
Но отвечать на ее вопрос мне не хотелось. Я стоял как истукан — не кивнул, не пожал плечами, не сказал ни слова, — и, озабоченно заглянув мне в лицо, она еще раз осмотрела свою работу, быстро что-то исправила, что-то подколола и ловко сняла с моих плеч наполовину законченную куртку. Потом легонько прижала меня к себе, поцеловала в щеку и подтолкнула к двери.
Дважды после этого Канок спрашивал меня, не хочу ли я испытать свой дар. Дважды я отмалчивался. И на третий раз он не спросил, а потребовал:
— Оррек, ты должен мне подчиниться!
Я по-прежнему молчал. Мы стояли с ним недалеко от дома, но вокруг никого не было. Отец, надо сказать, никогда не унижал и не стыдил меня в присутствии других людей.
— Скажи, чего ты боишься?
Я молчал.
Он наклонился ко мне; его лицо было совсем близко, и в глазах его я увидел такую боль и смятение, что меня будто ударили кнутом.
— Ты боишься своей силы или того, что у тебя этой силы нет?
У меня перехватило дыхание, и я выкрикнул:
— Я ничего не боюсь!
— В таком случае воспользуйся своим даром! Немедленно! Разрушь хоть что-нибудь! — Он взмахнул правой рукой. Левая его рука, сжатая в кулак, была плотно притиснута к боку.
— Нет! — сказал я, весь дрожа и прижимая руки к груди; глаз я поднять не смел — мне было не вынести взгляда его сверкающих глаз.
И так, не поднимая головы, я услышал, что он повернулся и пошел прочь. Его шаги прошуршали по тропинке, затем по двору. Но я не посмотрел ему вслед. Я смотрел на юный побег, только что начавший выпускать листочки под апрельским солнцем, и представлял его себе черным, мертвым, скрюченным, но руку не поднимал, и голосом не пользовался, и волю в кулак не собирал. Я просто смотрел на этот побег и видел, какой он зеленый, живой, веселый и как ему безразличны мои переживания.
После того дня отец больше не просил меня применить мой дар. Все шло как обычно. Он почти не говорил со мной. Впрочем, он и прежде нечасто со мной разговаривал. Он больше не улыбался мне, не смеялся, и я не смел посмотреть ему в глаза.
К Грай я ездил, когда только мог. Я брал Чалую. Я ни за что не стал бы спрашивать у отца, можно ли мне взять Бранти. У них в Роддманте гончая принесла сразу четырнадцать щенков; щенята давно уже перестали сосать мать, но были все еще очень забавные, смешные, и мы с удовольствием подолгу играли с ними. Я особенно полюбил возиться с одним из них, и однажды Тернок, остановившись поодаль и наблюдая за нами, предложил:
— Да возьми ты этого щенка себе! У нас тут и так собак хватает, а Канок говорил, что хотел бы иметь еще парочку гончих. Пес, я думаю, будет неплохой. — Мой щенок был самый хорошенький в помете, с черными и рыжими пятнами. И я пришел в полный восторг.
— Возьми лучше Бигги, — посоветовала мне Грай. — Он куда умнее.
— Но мне этот больше нравится! И он всегда такой ласковый, лизучий. — Щенок, точно в подтверждение моих слов, тут же «умыл» меня своим язычком.
— Ну да, настоящий лизун, Кисси, — сказала Грай без всякого энтузиазма.
— Никакой он не лизун! Его будут звать… — Я порылся в памяти в поисках какого-нибудь героического имени и воскликнул: — Хамнеда!
На лице у Грай было написано отчетливое сомнение и некоторая неловкость, но спорить она не стала, и я отвез длинноногого черно-рыжего щеночка домой в корзинке, привязанной к седлу. Какое-то время я наслаждался, играя с ним, но мне, разумеется, следовало послушаться Грай, которая знала своих собак, как никто другой. Хамнеда оказался безнадежно робким и чересчур впечатлительным. Он не только без конца оставлял на полу лужи, как, впрочем, и всякий щенок, но и гадил повсюду, так что вскоре мне запретили пускать его в дом. Он все время куда-то влезал, ушибался, попадал под копыта лошадям, а когда подрос, первым делом удавил нашу кошку, лучше всех ловившую мышей, и одного за другим передушил ее котят. Он покусал садовника и маленького сынишку повара, он выводил всех из себя совершенно бессмысленным пронзительным визгом и лаем и мог так орать сутки напролет, а если его где-нибудь запереть от греха подальше, становилось еще хуже. Учиться он ничему не хотел, делать ничего не умел и через полмесяца до смерти осточертел мне. Я бы с удовольствием от него избавился, но мне стыдно было признаться в этом даже себе самому; кроме того, я чувствовал себя предателем по отношению к этому безмозглому щенку, который был совсем не виноват, что таким уродился.
Отец, Аллок и я собирались как-то утром поехать на верхние пастбища и проверить, как идет весенний окот овец. Как всегда, отец ехал верхом на Грейлаге, но на этот раз Аллоку он велел взять Чалую, а мне — рыжего Бранти. Мне это отчего-то показалось привилегией весьма сомнительной. Да и Бранти был в дурном настроении. Он мотал башкой, надувал брюхо, лягался, пытался меня укусить, то и дело шарахался и вставал на дыбы — в общем, всячески старался сбить меня с толку, застать врасплох. И как только мне показалось, что я наконец с ним справился, откуда ни возьмись выскочил Хамнеда и сразу принялся с лаем скакать вокруг; оборванный поводок болтался у него на шее. Я прикрикнул на глупого пса, но было уже поздно: Бранти так взвился, что я вылетел из седла, но умудрился не упасть и даже снова вскочил в седло, удержав испуганного жеребчика. Но ценой какого страшного напряжения мне это далось! Когда Бранти наконец успокоился, я поискал глазами собаку и заметил в дальнем углу двора кучку черно-рыжей шерсти.
— Что случилось? — спросил я.
Отец, уже сидевший на коне, удивленно посмотрел на меня:
— А ты что, не понял?
Я решил, что Хамнеду нечаянно раздавил Бранти, но крови видно не было. Песик лежал бесформенной лепешкой, точно полностью лишенный костей, и одна его длинная черно-рыжая лапа вытянулась, странно перекрученная и похожая на веревку. Я мигом слетел с коня, но подойти ближе к тому, что лежало в углу двора, так и не смог.
Я поднял глаза на отца и гневно выкрикнул:
— Неужели тебе обязательно было убивать его?
— Мне? — удивился Канок, и тон у него был такой, что у меня все похолодело внутри.
— Ох, Оррек, это ведь ты сделал! — сказал Аллок, подъезжая ко мне на Чалой. — Точно. Ты взмахнул левой рукой, когда пытался отогнать от коня эту глупую собаку!
— Нет, я не мог это сделать! — воскликнул я. — Я не… не убивал его!
— А ты в этом уверен? — спросил Канок, и мне показалось, что он усмехнулся.
— Ты убил его точно так, как и ту гадюку. В точности так! — сказал Аллок. — Ну и быстрый у тебя глаз! — Но голос его звучал как-то неуверенно, и в нем слышалась грусть. Люди уже сходились к нам во двор, услышав, что у нас произошло; и все стояли, смотрели… Лошади нервно переступали с ноги на ногу, не желая приближаться к мертвой собаке. Бранти, которого я крепко держал под уздцы, был весь в мыле и сильно дрожал; примерно то же самое творилось и со мной. Внезапно к горлу у меня подступила тошнота, я резко отвернулся, и меня вырвало, но повод из рук я не выпустил. Придя в себя, я вытер рот, перевел дыхание, подвел Бранти к сажальному камню у коновязи и снова вскочил в седло. Губы отказывались мне повиноваться, но я все же сказал:
— Ну что, мы едем?
И мы поехали на верхние пастбища. И всю дорогу молчали.
В тот вечер я спросил, где похоронили собачку. Оказалось, за мусорной кучей. Я пошел туда и долго стоял там. Особенно грустить из-за бедного Хамнеды, в общем, не стоило, но в душе моей тем не менее царила печаль. Когда я возвращался назад, уже сгустились сумерки. Недалеко от крыльца мне навстречу попался отец.
— Мне жаль, что так получилось с твоей собакой, Оррек, — тихо и без улыбки сказал он.
Я молча кивнул.
— Скажи мне вот что: ты захотел убить его?
— Нет, — ответил я, не испытывая, впрочем, полной уверенности, — все теперь для меня стало каким-то неясным, зыбким, неопределенным. Я действительно порой ненавидел Хамнеду из-за его идиотической глупости, особенно когда он пугал молоденького жеребца, но убивать его я совсем не хотел. Это я знал наверняка.
— И все-таки желание убить его у тебя возникало.
— Невольно!
— И что, ты не понимал, что используешь свой дар?
— Нет!
Отец молча шагал к дому рядом со мной. Весенние сумерки дышали прохладой и сладостными ароматами. Вечерняя звезда вспыхнула на западе рядом с нарождающейся луной.
— Неужели я такой же, как Каддард? — шепотом спросил я.
Канок ответил не сразу.
— Ты должен научиться управлять своим даром, — в который уже раз повторил он.
— Но я не могу! Ничего не происходит, когда я сознательно пытаюсь им воспользоваться! Я много раз пытался… А когда я даже никаких попыток не предпринимаю… когда… как с той гадюкой… или как сегодня… Но все равно — это происходит так, словно сам я ничего не делаю… не совершаю никаких усилий… Это просто происходит, и все!
Слова так и сыпались из меня, падали, точно рухнувшие стены той башни, в которой я так долго скрывался.
Канок ни слова не сказал мне в ответ, только вздохнул и легко обнял меня за плечи. Уже поднявшись на крыльцо, он сказал:
— Вот это и называют «дикий дар».
— Дикий?
— «Диким даром» невозможно управлять с помощью воли.
— Он опасен?
Канок молча кивнул.
— И что же… теперь делать?
— Имей терпение, — сказал он, и я снова на мгновение почувствовал на плече его руку. — И наберись мужества. Мы что-нибудь придумаем.
У меня точно гора с плеч свалилась, когда я понял, что отец больше на меня не сердится и можно наконец прекратить свое внутреннее сопротивление. Но то, что он сказал, было достаточно пугающим, и в ту ночь я почти не спал. Когда утром отец позвал меня с собой, я с радостью отправился с ним. Я готов был сделать что угодно, лишь бы разрешить эту проблему.
В то утро Канок был особенно молчалив и мрачен, и я, разумеется, решил, что это из-за меня. Но по дороге к Рябиновому ручью он сказал:
— Дорек сегодня утром приходил. Говорит, две белые телки пропали.
Белые телки являли собой жалкие остатки старинной породы белого скота, выведенного когда-то в Роддманте. У нас их было всего три — это были чудесные животные, и за них Канок не пожалел отдать большой кусок отличного леса на границе с Роддмантом. Он очень надеялся когда-нибудь восстановить в Каспроманте поголовье белых коров и этих трех телок весь последний месяц держал на лучшем пастбище с особенно сочной травой близ южной границы поместья. Кстати, там рядом паслись и наши овцы. Одна немолодая женщина из числа серфов и ее сын, которые жили неподалеку от этого пастбища, присматривали и за белыми телочками, и за пятью-шестью собственными молочными коровами.
— Неужели телки дыру в изгороди нашли? — спросил я.
Отец покачал головой.
Белые телки были самой большой нашей драгоценностью, если не считать Грейлага, Чалой и Бранти, ну и, конечно, самой земли. Утрата двух животных стала жестоким ударом для грандиозных планов Канока.
— Мы поедем их искать?
Он кивнул:
— Обязательно. Сегодня же.
— Они могли забраться в горы…
— Только не сами по себе, — возразил он.
— Так ты думаешь… — Продолжать я не стал. Если телок украли, то вором мог оказаться кто угодно. Правда, наиболее вероятно, что это либо сам Огге Драм, либо его люди, но высказывать вслух свои предположения насчет кражи скота было очень опасно. Немало смертоубийственных междоусобиц начиналось из-за невзначай оброненного обидного слова, даже не обвинения. И хотя сейчас мы с отцом были одни, привычка держать при себе все соображения, касавшиеся этой темы, была слишком сильна. И мы больше об этом говорить не стали.
Мы остановились на том же самом месте, где и в прошлый раз, когда я отказался выполнить приказание отца.
— Ну что ж… — сказал Канок и умолк, бросив на меня почти умоляющий взгляд. Я молча кивнул и огляделся.
Каменистый склон холма был довольно пологим и порос густой высокой травой, отчего далекие, более высокие и крутые холмы почти полностью скрывались из глаз. Небольшая рябинка умудрилась уцепиться корнями за каменистую землю возле тропинки и боролась в одиночку и с засухой, и с ветрами, кривоватая, низкорослая, но все же храбро выбросившая на концах веток кисти будущих цветов. Я старался не смотреть на рябинку, но дальше виднелся муравейник. Было раннее утро, крупные красно-черные муравьи так и сновали у входа на вершине муравейника, строились в колонны и спешили по своим делам. Муравейник был большой, больше фута в высоту. Я не раз видел разрушенные муравейники и хорошо представлял себе, как много там сложных туннелей и переходов, как удивительна эта невидимая глазу архитектура. И, не давая себе времени подумать об этом, я протянул вперед левую руку, пристально посмотрел на муравейник, и дыхание обожгло мои губы, когда я резко выдохнул и произнес какой-то странный звук, сосредоточив в нем всю свою силу, все свое желание разрушить, уничтожить, стереть с лица земли…
И увидел все ту же зеленую траву под лучами солнца, крошечную рябинку, коричневый муравейник, рыже-черных муравьев, снующих туда-сюда у его узкого входа и неровными колоннами уходящих по траве через тропинку.
Отец стоял у меня за спиной. Я не обернулся. Я слышал его молчание. И это молчание было нестерпимым.
Охваченный отчаянием, я крепко зажмурился, мечтая никогда больше не видеть этих муравьев, эту траву, эту тропинку, этот солнечный свет…
Потом открыл глаза и с изумлением увидел, что трава съежилась и почернела, муравьи превратились в обугленные комочки, а муравейник полностью разрушен и превратился в безжизненную яму. И тропа передо мной, казалось, извивалась и кипела; она была похожа на разверстую рану, вспоровшую склон холма с каким-то странным треском и шелестом. И тут я заметил нечто, стоявшее прямо передо мной, изогнутое и почерневшее. Моя левая рука, все еще простертая вперед, вздрогнула и застыла. Я стиснул пальцы в кулак, потом обеими руками закрыл лицо и закричал:
— Остановите это! Остановите!
И тут же почувствовал на плечах руки отца. Он прижал меня к себе.
— Ну-ну, — сказал он, — успокойся. Дело сделано, Оррек. И сделал это ты. — Я чувствовал: он тоже дрожит и слегка задыхается.
Когда я отнял руки от лица, то сразу же отвернулся — я был в ужасе от увиденного. Склон перед нами выглядел так, словно по нему прошел огненный ураган, это была уничтоженная, изуродованная, мертвая земля. Лишь кое-где можно было разглядеть некрупные камни. А та рябинка превратилась в изуродованный черный пенек.
Я повернулся к отцу и спрятал лицо у него на груди.
— Я думал, это ты! Я думал, это ты! Ведь это ты стоял там!.. Ты… — задыхаясь, выкрикивал я.
— Где я стоял, сынок? — Канок говорил со мной очень нежно, прижимая меня к себе, как перепуганного жеребенка.
— Я же мог убить тебя!.. Но я не хотел, не хотел! Я не делал этого! То есть сделал, но не желая того! Как же мне теперь быть?
— Послушай, Оррек… Нет, ты послушай меня! Не бойся. Я больше не стану просить тебя…
— И все равно! Я же не в силах управлять этим! Я ничего не могу сделать, когда хочу, а когда не хочу, это делается само! Я теперь боюсь смотреть на тебя! Я на все теперь боюсь смотреть! Что, если я… если я… — Но продолжать я не мог и рухнул на землю, парализованный ужасом и отчаянием.
Канок сел рядом со мной на тропу и дал мне время прийти в себя.
Наконец я сел. И сказал:
— Я такой же, как Каддард.
Это звучало и как утверждение, и как вопрос.
— Возможно… — откликнулся отец, — возможно, ты похож на Каддарда в детстве, но не на того Каддарда, который убил свою жену. Ведь тогда он уже утратил свой разум. А в юности безумным был только его дар. Он не умел управлять своим «диким даром».
И я сказал:
— Ну да, и ему завязали глаза, пока он не научился им управлять. Ты тоже мог бы завязать мне глаза.
Еще лишь произнося эти слова, я чувствовал, что это сущее безумие, и жалел, что сказал это. Но потом я снова поднял голову, посмотрел на склон холма, на широкую полосу мертвой травы и изуродованных кустов, на рассыпавшиеся в пыль камни, на бесформенные руины муравейника — на все живое, что теперь было мертво, ибо хрупкие, хитроумные, сложные связи внутри этих вещей были мною разрушены. Та мужественная рябинка превратилась в уродливое привидение. И это зло сотворил я, даже не сознавая, что творю. Я ведь не желал таких разрушений. И все же в гневе я…
Я снова закрыл глаза и сказал отцу:
— Так будет лучше для всех.
Возможно, в душе моей все же таилась надежда, что Канок предложит мне какой-то иной, лучший план действий. Но он долго молчал, а потом тихим голосом, словно стыдясь собственных слов, промолвил:
— Хорошо. Может быть, действительно стоит. Ненадолго…
Глава 9
Но ни один из нас не оказался готов сделать то, о чем мы говорили. Не хотелось даже думать об этом. К тому же предстояло еще искать телок, заблудившихся или украденных. И я, конечно же, хотел поехать с отцом на поиски, и он тоже хотел, чтобы я поехал с ним. Так что мы вернулись в Каменный Дом, сели на коней и вместе с Аллоком и еще двумя парнями отправились в путь, никому не сказав ни слова о том, что произошло на берегу Рябинового ручья.
И весь тот долгий день я видел перед собой зеленые долины, нежные ивы вдоль ручьев, цветущий вереск, ракитник, покрытый желтыми пушистыми цветами, синеву небес и коричневые склоны гор. Я искал взглядом пропавших животных и боялся смотреть, боялся надолго останавливать на чем-то свой взгляд, боялся снова увидеть, как чернеет трава и корчатся в невидимом пламени деревья. И я опускал глаза, смотрел в землю, до боли сжимая пальцы левой руки, прижимая ее к себе; иногда я даже зажмуривался, пытаясь ни о чем не думать и ничего не видеть.
Поиски изрядно утомили нас, но не принесли никаких результатов. Старуха, которой было поручено охранять белых телок, была настолько напугана гневом Канока, что ничего вразумительного сказать не могла. Тем более что ее сын, которому велено было не спускать с телок глаз, пока они находятся на столь отдаленном пастбище, да еще вблизи границ с Драммантом, ушел в горы охотиться на зайцев, оставив мать присматривать за стадом. Никаких проломов в изгороди мы не обнаружили, во всяком случае таких, сквозь которые могла бы пройти корова. Изгородь была, конечно, старая, поверху утыканная кольями, которые вору ничего не стоило выдернуть, а потом снова воткнуть, заметая следы. С другой стороны, молодые и любопытные телки могли просто забрести в одну из узких горных лощин и мирно пастись там, никому из нас не видимые. Но в таком случае почему же все-таки одна-то осталась? Коровы ведь всегда тянутся друг за дружкой. Единственная оставшаяся телочка теперь была заперта в коровнике — увы, слишком поздно! — и печально мычала время от времени, призывая своих подружек.
Аллок, его двоюродный брат Дорек и незадачливый пастух, сын той старухи, решили как следует осмотреть верхние склоны, а мы с отцом поехали домой, выбрав кружной путь вдоль всей нашей границы с Драммантом, и тоже все время высматривали наших белых коров. И я, с высоты седла оглядывая окрестности, все время думал: а каково мне будет не иметь возможности видеть все это, когда передо мной будет одна чернота? И какой от меня тогда будет прок? Вместо помощника я стану для отца обузой. Думать об этом было тяжко. И я стал думать о том, чего еще не смогу делать, когда мне завяжут глаза, и обо всех тех вещах, которые больше я не смогу видеть. Я стал вспоминать каждую из них в отдельности — наш холм, знакомое дерево, округлую серую вершину горы Эйрн, облако над ее вершиной, неяркий желтый огонек, светящийся в густых сумерках в окне Каменного Дома, уши Чалой, мелькавшие у меня перед носом, темные горящие глаза Бранти под рыжей челкой, лицо моей матери, маленький опал в серебряной оправе, который она носит на шее… Я вспоминал каждую из этих вещей, и каждый раз с острой пронзительной болью, потому что такие мелкие уколы, даже бесконечное их множество, все же легче перенести, чем одну-единственную, но такую огромную боль, возникавшую от осознания того, что я вскоре не должен буду ничего видеть, ни одной из этих вещей, что я должен буду добровольно ослепнуть.
Мы оба совершенно вымотались, и я подумал, что, может быть, мы так и разойдемся, ничего не сказав друг другу, хотя бы еще на одну ночь, что Канок отложит все до утра (а как это будет, когда утром я не смогу снова увидеть рассвет над горами?). Но после ужина, который
мы съели в усталом молчании, отец сказал матери, что нам нужно поговорить, и мы поднялись в ее комнату в башне, где в камине горел огонь. День отстоял ясный, но холодный, ветреный, как бывает в конце апреля, и ночь наступала тоже холодная. Я с наслаждением подсел к камину, ощущая лицом и коленями благодатное тепло и думая о том, что такие вещи буду чувствовать и потом, когда не смогу видеть.
Отец с матерью говорили о пропавших телках. А я смотрел в огонь, который вспыхивал и потрескивал, и тот смешанный с усталостью покой, что на несколько минут целиком завладел мною, куда-то ускользнул. Понемногу в сердце моем все сильнее разгорался гнев на несправедливость того, что выпало на мою долю. Я у судьбы этого не просил! И не собирался с этим мириться! Я не желал, чтобы меня ослепляли только потому, что мой отец боится меня! Огонь охватил сухую ветку, и она вспыхнула, потрескивая и рассыпая искры, и я затаив дыхание осторожно повернулся к родителям.
Канок сидел в деревянном кресле, а Меле — рядом с ним, на своей любимой низенькой скамеечке со скрещенными ножками. Их лица в отблесках огня казались исполненными неизъяснимой нежности и тайны. И только тут я заметил, что моя левая рука поднята и, немного дрожа, указывает на отца. Я видел, как она дрожит, и вспомнил ту рябинку на склоне холма над ручьем — скорчившуюся, обугленную — и, прижав обе руки к глазам, сильно надавил на них, чтобы стало больно, чтобы ничего не видеть, кроме странных цветных вспышек, которые всегда мелькают перед глазами, когда на них сильно надавишь.
— В чем дело, Оррек? — услышал я голос матери.
— Скажи ей, отец!
Он явно колебался. Потом все же с трудом, запинаясь, стал рассказывать, но рассказывал не по порядку и как-то невнятно, и я уже начинал терять терпение от его неловких выражений.
— Сперва расскажи, что случилось с Хамнедой, а потом — у Рябинового ручья! — потребовал я, прижимая кулаки к глазам. Я все сильнее давил на глаза, ибо в душе моей опять бушевал неистовый гнев. Почему он не может просто сказать все как есть? Он все перепутал! Ходит кругами и никак не может подойти к сути дела! Не может сказать прямо, к чему все это ведет. Моя мать, пытаясь понять причину его столь сильного смущения и отчаяния, пролепетала:
— Но значит, это «дикий дар»? — И я, увидев, что Канок опять колеблется, вмешался:
— Этот дар означает, что я обладаю страшной разрушительной силой, но не способен сам управлять ею. Я не могу воспользоваться своим даром, когда хочу этого; и получается, что пользуюсь им, когда совсем этого не хочу. Вот сейчас, например, я мог бы убить вас обоих, если б только посмотрел на вас.
Воцарилось молчание. Потом Меле, не желая мириться со столь страшной действительностью, начала было возмущенно:
— Но ты, конечно же, преувели…
— Нет, — оборвал ее Канок. — Оррек говорит правду.
— Но ты же занимался с ним, столько лет учил его! Ты ведь стал тренировать его, когда он был еще совсем ребенком!
Ее искренний протест лишь обострил боль и гнев, бушевавшие в моей душе.
— Это ничего не дало, — усмехнулся я. — Я как тот бедный пес, Хамнеда. Он так и не смог ничему научиться. Он был бесполезен и стал опасен. Так что самое лучшее было убить его.
— Оррек!
— Дело в самой этой силе, — вмешался отец. — Не в Орреке, а в его силе… в его даре. Он не может правильно пользоваться своим даром, зато этот дар может его использовать. Это очень опасно. Он все правильно сказал. Это опасно и для него, и для нас, и для всех на свете. Со временем Оррек, конечно, научится управлять своим даром. Это великий дар, а он просто еще слишком молод. Но пока… пока его придется этого дара лишить.
— Как? — Голос матери так зазвенел, что, казалось, вот-вот брызнут осколки.
— Придется завязать ему глаза.
— Завязать глаза?
— Глаз, закрытый повязкой, не имеет силы.
— Но повязка на глазах… Ты хочешь сказать, что когда Оррек будет выходить из дома… когда он будет среди других людей…
— Нет, не только, — сказал Канок, и я подхватил:
— Нет, все время. Пока я не буду твердо уверен, что никому не смогу причинить вреда, никого не убью, даже невольно. Чтобы никто, ни одна вещь или живое существо не валялись на земле бесформенной грудой! Я ни за что не сделаю этого снова! Никогда! Никогда! — Я сел у камина, прижимая руки к глазам, и весь сгорбился, чувствуя себя больным, бесконечно усталым и совершенно беспомощным в этой темноте. — Запечатай мне глаза прямо сейчас, отец, — сказал я. — Да, сделай это сейчас.
Я не помню, продолжала ли Меле протестовать, а Канок — настаивать на своем. Помню только, что душу мою терзала страшная боль. И облегчение наступило только тогда, когда я наконец ощутил на глазах повязку и отец завязал у меня на затылке ее концы. Повязка была черной, я еще успел ее увидеть, и это было последнее, что я видел: огонь в очаге и полоску черной ткани в руках отца.
А потом провалился во тьму.
И вскоре почувствовал тепло невидимого огня, в точности как и воображал это себе.
Мать тихо плакала, стараясь, чтобы я не услышал, что она плачет; но слепые, как известно, обладают острым слухом. У меня же никакого желания плакать не было. Я пролил достаточно слез. Я слышал, как шептались родители. Потом сквозь теплую тьму до меня донесся голос матери: «По-моему, он засыпает», — и я действительно заснул.
И отец отнес меня в постель на руках, как маленького.
Когда я проснулся, вокруг было темно, и я сел, чтобы посмотреть, не видна ли полоска рассвета над холмами за окном моей комнаты, но окна отчего-то увидеть не смог и очень удивился: неужели тучи закрыли все небо и звезды? А потом услышал, как поют птицы, приветствуя восход солнца, и нащупал на лице черную повязку.
Странное это дело — привыкать быть слепым. Я когда-то спрашивал Канока, что такое воля, что означает выражение «пожелать чего-то». И вот теперь я научился понимать, что это такое.
Схитрить, смошенничать, взглянуть хотя бы одним глазком, увидеть только один раз — подобное искушение, разумеется, возникало без конца. Каждый шаг, каждое действие, которое теперь стало так невероятно трудно совершать, ибо я двигался крайне неуклюже, могли в один миг вновь стать легкими и естественными. Просто приподними повязку на минутку, взгляни хоть раз…
Я не поднимал повязку. Правда, несколько раз она соскальзывала сама — и в глазах у меня темнело от ослепительно-яркого света дня. Потом мы стали подкладывать на глаза под повязку мягкие прокладки, и теперь повязку уже не нужно было так сильно затягивать на затылке. И я уж точно ничего не мог увидеть. И чувствовал себя в безопасности.
Да, именно так: теперь я чувствовал себя в безопасности. Научиться быть слепым — нелегкое дело, это правда, но я был упорен. Чем больше нетерпения я проявлял, злясь на собственную беспомощность, неспособность видеть и на саму повязку, тем сильнее я боялся приподнять ее. Она спасала меня от ужаса, связанного с возможностью уничтожения мною чего-то такого, что я уничтожать совсем не хотел. Пока повязка была на моем лице, я не мог разрушить ничего из того, что любил. Я помнил, что тогда наделал, выпустив на волю свой страх и гнев. Я помнил тот миг, когда мне показалось, что я уничтожил собственного отца. Ну и пусть: если я не смогу научиться управлять своим даром, я, по крайней мере, смогу научиться им не пользоваться.
Вот этому я действительно хотел научиться, потому что только так мог по-настоящему проявить свою волю. Только в повязке на глазах я мог обрести хоть какую-то свободу.
В первый день своей слепоты я ощупью спустился в вестибюль Каменного Дома и долго шарил руками по стене, пока не отыскал посох Слепого Каддарда. Я давно уже не брал его в руки. Детская забава, когда я прикасался к нему только потому, что это было мне категорически запрещено, осталась, как мне теперь казалось, в далеком прошлом. Но я помнил, где он находится, и знал, что теперь имею на него полное право.
Посох был слишком высок для меня и оказался очень тяжелым и неуклюжим, но мне нравилось касаться его потертого набалдашника, его шелковистой на ощупь древесины. Я вытащил его на середину комнаты, постучал его концом по стене, и он сам повел меня через вестибюль. После этого я часто брал его, когда выходил из дому. В доме же я лучше ориентировался, двигаясь на ощупь. А снаружи посох придавал мне определенную уверенность. Это было мое оружие. На случай непредвиденной угрозы. Я мог бы нанести им удар — ударить не той ужасной силой, что была заключена во мне, а просто ударить, просто ответить нападающему и защитить себя. Будучи лишенным зрения, я постоянно чувствовал собственную уязвимость, понимал, что любой может меня одурачить или обидеть. И тяжелый посох в руке придавал мне уверенности.
Сперва мать отнюдь не давала мне того утешения, какое я всегда находил у нее прежде. За поддержкой и одобрением я теперь обращался к отцу. Мать не могла смириться с нашей затеей, не могла поверить, что я поступаю правильно, что это необходимо. Ей все это казалось чудовищным результатом присутствия в нашей жизни каких-то сверхъестественных сил или верований.
— Ты можешь снять свою повязку, когда ты со мной, Оррек, — говорила она.
— Нет, мама, не могу.
— Но это же глупо — так бояться! Глупо, Оррек. Ты же никогда не причинишь мне вреда. Носи ее вне дома, раз уж это так необходимо, но не здесь, не со мной. Я хочу видеть твои глаза, сыночек!
— Мама, я не могу! — Больше мне нечего было ей сказать. И приходилось повторять это снова и снова, потому что она жаловалась и настаивала. Она же не видела мертвого Хамнеду и никогда не ходила к Рябиновому ручью, на тот чудовищно искореженный, сожженный склон холма. Мне даже хотелось, чтобы она все-таки сходила туда, но попросить ее об этом я не смог. И спорить с нею мне совсем не хотелось.
Наконец в голосе ее зазвучала самая настоящая горечь.
— Это же просто невежественные суеверия, Оррек! — возмущалась она. — Мне стыдно за вас с отцом! Я считала, что лучше учила тебя. Неужели ты думаешь, что тряпка на глазах способна уберечь от дурных поступков, если в душе уже воцарилось зло? А если в душе твоей правит добро, то пожелаешь ли ты сейчас сотворить добро? «Остановишь ли ветер стеною трав или прилив — одним лишь словом?» — В отчаянии мать невольно цитировала молитвы, которые еще ребенком в отчем доме выучила наизусть.
Но я по-прежнему стоял на своем, и она сказала:
— Тогда, может, мне сжечь ту книгу, которую я сделала для тебя? Теперь ведь она для тебя бесполезна. Она тебе не нужна — ты закрыл не только свои глаза, но и свой ум.
Ее слова заставили меня выкрикнуть:
— Но это же не навсегда, мама! — Мне не хотелось ни говорить, ни думать о каких-то конкретных сроках своей слепоты, о том дне, когда я смогу снова видеть: я даже вообразить себе этот день не осмеливался; я боялся того, что снова даст мне возможность видеть, но еще больше я боялся безосновательных надежд. Однако угрозы матери, ее боль и презрение заставили меня сделать это признание.
— И сколько же еще ждать?
— Не знаю. Пока я не научусь… — Но я не знал, что сказать ей. Разве я смогу когда-нибудь научиться использовать тот дар, с которым не в силах справиться? Ведь я с детства пробовал это делать, но так и не научился.
— Ты научился всему, чему мог научить тебя твой отец, — сказала она, словно прочитав мои мысли. — Даже слишком хорошо научился! — И она вдруг вскочила и ушла, не сказав мне больше ни слова. Легкое шуршание — она накинула на плечи шаль, — и ее шаги прозвучали уже за дверью.
Но Меле была отходчива, долго сердиться не умела и уже вечером, пожелав мне спокойной ночи, шепнула — и в голосе ее я услышал знакомую, милую и печальную улыбку:
— Разумеется, я никогда не сожгу твою книгу, мальчик мой дорогой! И твою повязку тоже, как бы мне этого ни хотелось. — И больше она уже никогда не просила меня снять повязку и не протестовала, а стала принимать мою слепоту как факт и помогала мне, чем могла.
Самое лучшее, как я понял, став слепым, — это стараться вести себя так, словно по-прежнему все видишь: передвигаться не осторожно, ощупью, а шагать решительно и в крайнем случае даже налетать лбом на стену, если уж на пути тебе попадется стена, или падать, если уж попал ногой в яму. Я научился отлично передвигаться по дому и по двору и старался держаться знакомой территории; здесь я чувствовал себя совершенно свободно и выходил из дому так часто, как только мог. Я седлал и взнуздывал старую добрую Чалую, которая так же терпела мои неуверенные движения, как когда-то, когда мне было лет пять, мое неумение ездить; садился на нее и позволял ей везти меня куда ей самой понравится. Как только я оказывался в седле и далеко от тех звуков, что были свойственны конюшне и хозяйственным постройкам, мне уже ничто не могло подсказать дорогу; я мог оказаться на склоне ближнего холма, или высоко в горах, или даже на луне, но Чалая-то всегда знала, где мы находимся, и отлично понимала, что я уже не тот бесстрашный наездник, каким был когда-то. Она, как умела, заботилась обо мне и всегда вовремя привозила меня домой.
— Я хочу поехать в Роддмант, — сказал я, когда прошло недели две и я уже немного привык к повязке на глазах. — Я хочу попросить Грай подарить мне другого щенка. — Мне пришлось долго собираться с мужеством, чтобы сказать это, потому что судьба бедного Хамнеды по-прежнему тревожила мою память. Но мысль о том, чтобы иметь собаку, которая помогала бы мне, ставшему теперь слепым, пришла ко мне как-то ночью, и я понимал, что это хорошая мысль. А еще мне страшно хотелось поговорить с Грай.
— Ты хочешь завести новую собаку? — удивился Канок, но Меле сразу поддержала меня, воскликнув:
— Это прекрасная идея! Я тоже поеду… — Я знал: она хотела сказать, что поедет в Роддмант вместе со мной (она довольно плохо ездила верхом и побаивалась лошадей, даже Чалой), однако она сказала так: — Я тоже поеду с тобой, если хочешь.
— Можно, например, завтра?
— Отложи немного свою поездку, — сказал мне Канок. — Сейчас нам пора готовиться к поездке в Драммант.
За всеми последними событиями я совсем позабыл о бранторе Огге и его приглашении. Напоминание об этом тут же пробудило в моей душе прежний протест.
— Но я сейчас не смогу туда поехать! — сказал я.
— Ничего, сможешь, — возразил отец.
— А почему он должен ехать туда? Почему? — поддержала меня мать.
— Я уже объяснял, почему это необходимо. — Голос Канока звучал жестко. — Возможно, нам удастся заключить с Драммантом перемирие. А может, и дружбу. Кроме того, существует еще возможность помолвки.
— Но ведь теперь Драм ни за что не захочет, чтобы его внучка была помолвлена с Орреком! — воскликнула мать.
— Ты уверена? Когда он узнает, что Оррек способен убивать взглядом и его дар оказался настолько силен, что ему пришлось закрыть повязкой глаза, чтобы пощадить своих возможных врагов? Да Огге будет просто счастлив, если мы позволим ему получить то, о чем он мечтает! Разве ты не понимаешь?
Никогда еще не слышал я в голосе отца такого жестокого победоносного ликования. И это как-то неприятно удивило меня. Я словно вдруг очнулся ото сна.
Впервые я стал понимать, что повязка на глазах делает меня не только уязвимым, но и пугающим. Для окружающих это означало, что моя сила так велика, что выпускать ее на волю ни в коем случае нельзя, ее необходимо сдерживать, держать взаперти. И если я вдруг сниму с глаз повязку, то и сам стану оружием в чьих-то руках. Точно посох Каддарда, когда я беру его в руки…
И еще я понял, почему многие и у нас в доме, и в соседних домах теперь, после того как я надел на глаза повязку, обращаются со мной иначе: с уважением и смущением, а не с прежним легкомысленным панибратством; почему люди умолкают, когда я подхожу ближе; почему стараются неслышно прокрасться мимо меня, надеясь, что я их не замечу. Я думал, они избегают и презирают меня, потому что я ослеп, но мне даже в голову не приходило, что они просто меня боятся, зная, ПОЧЕМУ я решил добровольно ослепнуть.
И теперь мне действительно предстояло убедиться, сколь сильно разрослась молва о моем «диком даре», какую сомнительную славу я теперь приобрел. Говорили, например, что я уничтожил целую стаю диких собак и брюхо у каждой было вспорото, словно ножом. А еще я, оказывается, повел глазами по окрестным холмам — и полностью избавил Каспромант от ядовитых змей! С другой стороны, стоило мне глянуть на домик старого Уббро — и в ту же ночь старика разбил паралич, так что он и говорить теперь не может, и все это было с моей стороны не наказанием, а всего лишь проявлением моего «дикого дара». А когда я поехал искать пропавших белых телок, то стоило мне их увидеть — и я тут же уничтожил их на месте, сам того не желая. Вот после этого-то, опасаясь своей непредсказуемой и ужасной силы, я и ослепил себя, — а может, сам Канок меня ослепил, точнее, запечатал мне глаза. Если же кто-то отказывался верить этим россказням, его вели к Рябиновому ручью и показывали склон холма с останками погибших деревьев, раздробленными костями многочисленных птичек, кротов и мышей и превратившимися в песок и гальку валунами.
Тогда я еще всех этих сказок не знал, но мне уже чудилось, что я обрел некую новую силу, которая проявлялась отнюдь не в деяниях, а в словах: в моей теперешней репутации.
— Мы поедем в Драммант послезавтра, — сказал отец. — Пора. Выедем пораньше, чтобы к ночи уже добраться туда. Надень свое красное платье, Меле. Я хочу, чтобы Драм увидел подарок, который он преподнес мне когда-то.
— Ох, милый! — огорченно воскликнула мать. — И сколько же мы должны там гостить?
— Дней пять-шесть, я думаю.
— Боже мой, что же мне подарить жене брантора? Я ведь должна привезти ей какой-то подарок, правда?
— Это не обязательно.
— Нет, обязательно! — отрезала мать.
— Ну, привези ей какой-нибудь гостинец, уж на кухне-то у тебя наверняка что-то подходящее найдется.
— Найдется! — фыркнула мать. — На кухне в такое время года ничего интересного не сыщешь.
— А ты подари ей корзину цыплят, — предложил я. Мать утром брала меня на птичий двор, чтобы я помог ей справиться с новым выводком цыплят, и совала их мне в руки — невесомых, нежно попискивавших, тепленьких, глупых, с острыми клювиками.
— Да, это хорошая мысль, — одобрила она.
И когда послезавтра рано утром мы выехали из дома, к ее седлу была приторочена корзина, из которой доносился неумолчный писк. Я ехал с ней рядом, одетый в новый килт и новую куртку — костюм настоящего мужчины.
Поскольку я мог ехать только на Чалой, матери пришлось ехать на Грейлаге. Наш серый жеребец был абсолютно надежен, хотя его высота и величина пугали Меле. Отец мой взял рыжего Бранти. Обучение Бранти он полностью поручил нам с Аллоком, но, когда он садился на Бранти сам, всем сразу становилось ясно: они с этим рыжим жеребцом просто созданы друг для друга — оба такие красивые, нервные, гордые и стремительные! Жаль, что я не мог видеть отца в то утро! Мне страшно этого хотелось. Но я сел на добрую старушку Чалую и позволил ей везти меня вперед — во тьму.
Глава 10
Было очень странно и утомительно — ехать целый день и не видеть, мимо чего проезжаешь, слыша лишь стук подков да скрип седел, чувствуя запах конского пота и цветущего ракитника да еще прикосновения ветерка и лишь догадываясь, какова в этих местах дорога, по походке Чалой. Будучи не в состоянии вовремя заметить ухаб или вынужденную остановку, я был очень напряжен в седле и частенько, забыв всякий стыд, хватался за переднюю луку седла, чтобы сохранить равновесие. Мы были вынуждены ехать в основном гуськом, так что ни о каких разговорах и думать не приходилось. Мы, правда, то и дело останавливались, чтобы мать могла дать цыплятам воды, а около полудня и сами устроили привал, да и лошадей пора было покормить и напоить. Цыплята с энтузиазмом запищали и набросились на угощение, которое мать высыпала им в корзинку. Я спросил, где мы сейчас находимся. Под Черным утесом, сказал отец, в Кордеманте. Я даже представить себе это место не мог — я никогда еще не уезжал так далеко от границ Каспроманта. Вскоре мы снова двинулись в путь, и весь остаток того дня показался мне сплошным скучным и черным сном.
— Клянусь священным камнем! — вдруг воскликнул отец. Он никогда не клялся, даже этой ерундовой старомодной клятвы никогда не произносил, и это настолько поразило меня, что я очнулся от тупой дремоты. Мать ехала впереди, ибо ошибиться тут, на единственной тропе, было невозможно, а отец сзади, приглядывая за нами обоими. Она его возгласа не расслышала, но я спросил:
— Что случилось?
— Ты представляешь, наши телки! — сказал он. — Вон они! — И, вспомнив, что я не могу увидеть, куда он показывает, пояснил: — Там, у подножия холма, на лугу пасется довольно большое стадо коров, и только две коровы белые. Остальные бурые или рыжие. — Он минутку помолчал — наверное, старался разглядеть получше. — Ну да, у обеих горб и рога короткие, — сказал он. — Точно наши!
Теперь уже остановились мы все, и мать спросила:
— Мы все еще в Кордеманте?
— В Драмманте, — сказал отец. — Уже несколько часов по нему едем. Но это коровы той породы, что когда-то была выведена в Роддманте. И мои белые коровки наверняка тоже там! Надо бы подъехать поближе, посмотреть.
— Не теперь, Канок, — сказала Меле. — Скоро стемнеет. Нам лучше ехать дальше. — В ее голосе чувствовалось понимание и сочувствие, и отец ее послушался.
— Ты права, — сказал он, и я услышал, что Грейлаг пошел дальше. Чалая последовала за ним, так что мне даже не пришлось понукать ее, и рыжий жеребец тоже тронулся с места.
Мы подъехали к Каменному Дому Драмманта, и для меня это оказалось необычайно тяжело — чужие места, чужие люди и полная неспособность видеть. Мать взяла меня за руку, как только я спешился, и не отпускала от себя, — впрочем, возможно, не только мне, но и ей требовалась поддержка, а вдвоем все-таки было легче. Среди множества других голосов я услышал громкий дружелюбный бас Огге Драма:
— Ну и ну! Решили, значит, все-таки навестить нас! Мы очень рады! Добро пожаловать в Драммант! Мы, конечно, люди небогатые, но рады поделиться с вами всем, что имеем! Но что это? Почему у мальчика повязка на глазах? Что с тобой случилось, парень? Слабые глаза, да?
— Ах, мы были бы рады, если б так, — вздохнув, заметил Канок. Он был опытный фехтовальщик, а Огге этим искусством совсем не владел, предпочитал шпаге дубину. И сам, по-моему, был редкостным дубиной! Такой тебе даже не ответит и намека твоего не поймет; он, может, тебя и услышит, да внимания на твои слова никакого не обратит. Он и говорить с тобой будет так, словно ты для него пустое место, и сперва это, возможно, даже выгодно для него, но потом бывает и с точностью до наоборот.
— Что ж, неприятно, конечно, когда тебя ведут за ручку, точно младенца, но ничего: парень ваш вырастет и избавится от своего недуга. Идемте вот сюда. Эй, позаботьтесь о лошадях! Барро, кликни служанок, пусть приведут мою жену! — И Огге продолжал раздавать приказы и распоряжения, создавая вокруг шум и суету. Я чувствовал, что повсюду снуют люди, толпы невидимых, неизвестных мне людей. Моя мать кому-то объясняла, что эта корзина с цыплятами предназначена для супруги брантора. Она по-прежнему крепко держала меня за руку и попросту волокла меня за собой через бесконечные пороги и ступеньки. Когда мы наконец остановились, в голове у меня образовался настоящий водоворот. Нам принесли тазы с водой, и люди так и жужжали вокруг, пока мы поспешно смывали дорожную пыль и отряхивали одежду. Впрочем, мать успела еще и переодеться.
Затем мы снова сошли вниз и оказались в комнате, которая, судя по гулкому эху, была очень большой и с высокими потолками. Там был камин: я слышал потрескивание пламени и чувствовал волны тепла на лице и голых ногах. Мать не снимала руки с моего плеча.
— Оррек, — сказала она, — это супруга брантора, леди Денно. — И я поклонился в том направлении, откуда до меня донесся хрипловатый, какой-то усталый голос, предложивший мне чувствовать себя в Драмманте как дома. Затем мне представили других членов семьи Драм — старшего сына брантора, Харбу, и его жену, младшего сына брантора, Себба, и его жену, дочь брантора с мужем, чьих-то взрослых детей, внуков и т. д. Все это были сплошные имена — без лиц, тонувшие в полной темноте. Застенчивый мелодичный голос моей матери был едва слышен среди этих громогласных людей; и я ничего не мог поделать с собой, болезненно чувствуя, как сильно наша Меле от них отличается, как странно звучит здесь ее утонченная речь, какими чуждыми кажутся ее воспитанность и врожденная деликатность, — во всем, даже в том, как она произносит некоторые слова, чувствовалось, что она уроженка Нижних Земель.
Отец был тоже поблизости, у меня за спиной. Он отнюдь не все время поддерживал беседу с чересчур разговорчивыми жителями здешнего замка, но на вопросы их отвечал быстро и любезно, смеялся их шуткам, и в голосе его при этом слышалось даже некоторое удовольствие от возобновления старой дружбы. Один из этих людей, по-моему из семейства Барре, сказал:
— Значит, этот парнишка — обладатель «дикого дара», верно?
И Канок ему ответил:
— Верно. — И тут же в беседу вступил кто-то еще:
— Что ж, ничего страшного, вот войдет в полную силу и с даром своим справится. — И этот новый их собеседник принялся рассказывать какую-то байку о мальчике из Олмманта, у которого дар оставался диким аж до двадцати лет. Я изо всех сил старался дослушать эту историю, но не сумел: ее заглушил гул голосов.
Через некоторое время нас пригласили за стол, и это оказалось для меня поистине ужасным испытанием; дело в том, что слепому требуется очень много времени, чтобы научиться есть прилично, а я этого умения приобрести еще не успел. Я боялся даже притронуться к чему-либо: мне казалось, что я непременно что-нибудь разолью, рассыплю или испачкаюсь сам. Меня сразу же попытались посадить отдельно от матери, а ее брантор Огге пригласил сесть во главе стола вместе с мужчинами, однако она мягко, но уверенно отвергла это приглашение и настояла на своем желании сидеть рядом со мной. Она помогала мне и резала кушанья, и я вполне аккуратно мог брать эти кусочки пальцами и отправлять в рот, не шокируя окружающих своей неловкостью. Хотя у них в Драмманте хорошими манерами явно никто похвастаться не мог, если судить по тому, с каким шумом они жевали и глотали пищу, а потом еще и рыгали.
Мой отец сидел гораздо дальше от нас, где-то рядом с Огге, и, когда шум за столом несколько утих, я расслышал его тихий спокойный голос и почувствовал в нем какую-то странную веселую нотку, какую-то легкую насмешливость, которой никогда прежде у него не замечал.
— Я от всей души хочу поблагодарить тебя, брантор, за заботу о моих телках! А я-то проклинал себя, ругал себя последними словами, когда вовремя изгородь не отремонтировал! Они, конечно же, просто перепрыгнули через нее в том месте, где выпал очередной камень. Они ведь очень легконогие, эти белые коровки. Я уж почти смирился с тем, что они пропали. Думал, их кто-то в Нижние Земли свел, в Дьюнет. Да они бы там и оказались, если бы твои люди их не поймали и не сберегли для меня! — На том конце стола воцарилось напряженное молчание, хотя на нашем конце несколько женщин все еще увлеченно болтали. — Я ведь очень рассчитывал на этих телок, — продолжал Канок тем же доверительным, располагающим тоном, — надеялся постепенно восстановить их поголовье, чтобы и у меня было такое же стадо, как у Слепого Каддарда. В общем, Огге, прими мою сердечную благодарность! Считай, что первый же теленок, которого они принесут, — бычок или телочка, кого захочешь, — твой. Тебе нужно будет только послать за ним.
Теперь за столом, хотя и ненадолго, установилась полная тишина. Потом кто-то на том конце не выдержал:
— Отлично сказано, брантор Канок! — И его тут же поддержали другие, но голоса Огге я среди них не слышал.
Наконец обед закончился, и моя мать попросила разрешения подняться в свою комнату и меня забрала с собой. Мы уже уходили, когда Огге громко спросил:
— Что ж ты так рано уходишь и молодого Оррека уводишь от нас? Он ведь уже взрослый парень. Посиди с мужчинами, сынок, попробуй мое весеннее пиво!
Но Меле кротко сказала, что просит прощения: и она, и я слишком устали после целого дня езды верхом. Неожиданно ее поддержала и жена брантора, Денно.
— Отпусти мальчика, Огге, — сказала она своим хрипловатым и как будто усталым голосом, так что удрать оттуда нам все же удалось, а вот отцу пришлось остаться и пить пиво вместе с остальными мужчинами.
Наверное, было уже очень поздно, когда он наконец поднялся в нашу комнату; я уже спал, но проснулся, потому что в темноте он налетел на стул, потом еще что-то уронил, и Меле прошептала:
— Тише! Ты пьян!
А он ответил ей громче, чем, видимо, хотел:
— Это не пиво, а лошадиная моча! — И она засмеялась, а он фыркал и, бродя по комнате и налетая на мебель, бормотал: — Где же эта проклятая кровать? — Наконец они улеглись. Я лежал на своей узкой кроватке под окном и слушал, как они шепчутся.
— Канок, зачем же ты так ужасно рисковал?
— Мы рисковали, уже просто приехав сюда.
— Но когда ты стал говорить об этих телках…
— А что, молчать было бы лучше?
— Но ты же прилюдно бросил ему вызов!
— Да, и ему оставалось либо солгать в присутствии своих же людей — хотя все они и так прекрасно знают, как эти телки сюда попали, — либо принять тот выход, который я ему предложил.
— Тише, ради бога, тише! — прошептала Меле, потому что Канок опять заговорил почти в полный голос. — Ну и хорошо, что он предпочел этот выход.
— Это еще вопрос. Мы еще увидим, что именно он предпочел. А где, кстати, была эта девчонка? Ты ее уже видела?
— Какая девчонка?
— Да невеста же! Эта их скромница!
— Канок, тише! — Мать не то сердилась, не то смеялась.
— Ну и закрой мне рот, милая, закрой мне рот, — прошептал он, и я опять услышал ее тихий смех, скрип кровати, и все стихло. А я снова провалился в сокровищницу снов.
На следующий день брантор Огге послал за моей матерью и пригласил ее присоединиться к ним, поскольку собирался показать моему отцу свои владения, свои дома, амбары и конюшни. Пригласили и меня. Кроме Меле, в компании не было ни одной женщины; с нами отправились также сыновья Огге и еще несколько человек из Драмманта. Огге разговаривал с моей матерью как-то странно, неестественно — покровительственно и в то же время льстиво. Я слышал, как он обсуждал ее внешность с другими мужчинами, словно она была просто красивым животным: хвалил ее стройные лодыжки, ее волосы, ее походку. А в разговоре с нею он то и дело упоминал о ее происхождении, с презрением или высокомерием намекая на то, что она нездешняя, что она уроженка Нижних Земель, то есть существо низшего порядка. И все же он прямо-таки прилип к ней, точно огромная пиявка. Я несколько раз пытался влезть между ними, но он тут же оказывался рядом, только по другую сторону от нее. Видимо, я его раздражал, и несколько раз он предлагал Меле — только что не приказывал! — отослать меня к «другим детям» или к моему отцу. Она ни разу прямо ему не отказала, но отвечала таким легким веселым тоном, с улыбкой, что как-то все же получалось, что я все время оставался при ней.
Когда мы вернулись в Каменный Дом, Огге сообщил, что готовится большая охота на кабанов в северных холмах Драмманта. Ждут только прибытия Парн, матери Грай. Меле колебалась, явно встревоженная, и он сказал ей:
— Ну, в конце концов, охота на кабанов — дело не женское. Это занятие опасное. Но парня своего ты все-таки с нами отпусти, пусть немного развеется, а то все бродит в своей повязке да скучает. Ведь даже если кабан на него и бросится, ему только глазом моргнуть — и прощай кабанчик! Верно, парень? На кабаньей охоте такой быстрый глаз, как у тебя, всегда пригодится.
— Только пусть уж лучше это будет мой быстрый глаз, — вмешался отец. Он сказал это все тем же безупречно любезным веселым тоном, каким постоянно пользовался с тех пор, как мы приехали в Драммант. — А Оррека использовать пока что слишком рискованно.
— Рискованно? Неужели твой парень свиней боится?
— Нет, я не о нем. — И я почувствовал, что на этот раз острый кончик его шпаги все же чуть-чуть кольнул Огге.
И тот мгновенно перестал притворяться и делать вид, что ему якобы не понятно, почему мои глаза закрыты повязкой; и стало ясно, что все в Драмманте прекрасно знают, зачем это сделано, и, мало того, верят в любые, даже самые дикие истории о моих «подвигах». Я был мальчиком с «диким», разрушительным даром, столь могущественным, что не мог пока совладать с ним. Я был очередным Слепым Каддардом. И, несмотря на все выпады Огге, моя репутация ставила нас на недосягаемую для него высоту. Впрочем, кроме привычной дубины, было у него и другое оружие.
Вчера вечером и нынче утром вокруг нас роилось множество людей, однако мы все еще не были представлены внучке брантора Огге, дочери его младшего сына Себба Драма и Даредан Каспро. С ее родителями, впрочем, мы уже познакомились. У Себба оказался такой же гулкий жизнерадостный бас, как и у его отца; Даредан поговорила лишь с моей матерью и со мной, причем таким ласковым и тихим голосом, что я почему-то вообразил, что она глубокая старуха, хотя Канок говорил, что она еще совсем не старая. Когда, уже ближе к полудню, мы вернулись в дом после прогулки, то снова встретили там Даредан, но дочери с ней не было — той самой девушки, которую прочили мне в невесты, той самой «скромницы», как назвал ее Канок ночью. И, вспомнив, каким тоном он произнес это слово, я покраснел.
Похоже, Огге обладал даром читать чужие мысли, потому что громко сказал, обращаясь ко мне:
— Придется тебе, молодой Каспро, подождать несколько дней, прежде чем ты сможешь познакомиться с моей внучкой Вардан. Она у старого Римма гостит, там у нее сестры двоюродные. Хотя какой тебе смысл знакомиться с девушкой, если ты ее даже увидеть не можешь? Впрочем, есть, конечно, и другие способы узнать девушку, как ты и сам потом поймешь. И куда более приятные! — (Мужчины вокруг засмеялись.) — Ничего, Вардан будет уже дома, когда мы после кабаньей охоты вернемся.
Парн Барре прибыла в полдень, и с этого времени все разговоры в доме были только об охоте. Мне пришлось тоже поехать. Мать, правда, меня не пускала; она явно хотела запретить мне «участвовать в этом безумии», но я понимал, что выхода у меня нет, и сказал:
— Не тревожься, мама. Я буду верхом на Чалой, а она меня в обиду не даст.
— Да и я при нем буду, — пообещал Канок. Я чувствовал, что мое решение непременно участвовать в охоте очень ему по нраву.
Мы выехали еще до рассвета. Канок действительно не отходил от меня ни на шаг. И стал для меня единственной точкой опоры в этой бесконечной, бессмысленной скачке в темноте, в неожиданных остановках, криках и молчании, в появлении и исчезновении большого количества людей. И конца этому видно не было. Мы охотились пять дней, и я ни разу так и не смог как следует собраться с мыслями; я ни разу не знал, что именно находится впереди, куда в следующий момент поставлю ногу. Никогда еще искушение приподнять повязку на глазах не было сильнее, и все же я не решался это сделать, пребывая в постоянном раздражении, вызванном страхом и собственным бессилием, чувствуя себя униженным, жалким. Я безумно боялся громкого, чересчур бодрого голоса брантора Огге и никуда не мог от него скрыться. Порой он делал вид, что верит, будто я и в самом деле слеп, и громко меня жалел, но даже и тогда он дразнил меня, подзуживал, испытывал мое терпение, хотя и не требовал открыто, чтобы я снял с глаз повязку и показал всем свой разрушительный дар. Огге боялся меня и злился из-за этого страха; ему хотелось, чтобы я страдал, потому что он меня боится; и он прямо-таки сгорал от любопытства, потому что понятия не имел, какова же в действительности моя сила. Он никогда не переступал определенной черты во взаимоотношениях с Каноком, ибо прекрасно знал, на что тот способен. Но на что способен я, ему было неизвестно. А что, если эта повязка на глазах просто блеф, обман? Огге был похож на ребенка, который дразнит сидящую на цепи собаку, пытаясь понять, действительно ли она может его укусить. Но в данном случае это я сидел на цепи, это меня он дразнил и заставлял почувствовать, что я полностью в его власти. Я ненавидел его так сильно, что знал: если я посмотрю на него, ничто меня не остановит, я просто уничтожу его, как отец — ту крысу, как я — ту гадюку и несчастного Хамнеду…
Парн Барре приманила охотникам стадо диких свиней аж из предгорий Эйрн, а потом отозвала хряка подальше от свиноматок. Когда собаки и люди окружили кабана, она покинула место охоты и вернулась в лагерь, где были оставлены те лошади, что везли поклажу, слуги и я.
Когда охотники уезжали из лагеря, момент для меня был действительно весьма позорный.
— Ты мальчишку-то с собой возьмешь, Каспро? — спросил брантор Огге, и мой отец ответил ему самым разлюбезным тоном, что мне со старушкой Чалой никуда ехать не стоит, потому что мы будем только всех задерживать. — Так, может, и тебе лучше вместе с ними остаться, на всякий случай, а? — насмешливо пробасил Огге, и Канок тихо ответил:
— Нет, я тоже хотел бы в охоте поучаствовать.
Прежде чем садиться на коня, отец коснулся моего плеча — он взял Грейлага, а не Бранти, — и шепнул:
— Держись, сынок!
И я держался изо всех сил, сидя в одиночестве, поскольку слуги Драма старались находиться от меня подальше и вскоре вообще обо мне позабыли, громко болтая и смеясь. Я же понятия не имел, что происходит вокруг; рядом лежал только скатанный спальный мешок, в котором я спал прошлой ночью и на который теперь опирался левой рукой. Весь остальной здешний мир казался мне совершенно неведомым; меня словно подхватил какой-то непонятный поток, в котором я мгновенно утонул бы, стоило мне встать и сделать шаг или два. На земле под ногами я отыскал несколько мелких камешков и играл с ними, перебрасывая из руки в руку, пересчитывая, пытаясь построить из них башенку или выложить в ряд, чтобы хоть как-то развеять бесконечную скуку. Мы вряд ли сознаем, как много удовольствий и интереса в жизни получаем благодаря глазам, до тех пор, пока не наступает пора обходиться без зрения; и значительная радость нашей жизни проистекает как раз из того, что глаза могут сами выбирать, на что им смотреть. А вот уши не могут выбирать, что именно им слушать. Я хотел бы слушать пение птиц, ибо лес был полон их весенней музыки, но слышал главным образом крики слуг и их дурацкий смех, невольно думая о том, до чего же мы, люди, шумный народ.
Я услышал, как в лагерь возвращается какая-то лошадь, а голоса стали не такими громкими, и вскоре кто-то сказал рядом со мною:
— Оррек, это я, Парн. — И я почувствовал ласку уже в том, что она назвала себя, хотя я и так узнал бы ее по голосу, очень похожему на голос Грай. — Я тут тебе немножко сушеных фруктов привезла, подставь-ка ладошку. — И она положила мне в руку несколько сушеных слив. Я поблагодарил ее и принялся жевать угощение. Она присела рядом со мною, и я слышал, что она тоже жует сливу.
— Значит, так, — сказала она, точно подводя итоги, — этот кабан, видимо, уже успел убить двух-трех собак и столько же людей. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. Может быть, люди все-таки убили его и теперь потрошат, вырубают жерди, чтобы отнести тушу в лагерь, собаки дерутся из-за кабаньих внутренностей, а лошади пытаются отойти подальше ото всего этого, да не могут. — Парн сплюнула. По-моему, сердито. А может, просто выплюнула сливовую косточку.
— А ты никогда не остаешься посмотреть, как убивают зверя? — смущаясь, спросил я. Я знал Парн чуть ли не с рождения, но всегда относился к ней с некоторой опаской и одновременно с восхищением.
— Только не при охоте на кабана и медведя. Охотникам в таких случаях всегда хочется, чтобы я удержала животное, помогла им убить его. Обеспечила им все преимущества. Но это было бы слишком несправедливо.
— А когда охотятся на оленей или, скажем, зайцев?
— Ну, это обычная дичь. Такую убивают быстро. А кабан и медведь — это вообще не дичь. Эти звери заслуживают честной схватки.
У Парн была совершенно определенная и, по-моему, справедливая позиция на сей счет, и я был полностью с ней согласен.
— Грай подыскала тебе собаку, — сказала Парн.
— Я как раз хотел попросить ее…
— Как только она узнала, что тебе завязали глаза, то сразу решила, что теперь тебе понадобится собака-поводырь. И очень неплохо поработала с одним из щенков нашей овчарки Кинни. Хорошие собачки. Ты заезжай в Роддмант по пути домой. Грай будет рада, да и собака, наверное, для тебя уже готова.
Наш разговор с Парн был самым лучшим, самым приятным моментом за всю эту бесконечную проклятую поездку.
Охотники вернулись в лагерь очень поздно и порознь. Мне, конечно, ужасно хотелось спросить об отце, но я не осмеливался и только прислушивался к тому, что говорили другие, надеясь услышать и его голос. Наконец вернулся и он, ведя в поводу Грейлага, который слегка повредил ногу, попав в какую-то ямку. Отец ласково поздоровался со мной, но я почувствовал, что он едва сдерживает отчаяние. Охота прошла крайне неудачно. Огге с его старшим сыном все время спорили и всех сбивали с толку, так что кабан, которого хоть и заманили в ловушку, все же успел убить двух собак и удрать, и во время погони одна из лошадей сломала ногу. А потом кабан забрался в заросли, и охотникам пришлось спешиться, чтобы снова окружить его, и он распорол брюхо еще одной собаке, и наконец — тут отец наклонился к нам с Парн и очень-очень тихо сказал:
— Они все стали колоть бедного зверя копьями, но ни один так и не осмелился подойти к нему достаточно близко, чтобы прикончить его ударом кинжала. Так что они его еще с полчаса мучили.
Мы сидели молча, слушая, как Огге с сыном орут друг на друга. Слуги наконец притащили тушу кабана в лагерь; я чувствовал отвратительную вонь дикого зверя и металлический запах крови. Печень торжественно разделили, чтобы затем каждый, кто принимал участие в этом убийстве, сам поджарил ее на костре. Канок, впрочем, даже не встал. Он выждал немного и пошел посмотреть, как там наши лошади. Я слышал, как сын Огге, Харба, кричит ему, чтоб он тоже взял свою долю кабаньей печенки, но голоса самого Огге я так и не услышал. Огге не пришел и подразнить меня, как обычно, хотя это, похоже, уже стало входить у него в привычку. Ни в тот вечер, ни в течение всего обратного пути Огге не сказал ни Каноку, ни мне ни единого слова. Я испытал огромное
облегчение — мне осточертели его идиотские шутки, — но почему-то тревожился. И во время последней ночевки спросил отца, не сердится ли на него брантор.
— Он говорит, что я отказался спасти его собак, — сказал Канок. Мы лежали рядом с догоревшим, но еще теплым костром, голова к голове и шептались. Я понимал, что вокруг темно, и представлял себе, что ничего не вижу просто потому, что сейчас ночь.
— А как это было?
— Когда кабан вспорол двум собакам брюхо, Огге завизжал: «Ну, где же твой дар, Каспро, воспользуйся же им, наконец!» Словно не знает, что на охоте я им никогда не пользуюсь! Я взял копье и пошел на кабана вместе с Харбой и еще двумя ребятами. А Огге с нами не пошел. И нам не повезло: кабан бросился наутек и побежал прямо в ту сторону, где был Огге. Но он его не тронул. Если честно, Оррек, это была самая настоящая резня, как в мясницкой. И он теперь всю вину валит на меня.
— Мы должны еще оставаться в Драмманте, когда вернемся?
— Да, еще денек-другой.
— Он же ненавидит нас! — выдохнул я.
— Да, но только не Меле, не твою мать.
— Ее как раз больше всех! — возразил я.
Но Канок не понял меня или просто мне не поверил. Но я-то знал, что это правда. Огге мог сколько угодно надо мной издеваться, мог доказывать Каноку свое превосходство в богатстве и силе, но Меле Аулитта была для него недосягаема. Я же видел, как алчно он смотрел на нее, когда приезжал к нам. Какое удивление, какая ненависть горели тогда в его взоре! Мне было ясно: он стремится во что бы то ни стало подобраться к ней поближе, произвести на нее впечатление своими хвастливыми речами, своими попытками опекать ее. И все это разбивается о ее тихую улыбку и уклончивые слова, на которые он просто не знает что ответить. Что бы он ни делал, она оставалась недосягаемой! Она ведь даже ни чуточки его не боялась.
Глава 11
Когда же мы вернулись в Каменный Дом Драмманта после стольких дней и ночей, проведенных в лесу, и я наконец смог остаться наедине с матерью, вымыться и надеть чистую рубашку, то даже этот недружелюбный дом, которого я, впрочем, так и не видел, показался мне родным и знакомым.
К обеду мы спустились в зал, и там я услышал, как брантор Огге разговаривает с моим отцом — впервые за последние дни.
— Где твоя жена, Каспро? — спрашивал он. — Где эта хорошенькая каллюка? И где твой слепой мальчишка? Моя внучка приехала и хочет с ним познакомиться. Она проделала долгий путь — через все наши земли от самого Римманта. А, вот и ты, парень! Что ж, познакомься с Вардан. Интересно, как вы друг другу понравитесь? — И он засмеялся каким-то неестественным металлическим смехом.
Я услышал, как Даредан Каспро, мать девочки, шепнула ей, чтоб вышла вперед. А моя мать, положив руку мне на плечо, сказала:
— Мы очень рады познакомиться с тобой, Вардан. Смотри, детка, это мой сын, Оррек.
По-моему, девочка ничего не сказала, но мне то ли послышались, то ли почудились какие-то странные звуки — хихиканье или хныканье, — и я даже подумал, что у этой Вардан на руках щенок.
— Как поживаешь, Вардан? — осведомился я светским тоном и поклонился.
— Живаешь поживаешь по, — пробормотал кто-то, стоявший как раз там, где должна была находиться эта девочка. Голос был какой-то сдавленный, слабый.
Я не знал, что сказать еще, но моя мать не растерялась:
— Мы очень хорошо устроились, спасибо, милая. Путь из Римманта, должно быть, неблизкий? Ты, верно, очень устала?
И снова послышалось то щенячье повизгиванье.
— Да, она, бедняжка, очень устала, — с явным облегчением подхватила мать девочки, но тут рядом с нами раздался грохочущий бас Огге:
— Ну-ну, дайте же молодым людям немного поболтать друг с другом, не вкладывайте им в рот свои слова, женщины! И чтоб никакого сватовства! Хотя они, конечно, славная пара! Что скажешь, парень? Правда, Вардан у нас хорошенькая? И кстати, она той же крови, что и ты. Я имею в виду, конечно, не кровь каллюков. Всегда ведь считалось, что кровь благородных предков рано или поздно себя проявит! Ну что, нравится тебе моя внучка?
— Я, к сожалению, не могу ее увидеть, господин мой. Но полагаю, что она очень мила, — спокойно ответил я и почувствовал, как мать стиснула мое плечо. Не знаю уж, испугалась ли она моей смелости или призывала и впредь вести себя прилично.
— Не можешь ее увидеть? «Я не могу ее увидеть, господин мой»! — передразнил меня Огге. — Ну так позволь ей вести тебя. Она-то видит отлично. И глаза у нее красивые. Острые, цепкие. Глаза настоящей Каспро. Верно, девочка? Верно?
— Верно вер-верно. Верно не. Не верно. Мама, можно на лесенку?
— Да, детка. Сейчас пойдем. Она так долго была в пути и совсем устала, бедняжка. Пожалуйста, извините нас! Дорогой тесть, девочке необходимо немного отдохнуть.
И они, видимо, исчезли. А мы исчезнуть не могли. И обязаны были несколько томительных часов просидеть за длинным столом, ожидая, когда дожарится проклятый кабан. Его целый день жарили на вертеле. Наконец внесли кабанью голову, и в зале послышались ликующие крики. Выпили за охотников. Сильный запах жареной кабанятины наполнил зал. Мне на тарелку навалили целую гору мяса. Налили вина. Не пива или эля, а красного вина. Из всех Верхних Земель только Драммант выращивал свой виноград — на самом юге; и там делали вино, густое, терпкое, кисло-сладкое. Вскоре голос Огге стал звучать еще громче, чем всегда; он то и дело прикрикивал на старшего сына и еще больше на младшего, отца Вардан.
— Ну что, устроим детишкам помолвку да попируем на радостях, а, Себб? — вопрошал Огге зычным басом и принимался обидно хохотать, не дождавшись ответа, а примерно через полчаса снова задавал тот же вопрос: — Как насчет помолвки, Себб? Эй, Себб! Тут все наши друзья собрались. Все под одной крышей — и Каспро, и Барре, и Корде, и все наше семейство. Можно сказать, лучшие семьи Верхних Земель. Ну, брантор Канок, что скажешь? Как ты насчет пирушки? Давайте же выпьем. Выпьем за нашу дружбу, верность и удачные браки!
После обеда мать хотела увести меня наверх, но нам не позволили. Пришлось остаться. Огге все сильнее пьянел. Он постоянно торчал где-то поблизости и без конца заговаривал с моей матерью. Его тон да и сами слова становились все более оскорбительными, но ни Меле, ни Канок, который старался не оставлять нас с ним наедине, на провокации не поддавались и ни разу не ответили ему сердито или раздраженно; они вообще почти никак ему не отвечали. Впрочем, через некоторое время к этой странной беседе присоединилась жена Огге; она, видно, решила послужить моей матери своеобразным щитом и отвечала теперь Огге вместо нее. Он явно надулся и решил развлечься, продолжив ссору со старшим сыном, а мы наконец получили передышку и поспешили незаметно выскользнуть из зала и подняться в свою комнату.
— Канок, мы можем уехать… прямо сейчас? — шепотом спросила мать, когда мы шли по длинному коридору к себе.
— Потерпи еще немного, — ответил он, когда мы вошли в комнату и плотно закрыли за собой дверь. — Сперва мне нужно переговорить с Парн Барре. А рано утром мы уедем. За ночь он ничего плохого нам сделать не успеет.
Она рассмеялась, но с каким-то отчаянием.
— Не бойся, я ведь с тобой, — услышал я голос Канока, и она, выпустив наконец мое плечо, обняла его. И он прижал ее к себе.
Это было так, как и должно было быть. И я страшно обрадовался, услышав, что вскоре мы отсюда сбежим, но на один-единственный вопрос я все же хотел бы получить ответ немедленно.
— А та девушка, — спросил я, — Вардан?
И почувствовал, как они оба посмотрели на меня. Ответили они не сразу, и я понял, что они переглядываются.
— Она еще совсем маленькая, — сказала моя мать. — И совсем не такая уж безобразная, — прибавила она, точно оправдываясь. — И у нее очень милая улыбка. Только она…
— Идиотка, — подсказал Канок.
— Нет, неправда! Это не настолько плохо, милый… Но… она… Она просто недоразвитая. Точно младенец. И по-моему, душа у нее тоже младенчески невинная. Правда, вряд ли она когда-нибудь станет старше…
— Нет, она идиотка, — упрямо повторил отец. — Драм предложил тебе в жены идиотку, Оррек!
— Канок! — предостерегающе прошептала мать, и я тоже испугался, такая свирепая ненависть звучала в голосе моего отца.
В дверь постучали. Отец пошел открывать. Я услышал какие-то тихие голоса, потом он вернулся, но уже без матери, и подошел ко мне, сидевшему на краешке кровати.
— Там эту девчонку, Вардан, прихватило, — сказал он. — Вот Даредан и пришла просить твою мать помочь. Меле молодец! Она тут со всеми подружилась, пока мы на свиней охотились да врагов себе наживали. — Отец устало усмехнулся, и я услышал, как скрипнуло кресло у камина, когда он плюхнулся в него. — Как бы мне хотелось сейчас быть отсюда подальше, Оррек!
— И мне тоже! — искренне сказал я.
— Ладно, ложись и немного поспи. А я подожду Меле.
Я тоже хотел подождать ее и даже уселся было с ним рядом, но он ласково подтолкнул меня к кровати, помог лечь и укрыл мягким теплым одеялом, и уже через минуту я спал как убитый.
Проснулся я внезапно и сразу почувствовал себя настолько бодрым, словно и вообще не спал. Было слышно, как петух в курятнике возвещает скорый рассвет. Впрочем, до рассвета вполне могло быть и довольно далеко. В комнате послышался легкий шорох, и я спросил:
— Отец, это ты?
— Оррек? Я тебя разбудила? Тут так темно, ничего не видно! — Мать ощупью пробралась к моей кровати и присела на краешек. — Ох, как я замерзла! — Она действительно вся дрожала, и я попытался накрыть ее своим теплым одеялом, но она накрыла им и меня.
— А отец где?
— Он сказал, что ему непременно нужно поговорить с Парн Барре, а потом, как только рассветет, мы уедем. Я сказала Денно и Даредан, что мы уедем. Они все правильно поняли. Я просто объяснила, что мы и так задержались здесь слишком долго и Канок беспокоится насчет весенней пахоты.
— А как там эта девочка?
— Теперь уже лучше. Она очень быстро устает, и у нее от этого бывают судороги. А ее мать каждый раз пугается, бедняжка. Она совершенно измучилась с этим ребенком, и я отослала ее наверх, чтобы она немного поспала, она явно недосыпает, а сама посидела с девочкой. А потом и я вроде бы тоже задремала, и… не знаю… отчего-то ужасно замерзла и никак не могу согреться… — Я обнял ее, и она прижалась ко мне. — Потом меня сменили другие женщины, и я вернулась сюда, а твой отец пошел искать Парн. Мне кажется, нам стоит собрать вещи. Хотя еще так темно… Знаешь, я там сидела и все ждала рассвета…
— Посиди еще немножко, согрейся, — сказал я. Так мы и сидели, согревая друг друга, пока не вернулся отец. Он зажег свечу, и мать торопливо сложила наши немногочисленные пожитки в седельную сумку. Потом мы осторожно прокрались по коридору, спустились по лестнице в вестибюль и вышли из дома. Я по запаху чувствовал, что в воздухе уже разливается рассвет, да и петухи орали так, что можно было оглохнуть. На конюшне сонный угрюмый парень помог нам оседлать коней. Мать вывела Чалую во двор и придержала ее, пока я садился в седло.
Потом она вернулась за Грейлагом, и вдруг я услышал, как она негромко, но горестно вскрикнула. Застучали копыта, и мать сказала:
— Ты только подумай, Канок!
— А! — раздраженно, с отвращением бросил он.
— Что там такое? — встревожился я.
— Цыплята, — почти шепотом пояснил мне отец. — Те самые, которых Меле везла в подарок. Люди Драма так и бросили корзину там, где твоя мать ее поставила. Просто бросили и ушли. Оставили цыплят умирать.
Он помог Меле сесть на Грейлага, затем вывел из конюшни Бранти. Тот сонный парень открыл нам ворота, и мы выехали со двора.
— Жаль, что нельзя пустить лошадей галопом! — сказал я. И мать, решив, что я именно это и намерен сделать, тут же всполошилась:
— Нет, милый, этого нельзя!
Но Канок, ехавший за нами следом, усмехнулся и сказал:
— Нельзя, но мы от них и шагом убежим.
Уже вовсю щебетали птицы, и мне все казалось, как моей матери ночью, что я вот-вот увижу свет зари.
Мы проехали уже несколько миль, когда она вдруг нарушила молчание:
— Глупо было привозить цыплят в такой дом!
— В какой «такой»? — переспросил отец. — В такой большой и богатый, ты хочешь сказать?
— Он хорош только в их собственных глазах! — сердито отрезала Меле Аулитта.
А я сказал:
— Отец, они ведь, наверное, скажут, что мы убежали!
— Да, конечно.
— Но тогда нам не надо было… не стоило…
— Если бы мы остались, Оррек, я бы его убил. И хотя мне очень хотелось прикончить этого негодяя в его же собственном доме, боюсь, мне слишком дорого пришлось бы заплатить за свой поступок. И он это прекрасно понимал. Но я все же доставлю себе небольшое удовольствие!
Я не понял, что он хотел этим сказать, да и мать, по-моему, тоже не поняла, но спрашивать мы не стали, а уже ближе к полудню услыхали позади топот конских копыт и встревожились, но Канок сказал:
— Это Парн.
Парн нагнала нас, поздоровалась своим хрипловатым голосом, так сильно напоминавшим мне голос Грай, и спросила:
— Ну и где твои коровы, Канок?
— Вон под тем холмом, чуть дальше. — Мы еще немного проехали, потом остановились, и мы с матерью спешились. Она усадила меня на заросшем травой берегу ручья, взяла Грейлага и Чалую и подвела их к воде, чтоб напились и немного остудили копыта. А Канок и Парн куда-то поехали, и вскоре их совсем не стало слышно.
— Куда это они? — спросил я.
— На то пастбище. Канок, должно быть, попросил Парн призвать наших телок.
Прошло не так уж много времени, но оно показалось мне вечностью, потому что я очень беспокоился и все прислушивался к звукам возможной погони, но, разумеется, ничего не было слышно, кроме птичьего пения и отдаленного мычания коров. И тут мать сказала:
— Они едут!
Вскоре я услышал шелест травы, приветственное пофыркиванье Бранти и голос отца, который со смехом что-то рассказывал Парн.
— Канок? — окликнула его мать, и он тут же ответил ей:
— Все в порядке, Меле! Это наши телки. Драм позаботился о них, но теперь я забираю их домой. Так что все в порядке.
— Вот и хорошо, — сказала она совершенно несчастным голосом.
И вскоре мы снова двинулись в путь — впереди Меле, затем я, за мной Парн с двумя телками, неотступно следовавшими за нею, и, наконец, Канок, который вез наши пожитки. Молодые и бодрые коровы ничуть не замедляли нашего движения; эту породу скота раньше использовали для любых работ; на таких коровах и возили, и пахали, так что телки бежали резво и не отставали от лошадей. К середине дня мы пересекли северную границу наших земель, свернули и направились в сторону Роддманта. Парн предложила пока что отвести телок туда и оставить на одном из пастбищ вместе с их собственным стадом.
— Это будет не так вызывающе, — сказала она. — Да и Драму значительно труднее будет снова их выкрасть.
— Если только он специально не пошлет ради этого за тобой, — сказал Канок.
— Он-то, может, и пошлет, да только я больше не собираюсь иметь никаких дел с Огге Драмом. Если только он не захочет разжечь междоусобицу. Впрочем, тогда он получит сполна.
— Если он вздумает воевать с вами, то ему придется воевать и с нами! — заявил Канок с веселой яростью.
Я услышал, как мать прошептала: «Энну, услышь меня, приди!» Она всегда повторяла эти слова, когда была встревожена или напугана. Когда-то я спросил ее, кто такая эта Энну, и она рассказала мне, что это богиня, которая делает более гладкой дорогу для путников, благословляет любой труд и улаживает всякие ссоры. Животным воплощением Энну была кошка, а опал, который Меле всегда носила на шее, считался камнем этой богини.
К тому времени как спина моя перестала ощущать тепло клонившегося к закату солнца, мы подъехали к Каменному Дому Роддманта. Но лай собак я услышал задолго до этого. Огромная стая собак собралась вокруг нас, но лошадей они не пугали, напротив, все они радостно нас приветствовали. Тернок с крыльца тоже что-то громко кричал, а потом кто-то подошел ко мне — я по-прежнему сидел на Чалой — и тронул за ногу. Это была Грай. И вдруг она прижалась лицом к моей ноге.
— Ну-ну, Грай, дай же Орреку слезть с лошади, — суховато-ласково сказала ей Парн. — Подай ему лучше руку.
— Не нужно, я сам! — Я вполне удачно спешился и обнаружил, что теперь Грай схватила меня уже за руку, прижалась к ней лицом и плачет.
— Ох, Оррек! — приговаривала она. — Ох, Оррек!
— Да что ты, Грай, все хорошо! Правда! Это не… Я не…
— Я знаю, — сказала она, выпуская мою руку и несколько раз горестно шмыгнув носом. — Здравствуй, мама. Здравствуй, брантор Канок. Здравствуй, Меле, дорогая моя. — И я услышал, как они с Меле обнимаются и целуются. Потом Грай снова вернулась ко мне.
— Парн говорит, у тебя какая-то собака есть, — неуклюже начал я, ибо гибель бедного Хамнеды все еще тяжким грузом давила мне на душу — не только его смерть, но и то, что я сам его тогда выбрал, хотя Грай предупреждала меня, что выбор я сделал неправильный.
— Есть. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?
— Очень хочу!
— Пошли.
Она куда-то повела меня — даже этот дом, который я знал почти так же хорошо, как родной, показался мне лабиринтом, полным тайн, из-за черной повязки у меня на глазах.
— Подожди минутку, — сказала Грай, и вскоре я услышал: — Сидеть, Коули! Коули, это Оррек. Оррек, это Коули.
Я присел на корточки. Протянул руку и почувствовал на ладони теплое дыхание, деликатное прикосновение усатой морды и языка, тут же вылизавшего мне все пальцы. Я осторожно провел перед собой рукой, опасаясь попасть пальцем собаке в глаз или испугать ее каким-нибудь неверным движением, но собака сидела смирно. Я погладил ее и ощутил под рукой шелковистую, густую, курчавую шерсть и настороженно приподнятые мягкие уши.
— Это черная овчарка? — шепотом, точно завороженный, спросил я.
— Да. У Кинни сука прошлой весной принесла троих щенков. Коули оказалась самой лучшей и быстро стала любимицей всей детворы. А Кинни уже начал ее учить как пастушью собаку. Но я, услыхав про твои глаза, выпросила ее у него. Вот, держи. Это ее поводок. — Грай сунула мне в руку конец жесткого кожаного поводка. — Пройдись с ней, — велела она.
Я встал и почувствовал, что собака тоже встала. Я сделал шаг и обнаружил, что собака преградила мне путь и не желает сходить с места. Я рассмеялся, но был несколько озадачен.
— Так мы далеко не уйдем!
— Между прочим, если бы ты сделал еще шаг, то непременно споткнулся бы о бревно, которое там оставил Фанно. Пусть Коули сама тебя ведет, ты не бойся.
— А мне что делать?
— Просто скажи: «Идем, Коули!»
— Идем, Коули! — повторил я послушно, сжимая в руке кожаный поводок.
Поводок мягко потянул меня вправо и вперед. И я смело пошел за Коули, пока поводок не замер, предлагая мне остановиться.
— Идем назад, Коули, идем к Грай, — сказал я собаке, и она тут же повернула назад и вскоре остановилась.
— Я здесь, — сказала Грай. Она стояла прямо передо мной, и голос ее прозвучал непривычно резко.
Я опустился на колени к сидевшей на земле собаке и обнял ее. Шелковистое ухо коснулось моего лица, усы щекотали нос. «Коули, Коули», — нежно приговаривал я.
— С ней я почти не пользовалась своим даром, только в самом начале раза два, — сказала Грай. Судя по всему, она тоже присела на корточки рядом со мной. — Она очень быстро все схватывала. Она просто умница! И очень спокойная. Но вам нужно еще немного поработать вместе.
— Так мне лучше оставить ее здесь, а потом приехать за ней?
— Не думаю. Я просто могу сказать, чего тебе делать не стоит. И постарайся не требовать от нее сразу слишком много. А потом я всегда могу заехать и поработать с вами обоими. Я с удовольствием приеду.
— Это было бы здорово, — сказал я. После страстей и жестокостей Драмманта, после всего, что мне довелось там пережить, чистая любовь и доброта Грай, спокойное и доверительное отношение ко мне Коули оказались для меня чересчур сильным испытанием. Скрывая волнение, я спрятал лицо в курчавую шелковистую шерсть и сказал с чувством: — Хорошая собака!
Глава 12
Когда мы с Грай наконец пошли к ним в дом, я с ужасом узнал, что моя мать, слезая с коня, потеряла сознание и упала — хорошо еще прямо отцу на руки. Ее отнесли наверх и уложили в постель. Мы с Грай крутились поблизости, чувствуя себя маленькими и беспомощными, — как обычно чувствуют себя подросшие дети, когда в семье заболевает кто-то из взрослых. Наконец Канок сошел вниз. Он подошел прямо ко мне и сказал:
— Она поправится.
— Может быть, она просто устала? — предположил я.
Он замешкался с ответом, и тут вдруг Грай спросила:
— А ребеночка она не потеряла?
Это было частью дара Грай — знать, что в одном теле одновременно существуют две жизни. Наш дар, например, таких преимуществ не давал. Я уверен, что Канок до этой минуты понятия не имел, что Меле беременна; возможно, она и сама этого еще не знала.
Меня эта новость не слишком взволновала. Мальчишка в тринадцать лет обычно довольно далек от этой стороны жизни; беременность и рождение ребенка — для него весьма абстрактные вещи, не имеющие к нему самому никакого отношения.
— Нет, — сказал Канок. Помолчал, словно колеблясь, и прибавил: — Ей просто нужно отдохнуть.
Но его усталый, какой-то безжизненный голос встревожил меня. Мне хотелось хоть немного развеселить его. Меня уже тошнило от мрака, царившего в Драмманте. Но теперь-то мы были избавлены от этого страха и мрака, мы снова были свободны, окружены друзьями, и в Роддманте нам ничто не грозило.
— Если с мамой пока все в порядке, ты не хотел бы взглянуть на Коули? — предложил я отцу.
— Позже, — сказал он, ласково коснулся моего плеча и вышел с озабоченным лицом. А Грай повела меня на кухню, потому что в этой суете никто даже и не вспомнил об ужине, а я просто умирал от голода. Нас до отвала накормили пирогом с крольчатиной. И Грай сказала, что на меня просто невозможно смотреть, потому что я всю физиономию перепачкал начинкой, а я ответил: пусть сама попробует есть то, чего не видит, а она сказала, что уже пробовала; оказывается, она на целый день завязала себе глаза, чтобы понять, каково приходится мне. Когда мы поели, Грай предложила немного пройтись. Было уже темно, но в небе светил месяц, и дорогу Грай видела вполне прилично, но все равно сказала, что я и Коули передвигаемся в темноте даже лучше, чем она, и, словно в доказательство, тут же споткнулась о корень и упала.
Когда еще в детстве мы с Грай вместе играли в Роддманте, то часто засыпали там, где нас сморит сон, как всякие детеныши; но с тех пор между нами встали все эти разговоры о помолвках и прочих подобных вещах. Так что мы вернулись домой, как взрослые, сказали друг другу «спокойной ночи», и Тернок проводил меня в комнату родителей. В Роддманте не имелось такого количества свободных комнат, как в Драмманте. Да и кроватей было маловато. Тернок шепнул мне, что Меле уснула, а отец устроился возле нее в кресле и, кажется, тоже задремал. Он дал мне одеяло, и я без лишних слов завернулся в него, улегся на полу и тут же уснул.
Утром моя мать первым делом заявила, что чувствует себя вполне хорошо, просто вчера она, видно, немножко простудилась, вот и все. А теперь она готова ехать домой.
— Только не верхом, — сказал Канок, и Парн поддержала его. Тернок предложил нам тележку, на которой обычно возят сено, и лошадь — дочь той самой вислогубой кобылы, на которой он вместе с Каноком ездил совершать налет на Дьюнет. Так что Меле и мы с Коули погрузились в тележку и ехали в Каспромант со всеми удобствами — на коврике, постеленном поверх лежавшей на дне соломы. Канок ехал на Бранти, а Грейлаг и Чалая с удовольствием бежали сзади налегке. Все были счастливы наконец вернуться домой.
Коули, похоже, вполне смирилась с тем, что ей придется сменить не только дом, но и хозяина, и вела себя удивительно спокойно, хотя сперва ей пришлось немало потрудиться, изучая и обнюхивая новый дом и метя каждый куст и камень возле него. Она вежливо поздоровалась с нашими немногочисленными старыми гончими, но старалась держаться от них в стороне. Пастушья природа не позволяла ей быть такой фамильярной и демократичной, как наши домашние собаки, и требовала от нее сдержанности и настороженности. Коули была чем-то похожа на моего отца: она очень ответственно относилась к своим обязанностям, главной из которых была забота обо мне.
Грай вскоре приехала к нам, чтобы продолжить занятия с Коули, а потом стала приезжать каждые несколько дней. Она ездила верхом на молодом жеребце по кличке Блейз, принадлежавшем семье Барре из Кордеманта. Они попросили Парн «обломать» его, и Парн заодно учила искусству «обламывать» лошадей и свою дочь. Обладающие даром призывать используют именно это слово, «обламывать», хотя оно, по-моему, совсем не соответствует тому, как они приучают молодого коня слушаться наездника. Они ничуть не ломают его, скорее наоборот — чем-то дополняют его характер, делают его более целостным. Этот процесс длительный. Грай объяснила мне его так: мы просим лошадь делать такие вещи, которые она по своей природе делать не умеет и не хочет; но лошадь не настолько подчиняется нашей воле, как, скажем, собака, поскольку лошадь привыкла бегать на свободе, не является, в отличие от собаки, стайным животным и любой строгой иерархии предпочитает некий договор. Собака безоговорочно принимает условия, предложенные человеком, а лошадь на них соглашается. Все это мы с Грай обсуждали и во время уроков, когда мы с Коули учились лучше понимать друг друга, и во время прогулок верхом, когда Грай и Блейз учились выполнять свои обязанности по отношению друг к другу, а я ехал рядом с ними на Чалой, которая давным-давно уже выучила все, что ей нужно было знать, и понимала меня без слов. Коули, спущенная с поводка, бегала рядом, празднуя свободу и имея полную возможность вынюхивать, выслеживать и вспугивать кроликов и совершенно не беспокоиться обо мне. Но стоило мне произнести ее имя — и она была тут как тут.
Коули и Грай привнесли в мою жизнь столько нового, что я помню это первое лето, проведенное мной в темноте, как очень яркое и светлое. После стольких неприятностей и потрясений, после ужаса и мучительных сомнений относительно своего дара я наконец обрел покой. Теперь, когда глаза мои были запечатаны, у меня не было возможности использовать этот дар, угрожая другим, и не нужно было ни мучиться самому, ни ощущать укор и опасения других людей. Когда кошмар пребывания в Драмманте остался позади, я прямо-таки наслаждался обществом родных людей. И тот священный ужас, который я вызывал у некоторых деревенских простаков, служил мне некоторой компенсацией за мою беспомощность — хотя я в этом старался себе и не признаваться. Когда приходится ощупью, спотыкаясь, пробираться по дому или двору, порой даже приятно услышать чей-то шепот: «А вдруг он возьмет да и снимет свою повязку? Я ж от страха умру!»
Моя мать довольно долго плохо себя чувствовала после нашего возвращения из Драмманта и в основном лежала в постели. Потом потихоньку начала вставать и заниматься хозяйством; но однажды вечером за ужином я услышал, как она вдруг вскочила из-за стола, что-то испуганно сказала отцу, возникла какая-то суета, и они с отцом тут же ушли, а я остался сидеть за столом, расстроенный и смущенный. Мне пришлось спросить служанок, что случилось. Сперва никто не хотел мне говорить, но потом одна девушка сказала: «Ох, у нее кровотечение началось, юбка прямо насквозь промокла!» Я пришел в ужас и долго сидел в зале у камина, окутанный каким-то тупым одиночеством. Там меня и нашел отец. И сказал, что у матери случился выкидыш и теперь ей уже немного лучше. Он говорил спокойно, и я тоже отчасти успокоился. Теперь я цеплялся за любую надежду.
На следующий день верхом на Блейзе примчалась Грай. Мы пошли наверх проведать Меле. Она лежала в своей маленькой гостиной, где имелась довольно удобная кушетка и всегда было значительно теплее, чем в спальне. В камине горел огонь, хотя на дворе стояло лето, и Меле куталась в самую теплую свою шаль — я почувствовал это, когда она меня обняла. Голос ее звучал немножко хрипло и очень тихо, но в нем, как и всегда, чудилась легкая улыбка, когда она спросила:
— А где же Коули? Мне бы хотелось, чтоб и она меня навестила.
Коули, разумеется, была тут же, в комнате, поскольку мы с ней теперь были неразлучны. Ее пригласили прыгнуть на кровать, где она и улеглась, обратившись в слух и явно уверенная, что моей матери абсолютно необходима сторожевая собака. Мать спросила, как наши успехи, а также поинтересовалась успехами Грай в «обламывании» Блейза, и мы, как водится, проболтали довольно долго. Но потом Грай решительно встала, взяла меня за руку, хотя я еще и не собирался уходить, и сказала, что нам пора. Она поцеловала Меле на прощание и тихо шепнула ей:
— Мне очень жаль, что ты потеряла ребеночка.
— Ничего, у меня есть вы оба, — шепнула ей в ответ моя мать.
Отец с рассвета до позднего вечера был занят всякими делами в поместье. Я ведь раньше оказывал ему посильную помощь, а теперь стал совершенно бесполезным, и мое место рядом с ним занял Аллок. Аллок был человеком на редкость чистосердечным, не обремененным ни амбициями, ни претензиями; себя он считал глуповатым, и кое-кто охотно с ним соглашался; но он умел порой, соображая, в общем, действительно довольно медленно, мгновенно уловить суть дела, да и суждения его в целом были очень даже разумными. Они с Каноком отлично сработались, и Аллок стал для него тем, кем я стать не сумел. Я и завидовал, и ревновал, но старался не показывать, насколько уязвлено мое чувство собственного достоинства: это могло обидеть Аллока и рассердить отца, а мне все равно легче от этого не стало бы.
Когда мои бесполезность и беспомощность становились особенно угнетающими, а внутренняя решимость ослабевала, мне ужасно хотелось сорвать с глаз повязку и вернуть себе все утраченное богатство жизни. Но передо мной тут же вставал образ отца, и я снова вспоминал, что представляю собой смертельную опасность для Меле, для Канока и для всех остальных. С завязанными глазами я служил Каноку щитом и опорой; он пользовался моей вынужденной слепотой как оружием.
Он редко говорил со мной о той поездке в Драммант, хоть и признался, что Огге Драм испугал тогда не только меня, но и его. Он, впрочем, заверил меня, что жестокие шутки Огге и его издевательства — это сущий блеф, желание показать свою силу и власть перед подчиненными.
— Больше всего ему хотелось тогда прогнать нас, — говорил отец. — Хотя он прямо-таки мечтал испытать тебя, и все же каждый раз, уже собравшись заставить тебя силой, отступал, не решался. И меня он тоже задевать не решался — потому что боялся тебя.
— Но та девочка… Вардан… Ведь он и ее использовал, чтобы унизить нас!
— Он решил сделать это давно, еще до того, как все мы узнали о твоем «диком даре». И угодил в собственную ловушку. Так что ему пришлось пройти через откровенное унижение, но показать, что он нас не боится. Только он боится нас, Оррек, очень боится!
Две наши телки давно уже снова вернулись в Каспромант и паслись вместе со всем стадом на верхних пастбищах, довольно далеко от границы с Драммантом. Огге Драм ни слова о них не сказал и никаких шагов против нас или Роддманта не предпринял.
— Я предложил ему выход, и он им воспользовался, — сказал Канок с усмешкой. Я чувствовал, что теперь он почти не улыбался, хотя со мной и с Меле был неизменно нежен и внимателен. Но с нами он проводил очень мало времени — вечно был занят, возвращался домой страшно усталым, едва держась на ногах, и старался поскорее лечь спать.
Меле медленно набиралась сил. В голосе за время болезни появилась какая-то несвойственная ей раньше покорность, которую я ненавидел. Мне хотелось по-прежнему слышать ее звонкий смех, ее быстрые легкие шаги. Она теперь уже ходила по дому, но очень быстро уставала, а если случался дождливый денек или дул северный ветер со стороны земель Каррантагов, отчего любой летний вечер становился по-осеннему холодным, она приказывала растопить в своей гостиной камин и сидела у огня, закутавшись в толстую шаль из некрашеной коричневой шерсти, которую связала для нее еще моя бабка, мать Канока. Однажды, сидя с нею рядом, я сказал, не подумавши:
— Ты все время мерзнешь с тех пор, как мы вернулись из Драмманта.
— Да, — откликнулась она. — Мерзну. С той самой ночи, когда я дежурила у постели бедной больной девочки. Тогда вообще произошло что-то странное… По-моему, я никогда еще не рассказывала тебе об этом? Я помню, что Денно пошла вниз, чтобы разнять подравшихся сыновей. А несчастная Даредан была так измучена, что я предложила ей немного поспать, пока я посижу с Вардан. Малышка тоже уснула, но могла проснуться в любую минуту, если возобновятся те судороги. Она и так все время вздрагивала, так что я притушила все свечи, кроме одной, которую отставила подальше, чтобы ей не мешал свет, и, по-моему, тоже задремала с нею рядышком. А через некоторое время меня разбудил какой-то странный шепот, а может, пение. Что-то вроде молитвы. Мне спросонок даже показалось, что я снова в родном доме, в Деррисе, и отец молится внизу, готовясь идти в храм. И это монотонное бормотание продолжалось очень долго, и только когда оно совсем затихло, я поняла, что нахожусь совсем не дома, а в Драмманте, и огонь в камине почти догорел, и мне ужасно холодно, так холодно, что я даже пошевелиться не могу. Холод пробирал меня до костей. И девочка Вардан лежала совершенно неподвижно, как мертвая. Это совсем напугало меня, и я вскочила, чтобы посмотреть, жива ли она, но она была жива и дышала спокойно. И тут как раз вошла Денно, подала мне свечу и сказала, что теперь я могу пойти отдохнуть. И я пошла, но Каноку нужно было еще разыскать Парн, и, когда он вышел из комнаты, мою свечу загасил сквозняк, а огонь в камине уже не горел. И я на что-то налетела в темноте, ты проснулся, и мы долго сидели с тобой, и я никак не могла согреться. Ты, наверно, и сам помнишь. И все время, пока мы ехали домой, мои руки и ноги были точно ледышки. Ах, как бы мне хотелось, чтобы этой поездки в Драммант никогда не было!
— Я их всех ненавижу! — вырвалось у меня.
— Тамошние женщины были ко мне добры, — возразила она.
— Отец говорит, что Огге очень нас боялся.
— Что ж, я тоже его очень боялась, — призналась Меле, слегка вздрогнув при воспоминании о Драмманте.
Когда я рассказал об этом Грай — ибо я рассказывал Грай все, если не считать того, что скрывал даже от самого себя, — я спросил ее о том, о чем не хотел спрашивать у матери: мог ли Огге Драм пробраться тайком в ту комнату, где была она с больной девочкой? Отец говорил мне, что Драму для применения своего дара нужны еще какие-то особые слова, какие-то магические заклинания, руки и глаз ему мало. Возможно, то, что слышала Меле…
Но Грай мои предположения совсем не понравились, и она стала горячо возражать:
— Но с какой стати Драм стал бы применять свой дар против Меле? Он ведь боялся не ее, а тебя и Канока. А Меле не могла причинить ему ни малейшего вреда.
А я вдруг вспомнил, как Канок говорил матери: «Надень свое красное платье, пусть он увидит тот подарок, что сделал мне». Вот где крылась беда! Но я вряд ли сумел бы выразить свои чувства словами. Так что я сказал Грай лишь одно:
— Он всех нас ненавидит!
— А Меле рассказывала твоему отцу о той ночи? — спросила Грай.
— Не знаю. Может, она считает это несущественным и не хочет зря его беспокоить… Понимаешь, она ведь… старается не думать о наших дарах, она говорит, что не понимает их. Я, например, не знаю даже, что она теперь думает обо мне и о моем «диком даре». Она, по-моему, понимает, зачем мне завязали глаза, но вряд ли верит… — Я умолк, чувствуя, что ступил на опасную почву. Наклонившись, я машинально погладил Коули по теплой спине — собака, как и всегда, лежала на полу у моих ног. Но даже Коули не могла служить мне поводырем в той тьме, которая теперь окутывала меня со всех сторон.
— Я думаю, тебе стоит все же рассказать об этом Каноку, — сказала Грай.
— Лучше бы это сделала сама Меле.
— Но мне же ты рассказал!
— Но ты же не Канок! — Я сказал это как нечто само собой разумеющееся, хотя в моих словах был и иной, скрытый смысл. И Грай это отлично понимала.
— Я спрошу Парн, нет ли таких людей, которые могут как-то бороться… с последствиями дара Драмов, — сказала она.
— Нет, не надо! — Одно дело рассказать Грай, но совсем другое — если эта история пойдет дальше и превратится в сплетню; тогда получится, что я предал собственную мать, которая доверилась мне.
— Но я не скажу ей, зачем мне это надо.
— Парн сама догадается.
— Между прочим, она, похоже, уже догадывается. Когда вы в тот вечер приехали к нам и Меле упала в обморок, я слышала, как мать говорила отцу: «Возможно, он все-таки ее коснулся». Я тогда не поняла, что она имела в виду. И подумала, что, может быть, Огге пытался изнасиловать Меле и как-то ей навредил.
Мы сидели молча, погрузившись в мрачные раздумья. Мысль о том, что Огге Драм наслал на мою мать проклятие, была ужасной, но настолько неясной и неправдоподобной, что с ней трудно было смириться. Мой разум невольно пытался ускользнуть от мысли об этом, переключаясь на другие вещи.
— Кстати, Парн больше не заговаривала со мной об Аннрене Барре, после того как побывала в Драмманте вместе с вами, — сказала вдруг Грай.
— Они там, в Кордеманте, все еще ссорятся. Раддо говорил, что там между родными братьями идет настоящая война. Они поселились в противоположных концах своих владений и боятся приближаться друг к другу на такое расстояние, когда человека можно увидеть невооруженным глазом, — боятся ослепнуть или оглохнуть.
— А мой отец считает, что ни один из братьев не обладает этим даром в полной мере, — сказала Грай, — зато им обладает их сестрица Нанно. И она пообещала, если они будут продолжать ссориться, сделать их обоих немыми, чтоб наконец перестали проклинать друг друга. — Грай засмеялась, и я тоже. Отчего-то столь жестокое решение семейной распри казалось нам смешным. Но мне явно полегчало, ведь, судя по всему, вопрос о помолвке Грай и этого парня из Кордеманта был надолго отложен.
— Мать говорит, что «дикий дар» — это чаще всего просто очень сильный дар. И человеку нужны годы, чтобы научиться как следует владеть им. — Голос Грай звучал чуть хрипловато, как всегда, когда она говорила о чем-то важном.
Я не ответил. Ответа и не требовалось. Если Парн хотела сказать, что верит в силу моего дара и в то, что он со временем будет полностью мне подвластен, значит она считает, что со временем я буду вполне под стать Грай. Этого для меня было более чем достаточно.
— Давай съездим на ту тропу над Рябиновым ручьем, — предложил я вдруг и вскочил. Сидеть и разговаривать было, конечно, очень приятно, но выбраться наружу и куда-то скакать было бы еще лучше. В данный момент я был полон надежд и сил — ведь мудрая Парн Барре сказала, что когда-нибудь я смогу снова видеть, как все, и, возможно, смогу жениться на Грай и даже убить Огге Драма одним лишь своим взглядом, если он, конечно, осмелится приблизиться к границам наших владений…
Мы ехали вдоль Рябинового ручья. Я попросил Грай сказать мне, когда мы окажемся возле того изуродованного участка холма. Коули бежала впереди. И когда Грай окликнула ее, она тут же прибежала, жалобно поскуливая, что было очень странно, потому что Коули обычно вообще молчала.
— Коули здесь что-то не нравится, — заметила Грай.
Я попросил ее описать, как выглядит склон холма. Трава на нем понемногу отрастала, но пейзаж был, видимо, не слишком приятный.
— Трава вся какая-то спутанная, — сказала Грай. — И повсюду какие-то ямки, и пыли очень много. Какое-то все бесформенное…
— Ну да, хаос.
— Что такое «хаос»?
— Это из одной истории, которую мне мать рассказывала, — о начале нашего мира. Сперва повсюду летали или плавали, как тебе больше нравится, всякие непонятные кусочки, и ни один из них не имел ни определенной формы, ни четких очертаний. Это были просто кусочки, крошки, пузырьки — даже не камни или земля, а просто всякая ерундовая мелочь. Совершенно бесцветная. И не было еще ни земли, ни неба, ни верха, ни низа, ни юга, ни севера. И ни в чем не было смысла. И не было направления. Ничто не было ни с чем соединено, ничто не имело отношения ни к чему другому. И было не темно и не светло. Так, нечто среднее. Хаос.
— А что случилось потом?
— Ничего никогда бы и не случилось, если бы эти кусочки неизвестно чего не начали понемногу соединяться. То тут, то там эта бесформенная чепуха стала обретать форму. Сперва появились комки земли. Потом камни. И камни стукались друг о друга, высекая искры, или растворялись один в другом и становились текучими, как вода. И эти огонь и вода встречались, и возникали потоки — реки, туман, воздух. И этим воздухом смог дышать сам Высший Дух. И этот Дух, вдохнув воздуха, собрал себя воедино и заговорил. И назвал все то, что должно было появиться вокруг. Он дал имена земле, огню, воде и воздуху, и его пение сделало сущими все живые существа. Все обрело свою форму — горы и реки, деревья и животные. И люди. Но сам Высший Дух никакой формы не принял и не дал себе никакого имени, потому что хотел остаться вездесущим, присутствовать одновременно всюду и во всем, во всех вещах и связях между вещами. И когда под конец вновь будут разрушены все связи и вернется хаос, Высший Дух по-прежнему будет существовать, и в итоге победит хаос, как и в начале времен.
Помолчав, Грай спросила:
— Но ведь тогда Дух не сможет дышать, верно?
— Не сможет, пока все не начнется сначала.
Расширяя границы рассказанной мне матерью истории, придумывая все новые детали в поисках ответа на вопросы Грай, я отошел весьма далеко от этого сюжета. Я часто так делал. Мне эта история ничуть не казалась чем-то священным; точнее, все эти истории были для меня священны, ибо все эти чудесные образы — во всяком случае, пока я слушал рассказ о них или рассказывал сам — создавали некий мир, в котором я всегда был зрячим, способным действовать по своему усмотрению; это был мир, который я знал и понимал, который имел свои собственные законы, но все же в определенной степени подчинялся мне — в отличие от настоящего мира, над которым я никакой власти не имел. В скуке и бездействии, порожденных моей вынужденной слепотой, я все чаще существовал внутри этих вымышленных историй, вспоминая их сам и прося мать снова и снова рассказывать их мне, а потом развивая тот или иной сюжет самостоятельно и с
помощью слов заставляя его существовать, как это делал Великий Дух во время своей борьбы с хаосом.
— Твой дар очень силен! — услышал я хрипловатый голос Грай.
И вспомнил, где мы находимся. И мне стало стыдно за то, что я привел ее сюда, — я словно хвастался перед ней своей силой, и все же что-то ведь заставило меня привести ее сюда… Но что?
— А то деревце? — спросил я вдруг. — Там была маленькая рябинка… — И тут меня прорвало: — Понимаешь, я ведь тогда решил, что это мой отец! Я думал, что я… Я ведь даже не знал, на что именно смотрю…
Больше я ничего не мог сказать. Я тронул поводья Чалой, и мы покинули изуродованный берег ручья. Какое-то время мы ехали молча, а потом Грай сказала:
— Там все снова начинает расти, Оррек. И трава, и цветы. Мне кажется, Высший Дух не покинул этого места.
Глава 13
Осень, как и лето, прошла без особых событий и происшествий. До нас доносились слухи, что за эти месяцы ссора, начатая брантором Огге и его старшим сыном Харбой во время кабаньей охоты, переросла в настоящую вражду. Харба забрал свою жену и людей и перебрался в Риммант, а Себб, младший сын брантора, по-прежнему живет в Драмманте, и все относятся к нему как к наследнику и будущему брантору. Но дочь Себба и Даредан, Вардан, все лето болела и, видимо, постепенно угасает; у нее то и дело случаются припадки и судороги, а тот слабенький разум, что достался ей от рождения, почти совсем ею утрачен. Все это нам рассказала жена одного странствующего кузнеца. Такие люди — великие сплетники, однако приносят своеобразную пользу, сообщая о том, что творится в разных концах Верхних Земель. И мы жадно слушали ее, хотя мне было противно, что эта женщина смакует подробности недуга, поразившего несчастную Вардан. В какой-то степени я и себя чувствовал ответственным за страдания бедняжки.
И при мысли об этом передо мной тут же возникало лицо Огге Драма, обрюзгшее, с набрякшими веками и взглядом гадюки.
Осенью Грай не могла слишком часто навещать меня — вовсю шла уборка урожая, и в хозяйстве каждые руки были на счету. Да и нас с Коули учить больше не требовалось: мы теперь были, как говорила Меле, «шестиногим мальчиком с необычайно острым чутьем».
Но когда наступил октябрь, Грай стала приезжать к нам на целый день, и, после того как мы с Коули показывали ей свои последние достижения, мы подолгу сидели, беседовали обо всем на свете. Мы обсуждали распри в Кордеманте и Драмманте и вполне разумно заключали, что пока семьи тамошних правителей заняты междоусобицами, они вряд ли станут вторгаться на чужую территорию или засылать в чужие владения своих воров. Как-то раз я спросил Грай о Вардан, и она сказала, что, по слухам, девочка при смерти.
— А что, если это Огге? — принялся я размышлять вслух. — В ту самую ночь, когда моя мать сидела возле ее постели… Ведь Огге мог использовать свою силу и против девочки, правда?
— Ты хочешь сказать, что его интересовала вовсе не Меле?
— Может, и нет. — Эта спасительная мысль возникла у меня некоторое время назад и казалась мне вполне приемлемой, однако, высказанная вслух, она вызывала гораздо больше сомнений.
— С какой стати ему применять свой дар изнурения к собственной внучке?
— Потому что он ее стыдился! Он хотел, чтобы она умерла! Она ведь была… — В ушах моих вновь прозвучал тот невнятный слабый голосок: «Живаешь поживаешь по». — Она была идиоткой! — резко сказал я. И вспомнил о собаке по кличке Хамнеда.
Грай промолчала, хотя мне казалось, что она хочет что-то сказать. Видно, передумала.
— Мама в последнее время чувствует себя гораздо лучше, — сказал я. — Она даже прогулялась до Маленькой лощины вместе с Коули и со мной.
— Это хорошо. — Грай не стала говорить, а мне не хотелось и думать об этом, что всего полгода назад такая прогулка была Меле нипочем; тогда она запросто ходила со мной и на верхние холмы, и к роднику и возвращалась домой, весело напевая. И все-таки от мыслей об этом некуда было деться, и я сказал:
— Скажи, как она выглядит.
Это был один из тех моих приказов или просьб, которые Грай исполняла всегда и безоговорочно; это означало, что я прошу ее быть моими глазами, и она изо всех сил старалась видеть все для меня как можно лучше.
— Она очень похудела, — честно призналась Грай.
Но об этом я уже догадался по тому, какими тонкими стали запястья Меле.
— И выглядит немного печальной, — продолжала Грай. — Но все такая же красивая.
— А больной она не выглядит?
— Нет. Только худенькая очень. И кажется немного усталой. Потерять ребенка…
Я кивнул. Помолчав, я сказал:
— Знаешь, она рассказывала мне одну длинную историю… Это часть истории о герое древности Хамнеде. Точнее, о его друге Омнане, который сошел с ума и пытался убить Хамнеду. Если хочешь, я могу пересказать ее тебе.
— Конечно хочу! — радостно воскликнула Грай, и я сразу понял, что она усаживается поудобнее, готовясь слушать. Я погладил Коули по спине, и рука моя так и осталась лежать там — мне приятно было это прикосновение к мягкой шерсти; оно словно служило мне якорем в невидимом реальном мире, не дающем насовсем улететь в яркий и живой мир сказок и легенд.
Ничто из тех слов, которые мы произносили, говоря о моей матери, не казалось уж очень ужасным или безнадежным, и все равно всем было ясно, что она больна и лучше ей не становится. Ей с каждым днем становилось все хуже, и все понимали это.
Понимала это и моя мать. Она казалась немного растерянной, сбитой с толку, но держалась хорошо. Она очень старалась выздороветь. Она не могла и не хотела верить в то, что не в силах делать самую обычную свою работу по дому или хотя бы половину этой работы. «Ну до чего глупо!» — огорченно восклицала она в таких случаях, и это была самая большая жалоба, которая когда-либо срывалась с ее губ.
Отец тоже все понимал. По мере того как дни становились короче, а работы в полях и на пастбищах было все меньше, он старался больше времени проводить дома и поневоле видел, как Меле с каждым днем все больше слабеет, как быстро она устает, как мало ест, как сильно она похудела. Порой единственное, на что у нее хватало сил, — это, дрожа от озноба, сидеть у камина в своей коричневой шали и дремать.
— Я поправлюсь, когда снова станет тепло, — уверяла она всех, и Канок подбрасывал в камин дров и все искал, как бы еще услужить ей. Он готов был сделать для нее все что угодно.
— Что мне принести тебе, Меле? — Я не мог видеть лица Канока, но слышал его голос, и в голосе этом звучала такая нежность, что я внутренне скулил от боли.
Повязка, делавшая меня слепым, и болезнь моей матери давали нам обоим только одно преимущество: теперь у нас было более чем достаточно времени, чтобы с чистой совестью предаваться любимому занятию — рассказыванию историй. Эти истории спасали нас от того темного холодного и ужасно скучного мира, где мы с ней казались слабыми и бесполезными. У Меле была чудесная память, и стоило ей как следует в ней порыться — и она тут же находила какую-нибудь увлекательную историю, которую либо когда-то слышала, либо прочитала в книге. Если она не помнила ее всю целиком, то, как и я, запросто сама дополняла ее или домысливала, даже если это была история из какой-нибудь священной книги, ибо кого тут могли возмутить подобные вольности, кто мог назвать это ересью? Я сказал ей, что она как колодец: стоит опустить ведро — и поднимаешь его наверх, полное всяких историй. Ее насмешило мое детское сравнение, и она вдруг сказала мечтательно:
— А знаешь, я бы хотела записать кое-что из того, что ты зачерпываешь своим «ведром».
Сам я, конечно, не мог приготовить для нее должным образом ни ткань, ни чернила, но я рассказал Рэб и Соссо, двум нашим молодым служанкам, как это сделать, и они с радостью согласились помочь мне: им очень хотелось доставить Меле удовольствие.
Обе эти женщины по отцу были из рода Каспро, но их отцы — ни тот ни другой — фамильным даром не обладали. В доме среди слуг они занимали, можно сказать, привилегированное положение, полученное ими по наследству от матерей. Их матери вместе с Меле с детства учили девушек вести дом. Когда Меле заболела, Рэб и Соссо полностью взяли на себя домашнее хозяйство и делали все в полном соответствии с ее правилами, постоянно придумывая для своей хозяйки всякие приятные мелочи и стараясь по возможности облегчить ее нынешнее печальное существование. Обе они были очень хорошие — добрые, душевные, энергичные. Рэб была помолвлена с Аллоком и собиралась за него замуж, хотя ни он, ни она с этим, похоже, не спешили. Соссо же заявила, что мужчин под ногами и так слишком много болтается, чтобы еще замуж спешить.
Они научились растягивать полотно и замешивать чернила, а Канок сделал нечто вроде переносного столика, и теперь Меле могла писать даже в кровати. Она записывала все, что могла вспомнить, в том числе и из тех священных текстов и песнопений, которые учила наизусть в детстве. Иногда она писала по два-три часа подряд. Она никогда не говорила, почему ей вдруг захотелось все это записать. Она ни разу не сказала, что пишет для меня, что когда-нибудь я смогу все это прочесть. Она ни словом не намекнула, что пишет потому, что скоро ее, возможно, уже не будет с нами и тогда она не сможет больше ничего нам рассказать. А когда Канок, беспокоясь о ней, слегка пожурил ее за то, что она тратит столько сил на свою «писанину», она сказала ему:
— Знаешь, эта «писанина» дает мне ощущение, что все прочитанное и услышанное мною в детстве и юности не пропадет даром, что в этом был все же какой-то смысл. Когда я записываю то, что мне удается вспомнить, я всегда размышляю об этом.
Итак, по утрам Меле писала, а днем отдыхала. К вечеру к ней приходили мы с Коули, а часто заглядывал и Канок. Она рассказывала нам очередную историю о героях древности, которую не успела дорассказать накануне, или что-нибудь о тех временах, «когда королем был Кумбело», и мы, притихнув у камина в ее маленькой гостиной, внимательно слушали, а за стенами нашего Каменного Дома стояла зима.
Иногда она говорила:
— А дальше, Оррек, рассказывай ты. — Она утверждала, что просто хочет убедиться, хорошо ли я запомнил эту историю и умею ли ее рассказывать.
Все чаще и чаще она начинала рассказ, а я его заканчивал. Однажды она сказала:
— Мне что-то лень сегодня. Расскажи сам какую-нибудь историю.
— Какую?
— А ты придумай!
Откуда она узнала, что я придумываю истории? Что я без конца складываю их в уме в долгие часы своего вынужденного безделья и скуки?
— Я как-то раз думал о том, что бы сделал Хамнеда, если бы оказался в Алгаланде. Этого ведь нет в твоей истории, правда?
— Вот и расскажи мне.
— Значит, так: после того как Омнан оставил его в пустыне, помнишь, и он сам должен был искать дорогу… Мне кажется, он ужасно страдал от жажды… Там ведь одна пыль, в этой пустыне; куда ни посмотришь — все сплошь покрыто красной пылью. И ничего там не растет, и нет ни ручейка. И Хамнеда знал: если он не найдет воду, то непременно умрет. И он решил идти на север, ориентируясь только по солнцу и не имея для того иной причины, кроме того что на севере была его родина, Бенгдраман. Он все шел и шел, а солнце нещадно палило его голову и спину, и ветер задувал пыль ему в глаза и ноздри, так что трудно было дышать. Ветер становился все сильнее, и вскоре прямо перед Хамнедой возник смерч, взметая высоко над землей клубы красной пыли. Хамнеда не пытался убежать; он остановился и замер, бессильно раскинув руки, и смерч налетел на него, подхватил, закрутил и вдруг поднял высоко над землей. Хамнеда кашлял, задыхаясь в клубах пыли, а смерч все нес его над пустыней, время от времени яростно вращая и пытаясь задушить. Наконец солнце стало садиться, и ветер внезапно улегся. Смерч, опустившись на землю, бросил Хамнеду к воротам какого-то города и исчез. Голова у Хамнеды кружилась так, что он даже стоять не мог. И с ног до головы он был покрыт красной пылью. Пытаясь встать хотя бы на четвереньки и набрать в грудь воздуха, он лежал у ворот, а стражники время от времени посматривали в его сторону, пытаясь понять в сумерках, что же это такое. И один из них сказал: «Вон там кто-то оставил большой глиняный кувшин». Но второй возразил: «Это не кувшин, а какая-то статуя. Похоже, собаки. Должно быть, кто-то прислал ее в подарок нашему царю». И стражники решили отнести «статую» в город…
— Продолжай, — сказала Меле. И я стал рассказывать дальше.
Увы, теперь мое повествование подошло к тому, о чем мне совсем не хочется вспоминать. Передо мной тоже открылась пустыня. И не было такого смерча, который мог бы подхватить меня и перенести через нее.
И с каждым днем, с каждым шагом я все дальше углублялся в эту пустыню.
И вот пришел тот день, когда моя мать, отложив перо и чернила, сказала, что слишком устала и теперь, пожалуй, больше ничего не будет записывать. А потом однажды она попросила меня рассказать ей какую-нибудь историю, но, похоже, не очень-то слушала меня: ее бил озноб, она все время задремывала, но стоило моему голосу умолкнуть, как она говорила: «Не останавливайся», — и я послушно продолжал рассказывать, хоть и боялся слишком утомить ее.
Когда стоишь еще на самом краю пустыни, то кажется, будто она необычайно велика. Возможно, думаешь ты, потребуется целый месяц, чтобы ее пересечь. Но проходит и два месяца, и три, и четыре, а ты все идешь и идешь, с каждым шагом уходя все дальше в это царство красной пыли.
Рэб и Соссо, добрые и сильные девушки, отлично ухаживали за Меле, но, когда она стала совсем слаба, Канок сказал, что теперь сам будет ухаживать за нею. И делал это с удивительно деликатным терпением. Он заботился о ней, как о ребенке, — поднимал, обмывал, утешал, пытался согреть. Два месяца он почти не выходил из ее комнаты. Коули и я тоже большую часть времени проводили там, хотя бы для того, чтобы составить ему компанию. По ночам он нес свою бессонную вахту в одиночестве.
Порой ему удавалось немного поспать днем, подле нее. Как бы слаба она ни была, но шептала ему: «Иди сюда, ляг со мной, любовь моя. Ты, должно быть, ужасно устал. Ложись рядом, согрей меня. Вот, укройся моей шалью». И он ложился рядом с нею на ее узкое ложе, крепко обнимал ее и задремывал, а я сидел очень тихо, слушая их сонное дыхание.
Наступил май. Как-то утром я сидел у окна, чувствуя на руках теплые лучи солнца; я вдыхал ароматы весны, слушал легкий шелест ветерка в молодой листве. Канок приподнял Меле, чтобы Соссо могла постелить ей чистые простыни. Меле весила так мало, что он порой носил ее на руках, точно ребенка. Вдруг она пронзительно вскрикнула. Я даже не сразу понял, что, случилось. Оказывается, кости у нее стали настолько хрупкими, что, когда отец ее приподнял, ключица и бедренная кость хрустнули, как сухие ветки, и сломались.
Канок бережно опустил ее на кровать. Она была без сознания. Соссо бросилась за помощью. И я единственный раз за все эти долгие месяцы услышал, как Канок плачет. Он упал на колени возле ее постели и рыдал так громко, так ужасно задыхаясь и пряча лицо в ее простынях, что я весь съежился на скамейке у окна, стараясь стать совсем незаметным.
Явившийся лекарь предложил уложить плечо и ногу Меле в лубки, чтобы обеспечить им полную неподвижность, но отец не дал ему даже прикоснуться к ней.
На следующий день я вышел за ворота, чтобы дать Коули немного побегать, и вдруг меня позвала Рэб. Я бросился в дом. Коули, все понимая, тут же повела меня к матери. Мы поднялись в башню. Меле лежала среди подушек, и старая коричневая шаль по-прежнему была у нее на плечах. Я наклонился и поцеловал мать. Ее руки и щека были холодны как лед, но она тоже поцеловала меня и прошептала:
— Оррек, я хочу видеть твои глаза. — И, почувствовав мое сопротивление, прибавила: — Ты уже ничем не можешь мне повредить, дорогой мой.
Но я все-таки колебался.
— Снимай, — велел мне Канок тихим голосом; он всегда в ее комнате говорил очень тихо.
И я стянул с глаз повязку, снял с глаз мягкие прокладки и попытался приподнять веки. Но оказалось, что я не могу этого сделать. Пришлось подтолкнуть веки пальцами, и только тогда глаза мои открылись, но я ничего не увидел — лишь какой-то яркий, болезненно яркий туман, некий хаос света.
Потом глаза мои, видно припомнив былое умение, как-то приноровились к обстоятельствам, и я увидел лицо матери.
— Ну-ну, — одобрительно сказала она, — вот так, хорошо! — Она смотрела мне прямо в глаза, и ее глаза показались мне невероятно огромными на ставшем крошечным, до предела исхудавшем личике в ореоле черных спутанных волос, разметавшихся по подушке. — Да, все правильно, — сказала она удовлетворенно и уверенно. И попросила меня: — Ты сохрани это как память обо мне, ладно? — И раскрыла ладонь, на которой лежала ее подвеска с опалом на серебряной цепочке. Руку она поднять не могла. Я взял подвеску и надел через голову на шею. — Энну, услышь меня и приди! — прошептала она. И закрыла глаза.
Я посмотрел на отца. Лицо его точно окаменело, но было исполнено твердой решимости. Он слегка кивнул мне.
Я еще раз поцеловал мать в щеку, снова положил на глаза прокладки и затянул на затылке концы черной повязки.
Коули слегка потянула за поводок, и я позволил ей увести меня из комнаты.
В тот же день сразу после заката моя мать умерла.
Печаль, как и слепота, — дело довольно странное; ты должен научиться жить с этим. Мы ищем товарищей по несчастью, оплакивая кого-то, но после первых бурных рыданий, после всех хвалебных слов и воспоминаний о прекрасном прошлом, после того, как выкрикнуты все сожаления и проклятия и зарыта могила, в твоем горе, в твоей великой печали нет и не может быть никаких товарищей по несчастью. Эту ношу приходится нести в одиночку. И как ты будешь ее нести — дело твое. Во всяком случае, так казалось мне. Возможно, говоря так, я проявляю неблагодарность по отношению к Грай, к тем людям, что окружали меня дома и в нашем поместье, к своим друзьям, без которых я не вынес бы, возможно, столь тяжкую ношу, не выдержал бы этого ужасного, долгого, черного года.
Да, я так и называл его про себя: черный год.
Рассказать о нем невозможно — это все равно что попытаться рассказать, как тянется бессонная ночь. Когда ничего не случается, когда мысли приходят и уходят сами собой без конца, точно незваные гости, когда человек засыпает на краткие секунды и снова просыпается и страхи громоздятся в его сознании и улетают прочь, когда в голове крутятся какие-то бессмысленные слова, а порой мимолетный кошмар касается его своим темным крылом, когда время, похоже, застыло, и в комнате по-прежнему темно, и рассвет никак не наступает…
В горе мы с Каноком не были товарищами по несчастью. И не могли быть. Как бы ни была жестока и безвременна моя утрата, я утратил только то, что время так или иначе должно было забрать и возместить мне иной любовью. Для него же такое возмещение было невозможно; для него с уходом Меле исчез весь смысл, вся прелесть жизни.
И он, оставшись одиноким, винил во всем себя, и печаль его была столь тяжела и безутешна, что он ни в чем более не находил ни покоя, ни отрады.
После смерти Меле многие люди в нашем поместье стали опасаться и Канока, и меня. Про меня было известно, что я обладаю «диким даром», а уж что теперь могло прийти на ум Каноку, охваченному горем, трудно было даже предположить. Мы оба с ним были потомками Слепого Каддарда. И у нас, как у любого человека, было самое что ни на есть законное право на гнев. И поэтому все нас боялись. Хотя каждый человек в Каспроманте совершенно твердо знал: Меле Аулитту убил Огге Драм. Она умерла ровно через год и один день после той ночи, когда мы покинули Драммант. И не было никакой необходимости рассказывать людям ту историю, которую Меле тогда рассказала мне, а я рассказал Грай, — о ночи, проведенной у постели больной девочки, о странном шепоте в полутемной комнате, о холоде, от которого не было избавления… Мы с Грай никому об этом не рассказывали; и я никогда не спрашивал, рассказывала ли она ее Каноку. Он, как и все остальные, и без того знал, что, съездив в Драммант, эта прекрасная светлая женщина вернулась оттуда больной, потеряла ребенка, которого носила под сердцем, стала чахнуть и умерла.
Канок был сильным человеком, но последние месяцы перед кончиной Меле стали для него тяжким бременем, истерзав его тело и душу. Первые две недели после ее смерти он почти все время спал — в ее комнате, на той самой кровати, где она и умерла, когда он держал ее в своих объятиях. Он часами не выходил оттуда, и Рэб, Соссо и многие другие боялись за него. И его самого тоже боялись. А меня использовали как посредника. «Ты уж зайди туда тихонько, спроси, не нужно ли чего брантору Каноку», — говорили мне женщины. Аллок же обычно говорил так: «Ты спроси, чего брантор велит коню-то давать — отруби или овес?» Дело в том, что старый Грейлаг отказывался есть, и они беспокоились о его здоровье. Мы с Коули поднимались по винтовой лестнице в башню, и я, собравшись с духом, стучался. Иногда отец отвечал, иногда нет. Когда он открывал дверь, голос его звучал холодно и ровно. «Скажи им, что мне ничего не нужно», — говорил он обычно. Или: «Скажи Аллоку, пусть своей головой думает». И снова закрывал дверь.
Я до ужаса не любил ходить туда, ведь он совсем не желал меня видеть, но никакого физического страха перед ним я не испытывал. Я знал, что он никогда не воспользуется своим даром против меня, как знала это и Меле. Как она знала и то, что и я никогда бы не смог принести ей ни малейшего вреда.
Когда я окончательно осознал это, когда я стал все происшедшее со мной воспринимать именно так, то испытал настоящее потрясение. Это была не просто вера в отца; это было знание, понимание. Я твердо знал, что он никогда не причинит мне вреда. Я твердо знал, что никогда не причинил бы вреда Меле. А это означало, что я давным-давно мог бы снять свою повязку — во всяком случае, когда бывал с нею. Я мог бы видеть ее! Видеть весь тот последний год. Я мог бы заботиться о ней, быть ей полезным, читать ей, а не только рассказывать свои глупые истории. Я бы смотрел в ее дорогое лицо — и не один лишь краткий миг, а весь тот долгий, черный год!
Мысль об этом вызывала у меня не слезы, а приступы бешеного гнева, похожего, должно быть, на те чувства, которые испытывал отец, — сухую ярость бессильных сожалений.
И некого было за это наказывать, кроме меня самого. Или моего отца.
В ту ночь, когда умерла моя мать, я прижался к нему, и он крепко обнимал меня, и моя голова лежала у него на груди. Но с тех пор он едва ли хоть раз прикоснулся ко мне, да и говорил со мной очень мало; он заперся в ее комнате и всех сторонился. Он хочет в одиночку испить все свое горе до дна, думал я с болью в сердце.
Глава 14
Всю весну Тернок и Парн старались приезжать к нам из Роддманта так часто, как только могли. Тернок был человеком очень добрым и мягким, и в семье у них всегда главенствовала Парн; не думаю, что он был так уж счастлив со своей волевой супругой, но никогда на нее не жаловался. Моего отца он обожал и всю жизнь смотрел на него снизу вверх, а мою мать нежно любил и теперь горячо ее оплакивал. В конце июня он заехал к нам, поднялся в башню и долгое время о чем-то говорил с Каноком. И вечером Канок даже спустился вниз, поужинал вместе со всеми и с этого дня перестал запираться, заставляя себя понемногу возвращаться к своим прежним обязанностям, хотя спать всегда уходил в ту же комнату в башне. Со мной он по-прежнему разговаривал с трудом, как бы сквозь зубы, точно выполняя неприятную обязанность. Я отвечал ему тем же.
Я раньше надеялся, что, может быть, Парн знает, как помочь моей матери справиться с недугом, но Парн была охотницей, а не целительницей. В комнате больной она сразу начинала нервничать, проявлять нетерпение и, в общем, была бесполезной. На похоронах матери Парн руководила церемонией оплакивания, тем поистине ужасающим воем, который поднимают женщины Верхних Земель над могилой. Этот плач похож на вопли невыносимо страдающих от боли животных, так что даже Коули подняла голову и завыла вместе с женщинами, содрогаясь всем телом, а я стоял рядом с нею, тоже весь дрожа и тщетно борясь со слезами. Когда все было кончено, я чувствовал себя совершенно измученным, но, как ни странно, испытывал некоторое облегчение. Канок в течение всего оплакивания стоял не шелохнувшись, точно скала под дождем.
Вскоре после похорон Меле Парн отправилась в Каррантаг. Жители Барреманта, прослышав о ее умении приманивать дичь, послали за нею с вежливым приглашением погостить у них. Парн хотела, чтобы Грай непременно поехала с нею вместе и начала понемногу упражняться в применении своего дара. Подобная возможность отправиться к богатым горцам и завоевать там репутацию была редкой удачей. Но Грай отказалась, и Парн страшно на нее рассердилась. Но тут в очередной раз вмешался добросердечный Тернок и сказал жене:
— Ты уезжаешь, куда и когда хочешь, так позволь и своей почти взрослой дочери поступать так же.
Парн понимала справедливость его слов, но мириться с этим не хотела и на следующий же день уехала — без Грай и ни с кем даже не попрощавшись.
Молодого жеребца Блейза Грай уже вернула в Кордемант; он был полностью объезжен. И теперь она приезжала к нам на одной из рабочих лошадей из тех, на каких обычно пахали; если же свободной лошади не находилось, она просто шла пешком, хотя путь до Каспроманта был неблизкий, особенно если учесть, что оба конца нужно было сделать в один день. Для меня это было слишком далеко, чтобы я мог пойти туда пешком с Коули. А Чалая все старела, и я редко ездил на ней. Грейлаг, к счастью, преодолел свой недуг и дурное настроение, но и он тоже был уже старым жеребцом. Рыжему Бранти исполнилось четыре года, и на него среди наших соседей был большой спрос как на производителя, что ему самому, по всей видимости, очень нравилось, хотя и мешало выполнять свои прочие обязанности по хозяйству. В общем, конюшня у нас была весьма небогатой. И однажды вечером, собрав все свое самообладание — мне теперь постоянно приходилось это делать, разговаривая с отцом, — я сказал:
— Нам бы нужно завести еще одного жеребенка.
— Да вот я все думал спросить у Данно Барре: что он хочет за свою серую кобылу, — неожиданно миролюбиво откликнулся Канок.
— Она же старая! А если мы заведем жеребенка, Грай могла бы отлично его «обломать».
Когда не можешь видеть лица своего собеседника, его молчание всегда представляется несколько загадочным. Я ждал, не зная, то ли Канок просто обдумывает мое предложение, то ли уже отверг его.
— Ладно, я, пожалуй, действительно поищу жеребенка, — сказал он, и я обрадованно сообщил:
— Аллок говорил, что в Каллеманте есть очень хорошая молоденькая кобыла. Он о ней от нашего кузнеца слышал.
На этот раз молчание отца было более продолжительным. Ответа мне пришлось ждать целый месяц. Но он все же наконец был получен, когда Аллок, вне себя от восторга, крикнул мне, чтобы я быстрее шел на конюшню смотреть новую кобылу. Рассмотреть я ее, правда, не мог, но подошел, ощупал ее, погладил, почесал ей лоб и даже сел в седло, чтобы сделать пробный круг по двору. Аллок все нахваливал спокойный и разумный нрав кобылы и ее красоту. Ей всего год, сказал он, и она светло-гнедая, со звездочкой на лбу, благодаря которой и получила свою кличку: Звезда.
— Может, Грай стоит приехать к нам и поработать с лошадью? — спросил я, и Аллок сказал:
— Ох, да ведь Канок кобылу на целый год в Роддмант отправляет! Она все равно еще слишком молода, чтоб на ней твоему отцу можно было верхом ездить. Да и мне тоже.
Когда Канок вернулся в тот вечер домой, мне очень хотелось поблагодарить его, подойти, обнять, но я боялся — из-за своей вынужденной слепоты — сделать какое-нибудь неловкое движение; боялся, что он по-прежнему не захочет, чтобы я прикасался к нему.
И я сказал просто:
— Я проехал круг по двору на новой кобыле. Отличная лошадка!
— Вот и хорошо, — спокойно откликнулся Канок, тут же пожелал мне спокойной ночи, и я услышал его тяжелые шаги на лестнице, ведущей в башню.
Так что в этот тоскливый период Грай, к моей великой радости, могла теперь приезжать ко мне верхом на Звезде два-три раза в неделю, а то и чаще.
Когда она приезжала, мы отправлялись кататься вместе и она непременно рассказывала мне, чем они со Звездой занимаются. Кобыла была ласковой, как ребенок, и очень послушной, так что для ее «обламывания» особенных усилий не требовалось; Грай учила ее приемам выездки и всяким другим штукам, которые могли, как она считала, продемонстрировать и искусство тренера, и возможности самой лошади. Мы редко уезжали далеко от дома, потому что у Чалой сильно болели суставы, и вскоре возвращались назад, а потом, если было тепло, сидели у нас на огороде, а если погода была холодной и дождливой, устраивались в своем любимом уголке у камина в гостиной.
В тот первый год после смерти матери я, несмотря на ту радость, которую доставляло мне присутствие Грай, иногда не мог заставить себя буквально ни слова произнести. Мне просто нечего было сказать. Меня окружала какая-то пустота, мертвое пространство, которое с помощью слов было не преодолеть.
И тогда Грай принималась сама рассказывать мне обо всем, что узнала за последнее время, и, выложив новости, просто сидела рядом в молчании, и молчать с ней было так же легко, как с Коули. И я был очень благодарен ей за это.
Я не слишком хорошо помню тот год. Я тогда словно провалился в некую черную пустоту. Мне нечем было заняться. Я чувствовал себя совершенно бесполезным. Мне казалось, что я так никогда и не научусь пользоваться своим даром; просто привыкну им не пользоваться, и все. И вечно буду сидеть в зале Каменного Дома, а люди будут меня бояться, это и будет моим единственным предназначением в жизни. Я с тем же успехом мог бы родиться идиотом, как та бедная крошка из Драмманта. Разницы особой не было бы. Все равно ведь со своей повязкой на глазах я выполнял роль пугала.
Иногда я в течение нескольких дней никому не говорил ни слова. Соссо, Рэб и другие люди в доме пытались со мной заговаривать, старались развеселить меня, как-то побаловать, приносили мне из кухни всякие лакомства, а Рэб настолько осмелела, что стала предлагать мне выполнить кое-что по хозяйству, что можно было сделать, и не имея глаз. Я с радостью когда-то выполнял ее просьбы, но не теперь. Под конец дня вместе с отцом обычно приходил Аллок, и, когда они обсуждали свои дела, я сидел с ними, но молчал, хотя Аллок все время пытался и меня втянуть в разговор. А Канок лишь спрашивал (как мне казалось, сквозь зубы): «Ты здоров, Оррек?» или «Ты сегодня катался верхом?». И я отвечал: «Да, здоров» или «Да, катался».
Теперь-то я думаю, что и отец не меньше меня страдал от возникшего меж нами отчуждения. Но тогда я знал одно: не ему приходится платить такую цену, какую плачу я за наш фамильный дар.
В течение всей зимы я строил планы того, как доберусь до Драмманта, отыщу Огге, сниму с глаз повязку и уничтожу его! Я снова и снова представлял себе эту поездку: я выеду еще до рассвета и возьму Бранти, потому что наши старые лошади уже слабы и недостаточно быстры. Я весь день буду ехать до Драмманта, а потом пережду где-нибудь, спрятавшись, и дождусь вечера, когда Огге выйдет из дома… Нет, лучше так: я предстану в новом обличье — ведь в Драмманте меня видели мальчишкой, да еще и с повязкой на глазах, а я тем временем здорово подрос, да и голос у меня стал грубеть. Кроме того, я надену плащ серфа, а не куртку и килт, как всегда, и меня никто не узнает. А Бранти я спрячу где-нибудь в лесу, потому что такого коня люди, конечно, сразу узнают, а сам я пойду пешком, точно бедный фермер из далекой горной лощины, и подожду Огге; а когда он появится, я одним взглядом, одним словом и одним жестом… И пока все будут стоять, застыв от ужаса и изумления, я снова ускользну в лес, сяду на Бранти, и мы помчимся домой, и я скажу Каноку: «Ты боялся убить его, а я все же сделал это!»
Но я этого так и не сделал. Я верил в то, что сделаю это непременно, без конца обдумывая свой план мести, но когда история эта подходила к концу, вместе с ней остывала и моя решимость.
Я так часто рассказывал себе эту возможную историю своей мести, что она износилась настолько, что утратила для меня всякий интерес.
И я еще глубже погрузился в окутывавшую меня тьму.
Но где-то там, в темноте, я неожиданно повернул назад, даже не поняв, что это произошло. Там ведь царил хаос, там не было понятий «вперед» или «назад», не было направления; но я куда-то повернул, и тот путь, на котором я оказался, вел меня назад, к свету. И Коули была моим верным спутником и товарищем в этой тьме и в этом молчании. А Грай была моим провожатым.
Как-то раз, когда она приехала к нам, я сидел у камина. Огня в камине не было — на дворе стоял май или июнь, так что топили только плиту на кухне, но на этой скамье у камина в гостиной я просиживал большую часть дня. Я слышал, как она приехала; слышал легкий перестук копыт Звезды на дворе, голос Грай, голос Соссо, которая, поздоровавшись с ней, сказала: «Он там же, где и всегда», а потом почувствовал на плече руку Грай. Но на этот раз она этим не ограничилась: она наклонилась и поцеловала меня в щеку.
После смерти матери меня никто не целовал; люди ко мне едва прикасались. И это ласковое прикосновение, этот поцелуй были для меня точно удар молнии. У меня даже дыхание перехватило.
— Здравствуй, принц Зола, — сказала Грай. От нее замечательно пахло запахом наездницы — конским потом, пылью, травой, и голос ее звучал, как шорох ветра в листве деревьев. Она присела рядом со мной и весело спросила: — Помнишь такого?
Я покачал головой.
— Ой, ну что же ты! Ты же всегда все истории помнишь. Правда, эту нам рассказывали давным-давно. Когда мы были еще маленькими.
Я по-прежнему молчал. Привычка к молчанию свинцовой тяжестью придавила мой язык. А Грай продолжала как ни в чем не бывало:
— Принц Зола — это мальчик, который даже спал в уголке у очага, потому что родители не позволяли ему ложиться в кровать…
— Приемные родители.
— Верно. А настоящие родители его потеряли. Интересно, как можно потерять мальчика? Они, должно быть, были страшно беспечными людьми.
— Они были королем и королевой. А мальчика украла ведьма.
— Правильно! Он вышел из дому поиграть, а из лесу появилась ведьма… и у нее была сладкая спелая груша… и как только мальчик откусил от груши кусочек, она сказала: «Ага, сладкоежка! Ну что, перепачкался волшебным липким соком? Теперь ты мой!» — Грай даже засмеялась от радости, вспоминая все это. — Так она и прозвала его Сладкоежкой. А что случилось потом?
— Ведьма отдала его одной бедной паре, у которой уже было шестеро своих детей, так что седьмого иметь им совсем не хотелось. Но она хорошо заплатила им — дала золотой слиток, чтоб они все-таки оставили его у себя. — Слова и ритм знакомого повествования заставили меня во всех подробностях вспомнить эту сказку, которую я не вспоминал уже лет десять; и в ушах моих вновь зазвучал мелодичный голос матери, рассказывавшей нам о принце Золе. — В общем, мальчик стал у них в доме слугой, и ему приходилось бежать со всех ног, стоило приемным родителям его кликнуть, а окликали они его так: «Эй ты, чумазый Сладкоежка, сделай то-то и то-то!» — и у него никогда не было ни минутки свободной, пока не наступала глубокая ночь; к этому времени вся работа в доме была уже переделана, и он мог наконец пробраться к очагу, лечь спать прямо в теплую золу.
Я умолк.
— Ой, Оррек, ну что же ты? Рассказывай дальше, — прошептала Грай.
И я стал рассказывать дальше. Я рассказал ей всю историю принца Золы, который, конечно же, в конце концов стал королем.
Потом мы оба некоторое время молчали, и я услышал, как Грай высморкалась. Похоже, она плакала.
— Ты только подумай, плакать из-за какой-то сказки! — с досадой пробормотала она. — Просто я вспомнила Меле… Коули, да у тебя все лапы в золе! Ну-ка давай их сюда. Вот так. — Видимо, последовала чистка собачьих лап, и Коули принялась энергично отряхиваться.
— Давай выйдем на улицу, — предложила мне Грай и встала, но я продолжал сидеть совершенно неподвижно.
— Пойдем, посмотришь, что научилась делать Звезда, — услышал я снова ее чуть хрипловатый голос.
Она сказала «посмотришь». Впрочем, я и сам обычно так говорил, потому что очень трудно каждый раз подбирать какое-то другое, более точное слово. Но на этот раз — наверное, я уже повернул назад в своей темной стране, но еще не понимал этого, хотя что-то в моей душе уже переменилось, — я вдруг рассердился:
— Я не могу «посмотреть», что делает Звезда! Я вообще ни на что не могу «посмотреть». Хватит, Грай! Ступай лучше домой. Все это глупости, и нечего тебе сюда приезжать без толку.
Она помолчала, потом тихо сказала:
— Я сама в состоянии решить, как мне поступить, Оррек.
— Ну так реши! Воспользуйся своей головой!
— Сам воспользуйся своей головой! С ней ведь ничего плохого не случилось, если не считать того, что ты совсем перестал ею пользоваться! В точности как глазами!
При этих словах волна ярости вдруг поднялась в моей душе, той самой застарелой испепеляющей ярости отчаяния, какую я испытывал и в те мгновения, когда пробовал воспользоваться своим даром. Я протянул руку, нащупал посох Слепого Каддарда и встал.
— Убирайся отсюда, Грай! — выкрикнул я. — Убирайся немедленно, пока я не убил тебя!
— А ты попробуй! Сними с глаз повязку!
Обезумев от ярости, я бросился на нее, вслепую взмахнув посохом. Удар, разумеется, пришелся в пустоту.
Коули резко предупреждающе залаяла и крепко прижалась к моим коленям, чтобы я не мог сделать больше ни шагу вперед.
Я протянул руку и погладил собаку по голове.
— Все хорошо, Коули, — пробормотал я. Меня всего трясло от возбуждения и стыда.
Вскоре, но на некотором расстоянии от меня, послышался голос Грай:
— Я пойду на конюшню. Чалую уже несколько дней не выводили на прогулку. Я хочу взглянуть на ее суставы. А потом мы можем прокатиться, если захочешь. — И она ушла.
Я потер ладонями лицо. Обе мои руки и лицо показались мне странно грязными. Должно быть, я нечаянно размазал золу по лицу и волосам. На кухне я подошел к чану, в котором моют посуду, окунул туда голову, потом вымыл руки, причесался и велел Коули отвести меня на конюшню. Ноги были как ватные, и чувствовал я себя так, как, по-моему, должен чувствовать себя глубокий старик. И Коули, словно понимая это, шла медленнее обычного и очень осторожно вела меня.
Мой отец и Аллок уехали, взяв обоих жеребцов, и Чалая была в конюшне одна. Она стояла в большом стойле, где могла даже лечь. Коули подвела меня к ней, и Грай сказала:
— Пощупай вот здесь. Это ревматизм. — Она взяла мою руку и провела ею по передней ноге лошади, по бабке и тонкой кости голени. Я чувствовал, как сильно воспалены у Чалой суставы, как они горячи.
— Ох, Чалая, бедная ты моя! — тихо приговаривала Грай, оглаживая и почесывая старую кобылу, которая постанывала и прислонялась к ней, как делала всегда, когда ее ласкали или чистили скребницей.
— Я даже не знаю, стоит ли мне ездить на ней, — сказал я.
— Я тоже не знаю. С другой стороны, ей ведь нужно двигаться.
— Я могу просто выводить ее.
— Да, возможно, это было бы лучше. Ты для нее стал слишком тяжел.
Я и сам чувствовал, что здорово прибавил в весе. Я слишком долго просидел дома, не занимаясь никакой работой, но всегда испытывал голод, хотя пища и не приносила мне особой радости и казалась безвкусной, с тех пор как я надел на глаза повязку. Рэб и Соссо, а также наша кухарка всегда старались подкормить меня, дать мне что-нибудь вкусненькое, раз уж ничем другим не могли меня утешить. В итоге я не только поправился, но и сильно вырос. Причем рос я так быстро, что у меня по ночам болели кости. И я все время стукался головой о дверные косяки, которых еще в прошлом году совершенно не замечал.
Я взял Чалую под уздцы — я теперь хорошо умел взнуздывать лошадь даже с завязанными глазами — и вывел ее из конюшни. Грай подвела Звезду к сажальному камню и вскочила на нее. Ездила она охлюпкой, без седла. И мы потихоньку побрели по знакомой тропе. Коули вела меня, а я — Чалую; я слышал, как сильно она прихрамывает, идя следом за мною.
— Знаешь, мне кажется, она идет и на каждом шагу охает от боли, — сказал я.
— Так и есть, — откликнулась Грай, ехавшая впереди.
— А ты можешь читать ее мысли?
— Если установлю с ней связь.
— А мои мысли читать можешь?
— Нет.
— Почему нет?
— С тобой я не могу установить связь.
— Почему?
— Слова мешают. Слова и… все остальное. Я могу читать мысли только самых маленьких детей, новорожденных. Именно так мы, например, узнаем, что женщина беременна. Мы можем установить связь с младенцем в ее утробе. Но когда младенец вырастает, его мысли становятся для нас недоступны. Мы не можем ни позвать его мысленно, ни услышать его ответ.
Мы помолчали. Чалая понемногу разошлась и приободрилась, так что мы свернули и сделали круг по тропе над Рябиновым ручьем. И я сказал:
— Скажи мне, как там все выглядит, когда мы подойдем ближе.
— Это место не слишком изменилось. Только травы, пожалуй, чуть больше выросло. Но здесь все еще царит… этот… как он там называется?
— Хаос. А та рябинка?
— Ее нет. Только обгорелый пенек торчит.
Мы повернули назад. И я сказал:
— Понимаешь, самое странное, что я не могу даже вспомнить, как это сделал. Словно открыл глаза — и все переменилось.
— Но разве твой дар действует не так?
— Нет. Во всяком случае, не с закрытыми глазами! Иначе зачем же мне носить эту проклятую повязку? Когда глаза запечатаны, наш дар спит.
— Но ведь у тебя «дикий дар»… Ты не хотел его использовать… Это случилось само собой и так быстро, что ты…
— Да, наверное. — Нет, я хотел его использовать, подумал я, но вслух ничего не сказал.
И мы поплелись назад. Но Грай явно не могла успокоиться.
— Оррек, ты извини меня за те слова, когда я сказала, чтоб ты поднял свою повязку, ладно?
— И ты извини, что я в тебя чуть посохом не попал!
Она не рассмеялась в ответ на мою неуклюжую шутку, но мне все же стало чуточку полегче.
Это было не в тот же день, но, в общем, вскоре, когда Грай спросила меня о книгах. Она имела в виду те книги, которые Меле писала во время болезни осенью и зимой.
— Они у нее в комнате, в сундучке. — Я все еще ревниво считал эту комнату комнатой Меле, хотя Канок и спал там и вообще почти все свое время проводил там. Вот уже полтора года.
— А как ты думаешь, я смогу их прочитать?
— Ты единственный
человек в Верхних Землях, который может это сделать, — сказал я с той невольной горечью, которая теперь слышалась в каждом моем слове.
— Ну… мне это всегда было так трудно… Я теперь уж и некоторых букв не помню… Зато ты сможешь читать их.
— О да, я буду читать их! Когда сниму с глаз повязку. Когда рак под горой свистнет.
— Послушай, Оррек…
— Хорошо, больше не буду. Да, я смогу их прочесть.
— Ты мог бы уже сейчас попробовать их читать. Хотя бы немножко. Хотя бы одну из ее книг. Ты ведь можешь больше ни на что не смотреть, только на книгу. — Голос Грай был едва слышен. — Ну не станешь же уничтожать все, на что упадет твой взгляд! Особенно если будешь смотреть только на то, что написала твоя мать! Она же для тебя старалась!
Грай не знала, что я видел мать незадолго до ее кончины. Никто этого не знал, кроме Канока. Но никто не знал и того, что всегда знал я: я никогда бы не причинил вреда Меле. Так разве я мог уничтожить теперь ту единственную вещь, которую она мне оставила?
Но объяснить все это Грай я не мог.
Я никогда не давал отцу честного слова не снимать с глаз повязку. Так что это меня не связывало; зато меня связывало нечто иное и держало крепко. Именно оно помешало мне, хотя в этом не было ни малейшей необходимости, видеть мать в последний год ее жизни; именно оно сделало меня бесполезным для нее по той лишь причине, что слепота моя была полезна моему отцу, превратившему меня в свое оружие, в угрозу для своих врагов. Но неужели я обязан был хранить верность только ему?
Довольно долго мысль моя на этом и останавливалась. А Грай больше о моей возможности читать книги не заговаривала, и я решил уже, что мы оба выбросили это из головы.
Но как-то осенью, когда мы с Каноком вдвоем возились на конюшне — я втирал в суставы Чалой мазь от ревматизма, а Канок лечил Грейлагу копыто, причинявшее старому коню сильную боль, — я вдруг сказал:
— Отец, я хочу увидеть те книги, которые написала мама.
— Книги? — растерянно переспросил он.
— Ту книгу, которую она подарила мне давным-давно, и еще те, которые она писала во время болезни. Они в сундучке. В ее комнате.
Отец долго молчал, потом спросил:
— А зачем они тебе?
— Я хочу, чтобы они были у меня. Она же их для меня писала.
— Возьми, если хочешь.
— Хочу! — сказал я, и Чалая шарахнулась, потому что я, стараясь побороть душивший меня гнев, слишком сильно стиснул ее колено. В эту минуту я ненавидел своего отца. Ему был безразличен я, его сын, и та работа, на которую моя мать потратила свои последние силы; ему было безразлично все, кроме желания оставаться брантором Каспроманта и властвовать над всеми благодаря своему ужасному дару.
Я закончил возиться с Чалой, вымыл руки и пошел прямиком в комнату матери, зная, что отца там, конечно же, не будет. Коули охотно вела меня по лестнице, словно ожидая, что там она найдет Меле. В комнате было холодно и царило какое-то опустошение. Я побродил по комнате в поисках сундучка и нащупал в изножье кровати, на спинке аккуратно сложенную коричневую шаль, связанную моей бабушкой, в которую мать всегда куталась, когда ей было холодно, и которую почти не снимала с плеч перед смертью. Я хорошо помнил эту грубоватую, но мягкую шерсть, спряденную вручную. Наклонившись, я зарылся в шаль лицом, но вдохнуть знакомый запах матери, ее слабый душистый аромат, столь памятный мне, не мог: шаль пахла мужским потом и солью.
— Подведи меня к окну, Коули, — сказал я собаке. Там я наконец и отыскал тот сундучок и, подняв крышку, нащупал аккуратно сложенные куски тонкой материи. Их оказалось куда больше, чем я смог бы унести в одной руке, — ведь во второй руке я был вынужден держать поводок. Я просунул руку глубже, почти до самого дна, и там нашел ту самую первую книгу, в переплете, которую мать сделала для меня: «Историю лорда Раниу». Я вытащил ее и закрыл крышку сундучка. Когда Коули вела меня назад, к двери, я снова коснулся коричневой шали, и сердце мое как-то странно екнуло, но я даже не попытался понять отчего.
Тогда я думал только о том, чтобы вернуть свою книгу, подарок матери. Я ее нашел, и пока что этого мне было достаточно. У себя в комнате я положил книгу на стол. Здесь все имело свое определенное место и никогда это место не покидало; я никому не позволял ничего здесь трогать. Потом я спустился к ужину, и мы с отцом поужинали — как всегда, в полном молчании.
Лишь под конец трапезы он спросил:
— Ты нашел ту книгу? — Это слово он произнес как-то неуверенно.
Я кивнул с неожиданным злобным удовлетворением, как бы усмехаясь про себя: ага, ты не знаешь, что такое книга, не знаешь, что с ней делать, потому что не умеешь читать!
И после ужина, оставшись у себя в комнате в полном одиночестве, я сел за стол, посидел некоторое время неподвижно, а потом решительно снял с глаз повязку и убрал прокладки.
И увидел темноту.
Я чуть не вскрикнул в полный голос. Сердце мое забилось от ужаса, в голове помутилось. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я сообразил, что передо мной висит какой-то странный предмет, весь покрытый блестящими серебряными точечками. И этот предмет я, безусловно, ВИДЕЛ! Оказалось, что это оконная рама и звезды за окном.
Я понял: в моей комнате было темно — зачем незрячему свет? Теперь нужно идти на кухню и просить там кремень и кресало, а также свечу или лампу. А что мне скажут слуги на кухне, когда я попрошу у них все это?
Когда глаза мои немного привыкли к темноте, я смог различить на столе прямоугольник книги, белеющий в свете звезд. Я провел по книге рукой и увидел движение каких-то теней. Создавать такие тени и следить за ними доставляло мне такое удовольствие, что я делал это снова и снова. Я поднял голову и увидел на небе яркие осенние звезды. Я смотрел на них так долго, что, казалось, видел, как они медленно плывут по небосводу на запад. Пока что достаточно, решил я.
Снова наложил на глаза мягкие прокладки, завязал на затылке повязку, разделся и лег в постель.
Я ни на секунду даже не вспомнил, когда смотрел на книгу, на свою руку, на звезды за окном, что могу их уничтожить; мне даже в голову не приходила мысль о своем смертельно опасном даре; я был исполнен благодарности за один-единственный дар природы — способность видеть. Неужели я мог уничтожить эти звезды, потому что мог видеть их?
Глава 15
Теперь мне для счастья достаточно было одного — иметь при себе те страницы, которые Меле написала для меня. Я перенес их к себе в комнату и хранил в том же резном сундучке. Каждое утро я просыпался на рассвете, с криком первого петуха, и тут же вставал, садился за стол и сдвигал с глаз повязку, но не снимал ее на тот случай, если в комнату вдруг кто-нибудь войдет. Я был очень осторожен и старался не смотреть больше ни на что, кроме исписанных листков, и еще — один раз в самом начале, а второй раз в конце — поднимал глаза и смотрел в окно, на небо. Я решил, что никому не причиняю никакого вреда, когда читаю написанное моей матерью и смотрю на небо.
Впрочем, было ужасно трудно, например, не смотреть на Коули. Ведь я мечтал ее увидеть. И если бы она оставалась в комнате, я не смог бы отвести от нее глаз. От одной мысли об этом у меня мурашки бегали по спине. Я сидел, прикрыв глаза руками с обеих сторон, чтобы видеть только исписанные листки, лежавшие передо мной, но и это было небезопасно. И я, закрыв глаза, выставлял бедную Коули за дверь. «Сидеть», — говорил я ей и слышал, как ее хвост слабо постукивает по полу в знак послушания. И чувствовал себя настоящим предателем, когда закрывал за собой дверь.
Часто меня ставило в тупик содержание того, что я читал, потому что исписанные кусочки ткани лежали в сундучке как попало, а потом и еще больше перепутались, когда я частями переносил их к себе. Кроме того, мать явно записывала подряд все, что могла вспомнить, что приходило ей в голову, и зачастую это были просто какие-то отрывки без начала и конца и без каких-либо связей с другими текстами, которые могли бы объяснить их содержание, или даже отдельные мысли. Когда мать только начинала все это записывать, то оставляла пометки вроде: «Это из «Молитвы Энну», которой научила меня бабушка; эту молитву следует произносить женщинам». Или: «Это из «Сказания о святом Мому», но я не помню, что там было дальше». На некоторых страницах наверху было написано: «Моему сыну Орреку из Каспроманта». А одна из самых ранних записей, легенда о создании Деррис-Уотера, была озаглавлена: «Капли из ведра, которое для своего дорогого сына подняла из колодца знаний Меле Аулитта из Деррис-Уотера, жившая затем в Каспроманте». По мере того как болезнь брала над Меле верх — это было заметно по тому, каким торопливым и неразборчивым стал ее почерк, — пояснений и дополнений появлялось все меньше. А вместо историй она записывала поэмы и песни, иногда вкривь и вкось, поперек страницы, так что понять содержание этих стихов, услышать заключенную в них музыку можно было, только если прочесть их вслух. Некоторые из самых последних страниц разобрать оказалось почти невозможно. На самой же последней — она лежала на самом верху, прямо под крышкой сундучка, и я хранил ее особенно бережно — было всего несколько бледных строчек. Я помнил, как она тогда сказала, что слишком устала и хочет немного отдохнуть.
Я думаю, кому-то может показаться странным, что после столь радостных часов, проведенных за чтением драгоценных страниц, написанных матерью, я с готовностью вновь погружался во тьму, завязывал глаза и, спотыкаясь, ходил повсюду за собакой-поводырем. Скажу честно: я сам этого хотел и искренне считал, что единственный способ для меня как-то защитить Каспромант — это оставаться слепым. Так что я оставался слепым, находя в этой своей решимости некую искупительную радость, чувствуя, что таков мой долг.
Я понимал, что не сам нашел для себя спасение от тяжкого бремени этого долга. Это Грай подсказала мне выход, посоветовав прочитать то, что было написано Меле. Стояла осень, и Грай была занята на уборке урожая, так что приезжала к нам нечасто; но в самый первый раз, когда она приехала, я сразу же повел ее к себе в комнату, показал ей сундучок с записями и рассказал, что читаю их.
Она, похоже, скорее огорчилась или смутилась, чем обрадовалась, и поспешила покинуть мою комнату. У нее, конечно, чутье было куда острее, чем у меня, и она всегда лучше чувствовала любой возможный риск. Люди в наших краях к поведению незамужних девушек относились строго. Впрочем, никто в Верхних Землях не видел ничего дурного в том, чтобы молодые люди вместе катались верхом, гуляли и разговаривали вне дома или в таких местах, куда всегда могут зайти и другие люди, однако девушке пятнадцати лет зайти в спальню к юноше было просто непозволительно. Рэб и Соссо наверняка здорово отчитали бы нас, если б заметили, но что еще хуже — прядильщицы или прислуга на кухне могли пустить сплетни. Когда подобная мысль пришла мне в голову, я почувствовал, как запылали мои щеки. Я вышел из комнаты следом за Грай, и еще примерно с полчаса мы чувствовали себя в обществе друг друга неловко, а разговаривать могли только о лошадях.
А когда мы наконец обрели способность обсудить то, что я успел прочесть, я сразу же с огромным энтузиазмом продекламировал Грай несколько поэм Одрессела, но на нее стихи особого впечатления не произвели. Она предпочитала истории. Я не мог объяснить ей, до чего меня завораживает поэзия этого автора. Я попытался сообразить, как ему удавалось так складывать слова, что одно слово как бы перекликается с другим, повторяя тот или иной звук или ритм; как он вплетает в этот сотканный из слов рисунок некую мелодию. Это давно уже не давало мне покоя, и каждый день, бродя по дому в повязке на глазах, я тоже пытался сложить свои собственные слова подобным образом, создать некий рисунок, который уже виделся мне, и иногда это получалось. Это давало мне ни с чем не сравнимое, чистое удовлетворение, которое возрождалось каждый раз, когда я думал о созданном мною словесном рисунке — первых своих поэтических опытах.
В тот раз Грай уехала от нас в довольно мрачном настроении; да и в следующий ее приезд она была какой-то невеселой. Наступил дождливый октябрь. Как-то раз мы с ней сидели в своем любимом уголке у камина и беседовали. Рэб принесла нам целую тарелку овсяного печенья, и я потихоньку его пожирал, а Грай почти не замечала угощения и в основном молчала. Наконец она сказала:
— Оррек, а зачем, как тебе кажется, нам даны эти дары?
— Наверное, чтобы с их помощью защищать людей.
— Только не с помощью моего дара.
— Твоего, наверное, нет. Но ведь ты помогаешь людям охотиться, добывать пищу, приручаешь животных и обучаешь их…
— Ну да, это понятно. А чем помогает людям твой дар? Или дар твоего отца? Дар уничтожения, убийства.
— Должен же кто-то уметь это делать. Убивать врагов, например, или…
— А еще? Вот, например, мой отец с помощью своего дара ножа может и убить человека, и вытащить занозу из пальца или колючку из ноги. И сделает это так аккуратно и быстро, что выступит только маленькая капелька крови. Глянет — и занозы как ни бывало. А Нанно Корде? Она ведь может запросто сделать человека глухим и слепым, а ты знаешь, что она вернула слух совершенно глухому мальчику? Он был глухонемым от рождения, только со своей матерью мог знаками объясняться, а теперь слышит достаточно хорошо, а вскоре и говорить научится. Нанно сказала мне, что действовала почти так же, как когда насылает на кого-то глухоту, только действие шло как бы в противоположную сторону, понимаешь?
Это было страшно интересно, и мы еще немного об этом поговорили, хотя мой-то дар «в обратном направлении» не действовал. А вот у Грай явно имелись определенные соображения насчет возможностей ее дара, и она сказала задумчиво:
— Интересно, а любой ли дар можно заставить действовать наоборот?
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я не имею в виду способность призывать. Ее и так можно по-разному использовать. А вот дар ножа или дар узды — они, возможно, действуют в обе стороны. Они могли бы быть полезны — для лечения людей от разных недугов, например. Служили бы благородной цели. А может, так и было когда-то, но потом оказалось, что эти дары являются также и опасным оружием, вот их и стали использовать только в этом качестве, а о второй возможности позабыли. Даже дар узды, которым обладает род Тибро, сперва, возможно, был просто даром работы с людьми, умением руководить, а потом его заставили действовать наоборот — и люди подчинились и стали работать на Тибро.
— Ну а дар рода Моргов? — спросил я. — Ведь их дар — не оружие.
— Нет. Но он хорош только для того, чтобы обнаружить, чем человек болен, чтобы знать, как его лечить. Их дар неспособен сделать человека больным. Он действует только в одну сторону. Именно поэтому Морги и вынуждены скрываться в таких местах, куда никто больше не ходит.
— Ну хорошо. Но ведь некоторые дары никогда нельзя было назвать добрыми. Они всегда действовали только в одну сторону. Например, дар Хелваров или дар Каспро.
— И Хелвары, и Каспро тоже, вполне возможно, когда-то занимались целительством. Если у человека или животного внутри были какие-то неполадки, что-то запутывалось в организме, то, может быть, с помощью такого дара можно было распутать создавшийся «узел», развязать его, привести все связи в порядок.
Это был совершенно неожиданный поворот. Мне показалось, что у меня открываются новые возможности, появляется новая надежда. Я совершенно точно понимал, что хочет сказать Грай. Это было то же самое, что и со стихами, — когда некая путаница слов и чувств вдруг складывается у тебя в голове в определенный рисунок, становится ясной и ты с радостью признаешь: да, да, правильно, я именно это и хотел сказать!
— Но почему же тогда Каспро перестали лечить людей и стали их убивать, превращая внутренности своих врагов в кровавую кашу?
— Потому что у нас еще слишком много врагов. А может, еще и потому, что нельзя использовать свой дар в обоих направлениях. Нельзя одновременно двигаться и вперед, и назад, ясно?
Я понимал по ее голосу, что она говорит сейчас о чем-то очень для нее важном. Это наверняка имело отношение к использованию ее собственного дара, но я не мог с уверенностью сказать, что именно было у Грай на уме.
— Ну что ж, если бы кто-нибудь научил меня использовать мой дар для созидания, а не для разрушения, я бы с удовольствием этому научился, — сказал я, хотя, пожалуй, всерьез так не думал.
— Правда? — Зато Грай была совершенно серьезна.
— Нет, — признался я. — Нет. Сперва я должен уничтожить Огге Драма!
Она тяжело вздохнула.
Я стукнул кулаком по каменной скамье и сказал:
— Я должен его уничтожить! И я уничтожу эту жирную гадюку, как только смогу снять повязку! Не понимаю, почему Канок этого не делает? Чего он ждет? Ждет, когда вырасту я? Ведь он же прекрасно знает, что я не могу… управлять своим даром. А он может! Как же можно сидеть здесь, молча страдать и даже не пытаться отомстить за смерть Меле!
Я никогда прежде не говорил Грай ничего подобного. Да и себе вряд ли такое говорил. И, произнося эти слова, я вдруг ощутил жаркий прилив гнева. Но ответ Грай прозвучал холодно:
— Ты хочешь, чтобы твой отец умер?
— Я хочу, чтобы умер Драм!
— Ты же знаешь, что Огге Драм ни днем ни ночью не отпускает от себя охранников и эти люди вооружены мечами и кинжалами, а стены его Каменного Дома охраняют отборные лучники. И между прочим, у его сына Себба имеется тот же дар. Да и Рен Корде преданно служит Драму. И все его приспешники только и следят, нет ли какой угрозы со стороны Каспроманта. Неужели ты хочешь, чтобы Канок один отправился в это дьявольское логово и погиб?
— Нет…
— Ты же не думаешь, что он будет убивать исподтишка — как ТОТ убил твою мать, подкравшись к ней в темноте? Неужели ты думаешь, что Канок на такое способен?
— Нет, — сказал я и уронил голову на руки.
— Мой отец говорит, что он уже почти два года все боится, что Канок вскочит на коня и помчится в Драммант убивать Огге Драма. Точно так же как он тогда помчался в Дьюнет. Только теперь он бы поехал один…
Мне нечего было возразить ей. Я понимал теперь, почему Канок медлит, почему так ведет себя. Ради тех людей, которые нуждаются в его защите. Ради меня.
Грай долго молчала, потом сказала:
— А может быть, вы вообще не можете использовать свой дар в обе стороны. Я, например, могу только «вперед».
— Тебе повезло.
— Да, — согласилась она. — Хотя моя мать так не думает. — Она резко встала и сказала: — Коули! Пойдем прогуляемся?
— Что ты хотела сказать про свою мать?
— Пожалуйста: моя мать хочет, чтобы я с нею вместе поехала в Барремант на зимнюю охоту. Она сказала, что если я с ней не поеду и не стану призывать зверей охотникам, то лучше мне поскорее найти себе мужа, потому что вряд ли жители Роддманта согласятся содержать меня, если я не стану пользоваться своим даром для охоты.
— А Тернок что говорит?
— Отец очень опечален и обеспокоен; он не хочет, чтобы я огорчала маму, и не понимает, почему я не хочу быть брантором.
Я мог с уверенностью сказать, что Коули стоит рядом и терпеливо ждет, готовая к обещанной прогулке. Так что я тоже встал, и мы вышли из дому. Моросил дождь, но ветра не было совсем.
— А почему ты не хочешь быть брантором? — спросил я.
— А ответ целиком есть в той истории про муравьев… Идем! — И она решительно двинулась вперед, не обращая внимания на дождь. Коули потянула меня за ней.
Этот очень тревожащий разговор был мне понятен лишь наполовину. Грай что-то сильно беспокоило, но я ничем не мог помочь ей, а совет ее матери насчет скорейшего замужества и вовсе заставил меня помалкивать. Поскольку глаза мои были скрыты повязкой, мы даже не упоминали о том обещании, которое дали когда-то над водопадом. Я не мог заставить Грай держать данное слово. Да и зачем? Сам я легко мог от него отказаться. Нам ведь было всего по пятнадцать лет. И не возникало никакой необходимости спешно что-то предпринимать. Даже говорить об этом необходимости не было. Мы оба и так все понимали. В Верхних Землях помолвки заключаются порой очень рано, но люди редко женятся, пока им не исполнится хотя бы лет двадцать. И я уверял себя, что Парн просто пугает Грай. Но все же чувствовал, что эта угроза нависла и надо мной.
То, что Грай говорила о наших дарах, имело, конечно, и для меня определенный смысл, но все же представлялось мне чистой теорией, если не считать рассуждений о ее собственном даре. Этот дар, как она сказала, можно использовать в обе стороны. Если под словом «назад» она имела в виду способность призывать животных для того, чтобы их потом убили охотники, тогда «вперед» означало работу с домашними животными — воспитание ездовых и рабочих лошадей, дрессировку собак, лечение животных. Призывать тех, кто удостоил тебя своим доверием, и что-то дать ему, помочь, а не предать его — вот как она это себе представляла. И если это действительно так, то разубедить ее не сможет даже Парн.
Но правда и то, что обучение лошадей и дрессировка собак считались в наших краях таким делом, которому может научиться любой. Фамильный дар Барре — это умение призвать дичь к охотникам. И Грай действительно не сможет стать брантором ни в Роддманте, ни где-либо еще, если не захочет этим даром пользоваться. Если — как это, видимо, представляется Парн — не станет прославлять свой дар, а предаст его.
А я? Не пользуясь своим даром, отказываясь от этого, не доверяя самому себе — разве я не предаю свой дар?
В общем, этот год все тянулся и тянулся, и казалось, ему не будет конца, хотя теперь каждый день у меня было по одному действительно светлому часу — на заре. И вот в самом начале зимы в Каспроманте объявился этот беглец.
Он был на волосок от гибели, даже не подозревая об этом, когда пересек границы наших владений и спустился со стороны западных овечьих пастбищ в том самом месте, где мы тогда встретились с гадюкой. В тот день Канок как раз осматривал там изгородь — он старался объезжать наши границы с Драммантом и Кордемантом как можно чаще — и увидел, что какой-то парень, перепрыгнув через стену, стал спускаться вниз по склону холма. «Красться» — как сказал Канок. Разумеется, мой отец, развернув Бранти, тут же налетел на незваного гостя, точно сокол на мышь. «Я уж и левую руку поднял, — рассказывал он. — Я был почти уверен, что этот тип явился воровать овец или хочет увести нашу Серебряную Корову. Не знаю уж, что меня тогда остановило».
В общем, Эммона он тогда не уничтожил, но остановил его и потребовал объяснить, кто он такой и зачем сюда забрался. Возможно, Канок почти сразу понял, что это чужак — не овечий вор из Драмманта или из горных долин, а каллюк.
А может, когда он услыхал речь Эммона, его мягкий говор жителя Нижних Земель, это смягчило его сердце. Так или иначе, а он вполне спокойно выслушал историю Эммона о его скитаниях, о трудном пути из Даннера, о том, что он совершенно не представляет, куда попал, и просто искал хоть какое-нибудь человеческое жилье, чтобы переночевать, согреться и, может быть, немного заработать. Холодные моросящие декабрьские дожди уже затянули горы, а у этого несчастного даже теплой куртки не было — так, тощенькая куртенка и шарф, который совершенно не грел.
Канок отвел его на ту ферму, где старуха с сыном в свое время приглядывали за белыми телками и где теперь содержалась наша Серебряная Корова, и сказал, что если Эммон хочет, то пусть завтра приходит в Каменный Дом: может, для него какая-нибудь работенка и отыщется.
Да, я ведь еще не рассказывал о Серебряной Корове. В нее превратилась та белая телочка, которая осталась у нас, когда воры увели в Драммант двух ее сестер. Это была самая красивая корова во всех Верхних Землях. Когда она стала взрослой, отец с Аллоком отвели ее в Роддмант и там ее скрестили с белым быком, принадлежавшим Терноку. Каждый, кто видел нашу корову, восхищался ею. В первый раз она принесла двух телят, телочку и бычка, а во второй — двух телочек. Та старуха с сыном, помня о своей тогдашней оплошности, ходили за ней как за принцессой, глаз с нее не спускали, без конца чистили и мыли ее молочно-белую шкуру, старались накормить повкуснее и нахваливали ее всем и каждому. Это они придумали ей такое имя — Серебряная Корова. Наконец-то благодаря Серебряной Корове и ее сестрам стадо, о котором так давно мечтал Канок, стало постепенно разрастаться. У старухи Серебряная Корова чувствовала себя просто отлично, но, как только ее телята окрепли, отец перевел их всех на верхние пастбища, подальше от опасных границ с Драммантом.
В общем, на следующий день тот бродяга из Нижних Земель явился к нам, и Канок встретил его довольно приветливо, да и слуги отнеслись к нему хорошо, без настороженности; они накормили его, дали ему теплый плащ, хоть и старый, но еще вполне приличный, и с удовольствием слушали его рассказы. Всегда ведь неплохо, когда среди зимы в доме появляется новый человек с новыми историями.
— Он говорит совсем как наша дорогая Меле, — прошептала Рэб, пуская слезу. Я, конечно, слез не ронял, но и мне слушать мягкий говор Эммона было приятно.
На самом-то деле в это время года работы на фермах не было никакой — во всяком случае, такой, для которой требовались бы дополнительные руки, но, согласно старинной традиции, горцы всегда принимали в дом странников и старались щадить их гордость, предлагая хотя бы видимость работы, — если, конечно, не окажется, что человек этот к вам заслан теми, с кем вы враждуете. В таком случае его обычно вскоре находили мертвым где-нибудь за пределами ваших владений. Нам сразу же стало ясно, что Эммон совершенно не разбирается ни в лошадях, ни в овцах, ни в коровах, да и в земледелии ничего не смыслит. Но упряжь-то может чистить кто угодно, вот отец и определил его чистить упряжь, и он ее действительно чистил — время от времени. В общем, щадить его гордость оказалось совсем нетрудно.
Большую же часть времени он проводил со мной, или же мы сидели вместе с Грай в нашем любимом уголке у большого камина, а по другую сторону очага женщины, прявшие шерсть, без конца тянули свои длинные негромкие песни. Я уже рассказывал, какие мы примерно вели беседы с Эммоном. Надо сказать, беседы эти доставляли нам огромное удовольствие хотя бы потому, что он был из такого мира, где тревожившие нас проблемы не имели ни малейшего смысла, так что он бы, наверное, даже и не понял ни одного из наших мрачных вопросов, и мы не считали нужным их ему задавать.
Но когда он сам спросил, отчего у меня на глазах повязка, и я рассказал ему, что это отец запечатал мне глаза, он был настолько потрясен, что не рискнул расспрашивать дальше. Он, видно, почувствовал, что земля качнулась у него под ногами, как говорят у нас в горах, и не решился лезть дальше в это болото. Но слуг в доме он все же порасспросил, и они рассказали ему, что глаза молодому Орреку запечатали потому, что он обладает «диким даром» и способен невольно уничтожить любого человека, любую вещь, какая только попадется ему на глаза; мало того, они, похоже, рассказали ему даже и о Слепом Каддарде, и о том, как Канок совершил налет на Дьюнет, а может, и о том, как умерла моя мать. Все это, должно быть, сильно поколебало его неверие в дары горцев, но, мне кажется, он продолжал считать, что в значительной степени это все-таки суеверия невежественных людей, попавших в ловушку собственных страхов.
Эммон очень привязался к нам с Грай; он искренне нам сочувствовал и понимал, как мы ценим его общество; я думаю, ему очень хотелось сделать для нас доброе дело — немного просветить нас. Когда же до него дошло, что я сам, по собственной воле, продолжаю оставаться слепым — он уже знал к этому времени, что глаза завязал мне мой отец, — он был по-настоящему потрясен.
— Зачем ты так поступаешь с собой? — спросил он. — Но ведь это сущее безумие, Оррек! В тебе нет ни капли зла. Ты и мухе не причинил бы вреда, даже если б смотрел на нее весь день!
Он был взрослым мужчиной, а я — мальчишкой; он был вором, а я — честным человеком; он повидал мир, а я его никогда не видел, но я куда лучше знал, что такое зло.
— Зла во мне сколько хочешь, — сказал я ему.
— Ну хорошо. Немного зла есть даже в самых лучших из людей, так не проще ли дать ему выход, признать его, а не лелеять его, не давать ему расти в темноте, или я не прав?
Его совет был дан исключительно из добрых побуждений, но для меня он оказался и оскорбительным, и болезненным. Не желая отвечать ему грубо, я встал, что-то сказал Коули и вышел из зала. Выходя, я слышал, как он сказал Грай: «Ах, да он уже и сейчас почти как его отец!» Что ответила Грай, я не знаю, но Эммон никогда больше не пытался давать мне советы насчет моей повязки на глазах.
Интереснее и безопаснее всего было разговаривать о том, как «обламывают» лошадей и приручают животных, или рассказывать друг другу разные истории. Эммон не слишком хорошо разбирался в лошадях, но повидал немало хороших коней в городах Нижних Земель и все же признал, что нигде кони не были так хорошо обучены, как у нас, даже старые Чалая и Грейлаг, не говоря уж о Звезде. Если погода была довольно приличной, мы выходили из дому и Грай показывала Эммону все чудеса выездки и аллюры, которым научила Звезду и о которых я знал только по ее описаниям. Я слышал, как Эммон громко восхищается, и представлял себе Грай верхом на Звезде — хотя, к сожалению, эту молодую кобылу я никогда и не видел. Я и Грай очень давно уже не видел и не знал, какой она стала сейчас.
Порой в голосе Эммона, когда он разговаривал с Грай, мне слышалась какая-то особая интонация, заставлявшая меня насторожиться, какая-то особая вкрадчивость, почти льстивость. Чаще всего, правда, он разговаривал с ней так, как мужчина и должен разговаривать с юной девушкой, почти девочкой, но иногда, видимо, забывался, — и голос его звучал так, как у мужчины, который пытается привлечь внимание понравившейся ему женщины.
Впрочем, его уловки ни к чему не приводили. Грай отвечала ему, как и подобает простой и грубоватой деревенской девчонке. Эммон ей нравился, но в целом мнения о нем она была не слишком высокого.
Когда шел дождь и дул ветер или над холмами поднималась пурга, мы просиживали в нашем уголке у камина почти весь день. Когда нам перестало хватать тем для разговоров — поскольку Эммон оказался довольно плохим рассказчиком и мало что мог поведать нам о жизни в Нижних Землях, — Грай попросила меня рассказать какую-нибудь историю. Ей нравились героические легенды «Чамбана», и я рассказал одну из них — о Хамнеде и его друге Омнане. Затем, подкупленный жадным вниманием своей аудитории — ибо прядильщицы тоже стали прислушиваться — перестали петь, а некоторые даже и прялки свои остановили, — я решил прочесть им еще и поэму из священных текстов храма Раниу, записанную для меня матерью. В поэме, правда, имелись небольшие пропуски — в тех местах, где Меле изменяла память, — и я, желая сохранить целостность повествования, сам заполнял их. Язык поэмы был настолько музыкальным, что я необычайно воодушевлялся каждый раз, когда читал ее, и сейчас мне казалось, что моими устами поет сам этот древний автор. Когда я наконец умолк, то впервые в жизни услышал ту тишину, которая служит рассказчику наивысшим вознаграждением.
— Клянусь всеми именами на свете! — воскликнул Эммон с восторгом и изумлением.
Со стороны прядильщиц тоже донесся восхищенный шепот.
— И откуда только ты узнал и эту историю, и эту старинную песнь? — искренне удивился Эммон. — Ах да, понимаю: от матери! Но неужели ты с одного раза сумел все так хорошо запомнить?
— Нет, конечно. Она все это записала для меня, — сказал я, не подумав.
— Записала? Так ты умеешь читать? — Эммон был потрясен. — Но ведь не с повязкой же на глазах ты читать учился!
— Да, я умею читать. И разумеется, когда я этому учился, глаза мои не были завязаны.
— Ну и память же у тебя, парень!
— Память — это глаза слепого, — сказал я с некоторой угрозой, чувствуя, что вел себя неосторожно и перешел все допустимые пределы, так что теперь мне лучше самому перейти к наступлению, пока не поздно.
— Значит, твоя мать учила тебя читать?
— И меня, и Грай.
— Но что же вы можете читать тут, в горах? Я у вас ни разу ни одной книги не видел.
— Мать сама написала для нас несколько книг.
— Ничего себе! Послушай, парень, у меня тоже есть одна книга… Я… Мне ее подарили — там, внизу, в столице. Я ее сунул в заплечный мешок на всякий случай, надеясь, что она, может, окажется ценной и я что-нибудь смогу за нее выручить. Но тут она, похоже, никому не нужна. Кроме вас с Грай. Надо, пожалуй, пойти да разыскать ее. — Эммон ушел и вскоре вернулся, сунув мне в руки какую-то коробочку или шкатулку, глубиной не больше вершка. Крышка шкатулки легко приподнялась, и под ней вместо пустоты я нащупал странную материю, похожую на шелковое полотно. И дальше было еще много таких же шелковистых кусочков, скрепленных с одного края, как в той книжке, которую сделала моя мать, но здесь полотно было гораздо тоньше и более гладкое, так что листать книгу было очень легко. Страницы эти казались очень хрупкими и прочными одновременно, и я с глубочайшим восхищением касался этого небывалого чуда. Мне страстно хотелось увидеть книгу, как следует разглядеть ее, но я протянул ее Эммону и попросил:
— Почитай немного, пожалуйста.
— Нет уж, пусть лучше Грай почитает, — быстро сказал Эммон.
Я слышал, как Грай переворачивает страницы. Затем она с огромным трудом, по буквам, прочитала несколько слов и сдалась.
— Здесь даже буквы выглядят совсем иначе, чем в книжке Меле, — растерянно сказала она. — Они такие маленькие, черненькие и куда более прямые, чем у нее, и все похожи одна на другую.
— Это печать, — со знанием дела сообщил Эммон, но, когда я захотел узнать, что это такое и как печатают книги, объяснить как следует он не сумел. — Этим обычно священники занимаются, — сказал он. — У них есть такие специальные колеса вроде прессов в давильне, знаешь…
Зато Грай постаралась как можно лучше описать мне эту книгу: ее крышка — Грай имела в виду переплет — была из кожи, вероятно телячьей, с плотными блестящими уголками, по краю тянулся красивый орнамент из золотых листьев, а в середине было красной краской написано какое-то слово.
— Она очень красивая, очень! — восхищалась Грай. — Это, должно быть, просто драгоценная вещь!
И она, наверное, протянула книгу Эммону, потому что он сказал:
— Нет-нет, это вам, тебе и Орреку. Если сумеете ее прочитать — отлично. А не сумеете, то, может, тут случится проходить кому-нибудь, кто умеет читать, а вы ему ее и покажете: пусть думает, что вы великие ученые. — Он, как всегда, весело рассмеялся, и мы стали благодарить его, а он снова вложил книгу в мои руки. Я прижал ее к себе. Это действительно была драгоценная вещь.
Утром, едва рассвело, я наконец снял повязку и увидел ее — и золотые листья, и написанное красным слово «Превращения». Я раскрыл книгу и увидел бумагу (которую все еще считал просто очень тонкой тканью), обворожительные, крупные и округлые буквы на титульной странице, маленькие черные печатные буковки, точно муравьи, расползшиеся по каждому из этих белых листов… Все они были одинаково толстенькие и крепенькие. И я отчего-то представил себе ТОТ муравейник у тропы над Рябиновым ручьем и муравьев, вбегающих и выбегающих из него, спешащих по своим делам, и от охватившего меня отчаяния я ударил по этим «муравьям» всей своей силой — и рукой, и глазом, и словом, и волей, — но они по-прежнему расползались кто куда и не обращали ни на меня, ни на мой дар ни малейшего внимания. Я закрыл глаза… Потом снова открыл. Книга по-прежнему лежала передо мной. И я прочел строчку: «Так, в молчании, принес он обет в душе своей…» Это было нечто вроде истории в стихах. Я медленно перелистал страницы, потом вернулся к самому началу поэмы и углубился в чтение.
Коули шевельнулась у моих ног и вопросительно посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. И увидел перед собой средних размеров собаку с плотной курчавой и довольно короткой черной шерстью, особенно мягкой на ушах и на длинной морде, с высоким умным лбом, ясными, внимательными, темно-карими глазами, смотревшими прямо мне в лицо.
Я был настолько возбужден и увлечен чтением, что совсем позабыл выставить Коули из комнаты, прежде чем снять с глаз повязку!
Коули встала, по-прежнему глядя прямо на меня. Она тоже несколько растерялась, но чувство собственного достоинства и ответственность передо мной не позволяли ей это показывать.
— Коули, дорогая, — сказал я ей дрожащим голосом и погладил по морде. — Это же я! — Она понюхала мою руку: да, это действительно был я.
Я опустился возле нее на колени и обнял ее. Мы с ней не слишком часто открыто проявляли свою любовь друг к другу, но на этот раз и она прижалась лбом к моей груди и замерла.
А я сказал:
— Коули, запомни: я никогда не причиню тебе зла!
Она это знала. И с готовностью посмотрела на дверь, словно говоря: «Так мне гораздо приятнее, но я все же готова выйти и подождать снаружи, если уж у нас так заведено».
— Не надо, Коули, останься, — сказал я ей.
И она, с облегчением вздохнув, легла возле моего стула, а я вернулся к чтению.
Глава 16
Вскоре после этого Эммон нас покинул. Хотя традиционное гостеприимство не позволяло Каноку хоть чем-то показать, что незваному гостю в доме уже почти и не рады, это было ясно и так. Действительно, в конце зимы и начале весны жизнь в Каменном Доме всегда становилась весьма скудной — куры не неслись, запасы колбасы и окороков давно подошли к концу, а скотины на убой у нас не было. Так что питались мы в основном овсяной кашей и сухими яблоками; единственной по-настоящему сытной пищей и лакомством у нас за столом были копченая или свежая форель или лосось. Рыбу мы ловили в Талом озере или в Рябиновом ручье. Наслушавшись наших рассказов о крупных богатых поместьях Каррантагов, Эммон, наверное, решил, что там его будут кормить лучше. Надеюсь, что он сумел туда добраться. Надеюсь также, что никто из Каррантагов не испробовал на нем свой дар.
Перед его уходом у нас с ним состоялся серьезный разговор. И Эммон говорил настолько серьезно, насколько это вообще было свойственно этому веселому легковесному человеку с чересчур ловкими руками. Он сказал, что мы с Грай непременно должны покинуть Верхние Земли.
— Ну что вас тут держит? — вопрошал он. — Ты, Грай, не желаешь, как требует того твоя мать, созывать зверей на заведомую смерть, и охотники считают тебя бесполезной. А ты, Оррек, продолжаешь носить свою проклятую повязку и в ней тоже, в общем, совершенно бесполезен для жизни в Каспроманте. Зато если ты, Грай, спустишься вниз и покажешь там, чему ты научила свою замечательную кобылу, то тут же запросто получишь работу у любого коневода, в любой конюшне — только выбирай. А ты, Оррек, при твоей способности помнить столько всяких сказок, песен и легенд и умении сочинять еще и свои собственные истории и стихи, и вовсе сразу поймешь, как ценится такое умение во всех городах и даже в столице. Там ведь люди специально собираются, чтобы послушать сказителей и певцов, и хорошо им платят; а многие богачи и вовсе держат таких исполнителей при себе, чтобы всегда иметь возможность послушать их и чтобы они выступали перед их высокопоставленными гостями. Ну а если ты сочтешь необходимым и впредь держать глаза завязанными — что ж, некоторые из этих сказителей и певцов ведь тоже слепы. Хотя я бы на твоем месте давно снял с глаз повязку и как следует разглядел то, что находится от тебя на расстоянии вытянутой руки. — И Эммон засмеялся.
В общем, ясным апрельским днем он ушел от нас дальше на север, беспечно махнув нам на прощание рукой. Он был одет в теплую куртку, подаренную ему Каноком, а за плечами у него висел его старый походный мешок, в котором лежали пара серебряных ложек из нашего буфета, позолоченная брошка из яшмы, самая большая драгоценность Рэб, и одна посеребренная уздечка из нашей конюшни.
— Он так ее ни разу и не почистил, — проворчал Канок, но не слишком сердито. Если берешь в дом вора, следует ожидать, что он что-нибудь у тебя украдет. Зато никогда не известно, что ты сам можешь выиграть от этого.
За все те месяцы, что Эммон прожил у нас, мы с Грай ни разу не поговорили друг с другом откровенно, как раньше. А некоторых тем старались и вовсе не касаться. Зима, как известно, время ожиданий, неопределенности, зато весной все, что мы держали про себя, вырвалось наружу.
— Грай, я видел Коули, — признался я, и хвост Коули тут же шевельнулся, стоило мне упомянуть ее имя. — Я забыл выставить ее за дверь. Я читал, потом опустил глаза и увидел ее; и она поняла, что я ее вижу. Так что… с тех пор я больше не выгоняю ее из комнаты.
Грай довольно долго молчала, потом спросила задумчиво:
— Значит, ты думаешь, это безопасно?
— Я не знаю. Ничего я не думаю!
Она снова помолчала, и я сказал:
— Я думаю, что когда я… когда мой дар стал развиваться неправильно и я не мог им управлять… Но я же пытался! Пытался — и не мог! Я злился, мне было стыдно, а отец все заставлял меня пробовать свою силу, но все равно ничего не получалось, и я злился все больше и все больше стыдился, пока это все не прорвалось наружу в виде «дикого дара». Так что, если я больше не стану и пробовать воспользоваться своим даром, возможно… все тогда будет в порядке.
И Грай спросила:
— Но когда ты убил ту гадюку… ты ведь сделал это случайно, да? Ты ведь тогда не призывал свой дар?
— Да нет, призывал. Он ведь никак не проявлялся, и я даже стал думать, что у меня его вообще нет. Но неужели все-таки именно я убил ту гадюку? Понимаешь, Грай, я столько раз думал об этом! Наверное, тысячу! Ну да, я применил тогда свой дар, но ведь и Аллок тоже это сделал, и мой отец тоже — и все трое почти одновременно. И Аллок тогда решил, что это я, потому что я первым увидел змею. А мой отец…
— Ему хотелось, чтобы это был ты?
— Да, наверное.
И, помолчав, я прибавил:
— Вернее, ему хотелось, чтобы я так думал. Он хотел придать мне уверенности. Впрочем, не знаю. Но я сразу сказал ему тогда, что ничего не почувствовал, и все пытался заставить его объяснить, на что это похоже, когда он пользуется своей силой, но он так и не сумел этого сделать. Но ты же знаешь, как это бывает! Не можешь не знать! Ты же чувствуешь, как эта сила проходит сквозь тебя. У меня так бывает, когда я чувствую, что могу сочинить стихотворение. Но когда я делаю так, как меня учил отец, когда я по всем правилам пробую воспользоваться своим даром, ничего не происходит, ничего!
И я никогда ничего даже не чувствую!
— Ты ничего не почувствовал даже там, над Рябиновым ручьем?
Я колебался.
— Не знаю, — сказал я неуверенно. — Я был тогда страшно зол — на себя, на отца. И все произошло как-то странно. Я словно попал в бурю. Я все пытался ударить, и по-прежнему ничего не происходило, но потом вдруг налетел этот ветер, и, когда я открыл глаза, рука моя все еще указывала туда, где весь склон был изуродован, сожжен дотла, я вдруг решил, что это мой отец стоит передо мной, опаленный страшным пламенем… Но это оказалась та рябинка… А отец все это время стоял у меня за спиной.
— А как было с собакой? — через некоторое время шепотом спросила Грай. — С Хамнедой.
— Я сидел на Бранти, и он заартачился, встал на дыбы, стал лягаться, потому что Хамнеда вдруг откуда-то выскочил и с лаем бросился на него. Я помню только, что пытался удержать Бранти и сам на нем удержаться. Если я и посмотрел на Хамнеду, то случайно, я даже не заметил этого: мне было не до него. А отец верхом на Грейлаге был в это время у меня за спиной…
И я вдруг умолк.
И поднес руку к глазам, словно в ужасе желая прикрыть их, хотя они и так были закрыты повязкой.
— Значит, это мог быть… — начала Грай и тоже осеклась.
— Да, это мог быть он. Мой отец. Каждый раз…
— Но…
— Я это знал! Я все время это чувствовал! Но не осмеливался даже думать об этом. Он вынудил меня… поверить, что это сделал я. Что у меня есть этот проклятый дар! Что это я убил гадюку и несчастного Хамнеду, что я способен создать хаос. И мне пришлось верить в это, чтобы и другие тоже в это поверили. Чтобы все нас боялись и держались подальше от границ Каспроманта! Разве не в этом смысл нашего дара? Разве он не для этого существует? Разве брантору он дан не для того, чтобы защищать своих людей?
— Оррек, — тихо сказала Грай, и я умолк. А она через некоторое время спросила шепотом: — Ну а Канок верит во все это?
— Не знаю.
— Он верит, что у тебя есть этот дар? Что этот дар действительно «дикий»? Ведь если…
И тут я не выдержал:
— Верит ли он? Знает ли он, что сам сделал все это, сам воспользовался своим даром, своей разрушительной силой, потому что у меня дара Каспро нет и никогда не было? Я ведь никого и ничего не могу уничтожить! Единственное, на что я действительно годен, — это служить пугалом для других. Огородным пугалом! «Эй, держитесь от Каспроманта подальше! Держитесь подальше от Слепого Оррека! Не то он как снимет с глаз повязку да как уничтожит все вокруг!..» Но только ничего я не уничтожу. Нет, Грай, не уничтожу. Я могу смотреть на что угодно. Я ничему не могу принести вреда. Знаешь, я ведь видел свою мать! Перед самой ее смертью. Я во все глаза смотрел на нее, и ничего страшного не случилось. И эти книги… И Коули… — Но продолжать я был не в силах: слезы, так и не выплаканные за эти черные годы, взяли надо мной верх, и я, уронив голову на руки, горько заплакал.
Коули тут же прижалась к моим ногам, точно желая меня утешить, а Грай ласково обняла меня за плечи. И я выплакал все, что так долго мучило меня.
В тот день мы больше не говорили. Я был измучен этим разговором и своими слезами. Грай нежно попрощалась со мной, легонько поцеловав меня в макушку, и я попросил Коули отвести меня в спальню. Лишь оказавшись там, я понял, что повязка у меня на глазах мокра насквозь и горяча от слез, и сорвал ее. Золотистый свет апрельского дня заливал комнату; я не видел весеннего солнца целых три года и тупо смотрел на золотистые лучи, на пляшущие в них пылинки. Потом лег на кровать и закрыл глаза, вновь провалившись в темноту.
На следующий день в полдень Грай снова приехала к нам. Я с завязанными глазами стоял на крыльце, а Коули бегала по двору, когда раздался легкий стук копыт Звезды.
Мы с Грай сразу пошли за дом и через сад и огород вышли в поле. Там, подальше от дома, мы уселись на поваленное дерево, давно ждавшее, когда дровосек его распилит, и Грай сразу спросила:
— Оррек, неужели ты думаешь… что этого дара у тебя нет?
— Я это знаю.
— Тогда я хочу попросить тебя вот о чем: посмотри на меня, пожалуйста.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы справиться с собой. Но я все же поднял руки и развязал концы повязки. Потом посмотрел на свои руки. Яркий свет слепил меня, голова немного кружилась, и перед глазами мелькали светлые и темные тени. Все вокруг казалось мне очень ярким, подвижным, сверкающим. Я поднял глаза и посмотрел на Грай.
Она оказалась довольно высокой, с тонким продолговатым лицом; у нее был довольно крупный, но красиво очерченный рот и темные глаза с очень чистыми белками под дугами черных бровей. Блестящие черные волосы тяжелой волной падали ей на спину. Я протянул к ней руки, и она ласково их сжала. А я, прильнув лицом к ее рукам, прошептал:
— Ты прекрасна!
Она наклонилась, поцеловала меня в волосы и снова села очень прямо, серьезная, строгая и нежная.
— Оррек, — сказала она, — что же нам делать?
— Еще год я буду просто смотреть на тебя, — ответил я, — а потом я намерен на тебе жениться!
Этого она не ожидала; чуть запрокинув назад голову, она рассмеялась и сказала:
— Ну хорошо! Хорошо! А сейчас?
— А что сейчас?
— Как нам быть сейчас? Если я уже сейчас не хочу использовать свой дар, а ты…
— Вообще не имею никакого дара!
— Но тогда кто же мы теперь такие?
На этот вопрос я не мог ответить столь же легко. Я задумался и наконец промямлил:
— Я должен поговорить с отцом.
— Погоди немного. Мой отец сегодня приехал к вам, чтобы с ним повидаться. Мать вчера вернулась с гор и говорит, что Огге Драм заключил перемирие со старшим сыном и теперь ссорится с младшим. Ходят слухи, что Огге задумал налет — возможно, на Роддмант или на Каспромант: он хочет вернуть тех белых коров, которых, как он утверждает, Канок украл у него три года назад. Значит, либо наше стадо, либо ваше в опасности. Мы с отцом по дороге сюда встретили Аллока. Все ваши люди сейчас собрались на северных пастбищах — решают, как быть.
— И какую же роль отвели мне?
— Не знаю.
— Что хорошего в вороньем пугале, которого и вороны-то не боятся?
Грай не ответила. Должен сказать, что даже эти новости, как бы они ни были плохи, не сумели омрачить мне душу. Во всяком случае, пока я мог видеть Грай, видеть солнечный свет на редких цветах, распустившихся на старых яблонях с потрескавшимися стволами, видеть далекие бурые склоны гор.
— Я должен поговорить с ним, — повторил я. — А пока, может быть, мы просто погуляем?
Мы дружно встали. Коули тоже встала и стояла, чуть склонив голову набок и озабоченно на меня глядя, точно спрашивая: «А я как? Я участвую в ваших планах?»
— Ты пойдешь с нами, Коули, — сказал я ей, отстегивая поводок. И мы пошли знакомой тропой вдоль небольшого, но шумливого ручья, и каждый шаг приносил мне радость и удовлетворение.
В тот день Грай уехала пораньше, чтобы добраться домой до темноты. Канок вернулся уже затемно. Раньше, если ему случалось задержаться на дальних пастбищах, он оставался ночевать у кого-то из фермеров, где ему всегда были рады, изо всех сил старались его угостить повкуснее и непременно обсудить с ним всякие хозяйственные дела. Когда-то, до того как глаза мои оказались скрыты повязкой, я часто ночевал вместе с ним у фермеров. Но в последние годы он всегда уезжал один и как можно раньше, с рассветом, а возвращался порой за полночь, работая не покладая рук и прямо-таки изнуряя себя работой. Я понимал, что отец страшно устал, да и новости насчет Огге Драма настроение ему вряд ли улучшили, но при теперешних обстоятельствах мне отчего-то жалеть его совсем не хотелось.
Войдя в дом, отец поднялся наверх, и я даже не сразу заметил его приход, потому что сидел в своей комнате и читал. Я растопил камин, так как вечер оказался холодным, зажег от огня в камине свечу, украденную на кухне, и храбро раскрыл «Превращения» Дениоса — книгу, которую нам с Грай подарил Эммон.
Поняв, что дом затих, а женщины наконец-то убрались из кухни, я завязал глаза и попросил Коули отвести меня в материну комнату.
Что думала бедная собака, видя меня то слепым, то зрячим, я не знаю, но, будучи собакой, она все же предпочитала действовать, а не задавать вопросы.
Я постучался и, не получив ответа, стянул с глаз повязку и заглянул внутрь. Масляный светильник на каминной полке давал совсем мало света и немного коптил. Камин был темен, и от него пахло чем-то кислым, — видимо, его не разжигали давным-давно. В комнате было холодно, и выглядела она заброшенной и неуютной. Канок лежал на кровати и крепко спал. Лежал он на спине, одетый, явно рухнув на кровать от усталости и с тех пор ни разу не пошевелившись. Впрочем, он успел все же укрыться — старой коричневой шалью моей матери. И пальцы его даже во сне крепко сжимали бахрому. Я ощутил такой же болезненный укол в сердце, как и в прошлый раз, когда нашел эту шаль на спинке кровати. И все-таки сейчас я не мог позволить себе жалеть отца. Мне нужно было свести с ним счеты, и я боялся, что мне не хватит для этого мужества.
— Отец! — окликнул я его! — Канок!
Он приподнялся, опираясь на локоть, прикрыл глаза ладонью от света и мутным взглядом уперся в меня.
— Оррек?
Я подошел ближе: пусть удостоверится, что это я.
Он никак не мог проснуться и довольно долго моргал и тер глаза; он даже губу прикусил, чтобы очнуться ото сна. Потом снова изумленно посмотрел на меня и спросил:
— А где твоя повязка?
— Я не причиню тебе зла, отец.
— А я никогда и не думал, что ты можешь причинить мне зло, — сказал он все еще удивленно, но вполне уверенно.
— Вот как? Значит, ты никогда по-настоящему не боялся моего «дикого дара»?
Отец сел, спустил ноги с кровати, покачал головой, взъерошил волосы и снова посмотрел на меня.
— В чем дело, Оррек?
— А дело в том, отец, что этого вашего «дикого дара» у меня никогда и не было! Ведь не было, правда? У меня вообще никакого такого дара нет. И змею я никогда не убивал, и собаку тоже. Это все ты!
— Что ты такое говоришь, Оррек?
— Ты обманом заставил меня поверить в то, что и у меня тоже есть дар рода Каспро, просто я пока не умею им управлять. Так тебе проще было использовать меня. Да и стыдиться не пришлось, из-за того что я лишен этого дара, из-за того что я позорю твой род, из-за того что я сын каллюки!
Канок вскочил. Я думал, он меня ударит, но он даже ничего не сказал, лишь ошеломленно смотрел на меня.
— Да если бы у меня был этот дар, — продолжал я, — неужели я бы его сейчас не применил? Неужели не показал бы тебе, какие потрясающие вещи могу делать с его помощью? Как замечательно могу убить, уничтожить все что угодно? Но у меня этого дара нет. Я не унаследовал его от тебя. Ты дал мне только эти три года слепоты!
— Сын каллюки? — словно не веря собственным ушам, повторил он шепотом.
— Неужели ты думаешь, я ее не любил? Но ты не позволял мне ее видеть! Весь год! И только когда она уже умирала, один лишь раз… А все потому, что тебе нужно было поддерживать созданную тобой ложь!
— Я никогда не лгал тебе, — сказал он. — Я думал… — И он умолк. Он все еще был слишком потрясен моими словами, чтобы как следует рассердиться.
— Да, и еще Рябиновый ручей! Неужели ты веришь, что это сделал я?
— Да, — сказал он. — Я такой силой не обладаю.
— Обладаешь! Еще как обладаешь! И тебе это прекрасно известно! Ведь проложил же ты тогда целый ров через всю рощу вдоль границы. И это ты убил на месте тех людей в Дьюнете. Ты-то сполна обладаешь даром Каспро! А у меня его нет совсем. Ни капли. И все это время ты обманывал меня. Возможно, ты обманывал и самого себя, потому что тебе невыносима была мысль, что твой сын не такой, как ты. Не знаю. Не уверен. И вообще, мне все равно. Я знаю одно: больше ты мной пользоваться не будешь! Ни моим «диким даром», ни моей вынужденной слепотой. Все это моя беда. И я не позволю тебе и дальше морочить мне голову. Я не позволю твоему стыду пробуждать и во мне чувство собственной неполноценности. Найди себе другого сына, если я для тебя недостаточно хорош!
— Оррек, — сказал он, точно человек, сбитый с ног ураганом.
— Вот, возьми! — Я швырнул свою повязку на пол к его ногам, с грохотом захлопнул за собой дверь и бросился вниз по винтовой лестнице. Бедная Коули, совершенно ничего не понимая, понеслась за мной следом, пронзительно и предупреждающе лая, и нагнала меня уже в самом низу лестницы, тут же схватив за край килта зубами. Я погладил ее по спине, неторопливо перебирая пальцами мягкую шерсть и желая немного успокоить. Она действительно перепугалась, она даже зарычала разок. Потом мы вместе пошли в мою комнату, я закрыл дверь, а Коули легла на пороге. Не знаю уж, то ли она решила сторожить меня, то ли хотела помешать мне снова выйти из комнаты.
Я растопил потухший камин, зажег свечу и уселся за стол. Книга, написанная великим поэтом, по-прежнему лежала на столе — настоящее сокровище, сулящее радость и утешение. Но сейчас я не мог читать ее. Да, я вернул себе свои глаза, но что я теперь должен был с ними делать? Что в них было хорошего? И что хорошего было во мне самом? «Кто же мы теперь такие?» — спросила тогда Грай. Если я не сын своего отца, то кто же я тогда?
Глава 17
Рано утром я вышел из своей комнаты и спустился вниз, не надев на глаза повязку. Как я и думал, женщины тут же подняли крик и бросились наутек. Одна Рэб не убежала и упрекнула меня дрожащим голосом:
— Оррек, ты перепугал всех девушек на кухне!
— А нечего меня бояться! — с вызовом сказал я. — Ну чего вы боитесь? Я не могу причинить вам никакого вреда. Разве ты боишься Аллока? А ведь у него дар Каспро куда сильнее, чем у меня! Скажи всем: пусть ничего не опасаются и возвращаются назад.
Как раз в эту минуту по винтовой лестнице из башни спустился Канок. Он посмотрел на нас, и лицо у него было как каменное, когда он сказал:
— Оррек говорит, что его бояться не нужно? Да, Рэб, это правда. И вы все должны верить его слову, как верю ему я. — Канок говорил медленно, с трудом. — Просто вчера вечером Оррек не успел сказать вам об этом. Кстати, я уезжаю. Тернок считает, что его стаду белых коров грозит реальная опасность со стороны Драмманта. Я еду к нему. Мы вместе будем дежурить у границ его владений.
— Я тоже могу поехать, — тут же вызвался я.
Канок постоял в нерешительности, с тем же безучастным выражением на лице, потом сказал:
— Как хочешь.
Мы взяли с собой на кухне сыра и хлеба, рассовали все это по карманам, чтобы потом поесть на ходу, и отправились в путь. Оружия у меня никакого не было, кроме посоха Слепого Каддарда, довольно неудобной вещи при поездке верхом. Канок кинул мне свой длинный охотничий нож, и я отнес посох на прежнее место в вестибюле. Отец сел на Бранти, а я — на Грейлага; Чалая уже с марта мирно паслась за домом на лужайке, на ней больше уже никто не ездил. Аллок встретил нас во дворе; отец, оказывается, еще вчера попросил его далеко от дома не отлучаться, внимательно посматривать по сторонам и на всякий случай собрать всех мужчин, способных сражаться. Увидев меня без повязки, Аллок так и застыл на месте, но быстро отвел глаза и ничего не сказал.
Мы довольно резво скакали в сторону Роддманта — то есть «резво» настолько, насколько это мог себе позволить старый Грейлаг, — и оба хранили молчание.
Между тем я наслаждался возвращенной мне возможностью видеть весь этот яркий мир, чуть покачивавшийся в такт лошадиному аллюру, вытирать с глаз слезы, вызванные порывом ветра, скакать верхом и не бояться упасть. Скакать, возможно, навстречу опасности, как и подобает мужчине, чтобы помочь другу охранять границы его владений; скакать рядом с человеком, который славится своей храбростью и сидит в седле так, что невольно залюбуешься, — прямо и непринужденно. Канок на рыжем Бранти, и впрямь ставшем отличным жеребцом, выглядел сейчас действительно потрясающе. На меня он не взглянул ни разу и все время смотрел прямо перед собой.
Близ юго-западной границы Роддманта мы встретились с Терноком, который дежурил там с рассвета. Прошлой ночью сын одного из фермеров принес ему весть, переданную по цепочке, что в этом направлении по лесной тропе через Геремант движется целый отряд вооруженных всадников.
Тернок и его спутники удивленно на меня посмотрели, но, как и Аллок, никаких вопросов задавать не стали. Они, несомненно, считали или надеялись, что я научился сдерживать свою силу.
— Вот бы старый Эррой заметил, как люди Драма крадутся по его территории, да и в штопор их завернул! — неуклюже пошутил Тернок, но Канок на его шутку не откликнулся. Вялым он отнюдь не выглядел, просто был как бы далеко от нас, погруженный в собственные мысли, и говорил, только если нужно было подтвердить, что он слышал сказанное ему.
Пока нас было восемь человек, но ожидалось, что вскоре прибудут еще четверо наших фермеров. Согласно плану Тернока, мы должны были разъехаться на расстояние окрика друг от друга и быть настороже. В тех местах, где встреча с людьми Драма представлялась наиболее вероятной, на страже предстояло стоять Терноку и Каноку. И тем из нас, кто был вооружен только ножом или коротким копьем для охоты на кабана, следовало держаться к ним поближе, а двое мужчин с дальнобойными луками заняли крайние позиции.
Итак, мы рассредоточились, укрывшись в заросших травой болотистых низинках и за небольшими холмиками вдоль опушки редкого леска. Слева от меня был один из фермеров Тернока, справа — Канок. Мы должны были держать друг друга в пределах видимости, что мне оказалось легко, потому что мне отвели место на одном из холмов и у меня был прекрасный обзор в обе стороны, а также в сторону леса. Я мог также видеть и Тернока, занявшего позицию на небольшом холме рядом с Каноком. Было уже позднее утро, но день выдался пасмурным и холодным; то и дело принимался накрапывать дождь. Я слез с Грейлага, чтобы дать ему отдохнуть и попастись, и стоял, внимательно поглядывая по сторонам. Поглядывая! Пользуясь собственными глазами! Теперь я приносил пользу, я перестал быть каким-то нелепым кулем в повязке на глазах, который влекут за собой девочка и собака! Ну и что, если у меня нет никакого дара? Зато у меня есть отличное зрение, и гнев, и острый нож!
Час шел за часом. Я съел весь хлеб и весь сыр и жалел, что еды не было в два раза больше. Или даже в три раза.
Время тянулось томительно; я чувствовал себя сонным и глупым и уже не понимал, зачем стою вместе со своим старым конем на холме, ожидая неизвестно чего.
Близился вечер. Солнце уже склонилось к западным холмам. Я топтался на своем наблюдательном посту, старательно вспоминая начальные строфы «Превращений», а также те религиозные поэмы, которые записала для меня мать, и тщетно мечтал раздобыть где-нибудь хоть немного еды.
Я видел маленькую фигурку в черной куртке чуть левее подножия холма — это был мой сосед, фермер. Устав ждать, он присел на кочку, а его лошадь паслась рядом. Справа от меня, на опушке леса, виднелась еще одна фигурка в черной куртке — мой отец верхом на рыжем Бранти. Он то въезжал в лес, то снова выезжал на опушку. Наблюдая за отцом, я заметил, что к нему движутся еще какие-то людские фигурки; они ловко пробирались среди деревьев и все были пешими. Некоторое время я тупо следил за ними, а потом заорал что было сил:
— Канок! Прямо перед тобой! — и бросился к Грейлагу, так его перепугав, что старый конь даже шарахнулся от меня, и я не сразу смог схватить его за поводья. Я неловко вскочил в седло и погнал Грейлага вниз по склону холма, нещадно лупя его пятками в бока.
Канока я из виду, разумеется, тут же потерял, как и тех людей, что крались к нему. Я даже стал сомневаться: а действительно ли я их видел? Грейлаг поскользнулся, потом споткнулся — этот склон оказался для него слишком крут. Когда я наконец добрался до относительно ровной поверхности, там оказалось болото. Никого впереди видно не было. Я изо всех сил понукал Грейлага, направляя его к лесу, и наконец я выбрался на относительно сухой участок земли. И только тут я заметил, что Грейлаг хромает на левую переднюю ногу. Чтобы получше рассмотреть ее, я склонился с седла и вдруг увидел за деревьями человека с луком. Он натянул тетиву и целился куда-то вправо. Не тратя времени на раздумья, я погнал коня прямо на него, громко крича. Старый жеребец, совершенно не привыкший к сражениям, попытался свернуть, чтобы не налететь на человека, но не успел и сбил его с ног ударом заднего копыта. Потом он понесся прямиком в лес, и мы наткнулись на мертвеца. Этот человек лежал на земле и был вспорот вдоль так, как вспарывают ножом дыню. Потом нам попался еще один, похожий на бесформенную кучу мусора, — этот был в черной куртке. Грейлаг, прижимая от ужаса уши и прихрамывая, выбежал из леса на открытое пространство.
И тут впереди я увидел отца. Он разворачивал Бранти к лесу. Его вытянутая вперед левая рука была высоко поднята, лицо пылало огнем гнева и радости. Вдруг выражение его лица изменилось, и он некоторое время смотрел в мою сторону — не знаю уж, видел он меня или нет, — а потом как-то странно соскользнул с седла, клонясь вперед и вбок. Я решил, что это он нарочно, но не понял, зачем это ему понадобилось. Тем более что и Бранти стоял спокойно, как полагается. И тут я услышал, как кто-то кричит у меня за спиной и слева, все понял и бросился к упавшему отцу, мигом спешившись. Он лежал рядом с конем на болотной траве, и между лопаток у него торчала арбалетная стрела.
Тернок был уже там, и другие люди тоже, и все они, собравшись вокруг отца, что-то кричали. Потом кто-то бросился в лес, а Тернок опустился рядом со мной на колени, слегка приподнял голову отца и сказал:
— Ох, Канок, Канок, дружище, ты ведь этого не сделаешь, правда?
Я спросил:
— Огге мертв?
— Не знаю, — ответил Тернок и огляделся. — Эй, помогите-ка нам!
Но люди словно не слышали; они все еще что-то громко обсуждали, спорили, кричали…
— Это он, он! — крикнул один и бросился к нам, так размахивая руками, что Бранти заржал и попятился. — Валяется там, гадюка жирная! Совершенно выпотрошенный! И сынок его, этот гнусный коровий вор, рядом!
Я встал и подошел к Грейлагу. Тот стоял, приподняв больную переднюю ногу. Я подвел его к Бранти и, придерживая обоих коней, спросил у Тернока:
— Можем мы посадить его на рыжего?
Тернок поднял на меня глаза, вид у него был до крайности растерянный.
— Я хочу отвезти его домой, — пояснил я. — Скажи, можем мы посадить его на Бранти?
Вокруг снова закричали, на этот раз еще громче, кто-то подъезжал к нам, снова уезжал, и наконец принесли доски, служившие мостками через ручей. Канока уложили на эти доски и понесли вверх по склону холма в Роддмант. Они смогли положить его на спину, потому что арбалетная стрела пробила ему грудь насквозь и примерно на фут торчала теперь спереди. Я шел с ним рядом. Его лицо было спокойным и неподвижным, и мне не хотелось закрывать ему глаза.
Глава 18
Кладбище Каспроманта расположено на склоне холма к югу от Каменного Дома и смотрит в сторону бурых отрогов горы Эйрн. Мы похоронили Канока рядом с Меле. И прежде чем его опустили в могилу, я укрыл его коричневой шалью моей матери. На этот раз оплакиванием руководила не Парн, а Грай.
Свой налет на стадо Роддманта Огге Драм организовал так же плохо, как и ту охоту на кабана. Налетчики разделились на две группы; одна направилась прямиком в Геремант и вышла к нашим границам; но сделать они ничего не сумели, разве что один амбар подожгли, и их тут же отогнали наши фермеры. Огге и Харба тем временем оставались на лесной тропе, а с ними еще человек десять, из которых пятеро были лучниками. С помощью своего дара Канок уничтожил Огге, его сына Харбу и одного из лучников. Остальным удалось сбежать. Сын одного из фермеров Роддманта бросился за ними в погоню и слишком далеко забрался в лес, где они на него и напали. Он успел ранить одного своим коротким копьем для охоты на кабана, но их было значительно больше, они повалили его на землю и убили. В общем, налет закончился пятью смертями.
Через некоторое время из Драмманта пришла весть о том, что вдова Огге, Денно, и ее младший сын Себб хотят положить конец разгоревшейся междоусобице и просят в знак примирения прислать им белого теленка, когда-то обещанного им Каноком. Сами же они прислали в Каспромант с гонцом отличного чалого жеребчика. Я поехал в Драммант вместе с теми, что повели туда белого бычка.
Было странно увидеть этот дом, в котором я бывал, но которого никогда не видел. И встречаться с людьми, которых я знал только по голосам. Но ничто не всколыхнулось в моей душе при виде Драмманта и его обитателей. Я сделал там свое дело и с чистой совестью поспешил домой.
Чалого жеребчика я отдал Аллоку. Сам я теперь ездил на Бранти, ибо во время того слишком поспешного спуска с холма Грейлаг так сильно повредил себе ногу, что вылечить ее оказалось невозможно, и теперь он вместе с Чалой пасся рядом с домом на зеленой лужайке. Я почти каждый день ходил навещать их с мерой овса. Я видел, как им хорошо вместе; они часто стояли, тесно прижавшись друг к другу боками, как делают все лошадиные пары, чуть отвернув морды и помахивая хвостом, чтобы отогнать назойливых майских мух. Приятно было видеть их такими спокойными и довольными.
Коули всегда сопровождала меня — бежала следом, шел ли я пешком или же ехал верхом.
У нас в горах существует обычай: после смерти хозяина в течение полугода ничего не продавать, не делить собственность, не заключать браков и не затевать никаких особых дел или перемен. Все должно идти так, как шло раньше. А уж после этого можно снова браться за любое дело. По-моему, неплохой обычай. Вот только в том, что касается перемирия с Драммантом, мне пришлось действовать немедленно; но это того стоило.
Управлял поместьем теперь фактически Аллок, а я ему помогал, хотя он-то считал, что это он помогает мне, сыну покойного брантора. Но именно он всегда знал, что и как нужно сделать по хозяйству. Ведь я целых три года почти не участвовал в жизни Каспроманта, а до того и вовсе был ребенком. Аллок хорошо знал здешних людей, неплохо разбирался в земледелии и скотоводстве, отлично ладил с лошадьми. Я в этом отношении ему в подметки не годился.
К сожалению, Грай совсем перестала приезжать в Каспромант. Теперь уже я ездил в Роддмант раз пять-шесть в месяц. Мы частенько сидели все вместе с Терноком и Парн, если Парн, разумеется, была дома. Тернок всегда радовался моему приезду и крепко обнимал меня, называя сыном. Он всегда очень любил Канока, искренне восхищался им и горько оплакивал его гибель. И теперь он, как мне казалось, все пытался поставить на его место меня. Парн, как и прежде, осталась немногословной и словно напряженной. Поговорить наедине нам с Грай доводилось редко; она была со мной очень нежна, но стала какой-то уж больно застенчивой. Порой нам все же удавалось поехать покататься — она ездила на Звезде, а я на Бранти, — и мы с удовольствием позволяли нашим молодым лошадкам пробежаться по холмам.
Лето было чудесное, и урожай мы собрали хороший. К середине октября поля совсем опустели. Как-то раз я приехал в Роддмант и спросил у Грай, не хочет ли она прокатиться со мной. Она оседлала свою хорошенькую кобылу, которая так и приплясывала от нетерпения, и мы поехали вверх по ущелью, залитому солнечным светом.
У озерца под водопадом мы отпустили лошадей пастись — на берегу трава была еще сочной и зеленой, — а сами уселись на согретые солнцем камни у воды. Ветви черных ив колыхались на ветру, как всегда, дувшем от водопада. Но голоса нашей знакомой птички слышно не было.
— Вскоре мы, наверно, поженимся, Грай, — сказал я, — но я не знаю, что мы можем сделать еще…
— И я тоже, — призналась она.
— Ты хочешь остаться здесь?
— В Роддманте?
— Да. Или в Каспроманте.
Она помолчала и сказала:
— Но если мы не останемся, куда ж нам деваться?
— Знаешь, я вот что придумал: в Каспроманте ведь сейчас нет брантора, и Аллок, по-моему, как раз подходящий на эту роль человек. Он вполне способен управлять нашим поместьем. К тому же он мог бы присоединить его к Роддманту и оказаться как бы под защитой у твоего отца. Да и опыта бы у него заодно поднабрался. По-моему, это устроило бы их обоих. Между прочим, Аллок через месяц женится на Рэб. Пусть им достанется наш Каменный Дом. Возможно, у их сына еще проявится настоящий дар Каспро…
— А ты тогда мог бы жить в Роддманте, с нами вместе, — сказала Грай.
— Мог бы.
— А ты не хочешь?
— А ты хочешь, чтобы я тут жил?
Она молчала.
— Что мы будем тут делать? — спросил я.
— То же, что и сейчас, — ответила она, хотя и не сразу.
— А тебе не хотелось бы уехать отсюда?
Сказать это вслух оказалось куда труднее, чем я ожидал, хотя я столько раз думал об этом.
— Уехать? Куда же?
— В Нижние Земли.
Она молчала. И, глядя на подернутую рябью сверкающую воду, словно видела что-то, невидимое мне.
— Эммон хоть и стащил наши ложки, но, скорее всего, сказал правду. Наши с тобой таланты здесь совершенно бесполезны, а там, внизу, возможно…
— Наши таланты… — эхом откликнулась она.
— У каждого из нас есть свой дар, Грай.
Она глянула на меня. Потом кивнула, соглашаясь.
— А в городе Деррис-Уотер у меня, возможно, есть дедушка и бабушка, — сказал я.
Она уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Это ей в голову не приходило. Она даже засмеялась от неожиданности.
— Ну да, наверное! И ты войдешь к ним, этакий дикий горец, и скажешь: «Здравствуйте! Я — ваш внучок из породы горных колдунов!» Ох, Оррек! Неужели ты думаешь, что они тебе поверят?
— Сперва, возможно, и нет. Возможно, они сочтут мои слова странными, но у меня есть еще это. — И я вынул и показал ей тот маленький опал, что после смерти матери всегда носил на шее. — И я помню все, что мне рассказывала Меле… Знаешь, я бы очень хотел туда отправиться.
— Правда? — Глаза ее вдруг засияли. Она минутку подумала и сказала: — Как ты считаешь, мы сумеем прожить, если будем зарабатывать себе на жизнь так, как предлагал Эммон? Нам ведь придется самим себя содержать.
— Ну попробовать-то всегда можно.
— А что, если у нас не получится? Мы ведь будем там чужаками!
Жителей гор всегда больше всего страшит именно это: возможность оказаться среди чужих людей. С другой стороны, кого не страшит участь чужака?
— Ничего, мы проживем. Ты будешь учить их лошадей. Я буду рассказывать им стихи и сказки. Если мы им не понравимся или они не понравятся нам, мы всегда можем пойти дальше. Или, в крайнем случае, даже вернуться домой.
— Мы могли бы дойти даже до берега океана… — мечтательно сказала Грай, словно видя перед собой далекую даль сквозь просвеченные солнцем ветви ив. Потом она просвистела три знакомые ноты, и птичка сразу ответила ей.
Верхние Земли мы покинули в апреле. И здесь я, пожалуй, поставлю точку в нашей истории. Мы спустились вниз по южной дороге, вьющейся среди холмов. Нас было видно издали — молодого человека верхом на высоком рыжем жеребце и молодую женщину верхом на веселой гнедой кобыле. Перед ними бежала черная собака, а сзади мирно брела одна из самых красивых коров на свете. Ибо в качестве свадебного подарка от всего Каспроманта нам преподнесли Серебряную Корову. Мы, правда, сперва просто не представляли, что будем с ней делать, но Парн напомнила нам, что в случае чего эту корову можно продать в Дьюнете за очень приличную сумму, — там еще хорошо помнят белых коров Каспроманта.
— Может быть, они вспомнят и ту женщину, которую отдали тогда Каноку, — сказал я, и Грай откликнулась:
— И поймут, что ты и есть тот самый «дар дара».
Книга II. ГОЛОСА
Как во тьме ночи зимней
Глаза наши света жаждут,
Как в оковах смертного хлада
Наше сердце к теплу стремится,
Так, ослепнув, шевельнуться не смея,
К тебе наши души взывают:
Стань нам светом, огнем и жизнью,
Долгожданная наша свобода!
Гимн Оррека Каспро
Уже семнадцать лет, как мирный и радостный Ансул покорен варварами-иноземцами. Его дворцы разрушены, библиотеки уничтожены, алтари богов и духов, которых почитали жители, — в запустении. Но сердце города — Дом Оракула, где живет Султер Галва, искалеченный пытками, но так и не сломленный Лорд-Хранитель Ансула, — живо. Как жива и память о былом величии и любовь к свободе.
Уже семнадцать лет, как, покинув родину, путешествует по земле поэт и сказитель Оррек Каспро, который словом способен воспламенять души людей.
Они встретятся. И с этого момента начнется для Ансула и всех ныне в нем живущих новый отсчет времени…
Глава 1
Одно из самых первых отчетливых воспоминаний — как я пишу на стене знаки, позволяющие войти в тайную комнату.
Я такая маленькая, что мне приходится вставать на цыпочки и тянуться изо всех сил, чтобы изобразить эти знаки в нужных местах на стене коридора, покрытой толстым слоем серой штукатурки. Штукатурка потрескалась и местами осыпалась так, что проступает каменная кладка. В коридоре почти темно. Пахнет землей и древностью; там всегда царит тишина. Но я не боюсь; я там никогда ничего не боюсь. Я встаю на цыпочки, и мой указательный палец рисует в нужном месте давно знакомые знаки — рисует их в воздухе, почти не касаясь оштукатуренной стены. И в стене открывается дверь, и я вхожу.
Свет в этой комнате ясный и спокойный, он падает сверху, с потолка, из множества маленьких окошек с толстыми стеклами. Потолок здесь очень высокий, и сама комната очень большая, вытянутой формы; вдоль стен от пола до потолка книжные шкафы, а в них — книги. Это МОЯ комната, это я всегда знала. А Иста, Соста и Гудит — нет. Они не знают даже, что там вообще есть какая-то комната. Они никогда не заходят в коридоры, расположенные в самой дальней части нашего дома. Чтобы попасть в тайную комнату, мне нужно пройти мимо двери, ведущей в покои нашего Лорда-Хранителя, но он болен, хром и оттуда почти не выходит. Эта комната — мой самый главный секрет, только там я могу побыть одна, только там меня никто не будет бранить, никто не будет мне надоедать, и только там мне можно никого не бояться.
Я помню, что ходила туда не однажды, а много, много раз. Каким же огромным казался мне тогда стол для чтения! А какими высокими были книжные шкафы! Мне нравилось, забравшись под стол, строить себе домик со стенами из книг и делать вид, будто я медвежонок в берлоге. Там я чувствовала себя в полной безопасности. А книги я потом всегда ставила точно на те же полки и на те же места; это было очень важно. Играла я в наиболее светлой части комнаты, ближе к двери, хотя, собственно, никакой двери там и не было. А дальний конец комнаты я не любила: там было гораздо темнее и потолок был значительно ниже. Про себя я называла тот конец комнаты «темным» и старалась держаться от него подальше. Но даже этот страх перед темнотой, сгущавшейся в дальнем конце комнаты, был как бы частью моей великой тайны, моего царства одиночества. И это царство принадлежало мне одной, пока однажды — мне было тогда девять лет — я не поняла, что жестоко ошибалась.
В тот день Соста долго бранила меня из-за какой-то ерунды, в которой я, кстати, и виновата-то не была. Я в ответ сказала ей какую-то грубость, а она обозвала меня «кучерявым бараном», из-за чего я пришла в ярость. Ударить ее я не могла, потому что руки у нее были длиннее и она запросто могла держать меня на расстоянии, так что я укусила ее за руку. Тогда ее мать, Иста, ставшая и мне приемной матерью, выругала меня и отшлепала. Я окончательно разъярилась и убежала в заднюю часть дома, в тот темный коридор, открыла заветную дверь в стене и вошла в тайную комнату. Я решила оставаться там, пока Иста и Соста не начнут думать, будто я убежала из дома, а на улице меня схватили альды и продали в рабство. И вот теперь, когда я навсегда исчезла из их жизни, они, то есть Иста и Соста, пожалеют, что зря бранили меня и по-всякому обзывали, а потом еще и отлупили! В общем, я влетела в тайную комнату — разгоряченная, разгневанная, зареванная — и там, в странном ясном свете, лившемся с потолка, увидела нашего Лорда-Хранителя, который стоял у стола с книгой в руках.
Он тоже сперва немного растерялся — от неожиданности. Потом подошел ко мне, и лицо у него было сердитое; он даже руку поднял, словно собираясь меня ударить. Я застыла ни жива ни мертва. Я даже дышать не могла.
Но рука его так и повисла в воздухе.
— Мемер! Ты как сюда попала?
Он посмотрел туда, где обычно открывается дверь, но там, конечно, уже ничего не было, только стена.
А я по-прежнему не могла ни дышать, ни говорить.
— Неужели я оставил дверь открытой? — сказал он, сам себе не веря.
Я покачала головой.
И, собравшись с силами, прошептала:
— Я сама умею открывать.
Он был не просто удивлен, он был потрясен, но вскоре, похоже, успокоился и произнес только одно слово:
— Декало.
Я кивнула.
Декало Галва — так звали мою мать.
Я бы рассказала о ней, но я ее почти не помню. Точнее, помню, но не могу выразить это словами. Я помню, как она крепко обнимала меня, тискала и как от нее чудесно пахло в темноте, когда я уже лежала в кроватке; помню грубоватую красную ткань ее платья и ее голос, которого я никак не могу, не умею расслышать, но он все же где-то рядом, чуть-чуть за гранью слышимости. Мне раньше всегда казалось, что если затаиться и изо всех сил прислушиваться, то я смогу наконец ее услышать.
Она была настоящей Галвой — и по крови, и по тому месту, где родилась и жила всю жизнь. Она считалась домоправительницей Султера Галвы, Главного Хранителя Дорог Ансула, а это весьма почетная и ответственная должность. В Ансуле не было ни серфов, ни рабов; все мы считались его равноправными гражданами, свободными людьми, и у каждого был свой дом. А Декало, моя мать, отвечала за всех, кто работал и жил в Галваманде, и распоряжалась всем нашим хозяйством. Иста, наша стряпуха, впоследствии ставшая мне, можно сказать, второй матерью, любила рассказывать нам с Состой, каким огромным было тогда это хозяйство и о скольких людях приходилось заботиться Декало. Самой Исте каждый день выделялось два помощника для работы на кухне, а в случае визитов особо уважаемых гостей или во время торжественных обедов Декало присылала на кухню еще троих; только уборкой дома постоянно занимались четыре служанки, которым всегда мог помочь особый человек, мастер на все руки; а на конюшне царствовал конюх со своим помощником, и там было тогда восемь лошадей — на одних ездили верхом, а других запрягали в повозки. В доме также проживало немало всяких родственников и стариков. Например, над кухней жила мать самой Исты, а мать Лорда-Хранителя — в покоях наверху, которые так и назывались Хозяйскими. Сам же Султер Галва все время пребывал в разъездах по стране, посещая один город за другим и встречаясь с другими Хранителями Дорог. Ездил он то верхом, то в карете с сопровождением. В западном дворе тогда находились кузница и каретный сарай, и над сараем было устроено жилое помещение, где разместились кучер и форейтор, всегда готовые выехать с Лордом-Хранителем по какому-нибудь неотложному делу. «В добрые-то старые времена у нас в доме все были вечно заняты, работа так и кипела! — вздыхала Иста. — Ах, добрые старые времена!»
И я, пробегая по молчаливым коридорам мимо полуразрушенных комнат, всегда старалась представить себе эти старые добрые времена. Я подметала крыльцо и воображала, что готовлюсь к приему гостей, которые вскоре войдут по этому крыльцу в дом, и на них будут прекрасные одежды и чудесная обувь. Я часто поднималась в Хозяйские Покои и представляла себе, как эти комнаты выглядели, когда были чисто убранными, теплыми, с красивой мебелью. Там можно было бы встать на колени, устроившись на удобном приоконном сиденье, и смотреть в чистое окошко с тесным переплетом на городские крыши и далекую гору, высившуюся над этими крышами.
Название моего города, столицы одноименного государства, занимающего почти все восточное побережье пролива, — Ансул, что означает «глядя на Сул». Сул — это высокая гора, самая последняя и самая высокая из пяти главных вершин горной страны Манвы, и находится она по ту сторону пролива. Из приморской части города и из всех обращенных на запад городских окон видна белоснежная вершина Сул, точно плывущая над водой и вечно окутанная облаками, которые парят в вышине, подобно снам или мечтам.
Я знала, что когда-то наш город называли Ансул Мудрый или Ансул Прекрасный из-за его университета и великолепной библиотеки, из-за его дивных башен и прелестных внутренних двориков, украшенных ожерельями аркад, из-за его каналов и многочисленных горбатых мостиков над ними, из-за тысяч маленьких уличных храмов, сделанных из мрамора. Однако Ансул моего детства — это, увы, город руин, страха и голода.
Государство Ансул было протекторатом могущественного Сундрамана, который вел постоянные приграничные войны с Лоаманом и не мог выделить особое войско исключительно для нашей защиты. Хотя, по правде говоря, Ансул, богатый и товарами, и пахотными землями, в течение долгого времени никаких войн ни с кем и не вел. К тому же наш торговый флот был достаточно многочисленным и хорошо вооруженным, чтобы противостоять нападениям пиратов на южное побережье Ансула, а с тех пор, как Сундраман навязал нам союз с ним — что случилось еще в незапамятные времена, — нам и на суше никто более не угрожал. Так что, когда армия альдов, народа, населявшего пустыни Асудара, вторглась на нашу территорию, война охватила холмы Ансула, как лесной пожар. Вскоре альды ворвались в столицу и смерчем пронеслись по улицам, убивая, грабя и насилуя. Моя мать, Декало, в один из тех дней возвращалась домой с рынка, и солдаты поймали ее и изнасиловали. Но горожане напали на этих солдат, и во время ожесточенной схватки матери удалось бежать, и затем она сумела добраться до Галваманда.
А жители Ансула продолжали мужественно сражаться с захватчиками, отбивая улицу за улицей, и в итоге изгнали их из города. Но альды не ушли, а встали лагерем под городскими стенами. Осада Ансула продолжалась целый год. В тот самый год я и появилась на свет. А потом из восточных пустынь пришла вторая армия альдов, еще более многочисленная, и город был взят штурмом.
Альды полностью подчинили его себе. И первым делом их жрецы привели солдат к нашему дому, который они называли «логовом дьявола». Солдаты
арестовали Лорда-Хранителя и увели с собой. А тех обитателей Галваманда, кто пытался оказывать им хоть какое-то сопротивление, они перебили. Заодно они убили и всех живших там стариков. Исте, правда, удалось сбежать, и она скрывалась у соседей вместе с матерью и дочкой, а мать Лорда-Хранителя убили и тело ее сбросили в канал. Молодых женщин забрали в рабство и отдали на потеху солдатне. А моей матери удалось спастись только потому, что она вместе со мной успела спрятаться в тайной комнате.
В той самой, где я сейчас и пишу эту историю.
Не знаю, как долго она там пряталась. Какую-то еду она, должно быть, сумела прихватить с собой, а вода там есть. Альды обыскали и разграбили весь дом. И сожгли все, что могло гореть. А потом солдаты под предводительством жрецов чуть ли не каждый день возвращались в Галваманд, все больше его разрушая, и все рыскали в поисках книг, а также рассчитывая еще чем-нибудь поживиться или, может, обнаружить следы «проклятых слуг дьявола». В итоге моей матери пришлось-таки выбраться ночью из тайной комнаты и искать убежища в соседнем Камманде. Там она пряталась в подвале вместе с другими женщинами и как-то умудрялась поддерживать жизнь и в себе, и во мне, хотя совершенно непонятно, где и как она добывала еду. А потом налеты и грабежи постепенно прекратились, альды перестали крушить дома и почувствовали себя в городе хозяевами. И тогда мать вернулась в наш дом, в Галваманд.
К этому времени там были сожжены все деревянные пристройки, а мебель переломана или украдена; даже деревянные половицы были вывернуты и разбросаны как попало. Но основная часть дома, сложенная из камня и крытая черепицей, не особенно пострадала. Хотя Галваманд — самый большой дом в нашем городе, никто из альдов в нем жить не пожелал, считая, что это обитель демонов и злых духов. Понемногу Декало все снова привела в порядок — разумеется, по мере своих сил и возможностей. Вскоре вернулись из своего убежища Иста с Состой, да и наш старый конюх, горбатый Гудит, мастер на все руки, тоже, к счастью, уцелел. И все они дружно принялись за работу. Это был их дом, и они сохранили верность ему и друг другу. Ведь здесь обитали их боги и тени их предков, которые хранили их, осеняли своим благословением, дарили им сны и мечты.
Прошел целый год, прежде чем Лорда-Хранителя выпустили из тюрьмы. Точнее, выбросили прямо на улицу. Голым. Идти он не мог — во время пыток ему переломали ноги, — так что попытался ползти. Он полз по улице Галва от бывшего Дома Совета к Галваманду, когда его подобрали какие-то горожане и принесли домой. А уж дома, конечно, нашлось кому о нем позаботиться.
Жили они очень бедно. Все жители Ансула были тогда бедны, ведь альды их прямо-таки до последней нитки обобрали. Но как-то существовать они все-таки умудрялись, и благодаря заботам моей матери Лорд-Хранитель начал понемногу набираться сил. А на третью зиму после осады, холодную и голодную, случилось несчастье: Декало тяжело заболела лихорадкой, а лекарств, чтобы вылечить ее, не было. И она умерла.
Иста заявила, что теперь она будет мне вместо матери, и принялась обо мне заботиться. Рука у нее, правда, была тяжелая, да и нрав бешеный, но мать мою она очень любила, так что и ко мне старалась относиться как можно лучше. Я рано научилась помогать ей в работе по дому, и мне это даже нравилось. В те годы Лорд-Хранитель почти все время болел и очень страдал от болей в переломанных руках и ногах и от прочих последствий тех пыток, которые превратили его в калеку, и я очень гордилась, что могу ему прислуживать. Даже когда я была еще совсем маленькой, он предпочитал, чтобы прислуживала ему я, а не Соста, которая вообще терпеть не могла работать и вечно все роняла, теряла и разбрасывала.
Я знала, что осталась жива только благодаря тайной комнате, которая спасла нас с матерью, когда в наш дом пришли враги. Должно быть, именно мать и рассказала мне об этом, а потом и показала, как открыть потайную дверь; а может, я просто не раз видела, как она это делает, вот и запомнила. Во всяком случае, я словно видела перед собой те буквы, которые мне нужно было начертать в воздухе, но никак не могла разглядеть руку, что эти буквы для меня писала. И моя рука сама собой следовала заданному рисунку, и передо мной открывалась дверь, и я входила туда, где, как мне казалось, бывала теперь лишь я одна.
Пока в один прекрасный день не столкнулась там с Лордом-Хранителем. Мы долго стояли, не сводя друг с друга глаз, и рука его была поднята, словно для удара. Потом он опустил руку и спросил:
— Ты здесь и раньше бывала?
Я онемела от ужаса и в ответ лишь молча кивнула.
А он вовсе и не сердился — он и руку-то поднял, чтобы ударить незваного гостя, врага, а совсем не меня. Он никогда на меня не сердился и всегда бывал со мной удивительно терпелив, даже если ему было очень больно, а я этого не понимала и вела себя глупо, бестактно и нерасторопно. Я полностью ему доверяла и никогда его не боялась, и все же он вызывал в моей душе какой-то благоговейный трепет. А тут вдруг в нем, казалось, вспыхнул гнев. Глаза его сверкали огнем, как в те минуты, когда он возносил хвалу Сампе-Разрушителю. Глаза у него очень темные, и тот огонь, что вспыхивал в их глубине, был похож на раскаленную лаву, скрытую толщей темного камня. Он неотрывно смотрел на меня.
— Еще кто-нибудь знает, что ты сюда ходишь?
Я только головой мотнула.
— Ты кому-нибудь рассказывала об этой комнате?
Я снова мотнула головой.
— Ты знаешь, что никогда и никому не должна о ней рассказывать?
Я кивнула.
Но он явно ждал более внятного ответа.
Я понимала, что должна что-то сказать. И, набрав в грудь воздуха, торжественно произнесла:
— Я никогда и никому об этой комнате не скажу. И пусть свидетелями моей клятвы станут все боги нашего дома, и все боги нашего города, и душа моей матери, и души всех тех, кто некогда жил здесь, в Доме Оракула!
На лице Лорда-Хранителя отразилось легкое изумление. Немного помолчав, он шагнул ко мне, коснулся пальцами моих губ и сказал:
— Свидетельствую, что клятва эта была дана от чистого сердца. — Затем повернулся и положил руку на край маленького алтаря, зажатого книжными шкафами. Я, разумеется, последовала его примеру. А он легко взял меня за плечо, чуть повернул к себе и, внимательно глядя на меня сверху вниз, спросил: — Где же ты научилась такой клятве?
— Я ее сама сочинила, — сказала я. — Чтобы клясться в том, что всегда буду ненавидеть альдов, и обязательно выгоню их из Ансула, и всех их убью! Если смогу, конечно.
Так я ему все и рассказала. Выдала и свой самый-самый тайный обет, и свое самое сокровенное желание, о которых никогда и никому ни слова не говорила, и после этого разразилась слезами — не гневными, но чрезвычайно бурными, и так рыдала, что меня всю трясло; казалось, душа моя рвется на куски.
Лорд-Хранитель с огромным трудом опустился на колени — хотя колени у него после пыток почти не гнулись — и обнял меня. И я еще долго плакала у него на груди. А он молчал, ни словом меня не утешил, только крепко прижимал меня к себе, пока рыдания мои сами собой не прекратились.
И на меня сразу навалилась ужасная усталость, и мне стало так стыдно, что я отвернулась от него и, сев прямо на пол, уткнулась лицом в колени.
Я слышала, как он с трудом поднялся и, прихрамывая, прошел в темный конец комнаты. Потом вернулся и сунул мне в руку мокрый платок — видно, намочил его в том источнике, звук которого постоянно доносился откуда-то из темноты. Я приложила платок к глазам и несколько минут подержала так, а потом тщательно протерла влажной прохладной тканью все лицо.
— Прости меня, — сказала я. Мне было ужасно стыдно, что я невольно потревожила его, явившись сюда, да еще и устроила истерику. Я всем сердцем любила его и очень уважала, и мне, конечно же, хотелось проявить эту свою любовь, помогая и прислуживая ему, а не пугать его понапрасну своими слезами.
— Ничего, Мемер, нам всем есть о чем поплакать, — тихо сказал он. И я, взглянув на него, поняла: и он тоже плакал вместе со мною. По глазам и губам всегда ведь можно догадаться, что человек плакал. Меня просто потрясло то, что я вызвала у него слезы, и одновременно мне отчего-то стало легче и уже не так стыдно. А он, помолчав, прибавил: — Здесь для этого как раз самое подходящее место.
— А я тут почти никогда не плачу, — сказала я.
— А ты вообще почти никогда не плачешь, — сказал он.
И я была страшно горда, что он это заметил. А он спросил:
— Чем же ты обычно занимаешься в этой комнате?
Это был очень трудный вопрос, и я ответила не сразу.
— Я просто прихожу сюда, когда мне становится совсем уж невтерпеж, — сказала я. — А еще мне нравится рассматривать эти книги. Это ведь ничего, что я на них смотрю? Если я в них иногда заглядываю?
Он снова помолчал и совершенно серьезно ответил:
— Ничего. И что же ты в них находишь?
— Я ищу в них те штучки, которые мне нужно нарисовать в воздухе, чтобы дверь открылась.
Я еще не знала слова «буквы».
— Покажи мне, — попросил он.
Я могла бы изобразить эти знаки в воздухе пальцем, как делала, открывая дверь, но вместо этого я встала и вытащила с нижней полки шкафа ту большую книгу в темно-коричневом кожаном переплете, которую про себя именовала «Медведь». Я открыла ее на первой странице, где были написаны слова (по-моему, я действительно понимала, что это слова, а впрочем, может, и нет). И указала ему те значки, с помощью которых открывала дверь в тайную комнату.
— Вот этот и вот этот… — шептала я. Потом бережно положила книгу на стол — я всегда очень бережно обращалась с книгами, особенно когда раскрывала их и смотрела, что у них внутри. А он по-прежнему стоял рядом и смотрел, на какие значки я указываю пальцем, — все они были мне хорошо знакомы, хоть я и не знала ни их названий, ни того, как они звучат.
— Что это за знаки, Мемер?
— Это письменные знаки.
— Значит, эти письменные знаки и открывают дверь?
— Да, наверное. Только, чтобы дверь открылась, их нужно начертать в воздухе и в особом месте.
— А ты знаешь, что такое слова?
Я не совсем понимала, о чем он спрашивает. Вряд ли я тогда знала, что слова, которые пишут, точно такие же, как и те, которые произносят, что это всего лишь два разных способа сделать одно и то же. Я молча покачала головой.
— Ну вот что, например, делают с книгой? — спросил он.
Я опять промолчала, не зная, как ответить.
— Ее читают, — сказал он и вдруг улыбнулся, и лицо его сразу все словно осветилось. Мне до сих пор крайне редко доводилось видеть, как он улыбается.
От Исты я много раз слышала о том, каким счастливым, гостеприимным и великодушным был когда-то наш Лорд-Хранитель, как весело проводили время в большой столовой его гости, как он смеялся над детскими проделками маленькой Состы. Но я-то всегда помнила его таким, каким он стал теперь: человеком, которого подвергли страшным пыткам, которому железными брусьями раздробили колени, вывернули из суставов руки и переломали все пальцы. Человеком, у которого зверски убили всю семью, который мучительно страдает от нищеты, боли и стыда, сознавая, что его народ потерпел поражение и оказался порабощенным…
— Я не умею читать, — сказала я. И быстро прибавила, заметив, как меркнет его светлая улыбка: — А можно мне этому научиться?
Похоже, своим вопросом я сумела еще немного задержать эту улыбку. Потом он отвел глаза и заговорил со мной совсем не так, как говорят с ребенком:
— Это опасно, Мемер.
— Потому, что альды боятся книг? — спросила я.
Он снова посмотрел на меня:
— Да, боятся. И должны бояться.
— Но ведь в книгах нет никаких демонов или черной магии! — горячо возразила я. — Я-то знаю!
Он ответил не сразу. Сперва он долго смотрел мне в глаза — но не так, как сорокалетний человек обычно смотрит на ребенка девяти лет; казалось, его взгляд проникает мне в душу, оценивает ее и наши души соприкасаются. А потом сказал:
— Хорошо; если хочешь, я научу тебя читать.
Глава 2
Итак, Лорд-Хранитель начал учить меня читать, и училась я очень быстро, словно только этого и ждала и теперь была счастлива, как изголодавшийся человек, которому наконец-то дали пообедать.
Едва поняв, что такое буквы, я мгновенно их выучила и тут же начала складывать слова; не помню, чтобы при этом меня хоть раз что-то озадачило или заставило надолго задуматься, если не считать одного случая. Я сняла с полки большую книгу в красном переплете с золотым тиснением — эта книга всегда была одной из самых моих любимых еще с тех пор, когда я, не умея читать, называла ее «Красной сверкающей». Мне хотелось узнать, о чем же в ней говорится, попробовать ее содержание на вкус. Но из моей попытки ничего не вышло: я пыталась читать и не понимала ни слова. Я видела знакомые буквы, и они явно складывались в слова, только слова эти казались мне лишенными смысла. Ни одно из них ничего мне не говорило. Это была какая-то тарабарщина, ерунда, полная чушь! Я просто в ярость пришла, злясь и на эту книгу, и на себя; и тут в тайную комнату вошел Лорд-Хранитель.
— Да что с ней такое, с этой дурацкой книгой! — воскликнула я.
Он внимательно осмотрел книгу и сказал:
— Ничего. С ней все в порядке. Это очень красивая и хорошо написанная книга. — И он вслух прочел мне довольно большой кусок этой тарабарщины. Звучало действительно красиво; было такое ощущение, будто в этих незнакомых словах, безусловно, таится какой-то смысл. Я нахмурилась. — Это аританский язык, — пояснил он. — На этом языке в наших краях говорили когда-то очень давно. Это древний язык всего нашего мира. От аританского произошел и тот язык, на котором теперь говорят в Ансуле, и многие другие. Некоторые из его слов, кстати, не так уж и сильно изменились. Посмотри-ка вот сюда, например. Или вот сюда. Ну как? — И я вдруг поняла, что слова, на которые он указывал, отчасти мне знакомы.
— А я смогу выучить этот язык? — спросила я.
Он бросил на меня взгляд, который я часто у него замечала: неторопливый, полный терпения, оценивающий, одобряющий. И сказал:
— Сможешь.
И я начала изучать древний аританский язык почти одновременно с тем, как стала читать «Чамбан» на своем родном языке.
Мы, конечно, не могли выносить книги из тайной комнаты. Это грозило опасностью и нам самим, и всем в Галваманде. В дом, где обнаруживали книгу, тут же являлись жрецы в красных шапках и приводили с собой солдат. До самой книги они, разумеется, даже не дотрагивались, ибо все книги считались творениями дьявола; они заставляли рабов относить книги на берег канала или моря и, привязав к ним камни, чтоб не всплыли, бросать их в воду. Точно так же поступали и с людьми, у которых эту книгу обнаружили. Альды никогда не сжигали ни книг, ни людей, эти книги читавших. Дело в том, что своего главного бога, Аттха, альды называют еще «Испепеляющим богом», и для них смерть в огне — смерть возвышенная, они считают ее величайшей наградой. Так что книги и людей они попросту топили или отводили их в болотистые низины на берегу моря и загоняли лопатами или кольями в жидкую грязь, а потом забрасывали ею и затаптывали, пока люди не задыхались.
И все же люди часто приносили в Галваманд книги — ночью, тайком. Хотя о тайнике никто из них не знал; о нем не знали даже те, кто всю жизнь прожил в этом доме. Но далеко за пределами нашего города многим было известно, что книги нужно нести именно к Султеру Галва, Главному Хранителю Дорог Ансула, потому что держать их у себя опасно, а у него, в Доме Оракула, они как раз будут в целости и сохранности.
Никто из нас, живущих в Галваманде, никогда не входил к Лорду-Хранителю без стука, не дождавшись его ответа; впрочем, теперь, когда он уже не был так сильно болен, мы его попусту не беспокоили и просто уходили, если на стук в дверь он не откликался. Иста и Соста, например, никогда его не спрашивали, чем он занимался весь день, где и как провел время. Они, по-моему, были уверены, что его всегда можно найти либо в его покоях, либо где-нибудь в доме. Галваманд ведь такой огромный, что человеку там и потеряться ничего не стоит! А из дома Лорд-Хранитель никогда не выходил, ему и один квартал на своих искалеченных ногах пройти было бы трудно; люди сами приходили к нему, и очень даже часто. И он часами беседовал с ними в дальней галерее или, особенно летом, в одном из прохладных внутренних двориков. Люди приходили и уходили тихо, незаметно, в любое время дня и ночи, стараясь не привлекать к себе внимания и пользуясь в основном дверями в задней части дома, где никто не жил и где полуразрушенные комнаты давно уже стояли пустые.
Если люди приходили к нам днем, я подавала им воду или чай, если, конечно, чай у нас имелся, и порой мне разрешалось тоже остаться и послушать. Кое-кого из этих людей я знала с рождения: например, Дезака Сундраманского или обитателей четырех наших главных Домов. Особенно часто приходили представители семейства Кам из Камманда и Пер Актамо. Когда Ансул захватили альды, Перу было лет десять или двенадцать. Все обитатели Актаманда вступили с ними в бой, сражаясь не на жизнь, а на смерть, но дом все же был взят, и всех мужчин альды убили, а женщин забрали в рабство. Спастись сумел только Пер — он целых три дня прятался в сухом колодце во дворе. И теперь жил, как и мы, вместе с несколькими слугами в полуразрушенном доме. Ко мне Пер Актамо всегда относился очень хорошо, любил пошутить и вообще был значительно моложе тех, кто обычно приходил к Лорду-Хранителю. Я всегда радовалась, когда он приходил к нам. А самым неприятным из гостей был Дезак; он единственный из всех не скрывал, что ему неприятно мое присутствие, и открыто говорил, что нечего девчонке торчать там и подслушивать, о чем говорят взрослые люди.
Впрочем, у Лорда-Хранителя бывали и совершенно незнакомые мне люди, в основном купцы и всякие торговцы; кое у кого из них даже сохранилась вполне приличная одежда. Довольно часто, правда, в доме появлялись и те, кто долгое время провел в пути, — по их виду сразу можно было догадаться об этом; я знала, что это гости из других городов Ансула и кое-кого из них прислали, возможно, другие Хранители Дорог. А зимой, когда темнеть начинало рано, к нам порой прибегали и женщины, хотя женщинам ходить в одиночку по городу было особенно опасно. Чаще других приходила одна старуха с длинными седыми волосами; по-моему, она была чуточку не в своем уме, но наш Лорд-Хранитель здоровался с ней всегда очень почтительно и приветливо. Эта старуха часто приносила книги, но я и до сих пор не знаю, как ее звали. Надо сказать, что почти все, кто прибывал в столицу из других городов, приносили с собой книги, спрятав их под одеждой или в узелке с провизией. И когда Лорд-Хранитель узнал, что я умею открывать дверь в тайную комнату, то стал сразу передавать эти книги мне, чтобы я их туда относила.
Сам он посещал тайную комнату в основном по ночам, именно поэтому мы с ним там прежде никогда и не встречались. Я-то бывала там, в общем, нечасто, а уж ночью и вовсе ни разу. Спала я в передней части дома, в одной комнате с Истой и Состой, и не могла ночью просто встать и исчезнуть. Ну а днем у меня работы хватало; я ведь должна была и Исте с уборкой помочь, и всех наших домашних богов благословить, и вытереть пыль в алтарях, и продукты на рынке купить. Ходить на рынок мне нравилось больше всего, да и торговаться я умела отлично — куда лучше, чем Соста.
Кроме того, Иста вечно боялась отпускать Состу из дома; ей казалось, что если та будет ходить по городу одна, то непременно встретится на улице с альдами, которые ее, конечно же, схватят и изнасилуют. А за меня она не тревожилась; говорила, что на меня альды даже и не посмотрят. Этим она хотела сказать, что им, конечно же, придутся не по вкусу мое худое бледное лицо и кудрявые, как у барашка, волосы, почти такие же, как и у них самих. Она была уверена, что альдам куда больше нравятся ансульские девушки с округлыми лицами, смуглой кожей и гладкими черными волосами, как у Состы, и все повторяла: «Тебе здорово повезло, что ты так выглядишь!» К тому же я очень долго оставалась маленькой и щуплой, и это действительно оказалось очень кстати. По приказу ганда, главного начальника всех альдов, женщинам разрешалось ходить на рынок или просто по улицам города только в сопровождении мужчин. Если женщина шла одна, она считалась шлюхой, дьявольским отродьем и коварной искусительницей, и любой солдат запросто мог ее изнасиловать, сделать своей рабыней или даже убить. А вот старух альды женщинами явно не считали и на детей, в том числе и девочек, тоже особого внимания не обращали, хотя и не всегда. Так что по рынкам ходили и торговались с продавцами в основном старухи и дети, причем многие из этих детей были, как и я, «осадным отродьем», полукровками. И девочек, отправляя на рынок, обычно одевали как мальчишек.
Денег у нас было немного — только то, что в незапамятные времена припрятал один из наших предков, закопав в лесочке за домом. На Ансул тогда напала целая флотилия пиратских кораблей, но пиратов удалось прогнать. Однако деньги — «счастливую заначку», как называл их Лорд-Хранитель, — решили так и оставить на всякий случай. Вот на них мы теперь и существовали. Так что на рынках мне приходилось вовсю торговаться, а это, как известно, требует не только умения, но и времени. Много времени уходило также и на уход за алтарями домашних богов, и на принесение богам и теням предков ежедневных даров, и на уборку дома. Иста и сама вставала чуть свет, чтобы испечь хлеб. В общем, единственным временем суток, когда я могла спокойно ходить в тайную комнату, ни у кого не вызывая вопросов и ненужного любопытства, оказалась ночь, когда все спят. В итоге мне пришлось сказать Исте, что теперь я буду спать в комнате моей матери, находившейся рядом с нашей общей спальней, в том же коридоре, и намерена перетащить туда свою постель. Иста возражать не стала. Обе они, и она, и Соста, едва перемыв после ужина посуду, тут же заваливались спать и начинали дружно храпеть; вряд ли они заметили бы, что меня в моей комнате нет. Так что каждую ночь я потихоньку выходила оттуда, на цыпочках пробиралась по коридорам огромного дома, открывала потайную дверь и садилась за книги. А мой дорогой друг и учитель давал мне уроки аританского языка или помогал разбирать тот или иной текст.
Если ночью у него бывали гости, он, разумеется, прийти не мог, но я и сама уже научилась неплохо читать и вполне могла обходиться без его помощи. И очень часто засиживалась за чтением, увлекшись каким-нибудь рассказом или историческим повествованием, прекрасно зная, что будь здесь Лорд-Хранитель, он, конечно, давно бы уже отослал меня спать.
Когда я немного подросла и стала превращаться в девушку, я часто бывала какой-то сонной, но не ночью, а именно по утрам, когда у меня совершенно не было сил встать с постели. Я с трудом заставляла себя сделать это, и потом весь день тело у меня было точно свинцом налито, а голова — тупая, как у мокрицы. В итоге Лорд-Хранитель все-таки поговорил с Истой, хотя я умоляла его этого не делать, и попросил ее нанять в услужение жившую на улице бродяжку Боми, чтобы она вместо меня подметала полы и вытирала пыль. Я честно ему призналась:
— Да мне ничего не стоит полы подмести и пыль вытереть! Самое трудное — это уход за алтарями. Вот если бы для этого наняли специальную служанку, тогда у меня куда больше времени оставалось бы.
Это с моей стороны явно было ошибкой. Лорд-Хранитель медленно поднял на меня глаза и долго-долго смотрел — терпеливо, оценивающе, но весьма неодобрительно.
— Здесь живет тень твоей матери, здесь живут тени наших предков, — промолвил он. — Боги нашего дома — это их боги, боги твоей матери, и она каждый день благословляла их и приносила им дары. Да и я, будучи мужчиной, почитаю их не меньше. — (Это была чистая правда: он всегда вовремя совершал все обряды и ни разу ни одного не пропустил.) — А ты оказываешь им необходимые почести, оберегаешь их покой и получаешь их благословение — как истинная дочь древнего рода Галва. — Больше Лорд-Хранитель не прибавил ни слова, но мне и так все было ясно.
Стыд и гнев охватили мою душу. Я ведь уже решила про себя, что смогу наконец избавиться от надоевшего мне ежедневного ритуала, отнимавшего несколько часов, — по очереди вытереть пыль в каждом алтаре, принести свежие листья в дар богине Иене, воскурить благовония для Хранителей Очага, попросить о благословении душ и теней всех тех, кто некогда обитал в этом доме, непременно поблагодарить богиню Энну, а в ее дни еще и поставить в нишу пищу и воду, обязательно остановиться, когда проходишь в двери, и вслух воздать хвалу Тому, Кто Смотрит В Оба Конца Пути, и всегда помнить, в какой именно день нужно зажечь масляный светильник для Деори и прочих богов…
У нас в Ансуле богов, по-моему, больше, чем где бы то ни было еще. Их у нас действительно очень много, но все они нам очень дороги и близки, ведь это боги нашей земли и нашей жизни, они — наша плоть и кровь. К счастью, хвала богам, я с раннего детства понимала, что наш древний дом полон богов и духов, а я, как когда-то и моя мать, оказываю им все необходимые почести, и за это они благословляют меня, как благословляли и ее. И я знала, что мой собственный маленький божок-хранитель, что обитает в маленькой нише у двери, всегда ждет моего возвращения и хранит мой сон. Кстати сказать, в детстве я ужасно гордилась тем, что мне доверено служить нашим домашним богам, но я делала это уже так давно, что, наверное, немного подустала и от богов, и от ежедневного им служения. Уж больно много заботы и внимания они требовали!
Впрочем, для того чтобы вновь с радостью приняться за выполнение своих прежних обязанностей и делать это от души, мне потребовалось совсем немного: всего лишь вспомнить, что альды называют наших богов «злокозненными демонами» и боятся их.
Хорошо также, что Лорд-Хранитель лишний раз напомнил мне, что прежде именно моя мать заботилась о богах Галваманда и тенях наших предков, — в Ансуле это обычно является частью привычной женской работы по дому. Лорд-Хранитель доверил ей это, как доверил и знания о тайной комнате, именно потому, что они с ним одной крови. И я, обдумывая все это, впервые отчетливо осознала: а ведь мы с ним — последние оставшиеся в живых представители нашего древнего рода. Прочие немногочисленные обитатели Галваманда в счет не шли: им наша фамилия просто досталась, однако по рождению они отнюдь не были Галвами. И до сих пор я как-то совсем не задумывалась над тем, чем мы, истинные Галвы, от них отличаемся.
— А моя мама умела читать? — спросила я Лорда-Хранителя как-то ночью, после очередного урока аританского языка.
— Конечно, — сказал он и прибавил, как бы припоминая: — Ведь тогда это не было запрещено. — Он откинулся на спинку стула и потер усталые глаза. Во время пыток пальцы ему вывернули из суставов и переломали, и теперь они казались какими-то неровными, узловатыми и слушались плохо, но я привыкла к тому, как выглядят его руки, и меня это не пугало. Я уже тогда прекрасно понимала, что когда-то руки Лорда-Хранителя были очень красивы.
— А она тоже приходила сюда, чтобы почитать? — снова спросила я и огляделась, чувствуя себя счастливой уже оттого, что нахожусь здесь. Я уже успела привыкнуть к нашим ночным занятиям и полюбить их. Да и тайная комната нравилась мне больше всего именно ночью, когда от желтого конуса света лампы во все стороны разбегались мягкие теплые тени, а золотые буквы на корешках книг мерцали, как те звездочки, что порой заглядывали в маленькие потолочные окошки.
— Для чтения у нее времени было маловато, — сказал Лорд-Хранитель, — ведь на ней тут все хозяйство держалось. А это нелегкий труд — вести такой огромный дом, как Галваманд. К тому же у Главного Хранителя Дорог всегда немало расходов — ему приходится принимать у себя множество гостей, устраивать для них всякие развлечения и тому подобное. А бухгалтерией у нас занималась именно Декало, так что в руках ей держать доводилось чаще всего конторские книги. — Он посмотрел на меня, словно оглядываясь назад и мысленно сравнивая меня с матерью. — Я показал ей, как войти в тайную комнату, когда мы впервые услышали, что войско альдов идет по перевалам Исмы. Моя мать заставила меня сделать это; она сказала: «Декало — наша кровная родственница, а потому имеет полное право на доступ в тайник и наверняка сумеет сохранить его в случае какой-то беды. А кроме того, — заметила моя мать, — тайная комната может послужить ей убежищем». — И послужила.
И он процитировал строку из аританской поэмы «Башня», которую мы как раз читали и переводили: «Как тяжко милосердие богов!..»
И я ответила строками из той же поэмы: «Лишь жертвуя от всей души, познать сумеешь истинное счастье». Я знала: ему будет приятно, если я смогу ответить ему цитатой на цитату.
— Но может быть, пока она пряталась тут со мной, совсем еще маленькой, ей удалось все же кое-какие книги прочесть? — спросила я. Я не раз думала об этом и раньше. А научившись читать и читая что-нибудь такое, что способно было пробудить в моей душе радость и силы, я каждый раз пыталась представить себе, как могла бы прочесть эту же книгу моя мать и не читала ли она ее, когда пряталась здесь. Уж сам-то лорд Галва все эти книги наверняка прочитал, можно было не сомневаться.
— Вполне возможно, — кивнул он, но лицо его осталось печальным.
Потом он внимательно, даже испытующе посмотрел на меня, словно желая, но не решаясь задать некий вопрос, и наконец, как бы все же решившись, спросил:
— Скажи, Мемер, когда ты впервые сама сумела сюда войти… Это ведь случилось задолго до того, как ты научилась читать, верно? Объясни мне, что тогда значили для тебя все эти книги?
Я ответила не сразу.
— Ну, во-первых, некоторым из них я давала имена. — Я указала на большой том в кожаном переплете — «Анналы сорокового консульства государства Сундраман». — Вот эту книгу, например, я назвала «Медведь». А «Ростан» получил прозвище «Красная сверкающая книга». Он мне особенно нравился из-за золотого тиснения на обложке… А из некоторых книг я строила домики. Но потом всегда ставила их точно на те же места, где они и раньше стояли.
Он кивнул.
— Но были и такие… — я совсем не собиралась рассказывать об этом, но слова сами сорвались с моих губ, — которых я боялась.
— Боялась? Почему же?
Мне не хотелось отвечать, но я почему-то все же ответила:
— Потому что они разговаривали. Издавали всякие звуки.
И тут Лорд-Хранитель тоже издал какой-то странный звук — «ах!» — то ли вздохнул, то ли чему-то удивился.
— И какие же это книги здесь разговаривать умеют? — спросил он.
— Ну, одна из них стоит вон там, в дальнем конце комнаты… Она стонала!
Почему я стала рассказывать ему об этой книге? Я ведь никогда о ней даже не думала; мне не хотелось ни вспоминать, ни думать о ней, а уж кому-то о ней рассказывать и подавно.
Я очень любила бывать в тайной комнате; мне доставляло истинное счастье заниматься с Лордом-Хранителем, учиться читать, с головой погружаться в сокровищницу старинных преданий, поэзии, истории; я чувствовала, что в эти минуты все эти сокровища действительно принадлежат мне. Но я ни разу не рискнула дойти до самого конца этой длинной комнаты, где гладкий пол сменялся грубыми плитами из темно-серого камня, а потолок спускался совсем низко, где не было никаких окошек и где царил вечный полумрак, ибо свет лампы, стоявшей на столе, этой части помещения не достигал. Я знала, что где-то там, в глубине, есть какой-то родник или фонтан, потому что постоянно слышала его слабое журчание, но никогда не предпринимала попыток увидеть его, рассмотреть поближе. А порой мне начинало мерещиться, что там, на своем темном конце, комната эта становится шире или же, наоборот, сужается, превращаясь то ли в горную пещеру, то ли в туннель. И мимо тех шкафов, где стояла книга, издававшая стоны, я больше никогда не ходила…
— Ты можешь показать мне эту книгу? — услышала я вопрос Лорда-Хранителя.
Я ответила не сразу; словно оцепенев, я еще некоторое время молча посидела за столом, а потом сказала, пытаясь как-нибудь отвертеться от неизбежного посещения дальнего конца комнаты:
— Я же тогда совсем маленькой была! Вот и выдумывала всякие вещи. Я просто играла, притворялась. Вот выдумала же я, что «Анналы» — это медведь. Теперь-то я понимаю, какой была глупышкой…
— Не бойся, Мемер. Тебе нечего бояться, — сказал он ласково. — Некоторые действительно могли бы этого бояться. Но не ты.
Я опять промолчала. От страха меня подташнивало; по спине ползли ледяные мурашки. И одно лишь было мне совершенно ясно: впредь нужно держать рот на замке, иначе оттуда опять вывалится что-нибудь такое, о чем я совсем и не хочу говорить.
А Лорд-Хранитель снова сел за стол и задумался. Потом, видимо что-то решив про себя, сказал:
— Ладно, времени у нас впереди еще достаточно. Ну что, прочтем еще десять строчек или спать пойдешь?
— Еще десять строчек, — тут же встрепенулась я. И мы снова склонились над «Башней».
Даже сейчас мне трудно признаться в том своем страхе, трудно писать о нем. А тогда, в четырнадцать или пятнадцать лет, я изо всех сил старалась гнать от себя даже мысли о дальнем конце тайной комнаты, старалась держаться подальше от того места, где эта комната начинала превращаться в горную пещеру, окутанную вечной тьмой. Но разве не в этом тайнике я чувствовала себя защищенной? Мне очень хотелось, чтобы это было именно так, чтобы это было всего лишь мое убежище, и только. Я совершенно не понимала природы своего страха и не хотела этого понимать. Уж слишком все это было похоже на то, что альды называли дьявольщиной, черной магией и происками злокозненных демонов. Я знала, впрочем, что это всего лишь слова, полные ненависти слова невежественных людей, которыми они обозначают то, чего не понимают, — наших богов, наши книги, наш образ жизни. Я была уверена, что там нет никаких демонов и что наш Лорд-Хранитель никакой черной магией не владеет. Ведь они целый год терзали и мучили его, заставляя признаться в дьявольских знаниях и умениях, но все-таки отпустили, потому что ему не в чем было признаваться.
Так чего же в таком случае я боялась?
А того, что знала наверняка: та книга действительно застонала, стоило мне ее коснуться. Мне тогда и было-то всего лет шесть, но я хорошо это запомнила. Я так хотела стать смелой, что просто заставила себя пройти в темный конец комнаты. Шла я, не поднимая глаз, и видела перед собой только плитки пола. Потом они сменились грубым серым камнем, и я бочком, бочком, по-прежнему не поднимая глаз, приблизилась к одному из шкафов; я заметила только, что шкаф этот совсем низенький и встроен прямо в каменную стену. Я протянула руку, коснулась какой-то книги в потрепанном переплете из коричневой кожи, и эта книга тут же громко застонала.
Я мгновенно отдернула руку, оцепенев от ужаса, и все твердила про себя: «Нет, нет, я ничего не слышала!» Мне ведь нужно было быть храброй, раз я собралась убивать альдов, как только подрасту. А для этого просто необходимо стать очень, очень храброй.
Сделав еще шагов пять, я оказалась возле другого шкафа, остановилась, быстро подняла глаза и увидела на полке одну-единственную книгу, маленькую, в жемчужно-белом переплете. Сжав правую руку в кулак, я левой рукой взяла эту книгу с полки, уверяя себя, что ничего страшного тут нет, ведь обложка у нее такая хорошенькая. Но стоило мне раскрыть книгу, и я невольно ее выронила: со страниц капала кровь. Свежая кровь. Страницы были просто залиты кровью. Я хорошо знала, что такое кровь. А потому поспешно захлопнула книгу, снова сунула ее на полку и бегом бросилась к своей «медвежьей берлоге» под большим столом — спряталась.
Лорду-Хранителю я тогда ничего об этом не сказала. Мне не хотелось, чтобы это было правдой. И к тем книжным шкафам в дальнем темном конце комнаты я больше никогда не подходила.
И теперь мне стыдно за ту пятнадцатилетнюю девушку, которая оказалась менее храброй, чем шестилетний ребенок, хотя и в пятнадцать мне так же сильно хотелось быть смелой, мужественной и не бояться того, что внушает такой необъяснимый ужас. Страх порождает молчание, а молчание, в свою очередь, тоже порождает страх, и я позволила молчанию и страху править мною. Даже там, в тайной комнате, в том единственном месте, где я твердо знала, кто я такая, я не позволяла себе даже предположить, кем я могла бы стать.
Глава 3
И даже теперь, десять лет спустя, мне трудно писать о том, как я лгала себе. Впрочем, и о собственной храбрости порой писать не легче, чем о собственной трусости. Но я хочу, чтобы эта книга была по возможности честной, правдивой и с достоинством хранилась в архивах Дома Оракула, принося пользу другим. Чтобы она с честью служила памяти той, кому я ее посвящаю: моей матери. Я стараюсь излагать воспоминания о тех годах по порядку, чтобы наконец добраться до главного момента моей жизни и как следует рассказать о нем — я имею в виду свою первую встречу с Грай. Но тогда, в шестнадцать-семнадцать лет, в мыслях и сердце у меня царили хаос и неразбериха, а мой все еще невежественный разум затмевали страстный гнев и такая же страстная любовь.
Душевный покой и понимание я черпала только в своей любви к Лорду-Хранителю, в его добром ко мне отношении и в книгах. Книги — вот суть того, о чем я сейчас пишу. Книги навлекли на нас опасность, подвергли страшному риску, но именно они дали нам силы, чтобы все это вынести. Не зря альды так их боялись. Если существует бог книг, то это Сампа, Созидатель и Разрушитель.
Из всех тех книг, которые давал мне читать Лорд-Хранитель, я больше всего любила поэтический сборник «Превращения» и «Сказания о правителях Манвы». Я, конечно, знала, что «Сказания» — это легенды, вымысел, а не исторические хроники, однако именно они подарили мне те истины, в которых я так нуждалась, которые так хотела обрести. Эта книга рассказала мне об истинной храбрости, о вечной дружбе и верности, о том, как бороться с врагами, напавшими на твою родину, и как изгнать их. В тот год, когда мне исполнилось шестнадцать, я всю зиму и весну ходила в тайную комнату и с упоением читала о дружбе Адиры и Марры. Я мечтала иметь такого друга, как Адира. И чтобы меня вместе с ним изгнали в вечные снега на вершину горы Сул и обрекли на страдания, а потом мы бы сражались бок о бок, подобно горным орлам, обрушиваясь с высоты на бесчисленные орды дорвенов и заставляя их отступать к побережью, поспешно грузиться на корабли и уплывать в море… Все это я без конца читала и перечитывала. Старого правителя государства Сул я представляла себе похожим на моего дорогого старшего друга и повелителя — таким же темноволосым, хромым, с благородной и бесстрашной душой. В моем родном городе меня повсюду с первого дня жизни окружали страх и недоверие. То, что я каждый день видела на улицах, заставляло мое сердце трепетать от ужаса; я старалась казаться как можно меньше и незаметнее. И в те дни лишь моя любовь к героям Манвы и восхищение ими давали мне силы, наполняя душу отвагой.
В тот год мы все-таки взяли в дом уличную бродяжку Боми, и Лорд-Хранитель дал ей фамилию Галва, устроив старинный обряд посвящения у домашних алтарей. Боми поселилась внизу, в соседней с Состой комнате. Работала она старательно и все делала хорошо, так что даже Иста почти всегда оставалась ею довольна. И всем остальным в доме она тоже пришлась по нраву. Ей тогда было, я думаю, лет тринадцать, хотя она, конечно, понятия не имела ни когда родилась, ни кто была ее мать. Какое-то время Боми просто слонялась по улицам неподалеку от Галваманда и попрошайничала; потом наш старый Гудит стал понемногу приучать ее к себе, прикармливать, точно бродячую кошку, и в итоге добился того, что она стала ночевать у нас в сарае. Тогда он объяснил ей, что неплохо бы научиться отрабатывать свой хлеб и кров, и она стала помогать ему в расчистке конюшни, заваленной обгоревшими досками, поломанной мебелью и всяким мусором. У Гудита даже тени сомнений не возникало, что в один прекрасный день Лорд-Хранитель вновь обзаведется лошадьми. «Это же ясно как день, — уверял он нас. — Как же Главному Хранителю Дорог объезжать свои владения, если у него ни одной лошади нет? Или, может, ему пешком их обходить? Так пешком и добираться до Эссангана? На больных-то ногах? Да что ж он, коробейник какой-то жалкий, у которого и представления нет о том, что такое честь и достоинство? Нет уж, не выйдет! Лорду-Хранителю лошади необходимы, и точка. Это же ясно как день!»
Переубедить Гудита было совершенно невозможно, так что приходилось с ним соглашаться. Он был немного не в себе, старый, сгорбленный, но работал по-прежнему много, чуть ли не целыми днями, и, надо сказать, выполнял самую важную и нужную работу по хозяйству. У этого старика были гнилые зубы, зато сердце чистое. Когда Иста наняла Боми, чтобы она вместо меня убиралась в доме, Гудит просто в ярость пришел; но злился он не на Исту, а на Боми — за то, что девчонка ему «изменила», покинула его драгоценную конюшню. Он несколько месяцев отказывался ее простить и каждый раз осыпал проклятиями, призывая тени ее предков наказать «предательницу». Но Боми, честно говоря, это не слишком тревожило, поскольку она не знала никого из своих родственников и уж тем более предков и понятия не имела, где могут находиться их тени. Потом Гудит перестал ее проклинать, и она снова стала помогать ему после того, как управится с домашними делами. Они разбирали заваленную всяким хламом конюшню, чистили и восстанавливали стойла. У Боми, как и у Гудита, тоже было чистое сердце, и она была благодарна старику. Боми вечно приваживала в дом бродячих кошек, как когда-то и ее привадил Гудит, так что на конюшенном дворе котята в то лето просто кишели. Иста все повторяла, что Боми, дескать, ест за десятерых, но, по-моему, ела она не больше, чем любая девчонка, просто ей нужно было еще и штук двадцать кошек накормить. А конюшню Боми с Гудитом все-таки вычистили и привели в порядок, и впоследствии это оказалось весьма кстати, хотя тогда нам отнюдь не было «ясно как день», для чего они потратили столько усилий. И благодаря кошкам у нас в доме совсем пропали мыши.
Исте потребовалось немало времени, чтобы примириться с тем, что Лорд-Хранитель взял меня под свое особое покровительство и чему-то учит, а значит, я стану «образованной», — слово «образованная» Иста всегда произносила очень осторожно, словно оно было из другого языка. Впрочем, это слово и впрямь следовало произносить осторожно, ведь альды считали чтение «сознательно осуществляемым бесовским деянием». Из-за этой вполне реальной опасности, а также из-за того, что сама Иста давно
позабыла, что и ее в детстве учили читать и писать («Скребла, как курица лапой. Ну скажи на милость, какой во всем этом прок для стряпухи? Можешь ты мне с помощью пера и чернил рассказать, как готовить соус? Да или нет?»), ее все-таки продолжало тревожить то, что я «получаю образование». Но ей никогда бы даже в голову не пришло ставить мне это в упрек или подвергать сомнениям какие-то суждения или решения Лорда-Хранителя. Возможно, именно потому, что боги благословили наш дом верностью друг другу, верность и стала для меня дороже всего на свете.
Впрочем, на кухне я по-прежнему Исте помогала, выполняя там самую неприятную работу, и на рынок по-прежнему ходила — иногда вместе с Боми, если у нее выдавалось свободное время, но чаще одна. Я так и осталась невысокой и щуплой, так что, одетая в старые подрезанные или подшитые мужские обноски, больше походила на невзрачного мальчишку-подростка, чем на девушку. Но порой юнцы из многочисленных в те годы уличных банд все же замечали, кто я на самом деле, и начинали швыряться в меня камнями — увы, мои же соотечественники, уроженцы Ансула, вели себя в такие минуты как грязные альды! Я их ненавидела и всегда старалась обходить те места, где они собирались. И альдских стражников я тоже ненавидела; они с таким важным видом всегда расхаживали по рыночной площади якобы для «сохранности порядка», а на самом деле попросту запугивая местных жителей, чтобы в любую минуту иметь возможность взять с прилавка все, что им понравится, и не заплатить ни гроша. Я, правда, старалась не пригибаться и не ежиться от страха, когда проходила мимо них, а шла медленно, спокойно, словно не обращая на них внимания. А они торчали на подступах к рынку, такие важные, надутые, в голубых плащах и кожаных кирасах, вооруженные мечами и дубинками, и крайне редко опускали голову, чтобы разглядеть такую неприметную мелочь, как я.
Ну вот, теперь я уже вплотную подошла к описанию того чрезвычайно важного для меня утра.
Это случилось поздней весной, через четыре дня после моего семнадцатого дня рождения. Летом Соста выходила замуж, и Боми помогала ей шить свадебные наряды — зеленое платье и красивый головной убор с фатой для нее, котту и особую шапку для жениха. Уже несколько месяцев Иста и Соста говорили только об одном — свадьба, свадебные наряды, шитье приданого и т. п. Они даже Боми этим заразили. Мне, например, ни разу в жизни не хотелось научиться шить, я даже и не пыталась. Не хотелось мне и ни в кого влюбляться. И замуж мне тоже не хотелось. Когда-нибудь потом… Когда я буду готова познать такую любовь. А пока время еще для этого не пришло. Сперва мне надо было выяснить, кто же я все-таки такая. И выполнить свое давнее обещание. Да и любить мне было кого: моего дорогого друга и повелителя, у которого мне еще предстояло столь многому научиться. В общем, тем утром я предоставила Исте, Состе и Боми возможность всласть поболтать о предстоящей свадьбе и приданом, а сама в полном одиночестве отправилась на рынок.
Был чудесный ясный день. Я спустилась с крыльца и подошла к Фонтану Оракула. Широкий мелкий бассейн, выложенный зеленой плиткой, давно уже был сух и полон мусора, а труба, из которой раньше вверх била струя воды, уродливо торчала над обломками некогда стоявшей в центре скульптуры; у этой скульптуры альды сразу разбили лицо, а потом и всю ее изуродовали. Фонтан Оракула бездействовал с тех пор, как я себя помню, а вода перестала поступать в него, видимо, задолго до этого, но я, подойдя к нему, все же произнесла молитву Покровителю Всех Вод и Источников. И снова, уже в который раз, подумала: интересно, а почему этот фонтан называют Фонтаном Оракула? И почему наш дом, Галваманд, иногда называют Домом Оракула? И я решила обязательно спросить об этом у Лорда-Хранителя.
Оторвав взгляд от мертвого фонтана, я посмотрела вдаль, туда, где за городом, по ту сторону пролива, виднелась вершина горы Сул, похожая на громадную волну с белым гребнем, но только из камня, из вечных снегов и льдов; над вершиной Сул, как знамя, висел колеблемый южным ветром клок тумана. И в голову мне снова полезли мысли об Адире и Марре и об их измученном, потрепанном войске, которое заставили отступить далеко в горы и подняться к ледяным вершинам без пищи, без топлива; а когда они, поднявшись туда, дружно преклонили колена и воздали хвалу богу гор и духам ледников, к ним прилетела ворона, неся в клюве пучок зеленых листьев, который и уронила на землю прямо перед Адирой. И они поблагодарили эту ворону, угостив ее теми жалкими крохами хлеба, что у них еще оставались: «В железном клюве зелень — дар надежды». Я никогда не переставала думать об этих героях.
Я воздала хвалу горе Сул и морским божествам Севнам, чьи белые конские гривы виднелись вдали за мысом, и двинулась дальше, благословив по пути духа Домашнего Порога и коснувшись на перекрестке края одного из уличных алтарей, а потом повернула за угол и пошла налево, к Западной улице, что вела к Портовому рынку. Я считала, что оттуда хоть и тяжеловато тащить сумки с продуктами, зато там все можно купить дешевле, да и продукты там свежее, чем на Подгорном рынке. Я радовалась тому, что вырвалась из дома и вижу перед собой пляшущие на сине-зеленой воде каналов солнечные зайчики и четкие тени от подсвеченных солнцем резных решеток мостов.
Солнце и дующий с моря ветер всегда вселяли в мою душу радость. Я шла, и душа моя полнилась уверенностью, что боги мои со мной. Я ничего не боялась. И так спокойно прошла мимо воинов-альдов, стоявших на страже, словно это не люди, а деревянные столбы.
Портовый рынок раскинулся на широкой площади, выложенной мраморными плитами. С севера и востока площадь ограничивали красные сводчатые галереи таможни, а на южном ее конце высилась Адмиральская башня. Западным же своим краем площадь выходила на берег, к водам залива. Длинная пологая лестница из мрамора с округлыми резными перилами вела оттуда прямо к галечному пляжу и навесам, где стояли суда, принадлежавшие адмиралтейству. Тем утром здесь было удивительно красиво — яркое солнце, ветер, белый мрамор, синее море, разноцветные навесы и зонты рыночных торговцев, весело гудевшая пестрая толпа покупателей и продавцов. Я прошла мимо рыночного божества — круглого камня, символа Леро, одной из самых древних наших богинь. Ее имя означает «справедливость, согласие, благонамеренность». Я, не скрываясь, поклонилась священному камню и прошептала слова молитвы, даже не вспомнив при этом об альдах, стоявших на страже.
Никогда в жизни еще я так не поступала. Когда мне было лет десять, я видела, как стражники до полусмерти избили пожилого человека и бросили его, истекающего кровью, прямо на улице, у пьедестала, на котором когда-то возвышалась статуя одного из наших богов. Этот человек всего лишь осмелился поклониться поруганной святыне. И пока рядом были солдаты, никто так и не решился подойти к несчастному. Я тогда убежала в слезах и до сих пор не знаю, умер тот человек или нет. Нет, я ничего не забыла, я помнила все, но в тот день эти воспоминания никакого значения не имели. В тот день я не знала страха. Это был благословенный день. Святой день.
Я шла через площадь, поглядывая по сторонам. Мне очень нравилось рассматривать прилавки, товары и грубоватых торговцев, которые то вовсю старались умаслить покупателя, то принимались яростно с ним препираться. Я держала путь к рыбным рядам, однако, увидев, что прямо перед Адмиральской башней натягивают большой полотняный навес, невольно свернула туда и спросила у мальчишки, продававшего грязноватый жженый сахар, для чего этот навес.
— Там будет выступать великий сказитель из Верхних Земель, — ответил он. — Страшно знаменитый! Если хочешь, молодой господин, я могу и тебе местечко занять. — Эти рыночные мальчишки, по их собственному признанию, даже из дерьма денежку добыть умеют.
— Обойдусь и без твоей помощи, — насмешливо ответила я, но он тут же нашелся:
— Да тут скоро яблоку негде будет упасть! Он же вроде бы весь день выступать будет. Ужасно знаменитый! Дай мне монетку, и я тебе самое лучшее место займу, прямо с ним рядом, а?
Я рассмеялась ему в лицо и пошла дальше.
Однако соблазн рассмотреть все поближе оказался слишком велик. Я понимала, что веду себя глупо, что нечего мне слушать всяких там сказителей, что я только время зря теряю. Это альды прямо с ума сходят по всяким поэтам и сказителям. Говорят, у каждого богатого альда есть свой придворный сказитель и в армии, в каждой роте, у них тоже сказители имеются. Раньше, до прихода альдов, сказители в Ансул, по словам Лорда-Хранителя, заходили нечасто, но теперь, когда книги находились под запретом, их здесь стало гораздо больше. Да и многие горожане, мои соотечественники, тоже пытались рассказывать на перекрестках всякие истории, рассчитывая получить несколько медяков от проходивших мимо солдат. Я пару раз останавливалась послушать, но они в основном пересказывали одно и то же — отрывки из сочиненных альдами эпических сказаний, а мне эти сказания совсем не нравились — повествовалось там только о войнах, которые без конца вели альды, о том, какие они великие воины, и об их единственном боге-тиране. А мне на все это было наплевать.
Меня, собственно, больше всего заинтересовали слова мальчишки о том, что сказитель этот пришел из Верхних Земель. Значит, альдом он никак не мог быть. Верхние Земли находятся далеко-далеко на севере. Я раньше никогда о них даже не слышала, но в прошлом году прочитала «Великую историю» Эронта, где была приведена карта всех стран Западного побережья. Тот мальчишка просто повторил название «Верхние Земли», от кого-то его услышав, но, разумеется, понятия о них не имел и в лучшем случае знал только, что это «где-то очень-очень далеко». Даже сам Эронт признавался, что о Верхних Землях ему известно в основном понаслышке. И теперь я, как ни старалась, не смогла вспомнить почти ничего из того, что было изображено в верхней, северной части его карты; вспомнила только какую-то высокую гору со странным названием, но и названия этого тоже не сумела как следует припомнить, пробираясь вдоль гончарных рядов к торговкам рыбой.
Я сторговала здоровенную рыбину с красными пятнышками на спине, которой нам вполне должно было хватить на обед, даже и кошкам бы осталось, а из головы можно было бы назавтра еще и суп сварить. Потом я еще прошлась по рынку и купила свежего сыра и немного дешевых овощей, которые, по-моему, выглядели очень даже неплохо. А потом, вместо того чтобы пуститься в обратный путь, я все-таки снова потащилась к этому шатру, чтобы проверить, не началось ли там уже что-нибудь интересное. Вокруг шатра и впрямь царило настоящее столпотворение. Над морем людей маячили фигуры двух конных стражников-офицеров, пытавшихся следить за порядком. Их лошади раздраженно фыркали и мотали головами. Из своих пустынь альды не привели с собой в Ансул ни одной женщины, зато со своими прекрасными быстроногими конями не расставались никогда и ухаживали за ними так тщательно, что у нас в городе лошадей альдов в шутку называли «солдатскими женами».
Толпа то и дело расступалась, давая дорогу конным стражникам, и вдруг в центре ее возник какой-то странный водоворот, послышались крики, и одна из лошадей, взвившись на дыбы, пронзительно заржала и понеслась вперед, точно взыгравший жеребенок-стригунок. Люди, что стояли передо мной, шарахнулись в разные стороны. Лошадь неслась прямо на меня, а сзади напирала толпа, так что отступать мне было некуда. Я видела, что седока на лошади нет, и вдруг болтавшиеся поводья ударили меня по руке, словно их кто-то бросил. Я крепко ухватилась за них и резко дернула вниз; лошадь тут же остановилась и опустила голову к самому моему плечу, кося обезумевшим глазом. Огромная голова ее, казалось, заслонила от меня весь мир. Впрочем, стояла лошадь как вкопанная. Я перехватила повод повыше, до самой уздечки, но совершенно не знала, что делать дальше. Лошадь попыталась мотнуть головой и чуть не оторвала меня от земли, но я от страха так вцепилась в поводья, что она, громко фыркнув, вдруг успокоилась и даже сама подошла ко мне поближе, словно ища защиты.
Все вокруг кричали и визжали, а я думала только о том, как удержать их, чтобы они не напирали на перепуганную лошадь. «Тише, тише», — все повторяла я, как последняя дура, словно эта орущая толпа могла услышать мой тихий голос. Но, как ни странно, люди вдруг стали понемногу отступать, и вскоре вокруг нас с лошадью образовалось вполне приличное свободное пространство. И тут я увидела на белых мраморных плитах, залитых солнечным светом, лежащего альдского офицера; он, видно, сильно ударился головой о землю, когда его сбросила лошадь, и теперь почти ничего не соображал. А рядом с альдом стояли какая-то женщина и лев.
Да, женщина и лев. Они стояли бок о бок, и стоило им чуть двинуться с места, как свободное пространство вокруг них еще больше расширилось. Толпа притихла.
Потом за женщиной со львом мелькнула крыша какой-то повозки, они повернулись в ту сторону, и весь тротуар перед ними мгновенно, точно по мановению волшебной палочки, расчистился. Теперь и мне стала видна небольшая крытая повозка. Две лошади, запряженные в нее, стояли совершенно спокойно и на толпу даже не смотрели. Женщина открыла заднюю дверцу фургона, и лев, изящно взмахнув хвостом, послушно туда прыгнул. А она заперла дверцу на засов и тут же вернулась к лежавшему на земле альду. И снова толпа расступилась, хотя льва теперь при женщине не было.
А она опустилась возле офицера на колени. Он сел и с недоумением осмотрелся. Она что-то ему сказала, затем встала и подошла ко мне. Я по-прежнему стояла, держа лошадь под уздцы и не решаясь ее отпустить. Толпа зашумела, заволновалась, и лошадь испуганно шарахнулась, а я невольно выронила корзину с покупками. Рыба, сыр, овощи — все так и посыпалось на землю, еще больше перепугав лошадь. Вряд ли я сумела бы теперь сдержать ее, но, к счастью, рядом оказалась эта незнакомка. Она ласково положила руку на шею лошади и что-то тихонько ей сказала. И лошадь — клянусь! — кивнула в ответ, затем то ли фыркнула, то ли заржала еле слышно и встала спокойно.
Женщина протянула руку, и я передала ей поводья.
— Молодец! — сказала она мне. — У тебя отлично все получилось! — Она еще что-то сказала лошади, прямо в самое ухо, и легонько подула ей в ноздри. Лошадь вздохнула и опустила голову. А я тем временем поспешно подбирала с земли продукты, купленные на два дня, пока их не затоптали и не украли. Увидев, как я ползаю по тротуару, женщина ласково шлепнула лошадь по крупу и наклонилась, чтобы мне помочь. Мы вместе сложили в корзину овощи и ту большую рыбину, а кто-то из толпы подал мне откатившуюся в сторону головку сыра.
— Благодарю вас, добрые жители Ансула! — звонким голосом сказала женщина, но выговор у нее явно был чужеземный. — Этот мальчик безусловно заслуживает вознаграждения за свой поступок! — И она повернулась к офицеру, который сумел уже подняться на ноги и теперь, покачиваясь, стоял рядом с лошадью. — Этот парнишка поймал твою кобылу, капитан, — пояснила она ему. — Возможно, ее напугал мой лев, и я прошу за это прощения.
— Да-да, лев… — пробормотал офицер, все еще плохо соображая, и уставился на нее. Потом перевел взгляд на меня, порылся в кошельке, висевшем у него на поясе, и протянул мне… медную монетку.
Я как раз застегивала свою корзинку и на него вместе с его жалким медяком даже не взглянула.
— О, какая щедрость, какое великодушие! — насмешливо прошелестело в толпе, а кто-то весьма внятно, нараспев сказал: — Просто фонтан изобилия! — Офицер, вновь обретя былую уверенность, гневно глянул в ту сторону. Глаза его остановились на той женщине, хозяйке льва, что стояла прямо перед ним, держа его лошадь под уздцы.
— А ну убери от нее свои поганые ручищи! — рявкнул альд. — Ты… женщина… Так это был твой зверь — лев, кажется?..
Женщина швырнула ему поводья, слегка шлепнула кобылу по крупу и скользнула в толпу. И на этот раз толпа мгновенно сомкнулась вокруг нее. А через минуту я увидела, как качнулась крыша отъезжающей повозки.
Я поняла, что это было весьма мудрое решение — мгновенно стать незаметной, растворившись в толпе, — и тоже, последовав примеру незнакомки, быстренько ретировалась, нырнув в те ряды, где торговали поношенной одеждой, пока этот офицер тщетно пытался сесть на свою кобылу.
Торговка старьем, по прозвищу Высокая Шляпа, видела все представление, встав на табурет. Заметив меня, она слезла с табурета и спросила:
— Ты что ж, с лошадьми управляться умеешь?
— Нет, — ответила я. — А это был лев?
— Уж и не знаю, что это за зверь, да только он повсюду ходит за тем сказителем и его женой. Так люди говорят. Оставайся, сказитель-то скоро выступать будет. Я слыхала, мастер он рассказывать.
— Мне рыбу надо домой отнести.
— Да, рыба, конечно, ждать не станет. — Она в упор посмотрела на меня своими пронзительными недобрыми глазками и сказала: — Вот, возьми-ка, — и что-то сунула мне в руку. Я машинально сжала кулак, а когда разжала, то увидела на ладони медную монетку.
Хотя торговка уже повернулась ко мне спиной, я поблагодарила ее и положила монетку в углубление под священным камнем Леро — там люди всегда оставляют свои подношения, чтобы их потом могли найти бедняки. Мне было по-прежнему безразлично, увидят ли стражники, как я это делаю. Впрочем, вряд ли они стали бы на меня смотреть. Едва я успела выйти на Западную улицу, как услышала конский топот и постукиванье колес — это с Таможенной улицы на Западную сворачивала та самая повозка-фургон, запряженная двумя лошадьми. И на месте кучера сидела хозяйка льва.
— Тебя подвезти? — спросила она, останавливая лошадей.
Я колебалась. Надо было поблагодарить ее и отказаться. Сегодняшний день принес слишком много необычного, и я просто не знала, как себя вести. К тому же я всегда была немножко букой — не только с незнакомцами, но и со своими. Но видно, этот день и впрямь благословили боги, а как известно, отказаться от благословения богов — значит совершить злодеяние. Так что я поблагодарила женщину и вскарабкалась на сиденье с нею рядом.
Мне показалось, что оно расположено очень высоко.
— Куда ехать?
Я молча показала на тот конец Западной улицы.
Женщина вроде бы не сделала ни одного движения — не тронула вожжей, не щелкнула языком, как, я видела, делают кучеры, но лошади тут же тронулись с места. Та, что побольше, была прекрасного темно-рыжего цвета, почти такого же, как обложка «Ростана», а та, что поменьше, каурая, была в черных чулочках, с черной гривой и с белой звездочкой на лбу. Обе они показались мне гораздо крупнее, чем лошади альдов, да и вид у них был более миролюбивый. И они все время смешно шевелили ушами, точно к чему-то прислушиваясь. В общем, смотреть на них было одно удовольствие.
Мы немного проехали по улице, не говоря ни слова. Я впервые с интересом смотрела с такой высоты на каналы, мосты, фасады домов, на людей, что шли мимо, — наверное, примерно так их видели всадники, сидя в седле. И, глядя на них сверху вниз, я вдруг почувствовала себя более значительной, чем эти простые пешеходы.
— А тот лев… он где?.. Там, в фургоне? — спросила я наконец.
— Это львица, — сказала женщина.
— Из пустыни Асудар! — Когда она сказала «львица», я сразу вспомнила картинку из «Великой истории».
— Верно, — подтвердила она и быстро на меня глянула. — Именно поэтому та кобыла на площади так сильно испугалась. Она хорошо знает, что это за зверь.
— А ты сама не из альдов? — Я вдруг испугалась: вдруг она все-таки принадлежит к этому проклятому племени? Хотя вряд ли: она была смуглая, темноглазая, совсем не похожая на жителей пустыни Асудар.
— Я родом из Верхних Земель.
— С дальнего севера! — громко воскликнула я и так прикусила язык, что почувствовала вкус крови.
Женщина искоса глянула на меня, и я решила, что она сейчас обвинит меня в том, что я читаю книги. Однако на уме у нее было иное.
— А ведь ты не мальчик, — сказала она, помолчав. — Ох, какая же я дура!
— Не мальчик. Просто я так одеваюсь, потому что… — И я запнулась.
Она кивнула, словно говоря, что объяснений не требуется.
— Ну и где же ты научилась так здорово с лошадьми обращаться? — спросила она.
— Нигде. Я ни к одной из них никогда раньше даже не прикасалась.
Она только присвистнула. Свист получился нежный, тихий, как у маленькой певчей птички.
— Значит, это в тебе природой заложено. Или же тебе просто очень повезло!
У нее была такая приятная улыбка, что мне захотелось рассказать ей, что сегодня действительно удачный день и мне везет, потому что Леро и бог удачи, мы его называем еще Глухим Богом, меня благословили, но я боялась показаться чересчур болтливой.
— Ты знаешь, я надеялась, что ты сможешь указать мне какую-нибудь пристойную конюшню, где о наших лошадках позаботились бы как следует. Я ведь считала тебя мальчиком, думала, ты у конюха в помощниках служишь. Ты так ловко ту кобылу поймала и держалась так спокойно и уверенно, что я решила, будто ты давно с лошадями дело имеешь.
— Да ведь эта лошадь сама на меня наскочила!
— Она просто к тебе подошла, — поправила меня женщина.
Стук-стук — простучали копыта, и еще квартал остался позади.
— У нас есть конюшня, — сказала я вдруг.
Она рассмеялась и воскликнула:
— Ага! Я так и знала!
— Но сперва мне нужно спросить…
— Разумеется.
— Только там никаких лошадей нет. И корма тоже. Там ничего нет с тех пор, как… В общем, давно. Но там вполне чисто. И есть немного соломы. Для кошек. — Стоило мне открыть рот, и слова так и посыпались оттуда. Просто противно! Я даже зубы стиснула от злости на себя.
— Ты, право, очень добра. Но если это все же окажется неудобно, не расстраивайся. Мы найдем где устроиться. Вообще-то, здешний ганд предложил нам воспользоваться его конюшней, но мне бы не хотелось быть ему до такой степени обязанной. — И она быстро на меня посмотрела.
Она мне ужасно нравилась! Она понравилась мне с той минуты, когда я увидела ее стоящей рядом со львом. Мне нравилось, как она разговаривает и что она говорит, и все-все остальное в ней мне тоже очень нравилось.
Нельзя отказываться от благословения богов.
И я сказала:
— Меня зовут Мемер. Мемер Галва из Галваманда. Я — дочь Декало Галвы.
— А я — Грай Барре из Роддманта.
Представившись друг другу, мы обе вдруг смутились и дальше ехали уже молча.
— Вот наш дом, — сказала я.
И она тут же с восхищением откликнулась:
— Какой красивый!
Галваманд действительно вид имеет весьма внушительный; даже в те дни он поражал своим благородством — просторные дворы, красивые каменные арки над дверями и воротами, высокие светлые окна. Но к сожалению, значительная его часть была сожжена и разрушена, и меня весьма тронуло то, что человек, прибывший издалека, много путешествовавший и повидавший немало других зданий, понял его красоту.
— Это Дом Оракула, — сказала я. — Дом нашего Лорда-Хранителя.
При этих словах лошади вдруг встали как вкопанные.
Грай некоторое время непонимающе на меня смотрела. Потом пробормотала:
— Значит, Галва — Лорд-Хранитель Дорог?.. Эй, очнитесь! — крикнула она лошадям, и те послушно двинулись дальше. — Сегодня и впрямь день великих неожиданностей.
— Сегодня день Леро, — сказала я. Повозка стояла на улице у самых ворот, и я, соскользнув с сиденья, быстро коснулась священного камня на пороге и провела Грай во двор. Мы прошли мимо пустого бассейна с бездействующим Фонтаном Оракула посредине и двинулись вокруг дома к внутренним, украшенным аркой воротам конюшенного двора.
Из конюшни вышел Гудит и нахмурился, увидев нас.
— Ну-ка ответь, что я, клянусь духами твоих глупых предков, должен делать с такими конями? Где мне раздобыть для них овса? — закричал он на меня. И тут же принялся распрягать рыжего коня.
— Погоди, Гудит, — сказала я. — Сперва мне надо с Лордом-Хранителем поговорить.
— Да говори себе на здоровье! А пока ты будешь с ним говорить, я ведь могу лошадок напоить, так или нет? Ладно, хозяйка, — повернулся он к Грай, — оставляй своих коней и не беспокойся. Я о них позабочусь.
Грай стояла и смотрела, как старик распрягает лошадей и подводит их к поилке, как он открывает кран и корыто наполняется чистой водой. Смотрела она на все это с любопытством и восхищением.
— А откуда вы воду качаете? — спросила она у Гудита, и он принялся рассказывать ей о знаменитых родниках Галваманда.
Когда я проходила мимо фургона, он слегка качнулся. Там был лев. Интересно, подумала я, что скажет на это Гудит?
И побежала в дом.
Глава 4
Лорд-Хранитель сидел на веранде в задней части дома и беседовал с Дезаком. Дезак уроженцем Ансула не был; родился он в Сундрамане и служил в сундраманской армии. Книг он к нам в дом никогда не приносил и никогда о них не говорил. Держался он очень прямо, говорил резко, отрывисто, а улыбался очень редко. Мне почему-то казалось, что ему довелось испытать в жизни немало горя. Отношения у них с Лордом-Хранителем сложились весьма дружеские и очень уважительные. Разговаривали они всегда подолгу, но только наедине. Когда я влетела на галерею, оба посмотрели на меня сурово, тут же умолкли и молчали все время, пока я шла к тому большому солнечному пятну у последнего окна, где они сидели. В задней части Галваманда, самой старой, сложенной из камня и примыкающей непосредственно к скале, возвышающейся над домом, всегда холодно, а дров, чтобы отапливать все помещения, у нас не хватало. Вот они и устроились на солнышке.
Я вежливо поздоровалась. Лорд-Хранитель вопросительно поднял брови, ожидая, что я объясню, зачем их побеспокоила.
— Там путешественники с дальнего севера… Им конюшня нужна, чтобы лошадей поставить. Он — сказитель, а она… — Я запнулась. — У нее есть лев. Точнее, львица. Я сказала ей, что спрошу, можно ли им оставить здесь своих лошадей. — Говоря это, я чувствовала себя персонажем одной истории о правителях Манвы, в которой слуга передает просьбу благородного и уважаемого гостя своему не менее благородному и уважаемому хозяину.
— Циркачи, — презрительно обронил Дезак. — Кочевники!
Я мгновенно пришла в ярость и сердито возразила:
— Ничего подобного!
Брови Лорда-Хранителя опустились и сошлись на переносице: я вела себя грубо.
— Ее имя — Грай Барре из Роддманта; она из Верхних Земель.
— И где же эти Верхние Земли находятся? — насмешливо спросил Дезак. Он обращался со мной как с ребенком!
— Далеко на севере, — сдержанно ответила я.
А Лорд-Хранитель сказал:
— Пожалуйста, продолжай, Мемер. — Именно так он всегда просил меня продолжить перевод аританского текста или что-то ему пояснить. Он любил, когда я все делала по порядку, со смыслом. И теперь я тоже постаралась все изложить по порядку.
— Муж Грай, сказитель, прибыл сюда, чтобы выступать на площади Портового рынка. Поэтому они там и оказались. А ее лев испугал лошадь какого-то альда. И я эту лошадь поймала. А Грай ее потом успокоила. А когда я уже шла домой, я снова их встретила. Грай ехала на повозке и предложила меня подвезти. Она искала, где можно оставить лошадей. Между прочим, этот лев так и сидит в фургоне. А лошадей Гудит сейчас как раз поит.
И только в эту минуту, упомянув о том, что Грай подвезла меня до дому, я поняла, что моя рыночная корзина с десятифунтовой рыбиной, сыром и овощами по-прежнему тяжело оттягивает мне руку.
Некоторое время все молчали. Затем Лорд-Хранитель спросил:
— Значит, ты предложила ей воспользоваться нашей конюшней?
— Я сказала, что сперва должна спросить.
— А ты не могла бы попросить ее зайти ко мне?
— Хорошо, — сказала я и поспешила удалиться.
Корзину свою я быстренько поставила в холодную кладовую — Иста и девушки все еще шили в рабочей комнате — и побежала назад, к конюшне.
Грай и Гудит беседовали о собаках; то есть говорил в основном Гудит, он рассказывал ей об огромных гончих псах Галваманда, которые в былые времена бегали быстрее лошадей и охраняли дом и дворы.
— А теперь тут у нас одни кошки! Повсюду одни кошки! — И Гудит с негодованием сплюнул. — Хотя собак теперь и кормить-то нечем, мы и сами мяса давно не видели. К тому же ясно как день: собаки у нас во время осады мясом стали.
— Может, оно и хорошо, что сейчас у вас таких псов нет, — заметила осторожно Грай. — Боюсь, их бы очень заинтересовало то, что у меня в фургоне.
И я поспешила вмешаться:
— Лорд-Хранитель спрашивает, не будет ли тебе угодно пройти в дом? Он бы и сам к тебе вышел, да ему ходить трудно. — Мне ужасно хотелось, чтобы она почувствовала: ее здесь принимают с должным почтением и гостеприимством — так всегда принимали у себя странников и великие правители Манвы.
— С удовольствием, — сказала она, — но сперва…
— Оставь лошадок, я о них позабочусь, — успокоил ее Гудит. — Поставлю их в стойла, а потом схожу за сеном к Боссти, это недалеко, по соседству.
— В фургоне есть большая охапка сена и целая мера овса, — сказала Грай и бросилась было к фургону, но Гудит с негодованием схватил ее за руку.
— Нет, нет и нет! В дом Лорда-Хранителя никто со своей едой не приходит! Ступай-ка лучше с Мемер, милочка.
— Ее зовут Звезда, — сказала Грай, указывая на каурую кобылу, — а его — Бранти.
Услышав свои имена, обе лошади обернулись к ней, и кобыла нервно фыркнула.
— И все-таки, Гудит, тебе неплохо было бы знать, что еще у меня есть в фургоне. — В голосе Грай, тихом и ласковом, послышалось нечто такое, отчего старик повернулся к ней и внимательно на нее посмотрел. — Там кошка, — пояснила она. — Просто кошка. Только очень большая. Ей вполне можно доверять, но она все же не любит, чтобы ее заставали врасплох, так что не стоит внезапно перед ней появляться. Пожалуйста, Гудит, не открывай дверцу фургона, хорошо? Как ты думаешь, Мемер, мне лучше оставить ее здесь, в фургоне, или пусть она идет со мной?
Если уж повезло, так надо ковать железо, пока горячо. Мне ужасно хотелось продемонстрировать Дезаку льва, которого привезли с собой «эти циркачи», и до смерти его напугать.
— Ну если ты хочешь взять ее с собой… — начала я и умолкла, увидев, что она изучающе смотрит на меня и лукаво улыбается. — Пожалуй, лучше все-таки оставь ее здесь, — сказала я, представив себе, как раскричатся Иста и Соста, увидев, что по коридору шествует лев. Да, Грай, безусловно, была права.
Мы прошли по двору к парадным дверям, и на пороге Грай остановилась и прошептала слова приветствия, с какими гостю полагается обращаться к домашним божествам.
— Неужели и у вас боги такие же, как у нас? — удивилась я.
— Нет, у нас в Верхних Землях богов не очень-то почитают, да их там, в общем, и немного. Но я ведь немало странствовала, вот и научилась почитать любых богов и духов и просить у них благословения, если они могут мне его дать.
Мне это очень понравилось.
— А вот альды на наших богов плюют! — сказала я возмущенно.
— Моряки говорят, что плевать против ветра глупо, — откликнулась она.
Я специально повела Грай через дом, мне хотелось показать ей и большой зал, и красивый передний двор, и широкие коридоры, что ведут в те просторные комнаты, где раньше размещался университет, и галереи, и уютные внутренние дворики. Все эти помещения, конечно, стояли пустые, без мебели, а украшавшие их статуи были разбиты, ковры украдены, полы давно никто не мел. Так что, показывая Грай наш дом, я лишь наполовину гордилась его величием, а наполовину — сгорала от стыда.
А она на все смотрела с огромным интересом и восхищением. И все же была в ней некая настороженность. Нет, она держалась просто, открыто, но внутренне оставалась замкнутой и слегка напряженной — так ведет себя смелый зверь в незнакомой обстановке.
Я постучалась в резную дверь веранды, и Лорд-Хранитель пригласил нас войти. Он встал навстречу гостье, и я заметила, что Дезак уже исчез. Грай и Лорд-Хранитель сдержанно поклонились друг другу и назвали свои имена.
— Добро пожаловать в наше фамильное поместье, — сказал он, и она ответила:
— Мои приветствия и наилучшие пожелания этому дому и всем, кто в нем проживает. А также низкий поклон богам и теням предков семейства Галва.
Когда они наконец немного пригляделись друг к другу, я заметила, что глаза Лорда-Хранителя полны любопытства и интереса, а глаза Грай так и сияют от возбуждения.
— Ты проделала долгий путь, чтобы всего лишь поклониться этому дому, — сказал он.
— И встретиться с Султером Галвой, Главным Хранителем Дорог Ансула, — прибавила она.
Лицо его сразу замкнулось, точно захлопнули книгу.
— В Ансуле больше нет таких должностей, здесь всем правят альды, — сказал он. — Так что я — человек самый обычный, ничем не примечательный и никакого поста не занимаю.
Грай быстро посмотрела на меня, словно ища поддержки, но я ничем ей помочь не могла. И она сказала, глядя ему в глаза:
— Ты уж прости меня, господин мой, если я скажу что-то не то. Но я бы хотела рассказать тебе, что именно привело нас в Ансул, меня и моего мужа, Оррека Каспро; можно?
Услышав это имя, он посмотрел на нее с тем же изумлением, как и она на меня, когда я назвала ей его титул.
— Каспро здесь? — спросил он. — Оррек Каспро? — Он помолчал, несколько раз глубоко вздохнул и, взяв себя в руки, заговорил сухо и чуть надменно — своим «официальным» тоном: — Слава поэта, как известно, летит впереди него. Что ж, его приезд — большая честь для нашего города. Мемер сказала мне, что какой-то поэт или сказитель будет выступать на рыночной площади, но я не знал, кто именно.
— Он будет выступать и перед гандом Ансула, — сказала Грай. — Ганд специально посылал за ним. Но приехали мы сюда вовсе не по этой причине.
Она умолкла. Возникла мучительная пауза. Первой молчание нарушила Грай:
— Мы ведь именно этот дом искали. И именно сюда привела меня дочь этого дома — хоть и я не знала, кто она такая, и она не знала, что я этот дом ищу.
Лорд-Хранитель посмотрел на меня.
— Это чистая правда, — подтвердила я и, поскольку он по-прежнему смотрел на меня недоверчиво, пояснила: — Мне сегодня весь день покровительствуют боги. Сегодня у меня день Леро!
Казалось, после этих слов он вздохнул с облегчением и потер верхнюю губу костяшками пальцев левой руки — он всегда так делал, крепко о чем-то задумавшись. И вдруг, словно придя к какому-то решению, сказал без малейшего недоверия в голосе:
— Раз тебя привела сюда сама Леро, госпожа моя, да пребудет с тобой благословение этого дома. Знай, что отныне все в этом доме твое. Не хочешь ли присесть, Грай Барре?
Я заметила, что она осторожно наблюдает за ним — смотрит, как он движется, как приглашает ее сесть в кресло на огромных когтистых лапах, видит его изуродованные руки и то, как он с трудом опускается в такое же кресло. Сама я устроилась, как на насесте, на высоком неудобном табурете у стола.
— Вот и до тебя донеслась слава о сказителе Каспро, — сказала Грай. — Но ведь и до нас донеслась слава о библиотеках Ансула.
— Значит, твой муж прибыл сюда, чтобы увидеть эти библиотеки?
— Он ищет в книгах пищу для своего искусства и своей души, — ответила Грай.
И после этих слов мне захотелось отдать им всю свою душу — ей и ему.
— Но ему, должно быть, известно, — бесцветным голосом продолжал Лорд-Хранитель, — что все книги в Ансуле были уничтожены, а вместе с ними — и многие из тех, кто их читал. В нашем городе запрещено иметь библиотеки. Здесь запрещено всякое письменное слово. Ибо слово есть дыхание Аттха, единственного истинного бога, и словам можно давать жизнь лишь с помощью дыхания. А ловить их в силки письменности — мерзкое богохульство.
Я вздрогнула; я ненавидела, когда он так говорил. Казалось, он и сам верит тому, что говорит. Словно это и впрямь его собственные слова!
Грай молчала.
— Надеюсь, Оррек Каспро не привез с собой никаких книг? — спросил Лорд-Хранитель.
— Нет, — сказала она, — он приехал, чтобы найти их.
— Легче «костер узреть в волнах морских», — откликнулся он.
Грай тут же нашлась:
— «Иль подоить в пустыне камень».
Я видела, как блеснули его глаза — почти незаметно, — когда она закончила начатую им знаменитую некогда цитату из Дениоса.
— Так можно ему прийти сюда, господин мой? — смиренно спросила она.
Мне хотелось крикнуть: «Да! Да! Конечно!» — но Лорд-Хранитель ответил ей не сразу, и меня это до глубины души потрясло. Мне было очень стыдно, что он не сразу сказал ей, что будет счастлив пригласить их в наш дом, что им здесь все будут рады. Он довольно долго молчал, словно колеблясь, а потом вдруг спросил:
— Он ведь гость ганда Иораттха, верно?
— Еще будучи в Урдайле, мы получили известие, что Иораттх, ганд всех ансульских альдов, был бы рад принять у себя Оррека Каспро, ганда всех поэтов, если, конечно, тот согласится прибыть в Ансул и продемонстрировать ему свое искусство. Нам сказали, что ганд Иораттх — большой любитель старинных сказаний и поэзии. Как, впрочем, и все альды. Вот мы и приехали. Но отнюдь не в качестве его гостей. Он предложил кров нашим лошадям, но не нам. Присутствие неверующих в его доме стало бы оскорблением для великого Аттха. И Оррек будет выступать перед гандом под открытым небом.
Лорд-Хранитель что-то тихо сказал по-аритански; я не совсем уверена, но, по-моему, он говорил о том, что уж на небе-то места хватает и для всех звезд, и для всех богов. И посмотрел на Грай: поняла она или нет?
Она гордо вскинула голову, но сказала, как всегда, мягко:
— Я женщина темная, необразованная.
Он засмеялся:
— Вряд ли!
— Нет, правда. Мой муж, конечно, кое-чему научил меня, но мои собственные знания заключаются отнюдь не в словах. Мой дар — это умение слушать тех, кто говорить не может.
— Мемер сказала, что ты ходишь в сопровождении льва.
— Да. Мы много путешествуем, а путешественники всегда очень уязвимы. После того как умер наш замечательный пес, я стала искать другого сторожа, который ездил бы с нами. И однажды мы повстречались с кочевниками — они тоже были сказителями и музыкантами, — и оказалось, что эти люди поймали в ловушку львицу с детенышем, странствуя по горной пустыне к югу от Вадалвы. Мать они оставили себе для участия в представлениях, а детеныша продали нам. Она очень хороший наш друг. Очень надежный. На нее можно полностью положиться.
— А как ее зовут? — тихо спросила я.
— Шетар.
— Где же она сейчас? — спросил Лорд-Хранитель.
— Сидит в фургоне, а фургон стоит во дворе, возле конюшни.
— Что ж, надеюсь в скором времени ее увидеть, — сказал он. — А поскольку я ни в коей степени не обременен верой в бога Аттха, то с легкостью могу предложить вам остановиться под крышей моего дома, Грай Барре, здесь найдется место и тебе, и твоему мужу, и вашим лошадям, и вашей львице.
Она поблагодарила его за великодушие, а он ответил с улыбкой:
— Великодушие — богатство бедняков. — С тех пор как Грай назвала имя своего мужа, в глазах Лорда-Хранителя будто огонек зажегся, освещая порой все его лицо. — Мемер, — сказал он мне, — в какую комнату?..
Я-то уже давно это решила и теперь подсчитывала в уме, хватит ли той рыбины на обед для восьми человек, если Иста сделает из нее рагу.
— В восточную, — быстро ответила я.
— А как насчет Хозяйских Покоев?
Это меня немного озадачило; в этих некогда поистине прекрасных, изысканных покоях, что находились в старой части дома прямо над покоями Лорда-Хранителя, раньше жила его мать. А еще раньше, давным-давно, когда в Галваманде еще размещались и университет, и библиотека Ансула, эти покои принадлежали главе университета. В этих покоях уцелели даже окна в тесных переплетах, потому что выходили они на нижние крыши западного крыла дома, и из них была видна гора Сул. Но из мебели там сохранилась, по-моему, только кровать. Хотя я, конечно, могла перетащить туда из соседней, восточной комнаты матрас, а от себя принести стул.
— Хорошо, я сейчас там протоплю, — сказала я, потому что этими комнатами давно не пользовались и я знала, как там будет сыро и холодно.
Лорд-Хранитель очень ласково на меня посмотрел и сказал Грай Барре:
— Мемер — это мои руки и наполовину моя голова. Она мне не родная дочь, но она дочь моего дома и моего сердца. И у нас с ней одни и те же боги и предки.
И я, прекрасно зная, что принадлежу к роду Галва, вдруг испытала болезненную радость, услышав от него эти слова.
— Сегодня на рынке, — вдруг сказала Грай, — лошадь одного альда, увидев мою кошку, испугалась, встала на дыбы, сбросила седока на землю и понесла. Она летела прямо на Мемер. Но Мемер не растерялась: она поймала ее за поводья, остановила и еще довольно долго удерживала на месте.
— Ладно, я пойду вам комнату приготовлю, — сказала я, потому что мне было невтерпеж слушать эти похвалы.
Но Грай, извинившись, отправилась вместе со мной, желая помочь мне привести комнату в порядок. Когда мы устроили постель и разожгли в очаге огонь, она сказала, что теперь ей пора сходить на Портовый рынок и привести сюда Оррека. Я мечтала послушать его, и она об этом догадалась.
— Сейчас он, наверное, уже почти закончил свое выступление, — сказала она, — но я все равно буду очень рада, если ты составишь мне компанию. А Шетар я оставлю в фургоне. Ей там вполне хорошо. — А когда мы уже шли по коридору, она прибавила с улыбкой: — Я думаю, одной львицы для этой прогулки нам будет вполне достаточно.
Ну разве могла я не полюбить ее?
Итак, мы с Грай Барре снова отправились — на этот раз пешком — к Портовому рынку. И там я впервые услышала выступление великого поэта Оррека Каспро.
В шатре яблоку негде было упасть; его переднюю часть и боковины специально подняли, чтобы Оррека было слышно и тем, кто стоял вокруг шатра, обступив его плотной толпой, точно кусты проезжую дорогу. Люди, затаив дыхание, слушали легенду об Огнехвостой Птице из «Превращений» Дениоса. Я ее, конечно, знала, знало ее и старшее поколение жителей Ансула, а вот альдам — их там было великое множество, и занимали они самые лучшие места, ближе всего к небольшому возвышению в центре шатра, — как и большей части нашей молодежи, эта легенда была совершенно неизвестна и, похоже, казалась им настоящим чудом. Все слушали Оррека, невольно шевеля губами, и глаза у людей горели, так их увлекла эта поэтическая история. Я тоже заслушалась, завороженная ровным звучным голосом рассказчика и его чистым северным выговором, но его самого я почти не рассматривала, ибо перед глазами у меня, точно
живые картины, разворачивались события, описанные в этой старинной поэме.
Когда Оррек умолк, над огромной толпой на некоторое время повисла звенящая тишина; люди словно переводили дыхание, а потом дружно выдохнули «Ах!» — и все разом закричали, захлопали в ладоши. Особенно громко аплодировали альды, а горожане выкрикивали старинные слова похвалы: «Эхо! Эхо!» И только тут я наконец разглядела Оррека как следует. Это был красивый, худощавый, очень стройный темноволосый мужчина, державшийся, пожалуй, с некоторым пренебрежением или даже вызовом, хотя со слушателями он был в высшей степени вежлив и обходителен.
Мы довольно долго не могли даже подойти к нему.
— Надо было мне все-таки взять с собой и вторую львицу! — с досадой пошутила Грай, тщетно пытаясь вместе со мной пробиться сквозь плотную стену солдатских и офицерских спин, покрытых голубыми плащами, поверх которых рассыпались «бараньи» кудри альдов. Вооруженные мечами, луками и булавами, воины плотным кольцом обступили сказителя.
Потом Оррек вновь поднялся на возвышение в центре шатра, явно высматривая кого-то в толпе, и Грай громко и пронзительно свистнула по-птичьи. Он сразу ее заметил, а она, мотнув головой, дала ему понять, что мы будем ждать его слева от входа. Через несколько минут мы встретились с ним на крыльце таможни.
Альды уже в основном успели разойтись, но за Орреком по-прежнему следовала целая толпа местных жителей, старавшихся, впрочем, не слишком на него напирать. Только один пожилой мужчина подошел прямо к нему и низко поклонился, как у нас обычно кланяются перед алтарем, когда благодарят за что-то богов, — широко разведя в стороны руки ладонями вверх и словно показывая дар полученный и дар принесенный.
— Хвала поэту! — со слезами на глазах прошептал этот старик, затем быстро выпрямился и пошел прочь. Я узнала его: он не раз приносил Лорду-Хранителю книги. Но имя его было мне неизвестно.
Увидев нас, Оррек Каспро бросился к нам и на мгновение сжал обе руки Грай в своих руках.
— Выведи меня с этой площади, пожалуйста! — только и сказал он. — А где Шетар?
— В Галваманде, — сказала она, произнося слово «Галваманд» чуть глуховато, на северный манер. — А это дочь Декало Галвы, Мемер. Нас пригласили погостить в этом доме.
Оррек с удивлением на нее посмотрел, но поздоровался со мной весьма учтиво и ни одного вопроса не задал, хотя, судя по его виду, вопросов у него имелось множество.
— Прошу меня простить, — сказала я, улучив момент, — но утром я кое-что забыла купить. Дорогу вы знаете. А я вас догоню. — И я поспешила на рынок. Честно говоря, Исте действительно были нужны еще овощи, чтобы рагу хватило на восемь человек.
Мне всегда было интересно, почему поэты и прочие сочинители почти никогда не упоминают в своих произведениях то, что имеет отношение к домашнему хозяйству и приготовлению еды. Разве не для того, в конце концов, и происходят все великие войны и сражения — чтобы после них вся семья героя могла собраться вместе и сесть за стол, ничего не опасаясь? В легендах о великих правителях Манвы рассказывается, правда, как люди, будучи изгнаны из родных краев, охотились, собирали коренья или готовили себе ужин, встав лагерем у подножия горы Сул, но там ни слова не говорится о том, как и на что жили в это время их жены и дети, оставшиеся в городе, разрушенном и разграбленном врагами. Они-то ведь тоже должны были как-то добывать себе пропитание, приводить в порядок жилища, почитать своих богов — как это делали мы и во время осады, и потом, когда Ансул оккупировали альды. Когда герои Манвы спустились с гор и вернулись домой, в их честь устроили пир. Хотелось бы мне знать, что за угощение было на том пиру и как женщинам удалось раздобыть продукты и приготовить столько еды!
Грай с мужем были уже в самом конце Западной улицы, когда я начала подниматься по ней от моста Гелб. А когда я наконец добралась до дома и вошла в кухню, Соста и Боми бегали как ошпаренные — они уже успели познакомиться с гостями. Иста была вне себя от раздражения и отчаяния: «Как, клянусь Сампой Разрушителем, может женщина накормить гостей жалким кусочком рыбы и капустной кочерыжкой?» Но принесенные мною овощи и корневой сельдерей, похоже, спасли положение. Иста тут же принялась за работу, растирая имбирь, кроша овощи и безжалостно командуя Боми и даже Состой. В Галваманде никогда не позволяли себе кое-как принимать гостей, позоря этим своих предков, а уж Иста и вовсе ни за что не допустила бы подобного позора. Вот как раз это я отчасти и имела в виду, когда говорила о важности домашнего хозяйства. Если это не важно, что же тогда важно? Если не вести дом как полагается, с достоинством, то разве можно говорить о чести его хозяев?
Иста любила рассказывать о том, как некогда в большом обеденном зале устраивались пиры человек на сорок, но мы всегда ели не в зале, а в небольшой комнате, которую она называла «буфетной». Там, впрочем, было достаточно просторно, хотя, пожалуй, слишком много всяких полок и шкафчиков. Буфетная находилась между обеденным залом и кухней. Гудит сделал там большой стол из обломков сосновых досок, а мы собрали по всему дому и снесли туда старые стулья и табуретки. Самой длинной прогулкой Лорда-Хранителя в течение дня чаще всего был как раз переход от его покоев до буфетной, чтобы пообедать вместе с нами; впрочем, для этого ему приходилось миновать немало коридоров, лестниц и внутренних двориков. А в тот вечер он вышел к нам, облачившись в тяжелую, накрахмаленную серую котту — единственную приличную вещь, оставшуюся у него от «добрых старых времен». Все мы немного прихорошились и приоделись, кроме Гудита, от которого так и несло лошадьми. Грай надела узкие шелковые штаны, а поверх них — длинную красную рубаху; ее муж был в белоснежной рубашке и черной котте, и килт, какие носят северяне, у него был тоже черный. А из-под килта торчали голые ноги. Черное очень ему шло, и Соста без стеснения пялилась на него, выпучив глаза, как рыба на прилавке.
Но и наш Лорд-Хранитель, несмотря на хромоту и увечья, тоже был очень красив. А когда он приветствовал Оррека Каспро, мне снова вспомнились герои сказаний об Адире и Марре. И держался наш хозяин так же прямо, как Каспро, хотя ему-то, должно быть, это давалось куда труднее.
За столом расселись так: Грай по правую руку от Лорда-Хранителя, Каспро — по левую, дальше Соста и Боми, напротив них — я и Гудит, а место в торце пока оставалось пустым, потому что Иста почти никогда не садилась за стол вместе со всеми, разве что под конец трапезы. «Повариха за столом — это пригоревший обед», — говорила она, хотя это, наверное, было правдой только в те времена, когда за стол садилось куда больше людей, да и на плите было чему подгорать. Иста и на сей раз постояла у стола всего несколько минут, пока Лорд-Хранитель благословлял трапезу от лица мужчин, а я — от лица женщин, и сразу вернулась к плите, а мы с наслаждением принялись за ее великолепный хлеб и рыбное рагу. Хорошо все-таки, что в тот день еда была такой вкусной и чести нашего дома мы не уронили!
— А у вас в Ансуле те же традиции, что и у нас в Верхних Землях, — сказал Каспро. Все-таки самым красивым в нем был, конечно, его голос, звучавший, как старинная виола. — Все, кто живет в доме, едят за одним столом. Наверное, потому я и чувствую здесь себя как дома.
— Расскажи нам немного о Верхних Землях, — попросил Лорд-Хранитель.
Каспро обвел взглядом сидевших за столом и улыбнулся, не зная, с чего начать.
— А вы хоть что-нибудь о наших краях знаете? — спросил он.
— Мы знаем, что это далеко-далеко на севере, — сказала я, поскольку все остальные молчали, — что там много гор и холмов и среди них возвышается самая большая гора, точнее, горный хребет… — И тут название этих гор вдруг вспомнилось само, я словно увидела перед собой карту из книги Эронта. — Эти горы называются Каррантаги, верно? А еще, говорят, тамошние жители занимаются колдовством. Во всяком случае, так у Эронта написано.
Боми и Соста тут же уставились на меня; они так всегда делают, когда оказывается, что я знаю нечто такое, чего не знают они. По-моему, очень глупо так вести себя. А что, если и я начну каждый раз выпучивать от удивления глаза, когда они спорят о том, как лучше вшить ластовицу или подрубить низ? Я ведь не знаю ни что такое «ластовица», ни что значит «подрубить», и тоже не всегда понимаю их болтовню, но я же не смотрю на них так, словно они спятили или знают нечто страшно важное, что мне и невдомек.
— Каррантаги, — сказал Каспро, обращаясь ко мне одной, — действительно наш самый высокий хребет. Каррантаги для нас — как для вас гора Сул. Верхние Земли — это вообще почти одни скалы да камни, и живут там бедняки-крестьяне, хотя некоторые из них действительно обладают кое-какими волшебными умениями. А вот слово «колдовство» лишний раз произносить не стоит, это опасное слово. Мы называем эти умения «дарами».
— А уж при альдах мы их и вообще никак не называем, мы даже не упоминаем о них, — заметила Грай со свойственной ей суховатой усмешкой. — Поскольку не хотим, чтобы нас насмерть забили камнями за столь великое «прегрешение» — принадлежность к особо одаренному народу.
— А что… — начала было Боми и умолкла. В кои-то веки она стушевалась. Но Грай подбодрила ее улыбкой, и Боми все же спросила: — А у вас есть какие-нибудь дары?
— Я хорошо умею ладить с животными, я понимаю их, а они — меня. Этот дар у нас считается умением призывать, но, по-моему, это скорее умение слушать.
— А у меня никакого дара нет, — с улыбкой сказал Каспро.
— Неужели ты настолько неблагодарен! — воскликнул Лорд-Хранитель, и он явно не шутил.
Каспро понял упрек и согласно кивнул:
— Ты прав, господин мой. Мне, пожалуй, действительно дан великий дар. Вот только он, к сожалению, оказался… Он оказался неправильным. — Оррек нахмурился, почти с отчаянием подыскивая нужные слова, словно для него важнее всего на свете было сейчас ответить честно. — Нет, я-то его таким никогда не считал. Это мои соотечественники считали его неправильным. Поэтому мне и пришлось покинуть Верхние Земли — мой дар увел меня оттуда. Мое искусство доставляет мне огромную радость, но порой… порой я до боли в сердце тоскую о родных скалах и пустошах, о той тишине, что царит у нас в горах…
Лорд-Хранитель смотрел на него ласково, одобряюще, терпеливо, без малейшего осуждения.
— Порой человек тоскует по родине, даже находясь в своем родном городе, в своем родном доме, Оррек Каспро, — медленно промолвил он. — Вокруг тебя здесь такие же изгнанники. — Он поднял свой стакан. С водой. Вина у нас давно уже не было. — Что ж, за наше возвращение домой! — сказал он, и все мы выпили вместе с ним.
— Но если твой дар считался неправильным, то каков должен был быть правильный дар? — снова спросила Боми. Уж если она перестала стесняться, ее ничем нельзя заставить держать рот на замке.
Каспро быстро на нее глянул. Выражение его лица снова переменилось. Он, разумеется, легко мог бы отделаться от настырной девчонки ничего не значащими словами — она ведь задала свой вопрос не подумав, так что ее бы вполне удовлетворил любой ответ, — но это явно было не в его характере.
— Дар моей семьи называется «разрушение связей», — сказал он и вдруг, словно машинально, прикрыл руками глаза. Выглядело это довольно странно, пугающе. — А я вместо этого разрушительного дара получил дар созидательный — дар сочинительства. Случайно, по ошибке. — Он поднял глаза и как-то растерянно посмотрел перед собой, и я заметила, что Грай внимательно следит за ним. Глаза ее были полны сочувствия.
— Никакой ошибки тут нет, — возразил Лорд-Хранитель со спокойной и совершенно искренней уверенностью, от которой у всех сразу поднялось настроение. — И свой великий дар ты отдаешь людям в стихах и сказаниях. Жаль, что я не могу сам пойти на площадь и послушать тебя.
— Ох, не надо ему такого говорить! — сказала Грай. — Не то он как начнет тебе стихи читать, так и до завтрашнего вечера не кончит, пока коровы домой не вернутся.
Соста хихикнула. По-моему, она впервые поняла хоть что-то из сказанного и решила, что это очень смешно — «пока коровы домой не вернутся».
Каспро тоже засмеялся и честно признался, что Грай сказала чистую правду: о поэзии он действительно может говорить сколько угодно.
— Единственное, что я люблю больше, чем декламировать стихи или говорить о них, — это их слушать, — сказал он. — Или читать. — И мне показалось, что во взгляде, который он в этот миг бросил на Лорда-Хранителя, был какой-то вызов, что-то куда более значительное, чем просто слово «читать». Хотя в нашем городе во времена оккупации даже всего лишь произнесенное вслух слово «читать» уже считалось тяжким грехом.
— Когда-то в этом доме очень любили поэзию, — сказал Лорд-Хранитель и, повернувшись к Грай, спросил: — Не угодно ли еще рыбки, Грай Барре? Иста! Ты, наконец, сядешь за стол или нет?
Вообще-то, Иста обожает, когда Лорд-Хранитель повышает на нее голос, приказывая ей сесть за стол со всеми вместе и спокойно обедать. Она тут же подскочила к столу и, едва успев благословить пищу у себя на тарелке, спросила:
— А что это там Гудит плел насчет какого-то льва?
— Да у них в фургоне лев сидит! — сердито сказал ей Гудит. — И я предупреждал тебя, тупица ты безбожная, чтоб ты даже близко к этому фургону не подходила. Говорил я тебе об этом? Говорил или нет?
— Говорил, говорил! Я и не думала к нему подходить! — Исту явно задела грубость Гудита; она вдруг задрала подбородок и с видом великосветской дамы жеманно заявила: — Мне и дела нет до вашего льва! А что, он так и будет в фургоне сидеть?
— Это не лев, а львица, — сказала Грай. — И ей, конечно, лучше было бы находиться рядом с нами, если только это никому в доме не причинит беспокойства. — Однако, увидев, какое впечатление ее слова произвели на Состу и Боми, а также, похоже, и на Исту, она поспешила прибавить: — Впрочем, возможно, ночевать ей лучше все же в фургоне.
— И это будет означать, что мы недостаточно гостеприимны, — сказал Лорд-Хранитель. — А нельзя ли нам все же познакомиться с нашим третьим гостем? Нельзя ли привести вашу львицу сюда? К тому же она, наверное, еще не обедала. — Я никогда еще не видела его таким — великодушным, сильным, убедительным. Передо мной сейчас был тот Султер Галва, о котором так любила рассказывать Иста, вспоминая «добрые старые времена».
— О-о-о! — слабым голосом простонала Соста.
— Да не бойся ты, Сос! Очень ты этому льву нужна! — заткнула ей рот Иста. — Скорее уж он кусок рыбы предпочтет. — Она явно не намерена была терять лицо из-за какого-то льва. — У меня там рыбная голова на завтра оставлена — ну, чтобы суп сварить, — так если вашей львице нравится рыба, то и пожалуйста…
— Спасибо, Иста, но я ее сегодня утром уже кормила, — сказала Грай. — А завтра у нее вообще постный день. По-моему, нет ничего хуже, чем разжиревший лев, верно?
— Да уж, — сухо ответила Иста.
Грай извинилась, встала из-за стола и вскоре вернулась, ведя Шетар на коротком поводке. Львица была еще совсем молоденькая, небольшая, размером с крупную собаку, но от собаки все же сильно отличалась; и по форме тела, и по всем повадкам это была, конечно, самая настоящая кошка, только очень большая. Ее гладкое тело казалось массивным и одновременно очень гибким; хвост длинный, с маленькой коричневой кисточкой на конце, а морда — довольно короткая; глаза, сверкавшие, как драгоценные камни, смотрели внимательно; при ходьбе она чуточку косолапила, но все же походка ее вполне заслуживала названия «царственная». Морду львицы окружал «воротничок» из более светлой и мягкой шерсти, а короткая «бородка» под нижней челюстью была почти белой. Я смотрела на нее с восторгом, хотя, конечно, немного ее и побаивалась. А она села по-собачьи, обвела всех взглядом и зевнула, широко раскрыв пасть и продемонстрировав длинный розовый язык и страшноватые белые клыки; потом закрыла пасть, прикрыла веками свои прекрасные топазовые глаза и замурлыкала. Это было самое настоящее мурлыканье, только очень громкое.
— Ой! — сказала Боми. — А можно я ее поглажу?
И я следом за Боми тоже принялась гладить этого замечательного зверя. Шерсть у львицы была чудесная — густая, мягкая. А когда ей чесали за округлым ухом, она наклоняла голову и сама прижималась к ласкавшей ее руке, начиная еще громче мурлыкать.
Грай подвела ее к Лорду-Хранителю. Львица села возле него, и он протянул руку, чтобы она ее обнюхала. Она весьма старательно это проделала, подняла голову и внимательно на него посмотрела — но не тем долгим взглядом, каким на человека смотрит собака: она бросила на него всего лишь один пронзительный кошачий взгляд и тут же отвела глаза. Он положил руку ей на голову, и она сидела совершенно спокойно, довольно жмурилась и мурлыкала, и я видела, как она то выпускает, то снова прячет свои огромные когти, тихонько царапая ими плитки пола.
Глава 5
После обеда Лорд-Хранитель пригласил гостей к себе, быстро бросив при этом взгляд в мою сторону и как бы подтверждая, что будет рад и моему присутствию. Он медленно, сильно хромая, повел нас по коридорам мимо заброшенных, нежилых комнат, и мы не спешили, понимая, как мучительно трудно дается ему ходьба на изуродованных пытками ногах. Миновав несколько внутренних двориков, мы добрались до его излюбленной дальней веранды и уселись там. За окнами гасли последние закатные лучи.
— По-моему, нам еще многое нужно обсудить, — сказал Лорд-Хранитель и посмотрел на Оррека и Грай. В глазах у него горел столь хорошо знакомый мне затаенный огонь. — Грай Барре говорила, что одной из причин вашего прибытия в Ансул было желание разыскать меня. А Мемер утверждает, что ваша с ней встреча произошла под знаком Леро и была ею благословлена. В благословении Леро я не сомневаюсь, но мне все же интересно: зачем вы меня искали?
— Может быть, мне лучше все рассказать с самого начала? — спросил Оррек Каспро. — Ты позволишь?
В ответ Лорд-Хранитель только рассмеялся и ответил цитатой:
— «Могу ли я позволить солнцу светить? Могу ли разрешить реке течь к морю?» — Именно эти слова произнес Раниу, когда великий арфист Моро спросил, можно ли ему играть на своей арфе у него в храме.
— Хорошо, — сказал Каспро и немного неуверенно начал: — Все в моей жизни произошло из-за того, какое огромное значение имели для меня книги в детстве… Ведь каждое слово в них было для меня как луч света… во тьме кромешной!.. — Он запнулся и умолк. — А потом, уже покинув Верхние Земли и какое-то время пожив внизу, в городах, я начал понимать, сколь многому мне еще нужно научиться, сколь многого я не знаю, и оказался на грани полного отчаяния…
— Ну да, точно теленок на клеверном поле — не знал, с какого края лучше начать, — вставила Грай.
— Да, и это, конечно, тоже… — согласился Оррек, и все мы рассмеялись. А он уже более уверенно продолжал: — В общем, по-моему, сочинительство — это лишь самое малое из того, чем я занимаюсь. Мне кажется, куда важнее открыть людям те сокровища, что были созданы другими писателями и поэтами. Можно рассказывать о них, пересказывать их произведения, или читать их вслух, или печатать в виде книг — необходимо спасти их от пренебрежения и забвения и вновь зажечь тот свет, который способно пролить письменное слово. Вот главная забота, главное дело моей жизни. А потому, когда я не выступаю на рыночных площадях, чтобы заработать этим себе на хлеб, я обычно провожу время в библиотеках, или в лавках книготорговцев, или в логове какого-нибудь ученого-отшельника. И повсюду я расспрашиваю о книгах и рукописях, и мне почти всегда удается узнать что-то новое о ныне забытых поэтах прошлого или же о таких авторах, которые известны лишь узкому кругу людей в своем родном городе или стране. И повсюду — а я бывал и в Бендрамане, и в Урдайле, и в городах-государствах, и в Вадалве, в любом университете, в любой библиотеке, на любой рыночной площади — наиболее мудрые и образованные из тех людей, с которыми мне довелось встречаться, непременно упоминали о великих ученых Ансула и его знаменитой библиотеке.
— К сожалению, в прошедшем времени, — вставил Лорд-Хранитель.
— Но моя-то работа как раз в том и заключается, чтобы отыскать то, что позабыто, затерялось в веках или же где-то спрятано, чтобы не быть уничтоженным, чтобы не пасть жертвой предрассудков того или иного правителя или верховного жреца. В Урдайле, например, в городе Месуне, в подвалах старинных залов тамошнего Совета мы обнаружили самый ранний текст «Жизни Раниу»; он был написан на телячьей коже и запечатан в безымянном склепе лет пятьсот назад, еще во времена правления тирана Теренсы. Этот Теренса изгнал тогда из Месуна всех учителей, разрушил храмы, уничтожил все письменные источники и книги. И правил он целых сорок лет. А ведь альды правят в Ансуле всего лет семнадцать, по-моему?
— Да, ровно столько, сколько сейчас нашей Мемер, — сказал Лорд-Хранитель. — Поверь, и за семнадцать лет можно немало утратить. Например, потерять целое поколение, которое с рождения усвоило, что любые знания наказуемы и безопасность твоей жизни заключена в невежестве. Тогда следующее поколение уже и не поймет, насколько оно невежественно, ибо даже представления не будет иметь о том, что такое знания. Ведь те люди, что родились в Месуне после смерти Теренсы, и не подумали рыться в земле или в подвалах в поисках спрятанных там рукописей. Они о них просто ничего не знали.
— Но слухи-то продолжали существовать! — возразил Каспро.
— Слухи есть слухи.
— А я к слухам всегда очень внимательно отношусь.
— Значит, и сюда тебя какие-то особые слухи привели? Имя одного из забытых поэтов или сюжет давно утраченной поэмы?
— Главным образом меня влекла сюда слава Ансула как всемирно известного центра знаний и лучшего на всем Западном побережье хранилища книг и манускриптов. Но особенно заинтриговал меня слух, точнее, легенды о той огромной библиотеке, которая существовала здесь задолго до основания знаменитого университета Ансула. Мне говорили, будто в этой библиотеке имеются тексты, сохранившиеся с тех времен, когда в здешних странах еще говорили по-аритански; будто там можно найти немало сведений о землях, что лежат по ту сторону пустынь, — о тех краях, откуда, собственно, некогда и явились на Западное побережье наши далекие предки. Меня уверяли также, что там, вполне возможно, есть даже книги, доставленные сюда из Страны Восхода через великую пустыню еще в самом начале нашей исторической эпохи. Я столько лет мечтал сюда приехать! Мечтал расспросить о той библиотеке местных жителей и попытаться разыскать хоть какие-то ее следы…
Лорд-Хранитель молчал, ничего ему на это не отвечая, и Оррек прибавил:
— Я, конечно, понимаю: подобные поиски связаны с определенным риском. Мало того, они грозят опасностью не только мне, но и любому, с кем я хотя бы заговорю о библиотеке, — даже если этот человек ничего мне не ответит.
Лорд-Хранитель едва заметно кивнул. Лицо его по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным.
— Я неплохо знаю альдов, — сказал Каспро. — Мы с Грай довольно долго среди них прожили.
— Для этого, должно быть, требуется немало мужества.
— Гораздо меньше, чем я прошу от тебя!
Было тяжело, почти невыносимо слушать все это, понимая, что оба с трудом сдерживают тот страстный огонь, что пылает в душе каждого, и видеть в их глазах страх и вызов. Мне хотелось вмешаться, закричать: «Да что же вы делаете?! Доверьтесь же, наконец, друг другу! Неужели нельзя просто поверить друг другу?» — но я понимала, сколь глупо и ребячливо это мое желание. И мне хотелось плакать.
Грай слегка подтолкнула Шетар. Та встала, лениво потянулась, подошла ко мне и плюхнулась рядом, сонно привалившись к моим ногам. Всем своим видом львица показывала мне, что было бы неплохо почесать ее за ухом. Я почесала, и, как ни странно, прикосновение к ее мягкой шерсти несколько меня успокоило. Грай посмотрела на нас и, по-моему, подмигнула мне. Впрочем, может, мне это просто показалось, но во взгляде ее я прочла что-то вроде: «Они же мужчины; они умеют делать это только так».
Лорд-Хранитель встал и принес свечу. Надо было, конечно, мне это сделать, но я не успела. А он уже ставил на стол тяжелый металлический подсвечник, неуклюже держа его изуродованными пальцами. Грай высекла огонь и зажгла свечу. В темной комнате огонек ее казался особенно ярким, а наши освещенные лица на фоне темных стен и слабо поблескивавших окон — особенно живыми и светлыми. Шетар что-то проворчала и разлеглась у моих ног в классической позе льва с книжной иллюстрации — передние лапы вытянуты, глаза неотрывно смотрят на огонек свечи.
— Видишь ли, я полностью пересмотрел свое отношение к такому понятию, как «мужество», пока сидел у ганда в тюрьме, — после долгого молчания сказал Лорд-Хранитель. — Раньше я считал, что мужество — это нечто такое, чем человек владеет или не владеет сам и распоряжается по собственному усмотрению — как, скажем, гордостью или самоуважением. Но в темнице я, однако, понял, что и мужеством своим мы обязаны только богам. — Он, как и львица, тоже не сводил глаз с ровно горящего желтоватого пламени свечи.
Каспро молчал.
— Меня арестовали, — продолжал Лорд-Хранитель, — потому что альды, как и ты, слышали немало разных слухов и сплетен. Они-то и привели их сюда. В Ансул. Тебе известно, зачем альды завоевали мою страну и осадили мой город?
— Я полагал, что их вели алчность, желание прибрать к рукам ваши плодородные земли.
— Но почему им понадобились именно наши плодородные земли? Вадалва находится куда ближе, и население там столь же миролюбивое, как и в Ансуле. Вот ты сказал, что вы какое-то время жили в Асударе. В таком случае поправь меня, если я ошибаюсь: верно ли, что альдами правит царь, которого они называют гандом всех гандов и который одновременно является также верховным жрецом бога Аттха, а потому его власть безмерно велика? И все рабы, стоит ему захотеть, будут принадлежать ему одному? И всей огромной армией альдов командует тоже он?
Каспро молча кивнул.
— И зовут этого верховного правителя и жреца Дорид, и он заполучил трон Асудара тридцать лет назад, так? И он считает, что обязан, согласно желанию великого Аттха, сражаться с неким всемирным злом. Аттх — имя того единственного бога, которого признают альды, и означает это слово «господин, повелитель», но истинное имя Аттха вслух произносить не полагается. Все добро на свете — дело рук Аттха и принадлежит ему. Однако существуют и великие силы зла, основным воплощением которых считается Обаттх, что в переводе означает «другой господин». Я правильно излагаю?
И снова Каспро кивнул.
А Лорд-Хранитель спросил:
— Ты знаешь историю о «тысяче истинных мужчин»?
— Альды говорят, что, если тысячу истинных воинов можно было бы собрать вместе, они могли бы победить Обаттха и навсегда изгнать его из нашего мира. Некоторые, правда, считают, что хватило бы и сотни воинов.
— А некоторые — что десяти, — усмехнулась Грай.
Лорд-Хранитель тоже улыбнулся, хотя и не слишком весело.
— Последний вариант мне нравится больше, — сказал он. — А они что-нибудь говорят о том, где именно эти истинные воины должны встретиться?
— Нет. — Каспро вопросительно посмотрел на Грай, но и она тоже покачала головой.
— Что ж, мне эту историю рассказывали так, что ее трудно было бы позабыть. А рассказывал ее мне сын здешнего ганда Иораттха Иддор. И не один раз рассказывал. — Лорд-Хранитель помолчал, а потом сказал очень-очень тихо: — Мне очень неприятно рассказывать ее здесь, в этом доме. Вы уж меня простите, но я буду краток. Вот примерно то, что поведал мне Иддор: весь свет мира, все знания и вся справедливость принадлежат великому Аттху, Испепеляющему богу, и свидетельством его могущества является солнце. Священно лишь то, что было опалено пламенем Аттха, поэтому у альдов священным считается любой огонь. Луну они презирают, называя ее рабыней или ведьмой. Земля для них — место ссылки. И весьма, надо сказать, отвратительное место, нечистое, ибо здесь кишат злокозненные демоны и вечно царят тьма и хлад, если не считать тех крох света и тепла, что падают на землю, отразившись от Аттха-солнца. В общем, именно на земле и проявляет себя во всей красе злобный Обаттх, вечный враг Аттха. Он — и в горькой судьбе большинства людей, и в том зле, которое они творят сами, и в тех злых духах, которым они поклоняются. Но главные силы Обаттха сосредоточены в некоем вполне определенном месте.
Там собрано все самое отвратительное на земле, там тьма проникает глубоко в недра земные, там не властен отраженный свет солнца — тьма отбрасывает его прочь, пожирает его, точно некое антисолнце. Там царит вечный мрак, как в могиле; там сыро, холодно и дурно пахнет. Если солнце дарит всему живому жизнь, то это средоточие зла всему сулит одну лишь погибель, небытие. И эту бездонную пропасть, эту чудовищную дыру в теле мирозданья альды называют Пасть Ночи.
Именно там «тысяча истинных мужчин» и должна собраться, дабы пронести пламя Испепеляющего бога в царство вечной тьмы, начать священную войну с проклятым Обаттхом и уничтожить его. А потом пройти по всей земле, размахивая победными огненными знаменами, от которых земля вспыхнет и засияет ярко, как солнце, и будет пылать еще долго, много дней и ночей. И все злокозненные демоны и тени будут с нее изгнаны к дальним пределам внешней тьмы, где не видны даже звезды. И с той поры нашим миром будут править сыновья Асудара, исповедуя справедливость и поклоняясь своему Испепеляющему богу.
Чуть хрипловатый голос Лорда-Хранителя звучал монотонно и глухо; я заметила, как крепко стиснуты пальцы его рук.
— Согласно поверьям Асудара, Пасть Ночи находится где-то на западе, на морском побережье. Дорид, правитель и верховный жрец Медрона, приказал нижестоящим священнослужителям отыскать это средоточие тьмы. Одни из них считали, что Пастью Ночи является гора Сул; другие же утверждали, что Сул — это вулкан, а значит, в ней содержится священный огонь, связывающий ее с Аттхом, и, следовательно, обитель зла, бездонный темный колодец, следует искать на противоположном берегу пролива, напротив горы Сул — в городе Ансуле.
Альды уверены, что Пасть Ночи охраняет некий невероятно могущественный волшебник, способный призвать на помощь многочисленную армию злых духов, порожденных зловонным дыханием земли. И тысячи «лживых богов», которым поклоняются «эти язычники», тоже, разумеется, соберутся там, чтобы защитить свою обитель.
И, желая захватить нашу страну и город Ансул и отыскать Пасть Ночи, царь Дорид послал сюда свою многочисленную армию. И как только воинам Асудара удастся ее отыскать, царь пошлет сюда ту самую «тысячу истинных мужчин» с пылающими знаменами, которые испепелят и навсегда уничтожат зло. Свет, таким образом, победит тьму, и добро восторжествует навеки.
Лорд-Хранитель резко выдохнул, закусил губу и отвернулся, пряча лицо в тени.
— Никогда не слыхал такой легенды, — промолвил Каспро. Я заметила, что голос у него слегка дрожит. Видимо, он заговорил только для того, чтобы дать Лорду-Хранителю возможность прийти в себя. — Истории о том, как земля стала полем сражений для Аттха и Обаттха я, разумеется, слышал не раз. И о бесконечной войне между ними. Людям в пустыне Асудар действительно известно о том, что где-то далеко на западе есть гора Сул, жуткое, сверхъестественное место, но, по-моему, они считают Сул такой только потому, что она со всех сторон окружена морем. Соленую воду они называют «проклятием Обаттха»… А эта легенда о Пасти Ночи, должно быть, относится к неким тайным знаниям, сакральным сказаниям альдских жрецов.
— Зато представляется весьма полезной, чтобы оправдать вторжение на чужую территорию, — вставила Грай.
— Если это так, то она должна быть широко известна в Асударе, верно? — возразил Оррек. — А это не так. Скажи, Султер, разве обыкновенные солдаты знают эту легенду?
— Не уверен. Но точно знаю, что им велели искать вполне определенные вещи. И обыскивать вполне определенные дома. Они ищут потайные пещеры, волшебников, таинственных идолов и, разумеется, книги. У нас за городом, в горах, много пещер — их и искать не надо. А уж «поганых идолов» и книг воины Асудара обнаружили в Ансуле предостаточно. И приложили немало усилий, чтобы все их уничтожить.
Довольно долго все молчали. Потом Грай спросила:
— А как альды… вами управляют?
Было что-то такое в ее голосе… Нет, голос ее не отличался особой красотой или звучностью, как у Оррека Каспро, но каким-то неведомым образом он приносил облегчение, успокаивал — примерно так же действовало на меня, например, прикосновение к шерсти Шетар. И я почувствовала, что Лорд-Хранитель, отвечая ей, уже не так напряжен, как прежде.
— А они нами не управляют. Они нас попросту превратили в рабов. Всем здесь распоряжаются ганд Иораттх и его военачальники. Мы, уроженцы Ансула, стараемся, конечно, держаться вместе и как-то сохранять наш город и наши обычаи, продолжая по мере возможностей делать все то, что и должны были делать, однако альды душат нас налогами и поборами, постоянно наказывают за «богохульство» и стараются держаться от нас подальше. С самого начала они живут в Ансуле, как солдаты в гарнизоне. Они никого не посылают на поселение. Они не взяли с собой из родных мест ни одной женщины. Собственно, жить здесь они, по-моему, вовсе и не хотят. Мало того, они ненавидят и нашу страну, и наш город, и наше море. Для них и сама земля — это всего лишь место ссылки, изгнания, и вот это-то как раз хуже всего.
Лорд-Хранитель умолк, и в наступившей тишине Шетар, подняв лежавшую на лапах голову, вдруг сладко, с подвывом, зевнула во всю пасть, сопроводив зевок глубоким горловым рычанием.
— Ты совершенно права, Шетар, — сказала Грай, поворачиваясь к ней. И они с Каспро тут же встали, и благодарили Лорда-Хранителя за гостеприимство, и желали всем спокойной ночи. Меня они тоже поблагодарили.
Я протянула Грай масляный светильник с колпачком из слюды, чтобы им с Орреком удобнее было в темноте подниматься к себе наверх. Я видела, что они, выходя с веранды, коснулись краешка ниши с фигуркой нашего домашнего бога и рядышком пошли дальше по коридору, и его рука лежала у нее на плече, а свет от лампы бежал с ними рядом по голой каменной стене.
Обернувшись, я посмотрела на Лорда-Хранителя и поняла, что он так и стоял все это время, неотрывно глядя на пламя свечи. Лицо его казалось страшно усталым, и я вдруг подумала: до чего же он одинок! Его друзья и знакомые приходили и снова уходили, а он обречен был всегда оставаться здесь. Я раньше считала, что это он сам предпочел затворничество и одиночество, что стремление к уединению свойственно его натуре, и мне оно казалось совершенно естественным. Но потом я поняла: у него просто не было выбора.
Он поднял голову и посмотрел на меня.
— Ну и кого же ты привела в Галваманд, Мемер?
Меня испугал его тон. И я не сразу сумела ответить:
— Я думаю, друзей.
— О да! Могущественных друзей.
— Лорд-Хранитель…
— Да?
— А эта история о Пасти Ночи и Обаттхе… Скажи, неужели они, эти жрецы в красных шапках и солдаты, явились сюда, в наш дом, в Галваманд, и забрали тебя в тюрьму, потому что думали…
Он далеко не сразу ответил мне и долго сидел в какой-то странной, напряженной позе, сгорбившись и словно страдая от невыносимой боли.
— Да, поэтому, — промолвил он наконец.
Я и сама толком не понимала, что, собственно, хотела у него узнать, зато он меня отлично понял. И в глазах его вспыхнул яростный огонь.
— То, что они ищут, и так принадлежит им. Они носят все это в своем сердце, а у нас в сердце ничего такого нет. И дом наш не таит никакого зла. Они сами принесли с собой свою тьму. Но они никогда не поймут и не узнают, что таится в сердце Галваманда. Да они и не станут искать. И никогда не увидят… Та дверь никогда не откроется для них! Тебе нечего бояться, Мемер. Ты не сможешь выдать эту тайну даже случайно. Я пробовал. Я пытался это сделать. И даже не один раз. Но боги моего дома и тени моих мертвых заранее простили меня. Я знаю, они бы никогда не позволили мне стать предателем. И руки их, тех, кто дарит нам сны и мечты, зажали мне рот.
Вот теперь мне действительно стало страшно. Он никогда раньше даже не упоминал о тех пытках, которым его подвергли. И теперь сидел, стиснув руки, опустив плечи, и весь дрожал. Мне хотелось подойти к нему, но я не смела.
Он слегка махнул рукой и прошептал:
— Ступай, ступай. Ложись-ка спать, детка.
Я все-таки шагнула к нему и накрыла своей рукой его руку.
— Не тревожься, со мной все в порядке, — сказал он. — Послушай, ты очень правильно поступила, что привела их сюда. Ты принесла нам благословение богов. Впрочем, ты его всегда нам приносила, Мемер. А теперь ступай спать.
И мне пришлось уйти и оставить его там, такого одинокого, дрожащего…
Я чувствовала себя очень усталой — этот день и впрямь оказался каким-то ужасно длинным, — но все же не смогла сразу лечь в постель и заснуть. И через некоторое время вернулась в заднюю часть дома, остановилась у той стены, что прилегала прямо к скале, начертала в воздухе заветные слова и вошла в тайную комнату.
Но стоило мне туда войти, как меня охватил страх. Я просто вся похолодела, и по спине поползли противные мурашки.
К тому же меня преследовал тот жуткий образ из рассказанной Лордом-Хранителем легенды: черное солнце, высасывающее из нашего мира тепло и свет; и мне казалось, будто в душе у меня тоже образовалась какая-то дыра, через которую уходит, утекает все — смысл жизни, смысл слов, — и не остается ничего, только холод и пустота.
Я всегда боялась дальнего конца этой странной вытянутой комнаты. И всегда старалась держаться от этой ее темной части подальше, отворачивалась, пыталась вообще не думать о том, что там находится, уговаривая себя: «Ничего, просто там хранится нечто такое, что я непременно пойму позже». Ну вот, видимо, теперь это «позже» как раз и наступило. Теперь я должна была понять, что покоится в основе моего родного дома, что таится у него в сердце.
Но прежде мне необходимо было разобраться, в чем смысл той легенды о Пасти Ночи, понять, что означает этот отвратительный образ, созданный ненавистными мне альдами.
Любопытно было и то, о чем говорил Оррек Каспро. А он рассказывал о библиотеке. Причем самой большой в мире. О некоем хранилище знаний. О таком месте, где царствовал свет разума.
Но, увы, я не могла даже просто посмотреть в дальний конец комнаты! К этому я оказалась пока не готова; мне нужно было собраться с силами. Я подошла к столу, под которым когда-то устраивала себе домик и воображала, что я — медвежонок в своей берлоге. Я поставила на стол светильник, положила руки на столешницу ладонями вниз и крепко прижала их к гладкой деревянной поверхности, чтобы почувствовать, какая она приятная на ощупь, какая прочная и гладкая. И тут увидела на столе книгу.
Мы оба всегда перед уходом аккуратно ставили книги на прежние места; эту привычку к порядку Лорд-Хранитель перенял еще от своей матери, а она была для него таким же учителем, каким и он для меня. Но этой книги я еще никогда не видела. Судя по виду, она не имела отношения к наиболее древним. Должно быть, это была одна из тех книг, которые люди тайком принесли Лорду-Хранителю, чтобы он их спрятал, спас от жрецов всеразрушающего Аттха. А я тогда особенно увлекалась великими поэтами прошлого, стараясь как можно больше узнать о них и хоть немного разобраться в том знании мира, которым они обладали, так что я почти не заглядывала в те шкафы, где стояли эти случайно спасенные и куда более новые книги. Должно быть, Лорд-Хранитель выбрал эту книгу специально для меня и оставил на столе, пока я во второй раз ходила на рынок вместе с Грай.
Я открыла книгу и увидела, что это не рукописное издание, а печатное — то есть она изготовлена с помощью тех металлических буковок, которые теперь используют в печатных мастерских Бендрамана и Урдайла; Лорд-Хранитель объяснил мне, что так можно легко сделать сразу хоть тысячу экземпляров. Я прочла название: «Хаос и дух: космогония», а под ним стояло имя автора: Оррек Каспро, а еще ниже — имена печатников: Берре и Холавен из Деррис-Уотера, Бендраман. На следующей странице имелся эпиграф: «Посвящается Меле Аулитте из Каспроманта, о которой я всегда буду помнить с нежностью и любовью».
Я села за стол — лицом к темному концу комнаты. Я по-прежнему не могла заставить себя посмотреть туда, но и повернуться к этому мраку спиной мне было страшно. Я придвинула лампу поближе и стала читать…
Проснувшись, я обнаружила, что по-прежнему сижу за столом, голова моя лежит на раскрытой книге, а за окном уже брезжит рассвет. Лампа давно потухла. Я продрогла до костей, а руки мои настолько затекли и окоченели, что я едва сумела начертать в воздухе нужные буквы, чтобы выйти из комнаты.
Я тут же бросилась на кухню и, раскрыв дверцу топившейся плиты, чуть не влезла туда, пытаясь согреться. Иста что-то ворчала, а Соста, как всегда, несла какую-то чушь, но я их не слушала. Потрясающие слова из только что прочитанной поэмы волнами всплывали в памяти, туманя мое сознание; нет, скорее эти строки были похожи на ширококрылых пеликанов, летящих над водой. И, кроме них, я ничего не слышала, не видела и не чувствовала.
И тут Иста встревожилась по-настоящему, решив, что у меня лихорадка. Протягивая мне чашку горячего молока, она сказала:
— Выпей-ка побыстрее, глупая девчонка! С какой такой стати ты болеть-то вздумала? Да еще теперь, когда у нас в доме гости! Немедленно пей! — Я послушно выпила молоко, поблагодарила ее, пошла к себе и, тут же рухнув на постель, проспала мертвым сном почти до полудня.
Грай и ее мужа я нашла во дворе возле конюшни; там же была львица Шетар и их лошади; там же, естественно, торчали и Гудит с Состой. Соста, похоже, даже о шитье приданого позабыла. Теперь она все время слонялась возле Оррека Каспро, таращила на него глаза и обмирала от восторга. Гудит был занят тем, что седлал высокого рыжего жеребца, а Грай и Оррек отчаянно о чем-то спорили. Нет, они не ругались, но явно никак не могли прийти к согласию. Как у нас говорят, «не было у них в душе Леро».
— Да не пойдешь ты туда один, и все! — горячилась Грай, а он возражал:
— Но ведь тебе-то туда никак нельзя! — И похоже, так они пререкались уже давно.
Вдруг Оррек обернулся, заметив меня, и на мгновение я тоже обмерла, вытаращив глаза, как Соста, и понимая, что именно этот человек и сочинил ту поэму,
от которой я всю ночь не могла оторваться, которая взбаламутила мне всю душу. Впрочем, смущение мое быстро прошло. Передо мной действительно стоял Оррек Каспро, но только не великий поэт, а обыкновенный встревоженный мужчина, который никак не может переспорить свою жену и все воспринимает чересчур серьезно. Он был нашим гостем и очень мне нравился.
— Вот рассуди нас, Мемер, — сказал он. — Ведь люди вчера на рынке видели Грай? Причем вместе с Шетар, верно? Ее видели там сотни, десятки сотен людей!
— Ты прав, — охотно подтвердила Грай, прежде чем я успела хотя бы рот раскрыть. — Но ведь в фургон-то никто не заглядывал! Ведь не заглядывал, правда, Мемер?
— Нет, — пробормотала я, — вряд ли.
— Тогда, значит, так, — продолжала она. — Твоя жена еще на рыночной площади спряталась в фургоне и теперь сидит дома, как и подобает добропорядочной женщине. А возле дворца из фургона вылезет твой слуга, дрессировщик твоего льва; он-то вместе с тобой и отправится к ганду.
Оррек упрямо помотал головой.
— Послушай, дорогой, но ведь я в течение двух месяцев путешествовала с тобой по всему Асудару, переодевшись в мужское платье! Почему же сейчас, скажи на милость, я не могу точно так же переодеться?
— Тебя все равно узнают! Они же видели тебя, Грай. Видели, что ты женщина.
— Ерунда, для них все неверные на одно лицо! К тому же они на женщин смотрят как на пустое место.
— Зато женщин со львами они отлично замечают! Особенно тех, которые пугают их драгоценных лошадей!
— Оррек, я иду с тобой.
Его настолько расстроило ее упрямство, что ей пришлось подойти к нему и ласково обнять.
— Ну что ты? — утешала Оррека Грай. — Вспомни: в Асударе никто ни разу ничего не заметил и ни о чем не догадался. Только та старая ведьма в оазисе — помнишь ее? Но даже и она, догадавшись, что я женщина, только посмеялась и никому ничего не сказала. Уверяю тебя, они ничего не поймут. Да они и смотреть-то как следует не умеют! А одному я тебе идти не позволю. Не могу позволить. И ты не можешь пойти туда один. Тебе нужна Шетар. А Шетар нужна я. Ну все, я пойду переоденусь — времени у нас еще более чем достаточно. Верхом я не поеду, верхом поедешь ты, а мы с Шетар пойдем рядом, так что осмотреться мы вполне успеем, если что, верно ведь, Мемер? Далеко отсюда до дворца?
— Четыре перекрестка и три моста.
— Видишь? Я сейчас вернусь. А вы его без меня не отпускайте! — сказала она мне, Гудиту и Состе, а также, похоже, рыжему жеребцу и убежала в дом. Шетар огромными прыжками помчалась за ней следом.
Оррек повернулся к нам спиной, отошел к воротам и некоторое время стоял там, как-то судорожно выпрямившись. Мне даже его жалко стало.
— Так ведь это же ясно как день, — сказал Гудит. — Там, во дворце этом, как они его называют, не люди, а змеи ядовитые! А раньше-то мы его Домом Совета называли… Эй ты, а ну давай отсюда! — Высокий рыжий жеребец посмотрел на конюха с мягким упреком и вежливо отступил влево.
— До чего же ты красивый! — сказала я жеребцу, потому что он и впрямь был удивительно хорош собой, и ласково потрепала его по шее. — Тебя Брэнди зовут?
— Бранти, — поправил меня Оррек, вновь подходя к нам с видом человека, потерпевшего достойное поражение в честном бою. Состу это, похоже, поразило в самое сердце.
— Ох! — воскликнула она и торопливо, пытаясь скрыть смущение, предложила: — Может, тебе принести… — Но придумать, что бы такое могло Орреку понадобиться, она не успела.
— Бранти — мой старый добрый друг, — сказал Оррек и взял жеребца под уздцы, собираясь вскочить в седло, но Гудит остановил его:
— Погоди-ка, погоди минутку! Надо у него еще разок подпругу проверить. — И он, ловко отодвинув Оррека от коня, забросил стремя на седло и полез жеребцу под брюхо.
И Оррек сдался. Теперь он стоял и ждал так же терпеливо, как Бранти.
— А он у тебя давно? — спросила я, стараясь подержать разговор и чувствуя себя почти такой же дурой, как Соста.
— Да ему уже за двадцать перевалило — пора и отдохнуть от наших бесконечных странствий. Да и Звезде тоже. — Оррек улыбнулся, но как-то печально. — Мы ведь все вместе тогда Верхние Земли покинули — Бранти и я, Звезда и Грай. И еще Коули. Наша собака. Очень хорошая собака. Ее Грай учила.
Услышав это, Гудит, разумеется, пустился в бесконечные рассказы о гончих псах, которых некогда разводили в Галваманде. Он все еще разглагольствовал, когда вернулась Грай, одетая в узкие мужские штаны и грубую верхнюю рубаху. Мужчины в Ансуле носят длинные волосы, стягивая их на затылке, так что она просто расплела и расчесала свою косу, а на голову надела потрепанную шапчонку из черного бархата. Подбородок и щеки она каким-то образом то ли затемнила, то ли что-то к ним приклеила, и теперь казалось, будто она бреет бороду. Ее легко можно было принять за местного парня лет двадцати пяти, быстроглазого, застенчивого и мрачноватого.
— Ну что, мы готовы? — спросила она. Ее мягкий северный выговор тоже вдруг куда-то исчез, а голос стал хрипловатым и грубым.
Соста в полном изумлении уставилась на нее.
— Ты кто? — спросила она.
И Грай, выкатив глаза, с достоинством ей ответила:
— Я — Кай, укротитель львов. Ну, ты готов, Оррек?
Он пристально посмотрел на нее, слегка пожал плечами и взлетел в седло.
— Ладно, пошли! — сказал он и, не оглядываясь, поехал к воротам. Грай и львица двинулись за ним следом. Вдруг «укротитель Кай» оглянулся и подмигнул мне.
— Но откуда он взялся? — недоумевала Соста.
— Да хранит их всемилостивая Энну в том логове смертоносных крыс и змей, куда они направляются! — себе под нос пробормотал Гудит и, шаркая ногами, пошел в конюшню.
А я вернулась в дом; мне еще нужно было «обслужить» всех наших богов и предков и спросить у Исты, что нужно купить на рынке.
Глава 6
Когда же я снова вышла из дома, Гудит сказал мне, что из Дома Совета, который «треклятые альды» называют «дворцом ганда», приходил человек и велел передать Орреку Каспро, если тот еще не ушел, что ему придется подождать, ибо великий ганд не может с ним встретиться ранее полудня. Разумеется, ни извинений, ни объяснений причины, ни хотя бы простого «пожалуйста». В общем, ничего мы передать Орреку и Грай уже не могли, так что стали ждать их возвращения. Было уже совсем поздно, когда они наконец вернулись, и я ужасно волновалась. Я сидела на краешке пересохшего Фонтана Оракула во дворе перед домом, когда увидела их на дальнем, южном конце нашей улицы, — Оррек шел пешком и вел коня под уздцы, рядом шагал «Кай, укротитель львов», а сзади тащилась Шетар, которая, судя по виду, была весьма не в духе. Я выбежала им навстречу.
— Не волнуйся, все прошло хорошо, — успокоил меня Оррек, а Грай сказала:
— Да, неплохо.
Гудит уже стоял в дверях конюшни, готовясь принять Бранти в свои объятия, — он был так рад, что в конюшне у нас снова появились лошади, что никому больше не позволял за ними ухаживать. Грай поманила меня рукой:
— Идем-ка с нами.
У себя в спальне «укротитель львов», даже еще не переодевшись и не смыв с лица грим, тут же вновь превратился в Грай. Я спросила, не хотят ли они поесть, но они сказали, что не голодны. Оказывается, ганд приказал накормить и напоить их.
— А во дворец-то они вас впустили? Неужели вместе с Шетар? — спросила я. Мне не хотелось проявлять излишнее любопытство — особенно в том, что касалось альдов, — но узнать, как выглядит дворец изнутри, все же было очень интересно. Никто из моих знакомых никогда не бывал ни там, ни в казармах, никто никогда толком не видел, как живут ганд и его воины, потому что холм, на котором стоит Дом Совета, всегда был оцеплен несколькими рядами вооруженной стражи.
— Ты расскажи Мемер, как все прошло, а я пока этот наряд с себя сниму, — сказала Орреку Грай, и он стал мне рассказывать, да так, словно на ходу сочинял какую-то красивую легенду. Ну не мог он без этого!
Оказывается, альды жили не только в построенных ими казармах, но и в палатках, какими они пользуются во время странствий по своим пустыням. А шатер ганда на площади Совета просто огромный, прямо как настоящий дом; он целиком сделан из красной ткани с золотой каймой и украшен знаменами. По словам Оррека, ганд предпочитает жить в этом шатре, а не в Доме Совета, и оттуда же править нами. Во всяком случае, сейчас, когда прекратились дожди, он живет именно там. Великолепное убранство, роскошная мебель и красивые резные ширмы, с помощью которых шатер делится как бы на отдельные комнаты, — кое-что Оррек успел увидеть, а остальное легко мог себе представить, потому что раньше не раз бывал в таких богатых шатрах, странствуя по Асудару. Однако ганд его в шатер так и не пригласил. Ему лишь предложили присесть на довольно хлипкое складное кресло, стоявшее на ковре у самого входа в шатер.
Бранти отвели на конюшню, и конюх обращался с ним так, словно он хрустальный. Укротителю львов Каю сесть и вовсе не предложили. Он вместе с Шетар остался стоять у Оррека за спиной, но на некотором от него расстоянии. Собравшиеся вокруг офицеры весьма настороженно наблюдали за ними. Затем Орреку и «укротителю» предложили бумажные зонтики, защищавшие от палящего солнца.
— Между прочим, они выдали мне зонт только потому, что со мной была Шетар! — крикнула Грай из соседней комнаты, где приводила себя в порядок. — Точнее, именно для Шетар. Альды львов уважают. Потом, правда, они эти зонты все равно выбросят, потому что ими пользовались мы, нечистые.
Им сразу предложили освежающие напитки, а для Шетар принесли миску с водой. Ждать пришлось примерно с полчаса, а потом из шатра вышел ганд в сопровождении своих придворных и военачальников. Он весьма любезно приветствовал Оррека, назвав его «королем поэтов», и сказал, что рад видеть его в Асударе.
— Какой Асудар! — не выдержала я. — Это же Ансул! — Пришлось извиняться перед Орреком за то, что я невольно прервала его.
— Там, где альд, там и его пустыня, — мягко пояснил Оррек; не знаю уж, сам он это придумал или это какая-то альдская пословица.
Ганд Иораттх оказался человеком лет шестидесяти, а то и больше; он был одет в прекрасные одежды из тонкого полотна с вплетенной в основу золотой нитью, как это принято в Асударе. На голове у него красовалась широкополая шляпа с острым высоким верхом, какие носят у них только самые знатные люди. Держался он весьма приветливо, а беседу вел умно и живо. Они с Орреком немного поговорили о поэзии: сперва, естественно, о великом эпосе Асудара, а потом и о тех, кого ганд называл «западными поэтами». Его интерес был неподдельным, а вопросы вполне уместны и тактичны. Он пригласил Оррека приходить во дворец как можно чаще и декламировать как свои произведения, так и любые другие. И сказал, что это не только доставит огромное удовольствие ему и его придворным, но и просветит их. Оррек особо подчеркнул, что ганд разговаривал с ним как с равным и приглашал его прийти, а не приказывал явиться.
Через некоторое время к их беседе присоединились также некоторые придворные и военачальники; они, как и сам ганд, проявили изрядные познания в области асударского эпоса и огромный интерес к поэзии вообще. Они просто жаждали послушать что-нибудь в исполнении Оррека и не жалели для него комплиментов; они, например, сказали, что он для них — точно источник в пустыне.
Впрочем, не все были настроены так дружелюбно. Сын ганда, Иддор, держался подчеркнуто надменно и отчужденно, не обращая ни малейшего внимания на оживленную беседу о поэзии. Вместе с группой жрецов и офицеров он стоял довольно далеко от входа в шатер, но разговаривали они так громко, что ганд в итоге попросил их замолчать и упрекнул в невежливости. Иддор нахмурился, но все же умолк.
Затем ганд попросил, чтобы льва подвели к нему поближе. «Укротитель Кай» подчинился, и Шетар тут же продемонстрировала свой «знаменитый трюк», как называл его Оррек: повернувшись к ганду мордой, она вытянула передние лапы и склонила к ним голову, как это делают кошки, когда потягиваются; получился этакий почтительный «поклон». Всем это страшно понравилось, и Шетар пришлось «поклониться» еще несколько раз, на что она, впрочем, не возражала, ибо каждый раз получала маленькое вознаграждение, хотя сегодня и должна была поститься. Даже Иддор не выдержал, подошел ближе и стал заигрывать с нею, дразня ее своей украшенной перьями шляпой, но она даже головы в его сторону не повернула. Тогда он принялся задавать укротителю разные вопросы — достаточно ли эта львица сильна, доводилось ли ей охотиться по-настоящему, кусала ли она людей, убивала ли хоть раз человека и тому подобное. Укротитель учтиво ответил на все его вопросы, а потом заставил Шетар ему поклониться. Шетар поклонилась, хотя и довольно небрежно, а потом взяла и нахально зевнула прямо Иддору в лицо.
— Неверным не следует разрешать держать при себе асударского льва! — возмущенно заявил Иддор отцу, но тот возразил:
— Но кто отнимет льва у его хозяина? — Очевидно, это была какая-то пословица, и он воспользовался ею весьма удачно. Его слова, видно, разозлили Иддора, и он принялся дразнить Шетар, всячески ее провоцируя, — громко кричал, делал вид, будто нападает на нее. Но Шетар и усом не повела. Зато ганд, поняв, чего добивается его сынок, встал и гневно воскликнул, что Иддор своими выходками позорит их гостеприимный дом и оскорбляет достоинство льва, а потом велел молодому человеку удалиться.
— Оскорбляет достоинство льва! — с удовольствием повторила Грай, усаживаясь с нами рядом; грим она смыла и вновь надела свою любимую шелковую рубаху и штаны. — Это было здорово сказано!
— Зато совсем не здорово то, что ганд и его сынок из-за нас поцапались, — сказал Оррек. — Гудит был прав: это настоящее змеиное гнездо. С ними надо вести себя очень осторожно. Хотя сам ганд — человек, безусловно, весьма интересный.
«Этот ганд — тиран, разрушивший наш город и превративший нас в рабов!» — подумала я, однако промолчала.
— Лорд-Хранитель очень точно заметил, — продолжал Оррек, — что альды живут в Ансуле, как солдаты во временном лагере. Они, похоже, на удивление мало знают о жизни здешнего населения, о том, кто такие жители Ансула и чем они занимаются. И ганду, как я понял, это всеобщее невежество альдов надоело. Видимо, он, понимая, что здесь, скорее всего, и окончит свои дни, решил попросту наслаждаться жизнью. Хотя должен отметить, что и жители Ансула тоже почти ничего об альдах не знают.
— А с какой стати нам что-то знать о них? — вырвалось у меня. Я ничего не могла с собой поделать.
— У нас в Верхних Землях говорят так: мышке следует хорошо знать кошачьи повадки, — заметила Грай.
— А я не желаю ничего знать о людях, которые плюют на моих богов, а нас называют нечистыми! Сами они дерьмо вонючее! Да вы только посмотрите… Нет, вы только посмотрите хотя бы на нашего Лорда-Хранителя! Вы же видели, что они с ним сделали! Неужели вы думаете, что он родился с переломанными руками?
— Ах, Мемер!.. — сказала Грай и хотела меня обнять, но я отстранилась и сказала:
— Вы, конечно, можете сколько угодно ходить к ним во дворец! Можете есть их угощения, если это вам так нравится, можете читать им свои стихи, а я бы, если б могла, перебила бы в Ансуле всех альдов до одного!
И тут слезы брызнули у меня из глаз, и я отвернулась, понимая, что все испортила и больше они мне ничего рассказывать не будут.
Я встала и хотела уйти, но Оррек остановил меня.
— Послушай, Мемер, — сказал он, — нет, ты послушай меня. Прости нас, прости нам наше невежество. Мы, ваши гости, знаем о вас, к сожалению, недостаточно. И просим у вас за это прощения.
Я сразу перестала лить слезы как последняя дура, вытерла глаза и сказала:
— Это вы меня простите.
— Прости, прости, — прошептала Грай, и я позволила ей взять меня за руку и сесть со мной рядышком у окошка. — Мы ведь так мало знаем и о тебе, и о вашем Лорде-Хранителе, и об Ансуле. Но я уверена, как уверена и ты: сама судьба свела здесь всех нас.
— Нет, Леро, — сказала я.
— Конь, лев и Леро, — согласилась она. — И я всегда буду верить тебе, Мемер.
— И я — вам обоим, — сказала я.
— Тогда расскажи нам, кто вы такие. Нам необходимо лучше узнать друг друга! Расскажи нам, кто такой ваш Лорд-Хранитель, точнее, кем он был до прихода альдов. Он, наверное, был кем-то вроде правителя или губернатора этого города?
— У нас нет никаких правителей.
Я постаралась собраться и отвечать так, как отвечала во время урока Лорду-Хранителю, а он, довольный моим ответом, просил: «Пожалуйста, дальше, Мемер».
— Для управления городом мы раньше избирали Совет, — начала я. — Так делали и жители всех прочих городов Ансула. Причем за каждого члена Совета люди голосовали отдельно. А уж потом советники сами выбирали Хранителей Дорог. Хранители Дорог постоянно ездили из города в город и следили за тем, как идет торговля, и за обеспечением городов и селений Ансула всем необходимым. Они также старались по мере сил препятствовать всякому мошенничеству среди торговых людей и не давали купцам заниматься лихоимством.
— Значит, Лорд-Хранитель — это не наследственный титул?
Я энергично помотала головой:
— Нет, Главного Хранителя Дорог выбирали на десять лет. А потом могли и еще на десять выбрать, если члены Совета вновь называли то же имя. Затем старого Лорда-Хранителя сменял кто-то другой. Им мог стать любой. Нужно было только непременно иметь в своем распоряжении определенную сумму денег — либо собственные средства, либо специально выделенные для этого твоим родным городом. Ведь Главный Хранитель Дорог вынужден не только постоянно принимать у себя разных важных людей — купцов, промышленников, других Хранителей Дорог, — но и все время разъезжать по стране и даже в соседние государства, например в Сундараман, чтобы вести переговоры с тамошними торговцами шелком и правительственными чиновниками. А ведь такие поездки требуют немалых расходов. Хотя раньше Галваманд был очень богатым домом. Да и жители города Лорду-Хранителю всегда помогали. Это ведь высокая честь — быть избранным Главным Хранителем Дорог государства, поэтому мы и до сих пор его так называем. Просто из уважения. Хотя теперь это звание уже ничего не значит.
Слезы вдруг опять подступили у меня к глазам, и я с трудом их сдержала. Эта слабость, неспособность совладать с собой пугали меня и злили. Впрочем, как раз гнев на себя и помог мне успокоиться.
— Но так было в Ансуле еще до моего рождения. Я знаю об этом только по рассказам. А еще по книгам. В некоторых исторических хрониках я читала, что…
Я осеклась и умолкла. Я даже дышать перестала, словно кто-то ударил меня в живот. И вся похолодела от ужаса. Проклятая привычка распускать язык все же взяла надо мной верх! Я ни в коем случае не должна была говорить о том, что читаю книги! Никогда и никому. Тем более людям, не являющимся членами нашей семьи.
Но Оррек и Грай, разумеется, ничего особенного не заметили. Им эта неожиданная пауза показалась совершенно естественной. Они только понимающе покивали и попросили меня продолжать.
Однако теперь я совсем не была уверена в том, что именно надо им рассказывать и чего не надо.
— Таких, как я, у нас называют «осадным отродьем», — сердито сказала я и подергала себя за свои светлые, тонкие, ломкие волосы. Хорошо бы они сами поняли, кто я такая, думала я; рассказывать о том, как изнасиловали мою мать, мне совсем не хотелось. — Вот видите… Тогда альды захватили наш город. Только потом мы их все-таки прогнали, и они почти целый год не могли снова взять Ансул. Мы умеем сражаться. Хотя войн не развязываем и воевать с другими не любим. Но сражаться мы умеем. В общем, потом из Асудара прислали новую армию, в два раза больше прежней, и альдам все-таки удалось взять Ансул штурмом. Нашего Лорда-Хранителя они тут же схватили и бросили в тюрьму. А Галваманд превратили в развалины. Затем они уничтожили университет и библиотеку, а все книги побросали в каналы и в море. Они и людей топили в каналах или насмерть забивали камнями. Или заживо втаптывали в жидкую грязь. Мать нашего Лорда-Хранителя, Илейо Галва…
Голос у меня сорвался. Илейо жила в этой комнате. Она была здесь, когда солдаты вломились в дом… Нет, продолжать я не могла.
Мы все долго молчали.
Шетар, помахивая хвостом, подошла к нам, и я потянулась к ней, желая отвлечься от горьких воспоминаний, но она на меня даже не посмотрела. Пасть у нее была полуоткрыта, и она как-то больше обычного была похожа на дикую львицу.
— Она теперь до утра будет в дурном настроении, — сказала Грай. — Во дворце она за каждый свой трюк вознаграждение получала, и эти подачки напомнили ей, что по-настоящему ее сегодня еще не кормили.
— А что она ест?
— В основном беззащитных коз, — усмехнулся Оррек.
— А поохотиться вы ей никогда не разрешаете?
— Она толком даже не знает, как это делается, — сказала Грай. — Хотя мать наверняка научила бы ее. Львицы ведь охотятся все вместе, как стая волков, например. Но матери у нее нет, потому она нас и терпит. Теперь мы — ее семья.
Шетар, выслушав ее слова, что-то сказала на своем языке — что-то напевное, печальное, похожее на хриплый стон, — и опять принялась нервно ходить из угла в угол.
— Мемер, скажи — если тебе, конечно, не слишком тяжело говорить об этом… — Оррек вопросительно посмотрел на меня, и я помотала головой. — Ты говорила, что альды уничтожили университетскую библиотеку, так? Неужели от нее совсем ничего не осталось?
Я понимала: он надеется, что я стану это опровергать.
— Они пытались стереть с лица земли даже само здание библиотеки, но оно было каменное и построено на славу, так что им удалось только окна выбить да все в комнатах разрушить и разломать. А книги они вынесли наружу. Вернее, заставили горожан носить их и грузить на повозки. Сами они прикасаться к книгам не хотели. В общем, книги свозили к каналам и сбрасывали в воду. Но их оказалось так много, что вскоре каналы были завалены до самого дна, даже вода в них течь перестала, и тогда альды велели возить книги в порт, на берег моря, и с пирсов бросать их в воду. Если книги тонули не сразу, вслед за книгами альды сталкивали в воду людей. Один раз я сама видела, как одну… — На этот раз мне удалось вовремя остановиться, и я не успела рассказать, как спасали ту книгу.
Теперь она хранилась в тайной комнате. Это был один из рукописных свитков, привезенных с севера. Эти манускрипты были написаны на специально обработанной коже, которую затем наматывали на деревянный валик. Этот свиток волны выбросили на берег, и человек, который его нашел, сперва старательно его высушил, а потом принес в Галваманд. Хотя книга несколько недель пробыла в воде, текст, написанный прекрасным почерком, все еще можно было прочесть. Лорд-Хранитель показывал мне этот манускрипт, когда работал над его реставрацией.
Но рассказывать о тех книгах, что хранились в тайной комнате — о тех старинных, что сохранились у нас, о спасенных другими людьми, — я не могла. Никому. Даже Грай и Орреку.
Куда безопаснее было рассказывать о прошлом Ансула, и я надеялась, что эти рассказы отвлекут Оррека от вопросов о библиотеке.
— А ведь когда-то давно университет находился прямо здесь, в Галваманде, — сказала я.
Оррек, разумеется, тут же заинтересовался и стал меня расспрашивать. Я рассказала ему все, что знала, — в основном, конечно, то, что слышала от Лорда-Хранителя. О том, что когда-то четыре главных Дома нашего города — Кам, Гелб, Галва и Актамо — считались самыми богатыми в Ансуле, а члены этих семей пользовались в городском Совете наибольшей властью. Благодаря их участию в городе были построены самые красивые дома и храмы; они же обычно оплачивали и все публичные церемонии и празднества; в этих четырех главных Домах не только собирались, но часто подолгу жили и работали художники и поэты, ученые и философы, архитекторы и музыканты. Как раз в те времена люди с Западного побережья и стали называть Ансул городом Мудрости и Красоты.
Дом Галва всегда стоял здесь, у подножия горы, глядя на реку и на залив, и люди называли его еще Домом Оракула.
— А что, здесь действительно когда-то жил оракул? — спросил Оррек.
Я колебалась, не зная, как лучше ответить. До вчерашнего дня я, собственно, почти не задумывалась над тем, что означает это слово. Точнее, я впервые подумала об этом утром, на следующий день после того, как у нас в доме появились Грай и Оррек. В то утро я стояла во дворе возле давно умершего фонтана — Фонтана Оракула.
— Не знаю… — Я растерялась. Потом хотела еще что-то прибавить, но промолчала. Странно. Почему же сама-то я никогда не интересовалась, кто и когда назвал Галваманд Домом Оракула? Я понятия не имела, что такое «оракул», но почему-то твердо знала, что говорить об этом оракуле ни в коем случае не должна. Как и о тайной комнате. Никогда и ни с кем. Стоило мне подумать об этом — и сразу возникало ощущение, будто рот мне зажимает чья-то невидимая рука.
И я вспомнила, как вчера Лорд-Хранитель сказал: «И руки тех, кто дарит нам сны и мечты, зажали мне рот». Мне вдруг стало страшно.
Грай и Оррек заметили мое смущение и догадались, что мне трудно говорить об этом. Оррек тут же сменил тему и стал расспрашивать меня о самом доме. Я быстро пришла в себя и охотно рассказала им все, что знала об истории Галваманда.
В те старые добрые времена и сам Галваманд, и его обитатели процветали, и к ним тянулись люди искусства и науки, талантливые мастера, ученые, писатели и поэты. Люди со всего Ансула, со всего Западного побережья специально приезжали в Галваманд, желая послушать их произведения, поучиться у них, чтобы поработать с ними вместе. И Ансульский университет, располагавшийся тогда прямо здесь, в Галваманде, все расширялся, так что вскоре вся задняя часть дома — и верхние, и нижние этажи — была отдана под аудитории, под комнаты для преподавателей и студентов, под мастерские и библиотеку; а на внешних дворах и дальше, на склоне холма, пришлось построить еще несколько зданий, в которых разместились общежития и гостиницы, где жили — кто временно, а кто и постоянно — студенты и профессора университета; там же были устроены просторные мастерские для художников и архитекторов.
Поэт Дениос, например, прибыл сюда из Урдайла еще совсем молодым и, возможно, занимался или слушал лекции на той самой веранде, где мы сидели вчера вечером, ибо эта веранда тогда была частью обширной библиотеки Галваманда.
Но со временем бог удачи, которого мы называем Глухим богом, отвернулся от таких семейств, как Кам, Гелб и Актамо; постепенно рушилось их благополучие, таяло их богатство. Соперничество этих Домов с Галвамандом стало приобретать оттенок враждебности, и отчасти под воздействием злобы и зависти, хотя сами они называли это «духом патриотизма», им удалось убедить городской Совет в необходимости того, чтобы Галва передали университет и библиотеку в собственность города. Галва были вынуждены согласиться с решением Совета, но предупредили: на старом месте университету покровительствовали боги и оно издревле считалось священным, тогда как в новом здании университет может и лишиться благословения богов. Новое здание было построено ближе к порту, у подножия горы. Там же построили и здание для библиотеки, и все огромное собрание книг, веками хранившееся в Галваманде, перевезли туда.
А под конец я рассказала Грай и Орреку то, что узнала от самого Лорда-Хранителя:
— Когда из Галваманда стали выносить книги, струя воды в Фонтане Оракула — вы, наверное, видели этот высохший фонтан у нас в переднем дворе — стала понемногу опадать. И чем больше книг выносили из дома, тем слабее становилась струя воды. Когда же увезли все книги, фонтан умер. И стоит сухой вот уже двести лет…
А по случаю открытия нового университета устроили пышное празднество; студенты и преподаватели, конечно, тоже перебрались туда, однако новый университет так и не смог стать столь же знаменитым и столь же посещаемым, как старая библиотека Галваманда. А через два столетия пришли эти проклятые жители пустынь и постарались камня на камне не оставить от университетских стен, а книги побросали в каналы, в море или попросту утопили в грязи.
Оррек слушал мой рассказ, уронив голову на руки.
— И здесь, в Галваманде, ничего не осталось? — спросила Грай.
— Всего несколько книг, — потупилась я. — Но когда осада закончилась, солдаты ворвались в город и сразу же явились сюда — даже раньше, чем в университет. Они искали здесь… то ужасное место, в существование которого верят. Они прямо-таки в щепы разнесли все деревянные части дома, забрали все оставшиеся книги, всю обстановку… Они ломали мебель, забирали с собой все, что находили… — Я говорила чистую правду, но почему-то отчетливо ощущала: Грай прекрасно понимает, что это далеко не вся правда.
— Но это просто ужасно! Ужасно! — Оррек вскочил. — Я знаю, что альды считают письменное слово порождением зла… но уничтожить… просто так уничтожить… — Он, казалось, был вне себя от горя, он задыхался от отчаяния и не находил слов, чтобы выразить свои чувства. Сперва он просто метался по комнате, потом остановился у западных окон и стал смотреть туда, где над крышами Галваманда, над нижней частью города, над заливом плыла окутанная туманом белая вершина горы Сул.
Грай подошла к Шетар, пристегнула к ее ошейнику поводок и тихо сказала мне:
— Идем. Ей нужно прогуляться.
— Простите меня, — сказала я уже в дверях. Я была в отчаянии оттого, что так расстроила Оррека, оттого, что рассказ мой оказался плох и не совсем честен. В тот день Энну в мою сторону даже не посмотрела — это уж точно. И никто из богов не дал мне своего благословения.
— Разве это ты уничтожила книги? — ласково спросила Грай.
— Нет. Но я бы так хотела…
— Если бы нашими желаниями можно было управлять, как конями! — сказала Грай. — Скажи, а нет ли здесь поблизости такого местечка, где я могла бы спустить Шетар с поводка и дать ей побегать? Она никому не причинит вреда, если я буду поблизости, но все же спокойнее гулять с нею там, где нет людей.
— Идем в старый парк, — предложила я. Туда мы и направились. Старый парк раскинулся у восточных стен Галваманда в широком овраге на склоне горы и по ту сторону реки — в том месте, где она разделена дамбами на четыре канала. Деревья на склонах и в овраге так сильно разрослись, что парк стал больше похож на лес. Альды туда никогда не ходят; они не любят лес, тем более такие заросли. Да и горожане там бывают очень редко, так что в старом парке можно встретить, пожалуй, только детей, которые охотятся на кроликов и перепелок, надеясь раздобыть к обеду хоть немного мяса.
Я показала Грай еще один фонтан, действующий, — его у нас называют Фонтаном Дениоса, и находится он у самого входа в парк. Шетар долго пила из выложенного плиткой старинного бассейна.
В парке не было ни души, и Грай спустила львицу с поводка. Шетар отошла в сторону, но недалеко, и все время возвращалась к нам. Ей эти заросли тоже, видимо, пришлись не совсем по вкусу, уж больно густым был здесь подлесок, перепутанный с высоченной жесткой травой. Львица долго точила когти сперва об одно дерево, потом о другое, то и дело принюхивалась к следам каких-то животных, явно нырнувших при ее приближении в непролазную чащу. Дальше всего Шетар отбежала, гоняясь за бабочкой на крутой и темноватой тропинке. Она высоко подпрыгивала и смешно пыталась сбить нахальное насекомое лапой. Но стоило Шетар скрыться за поворотом тропы и надолго исчезнуть из виду, как Грай негромко призывно замурлыкала, и в то же мгновение львица возникла прямо перед нами, выпрыгнув из густой тени, точно лесной дух. Грай легонько коснулась ее головы, и Шетар послушно пошла за нами, а мы неторопливо двинулись к выходу.
— Какой все-таки это замечательный дар — уметь призывать к себе животных! — восхищенно заметила я.
— В зависимости от того, как его применять, — сказала Грай. — Хотя нам этот дар, безусловно, очень пригодился, когда мы, покинув Верхние Земли, были вынуждены как-то зарабатывать на жизнь. Я воспитывала чужих лошадей, чтобы Оррек мог спокойно учиться. Мне нравилась эта работа… Меня, кстати, просто восхищает умение альдов воспитывать своих лошадей. Для них ударить лошадь — хуже, чем ударить жену. — Она тихонько фыркнула.
— И как вы только сумели так долго выдержать в этом Асударе? Неужели… альды никогда вас не злили, не раздражали?
— У меня же нет таких серьезных причин злиться на них, как у тебя, — сказала она. — Это было, пожалуй, немного похоже на жизнь среди диких зверей — хищников. Альды опасны и не всегда разумны — по нашим меркам. Они сами осложняют себе жизнь. Порой мне даже становилось их жаль. Я имею в виду альдов-мужчин.
Я промолчала.
— Они все равно что жеребцы или кролики-самцы, — продолжала задумчиво Грай. — Их вечно тревожит присутствие рядом других самцов-соперников или «ничьей» женщины. Они никогда не чувствуют себя полностью свободными. И сами наполняют свой мир врагами… Впрочем, они храбрые, умеют держать слово, умеют как следует принять гостей. В этом они похожи на моих соплеменников из Верхних Земель. Мне они, пожалуй, даже нравились. В общем. Хотя я так и не сумела толком познакомиться ни с одной женщиной — там я, естественно, притворялась мужчиной, и мне приходилось держаться от женщин подальше. Это было ужасно утомительно.
— А мне все в них ненавистно! — горячо сказала я. — И я ничего не могу с собой поделать.
— Естественно, ты ничего не можешь с собой поделать. После того, что ты нам рассказала… Просто представить невозможно, чтобы ты испытывала к ним какие-то иные чувства, кроме ненависти!
— А я и не хочу испытывать к ним какие-то иные чувства.
Грай не ответила. Вряд ли она могла не расслышать, что я сказала. Иногда она, по-моему, просто пропускала мимо ушей то, что говорили вокруг. Некоторое время мы шли молча, потом Грай вдруг повернулась ко мне и сказала с улыбкой:
— Послушай, а почему бы и тебе не сходить с нами во дворец? В качестве второго слуги. Мальчишка из тебя получается отличный. Меня-то ты тогда просто вокруг пальца обвела. Ну что, хочешь пойти? Это ведь очень интересно. Своего ганда они почитают как царя; скажи, много ли у тебя возможностей познакомиться с каким-нибудь царем? А заодно ты могла бы и Оррека послушать — он им свои «Космогонии» декламировать собирается. Это, правда, будет немного рискованно — они ведь просто ушиблены своим единобожием и уверены, что один лишь Аттх может считаться истинным богом. С другой стороны, ганд вчера специально просил Оррека почитать ему что-нибудь из «Космогоний».
Я только головой покачала в ответ. Я действительно мечтала послушать, как Оррек будет декламировать свои сочинения, но только не в окружении целой толпы альдов. Я, правда, больше не собиралась объяснять, почему и сколь сильно я их ненавижу, но и вести себя в их присутствии вежливо, смиренно и рабски покорно я тоже намерена не была.
Однако Грай на следующий день после обеда снова заговорила об этом. Она, очевидно, уже успела обсудить эту идею с Орреком и уговорить его, потому что он, как ни странно, совершенно не возражал против моего похода во дворец, да и Лорд-Хранитель — к моему ужасу — тоже. Он только спросил, не кажется ли им, что это может быть опасно. Но они в один голос заверили его, что альды свято блюдут законы гостеприимства и в этом отношении им вполне можно доверять.
— Что ж, — сказал он, — я вам верю, хотя «гостеприимство», которое они проявили по отношению ко мне, было таково, что я отнюдь не хотел бы, чтобы с ним познакомилась и Мемер. Но то, что наши народы, столько лет прожив бок о бок, знают друг о друге так мало, это, конечно, позор. И для нас, и для них. — Он задумчиво на меня посмотрел. — А Мемер, кстати сказать, все схватывает на лету.
Мне хотелось возразить ему, хотелось протестовать, заявить, что я не желаю идти туда, где столько альдов, не желаю ничего о них знать и ничему у них учиться. Но подобное заявление было бы «сознательным проявлением невежества» — а такие вещи Лорд-Хранитель презирал. К тому же это здорово смахивало бы и на обыкновенную трусость. И уж если Оррек и Грай готовы были рискнуть, отправившись вместе со мной во дворец, то как же я-то могла отказаться?
И все же идея эта пугала меня тем сильнее, чем больше я о ней думала. С другой стороны, я с интересом слушала рассказы Оррека и Грай о дворце и об альдах. Все-таки любопытно было бы посмотреть, как они там живут. Жизнь моя до сих пор разнообразием не отличалась, и я уже начинала думать: неужели так будет всегда — работа по дому, походы на рынок, пустые комнаты Галваманда, ну и, конечно, тайная комната с ее сокровищами, возможностью читать и учиться, а также та странная, затемненная ее часть, куда я не осмеливаюсь зайти? Неужели никто и никогда не будет ничему учить меня, кроме моего дорогого друга и повелителя? Неужели я всегда буду только с ним, и ни с кем другим? Неужели только ему смогу отдать свою любовь? Но с появлением этих двоих наш дом ожил. Проснулись души и тени наших предков и стали прислушиваться; проснулись хранители нашего порога и очага. И Тот, Кто Смотрит В Оба Конца Пути отворил им двери. Я это чувствовала, знала, как знала и то, что наши гости пришли сюда тропой Энну, что их благословила сама Леро. А значит, отказаться от того, что они мне предложили, равносильно отказу от дара богов, от выпавшей удачи, от возможности увидеть, что там, за поворотом…
— Так ты хочешь пойти с ними, Мемер? — снова спросил меня Лорд-Хранитель. Я понимала: если я скажу «нет», настаивать он не будет. Но в ответ я лишь молча пожала плечами — словно мне совершенно безразлично, пойду я во дворец или нет.
Он испытующе посмотрел на меня. Почему, ну почему он-то согласился послать меня прямо в логово наших врагов?! Однако и это, в общем, было мне ясно: потому что я могла пойти туда, куда не мог пойти он. И даже если я трушу, то он передаст мне свое мужество, и этого мужества хватит на двоих. Я должна была сыграть свою роль в качестве наследницы Галваманда, и он просил меня об этом.
— Хорошо, я пойду, — сказала я.
В ту ночь впервые в жизни мне приснился мой отец, точнее, тот, кто, по всей видимости, мог бы быть моим отцом. В голубом плаще, какие носили все воины альдов. И волосы у него были как у меня — не поймешь какого цвета, тусклые, курчавые, торчащие во все стороны и слишком тонкие и мягкие, чтобы их можно было причесать; в общем, настоящий «кучерявый баран». Лица этого человека я разглядеть не смогла. Он все куда-то взбирался, куда-то торопливо лез по развалинам домов, по разрушенным стенам и грудам камней, которых в нашем городе и до сих пор полно. А я стояла на улице и наблюдала за ним. И один раз, проходя мимо, он посмотрел прямо на меня, и мне вдруг показалось, что у него не человеческое лицо, а львиная морда. Потом он снова от меня отвернулся и торопливо, словно за ним кто-то гнался, перемахнул через очередную обвалившуюся стену и исчез.
Глава 7
Когда Оррек Каспро в следующий раз собрался во дворец развлекать ганда, его свиту составили укротитель львов Кай, львица Шетар и юный слуга Мем.
Мем, правда, чувствовал себя не в своей тарелке и здорово нервничал. Притворяясь помощником конюха, я очень боялась, что, если альды попросят меня, скажем, расседлать Бранти или начнут вести со мной разговоры о лошадях, они мгновенно поймут, что я у лошади колено от бабки не отличаю. «Не бойся, — уверяла меня Грай, — они точно такие же, как Гудит, и ни за что не пустят какого-то мальчишку-иностранца в конюшню к своим драгоценным лошадкам». Да она и сама ни на шаг меня не отпустит, как только мы на территории дворца окажемся. Так что мне в обличье мальчика Мема нужно будет только спокойно пройти по улицам, ведя Бранти под уздцы, как и подобает конюху, словно Оррек сам своей лошадью управлять не умеет.
Ну я и повела Бранти под уздцы, чувствуя себя при этом полной дурой. Мне было очень страшно, и Бранти, пожалуй, меня даже успокаивал. Он покорно шел рядом со мною, громко и монотонно постукивая по мостовой подковами и покачивая своей крупной головой. Время от времени он прядал ушами и выразительно фыркал, ласково поглядывая на меня большими темными глазами. Бранти был старый — куда старше меня — и успел постранствовать по всему Западному побережью. Куда Оррек ни просил его пойти, он всюду охотно шел, проявляя удивительное терпение и благородство. Жаль, что я сама была совсем не такая.
Мы поднялись по улице Галва до моста Ювелиров и вскоре вышли на площадь перед Домом Совета. Я с гордостью взирала на это великолепное здание из серебристо-серого камня, такое высокое и просторное. Я любовалась аккуратными рядами высоких изящных окон и красивым медным куполом, который легко вздымался над городскими крышами, подобно тому как вздымается над соседними горами вершина горы Сул и точно плывет в небесах. К просторному крыльцу перед входом в Дом Совета с площади вела широкая лестница; с этого крыльца раньше выступали ораторы, на нем велись политические споры — но все это было в те далекие времена, когда мы сами управляли своей страной. Лорд-Хранитель рассказывал мне, что это крыльцо специально устроено так, что если ты, стоя на нем, говоришь хотя бы чуточку громче обычного, то тебя все равно будет слышно повсюду на площади. Но сама я никогда еще на это крыльцо не поднималась; я и по площади-то никогда не ходила. Площадь эта теперь принадлежала альдам, а не жителям Ансула.
В центре площади высился огромный шатер, и из него во все стороны торчали красные шесты с развевающимися красными знаменами, так что самого Дома Совета и видно-то почти не было.
У выхода на площадь к нам подошел какой-то офицер и приказал стражникам в голубых плащах пропустить нас к шатру.
Из конюшен, расположенных по левому краю площади, к нам тут же устремились еще какие-то люди. Я придержала Бранти, Оррек спешился, и тут же какой-то пожилой альд взял у меня из рук поводья и, слегка поцокав языком, повел жеребца прочь. Грай, она же укротитель львов Кай, подошла ко мне, держа Шетар на коротком поводке, и мы с нею вместе пошли следом за Орреком к шатру. Перед шатром был расстелен ковер, стояло складное кресло для Оррека; на кресле лежал зонтик от солнца. Нам никаких сидений явно не полагалось, но какой-то мальчик-раб — такое же «осадное отродье», как и я, — принес укротителю львов зонт из красной бумаги. Мы встали у Оррека за спиной, и Грай тут же сунула мне в руки этот зонт. Она велела держать его так, чтобы и мы трое тоже были в тени, а сама с весьма высокомерным видом скрестила руки на груди и
отвернулась. Я понимала, что это делается для альдов, — им должно казаться, что я — раб поэта Оррека или же укротителя львов Кая.
Рабы при дворе ганда носили одинаковые длинные рубахи из грубой ткани в серо-белую или буровато-белую полоску. Некоторые из них были альдами, а некоторые — моими соотечественниками, но ни одной женщины среди них я не заметила. Женщин они, наверное, держали в другом месте, где-то внутри, подальше от чужих глаз. И уж конечно, ни одна из рабынь к народу альдов не принадлежала.
Из шатра появились придворные в пышных нарядах, а со стороны казарм, выстроенных над Восточным каналом за Домом Совета, где раньше обычно ставили будки для голосования, к нам подошли несколько офицеров. Наконец из шатра вышел и сам ганд. Все встали. Ганда сопровождали два раба-альда; один держал над ним огромный красный зонт, а второй нес большое опахало на тот случай, если ганду станет жарко. Погода в тот день стояла замечательная, весенняя, и солнце то и дело скрывалось за легкими прозрачными облачками, а с моря дул слабый ветерок. И я, глядя на рабов с их дурацкими зонтами и опахалами, думала: до чего все же глупы эти альды! Неужели они не видят, что сегодня ничего такого не требуется? Широкополые шляпы, которые напялили на себя придворные, выглядели просто смешно. Неужели они так и не поняли, что Ансул — это не пустыня?
Подражая рабам-альдам, я старалась не поднимать глаз на ганда Иораттха и поглядывала на него лишь украдкой. Лицо у ганда было тяжелое, покрытое глубокими морщинами и чуть желтоватое, как и у большинства альдов; нос довольно короткий, ястребиный; глаза узкие и светлые. Светлые, точнее, бесцветные глаза альдов всегда вызывали у меня тошноту, и я бесчисленное множество раз благодарила своих предков за то, что они позволили мне иметь такие же темные глаза, как и у всех моих соплеменников. Похожие на овечью шерстку седые волосы ганда были коротко подстрижены, но отдельные кудряшки все же выбивались у него из-под шляпы; его густые брови тоже немного кудрявились, а короткая бородка четко обрисовывала нижнюю челюсть и подбородок. В целом ганд производил впечатление человека сильного и жесткого, но какого-то усталого. Он приветливо улыбнулся Орреку — улыбка эта словно разом осветила все его лицо — и сделал жест, какого мне у альдов еще видеть не доводилось: поднес ладони к груди и на уровне сердца как бы приоткрыл их ему навстречу, одновременно почтительно поклонившись. Видимо, альды так приветствуют равного. А еще он назвал Оррека «гандом всех поэтов».
И все-таки, подумала я, в шатер-то он его так и не пригласил!
«Язычники» — так они нас называли. Этому слову мы от них и научились. Если оно и имело какое-то значение, то, скорее всего, обозначало народ, который понятия не имеет о том, что действительно свято. Неужели на свете есть такие народы? По-моему, «язычники» — это просто люди, которым ведома иная святость, чем тебе самому. Альды пробыли в Ансуле целых семнадцать лет, но так и не поняли, что это море, и эта земля, и эти скалы для нас священны, что у них есть душа, что в них живет божественная сила. Уж если здесь и есть язычники, сердито думала я, так это сами альды! Во мне все кипело от злости, и это мешало слушать, что говорят два великих человека — Иораттх и Оррек, тиран и поэт.
Оррек начал декламировать стихи, и его певучий голос заставил меня прислушаться, но оказалось, что это какое-то эпическое сказание альдов, прочесть которое его попросил ганд — одна из их бесконечных историй о войнах в пустыне, — и дальше я слушать не стала.
Я попыталась найти среди придворных сына Ганда, Иддора, того самого, что дразнил Шетар. Сделать это оказалось очень легко. Его выдавало просто невероятное количество пышных одеяний и причудливая шляпа, украшенная перьями и златоткаными лентами. Иддор был очень похож на отца, только повыше ростом да лицом покрасивее, хотя, на мой взгляд, слишком светлокожий. Вел он себя как-то беспокойно, все время суетился, болтал о чем-то с одним из своих спутников, размахивал руками, вертелся и нервно переступал с ноги на ногу. А старый ганд сидел совершенно неподвижно, спокойно положив на колени короткие сильные руки, и внимательно слушал, полностью поглощенный повествованием; его одежды из тонкого полотна, лежавшие на полу застывшими складками, казались высеченными из камня. Впрочем, офицеры и придворные тоже по большей части слушали сказителя очень внимательно; они прямо-таки упивались словами знакомого повествования. Честно говоря, голос Оррека и впрямь звучал так страстно, что я, забыв обо всем, тоже невольно стала его слушать.
Закончив описание трагической сцены предательства и примирения, Оррек умолк, и все альды дружно принялись ему аплодировать, громко хлопая одной ладонью о другую. Ганд велел одному из рабов принести сказителю воды в стакане. («Они потом этот стакан разобьют», — шепнула мне Грай.) Затем слуги стали разносить блюда со сластями, но к нам с Грай никто даже не подошел. Иораттх наклонился и вытянул руку, желая дать Шетар угощенье. Грай поспешно подвела львицу к нему, та села, вежливо понюхала подачку и отвернулась. Ганд засмеялся. Смех у него был такой же приятный, как и улыбка, и лицо его снова будто осветилось.
— Ну, понятно, госпожа Шетар! Разве эта еда годится для льва? — сказал он. — Может, мне послать кого-нибудь, чтоб мяса принесли?
Ответила ему Грай, а не Оррек, причем голосом настоящего укротителя львов — хриплым и резким:
— Лучше не надо, господин мой.
Ганд не обиделся.
— Ты следишь за ее питанием, да? И правильно. А не может ли она еще разок поклониться?
По-моему, Грай даже бровью не повела — во всяком случае, я ни одного ее движения заметить не сумела, — но львица тут же встала в позу и, по-кошачьи вытянув лапы, поклонилась ганду. Пока он смеялся, она оглянулась, надеясь получить тот маленький шарик костного мозга, который служил ей вознаграждением, и Грай незаметно сунула его ей в пасть.
Иддор не выдержал. Он вышел вперед и спросил, обращаясь исключительно к Орреку:
— Сколько ты заплатил за нее?
— Одну песню, ганд Иддор, — ответил ему Оррек, не вставая. Он как раз настраивал свою лютню и считал, видимо, что это вполне достаточное извинение. Иддор нахмурился. Оррек поднял на него глаза и пояснил: — Точнее, одну историю. Кочевникам, поймавшим львицу с детенышем, хотелось послушать целиком «Сказание о Даредаре», чтобы потом они и сами могли рассказывать эту историю во время своих празднеств. Чтобы рассказать ее всю до конца, мне понадобилось целых три ночи, и вознаграждением за мой труд стал вот этот львенок. В итоге все остались очень довольны.
— А откуда ты знаешь эту историю? И как тебе удалось выучить столько наших песен?
— Стоит мне услышать какую-нибудь историю или песню — и она моя, — сказал Оррек. — Таков уж мой дар.
— У тебя есть и еще один дар — умение слагать стихи и песни, — заметил Иораттх.
Оррек молча ему поклонился, но Иддора было не остановить.
— И все-таки — где ты слышал наши песни и сказания? И откуда тебе известно «Сказание о Даредаре»?
— Я немало странствовал по северному Асудару, ганд Иддор. И повсюду люди дарили мне свои песни и легенды, рассказывали истории, делились со мной не только пищей, но и духовным богатством. Они не просили платы за хлеб и кров, не просили отдать им львенка, им не нужно было от меня даже медной монетки — они хотели одного: чтобы я спел им какую-нибудь новую песню или рассказал какую-нибудь старинную историю. Самые бедные люди пустыни оказывались и самыми великодушными, и самыми щедрыми — но главным их богатством было знание родного языка.
— Верно, верно, — покивал ганд Иораттх.
— Ты что же, читал наши сказания в книгах? Или сам их туда записывал? — Слова «читал», «книги», «записывал» в устах Иддора звучали как плевки; он выплевывал их, словно какую-то мерзость, случайно попавшую ему в рот.
— Принц, находясь среди народа, поклоняющегося великому Аттху, я обычно живу по тем законам, которые Аттхом и установлены. — Оррек произнес это не только с достоинством, но и со сдержанным гневом, как человек, чья честь была задета и кто был просто вынужден ответить на брошенный ему вызов.
Иддор отвернулся; его, казалось, смутил прямой ответ Оррека. А может, и гневный взгляд отца. И все же он негромко сказал одному из своих компаньонов:
— Разве мужчина может играть на какой-то скрипке? Я всегда считал, что на таких инструментах только женщины играют!
У альдов действительно на струнных музыкальных инструментах играют только женщины; а мужчинам полагается играть на флейтах, рожках и трубах. Так впоследствии объяснила мне Грай. Но в ту минуту я поняла лишь, что этим как бы невзначай брошенным замечанием Иддор хотел оскорбить Оррека или посмеяться над своим отцом. Впрочем, оскорбляя Оррека, он и ганду выказывал свое пренебрежение.
— Итак, поэт, теперь ты немного передохни и подкрепи свои силы, а затем мы хотели бы послушать стихи твоего собственного сочинения, — сказал Иораттх. — А также, ты уж прости нам наше невежество, хорошо было бы, если б ты немного просветил нас относительно прочих западных поэтов.
Меня удивило, что ганд говорит с Орреком так учтиво, даже изысканно. Ведь он, без сомнения, был настоящим старым воякой и все же взвешивал каждое свое слово, старался говорить красиво, даже, пожалуй, чересчур цветисто, употребляя множество старинных слов и оборотов. Слушать его было одно удовольствие. Он говорил так, как и должен, наверное, говорить представитель такого народа, который не признает письменности и все свои знания и умения вкладывает в устную речь. Впрочем, до этого дня я, пожалуй, ни разу не слышала, чтобы хоть один альд произнес какую-нибудь достаточно длинную и связную фразу. Обычно они только орали на местных жителей да кратко оповещали население Ансула об очередных приказах ганда.
Оррек, надо сказать, был отличным соперником и в словесной дуэли, и в изысканно вежливом состязании в красноречии. Я заметила, что он, декламируя отрывки из «Сказания о Даредаре», словно позабыл о своем северном выговоре и голос его звучал как у настоящего альда — оглушая и довольно невнятно произнося согласные и растягивая гласные. Да и теперь, отвечая ганду, он придерживался того же произношения.
— Я последний и наименее значимый в бесконечной череде наших поэтов, ганд Иораттх, — сказал Оррек, — и даже претендовать не смею на то место, которое по праву принадлежит поистине великим творцам. А потому не позволит ли мне высокочтимая аудитория прочесть не свои стихи, а одно из стихотворений Дениоса, самого любимого моего поэта, уроженца Урдайла?
Ганд благосклонно кивнул, и Оррек, закончив настраивать свою лютню, пояснил, что эти стихи не поют, однако голос инструмента служит для того, чтобы отделить созданные поэтом слова от всех тех, что были сказаны до этого и будут сказаны после, а также чтобы сказать то, чего никакими словами не выразишь. Он склонил голову и ударил по струнам. Чистые протяжные звуки этой музыки были исполнены страсти. Наконец затих финальный аккорд, и Оррек произнес первые слова из первой песни «Превращений».
И до самого конца никто из слушателей не шелохнулся. Да и потом альды долго молчали — в точности как молчала тогда толпа на рыночной площади. А когда они наконец собрались в знак похвалы захлопать в ладоши, ганд вдруг поднял руку и сказал:
— Нет. Еще раз, поэт! Прошу тебя, повтори нам это чудо еще раз с самого начала!
Оррека явно несколько озадачила подобная просьба, но он все же с улыбкой вновь склонил голову к своей лютне.
Но не успел он коснуться струн, как послышался чей-то громкий голос. Но оказалось, что это не Иддор, а один из жрецов, что стояли с ним рядом, — в черно-красном одеянии и красном головном уборе, подобно шлему укрывавшем его голову, спускаясь от высокой тульи до самых плеч, так что видимым оставалось только лицо. Борода у него была опалена огнем — похоже, специально, — и лишь на подбородке мелко курчавился оставшийся клочок волос. В одной руке он держал высокий и тяжелый черный посох, а в другой — короткий меч.
— Сын солнца, — промолвил он, — разве одного раза тебе недостаточно? Мы и так слишком долго слушали это богохульство!
— Жрец, — шепнула мне Грай, но я и так это поняла, хотя жрецов нам доводилось видеть нечасто. «Красные шапки» — так их с ненавистью называли в Ансуле. Альдских жрецов горожане особенно сильно боялись и старались с ними вообще не встречаться, ибо если кого-то из жителей города до смерти забивали камнями или живьем топили в жидкой грязи, то это почти всегда делалось по приказанию жрецов.
Иораттх повернулся и надменно посмотрел на жреца. Собственно, повернул он только голову, в точности как ястреб, и так же быстро глянул и нахмурился, словно говоря: «Как ты посмел?!» Но голос его звучал мягко, даже как-то вкрадчиво, когда он сказал:
— О благословеннейший! Уши мои, должно быть, плохо слышат, ибо я не услышал в этих стихах никакого богохульства. Прошу тебя, открой мне, в чем оно заключается?
И человек в красном головном уборе весьма уверенно заявил:
— Все это слова безбожника, ганд Иораттх! В них нет ни понимания Аттха, ни веры в откровения его святых толкователей, а есть лишь слепое поклонение злокозненным демонам и лживым богам да болтовня о первоочередности земных деяний и восхваление женщин.
— Да, да, — закивал согласно Иораттх, даже не думая возражать жрецу, однако было видно, что его задели все эти нелепые обвинения. — Что правда, то правда: эти языческие поэты ничего не знают ни об Аттхе, ни об «опаленных его пламенем». Они вообще многое воспринимают неправильно, ошибочно, но все же не стоит считать, что они так уж безнадежно слепы. На них еще вполне может снизойти огонь откровения. А кстати: неужели ты против того, чтобы мы, вынужденные много лет назад разлучиться с нашими женами и возлюбленными, услышали хотя бы несколько слов, посвященных женщинам? Я понимаю, благословенный, ты был опален священным огнем и, разумеется, выше всякой грязи и порочных снов, но мы-то всего лишь обыкновенные грубые солдаты. Услышать — не значит обладать, однако же и услышанные слова дают все же хоть какое-то утешение. — Ганд говорил совершенно спокойно, даже, пожалуй, торжественно, но кое-кто из его соратников не сумел сдержать улыбку.
Жрец в красном головном уборе начал было отвечать, но ганд внезапно встал и грозно промолвил:
— Из уважения к священной чистоте опаленных я не стану просить ни тебя, о благословенный, ни кого-либо из твоих братьев остаться здесь и слушать то, что оскорбляет ваш слух. Могут также уйти и все те, кто не желает больше слушать песни этого языческого поэта. Но поскольку, как говорится, проклят лишь тот, кто слышит проклятия, те из вас, у кого столь же слабые уши, как и у меня, могут спокойно, ничего не опасаясь, остаться и слушать дальше. Ты уж извини нас, поэт, за эти неожиданно возникшие разногласия и проявленную по отношению к тебе неучтивость.
И ганд снова спокойно уселся, а Иддор со всей своей компанией, а также все «красные шапки» — их там было еще четверо — удалились в шатер, громко и раздраженно переговариваясь на ходу. Впрочем, один человек из окружения Иораттха тоже незаметно ускользнул прочь, хотя вид у него при этом был самый что ни на есть разнесчастный и встревоженный. Остальные остались. И Оррек снова ударил по струнам и продекламировал вступление к «Превращениям» Дениоса.
Когда он умолк, ганд позволил своим людям сколько угодно хлопать в ладоши и велел принести Орреку еще стакан воды («Стакан-то хрустальный, они же разорятся!» — насмешливо прошипела мне на ухо Грай). Затем Иораттх отпустил свою свиту, сказав, что хотел бы побеседовать с поэтом «под раскидистой пальмой», что, очевидно, означало «наедине».
Парочка стражников все же осталась стоять у входа в шатер, но офицеры и придворные разошлись — одни ушли куда-то вглубь шатра, другие побрели в сторону казарм. А к нам с Грай подошел тот важный раб с опахалом и повел нас в сторону конюшен. Следом за нами туда же направилась целая группа людей, которые, как я догадалась, потихоньку собрались у входа в большой шатер, чтобы послушать выступление Оррека, и все это время стояли там чуть в сторонке, никого не беспокоя и никем не замеченные. Среди них были и воины, и слуги, и просто мальчишки. Похоже, в данный момент их больше всего интересовала Шетар. Им очень хотелось подойти к ней ближе, но Грай не позволяла. Тогда они попытались завязать разговор с «укротителем», задавая самые обычные вопросы: как зовут львицу, где ее поймали, что она ест, охотилась ли она и убивала ли когда-нибудь людей? Грай отвечала очень кратко и чуть надменно, как, собственно, и подобало такой достойной личности, как укротитель львов.
— А это что, твой раб? — спросил какой-то юноша. Я вообще не поняла, что это он обо мне, пока не услышала ответ Грай:
— Ученик конюха.
Юноша чуть отстал, поравнялся со мной и пошел рядом. Когда я присела на камень под стеной здания, где была тень, он тоже уселся там, несколько раз внимательно посмотрел на меня и наконец заявил:
— Ты тоже из альдов!
Я покачала головой.
— Ну, значит, отец у тебя альдом был, — безапелляционным тоном продолжал он, явно гордясь своей проницательностью.
Смысла отрицать это при моих волосах и бледной коже не было никакого, и я лишь пожала плечами.
— А ты здесь живешь? В этом городе? — Он явно не собирался прекращать свой допрос.
Я кивнула.
— А ты с какими-нибудь девушками, случайно, не знаком?
Сердце у меня так и подскочило. Стало трудно дышать. Единственное, о чем я могла думать в эту минуту, — что он догадался о моей принадлежности к женскому полу и сейчас начнет выкрикивать знакомые слова: грязь, скверна, богохульство…
— Мы с отцом сюда только в прошлом году приехали. Из Дюра, — как-то печально сообщил он и довольно долго молчал.
Я осторожно скосила в его сторону глаза и поняла, что он совсем еще мальчишка — лет пятнадцать, от силы шестнадцать. Голубого плаща он еще, разумеется, не носил, но был одет в котту с голубым узлом на плече. Ноги у него были босые, мосластые; лицо бледное, щеки покрыты детским пушком, вокруг рта прыщи. Очень светлые, круто вьющиеся, как у овечки, волосы чуть отдавали желтизной.
— Все девушки в Ансуле нас ненавидят, — горестно вздохнул он. — Вот я и подумал: вдруг у тебя сестра есть.
Я покачала головой.
— Тебя как зовут? — спросил он.
— Мем.
— Понимаешь, Мем… если ты случайно узнаешь, что кто-то из ваших девушек, ну… сам знаешь… В общем, если кто-то из них захочет… с мужчиной время провести, то у меня есть немного денег. Я хотел сказать — для тебя.
Ах ты, испорченный, отвратительный, жалкий щенок! И тон у него тоже был какой-то жалкий, совершенно безнадежный. Ответом я его не удостоила и, несмотря на страх и презрение, чуть не расхохоталась ему в лицо — не знаю уж почему, — такой он был бесстыдник. Кобель дурной! Я его даже и ненавидеть-то по-настоящему не могла.
Он все продолжал что-то бубнить насчет девушек и своих тайных мечтаний, а потом вдруг начал говорить такие вещи, что я почувствовала, как лицо мое заливается краской. Это очень меня встревожило, и я постаралась ровным голосом остановить его.
— Никаких девушек я не знаю, — довольно резко сказала я, и это на какое-то время действительно заставило его заткнуться. Он вздохнул и как ни в чем не бывало поскреб у себя в промежности. А потом изрек:
— Осточертело мне здесь! Домой хочу!
«Ну и отправляйся!» — хотелось мне крикнуть, но я кивнула и сказала:
— Угу.
Он снова посмотрел на меня — причем так пристально, что я опять перепугалась: вдруг догадался?
— А с мальчиками ты никогда этим заниматься не пробовал? — спросил он.
Я молча покачала головой.
— И я тоже, — снова печально вздохнул он; голос у него был какой-то девчачий, почти как у меня. — А у нас некоторые солдаты вовсю с мальчиками развлекаются.
Мысль о «развлечениях с мальчиками», похоже, повергла его в полное уныние, и он не стал больше распространяться на эту тему, а лишь сказал с очередным тяжким вздохом:
— Отец бы меня точно убил.
Я понимающе кивнула.
Мы немного помолчали. Шетар раздраженно ходила взад-вперед по двору, за ней неотступно следовал «укротитель Кай». Я бы с удовольствием к ним присоединилась, но это, наверное, выглядело бы по меньшей мере странно — какому-то ученику конюха не следовало разгуливать по двору ганда рядом с такой значимой персоной, как укротитель львов.
— А ваши парни как развлекаются? — продолжил свой допрос настырный мальчишка.
Я только плечами пожала. А действительно, как развлекаются наши парни? Вообще-то, они в основном либо воруют, либо попрошайничают, надеясь раздобыть для семьи еду и топливо; этим у нас в городе почти все занимаются, если не считать альдов, конечно.
— В лапту играют, — сказала я, чтобы он от меня наконец отвязался.
Но он еще больше приуныл. Судя по всему, он не принадлежал к тем, кто увлекается спортивными играми.
— Меня здесь что больше всего поражает? — сказал он. — То, что, куда ни глянь, всюду женщины! Ходят себе в открытую прямо по улицам! Видишь женщин повсюду, но не можешь… Они не…
— А что, у вас, в Асударе, разве женщин нет? — спросила я, старательно изображая туповатого помощника конюха.
— Конечно есть! Только они все внутри, в домах, и по улицам, как у вас, не ходят! — Тон у него был обиженный и обвиняющий одновременно. — И напоказ они себя не выставляют! Порядочная женщина должна дома сидеть!
И я вдруг подумала о том, как моя мать тогда шла по улице, спеша поскорее попасть домой…
Горячая волна гнева поднялась в моей душе, затопив ее целиком, и если бы я в этот момент не сдержалась и заговорила, то наверняка стала бы поливать его бранью или просто плюнула бы ему прямо в физиономию. Но я промолчала, и ярость постепенно улеглась, хотя ее невидимые холодные щупальца продолжали сдавливать мне горло, вызывая тошноту. Я сглотнула слюну и велела себе немедленно успокоиться.
— Мекке говорит, у вас какие-то храмовые шлюхи есть, — снова завел ту же песню парнишка. — К ним любой может пойти, вот только храмы эти сейчас закрыты. Но шлюхи все равно этим занимаются. Тайком. И с кем угодно. Ты ничего об этом не знаешь?
Я опять молча покачала головой.
А он опять тяжко вздохнул.
И тут я не выдержала и встала. Не вскочила. Но все же отойти от него в сторонку и немного подвигаться, чтобы выпустить пар, мне было просто необходимо. А он посмотрел на меня снизу вверх и, улыбнувшись совершенно по-детски, сообщил:
— Меня Симме зовут.
Я кивнула. И медленно двинулась к Шетар и Грай — я просто не знала, куда еще могла бы пойти. В ушах у меня шумела кровь.
Грай внимательно на меня посмотрела и сказала, чтобы все слышали:
— Полагаю, ганд уже почти закончил свою беседу с поэтом, так что сходи-ка на конюшню и скажи, чтоб его коня вывели во двор. Его, кстати, и выгулять было бы не вредно. Понял?
Я кивнула и пошла через весь двор к огромным конюшням. По какой-то причине я больше не опасалась тех слуг, что ухаживали за лошадьми. Я сказала им все, что велела Грай, и меня провели внутрь. Бранти стоял в стойле и угощался отличным овсом.
— Оседлайте его и выведите наружу, — велела я конюхам, словно они были моими рабами. И тот пожилой альд, который отвел Бранти в конюшню, поспешил выполнить мои распоряжения. А я стояла себе, заложив руки за спину, и любовалась прекрасными лошадками. А когда старый конюх вывел Бранти во двор, я совершенно спокойно взяла жеребца под уздцы.
— Ему, верно, лет девятнадцать-двадцать? — спросил конюх.
— Больше.
— Видать, хороших кровей конь. — Старик протянул руку и ласково разгладил Бранти челку на лбу. Пальцы у него были толстые, грязные. — Мне всегда крупные лошади нравились. — В голосе его почти нежность звучала.
Я коротко кивнула — мол, и мне тоже — и повела Бранти прочь. Грай и Шетар стояли в воротах, поджидая Оррека, который уже шел от шатра к ним. Я, как заправский грум, подставила «хозяину» колено, когда он садился в седло, и мы двинулись в обратный путь. Но как только мы миновали ворота и стражников в голубых плащах и вышли на площадь Совета, силы вдруг изменили мне. Не сдержавшись, я разразилась слезами. Слезы так и лились из глаз, обжигая щеки; губы сами собой кривились, дрожали, дергались. Но я продолжала идти и сквозь пелену слез видела перед собой свой город, свой прекрасный город, и далекую гору, и затянутое облаками небо — и постепенно перестала плакать.
Глава 8
В тот вечер Иста приготовила на ужин нечто особенное — замечательное кушанье, которое у нас называется «уффу». Это такие поджаренные в масле пирожки с начинкой из молодой баранины или козлятины, смешанной с картошкой и овощами, а также с зеленью. Пирожки получились хрустящие, сочные, невероятно вкусные. Иста была очень благодарна Орреку и Грай, но не только потому, что им удалось раздобыть для нее мясо — если честно, мы попросту разделили с Шетар ее обед, — но и потому, что в доме у нас наконец-то были гости, которые одним своим присутствием сумели восстановить честь и достоинство Галваманда. Кроме того, благодаря их присутствию у Исты появилась возможность приготовить что-то новое, особенное. Оррек и Грай очень хвалили уффу, но Иста только плечами пожимала да ворчала, вовсю критикуя собственную стряпню и заявляя, что пирожки получились не очень, потому что тесто плохо поднялось, да и масла приличного достать она не смогла. В общем, мы словно вернулись в «добрые старые времена».
После обеда Лорд-Хранитель пригласил наших гостей и меня на дальнюю веранду, и мы снова засиделись там допоздна. Всем не терпелось узнать, о чем же ганд Иораттх беседовал с Орреком «под раскидистой пальмой». И Оррек с удовольствием нам об этом поведал. У него и впрямь были весьма интересные новости.
Оказывается, Дорид, ганд всех гандов, верховный жрец и правитель Асудара, в течение почти тридцати лет командовавший всеми армиями альдов, скончался от апоплексического удара чуть более месяца назад у себя во дворце, в городе Медроне, что находится в самом сердце пустыни. Его преемником стал человек по имени Акрей, приходившийся ему вроде бы племянником. Поскольку правитель Асудара является также и верховным жрецом, а всем служителям Аттха предписано соблюдать целибат, то иметь сына не мог даже Дорид. У него могли быть только племянники. Другие его племянники и прочие претенденты на трон стали, естественно, оспаривать возвышение Акрея и подняли мятеж, в ходе которого и были убиты — кто открыто, а кто и втайне. Некоторое время весь Медрон бурлил, но теперь Акрей твердо взял власть в свои руки и навел порядок, намереваясь и дальше править в качестве ганда всех гандов.
Похоже, ганд Иораттх был чрезвычайно этим доволен. Во всяком случае, из его слов Оррек понял, что новый правитель Асудара, он же его верховный жрец, куда меньше чувствует себя жрецом, чем правителем, в отличие от покойного Дорида. Тогда как представители той оппозиции, что пыталась лишить Акрея трона, были, как и Дорид, последователями культа «тысячи истинных мужчин» — то есть проповедовали абсолютную необходимость войны добра со злом и требовали непременно отыскать в языческом Ансуле пресловутую Пасть Ночи и уничтожить ее.
Сторонники Акрея вроде бы особого значения существованию этой Пасти Ночи не придают. Особенно теперь, когда армия, захватив Ансул, так и не сумела ее отыскать. Мало того, партия Акрея воспринимает столь длительную оккупацию Ансула — которая, впрочем, принесла Медрону немалую выгоду, пополнив столичную казну золотом, драгоценностями и предметами роскоши, — во-первых, как сознательное истощение военной мощи Асудара, а во-вторых, как весьма сомнительную в духовном отношении государственную политику. Альды всегда существовали в своей пустыне изолированно и пользовались покровительством только своего Аттха, единственно возможного истинного бога, а потому старались держаться как можно дальше от всех «неверных» и «нечистых», так что долгое пребывание среди язычников, безусловно, наносит значительный ущерб их душам.
Но как же в таком случае альдам следует поступить с захваченным ими Ансулом?
Иораттх, рассуждая на эту тему, изложил Орреку свое решение данной проблемы, которое нашему поэту показалось замечательно простым и разумным. Собственно, сама проблема, по словам Иораттха, заключалась в том, какой из двух возможных выходов из сложившегося положения был бы более угоден Аттху: то ли новому верховному правителю стоит отозвать свою армию из Ансула, чтобы воины со всей своей добычей смогли наконец вернуться домой, то ли отправить в Ансул отряд поселенцев и таким образом навсегда закрепить его за собой в качестве колонии.
— Иораттх примерно в таких словах это и изложил, — сказал Оррек. — Очевидно, новый правитель интересовался мнением нашего ганда на сей счет, зная, что он все эти годы прожил здесь, среди язычников. А меня Иораттх, похоже, считает лицом незаинтересованным, этаким беспристрастным наблюдателем. Но почему? И с какой стати он вздумал делиться своими сомнениями именно со мной? Я-то ведь тоже язычник, черт побери!
— Потому что ты поэт, — сказал Лорд-Хранитель. — А поэт для альдов — все равно что провидец, изрекающий истину.
— А может, ему просто поговорить больше не с кем? — предположила Грай. — А ты — считает он тебя провидцем или нет — слушать, безусловно, умеешь.
— Ага, и молчать тоже, — хмыкнул Оррек. — Да и что я, собственно, могу ему на это сказать?
— Я, конечно, не знаю, что ты мог бы ответить Иораттху, — сказал Лорд-Хранитель, — но, возможно, то немногое, что знаю о нем я, сумеет как-то помочь тебе. Во-первых, он взял себе в наложницы одну рабыню, но, по слухам, обращается с ней весьма достойно. Ее зовут Тирио Актамо. Она дочь одного из знатнейших семейств Ансула. Я ее очень давно и хорошо знаю. До вторжения это была одна из самых красивых девушек на свете; к тому же она очень умна и энергична. Теперь же я знаю о ней лишь то, что мне рассказывают люди, знакомые со слугами ганда. Если верить слухам, которые доносятся из дворца, Иораттх почитает Тирио как собственную жену и она имеет на него огромное влияние.
— Как бы мне хотелось поговорить с ней! — воскликнула Грай.
— И мне тоже, — сказал Лорд-Хранитель, и печальный голос его чуть дрогнул. Справившись с собой, он снова заговорил: — Второе не менее важно: Иддор — сын ганда от одной из его жен, оставшихся в Асударе; говорят, что Тирио Актамо он ненавидит. Впрочем, он, похоже, и отца своего ненавидит не меньше.
— Да, он без конца дерзит ему, всячески над ним насмехается и вообще ведет себя весьма вызывающе, — подтвердил Оррек. — Но по-моему, ослушаться его все же не смеет.
Лорд-Хранитель некоторое время молчал, потом встал, подошел к алтарю, остановился перед ним и негромко сказал:
— О благословенные духи моего дома, помогите мне говорить правду! — Он поклонился, почтительно коснулся потертого края алтаря, еще немного постоял перед ним и вернулся к нам. Но не сел, а так и заговорил, стоя, возвышаясь над нами: — Это ведь именно Иддор и жрецы привели сюда армию в поисках Пасти Ночи. Это они подвергли пыткам обитателей Галваманда, надеясь заставить их показать вход в ту пещеру, или погреб, или какое-то иное «нечистое» место, где якобы Пасть Ночи и находится. Некоторые так и умерли под пыткой… Меня они, впрочем, оставили в живых, возлагая на меня… — Тут он на мгновение запнулся, но почти сразу продолжил: — На меня они возлагали самую большую надежду, поскольку были уверены, что я — колдун. То есть, точнее, тоже жрец, но, в их представлении, жрец неправильный, ибо служу тому, кого они считают главным врагом Аттха, антибогом, дьяволом. Но я не смог сообщить им то, что им так хотелось узнать. Сама Энну запечатала мне уста своей ладонью и не позволила мне солгать. А Сампа сделал так, что язык мой онемел и не дал мне сказать правду. Все души моих предков, все тени Галваманда сошлись и плотным кольцом окружили меня. И жрецы это поняли. И очень испугались. Они боялись меня, даже когда… Нет, боялись они не меня. Их испугала та святость, что снизошла на меня. Они боялись того благословения, которым одарили меня души моих предков и боги моего дома, моего города, моей страны…
Через какое-то время жрецы отказались иметь со мной дело, так что единственным, кто продолжал меня допрашивать, был сам Иддор. Он, по-моему, тоже меня боялся, но весьма гордился собственной смелостью, поскольку считал меня великим колдуном и тем не менее мог делать со мной все, что хотел. Я служил доказательством его могущества, одновременно являясь игрушкой для его жестоких забав. Я был просто вынужден все время его слушать, а он все говорил и говорил, все объяснял мне что-то, без конца повторяя одно и то же: как он заставит того демона, что захватил мою душу, выйти наружу и рассказать ему, где найти Пасть Ночи. И как только этот демон выйдет и заговорит, мне наконец разрешат спокойно умереть. Впрочем, вместе со мной умрет и все зло, и на земле воцарится праведность, а он, Иддор, будет восседать на троне ганда всех гандов и «пламенеть во славе». Он все продолжал внушать мне это, а я пытался и лгать ему, и говорить правду, но боги так и не дали мне произнести ни одного слова — ни лжи, ни правды.
За все это время Лорд-Хранитель так и не присел ни разу, а потом снова подошел к алтарю и застыл возле него, положив руки на край ниши. Я слышала, как он шепотом благословляет Энну и богов нашего дома. Постояв там, он снова вернулся к нам и продолжил свой рассказ:
— За все то время, что я был пленником Иддора, отца его я не видел ни разу. Иораттх явно старался держаться подальше от тюремных камер и никогда не участвовал в охоте на ведьм. Иддор постоянно жаловался мне на отца, всячески его поносил, называл нечестивцем и упрекал за то, что он с презрением относится к жрецам и пророчествам и пренебрегает высочайшим повелением ганда всех гандов непременно отыскать Пасть Ночи. «Я покорен моему богу и моему повелителю, а мой отец покоряться им не желает», — возмущался Иддор. В конце концов — то ли по приказу Иораттха, то ли еще по какой-то причине — меня отпустили. Постепенно увяла и охота за демонами, прячущимися в потайных пещерах. Хотя время от времени Иддор или жрецы все же поднимали панику, обнаружив, например, какую-нибудь «зловредную» книгу и требуя ее немедленно уничтожить или очередного «книгочея», которого следовало подвергнуть пытке. Иораттх позволял им все это делать, но, по-моему, просто для того, чтобы как-то умилостивить ганда всех гандов и дать ему понять, что поиски вселенского зла продолжаются. Ему приходилось действовать осторожно — ведь его сын принадлежал к сторонникам и защитникам основной политической доктрины Асудара, тогда как сам он, Иораттх, ее, похоже, совсем не разделял.
Но теперь, мне думается, новый правитель может стать союзником Иораттха, ибо разделяет его взгляды, и в таком случае власть, которой до сих пор обладали Иддор и жрецы, существенно уменьшится. Что вполне может привести к весьма опасным последствиям.
Лорд-Хранитель наконец снова сел. Хотя рассказывать о пережитом ему явно было нелегко, но взволнованным он не выглядел — скорее, пожалуй, усталым и помрачневшим. Он обвел нас глазами, и лицо его сразу смягчилось, просветлело, словно он, вернувшись из странствий, снова увидел тех, кого любит.
— Опасным, потому что… — начала Грай, и Оррек завершил ее вопрос:
— …Иддор, видя, как быстро он и его сторонники теряют власть, может попытаться вернуть эту власть силой?
Лорд-Хранитель кивнул.
— Интересно было бы знать, чего хотят их воины, — сказал он. — У меня нет ни малейших сомнений, что больше всего им хотелось бы вернуться в Асудар. Но и жрецов своих они уважают. Если Иддор все же бросит вызов отцу, а жрецы окажутся на стороне Иддора, то на чьей стороне окажется армия?
— Мы могли бы послушать, что на сей счет говорят во дворце, — сказала Грай и посмотрела на меня — не знаю уж почему.
— Существует и еще один опасный момент, а может, как раз сулящий надежду, а может, и то и другое, — сказал Лорд-Хранитель. — Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, но прошу вас сохранить в тайне то, что вы сейчас узнаете. В Ансуле существует группа людей, которые надеются поднять мятеж против альдов. Они давно уже вынашивают план вооруженного восстания. Мне об этом известно от моих друзей. Сам я участия в построении этих планов не принимаю; я даже толком не знаю, достаточно ли эта группировка сильна. Но она существует. И, узнав, что во дворце тоже идет нешуточная политическая борьба, мятежники вполне могут попытаться перейти к реальным действиям.
Так вот о чем с ним беседовал Дезак! — догадалась я. Вот почему меня всегда отсылали прочь, если я случайно заставала его у Лорда-Хранителя. И в душе моей поднялась волна гнева. Почему мне нельзя было послушать, что они говорят о грядущем мятеже? О том, как люди наконец-то с оружием в руках восстанут против альдов и прогонят их из Ансула? Неужели Дезак думал, что я испугаюсь? Или стану повсюду болтать об этом, как глупая малолетка? Неужели он думал, что если у меня на голове «кучерявый баран», так я и народ свой способна предать?
Грай хотелось побольше узнать о группе повстанцев, но Лорд-Хранитель то ли не мог, то ли не хотел рассказывать об этом более подробно. Оррек все это время молчал, явно о чем-то размышляя, а потом вдруг спросил:
— А сколько в Ансуле альдов — в городе, я имею в виду? Тысяча, две?
— Более двух тысяч, — ответил Лорд-Хранитель.
— Немного. Горожан куда больше.
— Зато альды отлично вооружены и очень дисциплинированны, — заметила Грай.
— Да, конечно. И к тому же хорошо обучены, — кивнул Оррек. — Что ж, это дает им определенное преимущество… И все же… Ведь все эти годы…
И тут я не выдержала:
— Мы боролись! Мы сражались с ними на каждой улице, мы продержались целый год — пока они не прислали новую армию, в два раза больше прежней, и стали убивать, убивать, убивать… Иста рассказывала, что сразу после сдачи города каналы были доверху забиты мертвыми телами. Там даже вода не текла…
— Мемер, я знаю, что враги вторглись в вашу страну и насильственно вас поработили, — попытался остановить меня Оррек. — У меня и в мыслях не было подвергать сомнению мужество твоих соотечественников!
— К сожалению, мы действительно не воины, — вздохнул Лорд-Хранитель.
— А Марра и Адира! — запротестовала я.
Он быстро повернул в мою сторону голову и на мгновенье задержал на мне свой взгляд.
— Я же не говорю, что среди нас не может быть героев, — возразил он. — Просто в течение многих веков мы любые свои проблемы старались решать с помощью переговоров, диспутов, голосования, заключения сделок. И даже если между нами возникали серьезные разногласия, то и тогда мы вели споры с помощью слов, а не мечей. У нас нет и никогда не было привычки к жестокости. А напавшие на Ансул армии, казалось, не имеют конца… Они все получали и получали подкрепление, и никто не мог сказать, сколько еще будут продолжаться в Ансуле бойни и грабежи. Мы совсем упали духом, утратили всякую надежду. Нам действительно был нанесен страшный ущерб, и мы были сломлены.
И Лорд-Хранитель поднял и показал нам свои искалеченные руки. Лицо у него было каким-то странным, будто перекошенным, а глаза вдруг стали очень, очень темными.
— Ты правильно сказал, Оррек: у них действительно есть определенные преимущества, — снова заговорил Лорд-Хранитель. — То, что у них один царь, один бог и одна вера, дает им возможность действовать как единое целое. Они очень сильны. И все же их можно разъединить, ибо и среди них есть инакомыслящие. А наша сила в том, что нас гораздо больше. Нас великое множество! И это наша земля, святая земля! И здесь вместе с нами живут наши боги и духи наших предков — мы среди них, как и они среди нас. Мы терпим страдания вместе с ними. Да, нам нанесен огромный ущерб, мы ослаблены, ибо в течение долгого времени были порабощены безжалостным врагом. Но уничтожить нас альды смогут только в том случае, если сумеют уничтожить наши знания.
Лишь через два дня после этого разговора, когда мы снова отправились на площадь Совета, я сумела выяснить, почему Грай так на меня посмотрела, сказав: «Мы могли бы послушать, что на сей счет говорят во дворце». Она хотела, чтобы я, то есть не я, а «конюх Мем» попытался разговорить мальчишек, прислуживавших на конюшне, или молодых воинов, которые слонялись возле шатра, надеясь услышать Оррека.
— Держи ушки на макушке, — сказала она. — Поинтересуйся у них, каков этот новый ганд, что теперь правит в Медроне. Спроси, знают ли они о Пасти Ночи. В прошлый раз, кстати, ты довольно долго беседовала с каким-то мальчишкой.
— А, с тем прыщавым, — сказала я.
— По-моему, он тебе симпатизирует.
— Он хотел узнать, не продам ли я ему свою сестру для любовных утех! У него только и разговоров что об этом! — возмутилась я.
Грай только присвистнула тихонько и шепнула:
— Ничего, потерпи, так надо.
Лорд-Хранитель тоже говорил, что нужно потерпеть. И я восприняла это как руководство к действию, как приказ. Ладно, я подчинюсь. Я потерплю, если надо.
На этот раз, когда ганд вышел из большого шатра навстречу Орреку, Иддора и жрецов с ним не было. Но стоило Орреку начать декламировать, как где-то внутри шатра послышался шум, громкое многоголосое пение, грохот барабанов — жрецы, похоже, отправляли какой-то обряд. Свита ганда явно встревожилась. Одни просто пожимали плечами, другие возмущенно перешептывались. Сам же Иораттх сидел с абсолютно невозмутимым видом и внимательно слушал. Когда Оррек закончил очередную песнь и умолк, ганд жестом велел ему продолжать.
— Но я не хотел бы проявлять неуважение к тем, кто занят богослужением, — возразил Оррек.
— Это отнюдь не богослужение, — сказал Иораттх. — Это откровенное проявление неуважения ко мне и моему гостю. Так что будь добр, поэт, продолжай.
Оррек поклонился и стал декламировать отрывок из очередного героического сказания альдов. Затем Иораттх велел принести ему стакан воды и завел с ним беседу, к которой присоединились и некоторые придворные. Я же, подчиняясь данному мне приказу, скользнула через двор к конюшне, возле которой в тени собралась довольно большая группа молодых слуг и воинов.
Там же был и Симме. Он сразу подошел ко мне, и только тут я обратила внимание на то, какой он широкоплечий и сильный, гораздо крупнее и выше меня. Вокруг прыщей на щеках и
подбородке у него вились тонкие длинные волоски — будущая борода. Альды вообще куда более волосаты, чем мои соплеменники, и многие из них носят бороды. И все же, увидев, как — почти раболепно! — Симме меня приветствует, стараясь мне понравиться, я подумала: да он же совсем еще мальчишка!
Что я знала на свете — только свой город да свой дом. Ну и еще книги. А Симме немало странствовал вместе с войсками и теперь, как взрослый, проходил обучение в армии, но я хорошо понимала: я знаю гораздо больше, чем он, и я куда упрямее и тверже. И он тоже это понимал.
Вот почему мне было так трудно его ненавидеть. Это нормально — ненавидеть тех, кто сильнее тебя; в этом, по-моему, есть даже нечто добродетельное. Но негоже ненавидеть того, кто тебя слабее. Все равно что лежачего бить.
Симме явно понятия не имел, с чего начать разговор, и мне сперва показалось, что у нас вообще никакого разговора не получится. Но потом мне пришло в голову спросить его о том, что мне и в самом деле хотелось узнать:
— А где ты слышал то, о чем говорил в прошлый раз? Кто рассказал тебе всю эту чушь насчет храмовых проституток?
— Не помню, кто-то из старших, — смутился он. — Мне многие говорили, будто у вас, язычников, есть такие храмы, где устраивают настоящие оргии, и в них участвуют жрицы какой-то вашей богини, вернее, дьяволицы. Как раз она-то и заставляет мужчин заниматься любовью со жрицами, понимаешь? Впрочем, и сами ее жрицы готовы заниматься этим с кем угодно, хоть с первым прохожим. И всю ночь.
Он даже повеселел при мысли о такой возможности.
— Нет у нас никаких жриц, — ровным голосом сказала я. — И жрецов тоже нет. Мы своим богам сами поклоняемся.
— Тогда, может, это были просто женщины, которые в храм ходят? А та дьяволица заставляет их всю ночь заниматься любовью с кем попало.
— Да разве могут люди внутрь храма попасть? — презрительно усмехнулась я.
Для жителей Ансула «храм» — это обычно маленькая уличная святыня, установленная где-нибудь на перекрестке или напротив какого-то дома; нечто вроде алтаря, посвященного одному из наших богов. Почти такие же алтари устроены и у нас в домах, в неглубоких нишах. И «богослужение» у нас осуществляется достаточно просто: нужно всего лишь коснуться края такой ниши и произнести слова благодарности тому или иному богу или положить, скажем, цветок в качестве подношения. Впрочем, некоторые уличные храмы и впрямь представляют собой прелестные здания из мрамора, только крошечные, высотой не больше двух-трех футов; обычно их украшает чудная резьба, а крыша у них чаще всего позолочена. К сожалению, почти все такие храмики были разрушены альдами. Уцелели только те, что подвешивают к ветвям деревьев; этих альды не тронули, посчитав их домиками для птиц. Отчасти это соответствует действительности: во многих таких храмиках год за годом гнездятся ласточки и воробьи. У нас всегда считалось добрым знаком, если какая-то птица устраивает в храме гнездо; люди радуются, ибо им кажется, что этот храм благословили боги. Но самая большая удача — если в таком храме поселится сова, ведь сова — это птица самого Глухого бога.
И хоть мне прекрасно было известно, что для альдов храм — это полноценное здание, причем довольно большое, я сделала вид, что ничего об этом не знаю.
По крайней мере, своим вопросом я отвлекла Симме от рассуждений о том, как хорошо было бы заниматься любовью всю ночь напролет. Он удивился, нахмурился и с подозрением посмотрел на меня:
— Что ты хочешь этим сказать? Да в храмы же все ходят!
— Зачем?
— Чтобы молиться!
— Что значит «молиться»?
— Поклоняться Аттху! — Он так и впился в меня глазами.
— А как вы поклоняетесь Аттху?
— Ну, приходишь в храм, на богослужение, — он говорил каким-то неуверенным тоном, словно не понимая, как это я могу не знать таких вещей, — а там жрецы поют, стучат в барабаны, танцуют и рассказывают о деяниях Аттха. Ясно тебе? Неужели ты этого не знаешь? А потом опускаешься на четвереньки, четыре раза ударяешь лбом о землю и повторяешь все следом за жрецами.
— А зачем?
— Ну, например, если ты чего-нибудь хочешь, то повторяешь за жрецами молитву, ударяешь лбом о землю и про себя просишь Аттха, чтобы он тебе это дал.
— То есть молишься, чтобы бог тебе что-то дал? Как это? Разве можно молиться, чтобы тебе что-то дали?
Он уже смотрел на меня, как на слабоумного.
Но я глаз не отвела и продолжила атаку:
— Какую-то ерунду ты городишь! — На самом-то деле мне хотелось понять, что, с его точки зрения, значит «молиться», но я никак не могла допустить, чтобы он почувствовал свое превосходство надо мной. — Ведь нельзя же молиться из корыстных побуждений!
— Конечно можно! Ты, например, молишь Аттха, чтоб он даровал тебе жизнь и здоровье, а также… все остальное!
Я прекрасно его понимала. У нас испуганный человек всегда невольно взывает к Энну. Или молится богу удачи, желая эту удачу обрести. Только это редко получается, именно поэтому бога удачи и называют Глухим богом. Но ничего этого я Симме не сказала, а презрительно бросила:
— Это же настоящее попрошайничество, а не молитва! Мы молим своих богов о благословении, а не о каких-то житейских вещах!
Похоже, мое заявление его потрясло. Еще бы, я ведь спутала всю эту стройную схему, в которой он совершенно не сомневался. Он насупился и буркнул:
— А ты и не можешь получить благословение. Ты же не веришь в Аттха!
Теперь уже была потрясена я. Нет ничего хуже, чем сказать кому-то, что он не может получить благословение! Хотя Симме совсем не был похож на человека, которому могла бы в голову прийти подобная жестокость. Помолчав, я спросила — куда более осторожно, чем прежде:
— Что значит, по-твоему, «не верить в Аттха»?
Он опять недоуменно на меня уставился.
— Ну, верить в Аттха значит… верить в то, что Аттх — бог.
— Ну конечно, он бог. Все боги — это боги. Почему же и Аттху богом не быть?
— Те, кого ты называешь богами, — это демоны!
Я задумалась.
— Не знаю, верю ли я по-настоящему, что на свете есть какие-то демоны, но я точно знаю: боги есть. И я совершенно не понимаю, почему нужно «верить» в существование одного-единственного бога, а в существование других — нет.
— Потому что если ты не веришь в Аттха, значит ты проклят и после смерти превратишься в демона!
— Это кто так говорит?
— Наши жрецы!
— Неужели ты этому веришь?
— Конечно! Уж жрецам-то все о таких вещах известно! — Симме явно чувствовал себя не в своей тарелке, потому и отвечал так сердито.
— Не думаю, что твоим жрецам так уж хорошо известно, кто и во что верит у нас в Ансуле, — сказала я, с некоторым опозданием понимая, что спорить с ним — это далеко не лучший способ что-нибудь у него узнать. — Хотя, возможно, о вере жителей Асудара они действительно знают все. Но здесь-то ведь все по-другому!
— Потому что вы язычники!
— Да, — согласилась я, — мы язычники. И поэтому у нас множество богов. Вот только никаких демонов у нас нет. И жрецов тоже нет. Как нет и храмовых проституток. Разве что совсем крошечные, ростом не выше шести дюймов.
Симме молчал. Хмурился. Я тоже немного помолчала и спросила:
— Говорят, ваша армия пришла сюда в поисках какого-то особенного, очень дурного места? — Теперь я очень старалась держаться дружелюбно, но чувствовала собственную неискренность, и мне казалось, что все вокруг тоже ее замечают. — Какую-то дыру в земле, из которой, по слухам, вылезают разные злые духи?
— Да, кажется, так.
— А зачем?
— Не знаю. — Он снова насупился и, стараясь на меня не смотреть, все отводил в сторону свои блеклые глаза.
Мы сидели в тени под стеной конюшни прямо на каменных плитах, и я машинально стала чертить в пыли квадратики, сама с собой играя в крестики-нолики.
— А еще говорят, что у вас в Медроне царь умер, — помолчав, сказала я совершенно спокойно. И нарочно воспользовалась нашим старинным словом «царь», а не их пышным выражением «ганд всех гандов».
Он только кивнул. Наш спор о вере его совершенно обескуражил. Он долго смотрел на меня, потом вдруг решился:
— Мекке сказал, что, возможно, новый правитель прикажет нашей армии вернуться домой, в Асудар. Ты-то небось обрадовался бы, да?
Я только плечами пожала:
— А ты разве нет?
Он промолчал.
Мне хотелось заставить его продолжить разговор, но я не знала, как это сделать.
— Это игра в фит-фет, — сказал он.
Теперь уже я посмотрела на него так, словно он спятил. Потом догадалась: он имел в виду те квадратики, что я нарисовала на пыльных каменных плитах. Он нарисовал горизонтальную линию в одном из квадратиков, а я вертикальную — в другом.
— А у нас это называется еще «забавой для дураков», — сказала я, с облегчением вздыхая. Мы, разумеется, сыграли вничью — так всегда и бывает, если, конечно, ты и впрямь не полный дурак. Потом Симме показал мне, как играть в «Найди засаду» — когда у каждого свой расчерченный на квадратики «тайный» участок и на нем некоторые квадраты особым образом помечены — это и есть «засада». Нужно по очереди, как при игре в морской бой, отгадывать, где находится «засада» противника, и тот, кто первым отыщет все помеченные квадраты, тот и выиграет. Симме выиграл два раза из трех и существенно приободрился — во всяком случае, стал куда более разговорчивым.
— Вообще-то, я очень надеюсь, что армию все-таки отправят в Асудар, — признался он. — Я хочу жениться. А здесь мне жениться нельзя.
— Почему же? Ганд-то ваш женился, — фыркнула я и сама испугалась: похоже, я зашла слишком далеко. Впрочем, Симме только усмехнулся и тоже довольно непристойно хмыкнул.
— Ну как же, на «царице Тирио»! — воскликнул он насмешливо. — Мекке говорит, она-то как раз и была раньше одной из храмовых проституток. А потом на ганда Иораттха чары навела.
Я не выдержала. Мне осточертели эти дурацкие разговоры о храмовых проститутках.
— Да нет у нас и никогда не было таких храмов, в которые человеку можно войти! — рассердилась я. — Вот праздники у нас раньше были замечательные. Весь город тогда праздновал. И торжественные процессии мы устраивали, и танцы… А потом пришли ваши альды и все это запретили. Ваши солдаты убивали каждого, кто всего лишь танцевать пытался… Напридумывали вы себе всяких демонов и сами же их до смерти боитесь! — Я встала, ногой стерла нарисованные в пыли квадратики и пошла прочь, к конюшне.
Но, оказавшись там, поняла, что не знаю, как быть дальше. Меня мучил стыд: я все-таки не сумела стерпеть и сбежала! Заглянув в конюшню, я увидела Бранти, и он приветствовал меня тихим ржанием. Бранти угощался овсом из кормушки — изящно, понемножку брал зерна губами, стараясь растянуть удовольствие. Старый конюх сидел рядом на козлах для пилки дров, не сводил с Бранти глаз; на лице его написано было, по-моему, самое настоящее обожание. Конюх кивнул мне, а Бранти опустил голову и вновь занялся своим овсом. Я прислонилась к столбу и скрестила руки на груди, очень надеясь, что вид у меня достаточно отчужденный и неприступный.
И тут в конюшне появился Симме — притащился через весь двор, шаркая ногами, покорно опустив плечи и всем своим видом выражая рабскую преданность. Он подобострастно улыбался, скаля зубы, как пес, на которого хозяин только что наорал, и заискивающе заглядывал мне в глаза.
— Привет, Мем! — сказал он, словно мы с ним несколько дней не виделись.
Я молча ему кивнула.
А он смотрел на меня почти так же, как старый конюх — на Бранти.
— Вон стоит лошадь моего отца, — сказал он. — Хочешь ее посмотреть? Она из царской конюшни Медрона.
Я позволила ему подвести меня к стойлу напротив, где стояла очень красивая, ясноглазая гнедая кобыла со светлой гривой, как и у той лошади, которую я тогда остановила на рыночной площади. А может, это и была та самая лошадь. Она искоса на меня посмотрела поверх перегородки и тряхнула головой.
— Ее зовут Победа, — сказал Симме и хотел потрепать кобылу по холке, но она, раздраженно мотнув головой, отошла к задней стене денника. Когда он снова попытался ее приласкать, она так резко к нему повернулась, оскалив крупные желтые зубы, что он моментально руку отдернул.
— Настоящая боевая лошадь! — сказал он восхищенно.
Я еще раз внимательно посмотрела на кобылу, как бы оценивая ее с высоты собственных «глубоких познаний» и «богатого» опыта, благосклонно кивнула и пошла назад, в тень. И тут как раз, к моему великому облегчению, на конюшенный двор заглянули Грай и Шетар. Лошади, увидев или почуяв льва, стали нервно ржать и бить копытами. Я поспешила к Грай, а Симме крикнул мне вслед:
— Эй, Мем, завтра увидимся?
По дороге домой я рассказала Грай и Орреку о своих безнадежных попытках выпытать у Симме хоть что-нибудь стоящее и очень удивилась, заметив, что они, как ни странно, слушают меня очень внимательно. Точно так же слушал меня чуть позже и Лорд-Хранитель. Все они, правда, отметили, что у Симме либо полностью отсутствует интерес к тому, что я у него спрашивала о Пасти Ночи, либо он просто почти ничего об этом не знает. Отметили они также и то, что, по словам Симме, новый правитель альдов, вполне возможно, отзовет армию из Ансула.
— А насчет Иддора он ничего не говорил? — спросила Грай.
— Я не знала, как его об этом спросить, — призналась я.
— Ну а, вообще-то, он тебе как показался? Умный он парнишка или не очень? — спросил Лорд-Хранитель. И я тут же ответила:
— Да какой там умный! Глупый, конечно, совсем дурак! — Я с такой горячностью это сказала, что мне даже немного стыдно стало. Хотя Симме, по-моему, действительно был полным дураком.
День выдался жаркий, зато к вечеру повеяло приятной прохладой. И мы после обеда уселись не как всегда на веранде, а в небольшом внутреннем дворике перед нею. С двух сторон во дворик выходили глухие стены, а с двух других тянулись изящные аркады, опиравшиеся на невысокие хрупкие колонны. С восточной стороны дома и сразу за ним начинается довольно крутой склон горы, на которой, собственно, и стоит Галваманд, и весь этот склон покрывали цветущие кустарники, так что воздух вокруг был буквально напоен их ароматом. Мы уселись лицом к северу, любуясь раскинувшимся перед нами закатным небом, голубизна которого имела чуть зеленоватый оттенок.
— Этот дом ведь встроен прямо в скалу, да? — спросил Оррек и посмотрел вверх, на северные окна Хозяйских Покоев, которые находились над двориком, а потом вниз — на многочисленные коньки крыш нашего старинного здания, пересекавшиеся под самыми неожиданными углами.
— Да, — сказал Лорд-Хранитель. Уж не знаю почему, но от того, как он это сказал, по спине у меня пробежал неприятный холодок. А он, немного помолчав, прибавил: — Ансул — самый старый город на Западном побережье, а Галваманд — самый старый дом в Ансуле.
— А правда, что аритане пришли сюда из пустыни тысячу лет назад и обнаружили, что на всех этих прекрасных землях, столь плотно теперь заселенных, никто не живет? — снова спросил Оррек.
— Только произошло это значительно раньше, а не тысячу лет назад. И пришли аритане не из пустыни, а из мест куда более далеких, — сказал Лорд-Хранитель. — Они называли свою родину Страной Восхода. Это была огромная империя, раскинувшая свои владения далеко на востоке. Аритане постоянно посылали в пустыню, к западным своим пределам, разведчиков и исследователей, и однажды какой-то отряд отыскал путь, ведущий дальше на запад, через пустыню, — а пустыня эта, по их словам, была шириной в несколько сотен миль. Этот путь и привел аритан в зеленые долины Западного побережья. Возглавлял тот отряд некто Тарамон. Собственно, именно он первым и проложил этот путь; остальные просто последовали за ним. Книги, повествовавшие об этом, были очень древними, и тексты в них уцелели лишь фрагментарно, так что порой в них довольно трудно было разобраться. Впрочем, теперь большая их часть утрачена навсегда. Но насколько я помню, в этих книгах вполне ясно говорилось о том, что те, кому тогда удалось добраться до Западного побережья, на самом деле были изгнанниками. Их изгнали из Страны Восхода и обрекли на скитания в пустыне. — Он произнес по-аритански несколько слов и тут же их перевел: — «Безводная пустыня, что стережет изгнанников источник…» Мы потомки тех изгнанников.
— И с тех пор никто и никогда оттуда, с востока, больше не приходил?
— Нет. И на восток никто не возвращался.
— Кроме альдов, — вставила Грай.
— Это верно, — кивнул Лорд-Хранитель, — альды тогда вернулись в пустыню, а может, и всегда жили там — но лишь у самых западных ее границ, где есть источники и реки. А к востоку от Асудара, как они сами признаются, на тысячи миль гандом всех гандов является солнце, а народом его — песок.
— Значит, мы живем на самом краешке мира, о котором нам ровным счетом ничего не известно, — задумчиво промолвил Оррек, глядя в бездонное бледное небо.
— Некоторые ученые считают, что Тарамона и его последователей изгнали из родной страны потому, что эти люди были колдунами, обладавшими сверхъестественным могуществом. Существует также гипотеза о том, что те таланты, или дары, какими обладают некоторые народы Верхних Земель, некогда считались качествами совершенно обычными — во всяком случае, для тех, кто пришел из Страны Восхода, — но впоследствии, под воздействием иной среды обитания, особенности эти постепенно сошли на нет.
— А ты что на сей счет думаешь? — спросила Грай, поворачиваясь к Орреку. Но ответил ей Лорд-Хранитель.
— Сейчас же больше никто не обладает такими способностями, какими обладали они, — осторожно начал он, — однако в летописях Ансула неоднократно упоминаются люди, исцеленные женщинами из Дома Актамо; эти женщины умели восстанавливать зрение у слепых и слух у глухих.
— Как у нас в Кордеманте! — сказал Оррек, и Грай воскликнула:
— Но только наоборот! Впрочем, я так и думала. — Она хотела уже пояснить свое странное заявление, но тут в дверях вдруг возник Дезак и сразу решительно направился к нам.
Как и все те, кто регулярно посещал Лорда-Хранителя, Дезак проник в дом через его старую, заброшенную часть, где двери никогда не запирались. Иста порой начинала ворчать, утверждая, что это рискованно, на что Лорд-Хранитель неизменно отвечал: «На дверях Галваманда замков нет». На этом все и кончалось. В общем, Дезак появился настолько неожиданно, что испугал спавшую Шетар. Львица встала и, опустив голову, прижав уши и по-змеиному вытянув шею, ощерилась — не самое приятное зрелище, надо сказать. Дезак просто остолбенел, увидев перед собой рассерженного зверя.
Грай что-то с упреком шепнула Шетар, и та, раздраженно ворча, снова уселась возле нее, время от времени сердито посматривая на Дезака.
— Добро пожаловать, друг мой! Садись и ты с нами, — сказал Лорд-Хранитель. Я, разумеется, бросилась искать гостю какое-нибудь сиденье, а Дезак без церемоний плюхнулся рядом с Лордом-Хранителем на мой стул. Он всегда так. И даже не потому, что манеры у него такие уж дурные, — просто людей, которые в данный момент его не интересуют, для него и не существует. Я, например, была для него ничуть не важнее того стула, который должна была принести. Он был таким же прямолинейным, как альды. Возможно, впрочем, солдаты и должны быть прямолинейными.
К тому времени как я отыскала более или менее сносный стул и притащила его во дворик, Дезак уже успел познакомиться с Орреком и Грай, и Лорд-Хранитель, должно быть, сказал им, что он и есть вожак сопротивления, а может, это им сам Дезак сказал, потому что, когда я вошла, они как раз об этом и говорили. Я тихонько села и стала слушать.
И тут Дезак заметил меня. Ну естественно, у «мебели» не должно быть ушей! Он выразительно посмотрел на Лорда-Хранителя: ему прямо-таки не терпелось немедленно отправить меня прочь. Но Лорд-Хранитель, будто не замечая его взгляда, сказал:
— Мемер познакомилась с сыном одного воина, и этот парнишка сказал ей, что среди альдов поговаривают о том, что армию вот-вот отзовут в Асудар. Кстати, этот юный альд презрительно называл Тирио Актамо «царицей Тирио»; оказывается, это весьма распространенная у них шутка. Ты ее когда-нибудь слышал?
— Нет, — процедил сквозь зубы Дезак и снова выразительно посмотрел в мою сторону. Сейчас он, пожалуй, казался немного похожим на Шетар — в тот момент, когда она от неожиданности прижала уши, гневно сверкая глазами (впрочем, теперь она уже перестала обращать на Дезака внимание и, демонстрируя полное к нему пренебрежение, старательно вылизывала заднюю лапу). — Но то, о чем мы здесь говорим, не должно выходить за пределы этого внутреннего дворика, — напомнил он, с трудом сдерживая раздражение.
— Разумеется, — откликнулся Лорд-Хранитель очень спокойно, почти ласково, однако на Дезака это подействовало почти так же, как сердитое шипение Грай — на львицу, когда та вздумала показывать свой норов. Дезак перестал буравить меня взглядом, откашлялся, задумчиво поскреб подбородок и повернулся к Орреку.
— Не иначе как сама благословенная Энну послала тебя сюда, Оррек Каспро, — сказал он. — А может, это Глухой бог призвал тебя в урочный час, дабы ты помог нам в нашей нужде?
— Вы нуждались во мне? — удивился Оррек.
— Ну а кто же лучше великого поэта может призвать народ к оружию?
Лицо Оррека окаменело, да и сам он словно вдруг застыл и довольно долго молчал. Потом все же сказал:
— Ну что ж, я сделаю все, что в моих силах. Но ведь я чужеземец.
— В борьбе против захватчиков все мы — один народ.
— Но здесь я чаще бывал у альдов во дворце, чем на рыночной площади. Я и прибыл сюда по любезному приглашению ганда. И люди знают это. С какой же стати они будут мне доверять?
— Они уже доверяют тебе. И воспринимают твой приход как великое знамение, как знак того, что Ансул вскоре вернет себе былую славу и благоденствие.
— Но я не знак и не знамение, я просто поэт, — твердо сказал Оррек. И лицо его показалось мне вдруг высеченным из гранита. — А среди жителей города, поднявшихся на борьбу с тиранией, найдутся, конечно же, и свои ораторы.
— Нет, нашим оратором станешь ты, когда мы призовем тебя! — Дезак говорил не менее уверенно, чем Оррек. — В Ансуле вот уже десять лет тайком, за закрытыми дверями, поют твою песню «Свобода». Как попала сюда эта песня, кто ее принес? Ее передавали из уст в уста, из души в душу, из страны в страну. Неужели, когда мы наконец запоем ее в полный голос, не страшась более своего врага, ты сможешь промолчать?
Оррек не отвечал.
— Я солдат, — продолжал Дезак, — я знаю, что заставляет людей сражаться до победы, до последней капли крови. Я знаю, поэт, на что способен голос, подобный твоему. И я знаю, что именно поэтому боги и послали нам тебя в такой важный для нашей страны момент.
— Я появился здесь, потому что меня пригласил ганд.
— А он пригласил тебя, потому что боги Ансула направили его мысли в нужную сторону. Ибо грядет наш час! И чаши весов уже качнулись!
— Друг мой, — попытался урезонить его Лорд-Хранитель, — может, чаши весов и качнулись, но разве весы эти в твоих руках?
И Дезак, сухо усмехнувшись и вытянув перед собой руки, показал ему пустые ладони.
— Пока что среди альдов не замечено никаких признаков беспокойства или замешательства, которыми мы могли бы воспользоваться, — продолжал Лорд-Хранитель. — И мы отнюдь не уверены, что в политике альдов действительно наметились серьезные перемены. И нам неизвестно, каковы на самом деле взаимоотношения Иораттха и Иддора.
— Э нет! Об этом-то нам как раз кое-что известно, — возразил Дезак. — Иораттх намерен отослать Иддора в Медрон вместе со всеми его жрецами, а также с целым полком солдат. Якобы для того, чтобы он получил там новые указания от ганда всех гандов Акрея, а на самом деле чтобы убрать из Ансула и самого Иддора, и его приспешников. Иалба, служанка Тирио Актамо, сегодня утром сообщила об этом тем рабам во дворце, с которыми у нас существует постоянная связь. А сведения, полученные от Иалбы, всегда в высшей степени надежны.
— Значит, вы намерены дождаться, когда Иддор уберется отсюда, и уж тогда выступить?
— А зачем ждать? Зачем давать крысе возможность избежать ловушки?
— Так вы планируете напасть первыми? И пойдете на казармы?
— Да, мы планируем напасть первыми. Но там и тогда, где и когда они этого никак не ожидают!
— Я знаю, у вас есть кое-какой запас оружия, но хватит ли у вас людей?
— У нас достаточно и людей, и оружия. А потом к нам, безусловно, примкнут и другие горожане. Да нас же здесь двадцать к одному, Султер! И гнев, скопившийся за все эти годы тирании, рабства, оскорблений и осквернения наших святынь, вырвется наружу и вспыхнет, как стог сухого сена! Вот увидишь, поднимется сразу весь город! Людям нужно лишь собраться вместе и понять, как нас много по сравнению с альдами! И еще нам очень нужен голос. Такой голос, который будет способен призвать народ к восстанию!
Страстность его слов потрясла меня. Я видела, что и Оррек потрясен не меньше. Он просто глаз не сводил с Дезака. Восстание, мятеж! Пусть толпа горожан набросится на этих невежд в голубых плащах, пусть их стащат с лошадей, пусть их бьют и запугивают, как они били и запугивали нас, пусть их навсегда изгонят из нашего города, из нашей жизни!.. Ох! Я так давно мечтала об этом! И уж я-то наверняка последую за Дезаком! Теперь я хорошо его рассмотрела: это был настоящий воин, вожак! Да, я пойду за ним, как люди всегда шли за героями прошлого — и в огонь, и в воду, и даже на смерть!
А Оррек по-прежнему сидел с застывшим лицом и молчал.
И Грай тоже настороженно молчала, похожая в эту минуту на свою львицу.
Первым эту напряженную тишину нарушил Лорд-Хранитель:
— Скажи, Дезак: если я задам вопрос и получу ответ, захочешь ли ты этот ответ выслушать? — Он произносил эти слова с каким-то странным нажимом.
Дезак внимательно посмотрел на него; сперва он явно ничего не понял, потом нахмурился и хотел что-то спросить, но осекся, словно прочел в глазах Лорда-Хранителя, что спрашивать об этом нельзя. И его жесткое, печальное, изборожденное ранними морщинами лицо вдруг странным образом изменилось, став открытым, незащищенным.
— Да, — сказал он все еще несколько неуверенно и тут же повторил уже более твердо: — Да, конечно!
— Тогда я это сделаю, — кивнул Лорд-Хранитель.
— Сегодня ночью?
— А что, сроки поджимают?
— Да.
— Хорошо, сегодня.
— Я приду завтра утром, — сказал Дезак и встал. Он прямо-таки весь светился; казалось, силы в нем просто кипят. — Султер, дружище, от всего сердца благодарю тебя! Вот увидишь, твои духи выскажутся в нашу пользу! — Он повернулся к Орреку. — А твой голос призовет нас на борьбу! Я знаю: ты выступишь вместе с нами. И мы снова встретимся здесь — уже как свободные люди в свободном городе! Да хранит вас Леро и все прочие боги Ансула! Да падет их благословение на души и тени ваших предков, которые слышат нас сейчас! — И Дезак, словно уже празднуя победу, решительной солдатской поступью устремился прочь.
Оррек, Грай и я молча смотрели друг на друга. Только что прозвучало нечто очень важное, было дано какое-то обещание, но никто из нас троих не понял, в чем его смысл. Лорд-Хранитель сидел, ни на кого не глядя, и был чрезвычайно мрачен. Потом поднял глаза, и взгляд его остановился на мне.
— Еще до того, как возник наш город, — промолвил он, — еще до того, как на этом холме был построен наш дом, здесь жил один прорицатель. — И он вдруг заговорил по-аритански: — «И они преодолели пустыни и пришли сюда, усталые, истомленные люди, изгнанники. И, перебравшись через холмы, что высятся над берегом Западного моря, они увидели по ту сторону вод белоснежный Сул. А на склоне холма они обнаружили пещеру, из которой вытекал ручеек. И в темноте той пещеры перед ними в воздухе возникли слова: «Останьтесь здесь». И они, утолив жажду из этого источника, принялись строить здесь свой город».
Глава 9
Вскоре после этого мы все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам, но Лорд-Хранитель шепнул мне на прощанье:
— Приходи туда, Мемер.
Так что, выждав немного, я снова прошла через весь дом, начертала в воздухе нужные буквы и вошла в наш тайник, дальний конец которого, скрываясь во тьме, уходит далеко в толщу горы.
Лорд-Хранитель пришел чуть позже. Я уже успела зажечь и поставить на стол масляную лампу. А он, как всегда, принес с собой маленький светильник, но не погасил его, а тоже поставил на стол. Увидев, что передо мной лежит раскрытая книга Оррека, он слегка улыбнулся и спросил:
— Нравятся тебе его стихи?
— Очень! Больше всех! Даже больше Дениоса!
Он снова улыбнулся — на этот раз широко и немного насмешливо.
— Да, эти современные поэты весьма недурны. И все же с Регали ни один из них сравниться не может!
Поэтесса Регали жила тысячу лет назад здесь, в Ансуле, и писала по-аритански. Аританский — очень сложный язык, а уж написанные на нем стихи понять и вовсе нелегко. Я пока что не слишком преуспела в чтении Регали, хотя знала, что Лорд-Хранитель очень любит ее поэзию.
— Ничего, Мемер, всему свое время, — сказал он, словно читая по моему лицу. — Всему свое время… Итак, девочка моя дорогая, мне нужно многое тебе рассказать и кое о чем тебя попросить. Сперва, впрочем, я бы хотел кое-что объяснить. — Мы сидели за столом лицом друг к другу, как бы заключенные в шар мягкого света и со всех сторон окруженные тьмой, лишь порой в полумраке поблескивало золотое тиснение на корешках книг. Но сами книги, которых в этой просторной продолговатой комнате с высокими потолками было великое множество, стояли темными молчаливыми рядами, словно тоже собираясь послушать рассказ Лорда-Хранителя.
Он произнес мое имя с такой нежностью, что меня это почти напугало. И был так же мрачен, как если бы его мучила сильная боль, — во время приступов лицо у него всегда становилось таким. А когда он заговорил, я увидела, что каждое слово дается ему с трудом.
— Я нехорошо поступил с тобой, Мемер, — промолвил он и умолк.
Я, разумеется, тут же запротестовала. Мне хотелось сказать, что именно он подарил мне главные сокровища моей жизни — любовь, верность, знания, умение учиться, — но он ласково остановил меня, хотя взгляд его был по-прежнему мрачен.
— Ты была мне единственной утехой, — сказал он, — единственной. Да я, собственно, только в утешении и нуждался. Всякую надежду я давно оставил. Не выплатив свой долг тем, кто дал мне жизнь. Я учил тебя читать, но так никогда и не объяснил тебе, что в книгах можно найти и нечто большее, чем стихи и занятные истории… В общем, я дал тебе то, что дать было очень легко. Я говорил себе: она всего лишь ребенок, зачем же взваливать ей на плечи такую ношу…
Я чувствовала, какой плотной стала темнота у меня за спиной; я ощущала ее как присутствие живого существа.
А Лорд-Хранитель упрямо продолжал:
— Помнишь, мы говорили о дарах, которые передаются по наследству людям одной крови, — как в семействе Грай Барре, где люди умеют разговаривать с животными, или в семействе Актамо, где умеют лечить. А наш род Галва, предки которого все еще живут в этом доме в виде духов и теней, обладает… нет, не даром, а скорее определенной ответственностью. Мы, живущие здесь, связаны неким обязательством. Помнишь, нашим предкам было сказано: «Останьтесь здесь». И мы остаемся здесь. Всегда. Остаемся в этом доме. В этой комнате. И охраняем то, что здесь находится. Мы открываем потайную дверь и закрываем ее. И это мы читаем слова оракула.
Он еще не успел произнести это слово, но я уже знала, что он его произнесет. Именно это слово он должен был произнести, а я — услышать.
Но сердце мое вдруг словно превратилось в тяжелый кусок льда.
— Я трусил, — продолжал Лорд-Хранитель, — и убеждал себя, что рассказывать тебе об этом необязательно. Что время оракулов давно прошло, что это всего лишь старинная легенда, которая уже перестала быть правдой. Ты ведь знаешь, что повествования могут со временем утрачивать свой истинный смысл. И то, что было правдой, начинает казаться бессмысленным, даже лживым, ибо истина как бы покинула эту историю и перебралась в другую, подобно тому как воды старого источника пробиваются на поверхность в другом месте. Фонтан Оракула стоит сухим уже двести лет, но тот родник, что питал его, до сих пор жив! Он здесь. В этой комнате.
Лорд-Хранитель сидел, повернувшись лицом ко мне и к тому концу комнаты, где она уходит во мрак и становится ниже; на меня он больше не смотрел, он смотрел туда, в эту темноту. И когда он умолк, я услышала слабый голос бегущей воды.
— Я видел, в чем мой долг, и старался выполнять свои обязательства: беречь и хранить то немногое, что еще осталось, — спрятанные здесь книги и те, которые мне приносили другие люди. Наше последнее сокровище, последнее свидетельство былой славы Ансула. А в тот день, когда ты пришла сюда и мы стали говорить о буквах, о чтении… Ты помнишь этот день?
— Помню, — сказала я, и воспоминание об этом немного согрело мое заледеневшее сердце. Я посмотрела на те полки, где стояли прочитанные мной книги, которые я знала и любила, как лучших друзей.
— В тот день я сказал себе: эта девочка родилась, чтобы делать то же, что и я, чтобы со временем занять мое место, чтобы на столе здесь всегда горела лампа. И я тешил себя этой мечтой, не желая признавать никаких иных своих обязанностей перед тобой, не желая думать о том, что должен научить тебя и кое-чему еще. Когда тело так изуродовано, как у меня, то и мысли тоже становятся уродливыми, неправильными, слабеет разум… — Он вытянул перед собой искалеченные руки. — Я не могу доверять даже самому себе. Во мне слишком много страха. Но тебе я все же должен был доверять.
Мне хотелось просить, умолять его: «Не надо! Не говори так! Разве можно мне доверять? Я ведь слабая, и душа моя тоже полна страха!» — но слова отказывались срываться с моих губ.
А он, сказав эти горькие слова, вдруг умолк. Но вскоре снова заговорил, и в голосе его звучала знакомая нежность.
— Итак, еще немного истории, Мемер. Той самой истории, которую ты с таким удовольствием изучала. Ты еще так юна… И теперь весь груз этих лет и обязательства, взятые на себя людьми, умершими столетия назад, обрушатся на тебя! Но ты многое вынесла, вынесешь и это.
Твой дом — это Дом Оракула, и мы, Галва, являемся читателями его пророчеств, его устами. Пророчества совершаются здесь, в этой комнате. Ты умела писать в воздухе слова, позволявшие тебе войти сюда, задолго до того, как узнала, что такое письменность. А потому сумеешь прочесть и те слова, которые написаны оракулом.
Первыми же его словами были те, о которых я только что говорил: «Останьтесь здесь».
В давние времена все те, кто принадлежал к четырем главным Домам, умели читать пророчества оракула. В этом заключалась их священная сила. Аритане-изгнанники и их потомки постепенно заселяли Западное побережье, строили новые города, однако постоянно возвращались в Ансул, в Дом Оракула, чтобы задать вопрос: «Правильно ли будет так поступить и что будет, если мы так поступим?» Они подходили к фонтану, пили из него, просили благословения богов и задавали свои вопросы. А затем те, что умели читать пророчества оракула, уходили в дом и проникали в пещеру, в темноту. И если тот или иной вопрос был оракулом принят, они прямо в воздухе читали ответ на него.
Порой, правда, уходя во тьму, они видели, как перед ними в воздухе возникают некие сверкающие слова, хотя никто никаких вопросов оракулу не задавал.
Все слова оракула тщательно записывались. А книги, куда их записывали, стали называть Книгами Галва. Со временем люди из рода Галва, построившие свой дом прямо над пещерой оракула, стали единственными хранителями этих книг и толкователями того, что в них написано. Они стали голосом оракула — Читателями его пророчеств.
Это в конце концов привело к ревности и соперничеству. Было бы лучше, если б мы могли разделить свое могущество между представителями всех четырех Домов. Но наверное, это было просто невозможно. Ведь дар дается человеку независимо от его желания.
Книги Галва были особенными; они содержали не только записи уже сделанных пророчеств. Порой слова в них сами собой менялись, хотя ничья рука не касалась их страниц, или же Читатель, открыв книгу, обнаруживал там то, чего никто никогда не записывал. И все чаще и чаще оракул говорил именно на страницах книг, а не в темноте своей пещеры.
Нередко, однако, предсказания его были совершенно неясны людям и требовалось их растолковывать. А еще там появлялись ответы на вопросы, которых никто не задавал. И однажды великий Читатель Дано Галва сказал: «Искать нам надо отнюдь не правильный ответ. Правильный вопрос — вот та заблудшая овца, которую надо искать. А уж ответ последует за вопросом, как хвост за овцой».
До сих пор Лорд-Хранитель смотрел куда-то мимо меня, словно читал свои мысли где-то там, в сумеречном воздухе; теперь же он посмотрел мне прямо в лицо и умолк.
— А ты… читал ли ты когда-нибудь сам эти пророчества? — спросила я. Ощущение было такое, словно я целый месяц молчала: горло мое совершенно пересохло, хриплый голос дрожал и был еле слышен.
Он ответил, медленно произнося каждое слово:
— Я начал читать Книги Галва, когда мне было двадцать. Мать меня учила. Сперва мы прочли самую древнюю из книг. В таких древних книгах слова всегда остаются на прежних местах и больше не меняются. С другой стороны, самые старые записи и понять труднее всего, потому что в них вопросы записаны не рядом с ответами, так что приходится гадать, где тут овца, а где ее хвост… Есть и довольно много книг, составленных в более поздние века; в них имеются и вопросы, и ответы. Впрочем, часто неясны и те и другие, однако внимательное их изучение воздается сторицей. А после того как библиотеку перенесли из Галваманда, вопросов стало гораздо меньше. И ответы с тех пор стали изменяться или исчезать, или же они возникали сами по себе, хотя никто никакого вопроса оракулу не задавал. Книги Галва нельзя прочитать дважды — как нельзя дважды испить одной и той же воды из Источника Оракула.
— А сам ты какой-нибудь вопрос оракулу задавал?
— Однажды. — Он коротко усмехнулся и потер верхнюю губу костяшками пальцев левой руки. — Я думал, что задаю очень хороший вопрос, прямой и ясный, и мне казалось, что на него оракул непременно ответит. Это было во время первой осады Ансула. Я спросил: «Захватят ли альды наш город?» Но ответа не получил. А если ответ и был мне дан, то искал я его не в той книге.
— А как ты это… Как ты задаешь вопрос?
— Ты сама увидишь, Мемер. Я сказал Дезаку, что сегодня ночью спрошу оракула насчет восстания, которое они готовят. Сам-то Дезак считает и оракула, и его предсказания всего лишь старинной легендой, но понимает: если оракул все же вдруг заговорит, это может здорово помочь восстанию. — Лорд-Хранитель внимательно посмотрел на меня и сказал: — Я хочу, чтобы ты пошла туда со мной. Сможешь? Или еще слишком рано?
— Не знаю, — пролепетала я, похолодев от страха. От леденящего душу безотчетного страха. По спине и по рукам у меня бегали мурашки еще с тех пор, как Лорд-Хранитель стал рассказывать о тех книгах, где записаны пророчества оракула. Мне совсем не хотелось видеть эти книги. И идти туда не хотелось. Я и так знала, где они находятся и что это за книги. При одной лишь мысли о том, что к ним нужно будет прикасаться, у меня перехватывало дыхание. Я хотела уже сказать: «Нет, я не могу!» — но и эти слова застряли у меня в горле.
А то, что я все-таки сумела выдавить из себя, оказалось для меня полной неожиданностью. Я спросила:
— А демоны там есть?
Он не ответил, и тут меня вдруг понесло; слова так и рвались наружу, хриплые и невнятные:
— Ты говоришь, что я тоже Галва, но я ведь… не только Галва… то есть я и Галва, и нет… я — ни то ни другое. Как же я могла унаследовать этот дар? Я ведь никогда о нем даже не знала. Разве я могу сделать… такое? Разве могу я воспользоваться таким могуществом, если я… так ужасно боюсь! Я боюсь тех злокозненных демонов, о которых вечно твердят альды, но ведь и я тоже альд!..
Он что-то тихо сказал, пытаясь остановить этот бессвязный поток слов и успокоить меня. И я действительно умолкла.
А он спросил:
— Кого ты считаешь своими богами, Мемер?
Он спросил это тем же тоном, каким, например, спрашивал меня во время урока: «Что говорит Эронт в своей «Истории» о тех землях, что лежат за пределами Тронда?» И я тут же пришла в себя, собралась с мыслями и стала отвечать так, как отвечала бы на уроке, стараясь доказать своему учителю, что ответ на этот вопрос я действительно знаю.
— Я считаю своими богами Леро и Энну, которая облегчает путь. И Деори, что населяет мир мечтами. И Того, Кто Смотрит В Оба Конца Пути. И хранителей очага, и тех богов, что стерегут двери нашего дома. И Глухого бога, и добрую богиню Иене, что заботится о садах и огородах. И Карана, Хозяина Всех Вод и Источников. И Сампу, единого в двух лицах — Разрушителя и Созидателя. И Теру, что стоит у колыбели новорожденного, и Анада, что пляшет на могилах. И всех богов лесов и холмов. И прекрасных Морских Лошадей. И душу моей матери Декало, и душу твоей матери Элейо, и души и тени всех, кто жил в этом доме, всех его прежних обитателей, а также души тех предвестников, которые дарят нам сны. И духов каждой комнаты Галваманда, и моей тоже. И богов улиц и перекрестков, и богов рынка, и богов Дома Совета, и богов нашего города, и богов скал, моря и горы Сул…
И, перечисляя всех наших богов и божков, я твердо знала: никакие это не демоны; нет в Ансуле никаких демонов!
— Да благословят меня наши боги, да будут сами они вечно благословенны, — прошептала я наконец, и Лорд-Хранитель прошептал эти слова со мною вместе.
Затем я встала, подошла к двери, потом вернулась к столу — мне просто необходимо было немного подвигаться. А книги, те книги, которые я так хорошо знала, давно ставшие моими лучшими друзьями, по-прежнему спокойно стояли на своих полках.
— Итак, что мы должны сделать? — спросила я.
Лорд-Хранитель встал. Взял со стола тот маленький светильник, с которым пришел, и сказал:
— Первое — это тьма, — и повел меня за собой.
Мы прошли в самый дальний конец комнаты, миновав те шкафы, где стояли книги, которых я боялась. Крошечный светильничек давал маловато света, и видно было плохо. За последними шкафами потолок стал еще ниже, а мрак еще сгустился. И явственно слышалось журчание воды.
Пол стал неровным. Гладкие плиты сменились скальной породой, чуть присыпанной землей. Лорд-Хранитель теперь ступал
гораздо медленнее и осторожнее, сильно прихрамывая.
В мерцавшем свете светильника блеснул маленький ручеек — он выбегал из темноты и падал в глубокий каменный бассейн, а потом исчезал где-то под землей. Мы миновали бассейн и стали пробираться по каменистой тропке вверх по течению ручейка. По неровным каменным стенам пещеры метались огромные бесформенные тени, казавшиеся сгустками вечной тьмы. Мы направлялись, похоже, прямо вглубь горы, и вскоре перед нами открылся какой-то просторный туннель, а может, это была просто большая пещера продолговатой формы. Но мы пошли дальше, и стены вокруг нас стали постепенно смыкаться.
Затем на нашем пути возник то ли колодец, то ли озерцо, наполняемое бьющим из-под земли родником. Свет дрожал на поверхности воды, светлыми бликами отражаясь на потолке пещеры. Лорд-Хранитель остановился, поднял свой светильник — тени так и запрыгали по каменным стенам — и задул огонек. Нас со всех сторон обступила кромешная тьма.
— Благословите нас и сами будьте вечно благословенны, о духи этого святого места, — услышала я тихий и ровный голос Лорда-Хранителя. — Мы, Султер Галва и Мемер Галва, одной с вами крови и пришли к вам с доверием. Мы чтим то, что свято и для вас, и для нас, и стараемся следовать той истине, что была нам явлена. Однако же мы сознаем свое невежество, а потому, испытывая благоговение перед вашими знаниями, пришли к вам, желая знать. Мы вступили во тьму во имя света и в молчание — во имя слов; мы испытали страх, желая обрести ваше благословение. О духи этого святого места, для которых люди из моего рода всегда были желанными гостями! Прошу вас, ответьте на мой вопрос: если сейчас будет поднято восстание против альдов, захвативших наш город, то чем оно закончится — победой или поражением?
Казалось, каменные стены не отражают его голос; никакого эха в пещере не возникло. Царившая здесь тишина полностью поглотила произнесенные слова. Не слышалось ни единого звука, кроме журчания ручейка и нашего — моего и его — дыхания. Вокруг царила непроницаемая тьма, и зрение мое, похоже, начинало играть со мной шутки: то мне казалось, что передо мной вспыхивают неяркие огоньки, мелькают какие-то цветные пятна и тут же растворяются в черноте; то возникало ощущение, что на глазах у меня что-то вроде повязки, а вокруг — бескрайний простор, такой же далекий и глубокий, как беззвездное небо, а я стою на краю утеса и боюсь упасть туда, в эту пустоту. Один раз, правда, мне показалось, что странное мерцание в темноте обрело вполне конкретную форму, очертания какой-то буквы, которая, впрочем, тут же и померкла, как гаснет в ночи вспыхнувшая искра. Так мы стояли довольно долго, во всяком случае достаточно долго, чтобы я начала ощущать острые выступы и камни на полу пещеры сквозь тонкие подошвы своих домашних туфель, а спина моя стала ныть от полной неподвижности. Голова у меня кружилась, я чувствовала дурноту, потому что вокруг ничего, совсем НИЧЕГО не было видно; нас окружала сплошная чернота, в которой слышался звук бегущей воды. И острые камни все сильнее впивались в подошвы ног. И воздух словно застыл, очень холодный и совершенно неподвижный.
И тут я почувствовала человеческое тепло, его тепло — Лорд-Хранитель легонько коснулся моего плеча. Мы вместе прошептали слова благодарности, благословили здешних богов и повернули назад. Но при первом же движении голова у меня еще сильней закружилась, и я полностью утратила ориентацию. Теперь я понятия не имела, где выход, куда я стою лицом и не развернулась ли случайно на все сто восемьдесят градусов. Я пошарила в темноте и сразу нашла его руку. Нащупав знакомый рукав, я изо всех сил вцепилась в него и дальше уже шла, как слепая. Странно, думала я, почему он не зажжет светильник? Но спросить не осмеливалась. Мне показалось, что идем мы очень долго, гораздо дольше, чем когда входили в пещеру, и я стала бояться, что мы ошиблись в темноте и идем совсем не в ту сторону, что мы уходим все глубже и глубже в недра горы… Я не сразу поверила, что выход уже близко, даже когда начала замечать очевидные перемены и тьма стала понемногу рассеиваться. Это, конечно, была еще не видимость, но уже обещание видимости. И тогда я наконец выпустила его рукав. Но он сам взял меня за руку и, сильно хромая, повел меня за собой. И не выпускал моей руки, пока путь перед нами не стал отчетливо виден.
Когда мы снова очутились в знакомой комнате, показавшейся мне вдруг необычайно веселой и доброжелательной, и вокруг все стало видно, и над столом по-прежнему сиял круг теплого света, и лучи его, оказывается, добирались почти до входа в пещеру, Лорд-Хранитель остановился и испытующе посмотрел на меня. Потом повернулся и подошел к книжным шкафам, встроенным прямо в скальную породу — там, где каменные своды пещеры превращаются в жилое помещение, уступая место оштукатуренным стенам и потолку, хотя и здесь сквозь штукатурку во многих местах все же проступает грубый камень. В этих шкафах тоже стояли книги, маленькие и большие, изящные и в грубых переплетах, — всего штук пятьдесят; одни стояли, другие лежали, а на некоторых полках было, как я заметила, и вовсе по одной или по две книги. Несколько полок были совсем пусты. Лорд-Хранитель, похоже, что-то искал, осматривая все полки подряд, словно не знал, как нужная ему книга выглядит и где она может стоять.
Я невольно поискала взглядом ту белую книгу — ту самую, которая кровоточила. И мгновенно ее увидела. Он заметил, куда я смотрю. Заметил, что я глаз не могу отвести от той книги. Подошел и взял ее.
И я сразу же от него отшатнулась. Я ничего не могла с собой поделать. И тихо спросила:
— А кровь из нее течет?
Он посмотрел на меня, потом на книгу, раскрыл ее наугад, не выпуская из рук, и сказал:
— Нет, — и протянул ее мне.
Я опять испуганно отшатнулась.
— Можешь ты прочесть, что в ней написано, Мемер?
Он перевернул книгу и раскрыл ее передо мной, по-прежнему держа в руках. Я увидела маленькие белые квадратики страниц — правая страница была совершенно чистой, а на левой мелким почерком было написано несколько слов.
Стиснув пальцы до боли, я заставила себя сделать шаг, потом еще один — и вслух прочла написанное: «Обломки одного восстанавливают целостность другого».
Голос мой испугал меня: он был ужасен, он был совсем не моим — чужой, гулкий, глуховатый, он гудел у меня в ушах, в голове, где-то глубоко внутри, и я крикнула: «Скорее положи ее на место! Убери ее от меня!» — и резко отвернулась. Я хотела отбежать туда, где золотым светом сияла знакомая масляная лампа на столе, но тот конец комнаты отчего-то вдруг показался мне страшно далеким, а ноги отказывались мне повиноваться и почти не двигались; я переставляла их очень медленно, с трудом — так бывает, когда ходишь во сне. И тогда Лорд-Хранитель подошел ко мне, взял за руку, и мы вместе медленно двинулись к золотистому шару света. Постепенно идти мне стало легче, и мы добрались до стола. Это было все равно что вернуться домой и войти после холодных темных улиц в теплую комнату, освещенную огнем очага.
Не то тяжко вздохнув, не то всхлипнув, я рухнула на стул. А Лорд-Хранитель стоял рядом, нежно поглаживая меня по плечу, пока я немного не успокоилась. Потом обошел стол кругом и сел, как всегда, напротив.
Зубы у меня стучали. Я больше не чувствовала холода, но зубы все равно стучали. И мне потребовалось немало времени, чтобы совладать с собой и вновь обрести способность нормально говорить. Наконец я заставила свои губы повиноваться и спросила тихо:
— Это и был ответ?
— Не знаю, — прошептал он.
— А это… оракул написал?
— Да.
Я еще помолчала, стараясь дышать ровнее и кусая губы, но они все равно были как деревянные.
— Тебе доводилось раньше читать эту книгу? — снова спросила я.
Он покачал головой:
— Нет. Я не видел там слов, страницы были пусты.
— Но разве ты не видел… на той странице?.. — И я невольно потыкала пальцем слева от себя, желая показать, что там, на странице слева, были написаны слова, и пальцы мои сами собой уже начали писать эти слова в воздухе, так что мне пришлось схватить себя за руку.
А он молчал, качая головой.
От этого мне стало еще хуже.
— А те слова… те, которые я прочитала вслух, — это ответ на тот вопрос, который ты задал?
— Не знаю, — повторил он.
— Почему же тебе-то оракул не ответил?
На этот раз Лорд-Хранитель довольно долго молчал. Потом все же сказал:
— Мемер, если бы вопрос задала ты, то каков он был бы?
— Как нам освободиться от власти альдов? — тут же выпалила я и снова почувствовала, что голос мой совершенно переменился, став звучным, низким, глубоким. Я опять говорила не своим голосом! Я зажала рот рукой и крепко стиснула зубы, желая сдержать то, что говорило моими устами. Я не хотела, чтобы оно пользовалось мною.
И все же тогда я задала бы именно этот вопрос.
— Да, это правильно заданный вопрос, — сказал он, горько усмехнувшись.
— Та книга кровоточила, — сказала я. Я очень спешила, мне хотелось все рассказать самой, не позволяя кому-то говорить моими устами и пользуясь своими собственными словами. — Это случилось очень давно, я тогда была совсем еще маленькая. И однажды пошла туда, в темный конец комнаты. Я тебе об этом рассказывала, но не все. Помнишь, я говорила, что какая-то книга как будто стонет? Но я не сказала тебе, что рассматривала эту книгу. В белом переплете. А когда я сняла ее с полки, то увидела, что со страниц ее капает кровь. Свежая кровь. И никаких слов там не было, все страницы были залиты кровью. Больше я туда никогда не ходила. Только сегодня, с тобой. Я… если… Если там действительно нет никаких демонов… Ну хорошо, нет там никаких демонов! Но я все равно боюсь. Я боюсь того, что… живет там, в глубине пещеры.
— Я тоже, — признался он.
Мы оба смертельно устали, но нам и в голову не приходило отправиться спать. Лорд-Хранитель снова зажег свой маленький светильник, я погасила лампу, он начертал в воздухе нужные слова, мы вышли из тайной комнаты и прошли по коридорам в тот северный дворик, где всего несколько часов назад беседовали с нашими гостями. Над двориком вздымался великолепный купол звездного неба. Я задула светильник. Мы долго сидели молча под светом звезд.
Я первой нарушила ночную тишину:
— Что же ты скажешь Дезаку?
— Скажу, какой вопрос задал оракулу, и честно признаюсь, что ответа не получил.
— А как же… то, что было написано в той книге?
— Этот ответ был дан тебе, и от тебя зависит, захочешь ты говорить Дезаку, что прочла в книге оракула, или нет.
— Но я не знаю, что означали эти слова! Я их не понимаю. И не знаю даже, служат ли они ответом на какой-то вопрос. Да и вообще — имеют ли они смысл?
У меня было такое ощущение, будто меня ловко провели, использовали для чего-то, так и не объяснив, не сказав, для чего именно я понадобилась. Словно я просто вещь, инструмент! Тогда мне было очень страшно, но теперь, чувствуя себя униженной, я откровенно злилась.
— Эти слова имеют тот смысл, который мы способны из них извлечь, — сказал Лорд-Хранитель.
— Но ведь это все равно что гадать на песке! — В Ансуле есть гадалки, которые за несколько медяков охотно предсказывают будущее: берут в руки горсть влажного морского песка и бросают его на тарелку, а затем по тому, как лег песок, предсказывают, что ждет человека — удача, несчастье, путешествия, рискованные предприятия, любовные приключения и так далее. — Словам ведь можно придать любой смысл — в зависимости от нашего собственного желания.
— Возможно, — согласился он. Но через некоторое время прибавил: — А вот Дано Галва говорила, что читать предсказания оракула — значит постигать разумом некую тайну. В старых книгах есть такие ответы, которые казались совершенно бессмысленными тем, кто их слышал. «Как нам защитить себя от нападений со стороны Сундрамана?» — спросили люди оракула, когда Сундраман впервые стал угрожать Ансулу вторжением. И получили ответ: «Держать пчел подальше от цветов яблони». Члены Совета пришли в ярость и заявили, что это слишком простое, а потому глупое решение. Они приказали с помощью армии построить оборонительную стену вдоль реки Остис и защищать ее от Сундрамана с оружием в руках. Однако южане, переправившись через реку, с легкостью эту стену разрушили, разгромили нашу армию, дошли до столицы, перебили всех, кто оказывал им сопротивление, и объявили Ансул протекторатом Сундрамана. И с тех пор мы пребываем с ними в замечательных, добрососедских отношениях; они крайне мало вмешиваются в нашу жизнь, зато благосостояние наше весьма выросло благодаря торговле с ними. Таким образом, ответ оракула оказался не руководством к действию, а предупреждением: ведь если держать пчел вдали от цветущих яблонь, то и яблок не получишь. В данном случае Ансул был цветком, а Сундраман — пчелой. Теперь-то все стало понятно. Впрочем, Дано Галве это и тогда было понятно. Она была выдающейся Читательницей и, как только прочла ответ оракула, сразу заявила: мы не должны оказывать Сундраману никакого сопротивления. За это ее назвали предательницей. С тех самых пор члены семейств Гелб, Кам и Актамо и стали говорить, что Совету не следует спрашивать совета у оракула, а потом принялись настойчиво требовать перевести университет и библиотеку из Галваманда в другое место.
— Да уж, немало «добра» принесло это предсказание оракула и Дано Галве, и ее дому, — не выдержала я.
— Что ж, гвоздь используется один раз, а молоток — тысячу.
Я обдумала его слова и спросила:
— А что, если человек не хочет быть ни гвоздем, ни молотком?
— Выбор всегда остается за тобой.
Я села и стала смотреть на звезды; в ночном небе сверкали мириады светящихся точек, и мне они казались похожими на души всех тех, кто жил прежде в нашем городе, в нашем доме. Десятки, сотни тысяч душ наших предшественников и наших далеких потомков, предвестников будущего, огоньками светились в непостижимой глубине времен, во тьме раскинувшейся надо мною бездны… Жизни минувшие, жизни будущие… Как отличить одну от другой?..
Пока мы не пришли сюда, мне все хотелось спросить у Лорда-Хранителя, почему оракул не мог ответить на заданный вопрос просто и ясно. Почему, например, не сказал просто: «Не сопротивляйтесь» или «Наносите удар немедленно», вместо того чтобы писать непонятные фразы, вызывая к жизни какие-то таинственные образы. Но здесь, глядя на звезды, я поняла, сколь глупым был бы этот мой вопрос. Оракул не указывал, как именно следует поступить, а приглашал подумать над этим. Призывал «постичь тайну». И конечный результат вполне мог не слишком удовлетворить задавшего вопрос, но большего, видимо, и нельзя было бы достигнуть.
Я вдруг зевнула во весь рот, и Лорд-Хранитель рассмеялся.
— Ступай-ка спать, детка, — ласково сказал он, и я послушно двинулась по темным залам и коридорам к дверям своей комнаты.
Мне казалось, что уснуть я не смогу, что меня будут преследовать видения — та странная пещера, те непонятные слова, тот чужой голос, что говорил моими устами, когда я эти слова читала. «Обломки одного восстанавливают целостность другого». Но, войдя в комнату, я едва успела прикоснуться к краешку алтаря у двери и тут же, рухнув на постель, провалилась в сон.
Глава 10
Когда на следующий день к нам явился Дезак, я была занята — помогала Исте со стиркой — и при его разговоре с Лордом-Хранителем не присутствовала. Иста и мы с Боми еще на рассвете накипятили воды в больших котлах, приладили машинку с изогнутой ручкой для выжимания белья и натянули веревки, а к полудню весь двор возле кухни был увешан чистыми простынями и скатертями, ослепительно-белыми и хлопавшими на ветру под жарким солнцем.
В полдень, гуляя с Шетар по старому парку, Грай рассказала мне, что произошло утром.
Лорд-Хранитель сам поднялся к ним в Хозяйские Покои и сказал, что Дезак очень хочет побеседовать с Орреком, и Оррек попросил Грай тоже пойти. «А Шетар я оставила, — сказала Грай, — ей, по-моему, этот Дезак не очень-то нравится». Они устроились на дальней веранде, и Дезак снова принялся уговаривать Оррека выйти на площадь и обратиться к жителям города с призывом в указанный момент выступить против альдов и изгнать их из Ансула.
Дезак был красноречив и настойчив, а Оррек явно страдал, ибо никак не мог прийти к какому-то решению, чувствуя, что это не его сражение, и все же понимая, что сражение любого народа за свободу и его тоже, безусловно, касается. Если Ансул действительно восстанет против тирании альдов, то разве сможет он, поэт, остаться в стороне? Однако ему не было позволено ни участвовать в выборе конкретного времени или места для начала восстания, ни хотя бы узнать, как именно повстанцы намерены действовать. Дезак, что было вполне разумно, вообще почти ничего о готовящемся восстании не рассказал, понимая, что успех зависит прежде всего от внезапности. Однако Оррек честно признался Грай, что ему не нравится, когда его используют вслепую, и он бы скорее предпочел сам стать одним из организаторов переворота, чем быть пешкой в чьих-то руках.
Я спросила, что на все это сказал Лорд-Хранитель, и Грай ответила:
— Почти ничего. А о том, что было обещано вчера вечером — помнишь, Султер пообещал, что кого-то спросит, а Дезак при этих словах так и подпрыгнул? — он вообще не сказал ни слова. Впрочем, об этом они, видимо, успели поговорить еще до того, как мы с Орреком к ним спустились.
Я терзалась тем, что не могу раскрыть Грай тайну оракула; мне ничего не хотелось от нее таить. Но я понимала: это не моя тайна и я не имею права говорить об этом. Пока не имею.
А она продолжала рассказывать:
— По-моему, Султер встревожен; его пугает численность асударской армии. Он говорит, что в Ансуле более двух тысяч альдов. И они в основном сосредоточены возле дворца и казарм. По меньшей мере треть воинов находятся с оружием на посту. У остальных, впрочем, тоже оружие всегда под рукой. Удастся ли Дезаку собрать достаточно мощные силы противодействия? И как он двинет всю эту толпу на дворец, не подняв среди стражников тревогу? Ведь Ансул патрулируется даже по ночам. И ночные патрули все конные. А кони у альдов, между прочим, как хорошие сторожевые псы, обучены подавать сигнал в случае тревоги. Надеюсь, Дезак, этот старый вояка, знает, что делает! И мне кажется, он весьма скоро намерен осуществить свои грандиозные планы.
Мысли мои лихорадочно метались; я представляла себе уличные бои и пыталась сама ответить на вопрос: «Как нам освободиться от альдов?» С помощью меча, кинжала, дубинки, камней. С помощью кулаков и мускулов, с помощью нашего гнева, наконец-то спущенного с поводка. Нет, мы непременно сломим им хребет! Покончим с их могуществом, свернем им шею! Превратим их тела в кровавое месиво… Обломки одного восстанавливают целостность другого.
Я стояла на тропе среди разросшихся кустов. Голову жарко припекало солнце. Руки у меня пересохли, опухли, потрескались, после того как я все утро стирала в горячей воде. Грай искоса, с легким беспокойством поглядывала на меня. Потом негромко окликнула:
— Эй, Мемер, очнись. Ты где?
Я только головой тряхнула.
К нам вприпрыжку по тропе подлетела Шетар и вдруг резко остановилась с гордо поднятой головой и весьма самоуверенным видом. Потом приоткрыла свою свирепую клыкастую пасть, и оттуда, трепеща крылышками, как ни в чем не бывало выпорхнула маленькая голубая бабочка.
Мы обе невольно расхохотались. Львица посмотрела на нас несколько смущенно. По-моему, ей стало стыдно.
— Она у нас как та девушка, которая только и говорила что о цветах, колокольчиках и бабочках! — сказала Грай. — Ты, конечно, знаешь эту историю — ну, «когда Кумбело был королем», помнишь?
— А ее сестра только и говорила что о блохах, червях и комьях грязи.
— Эх ты, кошка! — сказала Грай, почесывая Шетар за ушами. Львица от удовольствия выгибала шею и мурлыкала.
Невозможно было соединить все это — уличные бои, тьму пещеры, ужас, смех, солнечные лучи на моей макушке, звездный свет у меня перед глазами и льва, у которого изо рта вместо рычания вылетают бабочки…
— Ох, Грай, как бы мне хотелось хоть что-нибудь во всем этом понимать! — воскликнула я. — И почему это никогда нельзя сразу понять, что именно с тобой в данный момент происходит?
— Не знаю, Мемер. Просто нужно всегда стараться это понять, и иногда все же будет получаться.
— Разумное мышление и непостижимая тайна, — сказала я.
— Ты у нас прямо второй Оррек! — сказала она с удивлением. — Ладно, идем. Домой пора.
В тот вечер Оррек и Лорд-Хранитель без конца говорили о ганде Иораттхе, и я обнаружила, что могу их слушать очень внимательно, не пытаясь уйти в себя. Возможно, потому, что теперь я уже дважды видела ганда. И, несмотря на ненавистную мне помпезность альдского дворца, пресмыкавшихся перед гандом рабов и понимание того, что, если Иораттху что-то взбредет в голову, он может запросто приказать любого из нас заживо закопать в землю, я видела, что это все же не демон, а человек. Жесткий, упрямый, коварный старый человек, который всей душой любит поэзию.
И Оррек, словно читая мысли, вдруг сказал:
— Понимаешь, страх перед демонами, всякой чертовщиной и тому подобным — все это как-то его недостойно. Хотелось бы знать, чему из этого он вообще верит.
— Возможно, демонов он действительно не слишком опасается, — сказал Лорд-Хранитель. — Но пока он не научится читать, письменное слово так и останется для него под запретом.
— Ах, если б я мог взять во дворец какую-нибудь книгу! Просто открыть ее и прочесть те же самые слова, которые только что ему декламировал!
— И он бы тут же назвал это отвратительным святотатством. — Лорд-Хранитель покачал головой. — Да у него в таком случае и выхода бы иного не было — разве что отдать тебя в руки жрецов.
— Но если альды все же решат остаться здесь и по-настоящему править Ансулом, то им придется иметь дело и с соседними государствами, с другими народами и обычаями. Уж тогда-то они точно не смогут называть отвратительным святотатством то, что лежит в основе и торговых отношений, и дипломатии, — деловые письма, договоры, контракты. Я уж не говорю о литературе и истории. А ты знаешь, Султер, что в городах-государствах слово «альд» равносильно слову «придурок»? Они так и говорят: «Какой смысл с ним разговаривать, он же настоящий альд!» И по-моему, Иораттх уже начинает понимать, с какими трудностями они вот-вот столкнутся.
— Будем надеяться, что это так. И что их новый правитель в Медроне тоже это понимает.
А меня уже начинали раздражать все эти речи. Не альды должны решать, останутся ли они здесь, будут ли по-прежнему управлять нами и иметь дело с нашими соседями! Это не им решать, а нам! И у меня невольно вырвалось:
— Разве это так уж важно?
Все так и уставились на меня, и я не стала сдерживаться:
— Да пусть они отправляются к себе, в Асудар, и остаются неграмотными так долго, как им нравится! Пожалуйста!
— Это верно, — спокойно сказал Лорд-Хранитель. — Если, конечно, они отсюда уйдут.
— А мы их отсюда прогоним!
— Из города? И куда же?
— Да! Из города! Пусть уходят!
— В деревню, что ли? И ты думаешь, что нашим крестьянам под силу с ними сражаться? А если мы попытаемся гнать их до границ Асудара, то верховный ганд наверняка воспримет это как оскорбление и угрозу его трону и тут же пошлет против нас очередную многотысячную армию. У него-то воинов хватает. Это у нас их нет.
Я промолчала, не зная, что сказать, а он продолжал:
— Как раз эти соображения Дезак и не желает учитывать. И возможно, прав, ибо «предусмотрительность губительна для решительных действий». Но ты и сама должна понимать, Мемер, что сейчас, когда многое меняется во взглядах самих альдов, я возлагаю первоочередную надежду на восстановление нашей свободы через попытку убедить их, что мы куда более выгодны им в качестве союзников, чем рабов. Это потребует времени. И разумеется, завершится компромиссом, а не победой. Но если сейчас мы будем стремиться только к победе и проиграем, то снова обрести надежду будет очень и очень трудно.
И снова мне нечего было ему возразить. Да, он прав, но прав и Дезак, ибо наступило время действовать. Но как действовать?
— Я мог бы от твоего имени, Султер, поговорить с Иораттхом. Это у меня получилось бы куда лучше, чем говорить с толпой горожан от имени Дезака, — сказал Оррек. — Скажи, есть ли в городе люди, готовые вступить с Иораттхом в переговоры на таких условиях? Если, конечно, сам он согласится эти переговоры начать?
— Да, есть. И за пределами нашего города тоже. Мы в течение всех этих лет поддерживали связь со всеми городами и селениями Ансула — с учеными и купцами, с Хранителями Дорог и мэрами, а также с теми, кто у нас обычно отправляет религиозные обряды и отвечает за торжественные церемонии. Гонцами нам служат быстроногие юноши, а торговцы развозят наши послания по городам, спрятав их на своих тележках среди кочанов капусты. Письма солдаты ищут редко — предпочитают не иметь дела с таким ужасным святотатством и колдовством.
— «Великий Сампа-Разрушитель, пошли невежественного мне врага!» — процитировал Оррек.
— Правда, в столице кое-кто из моих прежних сторонников перешел на сторону Дезака. Люди сейчас ищут любой способ, чтобы скинуть наконец это проклятое ярмо с шеи Ансула! Они готовы сражаться. Но возможно, не прочь и переговоры начать. Если только альды захотят их слушать.
На следующий день Оррека во дворец не вызвали, и он ближе к полудню вместе с Грай пешком отправился на Портовый рынок. Он ничего заранее не объявлял, и на рыночной площади тоже никакого шатра или навеса не воздвигали, но стоило ему там появиться, как люди сразу его узнали и стали толпиться вокруг, опасаясь, правда, подходить слишком близко из-за шедшей с ним рядом львицы. Горожане радостно приветствовали Оррека и громко просили: «Расскажи нам что-нибудь, Каспро!» А кто-то даже крикнул: «Прочти!»
Меня рядом с Орреком и Грай не было. Я надела мужское платье — как и всегда для выхода в город — и не хотела, чтобы меня, «конюха Мема», видели в обществе Грай, которая своего обличья на этот раз не меняла. Я обежала площадь кругом и взобралась на облицованный мрамором постамент конной статуи, стоявшей перед Адмиральской башней. Отсюда была отлично видна вся площадь. Эта статуя, созданная скульптором Редамом, целиком высечена из одной огромной каменной глыбы; конь стоит, опираясь на все четыре ноги, сильный и немного тяжеловесный, и, гордо подняв голову, смотрит на запад, в морскую даль. Альды, уничтожив большую часть наших памятников, этого каменного коня все же не тронули — наверняка из-за своей любви к лошадям. Они, разумеется, не знали, что богов моря, Севнов, у нас всегда изображают в виде коней и в таком виде им поклоняются. Я коснулась огромного переднего копыта каменного Севна и прошептала слова благодарности этим могучим богам. И Севн благословил меня, послав мне тень. День был безоблачный, с самого утра сильно припекало и становилось все жарче.
Оррек остановился там, где в самый первый день стоял его шатер. Вокруг тут же собралась огромная толпа. Пьедестал статуи Севна облепили мальчишки, да и многие мужчины пытались на нем устроиться, но я упорно держалась захваченного мною удобного места между передними ногами коня и изо всех сил отталкивала тех, кто напирал слишком сильно. Немало торговцев покинули свои прилавки и, накрыв товар тканью, присоединились к толпе слушателей или взобрались на табуретки возле своих лавчонок, чтобы поверх голов видеть и слышать рассказчика. В толпе я насчитала всего пять или шесть голубых плащей, но вскоре на перекресток у площади выехал целый отряд конных альдов и остановился там, даже не пытаясь протолкнуться дальше. Над площадью висел громкий гул голосов; слышались разговоры, смех, выкрики, и меня просто потрясло, когда весь этот шум разом смолк, сменившись полной тишиной, стоило Орреку ударить по струнам своей лютни.
Сперва он прочел стихотворение «Холмы Дома» из любовной лирики Тетемера. Эти стихи давно известны и весьма популярны на побережье Ансула. Читая их, Оррек напевал под аккомпанемент лютни рефрен, и люди вторили ему, улыбаясь и раскачиваясь.
А потом, сделав небольшой перерыв, он вдруг сказал:
— Ансул — страна небольшая, но по всему Западному побережью поют ваши песни и рассказывают ваши легенды. Я впервые услышал их, еще когда жил далеко на севере, в Бендрамане. Поэты Ансула знамениты от южных пределов наших земель до реки Тронд. Но и в таких мирных государствах, как Ансул и Манва, жили некогда великие герои, храбрые, доблестные воины, и здешние поэты поведали о них всему миру. Послушайте же одну из таких историй — историю о приключениях Адиры и Марры на горе Сул!
В ответ на его слова над толпой возник мощный, но странный, даже пугающий гул — то ли протяжный стон, то ли рев, в котором слились печаль и радость. Но если Оррек и был слегка обескуражен тем, что слушатели отреагировали на его слова более бурно, чем он рассчитывал, то ничем этого не проявил. Он гордо вскинул голову, и над площадью вновь взлетел его сильный и чистый голос:
— В те дни, когда Сулом еще правил старый король, из страны Хиш пришли вражеские войска…
Толпа, застыв, внимала рассказчику, а я с трудом сдерживала слезы. Эта история, эти слова были мне так дороги! Я познала их в тиши тайной комнаты, в полном одиночестве, прячась ото всех, а теперь слушала, как Оррек говорит все это в полный голос, на площади, заполненной людьми, в самом центре Ансула, под открытым небом, и за проливом высится легендарная гора, вся голубая, и сквозь легкую сероватую дымку просвечивает ее остроконечная белая вершина. Я так и вцепилась в каменное копыто Севна, изо всех сил стараясь не плакать.
История закончилась, и в наступившей тишине один из коней альдов вдруг громко, пронзительно заржал. Это был самый обычный зов боевой лошади, однако он разрушил волшебные чары, и толпа сразу задвигалась, засмеялась, раздались выкрики: «Эхо! Эхо! Слава поэту! Эхо!» А некоторые кричали даже: «Слава героям! Слава Адире!» Конный отряд на восточном краю площади перестроился, словно собираясь вломиться в толпу, но горожане не обращали на альдов никакого внимания, никто даже не посторонился, чтобы дать им проехать. Оррек довольно долго стоял, опустив голову, и молчал. Но взбудораженная толпа и не думала успокаиваться, и ему все же пришлось заговорить. Он не пытался перекричать горожан и говорил вроде бы самым обычным голосом, но, как ни странно, голос его был слышен по всей площади.
— Подпевайте! Пойте со мною вместе! — предложил Оррек и поднял лютню. Люди сразу притихли, а он громко пропел первую строку своей песни «Свобода»: «Как во тьме ночи зимней…»
И мы запели с ним вместе. Песню подхватили тысячи голосов. Дезак был прав: жители Ансула отлично знали эту песню. Не из книг, книг у нас больше не было. Эта песня носилась в воздухе — ее передавали из уст в уста, из сердца в сердце.
И вот отзвучал последний аккорд. После этого, естественно, наступила тишина, но длилась она всего несколько мгновений. А потом толпа зашумела с новой силой; вновь зазвучали приветствия, похвалы и просьбы спеть что-нибудь еще; впрочем, слышались и гневные выкрики в адрес исполнителя. И вдруг из глубины толпы донесся низкий мужской голос, выкрикивавший: «Леро! Леро! Леро!» — и множество других голосов тут же подхватили этот зов, повторяя его нараспев, все громче и громче, и пристукивая в такт ногами. Я никогда не слышала ничего подобного, но знала, что это, должно быть, одна из старинных обрядовых песен, которые исполняли во время торжественных шествий, поклоняясь богине Леро. Прежде, когда мы еще вольны были воздавать хвалу нашим богам, песню эту, разумеется, пели открыто, на улицах. Я заметила, что конный патруль начал решительно проталкиваться сквозь толпу — видимо, в поисках зачинщика, — и это вызвало достаточно сильное смятение, так что песня постепенно утратила свою силу и смолкла. Мне было видно, что Оррек и Грай осторожно спустились по лестнице и пытаются пробраться к восточной стороне площади как бы позади отряда альдов. Толпа по-прежнему мешала всадникам проехать, но все же постепенно расступалась — трудно не отойти в сторону, когда прямо на тебя едет вооруженный воин на боевом коне, уж это-то я знала по собственному опыту. Незаметно соскользнув с пьедестала, я ужом ввинтилась в толпу, с огромным трудом выбралась на улицу, ведущую к площади Совета, и бегом промчалась по ней, срезая путь. За Домом Совета, уже на Западной улице, я и встретилась с Орреком и Грай.
Толпа все еще шла за ними, но, в общем, не по пятам, да и основная ее часть остановилась у моста над Северным каналом. Люди понимали: поэты и певцы священны, нельзя грубо вмешиваться в их жизнь. От статуи Севна мне хорошо было видно, как люди касались каменных плит, на которых до этого стоял Оррек, — так касаются алтаря бога, желая получить его благословение; и никто не решался ступить туда, куда только что ступала нога поэта. Вот потому они и следовали за ним на почтительном расстоянии, продолжая выкрикивать в его адрес похвалы и шутки и распевать сочиненный им гимн свободе. И порой над толпой вновь начинал звучать тот же молитвенный призыв: «О Леро! Леро! Леро!»
Мы не сказали друг другу ни слова, поднимаясь по склону холма к Галваманду. Смуглое лицо Оррека было почти серым от усталости; шел он, как слепой, и Грай вела его за руку. Он сразу поднялся к себе, а Грай объяснила, что ничего страшного, ему просто нужно немного отдохнуть и прийти в себя. Только тут я начала понимать, чего стоит Орреку его дар.
Ближе к вечеру я сидела во дворе у конюшни и играла с очередным выводком котят. Кошки, которых приводила к нам Боми, всегда отличались пугливостью, а уж с тех пор, как в доме появилась Шетар, и вовсе постоянно прятались, зато котята страха не знали. Они уже успели немного подрасти и были ужасно забавными: охотились друг на друга, шныряя по сложенным во дворе дровам, кувыркались и катались по земле, время от времени замирая и внимательно глядя вокруг своими круглыми глазищами, а потом снова, как пушинки, взлетали в воздух. Гудит только что закончил выгуливать Звезду и, подойдя ко мне, тоже смотрел на котят — хмуро, неодобрительно. Заметив, что один котенок попал в беду — забрался на столб и не знает, как спуститься, — Гудит осторожно, точно какую-то колючку, снял вцепившегося когтями в столб и жалобно мяукавшего малыша и снова посадил его на дрова, ласково приговаривая: «Ах ты, паразит!»
Вдруг послышался стук копыт, во двор въехал какой-то офицер в голубом плаще и остановился у ворот.
— Ну, что надо? — весьма неприветливо спросил Гудит, выпрямляя согбенную спину и гневно поглядывая на незваного гостя. Никто никогда не въезжал в его владения без приглашения.
— Послание от ганда Ансула поэту Орреку Каспро, — сказал альд.
— Ну?
Офицер как-то странно посмотрел на старика, но все же довольно вежливо поклонился и сказал:
— Ганд желает, чтобы поэт Каспро прибыл к нему во дворец завтра в полдень.
Гудит коротко кивнул и повернулся к нему спиной. Я тоже отвернулась — якобы чтобы поднять с земли котенка. Я сразу узнала эту элегантную гнедую кобылу.
— Эй, Мем! — окликнул меня кто-то. Я так и застыла. Неохотно обернувшись, я увидела перед собой Симме. Офицер уже задом выводил свою кобылу в ворота, потом что-то крикнул Симме, развернулся и поехал прочь, а Симме помахал ему рукой.
— Это мой отец, — сказал он мне с гордостью. — Я попросил его взять меня с собой. Мне хотелось посмотреть, где ты живешь. — Улыбка медленно сползала с его лица, потому что я, не говоря ни слова, продолжала смотреть на него в упор. — А дом у вас и впрямь очень большой… громадный даже… — пробормотал он. — Даже больше, чем дворец ганда. Наверное… — (Я молчала и по-прежнему смотрела прямо на него.) — Я таких больших домов никогда и не видел.
Я невольно кивнула. И он сразу приободрился и спросил:
— Это что у тебя?
Он наклонился над котенком, который вертелся у меня в руках и ужасно царапался.
— Котенок, — сказала я.
— Ой, это, наверное, детеныш той львицы, да?
И как только человек может быть настолько глуп!
— Нет, это самый обыкновенный котенок. На! — И я сунула ему котенка.
— Ух ты! — сказал он и чуть не уронил его. Котенок тут же вырвался и бросился наутек, задравши хвост.
— Ну и когти у него! — Симме сосал оцарапанную руку.
— Да, это весьма опасный зверь, — подтвердила я насмешливо.
Он смутился. Он вечно смущался. И было бы, пожалуй, несправедливо воспользоваться тем, что человека так легко смутить. Но и сопротивляться подобному искушению было трудно.
— Можно мне посмотреть ваш дом? — нерешительно спросил Симме.
Я выпрямилась, отряхнула руки и решительно заявила:
— Нет. Снаружи смотри сколько хочешь, но внутрь тебе заходить нельзя. Впрочем, тебе и сюда-то заходить не стоило. Незнакомым людям и иностранцам полагается ждать в переднем дворе, пока их не пригласят пройти внутрь. А воспитанные люди спешиваются еще на улице и, прежде чем войти в передний двор, почтительно касаются священного камня в воротах.
— Но я же не знал! — Он опять смутился и даже немного попятился.
— Я знаю, что ты не знал. Вы, альды, вообще ничего о нас не знаете. Вы знаете только, что нам нельзя к вам в жилище входить. Вы не знаете даже того, что и вам нельзя входить в наши дома. Вы невежественны и невоспитанны! — Я все пыталась взять себя в руки и как-то усмирить тот яростный гнев, что так и рвался из моей души наружу.
— Слушай, ты не сердись на меня. Я ведь надеялся, что мы друзьями могли бы стать, — сказал Симме, как всегда смущенно, даже униженно. Но вообще-то, чтобы сказать это мне в такую минуту, от него все же требовалось определенное мужество.
Я двинулась к воротам, и он последовал за мной.
— Как же мы можем быть друзьями? — насмешливо спросила я. — Я же раб, ты что, забыл?
— Нет, ты не раб. Рабы — это… Рабами бывают евнухи, женщины и еще… — У него явно не хватило слов, чтобы поточнее определить понятие «раб».
— Рабы — это люди, которые вынуждены делать все, что им прикажет хозяин. А если вздумают отказываться, их побьют или даже убьют. Ты говоришь, что вы — хозяева Ансула. Значит, мы — ваши рабы.
— Но ты же ничего не делаешь по моему приказу. Да я тебе и не приказываю, — возразил он. — Значит, никакой ты не раб.
Тут он был, пожалуй, прав.
Мы уже довольно далеко отошли от конюшни и брели вдоль высокой северной стены главного дома. Фундамент под ним сложен из массивных каменных глыб, квадратных в сечении, и на целых десять футов возвышается над землей; а над ним — еще несколько этажей из красивого обработанного камня с высокими окнами, украшенными двойными арками, а на самом верху резные карнизы поддерживают глубокие скаты черепичной крыши. Симме несколько раз вскинул туда глаза — быстро, нерешительно, точно лошадь, когда смотрит на незнакомый предмет, который ее пугает.
Обойдя дом, мы вышли на просторный передний двор. Он чуть приподнят над тротуаром, а от улицы его отделяет ряд колонн, соединенных арками. Весь двор выложен полированными каменными плитами, серыми и черными, соединенными в сложный геометрический рисунок — лабиринт. Иста рассказывала мне, как в былые времена в первый день нового года, который совпадает с днем весеннего равноденствия, они танцевали здесь «танец лабиринта» и пели хвалу Иене, которая покровительствует всему, что растет. А сейчас плиты во дворе были грязными; ветер засыпал их пылью, уличным мусором и сухими листьями. Вообще-то, мыть эти плиты — адский труд. Я много раз пробовала, но мне никогда не удавалось отмыть их дочиста. Симме попытался пройти по лабиринту, но я тут же остановила его, сердито рявкнув:
— Сейчас же сойди! — Он так и отпрыгнул в сторону. А потом послушно вышел следом за мной на улицу и все поглядывал на меня изумленно. Взгляд у него был испуганный и совершенно невинный, почти как у тех котят.
— Демоны, — с гадкой усмешкой пояснила я, небрежно махнув рукой в сторону выложенного из черно-серых плит лабиринта. Но моего небрежного жеста он даже не заметил.
— Что это? — спросил он, во все глаза глядя на жалкие остатки Фонтана Оракула.
Если стоять лицом к парадному входу, то фонтан находится справа. Его бассейн, шириной футов десять, весь выложен зеленым серпентином — это камень Леро. Когда-то высокая струя воды била из установленной в центре бассейна бронзовой трубы. Эта труба теперь уродливо торчала из мраморных обломков, и лишь с трудом можно было догадаться, что когда-то здесь возвышалась изящная урна, украшенная резьбой в виде листьев водяного кресса и лилий. Дно бассейна покрывал толстый слой пыли и сухих листьев.
— Между прочим, это дьявольский источник, — сказала я. — Он, правда, уже несколько веков как пересох, но ваши солдаты все равно зачем-то разбили фонтан. Наверно, опять демонов опасались.
— И совсем не обязательно все время демонов поминать! — заметил он, насупившись.
— Почему же? Ты только посмотри, — продолжала я издеваться над ним, — видишь у основания урны такие маленькие резные штучки? Это слова. Это наша письменность. А письменность — это черная магия. И любое написанное слово есть проявление демона. Разве не так? Хочешь подойти поближе и прочесть их? Хочешь посмотреть на демонов поближе?
— Хватит, Мем, — рассердился он. — Прекрати! — И глаза его негодующе сверкнули. Он был явно уязвлен и обижен. Ну и что, я ведь именно этого, кажется, и добивалась?
— Ладно, больше не буду, — сказала я, помолчав. — Но видишь ли, Симме, друзьями мы с тобой все равно никак стать не можем. По крайней мере до тех пор, пока ты не сумеешь прочесть то, о чем говорит этот фонтан. Пока ты не сможешь коснуться священного камня у нашего порога и попросить у моего дома благословения.
Он посмотрел на продолговатый священный камень цвета слоновой кости, встроенный в ту единственную ступеньку, на которую нужно наступить, когда входишь во двор; на этом камне за долгие века образовалось углубление от прикосновений тысяч и тысяч рук. Я тоже нагнулась и с благодарностью коснулась его края.
Симме ничего на это не сказал. Просто повернулся и пошел прочь от меня по улице. Я смотрела ему вслед. И не ощущала ни малейшего торжества. Наоборот, у меня было такое чувство, будто я потерпела поражение.
В тот вечер Оррек спустился к обеду вполне отдохнувшим и страшно голодным. Сперва мы немного поговорили о его выступлении, и мы втроем — Оррек, Грай и я — рассказали
Лорду-Хранителю, как и что он говорил и как на это отвечала толпа.
Соста в тот день как раз ходила на рынок — по-моему, специально, чтобы послушать Оррека, — и взгляд у нее теперь был еще более туманным, а лицо еще более глупым, чем обычно. Она пялила на него глаза через стол с таким жалким и потерянным видом, что он в итоге сжалился над ней и попытался приободрить ее какой-то шуткой, но это не помогло. Тогда Оррек принялся расспрашивать ее о том, где она будет жить, когда выйдет замуж, чтобы как-то вернуть ее к реальной действительности. И Состе, как ни странно, удалось даже довольно внятно объяснить, что жених ее решил перейти жить к ней в дом и тоже стать Галвой. Оррек и Грай, которых всегда очень интересовали обычаи и традиции того или иного народа, тут же принялись расспрашивать ее: как у нас принято свататься и заключать браки, составляется ли брачный договор и в какой семье обычно остаются молодые? Но Соста только глаза таращила, совершенно онемев от обожания, так что отвечать пришлось в основном Лорду-Хранителю. Впрочем, когда Иста тоже наконец подсела к столу, ей представилась блестящая возможность всласть похвастаться будущим зятем, что она ужасно любила делать.
— По-моему, Состе и ее жениху очень трудно целых три месяца до свадьбы не видеть друг друга, — сказала Грай. — Три месяца — это так долго!
— Да нет, обрученным у нас разрешается сколько угодно встречаться, но только в присутствии других людей, — пояснил Лорд-Хранитель. — К сожалению, теперь у нас почти не устраивают ни танцев, ни празднеств, так что им, беднягам, остается только украдкой обмениваться взглядами.
Соста покраснела и глупо ухмыльнулась. Ее жених каждый вечер прогуливался мимо нашего дома с друзьями, и каждый вечер Иста, Соста и Боми «случайно» оказывались в боковом дворике, выходившем на улицу; говорили, что вышли «воздухом подышать».
После обеда мы, как всегда, пошли в северный дворик, где нас уже ждал Дезак. Он первым шагнул Орреку навстречу, взял его руки в свои и призвал богов благословить поэта.
— Я знал, что именно ты станешь голосом нашего народа! — воскликнул он. — Итак, запал подожжен.
— Сперва посмотрим, что завтра скажет ганд насчет моего выступления, — возразил Оррек. — Меня во дворце вполне могут… подвергнуть суровой критике.
— А что, ганд за тобой уже посылал? — спросил Дезак. — Ты завтра идешь к нему? В котором часу?
— В полдень — так ведь, Мемер?
Я кивнула.
— И ты действительно туда пойдешь? — спросил Лорд-Хранитель.
— Конечно пойдет, — сказал Дезак.
— Вряд ли я могу отказаться, — пожал плечами Оррек. — Хотя я мог бы, наверное, попросить, чтобы мое выступление перенесли на другой день… — Он вопросительно посмотрел на Лорда-Хранителя, пытаясь понять, почему тот этим встревожен.
— Ты должен пойти! — принялся убеждать его Дезак. — Время назначено просто идеальное. — Тон у него был резкий, военный.
Я видела, что Орреку этот тон совсем не по душе; он терпеть не мог, когда ему приказывали. Он все смотрел на Лорда-Хранителя, и тот сказал:
— Пожалуй, действительно нет смысла откладывать. Однако поход во дворец, вполне возможно, сопряжен с определенной опасностью.
— Как ты думаешь, мне лучше пойти одному?
— Да, — сказал Дезак.
— Нет, — возразила Грай спокойным ровным тоном.
Оррек посмотрел на меня:
— Да, Мемер, тут, похоже, каждый готов приказывать, кроме нас с тобой.
— «Боги любят поэтов, ибо поэты живут по тем же законам, что и сами боги», — процитировал Лорд-Хранитель.
— Султер, дружище, почти любое дело всегда сопряжено с некоторым риском! — Дезак говорил с каким-то нетерпеливым состраданием. — Ты сидишь здесь, за высокими стенами, совершенно отгородившись от людей, от той жизни, что кипит на улицах Ансула. Ты живешь среди теней былых времен, разделяя мудрость своих предков. Но приходит час, когда мудрость заключается в действии, а осторожность становится разрушительной.
— И в этот час желание немедленно действовать губит всякую мысль, — мрачно возразил Лорд-Хранитель.
— Сколько же мне еще ждать? Ведь никакого ответа так и не было дано!
— Мне — нет. — И Лорд-Хранитель быстро глянул в мою сторону.
Но Дезак этого взгляда не заметил. Теперь он уже не скрывал своего возмущения.
— Твой оракул не имеет ко мне никакого отношения! Я вообще родился не здесь. Так что пусть тебе книги и дети указывают, что нужно делать, а я лучше собственной головой воспользуюсь. Если же ты не доверяешь мне, потому что я иностранец, то тебе следовало сказать мне об этом много лет назад. А те, кто стоит за мной, мне доверяют, ибо отлично знают, что я всегда желал одного — свободы для Ансула и восстановления прежних отношений с Сундраманом. Оррек Каспро тоже это понимает. И он на моей стороне! А теперь я, пожалуй, пойду. И вернусь сюда, в Галваманд, только когда Ансул станет свободным. И тогда ты, конечно, опять поверишь в меня!
Он повернулся и бросился вон, сбежав по разбитым ступеням северного крыльца и мгновенно исчезнув за углом. Лорд-Хранитель долго молчал, глядя ему вслед. И Оррек, не выдержав, спросил:
— Неужели я — тот самый глупец, который устроил пожар?
— Нет, — промолвил Лорд-Хранитель. — Возможно, просто случайно искра от кремня попала. Тут нет ничьей вины.
— Если я завтра и пойду во дворец, то только один, — сказал Оррек, и Лорд-Хранитель чуть улыбнулся, посмотрев на Грай.
— Ты пойдешь — значит и я пойду, — сказала она. — И ты это знаешь.
Оррек помолчал, потом сказал:
— Да, знаю, — и снова повернулся к Лорду-Хранителю. — Но если сегодня я действительно слишком далеко зашел, ганду, возможно, придется меня наказать, чтобы продемонстрировать свою власть. Ты ведь этого опасаешься?
Лорд-Хранитель покачал головой:
— Нет. Тогда он уже послал бы сюда солдат. Я куда больше опасаюсь действий Дезака. Дезак не станет ждать Леро.
Древняя богиня Леро — это священная душа той земли, на которой стоит наш город. Леро — это драгоценный миг равновесия. Символ Леро — большой круглый камень, установленный на площади Портового рынка таким хитрым образом, что его в любое время можно сдвинуть с места, можно сколько угодно раскачивать, но он всегда будет принимать прежнее положение и останется лежать, как лежал.
Вскоре Лорд-Хранитель, извинившись, встал и ушел к себе, сказавшись усталым. На меня он даже не взглянул и не предложил — хотя бы жестом! — последовать за ним или позже прийти в тайную комнату. Он шел медленно, сильно прихрамывая, но держался очень прямо.
В ту ночь я без конца просыпалась, и мне все время мерещились те слова, что были написаны в книге: «Обломки одного восстанавливают целостность другого». Я, казалось, слышала голос, произносивший эти слова, и все обдумывала, обдумывала их, поворачивая так и сяк и пытаясь проникнуть в их тайный смысл.
Глава 11
Утром я встала рано и, оказав необходимые почести домашним богам, поспешила на рынок — не только чтобы купить нужные продукты, но и желая узнать, что происходит в городе. Я думала, там все будет иным, чем вчера, и люди будут с нетерпением ждать неких великих событий, которые вот-вот должны произойти, ибо сама я пребывала как раз в таком нетерпеливом ожидании. Но, похоже, никто никакого нетерпения не испытывал и ни к чему особенному не готовился. И в городе тоже ничего не изменилось. И люди по-прежнему куда-то спешили, стараясь не глядеть по сторонам, чтобы не наживать лишних неприятностей. И альды в голубых плащах с важностью прохаживались на перекрестках и у выходов на рыночную площадь. Все было как всегда: продавцы торчали за прилавками, расхваливая товар; дети и старухи торговались с ними, что-то покупали и быстренько переулками расходились по домам. Ни напряжения, ни возбуждения в городе не чувствовалось; и разговоров я никаких особых не услышала. Только раз мне показалось, что кто-то, проходя по мосту к Таможенной улице, негромко насвистывал мелодию «Свободы».
Днем Оррек и Грай пешком отправились в Дом Совета, взяв с собой только Шетар. Меня они оставили дома: зачем брать с собой конюха, если не берешь лошадь? Кроме того, они опасались, что во дворце может быть опасно. Я, в общем, вздохнула с облегчением. Мне совсем не хотелось видеть Симме, потому что каждый раз, стоило мне вспомнить, как я вела себя с ним, сердце мое холодело от стыда.
Однако стоило им уйти, как мне стало ясно, что оставаться дома я никак не могу. Это было просто невыносимо — сидеть и ждать, когда они наконец вернутся! Нет, мне, конечно, следовало пойти к Дому Совета и быть рядом с ними!
Я быстренько надела женское платье, подобрала волосы наверх и уложила их узлом — дети и мужчины, как я уже говорила, носят у нас длинные волосы; они у них либо распущены по плечам, либо стянуты на затылке в «хвост». Мне хотелось быть девушкой Мемер, а не конюхом Мемом или просто мальчиком по имени Никто. Мне хотелось надеть обычное женское платье. Мне хотелось — нет, мне было просто необходимо быть самой собой. Возможно, мне даже требовалось немного рискнуть, подвергнуть себя какой-то опасности, чтобы почувствовать: я с ними.
Я быстро миновала улицу Галва и добралась до моста Ювелиров над Центральным каналом. Шла я, не поднимая головы, как ходят у нас все женщины. Большая часть лавок на мосту была давным-давно закрыта: золото Ансула теперь находилось в основном в сокровищницах Асудара. Впрочем, кое-где еще продавались дешевые побрякушки, свечи для богослужений и тому подобные мелочи. Можно было бы зайти в одну из таких лавчонок, чтобы не торчать у всех на виду, и оттуда следить за воротами дворца, поджидая, когда выйдут мои друзья.
Хотя на рынках ничего особенного не происходило, да и здесь, на мосту, совсем близко от Дома Совета, все тоже было чрезвычайно спокойно (два стражника-альда даже пристроились на ступенях играть в кости), меня не покидало ощущение, что скоро случится нечто ужасное. Мне казалось, что над головой у меня какая-то огромная крыша все прогибается, прогибается, готовая вот-вот рухнуть…
Устроившись в тени на крыльце одной из лавок, я немного поболтала с ее старым хозяином, сказав ему, что жду здесь встречи с одним другом; старик кивнул — понимающе и неодобрительно, — но остаться мне все же позволил. Теперь он дремал за прилавком среди подносов с деревянными бусами, стеклянными браслетами и курительными палочками. В лавку никто не заходил, да и снаружи по мосту за это время прошло совсем мало народу. Возле двери был маленький алтарь, и я время от времени касалась его краешка, шепча благословения богам.
И вдруг, словно во сне, увидела, как мимо меня идет лев, помахивая хвостом.
Я сбежала с крыльца и бросилась навстречу своим друзьям, которые, надо сказать, не слишком удивились моему внезапному появлению.
— Мне нравится, как ты причесалась, — заметила Грай. Она все еще была в обличье укротителя львов Кая, но роль его играть уже перестала.
— Расскажите скорей, что там случилось!
— Расскажем, когда придем домой.
— Нет, пожалуйста, сейчас!
— Хорошо, — сказал Оррек. Мы как раз спускались с северного конца моста, и Оррек свернул с нижней ступени в сторону, на небольшую площадку, выложенную мраморными плитами и обнесенную перилами; оттуда узкая лесенка вела прямо к причалу, где были привязаны рыбацкие лодки. Мы спустились по этой лесенке и устроились прямо под мостом, чтобы нас не было видно с улицы. Сперва, правда, мы спустились к воде и, коснувшись ее ладонями, произнесли слова благодарности Сундис, реке, воды которой текут в наших четырех каналах. Сидя на корточках, мы смотрели, как бежит зеленовато-коричневая, полупрозрачная вода, казалось уносившая прочь все безотлагательные дела и заботы. Впрочем, довольно скоро я не выдержала и спросила:
— Ну так что?
— В общем, ничего особенного, — сказала Грай. — Просто ганду захотелось послушать ту историю, которую Оррек рассказывал вчера на рынке.
— Про Адиру и Марру?
Они дружно кивнули.
— И что, ему понравилось?
— Да, — сказал Оррек. — Он сказал, что не знал, что и у нас были такие славные воины. Но больше всех ему понравился старый правитель государства Сул. Он сказал: «Есть храбрость меча и храбрость слова, но храбрость слова встречается куда реже». Знаешь, мне бы очень хотелось как-нибудь познакомить его с Султером. Они оба — такие люди, которые непременно поймут друг друга.
Еще несколько дней назад подобная мысль показалась бы мне оскорбительной. Но сейчас слова Оррека я воспринимала как абсолютно справедливые.
— Значит, ничего необычного не произошло? И он не просил тебя спеть «Свободу»? Или просил?
Оррек рассмеялся.
— Нет. Не просил. Но один неприятный момент все же был.
— Жрецы в шатре опять начали свои религиозные песнопения именно в тот момент, когда Оррек начал декламировать, — сказала Грай. — Они громко пели, страшно шумели, стучали в барабаны, звенели цимбалами, и в итоге Иораттх, почернев, как грозовая туча, попросил Оррека остановиться. А в шатер послал своего офицера, и оттуда почти сразу появился верховный жрец в красном одеянии, расшитом кусочками зеркала. Он чуть не лопался от важности, однако был весьма мрачен и бледен как смерть. Он встал перед гандом в гордую позу и заявил, что священное служение Испепеляющему богу недопустимо прерывать ради каких-то мерзких языческих кривляний. Иораттх на это ответил, что эта церемония обычно бывает на закате, но жрец не сдавался. Он сказал, что раз богослужение уже началось, то и будет продолжаться. И тогда Иораттх сказал: «Нечестивый жрец — это скорпион в туфле своего правителя!» И велел рабам устроить навес, приладив ковер на шестах у аркады над Восточным каналом, и все мы переместились туда, в тень, и Оррек продолжил свое выступление.
— Но этот бой Иораттх все же проиграл, — вмешался Оррек. — Потому что жрецы и не подумали прекратить свои молебствия. Так что в конце концов Иораттх был вынужден отпустить меня и поспешить в шатер, чтобы не пропустить все богослужение.
— Священнослужители всегда слыли отличными кукловодами, — заметила Грай. — В Бендрамане, например, их очень много, и они прекрасно умеют управлять людьми.
— Ну, — сказал Оррек, — в Бендрамане их уважают. Там они отправляют важные для всех обряды, которые тесно связаны с общественной моралью и политикой государства. А вот Иораттху, похоже, скоро понадобится помощь верховного ганда, чтобы справиться со своей шайкой жрецов.
— А по-моему, он еще и на твою поддержку рассчитывает, — сказала Грай. — Он полагает, что именно ты мог бы помочь ему наладить отношения с местным населением. Интересно, не потому ли он и послал за тобой?
Оррека, похоже, ее слова заставили задуматься. Он умолк. И вид у него был озадаченный. Какая-то лошадь галопом пронеслась по мосту прямо над нами; ее подкованные копыта громко цокали по булыжной мостовой. Серая слюдяная поверхность воды в канале покрылась рябью. Ветер с моря, дувший весь день, к вечеру утих, и эту рябь вызвало первое дыхание вечернего ветерка, дувшего с суши. Шетар, до сих пор мешком валявшаяся на земле, села и утробно рыкнула. Шерсть у нее на спине вздыбилась, отчего вся она как бы увеличилась в размерах.
На нижнюю ступеньку мраморной лестницы плеснула вода, лизнув причальные столбики. Над лесистыми холмами за городом таяла легкая золотисто-красная закатная дымка. Все здесь, у воды, выглядело удивительно мирным, но мне казалось, что природа затаила дыхание и застыла в раздумье, словно чего-то ожидая. И львица вдруг встала, напряженно к чему-то прислушиваясь.
По мосту над нами опять галопом проскакала лошадь — и следом за ней застучали еще копыта, послышался топот бегущих по мосту людей, крики. Такой же шум доносился и откуда-то издалека. Теперь уже и мы вскочили, настороженно глядя вверх, на мраморные перила моста и зады ювелирных лавок.
— Что происходит? — спросил Оррек.
И я во весь голос крикнула, сама не понимая, что говорю:
— Началось! В городе началось!
Крики и пронзительные вопли теперь слышались прямо над нами; ржали лошади; снова послышался топот множества ног; наверху явно шла потасовка. Оррек бросился к лестнице и тут же остановился, увидев за мраморными перилами целую толпу людей; они то ли дрались друг с другом, то ли все вместе сражались с кем-то еще. В воздухе слышались приказы военных и чьи-то пронзительные вопли. Оррек вдруг испуганно присел — через перила, вращаясь в воздухе, перелетел какой-то большой темный предмет и с тяжелым хлюпаньем шлепнулся прямо в жидкую грязь совсем рядом с нами, стоявшими на нижней ступеньке лестницы. Над перилами показались людские головы; люди смотрели вниз, отчаянно жестикулировали, что-то кричали.
Оррек перемахнул через перила, спрыгнул вниз, быстро сказал: «Под мост!» — и мы бросились в самое укромное место под нижней арочной опорой моста, где он соединялся с берегом и где нас не могли увидеть сверху.
И тут я разглядела, что сбросили в грязь с моста. Предмет оказался не таким уж и большим. Это был всего-навсего человек. Он лежал, точно груда грязного тряпья, у нижней ступеньки лестницы. И я никак не могла понять, где у него голова.
По лестнице так никто и не спустился. Стычка на мосту внезапно прекратилась, хотя со стороны Дома Совета все еще доносился сильный глухой шум. Грай подошла к лежавшему в грязи человеку и опустилась возле него на колени, опасливо поглядывая на мост, откуда ее могли увидеть. Вскоре она вернулась. Руки у нее потемнели — то ли от грязи, то ли от крови.
— У него шея сломана, — тихо сказала она.
— Это альд? — шепотом спросила я.
Она покачала головой.
— Ну что, — спросил Оррек, — побудем еще немного здесь или попробуем пробраться в Галваманд?
— Только не по этой улице, — сказала Грай.
Они оба вопросительно посмотрели на меня, и я предложила:
— А давайте по дамбам. — Они меня явно не понимали, но я объяснять не стала и сказала лишь: — Я не хочу здесь оставаться.
— Ну так веди нас, — велел Оррек.
— А может, стоит подождать, пока стемнеет? — Грай неуверенно посмотрела на меня.
— Ничего, мы пройдем в тени, под деревьями. — И я указала им на росшие вдоль канала огромные ивы, которые склонялись к самой воде. Мне ужасно хотелось поскорее попасть домой. Я боялась за Лорда-Хранителя, за Галваманд. Я должна была быть там! Я быстро пошла вперед, стараясь держаться подальше от воды и прижимаясь к стене, и вскоре мы уже были под ивами. Пару раз мы останавливались и оглядывались, но отсюда, снизу, ничего увидеть было нельзя, кроме задних стен лавок на мосту да противоположного берега канала — высокая каменная стена набережной и над ней верхушки деревьев и коньки крыш. С улиц до нас не доносилось ни звука. Вечер был душный, и в плотном воздухе, как мне показалось, пахло дымом.
Мы подошли к дамбам, мощным каменным стенам, похожим на крепостные, которые удерживают и разделяют реку Сундис в том месте, где она спускается с гор на равнину. Как и все дети Ансула, я когда-то любила играть на дамбах; мы взбирались по крутым ступеням, вырубленным в стенах, прыгали через отводные канавы, бегали по узким дощатым мосткам, перекинутым с одного берега на другой для строителей мостов и копателей каналов. Наша основная забава заключалась в том, что кто-то один, набравшись смелости, шел по мосткам на ту сторону, а остальные в это время прыгали на пружинящих досках как сумасшедшие, и мостки начинали сильно раскачиваться, едва не касаясь воды. Сейчас же труднее всего оказалось убедить Шетар перейти по этим мосткам через канал. Львица только глянула на скользкие доски, между которыми хлюпала вода, и тут же села, сгорбилась и поджала хвост, всем своим видом говоря: нет, ни за что!
Грай опустилась с ней рядом на колени и положила руку ей на затылок. Казалось, они с Шетар безмолвно о чем-то договариваются. Я это заметила, но не успела остановиться и с разгону ступила на мостки, а если уж ты на них ступил, то останавливаться ни в коем случае нельзя, нужно непременно идти дальше. Я перебежала на тот берег и теперь стояла там, расстроенная, чувствуя себя полной дурой, но тут Грай и Шетар вдруг встали и тоже двинулись по мосткам ко мне. Грай ступала размеренно, осторожно, с дощечки на дощечку, а львица прямо-таки плыла с нею рядом, гордо задрав свою свирепую морду, и на воду старалась даже не смотреть. За ними следовал Оррек.
Прыгнув на берег, Шетар прежде всего старательно отряхнулась. К сожалению, кошки, в отличие от собак, не умеют отряхиваться досуха. Мокрая шкура львицы в сумерках казалась черной, и сама она стала какой-то тощей и будто съежившейся. И все время с негодованием морщила нос и скалилась, показывая великолепные белые зубы.
— Вон там еще один мост и потом паромная переправа, — сказала я.
— Веди, — кратко велел Оррек.
И я повела их вдоль опор моста к Восточному каналу. Мы перебрались через него точно так же, как и через предыдущий, и поднялись наверх по крутым узеньким ступенькам, высеченным в мощных клиновидных опорах дамбы, отделяющей Восточный канал от самой реки. Быстро миновав дамбу, мы снова спустились к реке. К этому времени стало уже совсем темно. Через реку здесь перебирались посредством ручного парома. К счастью, лодка оказалась на нашей стороне, мы забрались в нее и, ухватившись за веревку, стали переправляться на тот берег. Течение в этом месте довольно сильное, и нам с Орреком приходилось тянуть в четыре руки, чтобы с ним справиться. Загнать в лодку Шетар тоже оказалось непросто: она не желала там находиться и во время переправы непрерывно рычала и ворчала, вся дрожа — то ли от холода, то ли от страха, то ли от гнева. Грай то и дело принималась тихонько ее уговаривать и не снимала руки с ее головы.
Причал для ручного парома находится как раз под старым парком, и, как только мы подплыли к берегу, Грай спустила львицу с поводка. Шетар прыжками унеслась куда-то под деревья и исчезла в густой тени. Мы двинулись за нею следом наверх, отыскивая в темноте те тропинки, по которым гуляли втроем — Шетар и мы с Грай, — а потом спустились с холма прямо к северо-восточной стене Галваманда. Львица неслась впереди, точно тень среди теней. А дом высился перед нами, огромный, темный и молчаливый, как гора.
И я в ужасе подумала: дом мертв и все они тоже мертвы!
И с громким криком бросилась через двор к дверям. Никто мне не ответил. Я пробежала по комнатам — всюду было темно — и вылетела в заднюю часть дома. Когда у двери, ведущей в тайную комнату, я пыталась начертать нужные слова, руки у меня так тряслись, что я с трудом сумела войти. Но и там света не было, лишь слабо мерцали звезды в потолочных окошках. Нет, Лорд-Хранитель туда не приходил. Там были только книги, которые умели говорить, и более чем всегда чувствовалось живое присутствие пещеры.
Закрыв дверь, я бросилась по темным коридорам и галереям назад, в ту часть дома, где жили люди. На плитах большого двора я заметила падавший из окон свет. Оказывается, все собрались в буфетной, где мы обычно ели, — Лорд-Хранитель, Гудит, Иста, Соста, Боми. К ним уже успели присоединиться и Грай с Орреком. Я так и застыла в дверях. Лорд-Хранитель подошел ко мне, обнял и ненадолго прижал к себе.
— Все хорошо, детка, не волнуйся, — сказал он, и я изо всех сил обхватила его руками.
Мы сели за стол; Иста подала хлеб и мясо и настояла, чтобы мы непременно поели. Честно говоря, я вдруг почувствовала, что страшно голодна. А потом все принялись рассказывать друг другу, кто что узнал.
Гудит сидел в пивной возле Центрального канала — там он обычно встречался со своими старыми друзьями, конюхами и кучерами, — они, как всегда, неторопливо беседовали о лошадях и вдруг услышали сильный шум.
— Шум, — рассказывал Гудит, — доносился с холма Совета. Потом мы увидели огромный столб черного дыма. — Тревожно запели трубы, и мимо пивной к Дому Совета с топотом промчалось множество альдов, пеших и конных. Гудиту и его приятелям удалось пройти по улице Галва, но на площадь Совета выйти было уже невозможно: там собралась чудовищная толпа. — Местные жители и альды громко кричали, толкались, напирали, а потом альды все-таки выхватили свои мечи… — Гудит помолчал и прибавил: — Не люблю я толпу! К тому же было ясно как день, что оттуда надо поскорей сматываться. Вот я и пошел домой.
Однако вернуться по улице Галва он не сумел: путь ему преградили толпы местных жителей, а дальше, похоже, уже началась какая-то потасовка. Так что Гудит свернул на улицу Гелб, потом на Западную улицу, которая и привела его в нашу часть города. Здесь было, пожалуй, поспокойнее, однако множество людей направлялись к Дому Совета, а уже на подходе к Галваманду он видел, как в ту же сторону галопом промчался большой отряд конных альдов, которые размахивали в воздухе мечами и кричали: «Немедленно разойтись по домам! Очистить улицы!»
Мы подтвердили, что потасовка на улице Галва действительно имела место, как и на мосту Ювелиров, где человека убили и сбросили с моста в канал.
Вскоре после того, как Гудит вернулся домой, прибежала одна из подружек Боми и выпалила: «Все говорят, что горит Дом Совета!» Ее услышал спешивший домой сосед и сказал, что горит вовсе не Дом Совета, а тот большой шатер, что стоял рядом. По слухам, во время этого пожара погиб и сам ганд Ансула, и многие из его «красных шапок».
С тех пор больше новостей не поступало, потому что никто, похоже, не решался выходить на темные улицы, где было полно вооруженных патрулей.
Иста была очень напугана: по-моему, все это напомнило ей страшные события семнадцатилетней давности, когда пал наш город. Это настолько ее подкосило, что она, подав нам ужин и сердито приказав немедленно поесть, сама за стол даже не присела и не съела ни кусочка; руки у нее так тряслись, что она даже под фартук их спрятала.
Лорд-Хранитель велел ей и девушкам спокойно ложиться спать и сказал, чтобы они не тревожились понапрасну, потому что парадный вход будут охранять Оррек и Грай со своей львицей.
— Не бойтесь. Уж лев-то никого сюда не пропустит, — прибавил он. Иста покорно кивнула. А он продолжал бодро отдавать распоряжения: — Гудит, как всегда, будет при лошадях, а мы с Мемер будем сторожить старую часть дома. Возможно, ночью придет кто-то из моих друзей, и тогда нам удастся получше узнать, что творится в городе. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. — Лорд-Хранитель говорил так спокойно, почти весело, что даже Иста приободрилась; впрочем, может, она и притворялась, но держаться стала гораздо спокойнее. Мы убрали со стола, вымыли посуду, а потом Иста, Соста и Боми ушли, вполне бодро пожелав всем спокойной ночи. Грай сразу же устроилась на парадном крыльце у самых дверей; оттуда им с Шетар отлично были видны и улица, и передний двор, так что никто не прошел бы в дом незамеченным. Оррек взял на себя обязанности связного — время от времени он смотрел, как там Гудит, потом заходил к Лорду-Хранителю, а затем проверял заброшенную южную часть дома.
Ибо все мы боялись одного и того же, хотя страх этот и был довольно невнятным: того, что именно на Галваманд опять может обрушиться мстительный гнев альдов.
Ночь проходила довольно спокойно. Я несколько раз поднималась в Хозяйские Покои, откуда был виден почти весь город, но ничего необычного не заметила. Впрочем, Дом Совета скрыт от нас склоном горы. Я упорно вглядывалась в темноту, но ни столбов дыма, ни проблесков пожара так и не разглядела. Спустившись вниз, я шла в заднюю часть дома и присоединялась к Лорду-Хранителю, сидевшему на большой галерее. Немного поговорив, мы умолкали. Стояла теплая ласковая ночь, какие часто бывают у нас в начале весны. В очередной раз вернувшись сверху, я уселась в кресло, намереваясь через некоторое время еще раз подняться и осмотреть город, но нечаянно крепко уснула. Разбудили меня чьи-то негромкие голоса.
Я в ужасе вскочила и увидела в дальнем конце галереи какого-то человека. Он, видимо, прошел через внутренний дворик.
— Могу я остаться? Можете вы меня спрятать? — все спрашивал он.
— Да-да, конечно, — сказал Лорд-Хранитель. — Входи. Или с тобой еще кто-нибудь пришел? Да входи же! Здесь ты будешь в полной безопасности. За тобой не следили? — Он говорил ласково, дружелюбно, не требуя никаких ответов на свои вопросы. Он усадил незнакомца, а я сбегала посмотреть, нет ли еще кого-нибудь во дворе, и увидела там чей-то темный силуэт на фоне звездного неба. Я чуть не крикнула, желая предупредить всех об опасности, но человек шевельнулся и голосом Оррека тихо сказал:
— Он сбежал от альдов.
— А за ним никто не шел? — шепотом спросила я.
— Вроде бы нет. Во всяком случае, я не видел. Но пожалуй, лучше еще разок обойти вокруг дома и проверить. А ты пока покарауль здесь, хорошо, Мемер?
Оррек мгновенно исчез под аркой ворот, а я осталась стоять у боковой стены под галереей, внимательно поглядывая по сторонам и слушая, о чем говорят Лорд-Хранитель и беглец.
— Они все погибли, — донесся до меня негромкий хриплый голос незнакомца. Он то и дело откашливался. — Все до одного.
— А Дезак?
— И он тоже. Погибли все, кто там был.
— Неужели они решились атаковать Дом Совета?
— Нет, они подожгли шатер… — Незнакомец покачал головой и разразился удушливым кашлем. Лорд-Хранитель налил ему воды из кувшина, стоявшего на столе, заставил ее выпить и посидеть спокойно. Свет лампы падал прямо на него, и мне хорошо было видно его лицо. Этого человека я никогда раньше не видела. Он был не из тех, что приходили к нам в дом. На вид я дала бы ему лет тридцать; волосы всклокочены, лицо и одежда черны от грязи или сажи. А может, от засохшей крови. Одет он был в длинную полосатую рубаху, какие носили рабы, прислуживавшие альдам во дворце. Он сидел, устало опустив плечи, и все пытался отдышаться после приступа кашля.
— Значит, они подожгли шатер? — Лорд-Хранитель явно решил помочь ему, задавая вопросы.
Незнакомец кивнул.
— И ганд находился внутри? Ганд Иораттх?
Незнакомец снова кивнул и сказал:
— Ганд погиб. И все они погибли. Шатер вспыхнул как охапка соломы…
— Но ведь Дезака в этот момент в шатре не было, верно? Нет, не отвечай. Успокойся, выпей еще воды. Потом расскажешь. Кстати, как мне тебя называть?
— Кадер Антро.
— Так ты из Гелбманда, — кивнул Лорд-Хранитель. — Я хорошо знал твоего отца, Антро-кузнеца. Я не раз одалживал в Гелбманде лошадей, будучи Хранителем Дорог. А твой отец всегда очень внимательно следил за тем, хорошо ли они подкованы. Скажи, Кадер, он еще жив?
— Умер в прошлом году. — Кадер Антро допил воду и устало откинулся на спинку кресла. Вид у него был совершенно измученный; казалось даже, что он немного не в себе, так странно, не мигая, он глядел прямо перед собой.
— Мы подожгли шатер и выбрались оттуда, — помолчав, вновь заговорил он, — но они подоспели раньше, чем мы рассчитывали. Они окружили нас и стали заталкивать обратно, прямо в огонь… Люди кричали, толкались… Мне, правда, удалось как-то выбраться и выползти на площадь… — Он растерянно осмотрел себя.
— Ты ведь, наверное, тоже получил ожоги? А может, ты ранен? — Лорд-Хранитель подошел к нему и осторожно коснулся его предплечья. — Да, здесь у тебя ожог или резаная рана. Сейчас посмотрим. Нет, сперва скажи, как тебе удалось добраться до Галваманда. Ты был один?
— Я выполз на площадь, — повторил Кадер бесцветным тоном. Еще бы, он же не сидел, как мы, в тихой уютной комнате, он выбирался из горящего шатра, из огня! — Я выполз… потом перебрался через Восточный канал. Собственно, я просто спрыгнул туда. А сзади уже вовсю шла схватка, на площади было полно альдов, которые сражались с горожанами и убивали, убивали… Я… пошел по воде… и добрался до берега моря. На всех улицах я слышал топот конных патрулей, пока прятался за домами, не зная, куда идти. Я понимал, что они могут вскоре явиться сюда. В Дом Оракула. Но не знал, куда пойти еще…
— Ты поступил совершенно правильно, — сказал Лорд-Хранитель по-прежнему спокойно и дружелюбно. — А теперь я прибавлю света и все-таки осмотрю твою руку. Мемер! — окликнул он меня. — Принеси, пожалуйста, еще воды и каких-нибудь чистых лоскутов.
Мне не хотелось покидать свой пост, но, похоже, этот Кадер и впрямь пришел один и не привел за собой никакого «хвоста». Я прихватила тазик, воду, чистые тряпки и травяной настой, который мы всегда держим в кухне на случай ожогов и порезов. Я сама обмыла и перевязала обожженную руку Кадера, поскольку мне-то этим было заниматься куда сподручнее, чем Лорду-Хранителю. А после перевязки беглецу дали выпить несколько глотков старого бренди, который Лорд-Хранитель берег для празднования дня Энну и всяких непредвиденных случаев, и он вроде бы понемногу стал приходить в себя и принялся, запинаясь, благодарить нас и хранителей нашего дома.
Лорд-Хранитель задал Кадеру еще несколько вопросов, но тот ничего нового не мог прибавить к своему рассказу. В общем, стало ясно, что небольшая группа, возглавляемая Дезаком и состоявшая как из рабов, так и из тех, кто, подобно Кадеру, просто переоделся в такие же полосатые рубахи, проникла в шатер ганда, где как раз шло богослужение, и подожгла его сразу в нескольких местах. Однако план их провалился: помощь со стороны горожан не смогла подоспеть вовремя. «Они не пришли!» — то и дело горестно восклицал Кадер. Альды почти сразу поймали кое-кого из заговорщиков, в том числе Дезака и Кадера, когда те выбирались из горящего шатра. А те горожане, которые должны были ждать на площади и сразу нанести удар, как только альды начнут выбегать из горящего шатра, то ли растерялись и позволили альдам первыми нанести удар, то ли просто не сумели даже близко подойти к шатру. Кадер так толком и не узнал, что именно там произошло. Рассказывая об этом, он не смог сдержать слез и снова мучительно закашлялся.
— Ну-ну, довольно, хватит, — пытался успокоить его Лорд-Хранитель. — Пойдем, тебе нужно поспать. — Он отвел его к себе и вскоре вернулся.
— Неужели они действительно все погибли? — спросила я. — И Дезак, и ганд Иораттх? Интересно, жив ли сын ганда? Он ведь тоже был там, в шатре.
Лорд-Хранитель лишь печально покачал головой:
— Увы, это нам неизвестно.
— Но если Иораттх мертв, а Иддор жив, то именно он возьмет власть в свои руки и станет теперь нами править, — сказала я.
— Да, так и есть.
— Значит, он вскоре явится сюда.
— Почему именно сюда?
— По той же причине, что и Кадер. Потому что здесь — сердце Ансула!
Лорд-Хранитель промолчал. Он стоял в дверном проеме и смотрел на залитый лунным светом двор.
— Тебе надо пойти туда, — сказала я. — Сейчас ты должен быть там.
— К оракулу?
— Да. Там ты будешь в безопасности.
— Ах вон оно что… — Он слегка усмехнулся. — Да, конечно, в целости и сохранности… Что ж, может, и пойду. Но прежде давай дождемся рассвета и посмотрим, что принесет нам новый день.
До рассвета было еще далеко, но я, выглянув из верхнего окна, увидела на юго-западе какое-то сияние. Скорее всего, пожар. Зарево виднелось довольно далеко от нас, где-то возле разрушенного ныне университета. Похоже, огонь то разгорался, то затухал, то вспыхивал с новой силой. Оттуда же доносились и весьма тревожные звуки — стук лошадиных копыт, пение боевых труб, громкий взволнованный гул огромной толпы. Видимо, даже страшные события на площади Совета не сумели ни усмирить, ни запугать жителей Ансула.
В предрассветных сумерках, когда небо над окрестными горами стало светлеть, пришел Оррек и привел Сулсема Кама из Камманда, ученого и старинного друга Лорда-Хранителя; он много раз приносил в Галваманд спасенные им книги, а теперь принес новости.
— Мы, правда, располагаем всего лишь слухами, Султер, — осторожно начал он. Сулсем был уже далеко не молод, лет шестидесяти; он всегда отличался особой вежливостью и обходительностью, всегда очень заботился не только о своем, но и о чужом достоинстве — «настоящий Кам, Кам до мозга костей», как говорил про него Лорд-Хранитель. Он и сейчас весьма тщательно подбирал слова. — Но слухи эти получены нами из разных источников. Ганд Иораттх действительно погиб, и теперь Ансулом правит его сын Иддор. Погибло также очень много наших людей. Этот южанин Дезак и мой сородич Армо сгорели, когда вспыхнул шатер ганда. Альды по-прежнему удерживают город, железной хваткой взяв его за горло. Уличные бои, пожары и стычки происходили и происходят повсеместно, люди забрасывают альдов камнями с крыш и из окон, но у этого мятежа нет настоящего руководителя, способного объединить бунтовщиков. Во всяком случае, нам о таком человеке ничего не известно. Вспышки гнева возникают спонтанно, группы мятежников разбросаны по всему городу и, похоже, не имеют даже связи друг с другом. Тогда как им противостоит прекрасно организованная и хорошо вооруженная армия альдов.
Я вспомнила, что кто-то уже говорил здесь примерно то же самое, — казалось, это было давным-давно, много месяцев назад… Кто же это был?
— Ну что ж, пусть в таком случае Иддор полагается на свою армию, — сказал Лорд-Хранитель. — За нами весь город, а у них такой поддержки нет.
— Смелые слова, Султер. Но я боюсь за тебя. За твой дом.
— Я это знаю, друг мой. Знаю, что ты потому и пришел сюда, рискуя жизнью. Поверь, я очень тебе благодарен. Да хранят тебя все боги и духи моего и твоего дома! Но теперь тебе, по-моему, все же лучше уйти, пока еще не совсем рассвело. Ступай домой, Сулсем.
Они обменялись крепким рукопожатием, и Сулсем Кам пошел назад тем же потайным путем, каким пришел сюда.
А Лорд-Хранитель отправился к себе, чтобы посмотреть, как там Кадер Антро. Беглец крепко спал. Лорд-Хранитель умылся у маленького фонтанчика во внутреннем дворике, а потом обошел все алтари наших богов, перед каждым останавливаясь и произнося слова благословения и благодарности, как делал это каждое утро. Мне сперва казалось, что сегодня у меня самой просто нет на это сил. Но что-то все же заставило меня встать, выйти из дома, собрать цветы и листья для богини Иене, положить их ей на алтарь, а потом по очереди подойти к каждой нише, благодарственно коснуться ее края, вытереть пыль и произнести слова благословения.
Иста уже встала и возилась на кухне. Она сказала, что девочки еще спят, поскольку полночи не могли уснуть. Выйдя в переднюю часть дома, я вдруг услышала голоса в большом внутреннем дворе.
У его противоположной стороны я увидела Грай, которая разговаривала с какой-то женщиной. Первые лучи солнца едва успели коснуться крыш, и воздух, сохранивший еще ночную прохладу, был напоен летними ароматами. Обе женщины стояли под заросшей цветущим плющом стеной — одна в белом, другая в сером — и казались совершенно неподвижными, как на картине. Однако «картина» эта была исполнена глубокого смысла, напряжения, жизни…
Тряхнув головой, я решительно пересекла двор и подошла к ним.
— Это Иалба Актамо, — сказала мне Грай и представила женщине меня: — А это Мемер Галва.
Иалба, маленькая, хрупкая, очень изящная женщина лет двадцати, внимательно на меня посмотрела. Она была в таком же блеклом полосатом одеянии, какие носят во дворце все рабы. Мы с ней сдержанно поздоровались, а Грай сообщила:
— Иалба принесла нам вести из дворца.
— Меня послала к вам Тирио Актамо, — сказала Иалба, — чтобы рассказать о ганде Иораттхе.
— Он умер? — вырвалось у меня.
Она покачала головой:
— Нет, он жив. Он был ранен во время нападения на дворец, да к тому же получил серьезные ожоги. Это Иддор велел тайком отнести ганда во дворец, а сам сообщил воинам, что Иораттх умирает. Мы считаем, что он вот-вот объявит о его смерти. Но только ганд Иораттх не умер! Жрецы заключили его в темницу и держат там. Вместе с моей госпожой. Она сама пошла вместе с ним, и она его не покинет. И если Иддор убьет Иораттха, моя госпожа тоже умрет. Если бы офицеры узнали, что ганд жив, они, возможно, попытались бы его спасти. Но я не нашла никого, с кем можно было бы поговорить об этом… Я всю ночь пряталась, а потом по горным тропкам поспешила сюда… Это моя госпожа велела мне сходить к Лорду-Хранителю и сказать, что Иораттх жив. — Голос Иалбы звучал ровно, легко и был достаточно звучен, однако я догадалась, как сильно она напряжена: ее прямо-таки всю трясло.
— Ты, должно быть, замерзла, — сказала я ей. — Еще бы, ведь ты всю ночь провела под открытым небом. Идем на кухню, хорошо?
И она покорно пошла со мной на кухню.
Когда я сказала Исте, как зовут нашу раннюю гостью, та оглядела Иалбу с ног до головы и заявила:
— Ты же дочка Бенем! А я у твоей матери на свадьбе гуляла. Мы с ней подружками были. Я помню, ты всегда была любимицей госпожи Тирио, с самого раннего детства. Уж это-то я хорошо помню! Да ты садись, садись скорей. Я мигом тебе что-нибудь горяченькое приготовлю. Ох, да у тебя же вся одежда мокрая! Мемер! Отведи поскорей эту девушку ко мне в комнату да какую-нибудь сухую одежду ей там подыщи!
Пока мы с Иалбой переодевались, Грай сбегала и передала полученные из дворца новости Лорду-Хранителю и Орреку. И я, оставив Иалбу на попечение доброй хлебосольной Исты, вскоре тоже присоединилась к ним, прихватив с собой корзинку с хлебом и сыром, — мне ужасно хотелось есть, и я подумала, что и другие тоже, наверное, проголодались. И действительно, все принялись за еду, одновременно обсуждая новости, принесенные Иалбой, и пытаясь понять, что все это значит и что можно было бы сделать.
— Прежде всего нам необходимо узнать, что же все-таки происходит в городе! — почти с отчаянием сказал Лорд-Хранитель, и Оррек вызвался:
— Давайте я схожу и все выясню.
— Даже и не думай! Тебе сейчас нос на улицу лучше не высовывать! — сердито возразила Грай. — Тебя же все знают! Пойду я.
— Тебя тоже все знают, — сказал он.
— Зато меня никто не знает, — спокойно заявила я, дожевывая кусок хлеба с сыром, и встала.
— В этом городе все всех знают, — покачал головой Оррек, и это на самом деле было более или менее правдой. Однако в том, что кто-то узнает какого-то мальчика-конюха или ту девочку-полукровку из Галваманда, что обычно ходит на рынок за покупками, не было ничего страшного. А уж для альдов я, как мне казалось, и вовсе никакого интереса не представляла.
— Нет, Мемер, тебе лучше бы остаться здесь, — сказал Лорд-Хранитель.
Если бы он приказал мне остаться, если бы сказал, что я должна, я бы, конечно, подчинилась, но я почувствовала, что ему просто не хочется меня отпускать, что это скорее нежелание подвергать меня опасности, а не приказ, и я сказала:
— Ничего, я буду очень осторожна. И через час вернусь.
Я быстро переоделась в мужское
платье, распустила волосы, стянув их на затылке в хвост, и вышла из дома через северный дворик. Грай проводила меня и, обняв на прощанье, шепнула:
— Будь осторожна, львенок мой дорогой!
Глава 12
Я заглянула на конюшню. Гудит, выгуливая Бранти по двору, хмуро кивнул мне. Он уже вытащил наружу всякие вилы и заступы, чтобы в случае чего воспользоваться ими как оружием. Уж он-то готов был до последней капли крови защищать эту конюшню, лошадей и Галваманд! И у меня, когда я шла через передний двор, где все еще лежала густая тень от дома и горы, вдруг сжалось сердце: я представила себе, как этот лысый сгорбленный старик с вилами в руках выходит на бой с целым конным отрядом и альды, вооруженные копьями и мечами, убивают его. Мне казалось, я собственными глазами вижу, как он умирает. Как герои прошлого! Как великие воины Сула!
Улица Галва, куда ни глянь, была совершенно пустынна. Я перешла по мосту через Северный канал. Вокруг стояла странная тишина, и снова у меня перехватило дыхание: тишина показалась мне какой-то мертвящей, несмотря на чудесное утро, солнечный свет и ароматы цветущих деревьев. Куда же подевались жители Ансула?
Я свернула и, срезав путь, прошла по задам Гелбманда прямиком к Старой улице, ведущей к Портовому рынку. Сразу пойти к холму Совета я не решалась. Я уже почти вышла на рыночную площадь, и меня по-прежнему пугала царившая вокруг тишина. И вдруг я услышала крики — далеко, где-то у Дома Совета. Потом в лагере альдов несколько раз призывно пропела труба, и я бегом бросилась назад и, уже не таясь, помчалась по Западной улице. Эта улица тоже была совершенно пуста, и я бежала прямо по мостовой, пока не свернула снова на улицу Гелб. И там едва не столкнулась с двумя всадниками-альдами; они вели себя в точности так, как описывала Боми: ехали рысцой, размахивали обнаженными мечами и выкрикивали: «Очистить улицы! Все по домам!»
Я присела, спрятавшись за разбитым уличным алтарем богини Энну, и они, не заметив меня, проехали мимо. Вскоре топот копыт и требование немедленно очистить улицы слышались уже где-то на Нижней дороге, что проходит мимо Подгорного рынка. Я с благодарностью коснулась краешка алтаря, шепотом благословила Энну и стала окольными путями пробираться дальше, к Галваманду. Выходя из дома, я надеялась, что мне удастся смешаться с толпой и, незаметно подобравшись к дворцу, узнать, что происходит, но на улицах никакой толпы не было. Там вообще не было никого, кроме патрулей. Собственно, только это я и сумела узнать, однако новость эта была малоприятной.
Грай и Шетар ждали меня у парадных дверей Галваманда. Грай сказала, что в дом с задней стороны тайком пробрались четверо мужчин, которых, как оказалось, Лорд-Хранитель хорошо знает: все четверо были членами тайной организации Дезака. Вчера они находились на берегу Восточного канала вместе с довольно большим отрядом повстанцев и должны были напасть на альдов во дворе Дома Совета, как только вспыхнет большой шатер. Однако пожар начался раньше, чем было запланировано, и не все из них успели туда добраться. Зато альды отреагировали очень быстро и оказали мятежникам решительное сопротивление, а потом, перехватив инициативу, перешли в наступление и мгновенно разметали отряд, атаковавший площадь. Тех, кто пытался бежать, они настигали и рубили в куски. Мятеж провалился. Его участники рассыпались по городу. Эти четверо, например, провели ночь в развалинах университета, время от времени пытаясь нападать на альдские патрули. В итоге они пришли в Галваманд, потому что по городу ходили упорные слухи, что все, кто хочет сражаться за освобождение Ансула от захватчиков, должны непременно идти в Дом Оракула, к Лорду-Хранителю.
— Но зачем? — удивилась я. — Чтобы обрести здесь убежище? Или, может, обосноваться навсегда?
— Не знаю. И они тоже не знают, — сказала Грай. — Нет, ты только посмотри!
И мы увидели, как человек семь или восемь выбежали на перекресток с Западной улицы и направились прямиком к Галваманду. Это явно были местные жители, не альды. У одного рука висела на перевязи. Вид у них был совершенно несчастный. Я вышла на крыльцо и остановилась, глядя на незваных гостей.
— Вы все сюда? — громко спросила я.
— К вам идут альды, — ответил мне один из них, смуглолицый, останавливаясь у священного камня и касаясь его. — Благословляю все души этого дома, и ныне живущие, и те, что жили здесь прежде, — быстро пробормотал он. — Целый отряд направляется сюда от Дома Совета… Они скоро здесь будут. Так нам сказали. Передай Лорду-Хранителю, чтоб запер все двери!
— Сомневаюсь, что он это сделает, — сказала я. — А вы поможете нам эти двери охранять?
— Мы именно за этим сюда и пришли, — кивнул он. Его товарищи один за другим входили в ворота, и каждый почтительно касался камня на пороге. И я услышала негромкое восклицание:
— Смотрите-ка, там лев!
— Ну что, в дом-то вы будете входить? — спросила я.
— Нет, мы лучше здесь останемся и подождем альдов, — сказал мне все тот же смуглолицый мужчина, видимо вожак. Тесемку, какими мужчины в Ансуле обычно стягивают волосы на затылке, он где-то потерял и теперь, с длинной черной гривой, рассыпавшейся по плечам, выглядел диковато. Говорил он, впрочем, уверенно и спокойно. — Сюда еще наши должны подойти. Хотя, если у вас найдется немного воды… — Он с жадностью посмотрел в сторону сломанного фонтана.
— Ступайте за дом, там возле конюшни есть родник, — сказала я. — Попросите Гудита, чтобы он вас пропустил.
— Я хорошо знаю Гудита, — обрадовался еще один из пришедших. — Он старый приятель моего отца. Пошли. — И они поспешили на конюшенный двор. А с дальнего конца улицы, который выходит на Нижнюю дорогу, к Галваманду уже подходил другой отряд мятежников, побольше, человек двадцать по крайней мере. Некоторые из них были вооружены вилами, кирками, мотыгами и заступами, а один даже размахивал саблей, явно отнятой у какого-то альда. Они поздоровались с нами, и мы пригласили их в дом. Этих людей тоже мучила жажда — видно, после того, что один из них назвал «жарким ночным дельцем», — так что они тоже направились к конюшне, чтобы напиться из родника.
Что ж, подумала я, по крайней мере, Гудиту не придется в одиночестве охранять конюшню, вооружившись вилами, как мне мерещилось.
Я сбегала к Лорду-Хранителю и сообщила, что вернулась невредимой, что город кажется совершенно безлюдным, зато у нас во дворе люди так и кишат. Сказала я и о том, что, по слухам, к Галваманду направляется большой отряд вооруженных альдов.
Об этом говорили все, кто приходил к нам, а люди, кстати, все продолжали прибывать — небольшими группками. Это были либо заговорщики из компании Дезака, либо те, кто присоединился к ним после неудачного поджога шатра и столкновения с альдами на площади Совета. Все они в один голос утверждали, что оба, и Дезак, и ганд Иораттх, погибли в огне. Но одни считали, что на площади были убиты сотни альдов, а другие, наоборот, говорили, что погибло очень много горожан, зато альды сейчас сильны как никогда.
Ближе к полудню в Галваманд потянулись и женщины. Они тоже приходили группами; у одной была с собой прялка, у другой — спящий младенец. Потом пришли сразу пять весьма мрачных старух, вооруженных увесистыми дубинками. Первые четыре старухи по очереди склонились перед священным камнем на пороге и почтительно его коснулись, а пятая, вся скрюченная артритом, наклониться не смогла. Она просто провела по камню палкой и произнесла короткое и весьма выразительное благословение богам, но таким гневным тоном, что оно прозвучало скорее как проклятие.
Я стояла на крыльце и, глядя на прибывающих людей, думала, как все это похоже на рыночную толчею, или на выступление известного поэта, или на праздничную церемонию прошлых лет. Сама я, правда, никогда таких церемоний не видела, но знала, что во время праздников люди обычно собираются вместе, беседуют о чем-то приятном, обмениваются шутками и с возбуждением, но терпеливо ждут каких-то сюрпризов. Вот только на праздник они бы, конечно, принарядились. И принесли бы с собой цветущие ветки, а не мечи, ножи, кинжалы, острые мясницкие крюки и тяжелые дубинки.
Двое мужчин с большими луками устроились по обе стороны от нашей входной двери.
Через некоторое время на южном конце улицы Галва, который выходит как раз на площадь Совета, завыли трубы и горны, загрохотали барабаны, послышался многоголосый гул. Этот шум то затихал, то начинался снова.
Я увидела, что к нашему дому мчится мальчишка лет семи или восьми. Казалось, он не бежит, а летит по воздуху, и следом за ним летят, развеваясь, его длинные волосы.
— Там наш новый ганд! — кричал мальчишка. — И вокруг него целая армия солдат! А «красные шапки» говорят речи!
Мальчика тут же окружили, и кто-то из мужчин поднял его на плечи. И он снова тоненьким детским голоском пропищал принесенную им весть. Странно звучали в его устах эти слова:
— Ганд Иораттх мертв, и отныне нами правит ганд Иддор! Приветствуйте же господина нашего Иддора, сына солнца и меч Аттха, который вскоре победит всех врагов великого Аттха и уничтожит всех демонов Ансула!
И, словно откликнувшись на его слова, где-то вдали снова заблеяли и замычали трубы и горны, заревели людские глотки, загрохотали барабаны.
А над собравшейся вокруг Галваманда толпой пронесся тихий ответный стон. Люди неуверенно задвигались, не зная, что делать дальше. Я заметила, что некоторые поспешно перемахнули через невысокую стену в заброшенные соседние сады на той стороне улицы, стремясь уйти от греха подальше.
Я повернулась и стремглав бросилась в дальнюю часть дома, минуя внутренние дворы и коридоры. Оррек и Лорд-Хранитель стояли у дальнего конца галереи и разговаривали с Пером Актамо и его сородичами. Все дружно повернулись ко мне, и я выпалила без всяких преамбул:
— Оррек, не мог бы ты пойти и поговорить с людьми?
На лицах мужчин отразилось откровенное удивление, но меня это не смутило, и я продолжала:
— Сюда направляется наш новый ганд и ведет с собой целое войско. Люди растерялись и не знают, что делать.
— Тебе пора, — сказал Орреку Лорд-Хранитель. Он явно имел в виду не то, что Орреку пора выходить к народу, а, наоборот, что ему пора уходить отсюда в горы, спасаться. — Собирайся и немедленно уходи.
— Нет, — ответил Оррек. И положил руку на плечо Лорду-Хранителю.
Некоторое время оба так и стояли молча, потом Лорд-Хранитель с отчаянием отвернулся и воскликнул:
— Теперь все пропало! Погибнут книги, а поэты исчезнут или будут убиты! — И он закрыл лицо своими изуродованными руками.
Мы все так и застыли, не говоря ни слова, потрясенные этим воплем души.
Наконец Лорд-Хранитель поднял голову и посмотрел на меня.
— Ты-то пойдешь со мной, Мемер? Могу я спасти хотя бы тебя?
Я была не в силах ему ответить. Но и последовать за ним я тоже не могла.
Он это понял. Подошел, поцеловал меня в лоб и благословил. А потом, сильно хромая, пошел прочь, в дальние коридоры, в тайную комнату.
— Там он будет в безопасности? — спросил у меня Оррек.
— Да, — уверенно сказала я.
Теперь звуки труб слышались уже у самых стен Галваманда.
И мы ничего больше не стали говорить друг другу, а просто все вместе прошли в переднюю часть дома и по верхней галерее спустились к парадным дверям, возле которых стояли Грай и Шетар — точно две статуи: женщина и львица.
Я подошла к Грай и обняла ее, потому что мне это было совершенно необходимо. Я только что позволила моему дорогому другу и повелителю уйти, я не удержала его, и он ушел — совсем один! — потому что я хотела, чтобы он был в безопасности, чтобы он мог жить дальше, чтобы его больше никогда не подвергали тем страшным пыткам… И все же в эту минуту я просто должна была кого-то обнять.
Грай одной рукой обхватила меня за плечи. Так мы с ней и стояли, обнявшись, в дверях нашего дома. Пер и прочие члены семьи Актамо спустились во двор, а Оррек остался стоять у нас за спиной. Он понимал: если он выйдет на крыльцо и толпа его увидит, ему придется действовать — что-то говорить, к чему-то призывать, а он не был готов ни действовать, ни призывать. Время для этого еще не пришло.
А люди все прибывали, они толпились на улице и в заброшенных садах напротив, и серо-черные плиты, которыми был выложен наш двор, полностью скрылись под их ногами. Казалось, двор теперь вымощен живыми людьми — я такого в жизни не видывала. А жители Ансула шли и шли к нашему дому, и вся улица Галва из конца в конец была заполнена ими…
Вновь где-то совсем близко пронзительно запели трубы, будоража кровь, и загрохотали барабаны.
На южном конце улицы по толпе, казалось, прошла волна — так во время прилива морская вода заливается в канал и движется против течения, все сметая на своем пути. Люди кричали, визжали, влезали на изгороди, стены и столбы, расчищая путь той силе, что гнала их перед собой, раздвигала, расталкивала в стороны, заставляя убраться с улицы: альды, верхом на конях, размахивали своими изогнутыми саблями, со свистом разрезая воздух, и кони их поднимались на дыбы и били копытами. Всадники, разгоняя толпу, подъехали к нашему дому и остановились у ворот. Их оказалось не так уж и много — человек пятьдесят или чуть больше. В центре отряда, защищенные со всех сторон, ехали восемь или десять жрецов в красных одеждах и красных головных уборах, и среди них — человек в струящемся золотом плаще и широкополой островерхой шляпе, какие носят самые знатные альды.
Позади отряда все еще царила паника; кто-то пытался поскорее унести ноги, а кто-то, наоборот, стремился пробраться сквозь толпу к тем, кто был сбит с ног или растоптан копытами. Люди были охвачены страхом и растерянностью, но, куда ни глянь, я всюду видела жителей Ансула, мужчин, женщин, детей, и если бы за конным отрядом шли еще и пешие солдаты — они бы наверняка не смогли пробиться сквозь эту гигантскую толпу.
Отряд альдов въехал к нам во двор, и люди сразу расступились, так что вокруг альдов даже возникло некое свободное пространство, как вокруг Грай и Шетар на рынке в самый первый их день в Ансуле. И теперь я уже видела выложенный черно-серыми плитками лабиринт под копытами фыркавших и беспокойно переступавших ногами лошадей.
Группа жрецов в красных шапках подъехала к самому крыльцу, и вперед выдвинулся тот человек в золотом плаще. Это и был Иддор, сын ганда Иораттха, крупный, красивый мужчина. Его плащ сиял как солнце. Он привстал в стременах, высоко поднял свой меч и выкрикнул какие-то слова, которые я не сумела расслышать, — они потонули в победоносных кличах альдов и странном шуме, поднявшемся над толпой и похожем одновременно и на горестный стон, и на грозный рев.
Затем почти все звуки смолкли, остался слышен лишь далекий гул, висевший над той частью толпы, которая не могла видеть того, что происходит во дворе Галваманда.
А происходило там вот что: на крыльцо дома вышла Грай вместе с Шетар. Львица была без поводка, но держалась рядом с хозяйкой. Затем женщина и львица медленно спустились по широким ступеням и направились прямо к Иддору.
И он испуганно отпрянул.
Возможно, он просто не смог удержать шарахнувшегося коня, а может, сам невольно потянул за поводья. Так или иначе, белый конь и наездник в золотом сверкающем плаще отступили, давая дорогу женщине и львице.
Затем Грай остановилась. Она стояла спокойно, почти не шевелясь; и львица рядом с нею тоже словно застыла, негромко утробно рыча.
— Ты не можешь войти в этот дом, — сказала Грай Иддору.
Тот молчал.
Над толпой пронесся приглушенный, насмешливый шепот.
На дальнем конце улицы опять пропела труба, нарушив напряженную тишину. Конь Иддора еще немного попятился, потом остановился, а Иддор, привстав в стременах, властно и громко провозгласил:
— Ганд Иораттх мертв! Он зверски убит мятежниками и предателями! Я, его наследник, Иддор, ганд Ансула, требую возмездия! И заявляю: этот дом проклят и будет разрушен до основания. А вместе с его каменными стенами будут уничтожены и скрывающиеся там злокозненные демоны. И мы наконец заткнем проклятую Пасть Зла! Она умолкнет навеки, и в Ансуле будет править истинный бог! Единственный! Великий Испепеляющий бог! С нами Аттх! С нами Аттх! С нами Аттх!
И, вторя ему, этот призыв подхватили воины, стоявшие вокруг, но стоило этим выкрикам чуть смолкнуть, как над толпой прошелестел, становясь все громче и сильнее, совсем иной призыв:
— Смотрите! Смотрите! Смотрите! Фонтан!
Я по-прежнему стояла в дверях между теми двумя лучниками, что охраняли вход в Галваманд, нацелив свои луки на Иддора. И вдруг почувствовала, как сзади кто-то подошел ко мне и встал рядом. Я сперва решила, что это Оррек, но вскоре поняла, что это не он и я этого человека совершенно не знаю, — это был какой-то высокий стройный мужчина, который, подняв руку, указывал ею на Фонтан Оракула. Фонтан оказался как раз внутри круга, образованного стражей Иддора.
И тут я наконец увидела, наконец поняла, кто это такой. В кои-то веки он предстал передо мной таким, каким был когда-то, хотя я-то в душе всегда знала, что таким он и остался — высоким, стройным, красивым, улыбающимся, с горящими ясными глазами. Я посмотрела туда, куда указывала его рука, и увидела то, что уже успели увидеть те, кто стоял внизу, — тонкую струйку воды, взлетавшую прямо к солнцу. Струя, чуть задержавшись в воздухе, стремительно падала вниз и серебристыми брызгами разлеталась по дну сухого бассейна. Потом опадала и снова взлетала вверх, еще выше, став сильнее, чем прежде. И все вокруг было наполнено пением этой бьющей струи.
— Наш фонтан! — кричали люди. — Фонтан Оракула! — Толпа стала как-то незаметно сдвигаться, наступая на конную стражу. Людям хотелось получше разглядеть фонтан или даже потрогать воду. По команде кого-то из офицеров всадники стали разворачивать коней лицом к надвигавшейся толпе, но люди уже успели просочиться сквозь созданную ими преграду, и голос офицера потонул в восторженном реве горожан.
Лорд-Хранитель положил руку мне на плечо и сказал:
— Идем со мной, Мемер.
Грай и Шетар чуть отступили в сторону и поднялись на первую ступень лестницы. А мы с Лордом-Хранителем вышли вперед и остановились на самой верхней ступени крыльца.
— Иддор из Медрона, сын Иораттха! — Голос Лорда-Хранителя вдруг странным образом стал похож на голос Оррека — он наполнял собой все пространство вокруг, он заставлял слушать, он заставлял думать, и огромная толпа застыла в полной неподвижности. — Ты лжешь! Твой отец жив. Ты заключил его в темницу и вероломно отнял у него власть. Ты предал не только своего отца, но и свое воинство, тех, кто верно тебе служил. Ты предал и своего бога. Нет, сейчас Аттх не на твоей стороне. Ведь ему ненавистны предатели. И этот дом не падет перед тобой. Это Дом Священного Источника и находится под защитой Хозяина Вод, который и благословил его, оживив этот фонтан. Это Дом Оракула, и в книгах этого дома записана и твоя, и наша судьба!
В левой руке Лорд-Хранитель держал небольшую книгу. Он высоко поднял ее и стал спускаться по ступеням. Он больше не хромал, его движения были ловкими и быстрыми. Я шла с ним рядом и успела заметить улыбку Шетар, когда мы остановились рядом с нею на последней ступени крыльца, в нескольких шагах от выстланной серыми и черными плитками поверхности двора, так что лица наши находились теперь почти на одном уровне с лицом Иддора, сидевшего на своем перепуганном коне. Лорд-Хранитель раскрыл книгу и поднес ее к самому лицу Иддора, и было видно, что этот «герой» в сверкающем плаще с трудом сдерживается, чтобы не отшатнуться, не отвернуться от книги, не спрятать от нее свое лицо.
— Можешь ты прочесть, что здесь написано, сын Иораттха? Нет? Тогда тебе это прочитают вслух!
И после этих слов я уже ничего не слышала, кроме звона в ушах. Я даже не могу толком сказать, что со мной такое случилось, что именно я услышала, — как не мог этого сказать и никто из тех, кто был там в то утро. Но мне показалось, будто какой-то странный голос что-то громко выкрикивает, гулким эхом отдаваясь от стен Галваманда и заполняя все пространство вокруг — и передний двор с пляшущей струей воды в фонтане, и сам огромный дом. Некоторые говорят, что это кричала сама книга, и я тоже так думаю. Но некоторые утверждают, что это была я, что они слышали именно мой голос. Но я точно знаю, что не прочла в той книге ни одного слова, — я даже страниц увидеть не могла. И все же я не знаю, чей громкий голос выкрикнул то предсказание. И не могу с уверенностью утверждать, что этот голос не был моим.
А слова предсказания, которые услышала я, были таковы: «Пусть они дадут свободу!»
Но кто-то слышал совсем другие слова. А некоторые слышали только плеск и журчание воды в фонтане.
Что слышал Иддор, я не знаю.
Отшатнувшись от поднесенной к его лицу книги, он так сгорбился в седле, словно его кто-то сильно ударил. И должно быть, невольно слишком сильно дернул поводья, то ли желая заставить коня идти вперед, то ли вынуждая его еще отступить; получилось это у него неуклюже, и конь вдруг взвился на дыбы, забил копытами, а сам Иддор, не удержавшись, вылетел из седла. Сверкающая фигура в золотом плаще мелькнула в воздухе и грохнулась о землю. Иддор тщетно пытался встать на ноги, а его конь с пронзительным ржанием все пятился, таща его за собой. Мы так и застыли на ступенях крыльца. Грай и Шетар тут же подошли ближе к нам; а потом и Оррек вышел из дома и, спустившись с крыльца, присоединился к нам.
Жрецы тоже сомкнули свои ряды, окружив Иддора; кто-то, поспешно спрыгнув с седла, помог ему подняться и высвободить ноги из стремян. И над всей этой нелепой возней снова громко и отчетливо прозвучал голос Лорда-Хранителя:
— Воины Асудара! Храбрые воины ганда Иораттха! Ваш предводитель пленен и силой удерживается в темнице. Готовы ли вы дать ему свободу?
И после недолгой паузы столь же громко и отчетливо заговорил Оррек:
— Жители Ансула! Увидим ли мы, как вершится правосудие? Выпустим ли на свободу пленного и его рабов? Возьмем ли свою свободу в собственные руки?
После этих слов толпа оглушительно загудела и ринулась по улице к Дому Совета, грозно скандируя: «Леро! Леро! Леро!» — и обтекая конных альдов, как море — скалы. А тот офицер все что-то выкрикивал, и его командам коротко вторила труба. Постепенно всадники развернулись и — кто группой, а кто поодиночке — попытались было пробиться сквозь толпу, но воссоединиться им не дали. Толпа несла их, и они плыли вместе с нею, как бы внутри ее, по улице Галва к Дому Совета.
«Красным шапкам» удалось наконец воздвигнуть Иддора на коня. Сердито покрикивая друг на друга, они последовали за толпой. Никто из отряда сопровождения ждать их не стал.
Оррек что-то быстро сказал Грай и присоединился к группе Пера Актамо и к тем людям, которые пришли к нам первыми, чтобы защищать наш дом.
— Следуйте за ними! — приказал им Лорд-Хранитель, и небольшой отряд горожан с Орреком во главе устремился следом за Иддором и жрецами.
Но улицу Галва покинули далеко не все. Довольно много людей осталось и на улице, и в переднем дворе; больше всего было женщин и стариков. Все они, похоже, вдруг почувствовали себя измотанными до предела; кроме того, их, видимо, до глубины души потрясло то, что мертвый фонтан вдруг ожил. А Лорд-Хранитель сошел с широкой ступеньки крыльца, подошел, сильно прихрамывая, к фонтану и неловко присел на широкий бортик.
Сейчас он опять стал таким, каким я знала его всегда, — не высоким и стройным, а хромым и согбенным, — и все же он был и остался моим повелителем, хранителем души моей.
Он смотрел на струю воды, пляшущую в утренних лучах солнца, уже пробившегося из-за угла все еще темного дома, и на лице его поблескивали то ли брызги, то ли слезы. Потом он протянул руку и ласково коснулся ладонью воды, которая все продолжала подниматься в просторной каменной чаше бассейна. И я, стоя рядом, услышала, как он шепотом благодарит Леро и Хозяина Всех Вод и Источников, снова и снова повторяя слова благодарности. Люди постепенно, хотя сперва и довольно робко, стали подходить ближе и вскоре сгрудились у краев бассейна; они тоже с благоговением касались воды, глядя на пляшущую струю, и благословляли богов Ансула.
Ко мне подошла Грай; теперь она держала Шетар на коротком поводке и часто клала ей на голову руку; львица все еще рычала и нервно зевала — она была страшно возбуждена, ее раздражали весь этот шум и жуткое столпотворение. Я поняла, что именно поэтому Грай и не пыталась последовать за Орреком, хотя ей наверняка очень этого хотелось. И я сказала:
— Грай, я могу подержать Шетар и побыть с ней.
— Тебе надо идти, — возразила она.
Я покачала головой.
— Нет, я останусь здесь. — Эти слова исходили из моего сердца, и я произнесла их своим собственным голосом, а потому даже улыбнулась от радости.
Я глаз не могла оторвать от струи воды, теперь высоко взлетавшей над бронзовым раструбом фонтана и превращавшейся наверху в огромный, сверкающий серебром цветок. Эти серебристые брызги и шум воды были поистине восхитительны. Я присела на широкий зеленый бортик бассейна и сделала то же, что и Лорд-Хранитель: благодарственно коснулась ладонями воды, потом опустила их глубже и наклонилась, позволив брызгам лететь мне в лицо, а потом от души воздала хвалу всем богам, духам и теням моего дома и моего родного города.
Из-за угла показался Гудит с вилами в руках и вдруг замер как вкопанный. Оглядев притихших, рассыпавшихся по двору людей, он с недоверием спросил:
— Значит, они ушли?
— Да, во дворец… точнее, в Дом Совета, — откликнулась Грай.
— Что ж, так и должно было быть, это же ясно как день, — пробормотал старик и снова побрел назад, к конюшням, но вдруг опять остановился, оглянулся и ошеломленно уставился на фонтан. — Всемилостивая Энну! — только и сумел вымолвить он. — Вода-то снова течет! — Он задумчиво поскреб щеку, еще немного полюбовался ожившим фонтаном и вернулся к своим лошадям.
Глава 13
Мне известно о том, что происходило в Доме Совета, только со слов Оррека и Пера Актамо. Отряд жрецов, плотным кольцом окружая Иддора, прокладывал себе путь сквозь толпу, собравшуюся на улице Галва, и Оррек с Пером как-то ухитрились пристроиться следом за ними. Когда они выбрались на площадь Совета, охранявшие ее солдаты закричали: «Дорогу ганду Иддору!» — и стали разгонять людей, но Иддор и «красные шапки» ждать не стали и двинулись за стражниками, стараясь за ними поспеть, ибо под их натиском толпа расступалась сама. Сперва Орреку даже показалось, что они направляются к мосту Исма, чтобы сбежать из города, однако они всего лишь обогнули Дом Совета и устремились к задним воротам, находившимся прямо над казармами. Каменную стену в четыре фута высотой, окружавшую задний двор, охраняли солдаты. Иддор что-то резко им приказал, и они тут же открыли ворота, куда галопом устремился весь отряд.
Однако следом за ними в ворота влилась и целая толпа горожан, успевших присоединиться к Перу и Орреку. Стражники, естественно, пытались им воспрепятствовать, но людей было уже не остановить; они проталкивались в открытые ворота, лезли через стену и сами нападали на солдат. Иддор и его «красные шапки», с трудом выбравшись из гущи схватки, соскочили с коней и бросились прямиком к задней двери Дома Совета. Оррек и Пер, впрочем, от них не отставали, с трудом пробиваясь сквозь разъяренную толпу, «как сквозь хвост кометы», по словам Оррека.
Они и сами не успели заметить, как оказались уже внутри Дома Совета, по-прежнему следуя по пятам за Иддором и жрецами, которые так стремились куда-то поскорее попасть, что даже внимания на своих преследователей не обратили. Миновав просторный вестибюль, они бросились вниз по лестнице в какой-то коридор, находившийся в подвальном этаже и весьма слабо освещенный. Свет падал лишь из маленьких окошек, расположенных под потолком, почти на уровне земли. Коридор этот привел их в просторное караульное помещение с низким потолком. Там жрецы и Иддор вдруг остановились и принялись громко вразнобой командовать, так что невозможно было понять, кому именно они отдают приказы — то ли стражникам, то ли тем, кто на площади пытается сдержать мятежников, то ли самим мятежникам. Оррек сказал, что некоторое время в караулке стоял сплошной ор; альды, точно обезумев, орали на альдов, и никто ничего не мог понять. Они с Пером, стараясь не попадаться орущим альдам на глаза, осторожно выбрались в коридор, остановились у самых дверей и стали слушать.
Жрецы в красных шапках и группа офицеров-альдов яростно спорили; офицеры требовали предъявить им ганда Иораттха, а жрецы утверждали: «Ганд мертв! Вы не имеете права нарушать покой умершего!» Жрецы толпились у выхода, закрывая его собой. Иддора среди них почти не было видно. Он давно уже сбросил с себя и роскошную шляпу, и золотой плащ. Потом какой-то жрец стал наступать на офицеров; в своей высокой красной шапке и красных одеждах он выглядел весьма внушительно, особенно когда, воздев руки, крикнул, что, если они не разойдутся, он проклянет их именем Аттха. И воины испуганно от него отпрянули.
И в тот же миг, заслонив собой жреца, вперед выбежал Оррек и крикнул: «Иораттх жив! Жив! Он находится здесь! Пусть жрецы откроют двери его темницы!» Во всяком случае, так рассказывал об этом Пер Актамо. Сам же Оррек помнил только, что пытался сообщить воинам, что Иораттх жив. Офицеры тоже стали кричать: «Немедленно откройте двери темницы!» — и Оррек, по его словам, «попятился, спеша снова выбраться в коридор», потому что в воздухе замелькали мечи и кинжалы. Солдаты пошли на жрецов и отогнали их от дверей в дальний коридор. А потом какой-то офицер направился прямо к темнице и, открутив болты, настежь распахнул ее двери.
В камере было совершенно темно, там не горел ни один светильник. Лишь у входа висел фонарь, и вдруг в мерцающем свете этого фонаря из темноты возник призрак в белых одеждах.
Потом стало ясно, что платье на «призраке» не белое, а полосатое — одежда рабыни, рваная, перепачканная кровью. Лицо загадочного существа покрывали синяки и кровоподтеки; один глаз совершенно заплыл; волосы исчезли под черной коркой запекшейся крови — их, похоже, выдирали клочками. В руках существо сжимало сломанный кол. Оно стояло в дверях темницы, дрожа и покачиваясь, как «пламя свечи на ветру», — во всяком случае, так выразился Оррек.
Лицо «призрака» несколько переменилось, когда он увидел Пера Актамо, стоявшего рядом с Орреком.
— Братец… — прошептал «призрак».
— Госпожа Тирио! Неужели это ты? — воскликнул Пер. — Мы здесь, чтобы выпустить на свободу ганда Иораттха.
— Тогда входите, — пригласила она, и Оррека поразил ее тон: она приглашала их войти так же любезно, как если бы принимала у себя в доме желанных гостей.
Борьба в коридоре между тем стала более ожесточенной, но через некоторое время стихла. Кто-то принес из караульного помещения лампу поярче, и офицеры вошли в темницу. Пер и Оррек последовали за ними. По стенам этой большой комнаты с низким потолком и земляным полом метались страшноватые тени; в ней стоял какой-то тяжелый сырой запах. Иораттх лежал на длинной широкой лавке, больше похожей на стол, и был скован цепями по рукам и ногам. Его волосы и одежда сильно обгорели и почернели; обнаженные голени и ступни покрывала жуткая кровавая корка. Приподняв голову, он сказал скрипучим голосом, похожим на скрежет металлической щетки по бронзе: «Снимите с меня эти цепи!»
Пока офицеры снимали с него оковы, он успел заметить Оррека и с удивлением спросил:
— А ты как сюда попал, поэт?
— Следом за твоим сыном, — ответил Оррек.
На это Иораттх ничего не ответил, лишь гневно повел глазами и прохрипел, ибо глотка его тоже была обожжена:
— Где же он? Где?
Оррек, Пер и офицеры растерянно озирались. Потом кто-то сбегал в караулку и выяснил, что солдаты успели схватить лишь четырех жрецов, остальные исчезли. И вместе с ними Иддор.
— Господин мой, — сказал ганду один из офицеров, — мы непременно его найдем. Но если бы ты сейчас… Если бы ты сейчас смог предстать перед войсками, господин мой! Ведь люди считают, что ты умер…
— Ну так поторопитесь! — прорычал Иораттх.
И Оррек заметил, что, как только они освободили от цепей его руки, он тут же вцепился в ту женщину в полосатом платье, что молча стояла с ним рядом.
Потом ганду освободили ноги, и он попытался встать, но оказался не в силах, выругался и снова рухнул на скамью, но руки Тирио Актамо так и не выпустил. Офицеры обступили своего ганда, собираясь нести его на руках.
— Вместе с нею, — нетерпеливо заявил он, указывая на Тирио. — А они пусть идут рядом! — И он ткнул пальцем в Оррека и Пера.
Так что они все вместе поднялись по лестнице на верхнюю галерею, которая опоясывает Зал Совета и выходит на просторный балкон над парадным входом, весь залитый солнцем. Отсюда ораторы обычно обращались к горожанам, собравшимся на площади Совета.
С балкона было видно, что вся обширная площадь заполнена людьми, но люди все подходили и подходили, тянулись на площадь по всем улицам и переулкам. Такого огромного скопления народа Орреку еще видеть не приходилось; горожан уже собралось, наверное, в тысячу раз больше, чем альдов.
Когда Иддор, которого альды уже считали своим новым повелителем и главнокомандующим, проскакал мимо них во дворец, даже не махнув им рукой и не подав никакого знака, солдаты растерялись и стали прислушиваться к тому, что говорят в толпе. Узнав, что ганд Иораттх, оказывается, жив, они окончательно перестали понимать, что происходит. Ряды их были сломлены; они уже не знали, кому служить; одни обвиняли других в предательстве Иораттха, а те, наоборот, твердили о том, что нельзя предавать нового ганда Иддора. Теперь горожане, вооруженные чем придется, без труда прорвались на площадь, однако еще до начала схватки офицеры сообразили, что противник значительно превосходит их численностью, быстро построили солдат и приказали им немедленно покинуть площадь. После этого большая часть альдов собралась у входа в Дом Совета, на выложенной мраморными плитами площадке, образовав плотный полукруг. Воины в голубых плащах стояли лицом к толпе с обнаженными мечами в руках; они не угрожали, но и отступать явно не собирались.
Впрочем, возбужденная толпа, как ни странно, наступать не спешила, так что между ее передними рядами и стоявшими полукругом альдами даже образовалось свободное пространство — полоска «ничьей» земли.
— В воздухе висел жуткий запах гари, — рассказывал Оррек. — Ужасная вонь! Просто дышать было нечем! К тому же толпа поднимала ногами мелкую черную пыль, смешанную с хлопьями сажи и пеплом. Я невольно обратил внимание на какой-то странный предмет, возвышавшийся над тревожно гудевшей и копошившейся толпой; он был похож на нос корабля, истерзанного бурей и затонувшего. Лишь через некоторое время я догадался, что это останки большого шатра, с остова которого свисают обгоревшие клочья ткани. А еще в этом людском море постоянно образовывались некие водовороты — в тех местах, где лежали люди, убитые, раненные или затоптанные во время прорыва на площадь, и одни люди спешили поскорее пройти мимо, а другие останавливались и старались как-то защитить лежавших. И шум стоял ужасающий! Я и не знал, что человеческие существа способны издавать такие звуки. Это был какой-то немыслимый неумолчный рев или вой…
В общем, решив, что не сможет заставить себя пойти дальше, Оррек остановился, глядя на беснующуюся толпу. Голова у него шла кругом, душу начинала охватывать паника. Офицеры, стоявшие рядом, тоже явно были испуганы и чувствовали себя весьма неуверенно, но бросать своего ганда не собирались. Только все время кричали: «Смотрите! Это ганд Иораттх! Он жив!»
И солдаты, стоявшие внизу, стали оборачиваться и кричать, увидев ганда: «Он жив! Жив!»
А Иораттх все сердился и твердил несшим его офицерам: «Да отпустите же меня, наконец!» В итоге те подчинились, и ганд, крепко опершись одной рукой о плечо одного из офицеров, а второй — о плечо Тирио, сумел сделать пару шагов и выйти вперед, хотя лицо его при этом исказилось от боли. Повернувшись к толпе, он слушал приветственный рев своего войска, на какое-то время заглушивший даже рев толпы. Вскоре, впрочем, толпа зашумела с новой силой, выкрикивая: «Смерть тирану! — Смерть альдам!», и голоса самих альдов совершенно потонули в этом шуме.
Иораттх поднял руку. И столь велик был авторитет этого человека, едва стоявшего на ногах, оборванного, обожженного, дрожавшего от слабости, что над площадью тут же повисла мертвая тишина.
— Воины Асудара! Жители Ансула! — обратился он к собравшимся на площади, но поврежденное в дыму и огне горло подвело его, и слова эти прозвучали слишком тихо. Люди в дальних рядах не могли его расслышать. Один из офицеров шагнул было вперед, но Иораттх приказал ему вернуться на место. — Пусть лучше скажет он! — И ганд указал на Оррека, жестом приглашая его выйти вперед. — Его они слушать будут! Поговори с ними, поэт. Успокой их.
Увидев Оррека, толпа взревела с новой силой. Люди выкрикивали: «Леро! Леро! Свобода!» — и Оррек тихо сказал Иораттху:
— Я буду говорить только как представитель народа Ансула.
Ганд кивнул и нетерпеливо отмахнулся.
Тогда Оррек поднял руку, призывая людей к молчанию, и над огромной толпой повисла тишина, исполненная все же гнева и недовольства.
Нам Оррек сказал, что в эту минуту понятия не имел, что именно скажет и какие выберет слова; он и потом своей речи толком не сумел вспомнить. Зато другие хорошо ее запомнили и чуть позже записали. Вот примерно как она выглядит в одной из таких записей:
«Жители Ансула, мы своими глазами видели, как ожил давно пересохший источник, как вновь забила вода в Фонтане Оракула. Мы слышали, как заговорил давно молчавший голос. Оракул призывал нас дать свободу. И мы поступили, как он велел: мы дали свободу и хозяину, и рабу. И пусть жители Ансула знают: у них нет никаких рабов; пусть они знают, что у них нет никаких хозяев. Пусть альды блюдут мир, тогда и Ансул будет поддерживать с ними мирные отношения. Пусть они ищут с нами не войны, а сотрудничества, и мы станем с ними сотрудничать, станем их союзниками. И в качестве живого свидетельства, живого символа того, что подобные мирные отношения и подобное сотрудничество возможны, представляю вам Тирио Актамо, уроженку и жительницу Ансула, жену ганда Иораттха!»
Если слова Оррека и застали ганда врасплох, то на его избитом, истерзанном, грязном лице эта растерянность никак не отразилась. Он безупречно владел собой, хотя, по сути дела, едва держался на ногах, опираясь на плечо Тирио. Он продолжал стоять с нею рядом и когда она обратилась к толпе. Голос ее, чистый, звонкий, полный мужества, был все же так хрупок, что, казалось, вот-вот сорвется, и люди на площади совсем притихли, слушая ее, хотя с близлежащих улиц по-прежнему доносился неумолчный, хриплый рев.
— Я готова вновь и вновь благословлять богов Ансула, если они одарят нас долгожданным миром, — сказала Тирио. — Это наш город, так давайте же управлять им так, как управляли всегда, — мирно и в соответствии с нашими законами! Давайте вновь станем свободными людьми! И тогда наши боги — Леро, Энну, Глухой бог и все остальные — нас не оставят!
И вслед за ее словами где-то в толпе вновь нараспев зазвучало «Леро! Леро!» — а потом вперед вышел какой-то человек и крикнул ганду и окружавшим его офицерам:
— Верните нам наш город! И Дом Совета!
Свидетели его выступления вспоминали потом, что это был, пожалуй, самый опасный момент: если после этих слов толпа ринулась бы вперед, все сметая на своем пути в стремлении немедленно захватить Дом Совета, столкновение с альдами стало бы неминуемым, а их воины, как известно, сражаются до последней капли крови. Побоище предотвратил не кто иной, как Иораттх. Он хриплым шепотом что-то говорил своим офицерам, а те уже в полный голос выкрикивали его приказы, которые тут же подкреплялись призывными звуками труб. Всех солдат стали поспешно выводить из Дома Совета на свободное пространство у его восточной стены, а парадное крыльцо, к которому уже вплотную подступила обезумевшая толпа, полностью освободили. По словам Оррека, всех спасла именно дисциплинированность альдов — причем спасла не только самих альдов, но и сотни мирных жителей, которые, несомненно, погибли бы, если бы столкновение все же произошло. Ганд, правда, сразу приказал своим воинам опустить оружие, и после этого ни один солдат действительно меча не поднял, даже если его толкали и били возбужденные горожане, полные жажды мщения.
Чтобы не оказаться смятыми толпой, Оррек и Пер Актамо все это время оставались с теми офицерами, которые, вновь подхватив ганда на руки, бегом перенесли его в восточную часть площади, где уже строилось войско. Тирио, Пер и Оррек последовали за ними. Для Иораттха где-то разыскали носилки. Но как только его на них уложили, он тут же призвал к себе Оррека и шепнул ему:
— Отлично сказано, поэт! — Он сделал какое-то слабое движение рукой, точно пытаясь отдать честь, а потом прибавил: — Только я, к сожалению, не уполномочен заключать союз с Ансулом.
— А хорошо бы тебе получить такие полномочия, господин мой, — промолвила Тирио Актамо своим серебристым голоском.
Старый ганд поднял на нее глаза. Он явно впервые сумел как следует разглядеть, какими кровоподтеками и ссадинами покрыто ее лицо, как страшно заплыл поврежденный глаз и какое жуткое зрелище представляет собой ее голова — особенно в тех местах, где волосы у нее вырывали клоками. Это настолько его потрясло, что он сел, гневно сверкая глазами, и потрясенно прошептал, хотя, видимо, ему больше всего хотелось закричать:
— О, проклятый… проклятый предатель! Пусть Аттх покарает его смертью! Где он?
Офицеры молча переглянулись.
— Отыскать его! Немедленно! — прошипел Иораттх и закашлялся.
Тирио Актамо опустилась возле носилок на колени и, нежно сжимая руки ганда, прошептала:
— Иораттх, ты должен успокоиться. Лежи тихо.
Он засмеялся, не переставая кашлять, прижал к себе ее руку и, глядя на Оррека, сказал:
— Ну что, поженил нас, да?
Нам казалось, что Оррек слишком долго не возвращается с площади Совета, а на самом деле всего лишь чуть перевалило за полдень. Просто тот день, с самого утра чрезвычайно насыщенный событиями, тянулся, как год.
Лорд-Хранитель, вняв моим настойчивым уговорам, все же согласился немного поесть и передохнуть, а потом снова вернулся в большой зал, занимавший
почти всю переднюю часть дома. На моей памяти этим залом вообще никогда не пользовались — там не было ни мебели, ни занавесок. Теперь же его двери, широченные парадные двери Галваманда, были распахнуты настежь, и Лорд-Хранитель обратился ко всем с просьбой раздобыть и принести туда любые сиденья — стулья или скамьи. Желающих сделать это нашлось немало; мебель принесли не только из соседних комнат, но и из соседних домов. И теперь Лорд-Хранитель почти не выходил оттуда, принимая всех, кто к нему обращался.
А приходили к нам десятки, сотни людей. Многим хотелось просто послушать, как поет струя воды в Фонтане Оракула, и поговорить с теми, кто собственными ушами слышал голос оракула, и узнать, что именно он сказал. Я, собственно, и сама только тогда узнала, что люди слышали далеко не одно и то же; да и в рассказах об этом слова, сказанные оракулом, постоянно менялись. Немало людей хотели также увидеть знаменитого Галву-Читателя, поздороваться с ним и посоветоваться. Это был в основном простой трудовой люд. Но приходили также и бывшие купцы, бывшие члены городского магистрата, бывшие префекты, бывшие члены Совета. Одеты все были бедно — все мы были тогда очень бедны, — и по одежде вряд ли кто-то отличил бы сапожника от купца или шкипера. Некоторые простые трудяги приходили только для того, чтобы благословить богов нашего дома, затем почтительно поздороваться с Читателем предсказаний и тут же снова уйти, а другие оставались и сидели рядом с мэрами и советниками, представителями знатных Домов, с достоинством беседуя о том, что происходит, и не стесняясь высказывать собственное мнение насчет того, что можно и нужно сделать. Так я впервые поняла, что значит быть гражданином Ансула и что значит быть Главным Хранителем Дорог.
Я постоянно оставалась рядом с Лордом-Хранителем, чтобы быть у него под рукой в случае необходимости, а также потому, что он сам попросил меня об этом. Но приходилось мне нелегко: люди смотрели на меня с почтением и каким-то благоговейным ужасом, а некоторые даже пытались мне поклониться. Я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке, ровным счетом ничего умного сказать не могла и вообще не знала, что кому нужно говорить. Впрочем, для разговоров у них был Лорд-Хранитель. К тому же мне довольно часто приходилось бегать на кухню, чтобы хоть немного помочь Исте, которая совсем потеряла голову от волнения, но все же радовалась, что наш дом наконец-то вновь полон людей.
— Как в добрые старые времена! — все повторяла она и тут же сокрушалась: — Вот только еды у нас маловато — гостям предложить нечего. Да что там, я даже простой воды им предложить не могу — у меня чашек и стаканов на всех не хватает! — И слезы ярости и горькой обиды вскипали у нее на глазах.
— А ты займи, — предложила ей Боми.
— Нет, как это — займи! — возмутилась Иста, но я поддержала Боми:
— А почему бы и нет? — И Боми стрелой помчалась одалживать у соседей чашки и стаканы.
А я вернулась в зал приемов и поговорила с Эннуло Кам, женой Сулсема Кама, который приходил к нам прошлой ночью — а казалось, в прошлом году! — и теперь пришел снова вместе с женой и сыном. Пока Сулсем беседовал с Лордом-Хранителем, я быстренько объяснила его жене, чего нам не хватает, и несколько мальчишек из Камманда тут же притащили с полсотни тяжелых стеклянных кубков, передали их Исте и сказали, как им было велено: «Это дар нашего дома благословенному Дому Источника». На это Иста уж никак не могла обижаться, но все же нахмурилась. С этого момента она прямо-таки изводила Боми и Состу, заставляя их подавать каждому новому гостю свежей воды и без конца мыть бокалы. Ей, конечно, по-прежнему хотелось предложить и какое-нибудь более существенное угощение, но до такой степени попрошайничать мне не представлялось возможным, и я сказала ей, что люди приходят к нам поговорить, а не поесть. Иста опять нахмурилась, закусила губу и отвернулась. И до меня вдруг дошло, что я ведь, по сути дела, приказала ей и она этот приказ смиренно приняла.
Я подошла к ней и крепко ее обняла. Она-то давно уж меня не обнимала и не тискала, но она вообще к подобным нежностям склонности не имела.
— Ты моя вторая мать, — сказала я ей. — Не мучься понапрасну! Лучше радуйся вместе с духами и тенями нашего дома, что у нас так много гостей, которым и не нужно никакого другого угощения, кроме воды из Фонтана Оракула.
— Ах, Мемер! Я просто не знаю, что и думать! — Иста высвободилась из моих объятий и ласково потрепала меня по плечу.
В тот день никто из нас не знал, что и думать.
Когда же наконец домой вернулся Оррек, то он действительно напоминал комету, хвостом которой был людской поток, следовавший за ним с самой площади Совета. Оррек, безусловно, стал героем Ансула! Влетев во двор, он остановился у Фонтана Оракула и стал смотреть на неутомимо бьющую серебристую струю воды с таким же веселым изумлением, какое я уже видела на стольких лицах. Грай выбежала ему навстречу, заперев Шетар в Хозяйских Покоях (где львица, по словам Грай, «теперь сидит и на всех дуется», от негодования разрывая на кусочки старенький потрепанный ковер). Оррек и Грай долго стояли, обнявшись, прежде чем подняться на крыльцо дома и войти в зал приемов.
Толпа хлынула за ними следом. Поздоровавшись с Лордом-Хранителем, Оррек рассказал все то, что вы уже прочли в моем изложении. Отчасти о том, что произошло в Доме Совета, мы уже знали от других людей, которые без конца приходили в Галваманд, а потом снова уходили на площадь. Но рассказ Оррека о преследовании Иддора и жрецов и о том, как они с Пером обнаружили в одной из темниц Иораттха и Тирио, оказался для нас полной неожиданностью, как и известие об исчезновении Иддора.
Если сам Оррек и не сумел повторить перед нами все то, что сказал тогда на ступенях Дома Совета, обращаясь к огромной толпе, зато это легко могли за него сделать другие.
— Он им сказал: «Пусть умоляют нас о заключении с ними мирного договора, и тогда мы его с ними заключим!» — выкрикнул какой-то старик, перекрывая все прочие голоса. — Клянусь бороной Сампы! Да-да, пусть они нас умоляют! Пусть ползают на коленях! А мы еще подумаем, заключать с ними союз или нет!
Кстати сказать, таково было мнение большинства в тот день: яростно-веселые, воинственно настроенные люди с трудом сдерживали жажду мщения.
Иораттх приказал своим воинам убраться с улиц и оставаться исключительно на территории казарм, расположенных у Дома Совета с южной и восточной стороны. Эту территорию альды окружили плотной цепью стражников. Желая получить доступ к конюшням Дома Совета, где стояли их кони, а также находилось некоторое количество их людей, они попытались организовать некое подобие коридора, ведущего от казарм к конюшням, но эта попытка не удалась. Толпа на площади тут же озверела; в альдов полетели камни; и ганд приказал всем оставаться на прежних местах — кому в казармах, а кому в конюшнях.
Альды весьма старательно избегали любых провокаций, но и страха никакого не выказывали. Их положение запросто могло превратиться в осадное, если уже не превратилось. Ведь если бы горожане, окончательно забыв привычный страх, поняли, что ненавистные завоеватели, так долго ими правившие, во-первых, полностью зависят от них — хотя бы в плане снабжения провизией и водой, — а во-вторых, значительно уступают им в численности! Альды и впрямь умелые, прекрасно вооруженные воины, однако же если запрет на вооруженное сопротивление, наложенный Иораттхом, будет ошибочно принят горожанами за слабость, трусость или просто нежелание сражаться, то резни, вполне возможно, не избежать.
Об этом немало говорили и у нас в доме. Многие из тех, кто приходил к Лорду-Хранителю, вспоминали Дезака и его группу, его план восстания и то, почему этот план оказался ошибочным. Тот беглец, которого мы тогда спрятали у себя, Кадер Антро, тоже постоянно участвовал в разговорах, и рассказанная им история была полностью подтверждена и дополнена другими. Роль поджигателей исполнили бывшие граждане Ансула, превращенные альдами в рабов. Этих людей придворные использовали в качестве дворцовых слуг. Начнем с того, что, собственно, идея поджечь большой шатер одному из этих слуг и принадлежала. Они тайком пропустили в шатер других заговорщиков, одетых как рабы, но вооруженных, и вместе с ними все подготовили, рассчитывая, что пожар начнется одновременно в нескольких местах. А когда шатер вспыхнет сразу со всех сторон, Дезак со своими вооруженными помощниками ворвется на площадь и нападет на стражу. Все это должно было совпасть со временем вечернего богослужения, когда Иддор, Иораттх и большинство офицеров и придворных находятся в шатре. Всем им уготована была страшная участь — сгореть заживо.
Но поскольку Иддору хотелось помешать выступлению Оррека, жрецы начали богослужение раньше обычного. Заговорщикам пришлось все менять на ходу, и оповестить всех они не успели. Пожар вспыхнул, когда церемония уже подходила к концу. Иораттх, правда, опоздал и все еще находился в шатре — молился; а вот Иддор и жрецы шатер уже покинули. Огонь распространялся с ужасающей скоростью, и мятежники, что пришли вместе с Дезаком, бросились на альдов, но те мгновенно сориентировались и нанесли ответный удар; к тому же они, казалось, ничуть не боялись огня, ибо для них огонь — это вожделенные объятия Испепеляющего бога. Во время ожесточенной схватки, в дыму и неразберихе, никто, кроме Иддора и жрецов, похоже, и не заметил, что Иораттху удалось, шатаясь, выбраться из пламени. Предатели, разумеется, тут же скрутили его и поволокли в темницу, а солдаты были заняты тем, что загоняли мятежников, пытавшихся бежать или сопротивляться, прямо в адское пекло. И многие сгорели там заживо. В том числе и Дезак.
А я все представляла себе ту жуткую черную пыль, смешанную с хлопьями сажи и поднятую в воздух ногами обезумевших людей, о которой рассказывал Оррек.
Услышав все эти подробности, собравшиеся довольно долго молчали. Потом кто-то спросил:
— Значит, Иддор решил воспользоваться ситуацией, понимая, что старый ганд, можно сказать, почти что умер?
— Вот только зачем он его в темницу-то посадил? — послышался другой вопрос. — Почему сразу не прикончил?
— Ну, все-таки отец!
— А разве это для альда что-то значит?
Я вспомнила вдруг, как гордился своим отцом Симме. Да он даже конем отцовским и то гордился!
А собравшиеся все продолжали рассуждать вслух:
— Он явно хотел отомстить старику. Небось все семнадцать лет только этого и ждал!
— И не только старику, но и его ансульской любовнице!
— Ну да, решил растянуть удовольствие и замучить их до смерти.
После этих слов воцарилось неловкое молчание. Люди, пряча глаза, искоса поглядывали на Лорда-Хранителя.
— А где же он теперь-то? Куда он делся, этот Иддор со своими «красными шапками»? — спросила какая-то женщина. В Ансуле жрецов ненавидели куда сильнее, чем солдат. — Ничего, небось не спрячется, отыщут его! Уж этим-то живыми из нашего города не уйти.
Она была права. Весть о том, что Иддора и жрецов схватили, донеслась до нас уже к вечеру. Все новости мгновенно передавались из уст в уста, и к нам то и дело прибегали и приходили люди, запыленные, возбужденные, измученные, но готовые немедленно поделиться тем, что узнали на площади Совета. Когда горожане лавиной ринулись в Дом Совета, желая немедленно вернуть его городу, они выбрасывали оттуда все, что осталось от квартировавших там альдских придворных и военачальников, и в итоге, обыскивая одну комнату за другой, люди наткнулись на Иддора и троих жрецов, спрятавшихся в маленьком чердачном помещении под самым куполом. Их тут же отвели вниз и заперли в подвале, в той самой пыточной камере, где целую ночь провели Иораттх и Тирио и где Султера Галву более года подвергали непереносимым мучениям.
Узнав об этом, мы испытали огромное облегчение. Слишком долго все страдали из-за нелепой убежденности Иддора в том, что именно он послан Аттхом, чтобы очистить Ансул от злокозненных демонов и положить конец всякому злу, и теперь нам казалось, что, после того как Иддора поймали, посадили в тюрьму и унизили, власть этих убеждений окончательно сломлена. Тот враг, с которым нам предстояло иметь дело, был еще жив, но это был самый обычный человек, а не какой-то безумный бог.
Нас также порадовала весть о том, что толпа горожан, ворвавшись в Дом Совета и отыскав там Иддора и жрецов, не разорвала их тут же на куски, а заперла в темнице, дабы они могли предстать перед справедливым судом — не важно, нашим или асударским.
— Мы, похоже, обошлись с этим Иддором даже лучше, чем обошелся бы с ним его отец, — заметил Сулсем Кам.
— Да уж, вряд ли Иораттх проявил бы к нему какую-то особую снисходительность, — криво усмехнулся Оррек.
— Пожалуй, твоя госпожа Грай и ее лев и то обращались бы с ним нежнее, — подхватил Пер Актамо, который и здесь оказался рядом с Орреком, помогая ему снова и снова рассказывать о пережитых ими обоими приключениях тем, кто только пришел и жаждал все услышать из первых уст. — Между прочим, началом конца Иддора было как раз то, что он при виде женщины со львом дрогнул и отступил, и все это видели. Где твоя львица, госпожа Грай? Ей бы следовало быть здесь, чтобы мы могли от всей души поблагодарить ее!
— Шетар пребывает сейчас в крайне дурном настроении, — сказала Грай. — Сегодня она должна, во-первых, поститься, а во-вторых, мне пришлось ее запереть. Боюсь, она уже съела часть ковра на полу.
— Устрой-ка ей лучше пир, а не пост! — воскликнул Пер, и люди вокруг засмеялись и стали кричать, чтоб позвали льва, который «оказался единственным из альдов, кто действительно был на нашей стороне!». В общем, Грай пришлось пойти и привести Шетар, которая действительно была настроена весьма мрачно. Она явно не оценила купания в каналах и плавания на утлой лодчонке прошлой ночью, а продолжавшийся в течение всего утра шум возле дома окончательно вывел ее из себя. Кроме того, львица отлично чувствовала царившую в городе напряженность и, как и все кошки, сугубо отрицательно относилась к разным громким звукам, шумам и возбужденным выкрикам, а потому вошла в зал, негромко ворча и гневно сверкая желтыми глазищами. Все тут же расступились, давая ей дорогу. Грай подвела ее к Лорду-Хранителю и заставила поклониться. Львица, вытянув передние лапы, исполнила свой коронный номер, и люди сразу развеселились и принялись громко ее хвалить. В итоге Шетар пришлось поклониться еще и Орреку, потом Перу, потом какому-то трехлетнему малышу, который пришел сюда с родителями; но, как ни странно, в результате львица даже слегка повеселела — ведь за каждый поклон она получала что-нибудь вкусное.
Близилась ночь, и большой зал постепенно окутали сумерки. Иста вместе с Иалбой, верной служанкой Тирио Актамо, принесшей нам на рассвете такие важные вести, зажгли светильники. От Исты я знала, что раньше это всегда служило знаком для гостей: пора, мол, и честь знать. Похоже, сегодня люди снова вспомнили прежние обычаи и привычки и один за другим стали вставать и, попрощавшись с Лордом-Хранителем, расходиться по домам. Затем они вежливо раскланивались с Орреком, Грай и со мной, а на пороге дома благословляли души и тени наших предков. Проходя мимо бьющего в вечернее небо фонтана, они благословляли Хозяина Всех Вод и Источников и в воротах низко наклонялись и почтительно касались священного камня.
Глава 14
Лежа в ту ночь в постели, я вновь и вновь переживала про себя весь этот долгий день, и мне казалось, что сон столь же далек от меня, как луна. Я снова видела, как Грай и ее львица стоят в окружении солдат перед жрецами и человеком в золотом плаще; как пляшет на солнце струя воды в ожившем фонтане; как Лорд-Хранитель легко, ничуть не хромая, сбегает по ступеням крыльца и останавливается внизу, рядом со мною; как он подносит к лицу Иддора раскрытую книгу. И в ушах моих опять звучал тот странный, проникающий в самую душу голос, который требовал: «Пусть они дадут свободу!..» И этот крик, эхом отзываясь в моей душе, сливался с другими словами, которые то ли выкрикнула я сама, то ли моими устами произнес кто-то неведомый: «Обломки одного восстанавливают целостность другого». И мне вдруг показалось, что я начинаю понимать смысл этих слов…
Но передо мной сразу возникла новая загадка: я вспомнила, что, когда вместе с Орреком и остальными вышла на крыльцо, Лорд-Хранитель ушел в дальнюю часть дома, в тайную комнату. Казалось, он пребывает в полном отчаянии, ищет, где бы укрыться, однако он скоро вернулся, так что у него наверняка было слишком мало времени, чтобы пройти туда, в темноту, в пещеру оракула. Скорее всего, он просто прошел в дальний конец комнаты, взял с полки ту книгу и сразу поспешил назад — ведь для него путь по длинным коридорам и внутренним дворикам нашего огромного дома был достаточно сложен. А когда он после этого подошел к Иддору, то выглядел уже не хромым калекой со сломленной волей, а полноценным человеком, здоровым и красивым. На несколько мгновений он стал прежним Лордом-Хранителем — но мгновения эти оказались столь кратки! И все же столь необходимы всем!
Задавал ли он оракулу вопросы? Понял ли, что сказала книга? И кстати, что это за книга была у него в руках?
Я-то видела всего лишь какую-то маленькую книжку. И не сумела разглядеть, что в ней написано. Да я и страниц-то ее не разглядела. И безусловно, никогда ее не читала, да и не могла читать. И разумеется, тот проникающий в душу голос исходил из книги, а не из моих уст. Я теперь даже не была уверена, правильно ли расслышала сказанные им слова — то ли «Пусть они дадут свободу», то ли «Будьте свободны», то ли «Освободите»? Тот голос по-прежнему звучал у меня в ушах, но я уже не могла вспомнить, что в точности он сказал. Это меня встревожило. Я тщетно пыталась снова услышать те слова, но они ускользали от меня, их будто уносил какой-то нетерпеливый ручей… И перед глазами у меня опять возникал Фонтан Оракула, и утреннее солнце над крышами Галваманда, и то, как его лучи просвечивали сквозь распускавшийся в вышине серебристый водяной цветок…
А потом я вдруг заметила, что за окнами и впрямь уже утро и на стенах моей маленькой комнатки играют первые робкие лучи зари.
В тот день у нас был праздник Энну, богини, способной сделать путь более легким для странствующих, ускорить любую работу и завершить миром любой спор. Согласно нашим верованиям, Энну провожает души людей в страну смерти и, говорят, всегда следует впереди души умирающего в обличье черной кошки, то и дело останавливаясь и оглядываясь. А если человеческая душа начинает колебаться и медлить, Энну терпеливо ждет, когда душа соберется с силами и вновь последует за нею. Мало кто из наших богов имеет столь конкретное обличье; еще, пожалуй, только Леро — в виде крупных округлых камней, да Иене, сущность которой воплощена в дубах и ивах. Энну часто изображают в виде маленькой кошечки с улыбающейся мордочкой и светящимися глазами. У меня тоже есть такая фигурка; она досталась мне от матери и всегда стоит в небольшой нише у моей постели. Каждое утро, проснувшись, и вечером перед сном я целую и благословляю ее. Домашнее святилище Энну находится в Галваманде в старом внутреннем дворе — это большой камень, похожий на вогнутую раковину, а на пьедестале вокруг него вырезаны кошачьи следы, теперь уже почти стертые бесчисленными прикосновениями рук, которые в течение стольких веков клали на край пьедестала, благословляя Энну и желая получить ее благословение. Я встала, оделась и принесла из Фонтана Оракула целую миску чистейшей воды, а из кухонной кладовой — немножко еды, чтобы совершить жертвоприношение богине. Возле камня с резными кошачьими следами я встретила Лорда-Хранителя, и мы вместе возблагодарили великую Энну.
Завтрак у Исты был уже готов. Мы позавтракали, а потом все пошло в точности как накануне: Лорд-Хранитель устроился в передней галерее и к нему потянулась нескончаемая вереница людей. Весь день люди приходили в Галваманд, чтобы поговорить с Лордом-Хранителем и друг с другом. Казалось, сообщество жителей Ансула вновь воссоздается прямо у нас на глазах.
Лорд-Хранитель хотел, чтобы я постоянно оставалась при нем. Он сказал, что людям нужно меня видеть. И это действительно было так, хотя лишь очень немногие заговаривали со мной, если не считать обычного обмена приветствиями. Впрочем, приветствовали они меня с таким почтением, что мне начинало казаться, что это вовсе и не я или что я просто притворяюсь какой-то ужасно важной персоной. Некоторые родители посылали вперед ребенка, чтобы он подарил мне цветы, и малыш бросал цветы мне на колени или под ноги, а сам тут же убегал. Через некоторое время я уже просто утопала в цветах, словно уличный алтарь одного из богов в день его праздника.
Я все пыталась понять, что́ я для них. Они явно видели во мне тайну — тайну ожившего фонтана, тайну голоса оракула, тайну всего того, что произошло вчера. Лорд-Хранитель был им хорошо и давно известен, он был их другом и вожаком, одним из самых прочных звеньев, связывавших ансульцев с их прошлым. А я казалась им чем-то новым, необычным. Он был истинным Галвой, но и я была дочерью этого древнего рода, и моими устами говорили боги…
По-моему, люди были даже довольны тем, что я почти все время молчу. От меня, собственно, только и требовалось, что улыбаться да помалкивать. А всяких тайн и загадок людям было уже более чем достаточно.
Да, им хотелось поговорить с Лордом-Хранителем и друг с другом, им хотелось поспорить, обсудить что-то для них важное, нарушить наконец мучительное семнадцатилетнее молчание, полное невысказанных слов, затаенной страсти и споров с самими собой. Вот для этого они все шли и шли в Галваманд.
Правда, некоторые из них говорили, что на самом деле всем следовало бы собраться в Доме Совета и как следует обсудить планы на ближайшее будущее. В итоге эта идея настолько их вдохновила, что они уже собрались идти прямиком в Дом Совета и требовать, чтобы альды немедленно его освободили, ибо именно там всегда заседало наше правительство. Тогда слово взяли по очереди Сулсем Кам и Пер Актамо и принялись всем спокойно разъяснять, что необходимо сперва собраться с силами, составить план, а уж потом действовать в соответствии с этим планом. Да и разве можно, убеждали они людей, проводить заседание Совета, если мы еще не проводили выборы? Ведь у нас в Ансуле, напомнили они всем, всегда настороженно относились к тем, кто слишком активно стремился к власти.
— У нас в Ансуле власть не берут, у нас ее как бы одалживают на время — у всего народа, — сказал Сулсем Кам.
— И народ при этом требует своей выгоды, — сухо прибавил Лорд-Хранитель.
Молодые очень внимательно прислушивались к тому, что говорили старшие, ибо совсем не помнили или помнили очень плохо, как именно в Ансуле осуществлялось самоуправление; впрочем, многие не были уверены, а стоит ли восстанавливать ту форму правления, которой они даже припомнить не могут. Собственно, Пера они слушали только потому, что он повсюду был вместе с Орреком — как Марра с Адирой. Если в те дни Оррек, безусловно, стал главным и основным героем нашего города, то Пер занимал почетное второе место. Впрочем, я обратила внимание на то, что, когда говорил кто-то из представителей четырех главных Домов, его с уважением слушали все, даже если уважение это и было основано на привычке, традиции, просто известности. Но сейчас это было даже полезно, ибо привносило некий порядок, давало общий знаменатель тому, что иначе быстро могло бы превратиться в соревнование мнений и глоток. Султер Галва, самый уважаемый из всех, говорил очень мало, гораздо меньше других, позволяя людям выговориться, выпустить пар, изложить свое видение ситуации, зато слушал всех очень внимательно, так что молчание его становилось как бы центром всей этой бесконечной дискуссии.
Часто он поднимал глаза и смотрел на меня или поворачивался, чтобы посмотреть, где я сижу. Он хотел, чтобы я была рядом. И наши молчания составляли единое целое.
Чем ближе день клонился к вечеру, тем больше в Галваманде появлялось вооруженных мужчин. Приходили целые отряды, но все оружие этих людей составляли порой только палки да дубинки; впрочем, у некоторых имелись длинные охотничьи ножи и копья с только что выкованными наконечниками; а кое-кто хвастался даже мечом, «позаимствованным» во время уличных стычек позапрошлой ночью. Во время одного особенно долгого спора я вышла на улицу подышать свежим воздухом. Я полюбовалась фонтаном, потом обошла дом кругом, желая проведать старого Гудита, и обнаружила его на конюшне. Он стоял за маленькой наковальней и ковал наконечник для копья! А рядом уже ждал какой-то молодой человек с длинным древком в руке.
Разговор в передней галерее, когда я снова туда вернулась, шел уже не о собрании, выборах и соблюдении законов, а о возможности внезапного нападения на альдов. Высказывались даже, хотя и не прямо, идеи об их полном уничтожении. Но главной была мысль о том, что необходимо поскорее собраться с силами, объединиться, запастись оружием и решительно выступить против альдов, послав им перед этим некий ультиматум.
Впоследствии я не раз вспоминала эти разговоры и много думала над тем, что эти люди говорили и каким языком они пользовались. Интересно, но у меня создалось ощущение, что мужчины с гораздо большей легкостью, чем женщины, готовы воспринимать людей не как живых существ, а как некие фигуры, которые можно пересчитывать или как угодно передвигать на некоем вымышленном поле боя. И подобное превращение живых людей в игрушки, в бездушные фишки, кажется мужчинам весьма увлекательным занятием, доставляет им удовольствие, возбуждает их и дает полную свободу действовать во имя действия, позволяя сколько угодно манипулировать этими фишками. При этом такие понятия, как «любовь к родной стране», «честь» и «свобода», превращаются просто в слова, в некие условные термины, которыми мужчины пользуются во время своей игры, чтобы как-то оправдать ее перед богами и перед людьми, которым приходится по-настоящему страдать, умирать и убивать других людей. И эти благородные слова — патриотизм, честь, свобода — полностью утрачивают свой истинный смысл.
Уже почти стемнело, когда один из любителей таких игр, молодой и красивый мужчина с ястребиным лицом, Реттер Гелб из Гелбманда, стал горячо настаивать на своем плане окончательного изгнания альдов из Ансула. Столкнувшись с многочисленными возражениями, он обратился к Лорду-Хранителю:
— Галва! Разве не ты держал в руках книгу оракула? Разве мы собственными ушами не слышали его голос, говоривший: «Освободитесь»? Как же мы можем освободить наш народ, если альды уже самим своим присутствием превращают нас в рабов? Разве кому-то может быть неясен смысл сказанного оракулом?
— Может, — сказал Лорд-Хранитель.
— Но если тебе это недостаточно ясно, так спроси оракула еще раз. Ты же Читатель! Спроси его, разве не настало нам время взять наконец свободу в собственные руки?
— Ты можешь и сам прочесть его ответ, — негромко предложил Лорд-Хранитель и, достав из кармана какую-то книгу, протянул ее Реттеру Гелбу. В его жесте не было ничего угрожающего, однако молодой человек отшатнулся и застыл, не сводя с книги глаз.
Он был еще достаточно молод, так что почти наверняка, как и многие жители Ансула, никогда даже книги в руках не держал и никогда даже издали ее не видел — разве что порванную на куски и брошенную в канал. А может, его просто охватил страх перед сверхъестественными силами, перед этим таинственным оракулом?
— Я не могу ее прочесть, — хрипло пробормотал он и, пристыженный, быстро глянул на меня. А потом вдруг заявил прежним вызывающим тоном: — Читатели у нас вы, Галвы!
— Умение читать — это дар, которым когда-то обладали все жители Ансула, — сказал Лорд-Хранитель, и голос его прозвучал сухо и строго. — Возможно, всем нам пора заново этому учиться. Ведь до тех пор, пока мы не сумеем понять ответ, данный нам оракулом, не имеет никакого смысла задавать ему новые вопросы.
— А что толку в ответе, которого мы не понимаем?
— Скажи: а то, что в фонтане вновь появилась вода, тебе ни о чем не говорит? Или ты и этого не понимаешь?
Я никогда не видела Лорда-Хранителя таким сердитым; и гнев его был холодным и острым, как лезвие клинка. И Реттер Гелб снова от него отшатнулся. Он довольно долго молчал, потом слегка поклонился и тихо сказал:
— Я прошу у тебя прощения, Лорд-Хранитель. Прости меня.
— А я прошу у тебя терпения, Реттер Гелб, — откликнулся Султер Галва, и голос его по-прежнему звучал очень холодно. — И пусть пока что из нашего фонтана бьет струя чистой воды, а не кровь.
Он положил книгу на стол и встал. Это была обычная маленькая книжка в переплете из выцветшей ткани. Я не знала, по этой ли книге Лорд-Хранитель читал нам предсказание оракула или по какой-то другой.
И тут вошли Иста и Соста с зажженными светильниками в руках.
— Доброго вечера всем вам и спокойной ночи, — сказал Лорд-Хранитель, взял книгу и, сильно прихрамывая, пошел по темным коридорам вглубь дома.
Посетители стали расходиться, желая мне спокойной ночи, но многие, выйдя во двор, оставались стоять там, на выложенном плитками лабиринте, продолжая о чем-то беседовать. В воздухе прямо-таки висело какое-то беспокойство; тревога чувствовалась во всем, ее словно разносил по окутанному сумерками городу теплый ветер.
Из дома вышла Грай, ведя на поводке Шетар.
— Давай-ка прогуляемся к холму Совета, — предложила она мне, — посмотрим, что там происходит.
Я охотно согласилась. Оррек в тот день, по словам Грай, вообще почти не выходил из комнаты — сидел и что-то писал, явно не желая принимать участия в бесконечных спорах и дискуссиях, поскольку не является гражданином Ансула. Грай сказала, что он прекрасно понимает: любое его слово будет тут же подхвачено и легко может обрести иной, совершенно несвойственный ему смысл и вес, а это очень его беспокоит. А еще Грай сказала, что им обоим все время кажется, что вот-вот произойдет нечто ужасное, нечто губительное, фатальное, чего уже нельзя будет исправить.
Мы шли по улицам, и люди то и дело здоровались с нами, приветствуя Грай и ее львицу, ибо именно они первыми дали отпор Иддору и «красным шапкам». Грай улыбалась и отвечала на приветствия, но так быстро и застенчиво, что становилось ясно: ни к каким дальнейшим разговорам она не расположена.
— Тебя что, это пугает? Тебе не хочется быть народной героиней? — спросила я.
— Нет, не хочется, — сказала она с усмешкой и, быстро глянув на меня, прибавила: — И меня это действительно пугает. Да и тебя тоже.
Я кивнула. И повела их в обход, свернув в такой переулок, где мы точно никого бы не встретили. Здесь, по крайней мере, можно было спокойно разговаривать.
— Ты-то хоть привыкла к вечному шуму и толчее на улицах, — вздохнула Грай. — Ах, Мемер! Если б ты знала, откуда я родом! Да в Ансуле на одной улице домов больше, чем во всех Верхних Землях! Я привыкла месяцами, годами не видеть ни одного нового лица. Я привыкла порой за целый день не произносить ни слова. Я жила не с людьми. Меня окружали собаки, лошади, дикие звери и горы. И у Оррека тоже жизнь была ненамного веселее моей. Мы оба совершенно не умели жить среди людей. Да у нас и никто этого не умел. Кроме, пожалуй, матери Оррека, Меле. Она была родом из Нижних Земель, из Деррис-Уотера. Ах, какая это была милая, чудесная женщина! По-моему, свой дар он как раз от нее и получил. Она вечно рассказывала нам всякие истории… Впрочем, Оррек больше похож на отца.
— Как это? — удивилась я.
Она слегка задумалась.
— Канок был очень красивым и смелым мужчиной. Но он боялся своего дара, а потому и старался скрыть то, что у него на душе. Порой я и за Орреком это замечаю. Как сейчас, например. Это ведь очень трудно — взять ответственность на себя.
— А когда у тебя отнимают ответственность, когда тебе не дают взять ее на себя, еще труднее, — сказала я, думая о том, как Лорд-Хранитель жил все эти семнадцать лет.
На улицу мы вышли уже у моста Ювелиров и поднялись на холм Совета. На площади собралась толпа. Но люди не стояли на месте — двигались, о чем-то яростно спорили. Сошлись туда в основном мужчины, и у многих в руках было оружие. С крыльца Дома Совета кто-то обращался к собравшимся с горячей речью, но оратора почти никто не слушал; люди подходили, прислушивались к его словам и тут же снова отходили в сторону. На восточной стороне площади плотной стеной выстроились люди — мужчины и женщины. Они стояли или сидели, прижавшись плечами друг к другу, и казались чрезвычайно возбужденными. Я заговорила с одной из женщин, нашей соседкой Марид, и она сообщила, что они собрались здесь для того, «чтобы не дать детям попасть в беду». За этой живой стеной ниже по склону холма виднелись в неярком свете факелов цепи вооруженных альдов, охранявших казармы. Я догадалась, что эти горожане просто закрыли собой казармы от разъяренной толпы, желая предотвратить хулиганские выходки со стороны молодежи, искавшей любую возможность подраться с альдами. Юнцы то и дело выкрикивали оскорбления в их адрес или просто швырялись в них камнями, но прорваться к ним сквозь этот живой заслон не могли, поскольку он тянулся через всю площадь. За ним, вдалеке, виднелись конюшни, возле которых я когда-то впервые познакомилась с Симме.
— Вы поистине выдающийся народ! — восхищенно сказала Грай, когда мы повернули обратно. — По-моему, стремление к миру у вас в крови.
— Надеюсь, что так, — сказала я. Мы шли по площади мимо того места, где раньше стоял большой шатер. Останки его уже убрали, да и следов пожара там почти не осталось, кроме черной копоти на каменных плитах да слабо похрустывающих угольков под ногами. Здесь погиб Дезак — сгорел заживо в огне, который сам же и разжег. Меня вдруг охватил озноб, а Шетар подняла голову и жалобно завыла. Я вспомнила, как ей тогда не понравился Дезак, как гневно она на него посматривала. Он стоял у меня перед глазами как живой — стройный, с военной выправкой, безрассудно храбрый, исполненный страсти. Я помнила, как он сказал тогда Лорду-Хранителю: «Я еще вернусь в Галваманд, когда Ансул вновь станет свободным!» — и чувствовала, что его тень витает где-то здесь, рядом с нами…
Проходя по мосту Ювелиров, мы немного постояли у перил в том месте, откуда в ту ночь альды сбросили человека. Мы смотрели на темную воду канала, в которой отражалось мерцание двух-трех огоньков, горевших в лавчонках на мосту, а Шетар негромко предупредительно рычала, словно говоря, что не имеет ни малейшего желания спускаться вниз и еще раз плыть по этой противной воде. Несколько мальчишек пронеслись мимо, что-то выкрикивая, и только тут до меня дошло, что сегодня я уже не раз слышала на улицах этот призыв; они кричали: «Альды, убирайтесь вон! Альды, убирайтесь вон!»
— Давай пройдемся еще до камня Леро, — предложила я, и Грай согласилась; похоже, никому в ту странную ночь не сиделось дома, весь город бодрствовал — бурлил, тревожился; но все же хорошо было прогуляться по улицам после целого дня бесконечных разговоров и неподвижного сидения в гостиной. Мы немного срезали путь, пройдя по Косому мосту, и по улице Гелб вышли прямо на Западную улицу, к камню. Там тоже было много людей; некоторые спокойно чего-то ждали, другие же делали то же, что и я: касались камня и благословляли Леро, ибо именно она удерживает равновесие в мире.
Когда мы уже возвращались по Западной улице домой, я вдруг спросила неожиданно для самой себя:
— Неужели у вас с Орреком никогда не было детей, Грай?
— Были. У нас была дочь, — спокойно ответила она. — Она умерла от лихорадки в Месуне, когда ей всего полгода исполнилось.
Я молчала. А что я могла сказать?
— Теперь ей было бы семнадцать. Тебе сколько лет, Мемер?
— Семнадцать, — сказала я, с огромным трудом разлепив губы.
— Я так и думала. — И Грай улыбнулась мне. В слабом свете светильников, установленных на Высоком мосту, я видела ее улыбающееся лицо. — Ее звали Меле, — сказала она.
И я, повторив это имя вслух, вдруг словно почувствовала прикосновение чьей-то маленькой тени.
Грай протянула мне руку, и мы пошли дальше.
— Сегодня день Энну, — сказала я, когда мы подошли к перекрестку. — А завтра будет день Леро. И чаши весов качнутся.
Похоже, чаши весов качнулись уже к утру: едва рассвело, мы по шуму поняли, что на площади Совета собралась огромная толпа, пока еще не призывавшая к насилию, но настроенная весьма решительно. Люди требовали, чтобы альды немедленно, сегодня же покинули город. Лорд-Хранитель о чем-то быстро переговорил с Орреком, и они вместе вышли на галерею. Оррек казался страшно напряженным. Он что-то сказал Грай, и она пошла запирать Шетар в Хозяйских Покоях. Гудит подвел к крыльцу обеих лошадей, и Оррек вскочил на Бранти, а Грай — на Звезду. Я бежала рядом с Грай. Мы вслед за Орреком с трудом пробирались сквозь толпу, заполонившую улицу Галва. Впрочем, люди охотно расступались, давая нам проехать; многие громко приветствовали Оррека.
Но он не останавливался, упорно направляясь к той живой стене, что по-прежнему решительно преграждала путь возбужденной толпе, заслоняя собой солдат. Оррек спросил у горожан и у альдов, могут ли они его пропустить, ибо он хотел бы переговорить с гандом Иораттхом. Те и другие его сразу же пропустили. Он спешился и сбежал вниз по лестнице, ведущей к казармам.
А я стояла посреди толпы, держа Бранти под уздцы, словно заправский грум. Впрочем, этого коня и удерживать-то не требовалось. Он и так стоял как вкопанный, спокойно реагируя на шум, царивший вокруг, и я решила взять с него пример и тоже успокоиться. А вот Звезда часто трясла головой, недовольно фыркала и нервно переступала ногами, когда люди начинали уж слишком сильно напирать, так что мне подражать ей явно не стоило. Впрочем, я была рада, что благодаря лошадям вокруг нас образовалось некое свободное пространство, потому что и на меня эта чудовищная толпа действовала угнетающе. Мысли мои путались, эмоции так и бурлили. Ликование, ужас, возбуждение, восторг — все эти чувства охватывали меня попеременно, налетая, как яростный ветер перед началом грозы, который до земли клонит деревья, срывая с них листья. Я держала Бранти под уздцы и следила за лицом Грай, но лицо ее оставалось неизменно спокойным, даже каким-то неподвижным.
Затем в тех рядах, что были ближе всего к крыльцу Дома Совета, послышался глухой рев, и все повернулись в ту сторону, но я ничего не смогла разглядеть за головами людей. Грай коснулась моего плеча и жестом показала, чтобы я взобралась Бранти на спину. «Но я не умею садиться на лошадь!» — воскликнула я жалобно, но даже голоса своего в этом шуме не расслышала, а Грай уже подставляла руку, чтобы помочь мне вскочить в седло, и какой-то мужчина рядом подсадил меня со словами: «Полезай-ка скорей, девочка!» Вскоре я, ничего не соображая, уже сидела верхом на Бранти, а Грай говорила мне: «Смотри! Смотри!» — и я стала смотреть.
На балконе Дома Совета, откуда всегда раньше выступали ораторы, стояла небольшая группа людей; я разглядела какую-то женщину в блеклой полосатой одежде рабыни и Оррека в черной куртке и килте. Они показались мне очень маленькими и какими-то светящимися, точно призраки. Толпа что-то кричала, пела, а некоторые громко выкрикивали: «Тирио! Тирио!» И вдруг какой-то мужчина рядом с нами злобно заорал: «Тирио! Альдская шлюха! Наложница ганда!» К нему сразу же повернулись другие люди: одни столь же громко и злобно предлагали ему заткнуться, другие пытались как-то их утихомирить. До стремян я не доставала и в седле чувствовала себя весьма неуверенно; у меня было такое ощущение, будто я сижу на насесте. Но замечательный Бранти стоял неподвижно, как скала, так что я, по крайней мере, совершенно не страдала от толкотни и давки, царившей внизу. Постепенно шум возле крыльца смолк — это Оррек поднял правую руку, прося слова. Люди закричали: «Пусть говорит поэт!» — и над толпой медленно воцарилась тишина. Она растекалась по площади, подобно тому как струя воды заполняет давно пересохший бассейн фонтана. Когда же Оррек наконец заговорил, даже до нас долетал его чистый и звучный голос, так и звеневший над площадью.
— Сегодня день Леро, — сказал он и умолк, ибо толпа тут же принялась глухо скандировать: «Леро! Леро! Леро!» У меня даже дыхание перехватило, слезы выступили на глазах, и я тоже принялась кричать вместе со всеми: «Леро, Леро, Леро…» Потом Оррек снова поднял руку, и крики постепенно смолкли; даже на улицах, выходивших на площадь Совета, стало тихо.
— Я не являюсь гражданином Ансула, как не являюсь и уроженцем Асудара, — сказал Оррек, — так позволите ли вы мне снова говорить с вами?
— Да! — проревела толпа. — Говори, говори! Пусть говорит поэт!
— Рядом со мной стоит сейчас Тирио Актамо, дочь Ансула и жена ганда Иораттха. Она и ее муж просили меня сказать вам следующее: воины Асудара не станут нападать на вас, не станут вмешиваться в вашу жизнь и более не покинут своих казарм — таков приказ ганда Иораттха, а воины обязаны подчиняться приказам своего командира. Однако он не может приказать своему войску покинуть Ансул, не имея на то согласия верховного правителя альдов, и ждет вестей из Медрона. Ганд Иораттх, Тирио Актамо и я просим вас проявить терпение и принять на себя управление Ансулом; мы также просим вас предъявлять свои права на свободу спокойно, без ненужных кровопролитий. Я собственными глазами видел, как ганд Иораттх был предан, заключен в тюрьму и впоследствии освобожден оттуда. Я собственными глазами видел вместе с вами, как из фонтана, пересохшего двести лет назад, вновь забила струя воды. Я вместе с вами слышал голос, который громко возвестил нам из вечного молчания… Да, я всего лишь ваш гость, но могу ли я, пока мы все вместе ждем, чтобы Леро показала нам, в какую сторону качнулись чаши весов и предстоит ли нам разрушать или же, наоборот, созидать, предстоит ли нам развязать войну или же продолжать жить в мире… так вот, пока мы ждем этого, могу ли я рассказать вам в благодарность за ваше гостеприимство, за проявленную ко мне милость богов Ансула одну историю? Это история о войне и о мире, о рабстве и о свободе. Не хотите ли вы послушать одну из глав «Чамбана»? Легенду о славном Хамнеде и о том, как в Амбионе его сделали рабом?
— Хотим, — в один голос выдохнула толпа, и это слово пролетело над ней, как сильный, но теплый ветер над поросшим травами полем. И мы, я и Грай, сразу ощутили, как спадает мучительное напряжение, как голос Оррека освобождает и нас, и окружавших нас людей от тисков ужаса и безумных
страстей, и испытывали горячую благодарность, даже если это и продлится недолго, всего лишь столько, сколько требуется поэту, чтобы рассказать свою историю.
Повсюду на Западном побережье люди знают легенду о Хамнеде; даже в Ансуле, где книги давно были уничтожены, многие ее знали или по крайней мере помнили имя Хамнеды. Но большинство, к сожалению, никогда ее не читали и не слышали, как ее рассказывают. И то, что Оррек решился поведать эту историю прилюдно, да еще перед такой огромной толпой, подтверждало наше право — право народа Ансула на своих героев и свое прошлое. Вот что действительно было для нас великим даром, и этот дар преподнес нам Оррек. Ах, как он рассказывал легенду о Хамнеде! Казалось, он как бы впервые открывает ее для себя вместе с нами. Казалось, он до глубины души потрясен предательством Элока; казалось, и его избили и вместе с Хамнедой заковали в цепи; казалось, он вместе с Хамнедой плачет, видя те пытки, которым подвергли старого Афера, и его смерть; казалось, это его, Оррека, душу терзает страх за тех рабов, которые, рискуя жизнью, помогали Хамнеде бежать… Это был совсем не тот «Чамбан», который я когда-то читала. Нет, Оррек рассказывал людям свою собственную историю, используя свои собственные слова, особенно когда добрался до того места, где описывается схватка во дворце Амбиона, когда Хамнеда, освободив тирана Уру от оков, повелевает ему навсегда покинуть Амбион и говорит восставшим жителям города: «Свобода — как лев, выпущенный из клетки, как встающее над землей солнце: ей нельзя приказать остановиться. Так дайте же дорогу свободе! Дайте другим жить свободно, чтобы самим стать свободными!»
С тех пор я не раз слышала, как люди говорили, будто и голос оракула тогда, во дворе Галваманда, возвестил именно это: «Дайте другим жить свободно, чтобы самим стать свободными». Возможно, так оно и было.
Едва прозвучали эти слова, толпа, собравшаяся на площади Совета, так загудела, что стало ясно: это было именно то, что люди и хотели услышать. И Оррек заканчивал свое повествование под неумолчный, восторженный рев толпы. Люди восхищались его искусством и прославляли его; они были исполнены такого ликования, словно их самих только что освободили из оков и цепких лап страха. Оррека, спустившегося на крыльцо, так обступили со всех сторон, что мы с Грай оставили всякую надежду пробраться к нему.
С конских спин нам было хорошо видно, как бурлит толпа вокруг Оррека и Тирио, медленно увлекая их к улице Галва. Грай, спрыгнув на землю, мгновенно укоротила стремена на Бранти, чтобы я могла достать до них, потом снова взлетела в седло и крикнула мне: «Держись за бока коленями и не хватайся за поводья!» Мы стали пробираться сквозь бурлящую толпу, и до меня то и дело доносились похвалы, шутки и прочие комментарии по поводу моей первой в жизни поездки верхом. Нам удалось не только выехать с площади, но и успешно пересечь три моста и добраться до Галваманда.
Люди расступались, давая нам проехать, так что вскоре мы поравнялись с Орреком и Тирио. Спрыгнув с седла у ворот нашей конюшни, я бегом бросилась в дом, чтобы успеть на встречу Тирио и Лорда-Хранителя. Увидев свою старинную подругу, он резко поднялся, а она бросилась к нему, протягивая руки и сквозь слезы повторяя: «Султер! Султер!» Некоторое время они стояли, обнявшись, не скрывая слез. Они дружили с юных лет; возможно, когда-то даже были любовниками; во всяком случае, когда-то они оба были молоды, богаты и счастливы, а потом наступили долгие годы позора и боли, которые их разлучили. И теперь он стал калекой. А она была избита до полусмерти, и голову ее покрывали кровавые раны, потому что альды выдирали ей волосы целыми прядями. И я вдруг вспомнила, как однажды Лорд-Хранитель ласково сказал мне — казалось, это было очень-очень давно: «Нам всем есть что оплакивать, Мемер». И, вспомнив эти его слова, я тоже заплакала — я оплакивала их судьбу; я плакала из-за того, что мир наш так печален.
Стоя в дверном проеме и пытаясь скрыть от окружающих свои слезы, я заметила, что Оррек тихонько подошел ко мне и встал рядом. В глазах у него все еще светилась светлая радостная растерянность, какая бывает у тех, кого народ заставил вылезти из собственной скорлупы и говорить от имени всех. Обняв меня за плечи, Оррек наклонился и тихо сказал: «Привет конокрадам!»
Похоже, Орреку с помощью Леро все-таки удалось склонить чашу весов в свою сторону. В последующие несколько дней в городе было все еще неспокойно, но такой угрозы уже не чувствовалось, да и жажда мщения несколько поубавилась. Правда, еще хватало гневных споров и разговоров, но за оружие хватались значительно реже. К тому же Дом Совета был открыт для любых дебатов, связанных с грядущими выборами.
Однако в Галваманд люди по-прежнему приходили — и чтобы поговорить с Лордом-Хранителем, и чтобы исполнить «танец лабиринта» на черно-серых плитах у нас во дворе. Да, наконец-то мне удалось это увидеть! Я собственными глазами видела, как женщины танцуют этот танец. А через день или два к ним присоединилась и наша Иста. Нахмурившись, с посудным полотенцем в руках, она вышла во двор и заявила: «И все вы делаете неправильно! Сперва нужно повернуть вот здесь, а потом пропеть «Эхо!» и только после этого сворачивать вот сюда». И она показала женщинам, как нужно правильно танцевать этот танец, который исполняют в знак благодарности богам. А потом, разумеется, снова вернулась на кухню.
В эти дни у Исты было особенно много работы; впрочем, дел хватало и у меня, и у Боми, и даже у Состы. Люди все время приносили к порогу нашего дома какие-нибудь дары; дарили в основном еду, понимая, как тяжело, должно быть, приходится нам с нашим фамильным гостеприимством, когда в доме постоянно толпятся люди. Иста даже научилась принимать эти подарки. Она решила воспринимать их не как подношения, сделанные в знак уважения или в качестве «дани правителю», а — как и подобало в доме Лорда-Хранителя — как некогда взятое в долг и теперь возвращенное обратно. В общем, голова у нашей Исты работала в том же направлении, что и у большинства горожан. Если уж у жителей Ансула действительно в крови стремление к миру, то и любовь к коммерции у них тоже в крови.
Иалба вместе с Тирио вернулась в казармы, чтобы ухаживать за Иораттхом, ожоги которого оказались достаточно серьезными и заживали медленно. Но уже через день Тирио прислала в Галваманд трех женщин — помогать в работе по дому. Все они были жительницами Ансула, которых когда-то, как и Тирио, схватили, превратили в рабынь и заставили обслуживать солдат. Когда Тирио удалось завоевать расположение ганда, она первым делом помогла своим соотечественницам — вытащила их из казарм и дала более пристойную работу в качестве дворцовой прислуги. Одна из этих девушек — ее поймали на улице и отдали на потеху солдатам, когда ей и одиннадцати лет не исполнилось, — стала по вине альдов калекой и немножко тронулась умом, но, когда ей поручали простую работу, которую она могла спокойно выполнять одна, она делала ее очень хорошо и охотно. Две другие были из весьма знатных семей и прекрасно знали, что и как следует делать, когда в доме гости, и оказались для нас просто бесценными помощницами.
Впрочем, Иста сперва была настроена по отношению к ним почти враждебно и даже пыталась помешать им вести разговоры с Состой и со мной. «Вы только подумайте, кем они были!» — кипятилась она, хотя никакой их вины в этом и быть не могло. Но Иста все же считала, что они «неподходящая компания для молодых девушек из хорошего дома», и продолжала что-то бубнить на эту тему, хотя ни девушки, ни мы с Состой на это особого внимания не обращали. У одной из этих молодых женщин был друг; она познакомилась с ним, будучи рабыней; он тут же переехал к нам и очень помогал со всякой тяжелой работой. Они отлично поладили со старым Гудитом, потому что человек этот раньше был каретником и умел, например, построить настоящую повозку из тех разрозненных обломков, которые Гудит тщательно собирал все эти годы.
Так что всего за несколько дней народу у нас в доме значительно прибавилось, и я была этому очень рада. Там теперь звучало куда больше живых голосов и стало не так много безмолвных теней. Да и порядка, честно признаться, там тоже стало больше. И намного меньше пыли на алтарях — теперь их касались, проходя мимо, все наши многочисленные посетители, а не только я да Лорд-Хранитель.
А вот его я в эти дни видела совсем редко. И только на людях.
И я ни разу не ходила в тайную комнату — с той самой ночи, когда моими устами впервые заговорил оракул.
Моя жизнь внезапно и полностью переменилась. Теперь она проходила больше на улицах, а не среди книг, и я целыми днями разговаривала с другими людьми, которых у нас бывало немало, а не только по вечерам и с одним-единственным человеком. Да сердце мое в эти дни было настолько отдано Орреку и Грай, что порой я о Лорде-Хранителе даже и не вспоминала. А если испытывала из-за этого стыд, то тут же находила для себя извинение: это раньше я была нужна ему как единственный близкий человек, а теперь он больше во мне не нуждается, теперь он снова стал настоящим Лордом-Хранителем, и составить ему компанию мог хоть целый город, а для меня у него и времени-то нет.
А у меня не было времени, чтобы пойти в тайную комнату — ночью, как раньше. За день я страшно уставала. К ночи я способна была только поцеловать свою маленькую статуэтку богини Энну и тут же засыпала. Книги в той комнате помогали мне оставаться живой, пока мертв был мой город, но теперь он снова возвращался к жизни, и у меня не было в них никакой нужды. Ни времени, ни нужды, ни потребности.
А если причина все же была в том, что я просто боялась пойти туда, боялась той комнаты, тех книг, то думать об этом я не желала и не позволяла себе понять, что дело именно в этом.
Глава 15
В те первые дни лета мы, казалось, уже совсем позабыли об альдах, словно их и не было у нас в городе. Вооруженные волонтеры из числа местных жителей бдительно охраняли порядок на улицах и не спускали глаз с альдских казарм и конюшен ни днем ни ночью, создав нечто вроде народной милиции и учредив посменные дежурства. Да и в Доме Совета речь шла исключительно о делах самого Ансула, а совсем не об альдах. Там каждый день проходили весьма многочисленные и бурные собрания под руководством наиболее достойных людей, имевших опыт управления страной и решительно настроенных на восстановление былого могущества Ансула и его прежней политики.
Пер Актамо, разумеется, был в самом центре всей этой деятельности, и, хотя ему не было еще и двадцати пяти лет, все тут же увидели, что это прирожденный руководитель. Кипучая энергия и ум Пера не давали старикам, бывшим членам Совета, слишком быстро скатываться к принципу «а мы всегда так делали». Прежние способы руководства и управления страной Пер то и дело подвергал сомнениям, спрашивая присутствующих: а нельзя ли сделать лучше? И постепенно начинали вырисовываться и новое устройство Совета, и основные законы, свободные от многих ставших бессмысленными традиционных правил и закавык. Я часто ходила послушать, как выступает Пер и некоторые другие, когда собрания бывали открытыми, потому что это было действительно здорово и вселяло надежду. А сам Пер каждый день приходил в Галваманд, чтобы посоветоваться с Лордом-Хранителем. Почти столь же часто приходил и Сулсем Кам вместе со своим сыном Султером Камом. Сам Сулсем обычно стоял за то, чтобы все по-прежнему делали «как всегда», а вот его жена Эннуло поддерживала идеи Пера Актамо. Поддерживал их и Лорд-Хранитель, хотя в лоб своего мнения обычно не высказывал и всегда стремился примирить противников, заставить их выйти за пределы простого спора и соревнования мнений.
День выборов был уже намечен, но однажды солнечным утром по всему городу разнеслась весть: через холмы Исмы движется армия альдов.
Сперва казалось, что это просто слухи, на которые можно не обращать внимания. Какие-то пастухи вроде бы видели войско альдов, а может, и не войско. Но вскоре из верховий реки Сандис в Ансул приплыл на своей лодке человек, который полностью подтвердил то, о чем рассказывали пастухи. Войско альдов быстро движется в сторону Ансула и теперь, наверное, находится уже близ перевала, над теми источниками, что питают реку.
И тут возникла паника. Люди бежали мимо нашего дома с криками: «Альды идут!» То и дело на площади Совета и на улицах собирались огромные толпы. Снова было извлечено оружие, и мужчины устремились к старой городской стене, которая тянется за городом вдоль Восточного канала. В этой стене еще сохранились ворота, от которых начинается дорога, ведущая в горы. А сама стена была наполовину разрушена, еще когда альды взяли город. Но люди принялись строить баррикады, перегородив и эту дорогу, и мост Исма.
Все, кто приходил в тот день в Галваманд, казались растерянными, испуганными и жаждали указаний и советов. Слишком многие еще помнили, как семнадцать лет назад был взят Ансул. Пер Актамо и основная часть здравомыслящих людей, способных как-то успокоить горожан, собрались в Доме Совета, так что утешать и успокаивать пришлось в основном Лорду-Хранителю. Правда, к его словам все охотно прислушивались. Вскоре, впрочем, он вызвал меня в коридор, чтобы мы могли поговорить наедине, и сказал:
— Мемер, ты мне очень нужна. Оррека я послать не могу: он не сумеет пробиться сквозь толпу — они его наверняка остановят и потребуют, чтобы он немедленно объяснил, как им быть и что делать. Ты сможешь пробраться в казармы — к Тирио и Иораттху — и выяснить, во-первых, что им известно об этом новом войске, а во-вторых, не переменил ли ганд своего решения и своих прежних приказов. Мне совершенно необходимо все это знать. Сможешь?
— Хорошо. А от тебя мне что-нибудь передать им? — спросила я.
И тут он посмотрел на меня так, как если бы я вдруг на редкость удачно перевела какие-то строки из текста на аританском языке — не удивленно, а в высшей степени удовлетворенно, даже восхищенно.
— Нет, ничего. Ты и сама знаешь, что им сказать, — сказал он.
Я надела мужскую рубаху и стянула волосы на затылке. Теперь, когда люди хорошо знали меня в лицо, мне совсем не хотелось, чтобы меня останавливали на улицах и задавали всякие вопросы. В общем, в казармы я отправилась в обличье конюха Мема — юноши-полукровки.
Какое-то время я, прячась и пригибаясь, вполне успешно продвигалась по улице Галва к площади Совета, но после моста Ювелиров пройти оказалось невозможно — толпа стояла мертво. Я сбежала вниз по той лесенке, которой мы тогда воспользовались, и сразу вспомнила грохот конских копыт над головой, крики, запах дыма… Вдоль канала я вернулась к дамбам, там по мосткам перебралась на другой берег и по нему уже вернулась туда, откуда было рукой подать до того плаца, на котором обычно маршировали альды. Там было совершенно пусто, ни души, но за конюшнями виднелась цепь стражников, охранявших склон холма и подступы к казармам. Мне оставалось только подняться на холм и подойти прямо к ним; сердце у меня от волнения билось так, что готово было выскочить из груди.
Солдаты, не говоря ни слова, смотрели, как я к ним приближаюсь, и два или три лучника уже прицелились в меня из своих больших луков.
Я подошла и остановилась от них шагах в пяти; мне необходимо было перевести дыхание.
Сейчас эти люди показались мне куда более чужеземцами, чем когда-либо, хотя альдов я за свою жизнь встречала достаточно. Желтоватые лица, короткие светлые «овечьи» волосы, выбивавшиеся из-под шлемов. Глаза у них тоже были очень светлые, какие-то блеклые. Альды смотрели на меня совершенно равнодушно и молчали.
— Скажите, нет ли у вас в конюшнях молодого парня по имени Симме? — спросила я, и голос мой отчего-то прозвучал ужасно пискляво.
Ни один из шести или семи человек, что стояли ближе всего ко мне, не шевельнулся и не издал ни звука. Я уж решила, что они вообще не намерены мне отвечать, но тут один из воинов, стоявший справа от меня, с мечом на поясе, но без лука, спросил, не снимая руки с рукояти клинка:
— А что, если такой там имеется?
— Он мой знакомый, — сказала я.
— И что? — Альд вопросительно посмотрел на меня.
— Я должен был передать послание от моего хозяина Лорда-Хранителя ганду Иораттху, но не смог пробиться сквозь толпу на площади. И сквозь ваши ряды мне тоже не пройти. А это очень срочно! Симме мог бы за меня поручиться. Он меня хорошо знает. Вы ему только скажите, что Мем пришел.
Солдаты переглядывались. Потом немного посовещались. Одни говорили: «Да пусть парнишка пройдет», а другие не соглашались, и в итоге тот, с мечом, сказал: «Ладно, я сам его отведу».
И он повел меня кружным путем позади конюшен. Я не очень отчетливо помню, как мы шли. Я была настолько поглощена необходимостью выполнить данное мне поручение, что то, как именно я добиралась до цели, казалось мне не особенно существенным, и подробности просто выпали из моей памяти. Впрочем, кое-что я помню очень хорошо. Например, как в маленькую комнатку, куда меня привел тот альд с мечом, явился Симме. Он отдал честь находившемуся там дежурному офицеру и, увидев меня, застыл как изваяние.
— Ты знаешь этого мальчишку? — спросил офицер. Симме скосил на меня глаза, но головы не повернул. Хотя выражение его лица сразу переменилось: взгляд стал расслабленным и умоляющим, как у Состы, когда она смотрела на Оррека. Губы его дрогнули в улыбке, и он сказал:
— Да, господин мой.
— Ну?
— Это Мем. Он конюх.
— Чей конюх?
— Да вроде бы того поэта и той женщины со львом. Он приходил сюда вместе с ними. А живет в том доме, где демоны. В логове дьявола, в общем.
— Отлично, — сказал офицер.
Симме по-прежнему боялся даже пошевелиться. Он снова скосил на меня глаза; теперь взгляд у него был умоляющий, а лицо стало белым как мел, даже прыщи куда-то исчезли. И вид у него был какой-то усталый — так, сколько я себя помню, выглядели очень многие жители Ансула. Я сразу догадалась, что Симме просто голодный.
— Значит, у тебя послание от поэта Каспро к ганду Иораттху? — спросил офицер, поворачиваясь ко мне.
Я кивнула, решив, что имя поэта Каспро, возможно, послужит более безопасным паролем, чем имя Лорда-Хранителя Галвы.
— Можешь все сказать мне, я передам.
— Нет, не могу. Мне велели передать все лично ганду Иораттху. Или Тирио Актамо.
— Обаттх! — воскликнул офицер, и до меня лишь через некоторое время дошло, что это он выругался. А он снова принялся рассматривать меня с ног до головы, а потом заявил: — Ты ведь альд. — Я промолчала. — А что говорят в городе насчет того, что через перевал к нам идет из Асудара новая армия? — спросил он.
— Говорят, что к Ансулу приближается какое-то войско.
— И большое?
Я пожала плечами.
— Обаттх! — снова выругался офицер. Он был небольшого роста, немолодой и тоже выглядел усталым и голодным. — Послушай. Отсюда мне к казармам не пройти — их от нас живая цепь ваших людей отгораживает. Если сможешь сквозь эту цепь пробраться, тогда ступай один. И если тебе удастся пройти, передай ганду заодно и от меня кое-что: скажи ему, что все наши кони по-прежнему в конюшнях и при них еще человек девяносто. Для лошадей-то корма пока хватает, а вот людям есть, можно сказать, нечего. Ладно, ступайте оба. Ты, парень, слышал, что я просил его передать ганду? — глянул он на Симме.
— Да, господин мой, — кивнул Симме и наконец-то вздохнул с облегчением. Он снова отдал офицеру честь, повернулся на каблуках и поскорее бросился вон. Я — за ним, а офицер — за мной.
Он провел нас через кордон, а затем уже я провела Симме сквозь цепь горожан, выстроившихся лицом к альдам. Подойдя к ним, я поискала глазами нашу соседку Марид, но ее там не оказалось. Зато я увидела ее сестру Реми и довольно быстро уговорила ее нас пропустить. В общем, достаточно было сказать, что у меня послание от Лорда-Хранителя к госпоже Тирио Актамо.
Пробравшись сквозь этот живой заслон и оказавшись на площади, мы уже были вольны идти куда угодно. К счастью, Симме был в самой обычной одежде, если не считать голубого узла у него на плече, хотя один раз кто-то все же обратил внимание на нашу внешность и сказал: «А ведь эти мальчишки, по-моему, альды!» — но мы тут же нырнули в толпу и стали яростно сквозь нее пробиваться, толкаясь, наступая людям на ноги и слушая многочисленные проклятия. Наконец выбрались на восточный край площади, спустились с холма по лестнице, ведущей к казармам, и снова столкнулись с живой цепью, образованной горожанами и не позволявшей толпе прорваться к казармам и учинить самосуд. И снова мне удалось отыскать знакомое лицо — на этот раз это был один из старых друзей Лорда-Хранителя по имени Чамер. Что уж там я наболтала ему, чтобы он нас пропустил, не помню, но мы прошли. Мало того, Чамер сам подошел к стоявшим на страже альдам и переговорил с ними; говорили они довольно долго, это я хорошо помню, но нас все же пропустили к казармам. Провожал нас один из стражников. Он вел нас через плац и на ходу громко выкрикивал имя отца Симме.
Его отец услышал и со всех ног бросился к нам. Симме остановился и попытался отдать ему честь, но отец с разбегу обнял его и прижал к себе.
— Твоя лошадка в полном порядке, отец, — сказал Симме. По щекам его текли слезы. — Я ее все время выгуливал и заставлял бегать.
— Это хорошо. — Отец по-прежнему прижимал его к себе. — Это ты молодец.
Из казарм нам навстречу высыпали и другие солдаты и офицеры, так что у нас образовалась целая свита, пока мы шли вдоль многочисленных длинных строений и пристроек. Нас несколько раз останавливали альдские офицеры, но Симме и его отец тут же подтверждали, что я из логова дьявола, где проживает поэт Оррек Каспро, который и прислал меня с неким посланием к самому ганду Иораттху. В самое последнее из этих унылых зданий мы наконец вошли, а сопровождавшие нас альды остались снаружи. Я видела, с каким восторгом и испугом посмотрел на меня Симме, когда мне велели идти туда одной. Я прошла мимо стражников в дверях и попала в какое-то длинное помещение с узкими, расположенными горизонтально окнами, из которых была видна излучина Восточного канала. И вдруг навстречу мне вышла сама Тирио Актамо.
Сперва она меня не узнала, и мне пришлось назваться. Тирио тут же схватила меня за руки, потом обняла, и я чуть не расплакалась — от невероятного облегчения. Однако, взяв себя в руки, поспешила сделать то, зачем пришла.
— Меня послал Лорд-Хранитель, — сказала я ей. — Он очень хотел бы знать, что именно известно ганду о той армии, что направляется сюда из Асудара.
— Пожалуй, лучше ты сама поговори об этом с Иораттхом, Мемер, — сказала Тирио. Лицо у нее было все еще опухшим и очень бледным, а голова обмотана бинтами, но это ей даже шло: бинты походили на маленькую белую шапочку. Нет, эту прекрасную женщину ничто не могло сделать безобразной! И она так просто и мило держалась, что с ней было удивительно легко; казалось, она способна была успокоить человека, всего лишь немного поговорив с ним. А потому страх мой уже почти прошел, когда Тирио провела меня через все это огромное помещение прямо к постели, на которой лежал ганд Иораттх.
Точнее, он полусидел, опершись на многочисленные вышитые подушки. Над изголовьем кровати к потолку был прикреплен полог из красной ткани, и я, подойдя к Иораттху, словно оказалась внутри небольшого шатра. Руки и ноги его, ничем не укрытые, лежали поверх постели — все в жутких ожогах; некоторые раны явно никак не заживали, другие уже покрывала страшноватая на вид черная корка; все это, видимо, причиняло ему немалые страдания. Он глянул на меня гневно, точно ястреб на поводке, и спросил, насупившись:
— Это еще кто? Ты кто, мальчик? Альд или уроженец Ансула?
— Меня зовут Мемер Галва, — сказала я. — Я пришла к тебе с поручением от Султера Галвы, нашего Лорда-Хранителя.
— Ха! — воскликнул ганд, и его гневный взгляд стал пронзительным. — А ведь я тебя уже видел.
— Да, я приходила с Орреком Каспро, когда он выступал перед тобой.
— Но ты же альд!
— Если бы я родила тебе ребенка, ты его тоже, скорее всего, считал бы альдом, — заметила Тирио мягко, но с достоинством.
Иораттх поморщился, но, явно приняв это замечание к сведению, больше меня расспрашивать не стал.
— Ну и с чем же этот поэт послал тебя ко мне?
— Меня послал Лорд-Хранитель, — поправила я его.
— Пойми, Иораттх, если у граждан Ансула и есть какой-то вожак, то это Султер Галва, наш Лорд-Хранитель, — пояснила Тирио. — А Оррек Каспро — просто его гость и живет у него в доме. И наверное, лучше всего было бы тебе вступить в переговоры именно с Султером Галвой.
— А почему он послал именно тебя? — ворчливо спросил ганд, обращаясь ко мне.
— Он хотел, чтобы я спросила: не известно ли тебе, зачем сюда из Асудара направляется новая армия, какова ее численность, а также — не будут ли изменены твои прежние распоряжения, когда эта армия сюда доберется?
— И это все? — насмешливо спросил ганд и посмотрел на Тирио. — Клянусь богом, она достойный отпрыск славного ансульского семейства! Она ведь, по всей видимости, тоже из твоей семьи, Тирио?
— Нет, господин мой. Мемер — дочь Галваманда.
— Дочь! — фыркнул ганд, и его пронзительный взгляд, устремленный на меня, вновь стал гневным; потом он наконец моргнул, опустил веки и сказал, почти сдаваясь: — Ну что ж, дочь так дочь. — Он поерзал, пытаясь сесть поудобнее, и поморщился. Потом потер виски, и я обратила внимание, как сильно огонь опалил его седые курчавые волосы. — И ты полагаешь, Тирио, что я пошлю с нею этому Галве полный перечень своих ближайших намерений и стратегических планов?
— Мемер, — спросила Тирио, — собираются ли горожане атаковать казармы?
— Я думаю, что да, — если увидят, что к городу по Восточной дороге приближается новое войско альдов, — честно призналась я. Я ведь не раз в то утро слышала требования немедленно изгнать из Ансула всех альдов до единого, не дожидаясь, пока подойдет присланное из Асудара подкрепление, и отобрать у них город, прежде чем они сами снова его у нас отберут.
— Но это вовсе не армия! — раздраженно, почти сварливо сказал Иораттх. — Это всего лишь посланник ганда всех гандов со своим эскортом. Я еще две недели назад отправил в Медрон гонца.
— Мне кажется, было бы лучше, если бы жителям города об этом сообщили, — как всегда мягко, заметила Тирио, а я прибавила:
— И побыстрее!
— Что?! Это что же, выходит, мои овцы взбунтовались против меня? — Тон у ганда был язвительный, но, похоже, сарказм этот был направлен на него самого.
— Да, взбунтовались, — подтвердила я.
— И превратились во львов, так? — тем же тоном спросил он, снова гневно на меня глянув. Потом минутку подумал и сказал: — В таком случае мне, пожалуй, жаль, что сюда действительно не настоящая армия направляется. А впрочем, мне мало что известно, и я совсем не уверен…
— Лучше было бы тебе быть совсем уверенным, господин мой, — сказала Тирио.
— А разве у меня есть возможность что-то узнать?! Мы здесь заперты, как куры в курятнике! Неужели те идиоты, что заняты только тем, что перегораживают мосты и дороги на подступах к городу, не в состоянии послать по той же дороге на восток несколько верховых, чтобы они выяснили наконец размеры этой «армии»?
— Они, несомненно, уже и послали, — отвечала я, весьма уязвленная его тоном. — Но возможно, наших разведчиков убили ваши солдаты.
— Ну что ж, придется нам играть в весьма рискованную игру, пока мы этого не узнаем, — сказал ганд. — Но я все-таки рискну: я по-прежнему утверждаю, что никакая это не армия, а посланник нашего верховного правителя в сопровождении отряда из двух десятков воинов. Так и передай своему Лорду-Хранителю. Да скажи, чтобы он постарался удержать своих львов — или овец, как угодно, — от преждевременного выступления. И пусть он придет сюда. На площадь. Вместе с поэтом Каспро. А я прикажу, чтобы меня вынесли туда, и тогда мы вместе сможем обратиться к горожанам. Успокоить их. Я уже слышал, как на днях Каспро легко успокоил огромную толпу, рассказав историю об Уре и Хамнеде. Клянусь Аттхом, этот Каспро очень умен!
Я вспомнила, как вежливо, даже изысканно ганд разговаривал на публике и с Орреком, и со своими офицерами. Теперь же он говорил резко, почти грубо, но, несомненно, потому, что страдал от боли. А может быть, еще и потому, что был вынужден разговаривать с какой-то женщиной. Я попыталась отвечать ему холодно и учтиво, но не выдержала и взорвалась:
— Наш Лорд-Хранитель тебе не подчиняется и не побежит по первому твоему зову, как собачка, господин мой! Он предпочитает принимать посетителей у себя, в своем доме. Так что, если тебе нужна его помощь, чтобы сохранить в городе спокойствие, будь добр явиться к нему сам!
— Султер Галва столь же хром, как и ты сейчас, Иораттх, — тихо заметила Тирио.
— Вот как? Это правда?
— Он стал хромым после пыток, — сказала я. — Побывав в темнице у твоего сына.
Мое дерзкое поведение явно разгневало ганда, но, услышав эти слова, он поднял на меня глаза и смотрел долго-долго, потом отвернулся и, еще немного помолчав, сказал:
— Ну что ж, ладно. Я сам отправлюсь к нему. Тирио, прикажи принести носилки, или какой-нибудь стул, или еще что-нибудь. Скажи людям, что мы с Лордом-Хранителем намерены провести открытые переговоры в этом — как его там? — в Галваманде. Не имеет смысла перечеркивать уже сделанное… Достаточно было… — Он не договорил и устало откинулся на подушки; лицо его было очень бледным, почти бесцветным, и очень мрачным.
Чтобы устроить подобные переговоры, сперва требовалось переговорить с представителями той и другой стороны, что наверняка вызвало бы в городе новую волну беспорядков. Иораттх раздавал поручения своим офицерам, когда мы услыхали где-то за Восточным каналом далекое призывное пение трубы. На этот призыв тут же откликнулся трубач в казармах.
А через несколько минут было получено сообщение, что показалось и само войско — точнее, отряд из двадцати всадников со знаменами в руках, как и предполагал ганд. До нас уже доносился все усиливавшийся шум толпы на холме Совета и на улицах, ведущих к Восточному каналу. Впрочем, поскольку за этим небольшим конным отрядом никакого войска так и не последовало, шум стал понемногу стихать.
Из окна, выходившего на юго-восток, были видны Речные ворота и мост Исма. Мы с Тирио видели, как отряд альдов подошел и остановился у полуразрушенной городской стены. Альды сразу вступили в переговоры с горожанами, охранявшими мост и дорогу. На эти переговоры, естественно, ушло какое-то время. Потом одному человеку из этого отряда разрешили спешиться и пешком войти в город через ворота. Сопровождаемый тремя или четырьмя десятками горожан, он прошел по мосту и прямо по Восточной дороге двинулся к казармам. Я заметила у него в руках жезл из белого дерева, который, как я вычитала в книгах по истории, всегда был символом мирных переговоров.
— А вот и твой посланник, господин мой! — воскликнула Тирио, оборачиваясь к ганду.
Вскоре в комнату быстрой походкой вошел офицер в голубом плаще с белым жезлом в руке; его сопровождала небольшая группа местных офицеров. Посланник отдал Иораттху честь и торжественно промолвил ровным раскатистым голосом, каким всегда говорили альды, выступая перед публикой:
— Я привез послание ганду Ансула Иораттху от ганда всех гандов, сына солнца, Верховного жреца и правителя Асудара, господина моего Акрея!
Иораттх чуть приподнялся на подушках, скрипнув от боли зубами, и склонил голову, изображая почтительный поклон, а потом сказал:
— Добро пожаловать, посланник государя нашего Акрея. Все свободны, Полле, — обернулся он к капитану, возглавлявшему свиту посланника. Затем он быстро глянул в нашу сторону — Тирио, я и верная Иалба стояли в изножье его постели — и коротко обронил: — Вон!
В ответ мне страшно хотелось зарычать, как Шетар, но я сдержалась и покорно последовала за Тирио.
— Он все расскажет нам, как только этот человек уйдет, — успокоила меня Тирио. — Зато теперь у нас есть немного свободного времени, так что скажи честно: ты есть не хочешь?
Мне хотелось и есть, и пить — путешествие через весь город и заградительные цепи альдов и горожан отняли у меня все силы. И Тирио тут же принесла мне поесть: стакан воды, маленький кусочек превратившегося в сухарь черного хлеба и пару потемневших сушеных фиг — больше она ничего не могла мне предложить. «Ага, — с улыбкой сказала Иалба, — осадный паек». Но я съела все это с огромной благодарностью, стараясь не уронить ни крошки, как того и заслуживает дар, преподнесенный одним бедняком другому.
Вскоре во дворе послышался топот — это посланник верховного ганда вышел из казармы, — и Иораттх крикнул:
— Эй, вы, ко мне!
«Мы что, собаки?» — с возмущением подумала я, но все же пошла к нему вместе с Тирио и Иалбой.
Иораттх сидел теперь почти прямо, и его суровое лицо, изрезанное глубокими морщинами, пылало как в лихорадке.
— Клянусь Аттхом, Тирио, нас, по-моему, в последний момент сняли с крючка! — воскликнул он. — Слава великому Аттху! А теперь послушайте меня. Я хочу, чтобы вы обе отправились в этот ваш дворец, где проживает тот, кто, по вашим словам, способен отвечать за эту толпу, и передали ему следующее: никакой армии из Асудара сюда не посылали. И не пошлют до тех пор, пока в городе будут сохраняться мир и спокойствие. Скажите также, что ганд всех гандов предлагает своим подданным в Ансуле полную свободу от уплаты контрибуции и заменяет ее обычным налогом, который им следует платить в сокровищницу Медрона, поскольку их государство становится протекторатом Асудара. Меня же сын солнца удостоил звания генерал-губернатора данного протектората. В свое время я приглашу правительство Ансула к себе на совет и сообщу ему наши указания относительно управления столицей и условия торгового обмена с Асударом. Определенное количество воинов здесь, разумеется, будет оставлено — в качестве моей личной охраны и для защиты города от его же собственных бунтарей, а также на случай вторжения на территорию Ансула армии Сундрамана или какого-то иного государства. Большая же часть расположенных в Ансуле войск вернется в Медрон — когда станет ясно, что вы согласились со всеми нашими требованиями. А теперь скажите, есть в этом проклятом городе хоть кто-то, способный должным образом ответить на все мои вопросы и действовать в соответствии с новым положением дел?
— Я могу передать твои слова Лорду-Хранителю, — предложила я.
— Хорошо, передай. Это все же лучше, чем тащить меня по улицам города на носилках или везти в тележке. Расскажи ему обо всем и возвращайся с положительным ответом. Да приведи с собой кого-нибудь из мужчин, с которыми хоть поговорить как следует можно. Клянусь Аттхом, с какой стати ко мне каких-то детей посылают, да еще и девчонок!
— А с такой, что женщины и девушки у нас в Ансуле считаются такими же гражданами, как и мужчины, а не собаками и не рабами! — опять не выдержала я. — Кстати, если бы ты умел писать, господин мой, то сам мог бы послать ваши так называемые указы нашему Лорду-Хранителю и сам бы прочел его ответ! — Меня просто трясло от гнева.
Ганд быстро и остро глянул на меня и только рукой махнул — чтоб я поскорее убиралась с глаз долой. А потом вдруг спросил:
— А ты, Тирио, не могла бы пойти вместе с нею?
— Хорошо, я пойду с Мемер, — кивнула она. — Так действительно будет лучше.
И впрямь так было гораздо лучше, потому что единственное, что я расслышала и оказалась способной понять из слов ганда, — это то, что нам приказано платить Асудару какие-то налоги, согласиться с ролью его протектората и перестать быть свободным государством, а значит, делать то, что нам прикажут альды.
Так что, когда мы добрались до Галваманда, мне понадобилось сперва услышать то, что Тирио рассказала Лорду-Хранителю о полученных гандом известиях, затем то, что сам он сказал собравшимся людям, а затем еще в течение целого дня прислушиваться к тому, что говорят на сей счет в народе, прежде чем я более или менее поняла: на самом деле Асудар предлагает нам обрести свободу — хотя и не бесплатно, — и, похоже, жители Ансула воспринимают это предложение как значительную победу.
Возможно, горожане сумели так быстро во всем этом разобраться именно потому, что полученная нами свобода имела вполне конкретную цену — в виде определенной суммы налога и различных торговых соглашений, — а в таких вопросах мои соотечественники чувствуют себя как рыба в воде.
Возможно, у меня с пониманием одержанной нами победы возникли такие трудности потому, что во имя этой победы никто не погиб. И на горе Сул не сражались за нее отважные герои. И люди перестали яростно спорить друг с другом на площади Совета. Все свелось к тому, что двое немолодых искалеченных людей, находясь в разных концах города, то и дело посылали друг другу гонцов с посланиями, дабы выработать некое соглашение, и вели себя при этом крайне осторожно и предусмотрительно. Впрочем, в Доме Совета продолжались яростные дискуссии. А на рыночных площадях только и говорили что о новом положении Ансула, и люди, как всегда, спорили и жаловались на жизнь.
А перед Домом Оракула по-прежнему бил возродившийся фонтан.
На улицах стали постепенно восстанавливать святилища наших богов; крошечные храмики вновь появились на всех перекрестках и мостах, фигурки богов вынесли из тайников, а алтари отчистили, отмыли, заново покрыли резьбой и убрали свежими цветами. Камень Леро порой просто скрывался под грудой различных подношений. А в праздник Иене, на весеннее равноденствие, мужчины и мальчики принесли в город множество дубовых и ивовых веток, сплели из них гирлянды и шумной процессией прошли по улицам, а потом развесили эти гирлянды над дверями домов. А женщины танцевали на рыночных площадях и на площади Совета и пели в честь Иене старинные гимны, и пожилые женщины учили молодых, вроде меня, не знавших ни фигур танца, ни слов этих песен.
В течение всего лета из разных уголков Ансула в столицу все приходили и приходили люди. Часто они следовали прямо за альдами, войска которых выводили из северных городов и собирали у нас перед отправкой на восток, за горы, в Асудар. Жители других городов приходили в Ансул, чтобы понять, что же происходит в столице, и принять участие в выборах; за ними следом к нам повалили купцы и торговцы. В начале осени в Ансул из Томера приехал тамошний Хранитель Дорог. Он остановился в Галваманде, и наша Иста в течение двух недель пребывала в состоянии крайней нервозности, прямо-таки из сил выбиваясь, чтобы гость непременно был принят так, как того требовала честь дома.
К этому времени Совет заседал уже регулярно и Галваманд перестал быть центром политических дебатов и выработки дальнейших планов действия. Теперь он стал просто домом Лорда-Хранителя, где, правда, велись бесконечные разговоры о восстановлении торговли, о возобновлении перевозок кормов и о рынках крупного рогатого скота, а также о том, что можно получить в Медроне или Дюре в обмен на поставки, скажем, сушеных абрикосов или маринованных оливок. Первое голосование в только что избранном Совете Ансула привело к тому, что Главным Хранителем Дорог был единогласно избран Султер Галва, которому вместе с этим постом вручались и определенные денежные средства для приема гостей и содержания дома. Деньги, правда, были выделены не слишком щедро, но для нас, обитателей Галваманда — и особенно для тех, кто занимался домашним хозяйством, — это было неслыханное богатство и весьма обнадеживающий знак того, какова разница между выплатой Асудару чудовищной контрибуции и уплатой стабильных налогов в качестве его протектората.
Тогда, в самый первый раз, я совершенно неправильно поняла слова Иораттха и неверно судила о намерениях нового верховного правителя Асудара. Тогда мне хотелось одного: отринуть всякую «опеку» со стороны государства-завоевателя, любую попытку манипулировать Ансулом, любой политический компромисс. Мне хотелось уничтожить все существующие между нашими странами связи, бросить вызов тираническому господству Асудара. Мне хотелось навсегда изгнать ненавистных альдов с нашей земли, уничтожить их… Ведь я дала обет, поклялась, когда мне было всего восемь лет, всеми нашими богами и душой моей матери, что непременно добьюсь этого.
Но свое обещание я нарушила. Мне пришлось его нарушить. Ибо обломки одного восстанавливают целостность другого.
Посланник верховного правителя Асудара вернулся в Медрон через несколько дней после того, как я передала Иораттху слова нашего Лорда-Хранителя о нашей готовности принять условия альдов. Посланник уезжал в сопровождении отряда из сотни воинов под командованием отца Симме. Сам Симме тоже возвращался домой и ехал рядом с отцом. Об этом мне рассказали Иалба и Тирио, которых я попросила разузнать, что с ним сталось. Ведь я больше ни разу не видела Симме, с тех пор как мы с ним пробирались сквозь ряды горожан и альдов.
Тот отряд, что сопровождал посланника в Медрон, в одной из крытых повозок с провизией вез с собой пленника: Иддора, сына Иораттха. Мы слышали, что его заковали в цепи и одели как раба. И все это время ему не разрешали ни бриться, ни стричь волосы, так что он был лохматый и с длинной бородой, что у альдов считается большим позором.
Тирио рассказывала, что Иораттх даже не взглянул на сына ни разу, с тех пор как узнал о его предательстве, и никому не позволял не только спрашивать, как следует поступить с Иддором, но и даже произносить при нем имя сына. Он, однако, приказал выпустить из тюрьмы всех жрецов, даже тех, которые были прямыми подручными Иддора. Рассчитывая на снисходительность Иораттха, эти жрецы попытались было ходатайствовать за Иддора, прикрываясь выдуманной историей, будто они тогда «просто спрятали» ганда в пыточной камере, спасая его от мести взбунтовавшейся толпы. Но Иораттх таких ходатаев слушать не пожелал; он велел жрецам немедленно замолчать и отослал их прочь.
Поскольку ганд побывал в огне, был опален самим Аттхом и оставлен им в живых, альды считали теперь, что он в той же степени угоден их Испепеляющему богу и не менее свят, чем любой из жрецов. Понимая, что в таких обстоятельствах они лишаются большей части своих преимуществ, почти все жрецы предпочли сразу вернуться в Асудар и отправились туда вместе с тем отрядом, что сопровождал посланника. И военачальники, которым Иораттх предоставил право самостоятельно решать все вопросы, касавшиеся его сына, сочли за лучшее побыстрее отослать столь неудобного и странного узника на
родину. Пусть уж там ганд всех гандов определит, как с ним поступить.
Я была страшно разочарована подобным решением вопроса. Мне действия этих офицеров показались позорно трусливыми и чересчур нерешительными. Я мечтала о том, чтобы этого предателя непременно наказали по заслугам, причем незамедлительно. Я знала, что альды презирают любое предательство, тем более предательство отца сыном. Интересно, думала я, подвергнут ли его в Асударе тем пыткам, каким он подвергал Султера Галву? Или, может, его похоронят заживо, как тех жителей Ансула, которых стаскивали в южные болота и втаптывали во влажную, пропитанную соленой водой землю?
Неужели я действительно хотела, чтобы Иддора подвергли мучительным пыткам или заживо закопали в землю?
Но если нет, то чего же я хотела? И почему в течение всего солнечного жаркого лета, первого лета нашей свободы, я чувствовала себя совершенно несчастной? Почему меня не оставляло ощущение, что все вопросы так и остались нерешенными, что в этой борьбе мы ровным счетом ничего не завоевали?
Золотым сентябрьским днем Оррек выступал на Портовом рынке. День был совершенно безветренный, и белая вершина Сула сверкала в небесах над темно-синими водами залива. Кажется, все в городе пришли на рыночную площадь, чтобы послушать Оррека. Он продекламировал несколько глав из «Чамбана», и люди стали просить еще и не отпускали его. Я стояла слишком далеко, и слышно мне было плоховато. К тому же тревога по-прежнему не оставляла меня, и я, выбравшись из толпы, в одиночестве побрела вверх по Западной улице. Вокруг не было видно ни души. Все остались там, у меня за спиной, на рыночной площади, и слушали поэта. Коснувшись священного камня на пороге, я вошла в дом и сразу же направилась по коридорам, мимо покоев Лорда-Хранителя, туда, где находилась тайная комната. Я начертала в воздухе заветные слова, дверь открылась, и я вошла в эту тихую обитель книг и теней.
За последние несколько месяцев я ни разу не приходила сюда. Все было как обычно: чистый ровный свет лился из окошек в потолке, вокруг царила полная тишина, воздух был неподвижен и книги по-прежнему терпеливо ждали читателей, ровными плотными рядами стоя на полках. А если прислушаться, то из дальнего, темного конца просторной комнаты доносилось слабое журчание воды. Никаких книг на столе не было, никаких следов присутствия Лорда-Хранителя я тоже не заметила. Но знала, что здесь всегда присутствуют иные существа и тени.
Вообще-то, я собиралась почитать книгу Оррека, но стоило мне остановиться перед книжным шкафом, и рука моя сама потянулась к «Элегиям», к той книге, из которой я так старательно переводила тексты, написанные на аританском языке, — это было еще до того, как у нас в доме появились Грай и Оррек. «Элегии» — это сборник небольших стихотворений, в которых оплакиваются или восхваляются люди, умершие тысячу лет назад. Имена чаще всего не указаны, и все, что мы можем узнать об упомянутых в стихах людях, — это как воспринимает их сам поэт.
В одном стихотворении, например, говорилось: «Суллас, в доме у которой всегда царил такой порядок, что даже плиты во дворе сияли, изображая сложный лабиринт, теперь ушла отсюда и блюдет порядок в обители молчанья. А я все жду, все звук ее шагов надеюсь уловить».
А другое стихотворение, над которым я не раз размышляла в те дни, когда перестала ходить в тайную комнату, было посвящено дрессировщику лошадей, и там были такие слова: «…и где бы ни был он, они к нему стремятся, подобно длинногривым теням».
Я присела за стол, на привычное место, раскрыла «Элегии» и словарь аританского языка, где на полях было множество пометок, оставленных разными людьми в течение нескольких веков, и принялась дальше разбирать это стихотворение.
Когда мне удалось — по мере возможности, конечно, — проникнуть в его смысл и навсегда сохранить в памяти эти чудные строки, свет в потолочных окошках стал тускнеть. Кончался день Леро, день равноденствия, и отныне дни должны были становиться все короче и короче. Закрыв книгу, я продолжала сидеть за столом, не зажигая лампу; я просто сидела, впервые за долгое время ощущая мир в душе и понимая, что нахожусь именно там, где и должна находиться. И постепенно это ощущение захватило меня целиком, глубоко проникло мне в душу и поселилось там. Я не сопротивлялась, ибо лишь теперь я наконец обрела способность спокойно думать, и мысли мои стали неторопливыми и ясными, причем мне не нужно было облекать их в словесную форму — мне просто стало понятно, что для меня важно и что мне еще необходимо сделать в полном соответствии со своим теперешним разумением. Я уже много месяцев не могла вот так остановиться и подумать.
Именно поэтому, когда я встала, собираясь уходить из тайной комнаты, я взяла с собой книгу — раньше я никогда бы этого не сделала. Я взяла с собой «Ростан», ту книгу, которую в детстве называла «Красной сверкающей», когда еще любила строить из книг домики и медвежьи берлоги.
Я слышала, с какой затаенной страстью и тоской говорил об этой книге Оррек, считая это творение великой Регали навсегда утраченным. И Лорд-Хранитель, слушая его, не сказал ему тогда ни слова в ответ.
И о книгах, что хранились в тайной комнате, он Орреку никогда и ничего не рассказывал. Насколько мне было известно, даже о самом существовании этой комнаты по-прежнему знали только он и я.
То, что древний оракул говорит с людьми с помощью каких-то книг, людям было, конечно, известно, хотя и довольно смутно. А теперь они собственными ушами услышали голос оракула, но так ничего об этом и не спросили; они не хотели ничего узнавать об этих таинствах, не хотели в них копаться; они предпочли оставить все так, как было прежде. В конце концов, в течение стольких лет книги в Ансуле находились под запретом; альды наложили на них проклятие, считая их «порождением дьявола», и было слишком опасно даже просто знать о том, что книги еще существуют. И хотя наш народ всегда жил, живет и прекрасно себя чувствует в окружении духов и теней наших предков, мы все же вряд ли отличаемся особой любовью к сверхъестественному. Правда, Читателей Книг в народе весьма уважали, питая к ним — и к Султеру Галве, и даже ко мне — некое суеверное почтение; и все же люди предпочитали иметь дело с тем Султером Галвой, который был Главным Хранителем Дорог Ансула. Что ж, оракул свое дело сделал, мы обрели свободу, и теперь можно было вновь возвращаться к привычной жизни.
Но мое предназначение в этой жизни стало теперь немного иным. Вот что я поняла наконец, сидя в тайной комнате за столом и держа в руках закрытую книгу.
Глава 16
Оррек, Грай и Шетар вернулись с Портового рынка уже ближе к вечеру. Оррек, едва поднявшись к себе в комнату, буквально рухнул на постель и проспал несколько часов — после утомительного выступления он всегда так делал, если у него была такая возможность. И когда я вошла к ним, он как раз приходил в себя и, весь взлохмаченный, бродил босиком по комнате. «Привет конокрадам!» — сказал он, как тогда на крыльце, и Грай тоже воскликнула: «А вот и ты! Мы как раз говорили, что хорошо бы прогуляться по старому парку, пока совсем не стемнело».
Шетар не понимала даже отдельных слов, хотя собаки отлично понимают, например, слово «прогулка», зато она отлично понимала намерения людей, догадываясь о них даже раньше, чем сами люди осознавали, что хотят что-то сделать. Вот и теперь она уже подошла, грациозно ступая, к дверям и села там, выжидающе на нас поглядывая. Пушистая кисточка на хвосте так и мела пол. Я почесала львицу за ушами, и она прижалась головой к моей руке и хрипло замурлыкала.
— Я принесла это тебе, Оррек, — сказала я, протягивая ему толстую книгу в красном с золотом переплете. Он подошел, еще плохо соображая со сна, чуть пошатываясь и зевая, как Шетар. Но когда он взял книгу в руки и понял, что это такое, рот у него сам собой открылся; потом он крепко сжал губы, лицо его будто окаменело, да и сам он застыл как изваяние; казалось, он даже дышать перестал. Прошло довольно много времени, прежде чем Оррек наконец выдохнул:
— Ох, Мемер! Что же это ты мне подарила?
— То, что и должна была подарить, — сказала я.
И он, с трудом оторвав взгляд от книги, пристально посмотрел на меня. Глаза его сияли. Было очень приятно видеть его таким счастливым.
Грай тут же подошла к нему, и он показал ей, что это за книга, но из рук ее так и не выпустил, по-прежнему прижимая к себе с нежностью любовника. Потом он шепотом прочитал первую строку и сказал:
— Я знал, знал, что они должны быть где-то здесь! Ведь должно же было сохраниться хоть что-то от той прекрасной библиотеки! Но такого… — Он снова посмотрел на меня. — Такого я не ожидал. Неужели она была… неужели все они здесь, у вас в доме, Мемер?
Я колебалась. Грай, умевшая столь же быстро догадываться о чужих чувствах и намерениях, как Шетар, положила руку ему на плечо и сказала:
— Погоди, Оррек.
А мне надо было решать быстрее, каковы же на самом деле мои намерения, имела ли я право дарить эту книгу и как мне придется отвечать за этот поступок. Разве эта книга принадлежала мне, чтобы я могла запросто подарить ее другому человеку? А если она все же принадлежит и мне, то принадлежат ли мне и другие книги? И как быть с другими людьми, которые не меньше меня любят книги?
Единственное было для меня очевидно: лгать Орреку я не могла. Это отчасти и был ответ на вопрос о моей ответственности. Что же касается своих прав, то я должна была еще их потребовать.
— Да, — сказала я. — Здесь есть и другие книги. Только вряд ли я смогу отвести тебя туда, где они находятся. Я спрошу у Лорда-Хранителя. Но по-моему, это место закрыто для всех, кроме нас. Кроме членов моей семьи. Я думаю, что эту тайну храним не столько мы, сколько духи и тени нашего дома, наши предки. И духи тех людей, что жили здесь прежде, когда-то давно. Тех, что велели нашим далеким предкам остаться здесь.
Оррек и Грай поняли меня сразу. Они и сами обладали дарами, переданными им по наследству, и прекрасно понимали, какие горести и радости приносит то, что заложено в нас с рождения; то, чем одарили нас тени наших предков и духи тех мест, где мы живем.
— Оррек, позволь мне сперва сказать ему, что я подарила эту книгу тебе, — продолжала я. — Я ведь сделала это без спросу. — На лице Оррека отразилась тревога, и я поспешила его успокоить: — Все будет хорошо. Но мне необходимо поговорить с ним.
— Конечно.
— Лорд-Хранитель никогда не говорил с вами о книгах, потому что знать об этом было очень опасно, — сказала я. Я чувствовала, что должна защитить моего учителя и как-то оправдать его молчание. — Ему так долго пришлось их прятать. Ото всех. Альды, правда, никогда бы их здесь не нашли. Здесь книги были в безопасности, и люди, которые здесь живут, тоже были в безопасности, потому что сами они книг не хранили и не знали, где точно те находятся. Но в Ансуле всегда знали: книги можно и нужно нести сюда, в Галваманд, — тайком, ночью, спрятав их, скажем, в охапку старой одежды, или в вязанку дров, или в сено. Да, люди порой рисковали жизнью, принося сюда книги, зато они твердо знали: здесь эти книги сумеют сохранить, здесь они будут в безопасности. Некоторым семьям удалось спрятать и кое-что из своих книг — например, Камам или Гелбам; сюда также приходили и совсем незнакомые нам люди, которые случайно нашли какую-то книгу и сохранили ее, спасли от альдов. И все эти люди несли книги к нам в дом. Но теперь… теперь ведь не нужно больше прятаться, верно? А ты не мог бы… не мог бы ты когда-нибудь просто почитать людям книгу, Оррек? Не пересказывать ее содержание, не декламировать отрывки из нее, а просто почитать? Чтобы все узнали и поняли: книги — это не злокозненные демоны, а хранилище нашей истории, нашей души, нашей свободы!
Оррек смотрел на меня, и на лице его сияла такая светлая, такая радостная улыбка, что, казалось, он вот-вот счастливо рассмеется.
— По-моему, это ты должна читать людям книги, Мемер, — сказал он.
И тут Шетар, окончательно утратив терпение, с подвывом зевнула.
Оставив Оррека наедине с его сокровищем, мы с Грай поспешили в старый парк, позволив Шетар вести нас вверх по тропе, едва заметной в густых сумерках. Когда мы добрались до Фонтана Дениоса, львица удалилась в заросли и, шурша опавшей листвой, принялась охотиться на мышей, а мы уселись на старую мраморную скамью у источника и стали смотреть, как внизу, в городе, вспыхивают в окнах огоньки. Отсюда было видно, как на спокойной поверхности залива, освещенной последними, пурпурными лучами заката, тоже загораются огоньки — в лодках рыбаков, вышедших на ночную ловлю. Гора Сул на фоне гаснущего неба казалась черным конусом удивительно правильной формы. Рядом с нами неслышно пролетела сова, и я сказала:
— Добрый знак для тебя!
— И для тебя, — откликнулась Грай. — А представляешь, в Трандледе сов считают предвестниками несчастья! Там люди вообще ужасно мрачные, унылые. Наверное, в тех краях слишком много лесов и дождей.
— Вы, наверно, весь мир объездили, — сказала я мечтательно.
— Ой, что ты! Куда нам! Мы еще никогда в Сундрамане не бывали. Или на мысе Манва, или в Мелюне. А из городов-государств видели только Сентас и Пагади, да еще отчасти Вадалву. К тому же, даже если тебе кажется, что ты уже неплохо знаешь какую-то страну, там всегда найдется какое-то селение или гора, где ты никогда не бывал. Нет, мы пока еще маловато знаем о нашем мире.
— Как ты думаешь, когда вы решите отправиться дальше?
— Ну, до сегодняшнего дня я считала, что Оррек уже подумывает о том, чтобы двинуться в Сундраман — может, даже еще до прихода зимы или весной. Он хочет сам познакомиться с тамошней поэзией, прежде чем возвращаться в Месун. Но теперь… Теперь я сильно сомневаюсь, что он соберется куда-то ехать, пока не увидит все те книги, которые ты сможешь ему показать.
— И тебе жаль?
— Жаль? Почему? Ты ведь сделала его таким счастливым, а я люблю, когда он счастлив. Ему ведь счастье непросто достается. Душа у него слишком требовательная… Ты же знаешь, что он может сделать с толпой и как вроде бы легко ему это дается, как все его обожают — и он словно растворяется во всем этом, а потом… наступает опустошение, и он чувствует себя совершенно обессилевшим и насквозь фальшивым. «Это же совсем не я сделал, — так он тогда говорит, — это все священные ветры, которые, продувая меня насквозь, опустошают мою душу настолько, что я становлюсь похож на высохшую траву…» Оррек по-настоящему счастлив, только когда у него есть возможность читать и писать в тишине, следуя исключительно зову собственного сердца.
— Вот потому я его и люблю, — сказала я. — Я и сама такая же.
— Я знаю, — сказала Грай и обняла меня за плечи.
— Но ведь тебе-то наверняка хотелось бы отправиться дальше, Грай! А не сидеть здесь просто так целый год перед грудой книг, слушая бесконечные споры о политике.
Она рассмеялась.
— А мне здесь нравится. И Ансул мне нравится. Хотя, если мы действительно останемся здесь на всю зиму — а теперь мне кажется, что так и будет, — я все-таки, наверное, поищу кого-то, кому помощь в обучении лошадей требуется.
— «И где бы ни был он, они к нему стремятся, подобно длинногривым теням», — процитировала я, и она попросила меня прочесть ей все стихотворение до конца. Я прочла.
— Да. Этот поэт все правильно понял, — сказала она. — Мне нравятся эти стихи.
— Гудит надеется раздобыть несколько лошадей для нашего Лорда-Хранителя, они ведь ему скоро понадобятся.
— Ну да, это же ясно как день. Я могла бы воспитать для него жеребенка. Но раньше или позже мы все равно уедем. Все равно вернемся в Урдайл, в Месун, чтобы Оррек мог поделиться полученными им знаниями с тамошними учеными. А теперь он, конечно, только и будет заниматься переписыванием той книги, которую ты ему дала, и всех тех, которые ты еще ему дашь.
— В этом я могла бы ему помочь.
— Он же тебя измучает, если ты ему такую помощь предложишь!
— А мне эта работа очень нравится. Я выучиваю книгу почти наизусть, пока ее переписываю.
Грай некоторое время молчала, потом сказала:
— Если мы действительно вернемся в Урдайл — следующей весной, или летом, или еще позже, не важно… ты не хотела бы поехать с нами? Подумай.
— Поехать с вами… — эхом откликнулась я.
Порой, еще в начале лета, мне мерещилось, что я еду в их видавшей виды кибитке, которая пока стоит у нас в конюшне, а Звезда и Бранти, впряженные в нее, неторопливо бредут по дороге через какую-то бескрайнюю золотистую долину, и от тополей на земле длинные-длинные тени. Или же мы едем по какой-то горной дороге, и Оррек правит лошадьми, а Грай, Шетар и я бредем следом за кибиткой. Эти беспочвенные, как мне казалось, фантазии помогали мне отвлечься от тревог и волнений, которыми были полны те дни — время пожаров, народных выступлений и страха.
И теперь вдруг Грай превратила мои мечты в реальность. Передо мной, казалось, уже простирается та дорога, и я сказала:
— Я бы поехала с вами куда угодно, Грай.
Она на секунду прижалась щекой к моей голове.
— Значит, мы действительно могли бы поехать вместе.
Я задумалась, пытаясь понять, что сейчас для меня всего важнее и что именно я должна сделать в данный момент. И наконец сказала:
— Но я бы все равно вскоре сюда вернулась.
Грай молчала, ожидая пояснений.
— Я не смогла бы оставить его и никогда сюда не вернуться.
Она только кивнула: она меня понимала.
— Но есть и еще кое-что. Дело в том, что я принадлежу Галваманду. По-моему, теперь Читатель — это я. Не он. Он был им раньше, но теперь это в прошлом. — Я изливала свои мысли, понимая, что Грай вряд ли догадывается об истинном смысле сказанных мною слов. И попыталась объяснить: — Видишь ли, здесь есть некий голос, который должен говорить устами того, кто может… кто может спросить, кто может прочесть… Лорд-Хранитель научил меня всему. Он передал мне свое умение и понимание того, о чем я только что сказала. Он хранил эти знания для меня и бережно их мне передавал. И теперь эту ношу предстоит нести мне, а не ему. И я должна вернуться к своим обязанностям. Я должна остаться здесь.
И снова Грай молча кивнула, очень серьезно на меня глядя, и глаза ее были полны сочувствия и понимания.
— Оррек, конечно, тоже мог бы многому меня научить, — продолжала я и тут же, поняв, что зашла слишком далеко, что прошу слишком многого, внутренне съежилась, ушла в себя. Но Грай воскликнула:
— Вот уж тогда он был бы абсолютно счастлив! — Она сказала это совершенно искренне и, видимо, действительно так думала. — Иметь книги, о которых он так страстно мечтал, и тебя в качестве ученицы, чтобы можно было вместе с тобой эти книги читать, — ах, Мемер, ты можешь больше не беспокоиться о том, что тебе придется покинуть Галваманд! Скорее уж мне придется думать о том, как заставить его уехать отсюда. Да и будет ли это вообще возможно? Хотя, мне кажется, тебе бы понравилось путешествовать. Мы обычно останавливаемся ненадолго в том или ином городе или селении, разыскиваем там поэтов и музыкантов, и они рассказывают нам свои истории, поют песни. И Оррек тоже им что-то рассказывает и поет. А еще они приносят и показывают ему книги и приводят маленьких мальчиков, которые уже знают наизусть «Клятву Хамнеды», а также старух, которые еще помнят старинные песни и сказания… А потом мы всегда возвращаемся в Месун. Это прекрасный город, сплошные холмы и башни! Я знаю, Орреку очень хотелось взять тебя туда, он сам мне об этом говорил. Он бы познакомил тебя с тамошними учеными, и вы бы все вместе читали разные книги. Ты бы могла дать им знания об Ансуле, а сама бы приобрела и привезла с собой в Галваманд те знания, которые они бы тебе подарили… Но самым лучшим во всем этом было бы то, что ты все время была бы со мной.
Я наклонилась и поцеловала ее чуть загрубелую, сильную, маленькую руку, а она поцеловала меня в волосы.
Мимо нас прыжками пронеслась Шетар — дикая и свободная львица в подступающих сумерках.
— Наверно, ужинать пора, — сказала Грай и встала. Шетар тут же подбежала к ней, и мы стали спускаться с холма к дому. Оррек, разумеется, с головой ушел в «Ростан», и его пришлось буквально отдирать от книги, так что все мы втроем к столу опоздали и пришли, когда даже Иста наконец села и начала есть.
Теперь мы ели в столовой, а не в буфетной, потому что за столом собиралось человек двенадцать, не меньше, в том числе и новые слуги, а также молодой муж Состы и гости, имевшиеся в доме постоянно. Кстати, я еще не рассказала о свадьбе Состы. По случаю такого торжества мы тщательно подмели и вымыли передний двор; вынесли весь битый камень и весь мусор, остававшийся еще с тех пор, как альды разграбили и разрушили наш дом. Мы вновь посадили в мраморные ящики цветы и натянули бечевки для вьюнков, которые тут же обвили все стены, метя своими плетями мозаичный пол из красных и желтых плиток. Церемония бракосочетания состоялась жарким полднем в самом конце лета, в день Деори. Собралось множество гостей с той и с другой стороны. Иста устроила чудесный пир, и все долго танцевали под луной, медленно плывшей над нашим двором. И Иста говорила, глядя на танцующих: «Почти как в добрые старые времена! Почти!»
А в тот вечер гостей в доме не было, если не считать Пера Актамо, который бывал у нас так же часто, как у себя дома. Его выбрали в Совет и очень ценили из-за дружбы с гандом Иораттхом, ныне ставшим генерал-губернатором Ансула. Близкие отношения у Пера с Иораттхом установились благодаря Тирио Актамо, кузине Пера. Самой же Тирио досталась на редкость сложная роль: некогда рабыня-наложница тирана, она теперь стала женой генерал-губернатора. Будучи жертвой завоевателей, она все же одержала над ними победу. Правда, кое-кто в Ансуле по-прежнему обзывал ее шлюхой и бесстыдницей, но тех, кто ее любил, было гораздо больше, в народе ей даже дали прозвище Госпожа Свобода. Тирио все это воспринимала с ровным мягким спокойствием; для нее словно не существовало такой вещи, как двойная верность. Многие в итоге пришли к выводу, что она всего лишь несчастная женщина, которой многое довелось пережить, с которой плохо обращались и которая все же, благодаря прекрасному воспитанию и доброму сердцу, сумела очень неплохо распорядиться своей странной, переменчивой судьбой. Так оно, в общем, и было на самом деле, однако дело не только в этом. Например, Пер Актамо, человек весьма честолюбивый и от природы обладавший чрезвычайно живым умом, советовался с Тирио почти так же часто, как с Лордом-Хранителем.
Кстати, именно Пер принес нам в тот день весточку от Тирио. Когда мы после обеда, как всегда, перебрались в покои Лорда-Хранителя, то даже смогли выпить по нескольку капель золотистого крепкого вина, присланного нам в подарок из Эссангана тамошним Хранителем Дорог. Этот замечательный напиток, сделанный на местных виноградниках, точно состоял из меда и огня. Один за другим мы поднесли свои бокалы к священной нише, испрашивая благословения богов, выпили, снова расселись по местам, и Пер сообщил:
— Моя кузина наконец убедила генерал-губернатора испросить разрешения у Лорда-Хранителя Ансула нанести ему визит, и я с удовольствием передаю эту просьбу. Хотя в устах Иораттха она сперва и звучала несколько неучтиво, как это свойственно альдам. Впрочем, пожелание встретиться было, по-моему, высказано Иораттхом от чистого сердца.
— Что ж, я, собственно, так это и расценил, — сказал Лорд-Хранитель с легкой усмешкой.
— Скажи честно, Султер, ты способен выдержать встречу с ним? — спросил Пер.
— Я ничего не имею против самого Иораттха, — сказал Лорд-Хранитель. — Он солдат и следовал данным ему приказам. К тому же он, будучи человеком верующим, был вынужден подчиняться жрецам. Пока они его не предали. Каков же он сам по себе, я понятия не имею. Но мне было бы интересно это узнать. И то, что твоя кузина так любит его, говорит в общем в его пользу.
— И с ним всегда можно поговорить о поэзии, — вставил Оррек. — Он отлично чувствует ритм и мелодию стиха.
— Хоть и не умеет читать, — буркнула я.
Лорд-Хранитель быстро глянул в мою сторону. Меня по-прежнему считали девчонкой, и в обществе взрослых мужчин и женщин я все еще имела право только слушать, но уж никак не высказывать собственное мнение. Впрочем, я и сама предпочитала помалкивать. Но с недавних пор мне стало ясно: когда я все же что-то говорю, Лорд-Хранитель всегда очень внимательно прислушивается к моим словам.
Пер Актамо тоже вскинул на меня свои ясные темные глаза. Перу я, похоже, нравилась; он все время меня поддразнивал, делал вид, что «до ужаса» потрясен моей «ученостью». Он вообще всегда разговаривал со мной как с равной и порой даже невольно флиртовал со мною, сам того не замечая. Он был добрый и красивый человек, и я всегда была чуточку в него влюблена. Раньше я часто мечтала, как в один прекрасный день выйду за него замуж. Мне кажется, я вполне могла бы это сделать, стоило только захотеть. Но тогда я просто еще не была к этому готова. И мне совсем не хотелось становиться взрослой. Я уже обрела одну огромную любовь — как дочь и наследница семейства Галва, но мне никогда еще не дарили того, что предлагали мне Грай и Оррек: свободы — свободы ребенка, младшей сестры. И я страстно об этой свободе мечтала.
Вдруг Пер спросил меня:
— Неужели ты хочешь научить ганда читать, Мемер?
Его насмешливый тон и пристальный взгляд Лорда-Хранителя тут же заставили меня проявить свой нрав.
— Неужели он, альд, позволит какой-то женщине чему-то его учить? Хотя если ганд Иораттх всерьез намерен управлять Ансулом и его жителями, то лучше бы ему все же перестать бояться книг!
— Возможно, этот дом не самый подходящий для того, чтобы отстаивать подобную точку зрения, — сказал Пер. — Здесь есть по крайней мере одна книга, которая, по-моему, любого заставит бояться наших богов.
— Говорят, сегодня Ансул покинула последняя группа жрецов; они ушли в Асудар вместе с войсками, — заметила Грай, и смысл ее слов поняли все.
— Иораттх оставил при себе лишь нескольких священнослужителей, — сказал Пер, — чтобы они читали молитвы и отправляли необходимые обряды. А в случае чего могли бы, наверное, и демонов изгнать. Сам-то он, правда, не считает, что здесь так уж много демонов, как это представлялось его сыну.
— Что ж, у каждого свое видение предмета, — заметила Грай.
— «Тот бог, что в душе и в камне увидит бога», — прошептал Оррек на своем родном языке строчку из стихотворения Регали.
Но Лорд-Хранитель этого не расслышал, поглощенный своими мыслями. А потом вдруг спросил у меня, словно все это время ему не давала покоя шутка Пера:
— А что, ты и впрямь стала бы учить ганда Иораттха читать, Мемер? Если б он, конечно, согласился?
— Я стала бы учить любого, кто этого захочет, — ответила я. — Как ты меня учил.
Потом разговор пошел о другом, и, когда было условлено, что визит генерал-губернатора и его супруги в Галваманд состоится через четыре дня, Пер откланялся и ушел. Оррек уже зевал во весь рот, и вскоре они с Грай отправились спать. Я встала и посмотрела, есть ли у Лорда-Хранителя все необходимое, прежде чем тоже уйти.
— Задержись еще на минутку, Мемер, — вдруг попросил он.
И я охотно подчинилась. После того как я вернулась в тайную комнату, как бы возобновив связь с собственным прошлым, я почувствовала, что у нас с ним все опять стало как прежде. И наши отношения, которые, как мне казалось, несколько охладели, вновь стали такими же теплыми и прочными, какими были всегда. Разумеется, теперь у Лорда-Хранителя возникли новые отношения и связи со многими другими людьми, да и у меня появились новые знакомства и привязанности; мы уже не так отчаянно нуждались друг в друге, не искали друг в друге поддержки и утешения, но разве это было так важно? Как прежде, существуя в нищете и забвении, так и теперь, постоянно находясь среди людей в кипящем жизнью деловом мире, мы с ним были крепко-накрепко связаны. Нас связывали и тени наших предков, и то тайное могущество, которым мы оба обладали, и те знания, которые он дал мне, и нежная любовь друг к другу, и взаимное уважение.
— Неужели ты ни разу с тех пор не была в нашей комнате? — спросил меня Лорд-Хранитель.
— Была. Сегодня. Впервые.
— Это хорошо. А я почти каждую ночь думал, что вот сейчас пойду туда и немного почитаю, и не мог себя заставить. Ах, насколько же это было легче «в добрые старые времена», как говорит Иста! Тогда я мог хоть целый день вести беседы о ценах на зерно, а потом полночи читать Регали.
— Я отдала «Ростан» Орреку, — сказала я.
Он непонимающе посмотрел на меня, и я пояснила:
— Я вынесла «Ростан» из тайной комнаты. Мне показалось, что уже пора.
— Пора, — эхом откликнулся он. И отвернулся, о чем-то задумавшись. Потом кивнул и снова повторил: — Да, пора.
— А это действительно правда или мне только кажется, что лишь мы двое можем войти в тайную комнату?
— Да, только мы, — ответил он, думая о чем-то другом.
— Тогда, наверное, нужно было бы вынести оттуда некоторые книги? Самые обычные. Ведь мы для того и хранили их, чтобы потом ими могли пользоваться и другие люди, верно?
— Да, уже пора, — сказал он. — Да. Я думаю, ты совершенно права, Мемер. Хотя… — И он снова задумался. — Идем. Давай сходим туда. — Он рывком поднялся с кресла. Я схватила маленький светильник и следом за ним пошла по разрушенным коридорам в дальнюю часть дома, к той стене, которая только казалась стеной, глухой стеной дома, в которой нет и никогда не было никаких дверей. Лорд-Хранитель написал в воздухе те буквы, которые на языке наших далеких предков, пришедших сюда из Страны Восхода, складываются в слово «откройся», дверь открылась, и мы вошли. Потом я обернулась и, начертав в воздухе другое слово, закрыла дверь, и она стала стеной.
Я подошла к столу и зажгла большую лампу, стоявшую на нем. Комнату сразу окутал ее мягкий желтоватый свет, и она будто расцвела под этим светом, и надписи на корешках книг стали поблескивать золотыми искрами.
Лорд-Хранитель коснулся края алтаря, благословляя богов, выпрямился и огляделся. Потом сел за стол и, машинально потирая больное негнущееся колено, спросил:
— Что ты читала в последнее время?
Я принесла «Элегии» и положила перед ним на стол.
— И далеко ты продвинулась?
— До «Укротителя лошадей».
Он открыл книгу и отыскал это стихотворение.
— Можешь прочесть его наизусть?
Я продекламировала десять строк на аританском.
— И как тебе?
Я изложила ему свое понимание этого стихотворения — почти в тех же словах, что и Грай, — и он, пряча улыбку, сказал:
— Что ж, весьма разумно.
Я села за стол напротив него. Он немного помолчал, потом снова заговорил:
— А знаешь, Мемер, Оррек Каспро, пожалуй, явился как раз вовремя. Он тоже может кое-чему тебя научить. Ведь теперь ты уже на пороге понимания того, что и сама вполне можешь учить, в том числе и меня.
— Неправда! Я ведь когда «Элегии» разбирала, то в основном просто догадывалась о смысле стихов. А Регали я и вовсе пока читать не могу.
— Но теперь у тебя есть учитель, который это может.
— Значит… ты не сердишься? И это ничего, что я дала ему «Ростан»?
— Да, я думаю, это ничего, — сказал он и глубоко вздохнул. — Наверное, так и следовало поступить. Да и откуда нам знать, что правильно, а что нет, если мы не в силах понять даже того дара, которым обладаем? Я, например, чувствую себя слепцом, которого попросили прочесть некое отправленное ему божественное послание!
Лорд-Хранитель полистал книгу, лежавшую на столе, аккуратно ее закрыл и посмотрел туда, в дальний конец комнаты, куда почти не достигал свет лампы.
— Я говорил тогда Иддору, что я — Читатель. Но что значит читать, если не знаешь языка, на котором читаешь? Вот ты, Мемер, действительно Читатель. Тут у меня, по крайней мере, никаких сомнений нет. А разве ты сама в этом сомневаешься?
Вопрос был поставлен прямо, и я ответила без колебаний:
— Нет.
— Хорошо. Это хорошо. А раз так, то это твоя комната, твои владения. Даже утратив способность видеть, я продолжал старательно хранить эту комнату для тебя. Я всегда верил в тебя и во всех тех, кто приносил к нам в Галваманд свои сокровища, свои книги… Как же мы поступим с этими книгами, Мемер?
— Создадим библиотеку, — сказала я. — Как та старая, что когда-то была здесь.
Он кивнул.
— Похоже, такова воля и самого дома. А мы просто подчиняемся его воле.
Именно так казалось и мне. Но у меня все же оставались еще кое-какие сомнения.
— Скажи, а в тот день… когда ожил фонтан…
— Фонтан, — повторил он. — Да-да.
— Это было чудом?
И он, чуть улыбнувшись, сказал:
— Нет.
Я даже не очень и удивилась.
А он улыбнулся — гораздо шире и веселее — и сказал:
— Хозяин Вод и Источников уже довольно давно показал мне, как совершить это «чудо». Если хочешь, я и тебе это покажу.
Я кивнула. Но думала совсем не об этом, и он, заметив это, встревожился:
— Мемер, тебя что, огорчает или возмущает то, что чудеса можно творить своими руками, как это сделал я?
— Нет, — сказала я. — И думала я совсем не об этом. Меня поразило другое чудо…
Он явно ждал продолжения.
— Ты тогда совсем не хромал, — договорила я.
Он как-то странно посмотрел на свои руки и ноги; лицо его помрачнело.
— Да, мне и другие говорили об этом, — сказал он.
— А ты сам этого разве не помнишь?
— Я помню, как бросился в эту комнату, терзаемый страхом и отчаянием. И едва я вошел сюда, мне стало ясно: прежде всего я должен запустить фонтан. И я поспешил сделать это, даже не задумываясь, почему это так необходимо. Словно подчиняясь некоему приказу. А затем мне пришло в голову, что нужно взять с полки какую-нибудь книгу. Я так и поступил. Я чувствовал, что времени совсем мало, а потому… Неужели я действительно побежал? Не знаю. Должно быть, те, что заставили меня молчать, когда им это было нужно, заставили меня и бежать к тебе, чтобы разбудить твой голос.
Я посмотрела в дальний конец комнаты, в ее темный конец. И он тоже.
— Значит, ты не спрашивал…
— Нет. У меня не было времени спрашивать оракула. Да он, скорее всего, и не ответил бы мне. Он теперь разговаривает с тобой, Мемер, а не со мной.
Мне не хотелось это слышать, хоть я и сказала тогда Грай, что Читатель теперь не он, а я. Вся моя душа, охваченная ужасом и унижением, протестовала против его слов.
— Да не разговаривает со мной оракул! — воскликнула я. — Он меня использует!
Лорд-Хранитель коротко кивнул:
— Как и меня — раньше использовал.
— Ведь тогда это был совсем не мой голос, верно? Нет, я не знаю! Я… я просто не понимаю этого! Мне стыдно, но я боюсь! Я боюсь этой тьмы, я не хочу снова входить туда! Нет, ни за что!
Лорд-Хранитель долгое время молчал, потом сказал почти нежно:
— Ты права, Мемер. Они нас используют, но не во имя зла. И если тебе все же придется пойти во тьму, думай о том, что это всего лишь твоя мать или бабушка пытаются сказать тебе и всем нам что-то такое, чего мы пока не понимаем. К сожалению, они говорят на таком языке, которого ты еще почти не знаешь, но ведь его можно выучить. Так я говорил себе когда-то, если мне приходилось входить в пещеру.
Я задумалась; его слова понемногу проникали в мою душу, принося успокоение. Он так сказал об этом, что даже тьма пещеры перестала казаться мне такой сверхъестественной. И я действительно представила себе, будто там живет душа моей матери и души множества других матерей Ансула и они никогда не станут понапрасну пугать меня…
Но все же у меня оставался еще один вопрос.
— А та книга… которую ты тогда держал в руках… Где она сейчас? На тех полках, где стоят все книги оракула?
На этот раз молчание Лорда-Хранителя было иным; он явно испытывал затруднения с ответом. Потом все же сказал:
— Нет. Я взял первую попавшуюся книгу.
Он встал, подошел, сильно хромая, к шкафу, который был ближе всего к двери, и взял с полки какой-то маленький томик, стоявший примерно на уровне глаз. Коричневый переплет без надписи показался мне знакомым. Лорд-Хранитель вернулся к столу и молча подал мне книгу. Мне было страшно брать ее, но я взяла и, помедлив еще с минуту, открыла.
И конечно, сразу ее узнала. Это был букварь. Точнее, книга для самых маленьких, «Истории о животных». Я и сама читала эту книжку, но очень давно, когда еще только училась читать здесь, в тайной комнате.
Я переворачивала страницы, чувствуя, какими неловкими, будто одеревеневшими, стали от волнения мои пальцы. Я рассматривала картинки, на которых были изображены кролики, вороны, дикие кабаны — все в виде резных статуэток из дерева. Я прочитала последние строки одной из этих историй: «Итак, лев вернулся домой, в пустыню, и рассказал всем тамошним обитателям, что самое храброе существо на свете — это мышь».
Я подняла глаза на Лорда-Хранителя, и он тоже посмотрел на меня. Губы его чуть шевельнулись, и он сделал какой-то едва заметный жест, словно говоря: «Я не знаю».
Я посмотрела на эту детскую книжку, сделавшую нас свободными, и вдруг вспомнила слова Дениоса. И даже произнесла их вслух:
— «Бог есть в травинке каждой; ты на ладони держишь то, что свято…»
И, помолчав, решительно прибавила:
— И никаких злокозненных демонов тут нет!
— Нет, — подтвердил Лорд-Хранитель. — Только мы. Мы сами делаем за демонов всю их работу. — И он снова посмотрел на свои изуродованные руки.
В тишине отчетливо слышался слабый шум воды, бегущей под темными сводами пещеры.
— Идем, — сказал он, — уже поздно, и те, кто посылает нам сновидения, давно кружат над нами. Пусть делают, что им положено.
Держа маленький светильник в левой руке, правой рукой я написала в воздухе яркие буквы. Мы прошли в дверь и двинулись по темным коридорам. Остановившись у его дверей, я пожелала ему спокойной ночи, а он наклонился и поцеловал меня в лоб; и мы, благословив друг друга, расстались до утра.
Книга III. ПРОЗРЕНИЕ
Быть рабом — незавидная участь… Но если ты в рабстве с младенчества и другой жизни не знаешь, если ты образован — тебя учат вместе с хозяйскими детьми, если ты боготворишь своих хозяев и веришь в их богов — то так ли уж плоха жизнь раба? И какой путь надо пройти, чтобы понять, что свобода — это не просто слово из книги…
Часть I
Глава 1
— Никому об этом не рассказывай, — говорит мне Сэлло.
— А если скажу? Что тогда будет? Как когда я снег увидел?
— Вот именно. Поэтому и не надо говорить.
Моя сестра обнимает меня, и мы с ней раскачиваемся из стороны в сторону, сидя на скамейке в классной комнате. Ее теплые объятия и это покачивание успокаивают меня; я выбрасываю из головы ненужные мысли. Но совсем забыть о том, что видел, никак не могу, слишком сильным было испытанное мною потрясение, и очень скоро я опять не выдерживаю:
— Нет, я все-таки должен им рассказать! Это же настоящее вторжение! Пусть предупредят армию, чтобы была наготове!
— А если тебя спросят, когда это вторжение случится?
Вопрос сестры меня озадачивает.
— Ну, пусть армия просто будет готова, — неуверенно отвечаю я.
— А если никакого вторжения не произойдет или оно случится еще очень-очень не скоро? И на тебя все будут сердиться, потому что ты зря поднял тревогу? И потом, если в город действительно вторгнется вражеская армия, всем непременно захочется узнать, откуда тебе стало об этом известно заранее.
— А я им скажу, что просто вспомнил, и все!
— Нет, — решительно говорит Сэлло. — Никогда не говори в таких случаях, что ты «что-то вспомнил». Люди заподозрят, что раз ты все время так говоришь, то у тебя есть какой-то особый дар. А ведь очень многим не нравится, когда кто-то наделен особым даром и отличается от всех прочих.
— Но у меня же ничего такого нет! Просто иногда я вспоминаю, что видел то, что должно вскоре случиться!
— Я знаю. Но послушай, Гэвир: ты все-таки не должен никому об этом рассказывать. Никому, кроме меня.
Когда Сэлло своим тихим нежным голосом произносит мое имя и говорит: «Послушай…», я действительно ее слушаюсь. Даже если все еще продолжаю спорить.
— И даже Тибу нельзя?
— Даже Тибу. — Ее округлое смуглое личико и темные глаза спокойны и серьезны.
— Но почему?
— Потому что здесь только мы с тобой уроженцы Великих Болот.
— Гамми тоже была оттуда!
— Вот Гамми мне и сказала то, что я тебе сейчас говорю: болотный народ и впрямь обладает кое-какими способностями, а горожане этого побаиваются. Так что мы никогда никому не рассказываем, что способны на что-то такое, чего не могут они. Это было бы слишком опасно. Правда опасно. Обещай мне, Гэв.
Она протягивает руку, я говорю: «Обещаю» — и кладу ей на ладонь свою грязноватую ручонку, как бы скрепляя данное ей слово. И она отвечает:
— Я слышала твое обещание.
В другой руке она сжимает маленькую фигурку богини Энну-Ме, которую всегда носит на шее.
Затем Сэл целует меня в макушку и шутливо толкает, да так сильно, что я чуть не слетаю со скамейки. Но отчего-то мне совсем не хочется смеяться; я по-прежнему полон теми ужасными «воспоминаниями», и увиденное мною было так страшно, что меня так и тянет немедленно всем об этом рассказать, закричать во весь голос: «Берегитесь! На нас идет враг! Вражеские воины несут зеленые флаги, они готовы дотла сжечь наш город!» И я, не отвечая на шутки Сэлло и печально нахохлившись, сижу и задумчиво качаю в воздухе ногой.
— Расскажи-ка мне свой сон еще разок, — говорит сестра. — И постарайся припомнить все, о чем сперва сказать позабыл.
А мне только этого и надо! И я снова с энтузиазмом рассказываю ей, что видел, как вражеские солдаты идут по нашей улице.
Иногда мои «воспоминания» действительно содержат некую тайну, и тогда они принадлежат только мне, это мой секрет, мой личный подарок, и я тщательно его берегу и достаю, чтобы им полюбоваться, лишь оказавшись в полном одиночестве. Точно так же, украдкой, я любуюсь и тем орлиным пером, которое подарил мне Явен-ди. Самое первое из моих тайных воспоминаний — это то непонятное место, где только вода и тростники. Я никогда и никому об этом месте не рассказывал, даже Сэлло. Да и что рассказывать? Я помню только серебристо-синюю воду, тростники на ветру, солнечные блики и какой-то голубой холм в отдалении. А несколько позже я стал видеть еще какую-то комнату с высоким потолком и мужчину, лицо которого скрыто в тени; и этот мужчина вдруг оборачивался и окликал меня по
имени… Но об этом я тоже никому не рассказывал, да и зачем?
Бывают и другие воспоминания, или видения, или как там еще можно это назвать. Например, однажды мне привиделось, как Отец нашего Дома возвращается из Пагади и вдруг у него захромала лошадь. Домой он, правда, вернулся только следующим летом, зато все было в точности, как я «помнил»: приехал он на хромой лошади. А один раз я «вспомнил», как все улицы в городе стали белыми, и крыши, и даже воздух, а с небес все летели и летели вниз стаи крошечных белых птичек. Это было так удивительно, что мне, естественно, захотелось всем рассказать об этом, я и рассказал. Вот только слушать меня никто не стал — мне ведь было всего года четыре или, может, пять. Но снег той зимой действительно выпал, просто случилось это немного позднее. И все выбежали на улицу, чтобы посмотреть, как падают на землю снежные хлопья, — такое в Этре случается, может, раз в сто лет, так что мы, дети, даже и не знали, как эти белые штучки называются. А старая Гамми меня тогда спросила: «Ты именно это видел? Были твои «белые птички» похожи на снег?» И я сказал ей и всем остальным: да, я именно так все и видел. И Гамми, Тиб и Сэл мне поверили. Должно быть, именно тогда Гамми и сказала Сэлло то, что Сэлло только что сказала мне: никогда никому не говорить, если я снова «вспомню», что уже это видел. Гамми уже тогда была совсем дряхлая и больная, а вскоре после того снегопада, весной, она умерла.
И с тех пор у меня были только такие воспоминания, которые я держал в тайне от всех — до сегодняшнего утра.
С утра я в полном одиночестве подметал коридор возле детской и вдруг начал вспоминать то, что видел. Сперва мне вспомнилось, как я откуда-то сверху смотрю на одну из городских улиц и вижу, как над крышами ее домов взметается пламя, и слышу, как кричат люди, и эти крики становятся все громче. А потом я узнал Долгую улицу, которая тянется через всю Этру на север от той площади, что позади Гробницы предков. На дальнем конце улицы клубы дыма превращались в страшные, клубящиеся темно-серые облака, внутри которых мелькали языки пламени. Мимо меня через площадь с криками бежали люди, женщины и мужчины, — в основном в сторону здания сената, а городская стража, выхватив мечи, бежала почему-то в противоположном направлении. Затем сквозь клубы дыма я увидел, как на Долгой улице показались воины с зелеными знаменами и длинными копьями; некоторые из них ехали верхом и были вооружены мечами. Когда их отряд столкнулся с нашей городской стражей, сразу стало очень шумно — крики, звон доспехов, бряцание оружия, грохот, как на кузне; и вся эта огромная толпа сражающихся людей все приближалась и приближалась ко мне. А потом из этого месива сверкающих мечей, шлемов, доспехов и голых безоружных рук вылетела лошадь и понеслась по улице прямо на меня. Седока на ней не было; вся она была покрыта белыми хлопьями пота, смешанного с кровью; и кровь прямо-таки ручьем текла у нее из дыры, зиявшей на месте выбитого глаза. Лошадь пронзительно ржала. Я попятился от нее и вдруг… оказался у нас в коридоре с веником в руках — вновь и вновь вспоминая и переживая то, что мне привиделось. Я был просто в ужасе, ведь все это я видел совершенно отчетливо и никак не мог отделаться от ощущения, что и сам был там. Увиденное то и дело вставало у меня перед глазами, каждый раз обрастая новыми подробностями. И на этот раз мне необходимо было кому-то об этом рассказать.
Так что, когда мы с Сэл пошли готовить классную комнату к занятиям, я все ей и рассказал, пока мы там были совершенно одни. И теперь снова пересказывал все сначала, еще более ясно вспоминая увиденное, и, по-моему, рассказывал гораздо лучше и подробнее. Сэлло, во всяком случае, слушала меня очень внимательно и даже вздрогнула, когда я описывал ей ту раненую лошадь.
— А какие на этих воинах были шлемы? — спросила она.
И в моей памяти, как на картинке, возникли те пришельцы, что развязали бой на улицах нашего города.
— В основном черные. А у одного шлем был с черным гребнем и плюмажем, похожим на конский хвост.
— Так, может, они из Оска?
— Нет, у них не было таких вытянутых деревянных щитов, как у осканцев. Помнишь осканских пленных во время парада? По-моему, у этих все доспехи были из какого-то металла — может, из бронзы — и ужасно громко лязгали, когда они стали рубиться на мечах с городской стражей. По-моему, они из Морвы явились.
— Кто это явился из Морвы, Гэв? — услышал я за спиной чей-то приятный голос. От неожиданности мы с Сэл оба так и подскочили, точно марионетки на веревочке. Оказалось, что это Явен. Мы настолько увлеклись, что даже шагов его не расслышали, и теперь не знали, долго ли он слушал мой рассказ. Мы быстро вскочили, почтительно поздоровались с ним, сыном нашего хозяина, и Сэл сказала:
— Гэв рассказывал мне одну из своих историй, Явен-ди.
— И похоже, весьма интересную, — сказал Явен. — Хотя войска из Морвы обычно выступают под черно-белым флагом.
— А у кого флаг зеленый? — спросил я.
— У Казикара. — Явен сел на переднюю скамью и вытянул перед собой длинные ноги. Явену Алтантеру Арке было семнадцать лет, он был старшим сыном в Семье и готовился стать офицером этранской армии. В последнее время он по большей части находился на службе и дома бывал редко, но когда все же бывал, то всегда приходил в класс и, как прежде, слушал уроки вместе с нами. Мы любили, когда он приходил, потому что в его присутствии казались себе такими же взрослыми, как и он; а еще Явен ко всем относился очень доброжелательно и всегда мог уговорить Эверру, нашего учителя, чтобы тот позволил нам читать разные интересные истории и поэмы вместо уроков грамматики и логики.
В класс уже входили девочки; потом влетели Торм, Тиб и Хоуби, потные и запыхавшиеся после игры в мяч на дворе, и, наконец, в класс вошел Эверра, высокий и, как всегда, сумрачно-суровый в своем сером одеянии. Мы встали, приветствуя его, и расселись по скамьям. Нас, учеников, было одиннадцать: четверо — дети Семьи, семеро — дети Дома.
Явен и Торм были родными детьми Семьи Арка, как и Астано. А Сотур была их двоюродной сестрой, так что принадлежала к тому же семейству.
Что же касается нас, домашних рабов, то Тибу и Хоуби было соответственно двенадцать и тринадцать лет, мне — одиннадцать, а девочкам, Рис и моей сестре Сэлло, по тринадцать. Око и ее братишка Мив были значительно младше и еще только начали учить буквы.
Все девочки обычно учились до тех пор, пока их не сочтут взрослыми и не выдадут замуж. Тиб и Хоуби, научившись читать, писать и декламировать кое-какие отрывки из эпических сказаний, тоже могли уже ближайшей весной покинуть нашу школу. Надо сказать, они просто дождаться не могли, когда это наконец произойдет и можно будет заняться каким-нибудь «настоящим делом». Меня же учили для того, чтобы я впоследствии мог стать здесь учителем и навсегда остаться в этой просторной продолговатой комнате с высокими окнами. Я знал, что, когда у Явена и Торма появятся дети, именно я, скорее всего, буду учить их, а также будущих детей наших домашних рабов.
В начале урока Явен призвал духов предков благословить наши занятия, а Эверра упрекнул Сэл и меня за то, что мы не разложили по партам учебники. Потом мы принялись за работу, и почти сразу же Эверре пришлось призвать Тиба и Хоуби к порядку, потому что они дрались. Оба послушно вытянули перед собой руки ладонями кверху, и Эверра каждого по одному разу ударил своей палкой. В Аркаманте вообще редко кого-нибудь били, а уж таких мучительств, каким, насколько мы слышали, подвергали слуг в других Домах, и вовсе не допускалось. Нас с сестрой, например, ни разу никто даже пальцем не тронул; стыд, который мы испытывали, когда нас за что-то ругали или упрекали, всем представлялся вполне достаточным наказанием, и мы всегда старались как можно быстрее исправиться. А вот Хоуби и Тибу стыдно никогда не было, и наказания они, по-моему, ничуть не боялись, да и чего бояться, если ладони у обоих были твердые как подошва. Они вовсю гримасничали и ухмылялись, только что не хихикали в полный голос, когда Эверра их наказывал; да и он, разумеется, делал это только потому, что так надо. Честно говоря, Эверра, как и сами эти ребята, просто дождаться не мог, когда же они наконец покинут его школу. Вот и сегодня, наказав их, он попросил Астано проверить, знают ли они сегодняшний урок, — нужно было выучить наизусть отрывок из исторической хроники «Славные деяния города Этра», а Око велел помочь маленькому Миву писать буквы. После чего мы, то есть все остальные, вновь погрузились в изучение «Этики» Трудека.
«Как встарь», «как прежде», «по-старому» — эти слова мы частенько слышали в Аркаманте, и произносились они исключительно с одобрением. Вряд ли кто-то из нас понимал, зачем мы учим наизусть нудные нравоучительные пассажи старины Трудека; впрочем, никому даже в голову не пришло бы спросить, зачем это нам. Такова была традиция Дома Арка — дать образование всем своим людям. А это означало, что нужно знать труды древних моралистов, эпос и историю Этры и других городов-государств, немного разбираться в геометрии и основных принципах инженерного искусства, а также — в математике, музыке и рисовании. Так в Аркаманте было всегда. Так было и сейчас.
Если успехи Хоуби и Тиба ограничились «Баснями» Немека, то Торм и Рис изо всех сил вместе с нами пробивались сквозь хитросплетение премудростей Трудека. Впрочем, Эверра, поистине превосходный учитель, сумел заставить нас, то есть Явена, Сотур, Сэлло и меня, одним махом преодолеть эти трудности и перепрыгнуть прямиком к изучению исторических хроник, летописей и эпоса, чему все мы были несказанно рады, хотя больше всех подобными вещами увлекались Явен и я. Когда мы наконец завершили обсуждение того, как «важно уметь держать себя в руках при любых обстоятельствах», на основе тех примеров, что были приведены в 41-й главе «Этики», я громко захлопнул книгу Трудека и потянулся за экземпляром «Осады Ошира», которая у нас с Сэл была одна на двоих. Мы только в прошлом месяце начали ее читать, но я уже знал наизусть каждую прочитанную строчку.
Наш учитель заметил, что я взял другую книгу, и его кустистые, черные с сединой брови удивленно поползли вверх.
— Гэвир, — сказал он, — ты закончил? Тогда, пожалуйста, послушай, как Тиб и Хоуби читают наизусть заданный урок; пусть Астано-йо пока отдохнет от них и присоединится к нашим занятиям.
Я понимал, почему Эверра это сделал. Не из вредности; это тоже был очередной урок этики. Он приучал меня к тому, что не всегда удается делать то, что хочется, и приходится делать то, чего совсем не хочется, и этот урок я обязан был усвоить. В общем, об этом как раз и шла речь в 41-й главе «Этики».
Я сунул книгу по истории Сэлло и пересел на боковую скамью. Астано с нежной улыбкой тут же передала мне книжку о подвигах нашего города. Астано было пятнадцать, и она была такая высокая, худая и светлокожая, что братья, желая ее подразнить, говорили, что она «из альдов», — так называется народ, проживающий в восточных пустынях; говорят, что у альдов кожа белая, а волосы курчавые, как овечья шерсть. Впрочем, у нас слово «альд» означает еще и просто «дурак». Только Астано вовсе не была дурочкой; просто она была чересчур застенчивой и, по-моему, слишком хорошо выучила ту самую 41-ю главу. Молчаливая, какая-то очень правильная, очень скромная и очень выдержанная, она была истинной дочерью своего отца, сенатора Арки; нужно было очень хорошо знать Астано, чтобы понять, какая она на самом деле добрая, участливая, какие неожиданные мысли порой приходят ей в голову.
Одиннадцатилетнему мальчику очень трудно изображать учителя перед старшими ребятами, которые к тому же привыкли относиться к нему свысока, грубо с ним обращаются и обзывают то Креветкой, то Болотной Крысой, то Клюворылом. Хоуби, например, просто не выносил, когда я на уроке чего-то от него требовал. Хоуби родился в один день с Тормом. Только Торм был настоящим сыном Семьи, а Хоуби нет. Все это знали, но вслух об этом никто не говорил. Получалось, что Хоуби — сводный брат Явена и Торма, только его мать — рабыня, а значит, и он тоже раб. Впрочем, никакого особого отношения к нему в Доме не было, однако его бесило, если хозяева выделяли кого-то из рабов. Например, он всегда со злобной завистью относился к моему особому положению в классе. И теперь тоже хмуро поглядывал на меня, зная, что сейчас я к ним с Тибом «пристану».
Астано уже успела закрыть книжку, так что я спросил:
— Вы до какого места дошли?
— А мы никуда и не уходили, Клюворыл, все время тут сидели, — заявил Хоуби, и Тиб одобрительно захихикал.
Особенно противно было то, что Тиб, вообще-то, считался моим дружком, но стоило ему оказаться в компании Хоуби — и он сразу же перебегал на его сторону, а меня бросал.
— Продолжай с того места, где вы остановились, — сказал я Хоуби, очень стараясь, чтобы голос мой звучал холодно и сурово.
— А я не помню, где это.
— Тогда начинай, откуда было задано на сегодня.
— А я и этого не помню.
Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо и зашумела в ушах, и, конечно, тут же совершил ошибку, спросив:
— Что же ты помнишь?
— А я не помню, что именно я помню.
— Раз так, давай с самой первой страницы.
— А я и первой страницы не помню. — Хоуби был явно воодушевлен собственным успехом, однако на этот раз его хитрая уловка не сработала.
— Значит, ты вообще ничего из этой книги не помнишь? — спросил я, нарочно повысив голос, и Эверра тут же глянул в нашу сторону. — Ну хорошо, — продолжал я довольно громко. — Тогда ты, Тиб, расскажешь специально для Хоуби то, что написано на первой странице.
Эверра все посматривал на нас, и Тиб, заметив это, не решился мне перечить и принялся невнятно бормотать, пересказывая главу «Начало великих подвигов», которую они обязаны были давным-давно знать наизусть. Когда он с горем пополам добрался до конца первой страницы, я остановил его и велел Хоуби повторить, отчего тот разозлился уже по-настоящему. Я чувствовал, что победа за мной, но понимал, что потом придется за это расплачиваться. И все же я заставил Хоуби отвечать урок, хоть он и бубнил его сквозь зубы. После чего я сказал:
— Ладно. А теперь продолжай с того места, где вы остановились с Астано-йо.
И он, как ни странно, подчинился, монотонно излагая содержание главы, посвященной набору в армию.
— А ты, Тиб, — посмотрел я на своего приятеля, — перефразируй. — Эверра всегда заставлял нас пересказывать текст своими словами, чтобы убедиться, что мы действительно его поняли, а не просто вызубрили наизусть.
— А ты, Тиб, — противным скрипучим голосом пробурчал тихонько Хоуби, передразнивая меня, — ферефвазивуй.
Тиб, естественно, снова захихикал.
— Ну что же ты, Тиб, — подбодрил я его.
— Да-да, Тиб, давай, ферефвазивуй, — снова передразнил меня Хоуби, и Тиб заржал.
Эверра в это время увлеченно, с сияющими глазами, пояснял остальным какой-то отрывок эпического сказания, и все слушали его открыв рот; один лишь Явен, сидевший во втором ряду, быстро глянул в нашу сторону и сердито нахмурился. Под его мрачным взглядом Хоуби тут же съежился, опустил плечи, потупился и незаметно пнул Тиба ногой. Тот сразу перестал хихикать и после некоторой борьбы с собой затянул:
— Ну, там, в общем, говорится… э-э-э… В общем, если городу угрожает враг, ну, то есть нападением угрожает, то Сенат делает, ну, я не знаю… как это называется?
— Созывает совет, — подсказал я.
— Да, совет и осуждает…
— Обсуждает, наверное?
— Да, обсуждает вопрос о призыве в армию людей свободных и дееспособных. А что, «обсуждать» и «осуждать» — это очень похоже, только как бы наоборот, да?
Вот за это я и любил Тиба: все-таки он способен был уловить разницу, все время задавал вопросы да и соображал довольно быстро, хотя мысли у него, по правде сказать, бывали довольно странные, неожиданные; вот только никто, кроме меня, почему-то этого не ценил, ну и сам он тоже о себе был весьма невысокого мнения.
— Нет, «обсудить» — значит о чем-то как следует поговорить друг с другом.
— Это если перефразировать, — тихонько вставил Хоуби.
В общем, препираясь и запинаясь, мы потащились дальше. Урока они, можно сказать, совсем не знали, и я с огромным облегчением отложил наконец «Подвиги», но тут Хоуби, наклонившись вперед и в упор глядя на меня, прошипел сквозь зубы:
— Хозяйский любимчик!
Я привык, что меня дразнят то учительским, то хозяйским любимчиком. До некоторой степени это было правдой. Только вот учитель наш «хозяином» не был; он был таким же рабом, как и мы. А это большая разница. Когда говорят «хозяйский любимчик», все-таки имеют в виду подхалима, или ябеду, или даже предателя. А Хоуби к тому же сказал это с настоящей ненавистью.
Он завидовал тому, что Явен за меня заступается, а его заставляет стыдиться. Явена мы все просто обожали и страстно жаждали его похвалы. Хоуби всегда казался мне очень грубым и ко всему равнодушным, и я не мог понять такой простой вещи, что и он, возможно, любит Явена столь же сильно, только у него гораздо меньше возможностей угодить ему и куда больше причин чувствовать себя униженным, когда в нашем с ним противоборстве Явен принимает мою сторону. Тогда я понимал лишь, что та кличка, которую он ко мне приклеил, отвратительна и несправедлива, и тут же, не выдержав, взорвался.
— Ничего подобного! — громко воскликнул я.
— Что «ничего подобного», Гэвир? — холодно спросил Эверра.
— То, что говорит Хоуби!.. Не важно… Извините, учитель. Прошу прощения за то, что прервал вас. И вы все меня простите.
Эверра милостиво кивнул и сказал:
— Тогда садись и веди себя тихо. — Я снова сел рядом с сестрой и какое-то время даже строчек в книге не мог разобрать, хотя Сэлло старалась держать ее так, чтобы мне было видно. В ушах у меня стоял звон, перед глазами плыла пелена. Нет, это просто ужасно, что Хоуби так меня назвал! Я никогда не был хозяйским любимчиком! И ябедой я не был. И никогда не стал бы, как наша служанка Риф, шпионить за другими и нарочно вызывать на разговор, чтобы втереться в доверие, а потом донести хозяевам. Только Риф похвалы не дождалась. Мать Фалимер так и сказала ей: «Ябед я не люблю», и в итоге Риф отправили на рынок рабов и продали. За всю свою жизнь я не припомню, чтобы еще кого-то из взрослых рабов Аркаманта продали. У нас и хозяева, и рабы доверяли друг другу и отчетливо сознавали свой долг. А как же иначе?
Когда занятия подошли к концу, Эверра раздал наказания тем, кто мешал ему вести урок: Тиб и Хоуби должны были выучить дополнительно целую страницу из «Великих подвигов»; затем нам троим было велено переписать 41-ю главу из «Этики» Трудека; а я получил еще и отдельное задание: набело переписать в общую классную тетрадь тридцать строк из эпической поэмы Гарро «Осада и падение Сентаса» и к завтрашнему дню заучить их наизусть.
Не знаю, понимал ли Эверра, что его наказания чаще всего воспринимаются мной как награды. Наверное, понимал. Впрочем, тогда я воспринимал его как человека невероятно старого и мудрого; мне и в голову не приходило, что он способен думать обо мне или интересоваться моими переживаниями. И поскольку Эверра называл переписывание поэзии «наказанием», то и я очень старался поверить, что это так. На самом деле я с наслаждением, высунув язык, переписывал заданные строки. Почерк у меня тогда был ужасный: какие-то кривоватые каракули, а не почерк. А толстая тетрадь, в которую мы переписывали набело, должна была достаться в наследство тем, кто будет учиться после нас, — точно так же, как и нам достались книги и тетради предыдущих поколений учеников; они ведь тоже некогда переписывали те же строки, сидя в нашем классе. Последний отрывок в общей тетради был переписан Астано. После ее мелкого изящного почерка, почти такого же четкого, как в настоящих печатных книгах из Месуна, написанные мною строчки выглядели особенно ужасно; буквы ползли вкривь и вкось, как бы с трудом пробираясь по бумаге, и смотреть на это уродство было для меня сущим наказанием. Ну а наизусть этот отрывок я и без того уже знал.
Я вообще все запоминаю как-то очень быстро, точно и полно. Даже в раннем детстве, да и потом, уже подростком, я мог запомнить целиком страницу книги, или мельком увиденное помещение, или чье-то лицо, промелькнувшее в толпе, а потом все это вспоминалось мне столь же отчетливо, как если бы я вновь видел это прямо перед собой. Возможно, именно поэтому я и сбивал с толку собственную память тем, что условно называл «воспоминаниями», хотя на самом деле ни к памяти, ни к воспоминаниям эти видения не имели ни малейшего отношения.
Тиб и Хоуби сразу ринулись вон из класса, отложив свое наказание на потом; я же остался и все сделал сразу, а потом пошел помогать Сэлло подметать коридоры и внутренние дворики, поскольку такова была наша повседневная обязанность. Приведя в порядок дворик перед «шелковыми комнатами», мы отправились на кухню и перекусили хлебом с сыром, а потом я хотел было продолжить уборку, но Торм прислал за мной Тиба и передал, чтобы я шел вместе с ним «учиться военному делу».
Подметать дворы и коридоры этого огромного дома — работа, между прочим, немалая; полагалось, чтобы там всегда было чисто, и у нас с Сэлло обычно большая часть дня уходила на то, чтобы этому требованию соответствовать. Мне не хотелось бросать все на Сэл — тем более она и так уже достаточно потрудилась одна, пока я переписывал стихи, но ослушаться Торма я не мог.
— Ох, да иди ты, иди, — сказала мне сестра, лениво подметая под тенистыми арками центрального атриума, — тут совсем немного осталось. — И я, разумеется, тут же радостно помчался в парк, на ту аллею под городской стеной, где росли гигантские сикоморы. Парк находился в южной части города на расстоянии нескольких улиц от Аркаманта. Торм уже вовсю муштровал Тиба и Хоуби в тени сикомор, и я присоединился к ним. Такие игры мне ужасно нравились.
Явен был таким же высоким и гибким, как его сестра Астано и их мать, а вот коренастый, мускулистый Торм больше походил на отца. Во внешности Торма вообще было что-то не то — какая-то кривобокость, что ли. Он вроде бы и не хромал, но при ходьбе как-то странно нырял вперед, приволакивая ноги. И лицо у него тоже было каким-то кривоватым, точно две его половины не совсем подходили друг к другу. Торм отличался внезапными приступами неукротимой ярости; порой это были настоящие припадки, когда он дико кричал, дрался со всеми, точно безумный, рвал на себе одежду и сам себя царапал. Теперь, становясь взрослым, он, похоже, понемногу приходил в себя: детские припадки почти прекратились, а бушевавшая в нем ярость несколько улеглась. Он очень много внимания уделял своей физической форме и в результате постоянных упражнений постепенно превращался в настоящего атлета. Все его помыслы были связаны с армией; он мечтал стать воином и сражаться за Этру. Однако в армию его могли взять в лучшем случае года через два, и он пока решил создать собственный боевой отряд из Хоуби, Тиба и меня. Вот уже несколько месяцев он нещадно муштровал нас, точно солдат на плацу.
Мы устроили тайник под одной из огромных старых сикомор, росших в парке, и прятали там свои деревянные щиты и мечи, а также поножи и шлемы, сделанные из кожи мною и Сэлло под руководством Торма. У самого Торма на шлеме красовался плюмаж из рыжих конских волос, которые Сэл собрала на конюшне и весьма удачно скрепила; по-моему, плюмаж этот был просто великолепен. Маршировали мы обычно на длинной, поросшей травой аллее в глубине парка, под самой городской стеной. Место было весьма уединенное. Я бежал к ним меж деревьями напрямки и еще издали увидел, как они там маршируют. Быстренько надвинув на голову шлем и схватив меч и щит, я, все еще задыхаясь от быстрого бега, встал в строй, и некоторое время мы разучивали повороты и остановки по команде. Затем Торм, наш востроглазый орел-командир, заставил нас стоять по стойке смирно, а сам принялся бегать вдоль строя, ругая одного за то, что он криво надел шлем, второго за то, что он стоит недостаточно прямо, третьего за то, что он не туда скосил глаза, и т. п.
— Эх вы, жалкие вояки! — рычал он. — Шпаки проклятые! Разве сможет Этра когда-нибудь победить проклятых вотусанов, если в армию берут такой сброд?
Мы застыли как изваяния и не мигая смотрели прямо перед собой, исполненные решимости во что бы то ни стало победить «проклятых вотусанов».
— Ну ладно, — смилостивился наконец Торм. — Значит, так: Тиб и Гэв будут вотусанами, а мы с Хоуби — этранцами. Вы, парни, займете позиции за земляным валом, а мы совершим кавалерийскую атаку.
— Почему-то всегда именно они бывают этранцами, — проворчал Тиб, когда мы бежали с ним к «земляному валу» — заросшей травой дренажной канаве. — Почему нам-то хоть разок нельзя этранцами побыть?
Вопрос был чисто риторический, разумеется; ответа на него не существовало. Мы скатились в канаву и приготовились к бешеной атаке кавалерии Этры.
Отчего-то напали они далеко не сразу, и у нас с Тибом хватило времени, чтобы приготовить вполне приличный запас снарядов: небольших комков твердой как камень глины. Когда мы наконец услышали ржание и храп лошадей, то встали и стали яростно отражать атаку с помощью этих снарядов, которые по большей части либо не долетали до цели, либо пролетали мимо. Но один комок, как ни странно, угодил Хоуби прямо в лоб. Не знаю уж, кто его бросил, Тиб или я. Хоуби остановился, явно потрясенный этим, и стоял, как-то странно качая головой и неотрывно глядя на нас. А Торм продолжал мчаться вперед с криками: «На врага, воины! За наших предков! За Этру! За великую Этру!» — и в итоге свалился прямо в канаву, хотя при этом и не забыл заржать, подражая боевому коню. Мы с Тибом, естественно, отступили под натиском столь яростной атаки, и Торм, чувствуя себя победителем, наконец оглянулся и увидел Хоуби.
Хоуби, с потемневшим от ярости и грязи лицом, во весь опор мчался прямо на нас. Спрыгнув в канаву, он бросился на меня и замахнулся своим деревянным мечом, явно намереваясь разрубить меня пополам. Я попятился к росшим по краю канавы кустам, понимая, что бежать мне некуда и остается только поднять щит и обороняться, пытаясь с помощью своего меча как-то отразить его бешеные удары.
Деревянные мечи с громким стуком ударились друг о друга, и мой меч, выбитый его куда более сильным ударом, мелькнув в воздухе, полетел ему прямо в лицо. А его меч с такой силой обрушился мне на руку, повредив запястье, что я взвыл от боли.
— Эй! — крикнул Торм. — Не драться! Оружие в ход не пускать! — Вообще-то, он с самого начала предупредил нас насчет строгости тех правил, согласно которым мы имели право брать в руки оружие лишь для того, чтобы исполнить нечто вроде танца с мечами: то есть мы могли делать выпады и парировать, но удары наносить не должны были ни в коем случае.
Торм бросился к нам, пытаясь нас разнять, и я был первым, на кого он обратил внимание, потому что я плакал и протягивал к нему руку, которая нестерпимо болела. Только потом он повернулся к Хоуби; тот стоял, закрыв руками лицо, и между пальцами у него текла кровь.
— Что там у тебя? Дай-ка я посмотрю, — сказал Торм, и Хоуби простонал:
— Я ничего не вижу! Я ослеп!
Рядом даже воды не было; ближайшим ее источником был фонтан во дворе Аркаманта. Но наш командир не растерялся: он велел Тибу и мне спрятать оружие в тайник и быстро бежать домой, а Хоуби повел домой сам. Мы нагнали их уже у фонтана. Торм смывал у Хоуби с лица грязь и кровь.
— В глаз он тебе не попал, — говорил он, — я уверен, что не попал. Разве что чуть-чуть задел. — Сам я, правда, не был полностью в этом уверен. Острый конец моего деревянного меча, который Хоуби выбил у меня из рук, нарисовал у него под глазом кровавый зигзаг, а может, и в глаз попал. Из раны все еще текла кровь, и Торм, оторвав от подола рубахи лоскут, сложил его в несколько раз и велел Хоуби прижать его к ране. — Ничего страшного, — приговаривал он, — все обойдется. И вообще, солдат, это благородное ранение. Воина шрамы только украшают! — Вскоре Хоуби, обнаружив, что левым-то глазом он, по крайней мере, видеть может по-прежнему, несколько успокоился и вопить перестал.
Я, замерев от ужаса, стоял рядом навытяжку. Когда я увидел, что Хоуби видеть все-таки может, то, испытывая огромное облегчение, воскликнул:
— Прости меня, Хоуби!
Он оглянулся, сверкнув здоровым глазом, — второй глаз по-прежнему был прикрыт куском тряпки — и прошипел:
— Ах ты, маленький ябедник! Сперва ты в меня камнем кинул, а потом и мечом прямо в лицо угодил!
— Это был вовсе не камень, а просто земля! И мечом я тебя задеть совсем не хотел! Просто он у меня из рук вылетел, когда ты по нему ударил…
— Так ты что, камнями кидался? — грозно спросил у меня Торм, и мы с Тибом дружно принялись оправдываться, уверяя его, что бросались только комками глины. И вдруг выражение лица у Торма стало совершенно иным; он тоже вытянулся по стойке смирно. Мы даже не сразу поняли, в чем дело.
Его отец, Отец Аркаманта, Алтан Серпеско Арка, возвращался домой из Сената и заметил у фонтана нашу четверку. И теперь стоял всего в паре шагов от нас, внимательно на нас глядя, а рядом с ним стоял его охранник Меттер.
Алтан-ди был широкоплечим, с мощным торсом и сильными руками. Даже в чертах его округлого лица — в выпуклом лбе, вздернутом носе, узких глазах — чувствовалась энергия, некая напористая сила. Мы почтительно с ним поздоровались и замерли, ожидая, что он скажет дальше.
— Что случилось? — спросил Алтан-ди. — Он что, ранен?
— Мы играли, отец, — ответил Торм. — Он просто порезался.
— А глаз задет?
— По-моему, нет.
— Немедленно отведи его к Ремену. А это еще что такое?
Мы-то с Тибом успели спрятать все наше оружие в тайнике, но на голове Торма по-прежнему красовался шлем, украшенный плюмажем; и Хоуби тоже позабыл про свой шлем, хотя и несколько менее красивый.
— Это шапка, отец.
— Это не шапка, а шлем. Вы что, в войну играли? С этими мальчиками?
Он снова быстро окинул взглядом нас троих.
Торм промолчал.
— Говори ты, — сказал Алтан, обращаясь ко мне — и явно считая меня самым младшим, самым слабым и самым трусливым. — Ну, говори: вы играли в солдат?
Я в ужасе посмотрел на Торма, ожидая подсказки, но он по-прежнему стоял, точно воды в рот набравши, и лицо у него было как каменное.
— Мы маршировали, Алтан-ди, — прошептал я.
— Больше похоже на то, что вы сражались друг с другом. Покажи-ка мне свою руку. — В голосе его не было ни угрозы, ни гнева, только абсолютная холодная властность.
Я вытянул перед собой руку; на запястье, у основания большого пальца, виднелась большая багровая опухоль.
— Каким оружием пользовались?
И снова я устремил свой взор на Торма, мучительно взывая к нему. Неужели я должен лгать нашему Отцу?
Но Торм смотрел прямо перед собой, и мне пришлось ответить.
— Деревянным, Алтан-ди.
— Так, значит, мечи у вас были деревянные. Что еще у вас было?
— Щиты, Алтан-ди.
— Все он врет! — сказал вдруг Торм. — Он с нами даже не маршировал! Он же еще маленький. Просто мы пытались на сикомору взобраться, и Хоуби сорвался, вот ветка его по лицу и хлестнула.
Некоторое время Алтан Арка молчал, а я испытывал странную смесь дикой надежды и пронзительного ужаса, слушая вранье Торма.
Затем Отец медленно проговорил:
— Но вы, значит, все-таки маршировали?
— Иногда мы учимся маршировать, — сказал Торм и, помолчав, прибавил: — Я их учу.
— Вы маршируете с оружием?
Торм снова умолк, точно язык проглотил. Стоял и молчал, и это затянувшееся молчание становилось просто невыносимым.
— Вы оба, — сказал наконец Отец, обращаясь ко мне и Тибу, — немедленно отнесете все ваше оружие на задний двор. А ты, Торм, отведи этого мальчика к Ремену и проследи, чтобы тот хорошенько его осмотрел и сделал все, что нужно. А потом приходи на задний двор.
Мы с Тибом дружно поклонились и со всех ног помчались назад, в парк. Тиб плакал, у него даже зубы от страха стучали. А я пребывал в каком-то странном болезненном состоянии вроде лихорадки, отчего все вокруг казалось мне каким-то неестественным, точно во сне; я был довольно спокоен, но разговаривать с Тибом не мог. Мы сразу направились к тайнику, выудили оттуда наши деревянные мечи и щиты, шлемы и наколенники и поволокли их на задний двор Аркаманта. Там мы свалили все это в кучу и встали рядом, ожидая кары.
Отец, уже переодевшись в домашнее платье, быстрым шагом подошел к нам, и я прямо-таки почувствовал, что Тиб весь съежился от страха. Я поклонился Отцу и стоял спокойно. Я не боялся его, во всяком случае, Хоуби я боялся гораздо больше. А перед нашим Отцом я испытывал некий благоговейный трепет, полностью ему доверяя. Этот человек в моих глазах был абсолютно всемогущ и абсолютно справедлив. Он, конечно же, поступит с нами по справедливости, и если мы должны быть наказаны, то пусть так и будет.
Вскоре из дома вышел и Торм; широко шагая, он поспешил к нам. Он казался уменьшенной копией своего отца. Резко затормозив перед печальной грудой деревянного оружия и доспехов, он поклонился Алтану-ди, но стоял с высоко поднятой головой.
— Ты знаешь, Торм, что это преступление — давать рабу любое оружие?
— Да, отец, — пролепетал Торм.
— Ты знаешь, что в армии Этры рабов нет? Что воины — это свободные люди? Что, обращаясь с рабом как с воином, ты проявляешь оскорбительное неуважение по отношению к нашей армии и нашим предкам? Тебе все это должно быть хорошо известно, Торм.
— Да, мне это хорошо известно.
— Но ты все же совершил это преступление, проявив крайнее неуважение к нашим законам и традициям.
Торм стоял совершенно неподвижно, только лицо его как-то жутковато подергивалось.
— Итак, кого же следует наказать за это, тебя или рабов?
Глаза Торма широко распахнулись, — видимо, подобная возможность даже в голову ему не приходила, однако он по-прежнему молчал. И молчание снова затягивалось.
— Кто у вас командовал? — спросил Отец.
— Я.
— Ну и?
Снова надолго воцарилось молчание.
— Ну и наказание должен понести я, отец.
Алтан Арка коротко кивнул и снова спросил:
— А они?
Торм, явно преодолевая себя, буркнул:
— А они делали то, что им велел я.
— Так я не понял: надо их наказывать за то, что они следовали твоим командам?
— Нет, отец.
Еще один короткий кивок, и Отец посмотрел на нас с Тибом, но так, словно мы находились где-то далеко-далеко.
— Сожгите этот хлам, — велел он, — и учтите: подчиниться преступному приказу — это тоже преступление. Вы остаетесь безнаказанными лишь потому, что ваш хозяин берет всю ответственность на себя. Тебя, мальчик с Болот, кажется, Гэв зовут? А тебя…
— Меня зовут Тиб, Отец Алтан. Я с кухни, — пролепетал Тиб.
— В общем, сожгите все это и немедленно возвращайтесь к работе. — Он повернулся к Торму. — Идем, — сказал он ему, и они пошли куда-то бок о бок под длинной аркадой. Выглядели они точно воины на параде.
Мы сходили на кухню, взяли там из очага пылающую головню и запалили сваленные в кучу деревянные мечи и щиты; но когда мы бросили в костер наши кожаные шлемы и наколенники, те несколько прибили огонь, и костер задымил. Тогда мы, обжигая себе руки, разгребли полуобгоревшие деревяшки и противно пахнувшие кожаные ремешки и закопали все это в палисаднике перед кухней. И уже после этого окончательно распустили сопли. Быть воинами было тяжело и даже немного пугающе, зато почетно, и мы так гордились собой, играя в эту игру. Я, например, просто обожал свой деревянный меч и частенько ходил к тайнику один, доставал его оттуда, пел ему песни, без конца полировал его грубо выструганное щелястое лезвие камнем и натирал его для блеска салом, припасенным с обеда. Но в итоге игра обернулась ложью. Даже во время игры мы никогда не были воинами — только рабами. Мы так и остались рабами. Рабами и трусами. А я еще и предал своего командира. Да меня просто тошнило от стыда и позора!
К началу послеобеденных занятий мы, естественно, опоздали. Когда мы, бегом промчавшись через весь дом и задыхаясь, влетели в класс, Эверра с отвращением посмотрел на нас и велел:
— Идите умойтесь. — А мы-то на себя и внимания не обратили; только теперь я заметил, как перепачкана наша одежда, какие грязные у нас руки, а физиономия Тиба к тому же вся в потеках сажи, слез и соплей; да и сам я, наверное, выглядел не намного лучше. — Сходи с ними, Сэлло, — попросил учитель мою сестру, — и проследи, чтобы они привели себя в порядок. — По-моему, добрый Эверра послал Сэл с нами, понимая, до какой степени мы оба расстроены.
Я успел заметить, что Торм сидит в классе на своем обычном месте, а вот Хоуби там нет.
— Что случилось? — спросила Сэлло, помогая нам отмыться, но я вместо ответа спросил:
— А что вам Торм сказал?
— Он сказал, что Отец Алтан приказал вам сжечь кое-какие игрушки, так что вы, возможно, опоздаете к началу занятий.
Значит, Торм прикрыл нас, придумал для нас оправдание! С одной стороны, я испытал огромное облегчение, но с другой — это оказалось настолько незаслуженным после моего предательства, что я чуть не расплакался от благодарности и стыда.
— Интересно, какие такие игрушки он велел вам сжечь? Чем вы там занимались?
Я молча покачал головой, решив ничего ей не говорить. Но Тиб не выдержал:
— Мы играли в воинов и маршировали, а Торм-ди нами командовал.
— Заткнись, Тиб! — сказал я, но было уже поздно.
— С какой это стати мне затыкаться?
— Мало тебе неприятностей?
— Мы же не виноваты! Так и Отец сказал. Он же сказал, что во всем виноват Торм-ди.
— Ничего подобного! Ты бы лучше об этом помалкивал, раз не понимаешь! Ты же предаешь его!
— Ну так ведь он же соврал, — сказал Тиб. — Он сказал, что мы лазали по деревьям.
— Он просто пытался уберечь нас от лишних неприятностей!
— А может, себя самого? — возразил Тиб.
У фонтана во дворе Сэл как-то ухитрилась погрузить наши головы в воду и почти дочиста оттереть наши перепачканные физиономии. Возилась она довольно долго. Сперва мои многочисленные ожоги сильно щипало, потом я почувствовал приятную прохладу; особенно приятно было опустить в воду свое уже очень сильно распухшее запястье. Отскребая с нас грязь, Сэлло постепенно вытянула-таки из нас всю историю с оружием, но отреагировала весьма немногословно, сказав Тибу:
— Гэв прав. Не надо об этом болтать.
На обратном пути я спросил у нее:
— А что, теперь Хоуби на один глаз ослепнет?
— Торм-ди сказал только, что он слегка повредил себе глаз, — пожала плечами Сэлло.
— Хоуби ужасно на меня зол, — вздохнул я.
— Ну и что? — вдруг возмутилась Сэлло. — Ты же не нарочно его поранил! А вот он как раз хотел ударить тебя мечом. Пусть только еще раз попробует, вот тогда действительно в беду попадет! — Она говорила чистую правду. Мягкая и добродушная, моя сестра моментально воспламенялась, стоило кому-нибудь меня обидеть, и готова была защищать своего младшего брата столь же свирепо, как кошка защищает своих котят. Об этом все знали. А Хоуби, кстати сказать, она никогда не любила.
Прежде чем войти в класс, Сэлло обняла меня за плечи и на минутку прижала к себе; я тоже быстро обнял ее, и снова все стало хорошо… почти хорошо.
Глава 2
Глаз у Хоуби поврежден не был. Безобразный шрам пересекал его бровь ровно посредине, но, как выразился Торм, «не так уж Хоуби и красив, чтобы эту красоту можно было испортить». На следующий день Хоуби вернулся в школу, вовсю шутил и вообще вел себя вполне мужественно, хотя голова у него и была перебинтована. Он со всеми был весел и дружелюбен — за исключением меня. Какова бы ни была истинная причина его странного соперничества со мной, действительно ли он считал, что я пытался его унизить, бросив камнем ему в лицо, он так или иначе явно видел во мне врага и с тех пор уже не скрывал своего неприязненного ко мне отношения.
В таком огромном хозяйстве, как Аркамант, у любого из домашних рабов сколько угодно возможностей навлечь беду на своего недруга. К счастью, ночевал Хоуби в так называемой мужской хижине, а я — по-прежнему в доме… Однако даже сейчас, когда я пишу эту историю для тебя, моя дорогая жена, и для тех, кому, возможно, захочется ее прочесть, я думаю так же, как думал и тогда, двадцать лет назад, когда был еще мальчиком-рабом. Моя память дает мне возможность настолько ясно видеть прошлое, словно все это снова происходит здесь и сейчас, у меня на глазах, и я забываю, что кое-что уже стоило бы пояснить и тебе, и читателям, и, пожалуй, даже самому себе. Описывая нашу жизнь в Аркаманте, в городе-государстве Этра, я снова погружаюсь в мир моего детства, я воспринимаю эту жизнь именно так, как воспринимал и тогда, — как бы изнутри и стоя на самой нижней ступеньке существовавших в нашем Доме отношений. Я не имел возможности ни с чем эту жизнь сравнить и считал подобное положение вещей единственно возможным. Детям вообще свойственно именно так воспринимать окружающий их мир. Как и рабам. Свобода ведь в значительной степени связана с пониманием того, что существующему порядку вещей есть некие альтернативы.
А я, кроме Этры, в те времена не знал ничего. Этра и соседние города-государства почти перманентно пребывали в состоянии войны, и воины в обществе занимали весьма важное положение. Воинами обычно становились только представители двух высших классов: знати, из числа которой выбирались и члены Сената, и так называемых свободных людей — земледельцев-фермеров, купцов, подрядчиков, архитекторов и т. п. Мужчины, входившие в последнюю группу, имели право голосовать по некоторым законодательным вопросам, но не имели права занимать государственные должности. К тому же среди «свободных» имелось и небольшое количество «освобожденных», т. е. бывших рабов. Ниже их стояли только рабы.
Женщины, представительницы всех классов, занимаются физическим трудом только дома, а мужчины-рабы трудятся как в доме, так и вне его. Численность рабов увеличивается за счет пленных, захваченных во время войны или бандитских вооруженных налетов на другой город или деревню, или же за счет детей, рожденных домашними рабами; рабов можно покупать или дарить, что и делают те, кто принадлежит к двум высшим классам. Раб не имеет никаких законных прав, не может вступить в брак и чаще всего живет в вечной разлуке и со своими родителями, и со своими детьми.
Жители городов-государств поклоняются предкам тех, кто здравствует ныне. Люди, не имеющие предков, то есть
«освобожденные» и рабы, могут поклоняться только праотцам того семейства, которое ими владеет или владело, или же праотцам самого города, великим духам давно минувших времен. Но рабы поклоняются и некоторым другим божествам, известным повсюду на Западном побережье: богине Энну, богу Раниу и богу удачи, которого называют также Глухим богом.
Ясно, что и я от рождения был рабом, а потому и говорю в основном о рабах. Но если вы прочтете любую историческую хронику — Этры или другого города-государства, — то там все будет только о правителях, сенаторах, генералах, славных воинах, богатых купцах и так далее; там будут описаны только деяния тех людей, которые вольны были совершать или не совершать эти деяния. О рабах там вы не найдете ни слова. Основное качество и добродетель раба — его незаметность, даже почти невидимость. Людям бесправным, лишенным власти, приходится быть незаметными; они порой даже самих себя толком не видят. Эту важную вещь Сэлло, например, давно уже поняла, а я еще только учился этому.
В Аркаманте мы, домашние рабы, ели на кухне; там всегда можно было найти вкусную кашу из пшеничных зерен, свежий хлеб, сыр, оливки, свежие или сушеные фрукты, молоко, а по вечерам еще и горячий суп. Впрочем, зимой горячего супа можно было похлебать и утром. Одевали и обували нас вполне прилично, постели были всегда чистые и теплые. Аркамант славился своим богатством и щедростью. Наша Мать с презрением отзывалась о тех хозяевах, которые отправляют своих рабов на улицу босиком, голодными, со следами побоев. В Аркаманте старых рабов, которые уже не могли приносить пользу своим трудом, продолжали содержать в холе и тепле, кормили и одевали до самой смерти; а к старой Гамми, которую мы с сестрой очень любили и которая была нянькой еще самого Алтана-ди, все относились с особой теплотой. Мы хвастались перед рабами из других Домов, что суп для нас варят с мясом, а одеяла у нас шерстяные. Мы презрительно смотрели на те безвкусные и претенциозные «ливреи», которые вынуждены были носить рабы чужих Домов. Нам гораздо больше по душе были традиционные, «как у наших предков», прочные, добротные одежды. Как, впрочем, и всем в Аркаманте.
Взрослые рабы-мужчины спали в большом отдельном строении на заднем дворе, Хижине; женщины и дети ночевали в просторной спальне рядом с кухней. Младенцы, как принадлежавшие Семье, так и из числа домашних рабов, вместе с няньками и кормилицами размещались в детской неподалеку от покоев самой Семьи. «Подарочные» девушки проживали и развлекали гостей или своих постоянных любовников в «шелковых комнатах», красиво убранных помещениях в дальнем западном крыле, отделенном внутренним двориком.
Женщины сами могли решить, когда мальчику следует переехать из общей женской спальни в мужскую Хижину. Например, несколько месяцев назад они отправили туда Хоуби — главным образом для того, чтобы просто от него избавиться: он постоянно всем грубил и издевался над младшими детьми. Сперва, по-моему, более взрослые юноши, жившие в Хижине, встретили его в штыки, но он тем не менее страшно гордился этим переселением, считал его существенным признаком собственной мужественности и презирал нас, младших, за то, что мы спим «в норе вместе со всем выводком».
Тиб тоже только и мечтал о том, чтобы его отправили на ту сторону двора, а мне так жилось очень хорошо: у нас с Сэл был собственный крошечный закуток, собственный запирающийся сундучок и собственная просторная лежанка; да и Гамми по-матерински опекала нас. А когда она умерла, нас не разлучили и позволили заботиться друг о друге. Тут надо пояснить: поскольку у рабов как бы нет ни родителей, ни детей, то любая женщина имеет право дать выход своим материнским чувствам и заботиться о каком-то ребенке или о нескольких детях; во всяком случае, ни один ребенок не ложится спать, испытывая горечь одиночества. А у некоторых детей бывает даже несколько «приемных матерей». Всех женщин дети называют «тетя» или «тетушка». Наши «тетушки» частенько говорили, что мне приемная мать и вовсе не нужна, потому что у меня такая замечательная сестра. И я был совершенно с этим согласен.
Когда Хоуби убрали из нашей общей спальни, моей сестре больше не нужно было защищать меня от его преследований, однако за пределами спальни все стало гораздо хуже. Обязанность подметальщика вынуждала нас с Сэлло ходить по всему огромному дому, и Хоуби подстерегал меня в таких уголках двора и в таких коридорах, где люди бывали довольно редко. Он хватал меня за шиворот, приподнимал и начинал трясти и мотать из стороны в сторону, как собака трясет пойманную крысу, желая сломать ей шею. При этом он все время гнусно ухмылялся, заглядывая мне в лицо, а потом с силой швырял меня на пол, пинал ногой и удалялся. Это было ужасно — вот так, беспомощно, болтаться в его руках! Я брыкался, я вырывался изо всех сил, но был гораздо меньше и слабее его, да и руки у меня были коротковаты, я даже дотянуться до него не мог, а если мне все же удавалось пнуть его ногой, то он, похоже, этих жалких пинков даже не замечал. Звать на помощь я не осмеливался: если ссора между рабами тревожила покой членов Семьи, то этих рабов непременно сурово наказывали. По-моему, моя беспомощность только распаляла жестокость Хоуби, ибо он вел себя все хуже и хуже. Он был хитер и никогда не тряс и не пинал меня в присутствии других людей, но стал все чаще устраивать свои гнусные засады, исподтишка ставил мне подножки, выбивал у меня из рук тарелки с едой и т. д. Но хуже всего то, что он не упускал случая оболгать меня, обвиняя в воровстве и ябедничестве.
Впрочем, женщины у нас в спальне почти не обращали внимания на россказни Хоуби, а вот старшие ребята, жившие в Хижине, к нему, увы, прислушивались и в итоге стали относиться ко мне как к жалкому маленькому шпиону и хозяйскому любимчику. Я этих юнцов видел редко, ибо они были заняты работой и почти не попадались мне на глаза. Зато с Тормом я каждый день встречался в школе. С того дня, когда состоялась наша битва на «земляном валу», то есть в заросшей травой канаве, Торм совершенно перестал обращать внимание на нас с Тибом и своим единственным дружком сделал Хоуби, а тот с некоторых пор стал обзывать меня «вонючкой», и Торм вскоре последовал его примеру.
Эверра не мог напрямую сделать Торму замечание или тем более устроить ему выговор. Торм был сыном Семьи, а Эверра — рабом. Уважения заслуживала лишь та роль, которую Эверра играл, но не он сам. Он имел право исправлять ошибки, которые Торм делал при чтении, или, скажем, в чертежах, или исполняя какую-нибудь мелодию, но делать ему замечания по поводу поведения он не мог; он мог, например, сказать: «Тебе придется переделать это упражнение», но остановить его окриком: «Немедленно прекрати это!» — не мог. Впрочем, те болезненные приступы бессмысленной ярости, случавшиеся с Тормом в детстве, давали Эверре кое-какие дополнительные возможности; он и теперь порой пользовался этими возможностями, чтобы держать Торма в руках. Когда тот начинал орать и драться, Эверра просто хватал его в охапку и выносил из класса, а потом запирал в кладовке в дальнем конце коридора, пригрозив, что если он сам попытается выбраться оттуда, то его родителям будет сообщено, как отвратительно он вел себя на уроке. И Торм, посидев какое-то время в одиночестве, обычно приходил в себя и терпеливо ждал, когда Эверра его выпустит. Мне кажется, он и сам бывал рад, что его заперли, потому что, даже став старше и гораздо сильнее, когда Эверра уже и не смог бы, наверное, с ним справиться, он чуть ли не бегом бросался по коридору, стоило нашему учителю сказать: «В кладовую, Торм-ди!» — и охотно позволял Эверре запереть за собой дверь. Теперь, правда, у него уже почти год не было настоящих припадков, но один или два раза, когда он снова начинал выходить из себя, Эверра тихо говорил ему: «В кладовую, пожалуйста», и он послушно направлялся туда.
Однажды весной Хоуби снова стал приставать ко мне в классе; он нарочно толкал скамью, когда я писал, потом разлил чернила и обвинил меня в том, что я специально испортил ему тетрадь, затем принялся очень больно щипаться, стоило мне пройти мимо. Заметив это, Эверра сказал:
— Оставь Гэвира в покое, Хоуби. Вытяни перед собой руки!
Хоуби встал и, выбросив перед собой руки ладонями вверх, со своей обычной бараньей упрямой усмешкой приготовился к наказанию.
Но тут вмешался Торм.
— А он ничего такого не сделал, чтобы его наказывать! — заявил он.
От неожиданности Эверра не сразу нашелся что ответить. Но все же сказал:
— Он мучил Гэвира, Торм-ди.
— Этого вонючку? Да это его надо наказывать, а не Хоуби! Это же он чернила разлил.
— Он сделал это случайно, Торм-ди. Я за это не наказываю.
— Нет, не случайно! А Хоуби и вообще ничего такого не сделал! Нечего его наказывать! Скорее уж этот дерьмец наказания заслуживает!
Хотя Торма пока еще не трясло от ярости, как бывало, но он явно был на грани очередного срыва: лицо его исказилось, глаза вдруг словно ослепли и даже побелели от бешенства. Наш учитель стоял и молчал. Я заметил, как он быстро глянул на Явена, склонившегося над каким-то чертежом и совершенно поглощенного своим занятием. Я тоже очень надеялся, что Явен — все-таки он был старшим братом Торма — заметит, что происходит; но он словно ничего не слышал; а Астано в тот день в классе не было.
Наконец Эверра сказал:
— В кладовую, пожалуйста, Торм-ди.
Торм машинально сделал пару шагов. И остановился. Затем повернулся лицом к учителю и хрипло, с трудом выговаривая слова, сказал:
— Я, я, я… приказываю тебе наказать этого дерьмеца! — Лицо его при этом дергалось и тряслось, как и в тот день, когда нас ругал его отец за то, что мы играли с оружием.
А у Эверры лицо стало совершенно серым. Он стоял неподвижно и выглядел очень худым и старым. Потом снова бросил взгляд в сторону Явена, по-прежнему ничего не замечавшего, и промолвил очень тихо, но с достоинством:
— В этой классной комнате распоряжаюсь я, Торм-ди.
— Но ты всего лишь раб и обязан выполнять мои приказания! — выкрикнул Торм, и голос его, еще не успевший сломаться, сорвался на визг.
Это наконец услышал и Явен; он поднял голову, удивленно огляделся и спросил:
— В чем дело, Торм?
— Довольно с меня непослушания каких-то дерьмовых рабов! — выкрикнул Торм, снова срываясь на визг. В эти минуты он был похож на сумасшедшую старуху, особенно своим хриплым визгливым голосом, и, может быть, именно это и заставило маленького четырехлетнего Мива рассмеяться. Когда в наступившей тишине прозвенел негромкий смех Мива, Торм резко обернулся к нему и с размаху ударил его по голове кулаком. Малыш так и слетел со скамьи, ударившись о стену.
И тут Явен не выдержал: подскочив к Торму, он с мрачным видом торопливо извинился перед Эверрой, схватил брата за руку и поволок его вон из класса. Торм не сопротивлялся. Он умолк, но глаза его по-прежнему горели слепой яростью, хотя лицо несколько обмякло, да и вид у него был скорее смущенный.
Хоуби с тупым, каким-то пришибленным выражением смотрел ему вслед. Никогда еще так резко не бросалось в глаза то, что они с Тормом разительно похожи — почти одно и то же лицо.
Сэлло подняла маленького Мива и баюкала его, прижав к груди. Малыш так и не издал ни звука: похоже, он был оглушен тем страшным ударом по голове. Потом он немного повозился и уткнулся лицом в плечо Сэл. Если он и плакал, то совершенно беззвучно.
Наш учитель опустился возле них на колени, пытаясь определить, нет ли у мальчика каких-либо иных повреждений, кроме здоровенной шишки, которая уже набухала и вскоре должна была закрыть ему половину лица. Потом Эверра велел Сэлло и Око, сестре Мива, отнести мальчика в атриум к фонтану и как следует умыть. В классе, таким образом, остались только Рис, Сотур, Тиб, я и Хоуби. Учитель повернулся к нам и сказал:
— А мы пока почитаем Трудека. — Голос его показался мне каким-то хриплым и слабым. — Итак, шестидесятая мораль. «О терпении».
Первой он велел читать Сотур. И она храбро принялась за дело, но все равно то и дело запиналась.
Сотур была племянницей Алтана-ди. Ее родной отец погиб во время осады Морвы, когда она была еще совсем крошечной, а мать умерла, давая ей жизнь. Сотур, оставшуюся сиротой, приняли в Семью Арка, где она оказалась самой младшей из детей. Она была очень похожа на свою старшую кузину Астано — такая же спокойная и скромная; она обожала Астано, доверяла ей целиком и полностью и подражала во всем, и все же темперамент у нее был несколько иной. Сотур была не то чтобы бунтаркой, но и особой покорностью не отличалась. И чувствовалось, что душа ее по-прежнему одинока.
А в эти минуты Сотур была страшно расстроена тем презрением и неучтивостью, которую Торм выказал по отношению к нашему учителю, которого она очень любила. Будучи единственным членом Семьи, оставшимся в классе, она не могла не чувствовать ответственности за отвратительное поведение Торма, за побои, нанесенные малышу Миву, и за те извинения, которых Торм так и не принес Эверре. Но что она, двенадцатилетняя девочка, могла поделать? Разве что моментально подчиниться и продемонстрировать нашему учителю высшую степень учтивого к нему отношения. Так она и поступила, но читала все же отвратительно. Книга так и тряслась у нее в руках. И вскоре Эверра, поблагодарив ее, велел мне продолжать с того места, где она остановилась.
Стоило мне начать читать, как Хоуби у меня за спиной вдруг завозился и что-то прошипел. Учитель только глянул на него — и он сразу примолк, но ненадолго. И все время, пока я читал, я чувствовал, как он готовит у меня за спиной какую-то гадость.
В общем, мы как-то добрались до конца урока. Вернувшаяся Сэлло сообщила, что оставила маленького Мива и его сестру у нашего лекаря Ремена, потому что у Мива все время кружится голова и он все время засыпает. Матери Дома также сообщили о случившемся, и, по словам Сэл, она собиралась навестить малыша. Это внушало надежду. Старый Ремен только и умел, что рабов лечить, причем для всех болезней он использовал камфарную мазь да отвар из кошачьей мяты, а наша Мать Фалимер по всей Этре славилась своим опытом и умением исцелять по-настоящему.
— Арки всегда заботятся о своих людях, даже о самых маленьких, — промолвил Эверра с мрачной благодарностью. — Когда сегодня пойдете из класса, загляните в комнату предков, поклонитесь им и попросите благословить всех детей этого Дома, всех его детей, а также его добрую Мать.
Мы, разумеется, послушались. Одна лишь Сотур имела право войти в святилище, где на стенах теснились имена предков и их резные изображения. Это была большая темноватая комната с потолком-куполом. Глядя вслед Сотур, мы, домашние слуги, преклонили колена на пороге святилища, и Сэлло, зажав в кулачке резную фигурку богини Энну-Ме, прошептала:
— Благослови нас, Энну, и сама будь благословенна! Прошу тебя, сделай так, чтобы Мив поправился! А я вечно буду следовать твоим указаниям, дорогая моя наставница, великая Энну-Ме!
Я же мысленно молился тому из предков, которого выбрал сам. Это был Алтан Бодо Арка. Лет сто назад он тоже был Отцом Аркаманта, и его портрет, вырезанный в камне и раскрашенный, был хорошо виден с порога, где мы стояли на коленях. У него было замечательное лицо, точно у доброго ястреба, а проницательные глаза смотрели прямо на меня. Я выбрал его еще совсем маленьким и решил, что именно он и есть мой самый главный защитник и всегда знает, что у меня на душе. Мне не нужно было объяснять ему, как сильно я боюсь их обоих — Торма и Хоуби. Он и так все понимал. «О великая тень, прародитель наш, дедушка Алтан-ди, помоги мне от них избавиться! — безмолвно молил я его. — Сделай так, чтобы они не были такими злыми, и прими мою благодарность. — И, подумав, я еще прибавил: — А еще, пожалуйста, сделай меня хоть чуточку храбрее!»
Это была хорошая мысль. Ибо в тот день мужество мне очень даже понадобилось.
Мы с Сэл все подмели, а потом весь день были вместе: она пряла, а я делал задание по геометрии. Хоуби нигде видно не было — ни на кухне, ни в доме. Наступил вечер, и я уже решил, что все обошлось; я даже собирался пойти и поблагодарить за это нашего предка, Алтана Бодо Арку, но, возвращаясь в нашу комнату из уборной, я вдруг услышал за спиной голос Хоуби:
— Вот он!
Я бросился бежать, но было поздно: они все равно сразу меня поймали. Я брыкался, вопил и дрался изо всех сил, но я был все равно что кролик в зубах у гончих.
Хоуби и другие большие мальчишки притащили меня к колодцу за мужской Хижиной, вытащили из колодца ведро и стали опускать меня головой в колодец, держа за ноги, пока голова моя не уходила под воду и я не начинал задыхаться. Стоило мне начать булькать и вдыхать воду, как они быстро вытаскивали меня наверх, давали немного оклематься, и все повторялось снова.
Каждый раз, когда они вытаскивали меня на воздух, задыхающегося, извивающегося, исходящего рвотой, Хоуби наклонялся надо мной и говорил странным ровным голосом:
— Это тебе за то, что ты предал твоего хозяина, жалкий вонючка! И за то, что ты вечно подлизываешься к этому вонючему старому пердуну Эверре, болотная ты крыса! Ничего, посмотрим, как тебе понравится в воде мокнуть, тварь болотная! — И они снова заталкивали меня в колодец, как бы я ни сопротивлялся, расставляя руки, цепляясь за каменные стены колодца и отворачивая голову от воды. Вскоре меня все равно погружали в воду и держали так до тех пор, пока вода не начинала заливаться мне в ноздри; я начинал задыхаться и кашлять, захлебываясь, и меня снова поднимали наверх. Не знаю, сколько раз они проделывали это; в итоге я потерял сознание, и, когда я совсем обмяк, они испугались: решили, наверное, что я умер.
Убить раба может только его хозяин; для всех остальных это считается тяжким преступлением. И мои перепуганные мучители убежали, так и бросив меня у колодца.
Нашел меня старый Ремен, «чинильщик рабов», когда пришел к колодцу на заднем дворе; он всегда утверждал, что в этом колодце вода гораздо чище, чем в фонтанах. «Наткнулся на него в темноте, — рассказывал он впоследствии. — Думал, это дохлая кошка валяется! А потом смотрю, нет, великовато для кошки-то. Значит, думаю, кто-то собаку в колодце топил, да у него не вышло. Глядь, это и не собака вовсе, тут мальчишку чуть не утопили! Клянусь богом удачи! Кто же это тут у нас мальчишек топит?»
Но на этот вопрос он от меня ответа так и не получил.
По-моему, Хоуби и остальные мои мучители считали, что придуманная ими пытка никаких видимых следов не оставит и все мои обвинения против них легко будет опровергнуть за недостатком улик; но на самом деле мои плечи и запястья были покрыты ссадинами и синяками, а на голове красовалось несколько шишек. Я отчаянно сопротивлялся, когда меня опускали вниз головой в узкий колодец, дергался изо всех сил, так что даже лодыжки мои были в черно-синих кровоподтеках. Парни они были крепкие, мускулистые, им, возможно, даже в голову не приходило, какие следы остаются на моем теле от их безжалостных рук. Пытаясь просто меня напугать, они на самом деле причиняли мне серьезный физический ущерб.
Я пришел в себя только ночью в маленькой больничке Ремена; грудь нестерпимо болела, в висках что-то тикало, но я лежал очень тихо и словно плыл в неглубоком озерце тусклого желтоватого света, чувствуя, как эта тишина исходит из моей души и расплывается вокруг, точно круги на спокойной воде. Через некоторое время я заметил, что моя сестра Сэлло сидит рядом со мной и спит, положив голову на край постели, и от этого чудесный покой, что окружал меня, и эта тишина стали еще прекраснее. Я лежал так довольно долго, порой видя лишь этот неяркий золотистый свет и неясные тени, а порой кое-что вспоминая. Например, мне снова вспомнились те тростники, и спокойная, синяя, как шелк вода, и голубой холм вдалеке. Затем я снова вернулся на свою постель и закачался на волнах золотистого света, следя за неясными тенями вокруг и слушая сонное дыхание Сэлло. Вдруг я вспомнил, как Хоуби крикнул: «Вот он!» Но ужас, который я испытал при этом, был каким-то отдаленным, невнятным, как и боль в висках, и не причинил мне особого беспокойства. Я немного повернул голову и увидел маленький масляный светильник, от которого струился этот теплый, золотистый свет, озерцом разливавшийся вокруг его огненной сердцевинки. И, глядя на светильник, я «вспомнил» того человека в темной комнате с высокими потолками. То, как он стоял у огромного стола, заваленного книгами и бумагами, а на столе горела лампа и лежала грифельная доска, и над столом виднелось высокое узкое окошко; а потом этот человек обернулся и посмотрел на меня, стоявшего на пороге. И в этот момент я сумел как следует разглядеть его. Волосы у него начинали седеть, а красивое лицо было чем-то похоже на лицо того «моего» предка — такое же яростное и доброе одновременно; но если лицо предка было исполнено гордости, то в лице этого седеющего человека было больше печали. И все же, увидев меня, он ласково мне улыбнулся и назвал меня по имени: «Гэвир…»
Гэвир… И снова я очутился в озерце неяркого желтого света. Надо мной склонилось чье-то лицо, и я долго вглядывался в него, пытаясь узнать. Это была женщина в ночном капоте и белой шерстяной шали, накинутой на голову. Лицо у нее было нежное и суровое, немного похожее на лицо Астано. Но это была не Астано, и я решил, что она тоже из моих «воспоминаний», но потом догадался — не сразу, медленно, — что надо мной склонилась Мать нашего Дома, Фалимер Галлеко Арка. До сих пор мне ни разу в жизни не доводилось смотреть ей прямо в лицо, и теперь я не сводил с нее глаз. Мне казалось, что она похожа на резное изображение одного из наших предков, и я смотрел и смотрел на нее сонно, мечтательно, не испытывая ни малейшего страха.
Рядом со мной Сэлло чуть шевельнулась во сне, но не проснулась.
Мать Фалимер легко коснулась тыльной стороной ладони моего лба и чуть заметно покивала головой.
— Ну как ты, ничего? — услышал я ее шепот. Я был каким-то слишком усталым и сонным, чтобы ответить, но, должно быть, все же кивнул или улыбнулся ей в ответ, потому что и она тоже слегка улыбнулась, ласково коснулась моей щеки и отошла от меня к стоявшей рядом детской кроватке.
Она некоторое время постояла возле этой кроватки, и я понял, что там, должно быть, лежит маленький Мив, но тут же снова уплыл куда-то по озерцу желтоватого света в ту благословенную тишину. И тут на меня вдруг нахлынули эти видения, или «воспоминания»: мы шли хоронить Мива к реке, и молодые листики ив, росших на берегу, были как зеленый дождь на фоне серого весеннего дождя. И сестра Мива, Око, стояла возле маленькой черной могилки с какой-то цветущей веткой в руке, а я все смотрел на тот берег реки, и поверхность воды была рябой от дождя. А я вспоминал, что, когда мы здесь, на берегу реки, хоронили Гамми, была зима и прибрежные ивы стояли голые, но все равно душа моя была не так переполнена печалью, как сейчас, потому что похороны Гамми были почти как праздник — столько людей собралось, чтобы проводить ее, а после похорон должен был состояться еще и поминальный пир. А потом промелькнуло и еще одно короткое видение: какие-то другие похороны, но тоже весной, вот только я не знал, кого это хоронят, и даже еще подумал: может, меня самого? Я же хорошо видел печаль в глазах того человека, что стоял у стола с зажженной лампой в окутанной полумраком комнате с высоким потолком…
А потом наступило утро. И мягкий дневной свет сменил то озерцо неяркого света от ночника. И Сэл рядом уже не оказалось. А на соседней кроватке лежал маленький Мив, свернувшись клубочком. В дальнем углу я увидел какого-то старика. Потом-то я узнал его: это был Лотер, который до глубокой старости работал у нас поваром, а потом заболел и вот теперь лежал здесь и ждал смерти. Ремен как раз помогал ему сесть, подкладывая под спину подушку, а Лотер стонал и сердито ворчал. Я чувствовал себя вполне хорошо и даже попытался встать, но тут голову мою пронзила острая боль, перед глазами поплыла пелена, как-то сразу заболело все тело, и мне пришлось присесть на кровать.
— Никак уже и встать пытаешься, крыса болотная? — добродушно сказал старый Ремен, подходя ко мне и ощупывая шишки у меня на голове. Вывихнутый большой палец на правой руке уже, оказывается, был уложен в лубок. Ремен осмотрел его, заодно пояснив мне, зачем в таких случаях нужен лубок. — Ничего, скоро с тобой все будет в порядке, — ободрил он меня. — Вы, мальчишки, народ крепкий. А кстати, кто это с тобой такое сотворил, а?
Я только плечами пожал.
Он быстро на меня глянул, коротко кивнул и больше этого вопроса не задавал. Он, как и я, был рабом и понимал, что всем нам приходится жить в сложном сплетении недоговоренностей и умолчаний.
В то утро Ремен, правда, не разрешил мне уйти из больницы; он сказал, что Мать Фалимер непременно собиралась зайти еще раз и как следует осмотреть и меня, и Мива. Ожидая ее прихода, я сидел на кровати и изучал свои многочисленные шишки и ссадины, что оказалось занятием довольно интересным. Потом мне это надоело, и я стал нараспев повторять разные куски из «Осады и падения Сентаса». Около полудня наконец-то проснулся Мив; я подсел к нему и немного с ним поболтал. Он, удивленно глядя на меня, спросил, почему нас двое.
— Как это — двое? — спросил я, и он пояснил:
— Ну, вас двое. Два Гэва.
— Это у него в глазах двоится, — пояснил старый Ремен, подходя к нам. — После ударов по голове и не такое бывает… Ох, госпожа! — И Ремен низко склонился, заметив, что в комнату входит Мать Фалимер; я тоже встал и поклонился ей.
Она очень внимательно осмотрела Мива. Его голова приобрела какую-то странную форму из-за огромной опухоли над левым ухом, и Мать даже в это ухо ему заглянула, а потом осторожно ощупала весь его череп и скулы. Лицо у нее было сосредоточенным, даже суровым, но под конец она сказала своим грудным нежным голосом:
— Ничего, он уже возвращается, — и улыбнулась. Она держала Мива на коленях и разговаривала с ним очень ласково: — Ты ведь возвращаешься к нам, маленький Мив, правда?
— У меня в ушах все время что-то ревет, — жалобно сказал он, морщась и растерянно моргая глазами. — А где Око? Она придет?
Ремен, потрясенный неучтивостью мальчонки, попытался заставить его отвечать Матери как полагается, но она только отмахнулась и сказала:
— Он же совсем еще малыш! — И снова обняла Мива. — Я очень рада, что ты решил вернуться, маленький. — Она еще немного побаюкала его, прижимаясь щекой к его волосам, потом уложила его в кроватку и сказала: — А теперь давай-ка поспи, а когда проснешься, твоя сестренка будет возле тебя.
— Хорошо, — сказал Мив, послушно свернулся клубочком и закрыл глаза.
— Ах ты, ягненочек! — с нежностью сказала Мать Фалимер и посмотрела на меня. — Ага, а ты, значит, уже встал. Что ж, это хорошо. — Она действительно была очень похожа на свою тоненькую юную дочку Астано, только лицо у нее, как и ее тело, было более полным и гладким, а голос — куда более властным и звучным. И еще у Астано взгляд был застенчивый, а Фалимер-йо смотрела спокойно и внимательно. Я, разумеется, сразу смутился и потупился.
— Кто же тебя так избил, мальчик? — спросила она.
Не ответить старому Ремену — это одно. А не ответить Матери Дома — совсем другое.
Я ужасно долго медлил с ответом, но сказал то единственное, что пришло мне в голову:
— Я упал в колодец, госпожа.
— Да ладно! — сказала она с упреком, но весело, словно ей мой ответ в общем понравился.
Но я больше не прибавил ни слова.
— Ты очень неуклюжий мальчик, Гэвир, — услышал я ее мелодичный голос. — Но очень мужественный. — Она осмотрела мои шишки и ссадины и повернулась к Ремену. — Мне кажется, с ним все в порядке. А как его рука? — Она взяла мою руку, осмотрела на уложенный в лубок большой палец и сказала: — Чтобы это как следует зажило, потребуется несколько недель. Ты ведь учишься в школе, да? Так вот: ни в коем случае ничего этой рукой пока не делай, и писать некоторое время тоже будет нельзя. Впрочем, Эверра сам найдет, чем тебя занять. Ну что ж, беги.
Я неуклюже поклонился ей, сказал старому Ремену «спасибо» и вышел. Потом бегом бросился на кухню, отыскал там Сэлло; мы радостно обнялись, и она принялась расспрашивать меня, как я себя чувствую, а я рассказал ей, что наша Мать, оказывается, помнит мое имя, знает, кто я такой и что я учусь в школе!
Я, правда, не стал упоминать, что Мать Фалимер назвала меня «мужественным мальчиком». Это было бы чересчур: о таких вещах никому не рассказывают!
Но когда я попытался поесть, куски пищи почему-то не глотались, а застревали в горле; и в висках снова затикало, а сама голова словно вдруг распухла, так что Сэл пришлось отвести меня в спальню и уложить в постель. Весь остаток того дня и большую часть следующего я проспал. А когда проснулся, то почувствовал себя совершенно здоровым и страшно голодным. И вообще все было бы хорошо, если бы не мой вид, по поводу которого Сотур сказала, что я похож на убитого воина, которого бросили на поле боя воронам на съедение.
Меня не было в классе всего два дня, но приветствовали меня так, словно я отсутствовал несколько месяцев. Самое интересное, что мне и самому так показалось. Учитель осторожно взял мою искалеченную руку, положил ее на ладонь и погладил своими длинными пальцами.
— Когда это заживет, Гэвир, мы с тобой будем учиться писать красиво и аккуратно, — сказал он, — чтобы больше никаких каракулей в нашей общей тетради не было. Согласен? — Эверра улыбался, и почему-то слышать все это от него было мне чрезвычайно приятно. В этих словах чувствовались забота и любовь, выраженные столь же деликатно, как и ласковое прикосновение его пальцев.
Я чувствовал, что Хоуби не сводит с нас глаз, да и Торм тоже. Я резко повернулся к ним и поклонился Торму, но он отвернулся. А я сказал:
— Привет, Хоуби.
Вид у Хоуби был довольно тухлый. По-моему, он просто испугался, увидев мои бесчисленные шишки, ссадины и синяки, ставшие теперь лиловыми и зеленоватыми. Но он наверняка знал, что я так никому ничего и не сказал. И все это знали. Точно так же, как все отлично знали, кто именно на меня напал. Я уже говорил, что наша жизнь была полна умолчаний, но тайн в ней почти не было.
Впрочем, раз я никого не обвинял, то никому до случившегося и дела не было — в первую очередь нашим хозяевам.
Итак, Торм с сердитым видом от меня отвернулся, зато Явен и Астано смотрели ласково и дружелюбно, ну а Сотур и вовсе явно жалела, что ляпнула, не подумав, насчет моего сходства с трупом, брошенным на съедение воронам, ибо, едва оставшись со мной наедине, торжественно заявила:
— Ты, Гэвир, настоящий герой! — И мне показалось, что она вот-вот расплачется.
Тогда я еще не понимал, насколько серьезна вся эта история, куда серьезнее той незначительной, как мне казалось, роли, которую мне довелось в ней сыграть.
Сэлло, конечно, уже рассказала всем, что маленький Мив останется в больнице, пока более-менее не поправится, и я, зная, что о нем заботится сама Мать Аркаманта, постарался больше не думать ни о нем, ни о своих лихорадочных «воспоминаниях» о чьих-то похоронах.
Однако вечером в спальне, когда все собрались, Эннумер, молодая женщина, заботливо опекавшая Мив и Око, вдруг горько расплакалась; и все женщины и девочки собрались вокруг нее, в том числе и Сэлло. А потом Тиб прокрался ко мне и шепотом рассказал то, что ему удалось подслушать: у Мива из уха стала течь кровь, и женщины думают, что от того удара у него треснула голова. Тут-то я и вспомнил те зеленые ивы у реки, что привиделись мне, и внутри у меня все похолодело.
На следующий день у Мива несколько раз случались судороги. Мы слышали, что Мать Фалимер то и дело заходила к нему, а потом и вовсе осталась там и просидела рядом с Мивом весь вечер и всю ночь. Думая об этом, я вспоминал, как она стояла у моей постели, окутанная тем золотистым светом. Вечером, когда мы втроем забрались к нам на лежанку, я сказал Тибу и Сэлло:
— Наша Мать такая же добрая, как Энну.
Сэлло кивнула и обняла меня, а Тиб сказал:
— Это потому, что она знает, кто его ударил.
— Ну и что, если знает?
Но Тиб не ответил, а просто показал мне язык.
Я рассердился.
— Она же наша Мать! — сказал я. — Она всех нас любит, обо всех заботится. Она добрая. А ты о ней вообще ничего не знаешь!
Я-то чувствовал, что знаю ее очень хорошо, как только сердце может знать того, кого любит. Она тогда так ласково коснулась меня своей нежной рукой! И сказала, что я очень мужественный.
Тиб нахохлился, пожал плечами, но возражать мне не стал. Он вообще постоянно был не в настроении, с тех пор как Хоуби от него отвернулся. И хоть я по-прежнему считал его своим другом, ему дружба с Хоуби всегда была важнее моей. И теперь при виде моих синяков и шишек его терзал стыд, и он в моем присутствии чувствовал себя не в своей тарелке. Вообще-то, не я, а Сэлло позвала его в наш закуток посидеть и поговорить, пока женщины свет не погасили.
— Хорошо, что Мать Фалимер разрешила Око все время быть с ним рядом, — сказала Сэлло. — Бедный Мив! Бедная Око! Она так за него боится!
— Эннумер тоже очень хочется его проведать и посидеть с ним, — заметил Тиб.
— Наша Мать — настоящая целительница! — возразил я. — Она вылечит Мива. А твоя Эннумер все равно ему ничем не поможет. Она только и умеет, что причитать да плакать. Вот как сейчас.
Эннумер и впрямь была особой весьма шумной и глуповатой, лишенной и половины того здравомыслия, каким обладала шестилетняя Око; если честно, она не слишком много внимания уделяла Око и Миву, но действительно очень их любила, любила как умела, особенно Мива, своего «куклёнка», как она его называла. И теперешнее ее горе тоже было неподдельным, хотя и слишком громким.
— Ох, мой маленький куклёнок! — завывала она. — Как же мне хочется повидать его! Обнять, прижать к своей груди!
Наша старшая, Йеммер, подошла к ней и обняла за плечи.
— Успокойся, — сказала она. — Фалимер-йо о нем позаботится.
И растрепанная, заплаканная Эннумер вдруг, словно испугавшись, притихла.
Йеммер была старшей уже давным-давно и пользовалась среди женщин непререкаемым авторитетом. Она, конечно, обо всем происходящем в общей спальне рассказывала Матери Фалимер и другим членам Семьи, но никогда не пыталась искать в этом выгоду для себя или специально доносить на других слуг. Хотя могла бы. Но Мать Фалимер уже один раз дала всем понять, что терпеть не может сплетниц и ябед, продав одну такую доносчицу и назначив старшей Йеммер. Йеммер всегда вела честную игру. У нее, конечно, были свои любимцы — и больше всех она любила мою сестру Сэлло, — но она никогда никого особо не выделяла, не оказывала никому предпочтения и никому особо не докучала.
А Эннумер просто преклонялась перед нею; по-моему, Йеммер казалась ей фигурой куда более могущественной — особенно в том, что касалось повседневных дел, — чем сама Фалимер Галлеко Арка. Так что Эннумер еще немного похныкала, позволяя собравшимся вокруг нее женщинам ее утешать, и замолкла.
Эннумер прислали к нам из Херраманта лет пять назад в качестве подарка Сотеру, старшему брату Сотур, ко дню его рождения. Тогда Эннумер была хорошенькой пятнадцатилетней девушкой, ничего толком не умевшей и неграмотной, ибо в Херраманте, как и во многих других Домах, считалось излишним хвастовством, показухой или даже рискованным бахвальством давать рабам образование, тем более девочкам-рабыням. Я знал, что у Эннумер были дети, двое или трое. Оба старших брата нашей Сотур частенько посылали за этой молодой женщиной, она беременела, рожала, и ребенка отдавали одной из нянек, а потом побыстрее продавали в какой-нибудь другой Дом. Между прочим, Мив и Око тоже появились здесь в результате подобной сделки. Младенцев вообще почти всегда либо продавали, либо обменивали. Гамми часто нам говорила: «Я родила шестерых, а вот матерью никому не была. Даже и не смотрела ни на кого из детей, не пыталась никого в приемыши взять, после того как Алтана-ди вынянчила. А на старости лет вы двое мне на голову взяли да и свалились, чтобы воспоминаниями меня мучить!»
Очень редко продавали мать, а не ее ребенка. Так случилось, например, с матерью Хоуби, который родился в один день с Тормом, настоящим сыном Семьи. Алтан-ди воспринял это как некий знак свыше и приказал оставить мальчика. А его мать, тоже «девушку-подарок», поскорее продали, чтобы избежать в дальнейшем возможных осложнений с выяснением родства. Мать может, конечно, считать в душе, что тот ребенок, которого она выносила и родила, принадлежит ей, однако понятно, что собственность не может обладать другой собственностью. А все мы являлись собственностью Семьи Арка; и Мать этого Дома считалась нашей Матерью, а Отец Алтан — нашим Отцом. Все это я отлично знал и понимал.
Но понимал я и то, почему плачет Эннумер. Для мальчика моих лет почти невыносимо видеть женские слезы, и я старался не думать об этом, отгораживаясь от этих мрачных мыслей, точно стеной.
— Давай в «морской бой» поиграем? — предложил я Тибу. Мы вытащили грифельные доски и мел, разбили поле на клетки и играли до тех пор, пока женщины не погасили свет.
А утром, на рассвете, Мив умер.
Смерть ребенка-раба обычно не вносит никакого замешательства в жизнь такого огромного Дома, как Аркамант. Ну, женщины-рабыни, конечно, поплачут, а члены Семьи, может, и зайдут, скажут добрые слова, принесут усопшему красивый саван или дадут денег, чтобы этот саван купить. А потом рано утром маленькая группа рабов в белых траурных одеждах отнесет носилки к реке, на кладбище, и помолится у могилы богине Энну, чтобы та отвела невинную детскую душу в его новый дом, а потом люди, утирая слезы, вернутся назад и вновь займутся привычной работой.
Но эта смерть была не совсем обычной. Каждый в Аркаманте знал, почему умер Мив, и это вызывало у людей тревогу. На этот раз разговоров среди рабов было довольно много; хозяева же помалкивали.
Разумеется, говорили рабы только с другими рабами.
Но это были такие разговоры, каких я никогда прежде не слышал: в них звучали горький гнев и презрение, и выражали эти чувства не только женщины, но и мужчины. Меттер, охранник нашего Отца, которого все уважали за силу и благородство, сказал в Хижине, что смерть Мива — это позор всей Семьи и предки непременно потребуют искупления этого греха. А старший конюх Сим, человек умный, энергичный и бесстрашный, при всех назвал Торма бешеным псом. И эти слова шепотом передавались из уст в уста, об этом говорили и в коридорах, и на кухне, и в нашей общей спальне. Всем стала известна и та история, которую поведал Ремен: о том, как Мать Фалимер держала Мива на руках все то время, пока он был при смерти, прижимала его к себе и шептала: «Прости меня, малыш, прости».
Ремен рассказал это, надеясь, что его рассказ, возможно, несколько утешит Эннумер, которая просто обезумела от горя; и ей действительно чуть полегчало от сознания того, что мальчик, умирая, находился в чьих-то нежных и ласковых руках и что наша Мать искренне опечалена тем, что не сумела спасти его. Но другие люди восприняли это иначе. «Она вполне могла бы и прощения попросить!» — сказала Йеммер, и остальные с нею согласились. История о том, как Мив совершенно невинно рассмеялся, глядя на Торма, а Торм за это на него набросился, сильно ударил кулаком и швырнул об стену, была известна всем. Око, рыдая, рассказала об этом в тот же день, а Тиб и Сэлло все подтвердили, и я точно знаю, что, сколько бы раз ни говорили об этом в Хижине и на конюшне, никаких излишних подробностей в рассказе о жестокости Торма не появилось.
Хоуби, правда, защищал Торма, говоря, что тот всего лишь хотел шлепнуть назойливого и нахального мальчишку и сам не знал, что удар у него получится таким сильным. Но и самого Хоуби в доме недолюбливали. Никто, правда, открыто не обвинял его за то, что приключилось со мной у колодца, поскольку и сам я его обвинять не стал, однако никто особого восторга по этому поводу не выказывал и уж тем более по головке никто Хоуби не гладил. И теперь его верность Торму играла против него; уж больно это было похоже на предательство; уж больно явно он перешел на сторону хозяев. Я слышал, как старшие мальчишки на конюшне обзывали его «двойничком» — за спиной, конечно. А Меттер сказал ему прямо: «Настоящий мужчина, который не знает, какова его собственная сила, должен сперва узнать это и научиться управлять ею, сражаясь с мужчинами, а не избивая младенцев».
Эти разговоры о вине и невозможности прощения страшно меня тревожили. Они словно открывали трещины и неполадки в основах нашего мира, и мне начинало казаться, что этот мир вот-вот рухнет. Подойдя к дверям в комнату предков, я опустился на колени и попробовал молиться моему тамошнему хранителю, но его нарисованные глаза смотрели как бы сквозь меня — высокомерно и равнодушно. В святилище я обнаружил Сотур, низко склонившуюся в безмолвной мольбе; она воскурила благовония у алтаря Матерей Дома, и ароматный дымок поднимался к темноватому куполу.
В ночь после смерти Мива мне приснилось, что я подметаю один из внутренних двориков и обнаруживаю там какой-то незнакомый коридор, которого никогда раньше не замечал; и коридор этот приводит меня в комнаты, о существовании которых я тоже прежде не знал, и там я встречаюсь с какими-то незнакомыми мне людьми, которые приветствуют меня так, словно хорошо меня знают. Я боюсь совершить грех, боюсь преступить некий запрет, но они улыбаются, и одна женщина протягивает мне прекрасный спелый персик и говорит: «Возьми, не бойся» — и называет меня каким-то другим именем, но, проснувшись, я так и не смог припомнить это имя. И вокруг головы этой женщины разливается такое сияние, словно дрожат и переливаются солнечные зайчики. Я проснулся и снова заснул, и мне снова приснился тот же сон, но теперь я уже обследовал эти новые коридоры и комнаты, только людей тех уже не встречал, а лишь слышал их голоса, а потом я вышел в какой-то светлый внутренний дворик, где журчал небольшой фонтан, и ко мне подошел какой-то красивый золотистый зверь и доверчиво позволил его погладить. Даже окончательно проснувшись, я все еще продолжал думать о тех комнатах, о том доме. Это был и Аркамант, и не Аркамант. «Мой дом», — называл я его про себя, потому что чувствовал себя в нем совершенно свободно. И солнечный свет там, по-моему, был ярче. И не важно, что это было за видение, — я страстно мечтал, чтобы оно снова повторилось!
Но те зеленые ивы у реки были моим «воспоминанием» о том, что должно было произойти сегодня.
Утром мы спустились к реке, чтобы похоронить Мива. Рассвет только занимался, и до восхода солнца
было еще далеко. Редкий дождь падал меж ветвями ив и морщил поверхность речной воды. Я вспомнил, что уже видел все это во сне, а теперь снова видел все в реальной действительности, своими глазами.
Большая толпа людей следовала за плакальщиками в белом, за накрытыми белыми покрывалами носилками. Толпа собралась такая же большая, как во время похорон Гамми; пришли почти все рабы Аркаманта; отсутствовали только те, кому никогда, даже в случае похорон, даже в столь ранний утренний час, не разрешалось бросать свои дела. Было весьма необычно видеть столько мужчин на похоронах ребенка. Эннумер горько плакала в голос, да и многие другие женщины тоже, но мужчины хранили молчание, молчали и мы, дети.
Они опустили маленький белый сверток в неглубокую могилу и забросали его черной землей. Сестра Мива, Око, вся дрожа и не помня себя от горя, вышла вперед и положила на могилу длинную ивовую ветку, покрытую нежными желтыми сережками. Йеммер взяла ее за руку и, стоя у могилы, вознесла молитву Энну, которая сопровождает души умерших в страну мертвых. Чтобы не заплакать, я смотрел на реку, покрытую пузырьками от дождевых капель. Мы стояли совсем рядом с водой. Неподалеку, где берег еще ниже, мне было видно, как течение реки в излучине подмыло старые могилы. Весь внешний край огромного кладбища рабов весной во время паводка заливало водой. Ивы стояли сейчас далеко от берега, макая в реку свои гибкие ветви с молодыми зелеными листочками. Я подумал о том, что скоро вода доберется и сюда, к этой новой могиле, просочится в землю, где лежит Мив, завернутый в белый саван, заполнит яму, поднимется до краев, вымоет вместе с землей и листвой его косточки и унесет их с собой, а белый саван Мива будет плыть по течению, точно клок дыма… Сэлло сжала мою руку, и я прижался к сестре, чувствуя, что все вокруг рано или поздно вода размоет и унесет прочь — все, кроме моей Сэлло, кроме нее одной. Лишь она останется здесь, со мной.
Глава 3
А потом мы вновь вернулись к повседневным делам, хотя занятия в школе Эверра в тот день отменил. Мы с Сэл подметали дворик перед «шелковыми комнатами», и она вдруг подошла ко мне, взяла меня за руку, и я увидел, что она вся в слезах.
— Ох, Гэв, я все думаю об Око… — с трудом промолвила она. — Если бы я потеряла своего братишку, я бы просто умерла! — И она крепко-крепко обняла меня. Я тоже заплакал, и она, заметив это, еще крепче обняла меня и прошептала: — Ты ведь никогда меня не покинешь, да, Гэв?
И я пообещал:
— Никогда! Ни за что!
— Я слышала твое обещание, — откликнулась она привычной формулой и попыталась улыбнуться.
Мы оба прекрасно знали, чего стоит подобное обещание, если его дает раб, но все же это нас обоих немного успокоило.
Когда мы покончили с уборкой, Сэлло вместе с Рис отправилась в прядильню, а я — на кухню. Там я обнаружил Тиба, и мы с ним неизвестно зачем потащились на задний двор. Увидев там кое-кого из тех больших мальчишек, которые меня топили, я попятился. Кстати, я ведь так толком и не разобрался, кто из них на самом деле помогал Хоуби мучить меня. Но эти ребята заговорили с нами вполне дружелюбно. Они играли в тосс, и один из них кинул мяч мне. Я мог действовать только одной рукой, но все же поймал мяч и вполне благополучно передал другому игроку, а потом отошел в сторонку и стал смотреть, как они играют. Потом один из них спросил:
— А где Хоуби?
Ему ответил парень по имени Тэн:
— У него неприятности.
— С чего бы это?
— Да уж есть с чего. Вот он и подлизывается, — презрительно бросил Тэн и с такой силой послал мяч Тибу, что тот его не поймал. Мяч ловко перехватил другой большой мальчишка и отбил назад. Тэн принял мяч, высоко его подбросил, поймал и вдруг повернулся ко мне. Я знал, что Тэн служит на конюшне и что ему лет шестнадцать или семнадцать. Он был невысокий, худенький и почти такой же темнокожий, как я. — Ты правильно поступил, братишка, — сказал он мне. — Знаешь, Гэв, всегда держись своих и не пытайся искать там, наверху, благодарности или защиты. — Он выразительно посмотрел на окна Аркаманта, выходившие на задний двор, и подмигнул мне. У него было живое умное лицо. Мне Тэн всегда нравился, и я был польщен его ободряющими словами. Доиграв, старшие ребята собрались уходить, и еще один из них, проходя мимо нас, дружески хлопнул меня по плечу — такой жест может показаться пустяком, но на самом деле значит очень много. У меня сразу потеплело на душе; я так нуждался в поддержке. Ведь с самого утра меня преследовали мысли о том, что было сегодня на берегу реки, под серым холодным дождем, среди подавленно молчавших людей.
Тиб убежал на кухню: у него там были еще дела. А мне делать было нечего, идти некуда, и я пошел в класс. И потом, если я какую-то комнату в Аркаманте и считал своей, так это классную. Я очень любил наш класс с его четырьмя высокими окнами, выходившими на север, с изрезанными, выкрашенными в мрачный цвет скамьями, с доской и учительской кафедрой, с книжными полками вдоль стен и стопками тетрадей и грифельных досок на большом столе, с большим стеклянным кувшином, полным чернил, откуда мы отливали чернила себе в чернильницы. За чистоту здесь отвечали мы с сестрой, и классная комната всегда была чисто подметена, повсюду вытерта пыль и так далее. И хотя сейчас в классе тоже царил полный порядок, хотя все там выглядело мирно и опрятно, я принялся переставлять и поправлять книги на длинных полках. Делал я это довольно неловко из-за лубка на большом пальце, часто прерывал свое занятие и открывал какую-нибудь книгу, которую еще не читал. В итоге я сел на пол у книжных полок, открыл «Историю города-государства Требс» Салтока Аспера и принялся читать о долгой войне между Горным Требсом и Карволом, которая завершилась восстанием рабов в Требсе, и город оказался полностью разрушенным. Это была чрезвычайно увлекательная история, и я, совершенно захваченный ею, настолько зачитался, что не заметил, как ко мне подошел Эверра. Я даже подпрыгнул от неожиданности, услышав вдруг его голос.
— Гэвир, что это за книга? — спросил он. Я вскочил, поклонился ему и извинился. Но он только улыбнулся и снова спросил: — Что за книгу ты читаешь?
Я показал.
— Читай, пожалуйста, если нравится, — успокоил он меня. — Хотя, по-моему, для начала лучше прочесть Ашама. Аспер — политик. А Ашам выше политики, он вообще никогда своего личного мнения впрямую не высказывает. — Эверра подошел к своей кафедре, поворошил какие-то бумаги, потом сел на длинноногий табурет и снова внимательно посмотрел на меня.
Я снова принялся расставлять книги по порядку.
— Тяжелый сегодня был день, — грустно сказал Эверра.
Я кивнул.
— Меня сегодня вызвал к себе Алтан-ди и попросил ему помочь. Кстати, я узнал кое-что весьма интересное. Возможно, эти новости немного поднимут тебе настроение. — Он провел рукой по губам и подбородку и сказал: — Семья в этом году собирается выехать за город как можно раньше, уже в начале мая. Я, разумеется, тоже поеду вместе со всеми моими учениками, за исключением Хоуби. Отныне он исключен из школы и будет служить под началом Хастера. А Торм-ди получил разрешение остаться в городе и учиться искусству фехтования у настоящего мастера, так что он присоединится к нам лишь в конце лета.
Новостей оказалось слишком много, чтобы мой взбудораженный разум сумел сразу все их переварить. Сперва все затмило, разумеется, обещание долгого чудесного лета за городом, на ферме в Вентайнских горах. Затем я осознал и главное преимущество этой поездки — Хоуби и Торм с нами не едут! И, осознав это, я испытал истинное блаженство. Лишь через некоторое время я сумел посмотреть на это и с другой стороны.
Значит, понял я, Тэн и его приятели, конечно, уже обо всем знали, когда мы встретились с ними на заднем дворе, — новости всегда молниеносно разносятся по всему дому: «У Хоуби неприятности… Вот он и подлизывается…» В общем, никакой награды Хоуби за свою верность Торму не получил; наоборот, он был за это наказан. «Служить под началом Хастера» означало быть посланным в гражданскую трудовую армию, куда каждая Семья выделяла определенное количество своих рабов-мужчин для выполнения наиболее трудных и тяжелых работ по благоустройству города; жили эти рабы в городских казармах, которые, по-моему, были ненамного лучше тюрьмы.
С другой стороны, Торма-то не наказали за убийство маленького Мива! Он скорее получил некое вознаграждение, ибо всегда только и мечтал о том, чтобы учиться военным искусствам.
И у меня вырвалось:
— Это несправедливо!
— Гэвир… — попытался остановить меня Эверра.
— Нет, это действительно несправедливо, учитель! Ведь это Торм убил Мива!
— Он не хотел этого, Гэвир. И будет за это наказан: ему не разрешили поехать вместе со всеми в Венте. Теперь он будет жить не дома, а у своего учителя, мастера фехтования Аттека; дисциплина там весьма суровая, и ему придется строго соблюдать все ее правила. Кстати сказать, все ученики Аттека жизнь ведут тяжелую, питаются достаточно скудно, постоянно тренируются, не получая за свои успехи никаких вознаграждений, кроме постоянного увеличения нагрузки. И все ради того, чтобы совершенствовать свое мастерство. Алтан-ди говорил об этом с Тормом в моем присутствии. Он сказал: «Ты должен наконец научиться владеть собой, сын мой, а у Аттека ты этому научишься непременно». И Торм-ди только поклонился в ответ.
— Но почему тогда Хоуби… Что он такого сделал, чтобы его наказывали?
Мой вопрос застал учителя врасплох.
— Что он такого сделал? — повторил он и выразительно осмотрел меня с ног до головы со всеми моими синяками, шишками и уложенным в лубок большим пальцем.
— Но ведь это… Ведь сама Семья от этого ничуть не пострадала! — Я не знал, как выразить то, что было у меня на душе. Мне хотелось сказать, что если Хоуби наказан за то, что он сделал со мной, то и наказание ему должен был вынести наш народ, его и мой, то есть рабы. Именно поэтому я никому и не сказал тогда, кто именно меня бил и мучил. Это касалось только нас, рабов. К Семье это не имело никакого отношения, да и не было, на мой взгляд, достойно ее внимания. Но если Хоуби наказали за попытку выгородить Торма, пусть даже весьма неуклюжую, то это настолько несправедливо, что Семья наверняка просто ошиблась, просто не поняла, что произошло…
— То, что случилось с тобой, — это отнюдь не случайность, — быстро сказал Эверра, прервав мои безмолвные рассуждения. — Несмотря на то что ты, не желая подводить своего школьного товарища, сказал, что это был просто несчастный случай. Но Хоуби вел себя оскорбительно по отношению ко мне. А я в школе воплощаю авторитет Отца Аркаманта, так что подобная наглость просто недопустима, Гэвир. А теперь послушай-ка меня внимательно; иди сюда, сядь рядом.
Эверра отошел к столу, уселся, и я сел с ним рядом, словно мы собирались вместе разбирать новый текст.
— Преданность — великая вещь, — сказал он. — Однако неуместная преданность может стать вредной и даже опасной. Я понимаю, тебя продолжает мучить все это. Да и всех нас это мучает. Смерть невинного ребенка всегда ужасна. Ты наверняка слышал гневные речи и в Хижине, и среди женщин и, слушая их, должно быть, думал: что же это за Дом такой? Это ведь не дикая пустыня и не поле брани? И откуда это бесконечное противостояние затаенного гнева, молчаливой ярости и несокрушимой силы? Неужели в этом и заключена истина твоей жизни здесь? Или ты все-таки, как и прежде, являешься членом некоей Семьи, благословляемой предками этого Дома, где каждый человек играет свою собственную, определенную роль и всегда старается поступать по справедливости? — Эверра дал мне минутку, чтобы обдумать его слова, потом продолжил: — Если тебя одолевают сомнения, Гэвир, подними глаза и смотри вверх. Не вниз. Смотри вверх и там ищи подсказки. Сила приходит сверху. Твоя роль в этом Доме связана с самым высоким, что есть на свете, со знанием. Родившись в дикости, будучи рабом, как и я, и не имея семьи, ты все же был принят в лоно большого Дома и обрел все необходимое — кров, пищу, предков и доброго Отца, который руководит тобой. Мало того, тебе была дана еще и пища духовная, те знания, которые некогда получил и я и которые я смогу впоследствии полностью возложить на твои плечи. Тебе было оказано доверие, Гэвир. Это поистине священный дар. Семья доверяет нам, мой мальчик. Она препоручила мне своих сыновей и дочерей! Чем я могу отплатить за подобную честь? Только своим преданным трудом. И мне бы очень хотелось, чтобы после моей смерти обо мне сказали: «Он никогда не предавал тех, кто верил ему». — Суховатый голос Эверры звучал сейчас почти нежно; он некоторое время молча смотрел на меня. Потом продолжил: — Знаешь, Гэвир, там, позади, в тех диких краях, откуда ты родом, для тебя нет ничего. И на тех зыбучих песках, что зашевелились сейчас у тебя под ногами, ты ничего построить не сможешь. Но посмотри вверх! Там, в той силе, что поддерживает тебя, в той мудрости, что тебе предложена, ты можешь обрести успокоение своему сердцу, только на них ты сможешь полностью положиться. Только там, наверху, ты сможешь обрести богатство и справедливость. И материнское сострадание, которого ты никогда не знал.
А мне казалось, что Эверра говорит о том доме, который некогда привиделся мне во сне: залитый солнечным светом дом, где я чувствовал себя в безопасности, где меня с радостью ждали, где я был свободен. Слова моего учителя заставили меня представить себе этот дом наяву таким, каким он был в моих видениях.
Но конечно, сказать что-либо я был просто не в силах. Эверра, впрочем, и так обо всем догадался, понял, что я немного успокоился, и ласково потрепал меня по плечу, точно младшего брата, как это сделал и тот парнишка на заднем дворе.
Затем, решив, видимо, что на сегодня чувствительных разговоров довольно, Эверра встал и сказал:
— Ну, давай решать, что бы нам взять с собой на лето из книг.
И я, ни секунды не задумываясь, выпалил:
— Только не Трудека!
Два минувших лета мы провели в городе, поскольку глава Семьи счел ферму недостаточно защищенной от набегов вооруженных банд из соседнего Вотуса, которые давно уже грабили селения, находившиеся в Вентайнских горах. Но теперь неподалеку от Венте армия Этры разбила военный лагерь, оттеснив вотусанов на их собственную территорию, и в горах стало значительно безопаснее.
До сих пор ферма Венте помнится мне как место совершенно чудесное, и при мысли о ней у меня всегда возникает ощущение летнего тепла. Даже приготовления к отъезду были для нас радостно-волнующими, а уж когда мы отправлялись в путь, это выглядело как парад победителей, хоть у нас и не было барабанов и труб. Огромная, вытянувшаяся вдоль дороги процессия, направлявшаяся к Речным воротам Этры и состоявшая из конных повозок, всевозможных фургонов и влекомых осликами тележек, а также сопровождавшая нас вооруженная охрана верхом на лошадях — все это производило на окружающих неизгладимое впечатление. Я уж не говорю о том, что и нас, тех, кто шел пешком, набиралась целая толпа. Повозки, где ехали женщины, девочки и старики, были такими высокими и неуклюжими, что, казалось, мост через реку Нисас слишком узок для них. Но конюхи Сим и Тэн, а также все прочие возницы проявляли высочайшее умение и легко проводили наш караван не только по мосту, но и через любое другое препятствие. Копыта лошадей уверенно цокали, и в такт им качались перья на конской сбруе; впереди ехали старшие братья Сотур и Явен на прекрасных лошадках, привыкших ходить под седлом. А повозки и тележки со скарбом, скрипя, тащились следом за нашими «кавалеристами» под бесконечные крики возниц и щелканье кнутов, и, разумеется, какой-нибудь осел непременно останавливался посреди моста и не желал переходить реку. Некоторые рабыни с маленькими детьми тоже ехали в повозках, взобравшись на груду всевозможных вещей и продовольствия, но большая часть рабов шла пешком; мы, дети, страшно гордились тем, что уезжаем за город, и, когда люди останавливались, чтобы посмотреть на нашу процессию, Тиб и я махали им, поглядывая на них с неким покровительственным состраданием: им-то, тараканам запечным, придется все лето торчать в раскаленной Этре!
Мы с Тибом вообще вели себя как собаки на прогулке, так что проделывали путь раза в три больше, чем все остальные, без конца бегая из конца в конец растянувшегося по дороге каравана. К полудню сил у нас, естественно, несколько поубавилось и мы в основном держались возле той женской повозки, где ехали Сэлло и Рис, — они обе уже вступали в тот возраст, когда девочкам не годится бегать, высунув язык, вместе с мальчишками. С ними ехала и Око, а также несколько малышей, и женщины с кухни то и дело, добродушно ворча, совали нам с Тибом всякие вкусные кусочки, когда мы, запыхавшись, подбегали к повозке.
Теперь дорога уже шла вверх и вилась среди небольших полей, раскинувшихся по склонам пологих холмов среди дубовых рощ; а впереди уже виднелись округлые зеленые вершины Вентайнских гор. Когда же мы поднялись еще выше, то, оглянувшись, увидели не только окрестные поля и серебристые извивы Нисаса, впадавшего в более широкую реку Морр, но и нашу родную Этру, окутанную туманной дымкой, — крыши домов, тростниковые, деревянные или из красной черепицы, и городские стены с четырьмя воротами, над которыми возвышались сторожевые башни из желтого камня. В центре города сразу бросались в глаза здание Сената и купол Гробницы предков, и мы все пытались отыскать в сплетении улиц и наш Аркамант; нам казалось, что мы видим даже верхушки тех сикомор у городской стены, где мы когда-то маршировали под командованием Торма…
Повозки скрипели все громче, лошади напрягались изо всех сил, таща груз вверх по дороге, кнуты так и мелькали у возниц в руках, пестрые верхушки повозок впереди то исчезали в низине, то начинали опасно покачиваться, когда высокие колеса проваливались в колдобины на пыльной дороге. Солнце жарило вовсю, но ветерок, особенно в тени придорожных дубов, был довольно прохладный. Коровы и козы за деревянными оградами пастбищ восторженно провожали глазами нашу процессию; жеребята на ферме знакомого нам коневода удирали при виде наших повозок, смешно выбрасывая заплетающиеся задние ноги, а потом снова опасливо подбегали к изгороди, чтобы еще разок с любопытством глянуть на нас. Вдруг я увидел, что вдоль длинной вереницы повозок и фургонов к нам бежит какая-то девочка; оказалось, что это Сотур, которой удалось улизнуть от родственников, чтобы ехать вместе с Рис и Сэлло. Сотур разрумянилась от возбуждения, вызванного этим проявлением непослушания, и даже стала несколько более разговорчивой, чем обычно.
— Я сказала Матери Фалимер, что хочу ехать в открытой повозке, и она потихоньку меня отпустила; вот я и прибежала сюда. Там, в фургоне, так ужасно тесно и тряско, что малыша Редили даже вырвало. На открытом возке гораздо лучше!
Вскоре Сотур запела одну старую, всем известную песенку; ее нежный сильный голос так и звенел. Сэлло и Рис вторили ей, а потом к ним присоединились и ехавшие в той же повозке кухарки, и те, кто шел рядом или ехал в соседних повозках. В общем, музыка помогала нам, уже немного уставшим, подниматься в Венте.
До фермы мы добрались уже на закате; эти десять миль, отделявшие нас от города, потребовали целого дня пути.
Если оглядываться назад, вспоминая то лето и лета, последовавшие за ним, то кажется, будто глядишь поверх морского простора на какой-то далекий остров, окутанный золотистой дымкой и точно парящий над поверхностью вод, и невольно начинаешь думать: не может быть, что когда-то и ты тоже жил на этом волшебном острове! Однако воспоминания о ферме по-прежнему со мной и по-прежнему ярки и сладостны: запах сухого сена, неумолчный, пронзительный стрекот кузнечиков и цикад в траве на холмах, вкус спелых, нагретых солнцем абрикосов, тяжесть камня в руке, след падающей звезды на бескрайнем летнем небосклоне.
Мы, молодежь, всегда ночевали под открытым небом. Мы все делали вместе — вместе ели, вместе играли. Мы — это Явен, Астано, Сотур, их родственники из Херраманта, а также Сэлло, я, Тиб, Рис и Око. Из Херраманта на ферму приехали худенький мальчик Утер тринадцати лет и его десятилетняя сестра Умо; оба были не совсем здоровы, и их мать, старшая сестра Сотур, привезла их в Венте, надеясь, что горный воздух пойдет им на пользу. А уж малышня на ферме просто кишела — младшие дети Семьи, племянницы и племянники Сотур, а также маленькие рабы с приемными матерями; впрочем, о малышне заботились женщины, и мы в своей деревенской жизни с ними почти не соприкасались. Мы, «старшие», каждый день с утра занимались с Эверрой, а потом на весь долгий и жаркий день обретали полную свободу. Никакой работы здесь для нас не было. Женщины-рабыни, привезенные из города, прислуживали Семье и заботились о поддержании порядка в огромном старом доме; им помогали и постоянные обитатели и хранители поместья, которых тоже было немало. Даже Тиб, который в городе исполнял обязанности поваренка, в сельском доме оказался совершенно не нужен, и его отпустили, так что он учился и играл вместе с нами. Всем остальным на ферме занимались тамошние постоянные обитатели. Жили они в основном в большой деревне у подножия холма, на котором возвышался господский дом; рядом с деревней протекал ручей и была дубовая роща. Деревенские жили своей жизнью, возились с землей, и мы, городские дети, ничего о них не знали, и к тому же нам велели к ним не приставать и не мешать их занятиям.
Это было легко: у нас и собственных дел хватало. С утра до ночи мы исследовали окрестные холмы и леса, бродили по мелким ручьям, брызгаясь водой, строили плотины, совершали разбойничьи налеты на соседские сады, мастерили ивовые свистульки, плели венки из ромашек, строили шалаши и домики на деревьях — в общем, были страшно заняты, болтаясь по всей округе со свистом и пением, точно стая молодых скворцов. Явен, самый старший, какое-то время, естественно, проводил в обществе взрослых, но все же по большей части именно он возглавлял нашу команду, организуя экспедиции в холмы или разучивая с нами какую-нибудь пьесу или танец, чтобы вечером развлечь Семью. Эверра в таких случаях писал для нас сценарий небольшого представления в масках. Астано, Рис и Сэлло учились танцевать и чудесно делали это под аккомпанемент замечательного голоса Сотур и лютни, на которой очень неплохо играл Явен. В общем, мы всем на радость показывали на прохладной веранде настоящие спектакли, используя сенной сарай как задник декорации. Нам с Тибом чаще всего доставались роли комического плана, а иногда мы с ним изображали даже целую армию. Я очень любил репетиции, особенно в костюмах, и то пронзительное напряжение, которое овладевало нами в такие вечера; все мы испытывали примерно одинаковые чувства и, едва успев завершить представление и получить заслуженные аплодисменты зрителей, сразу начинали строить планы насчет нового спектакля и упрашивали Эверру придумать нам сюжет.
Но самым лучшим временем были все же ночи в середине лета, когда после жаркого дня наступала наконец прохлада, с запада прилетал легкий ветерок, а в темном небе где-то на юге погромыхивали сухие грозы. Мы лежали на соломенных тюфяках под звездным небом и разговаривали, разговаривали, разговаривали без конца, один за другим постепенно умолкая и засыпая…
Если вечность характеризуется каким-то временем года, то пусть это будет лето! Самая его середина. Осень, зима, весна — все это время перемен, краткие переходные периоды, а в середине лета год словно останавливается и замирает. Это, конечно, тоже период довольно кратковременный, но, даже когда он кончается, сердцем чуешь: лето всегда останется летом.
Хоть у меня и великолепная память, я все же не всегда могу с уверенностью сказать, какое именно из событий связано с теми или иными летними каникулами, которые мы провели в Венте: все они представляются мне одним долгим золотистым днем, который сменяется чудесной звездной ночью.
Про то первое лето я, правда, помню, что чувствовал себя совершенно счастливым, потому что с нами не было Торма и Хоуби. Мы с Сэл часто говорили об этом и удивлялись тому, что даже не понимали до сих пор, насколько подавляло нас враждебное отношение Хоуби, как сильно мы боялись внезапных припадков Торма. А вот о смерти Мива мы с ней говорили редко, хотя именно эта смерть сделала наш страх перед Тормом поистине неотвязным. В общем, вдали от него мы чувствовали себя отлично.
Астано и Явен, похоже, испытывали в его отсутствие не меньшее облегчение. Во всяком случае, вели они себя совершенно свободно. Они были старше нас, они были членами Семьи, но здесь они играли с нами, не оглядываясь ни на возраст, ни на происхождение. Для Явена это было последнее лето в его мальчишеской жизни, и он наслаждался им, прощаясь с детством, не задумываясь о соблюдении правил и приличий. Живой, энергичный, веселый, Явен всегда был полон сил и идей. В обществе Явена, вдали от чопорных женщин Семьи, и его сестра Астано тоже повеселела и осмелела настолько, что именно она впервые предложила нам совершить налет на фруктовый сад нашего соседа. «Подумаешь, они и не заметят, что у них несколько абрикосов пропало!» — заявила она и показала нам короткий путь через дырку в заборе, которую еще не успели заметить сторожа.
Зато сторожа сразу заметили нас и, решив, что это обычные воришки, принялись с криками швырять в нас камнями и палками. Надо сказать, настроены они были весьма решительно, куда решительнее нас с Тибом, когда мы, играя в войну, были вотусанами. Мы с позором бежали, а когда оказались на своей территории, Явен, задыхаясь от смеха, процитировал отрывок из «Моста через Нисас»:
Спасалось бегством войско Морвы,
Ее храбрейшие сыны бежали,
Как овцы от волков голодных,
От авангарда этранцев отважных!
— Какие все-таки они ужасные, эти люди! — воскликнула Рис. Ей едва удалось уйти от здоровенного парня, который преследовал нас до самой границы наших владений, а потом еще и камень бросил вслед Рис, но, к счастью, лишь слегка оцарапал ей плечо. — Скоты!
А Сэлло едва успокоила маленькую Око, которая, естественно, тоже потащилась за нами, но отстала и страшно испугалась, когда мы промчались мимо нее в обратном направлении, преследуемые дождем камней и палок. Око немного приободрилась, только услышав наш смех и нарочито торжественную декламацию Явена. Явен, всегда хорошо чувствовавший настроение малышей, к Око относился с особой нежностью. Он подхватил девочку, посадил ее на плечо и, встав в позу, произнес торжественно:
Неужто ж нам, как войску Морвы,
Перед врагом бежать позорно?
Нет, отстоим мы нашу Этру,
Не посрамим военной славы предков!
— И чего это они все такие злые? — воскликнула Астано. — У них же абрикосы с веток падают! Им все равно никогда их все не собрать!
— Ну да, а мы им просто немного помогаем, — усмехнулась Сотур.
— Вот именно! А эти злюки глупо себя ведут.
— А по-моему, нам надо было просто пойти и спросить у сенатора Оббе, нельзя ли нам нарвать у него в саду немного фруктов, — рассудительно заметил тощенький Утер из Херраманта. Я его недолюбливал: он казался мне чересчур законопослушным.
— Фрукты гораздо вкуснее, когда ни у кого разрешения не спрашиваешь, — насмешливо возразил ему Явен.
Я же, по-прежнему тоскуя в душе о наших боевых схватках и засадах под старыми сикоморами в парке, которые столь плачевно закончились, с искренним гневом воскликнул:
— Они же морваны! Трусливые, жестокие, себялюбивые морваны! Неужели же мы, этранцы, станем терпеть их оскорбления?
— Разумеется, не станем! — воодушевился Явен. — Мы намерены и впредь есть их абрикосы!
— А когда они перестают их собирать? — спросила Сотур.
— Вечером, — ответил кто-то. Никто, правда, этого толком не знал; мы как-то не обращали внимания на бесконечную возню тех, кто трудился в полях и в садах; она напоминала нам деятельность пчел, муравьев, птиц или мышей — в общем, каких-то иных существ. Сотур немедленно предложила ночью вернуться в тот же абрикосовый сад и уж на свободе разгуляться как следует. Тиб осторожно предположил, что по ночам в сад, скорее всего, выпускают сторожевых собак. Явен, заразившись моим воинственным настроением, предложил составить план нападения на сады «морванов», но на этот раз провести операцию как полагается, после предварительной разведки; кроме того, он считал, что непременно надо выставить сторожевые посты, а также устроить поблизости оружейные склады, чтобы иметь возможность ответить, если противник откроет артиллерийский огонь, и прикрыть наше отступление.
Так началась великая война между «этранской» семьей Арка и «морванской» семьей Оббе, которая продолжалась — в зависимости от сроков созревания тех или иных фруктов — примерно с месяц. Работники поместья Оббе вскоре прекрасно поняли наши грабительские намерения и тоже, как и мы, стали выставлять дозорных. Только мы-то были совершенно свободны и могли выбирать, когда нанести очередной удар, тогда как наши «враги» были связаны работой. Им приходилось не только собирать фрукты, но и сортировать их, то и дело унося полные корзины, и делать все это под неусыпным оком надсмотрщика, который чуть что пускал в ход кнут, если ему казалось, что они работают слишком медленно или лениво. А мы вели себя как стая птиц — налетели, поклевали и снова улетели. Нам было плевать на тех, кто работает в садах, на их гнев, на их ненависть к нам; мы безжалостно издевались над ними и страшно веселились, когда удавалось совершить особенно удачный налет. Они прекрасно знали, что не все из нашей шайки дети рабов, и это связывало им руки. Если раб, бросив камень, попал бы в кого-то из детей семейства Арка, то всем работающим в саду пришлось бы несладко. Так что им, беднягам, приходилось смирять свой гнев и пытаться отпугнуть нас превосходящей численностью да натравливанием на нас своих злющих дворняжек.
Чтобы как-то сгладить возникшее между сторонами неравенство, ибо «морваны» неизменно оказывались в менее выгодном положении, чем мы, было решено: если они нас увидят, нам придется отступить. Несправедливо, сказала Астано, нагло рвать фрукты у них под носом, зная, что они не могут соответствующим образом нам ответить; красть фрукты следовало незаметно, но только в то время, пока и работники находятся в саду. Это делало игру чрезвычайно опасной и возбуждающей. Теперь в налете участвовали всего двое, которые, собственно, и обчищали деревья, а остальные обязаны были следить за противником и предупреждать налетчиков о его приближении уханьем совы, птичьей трелью или молодецким посвистом. Затем мы удирали, унося наши трофеи — несколько слив или ранних персиков, — устраивались с той стороны амбара, которая выходила к хозяйскому дому, делили добычу и восторженно праздновали победу.
Великие фруктовые войны подошли к концу, когда Мать Фалимер сказала Явену, что дети рабов из нашей деревни были сильно избиты работниками из садов Оббе, поймавшими этих ребятишек за кражей слив. Одному мальчику, по-моему, даже глаз выбили. Больше Мать Фалимер ничего Явену говорить не стала, но он, сообщив об этом нам, сказал, что придется, видимо, прекратить наши налеты. Те детишки, наверное, рассчитывали, что их примут за нас и им удастся уйти безнаказанно, но эта уловка не сработала, и вся ярость работников Оббе обрушилась на них.
Явен, будучи среди нас старшим, для порядка извинился перед нами за то, что, не подумав, увлек нас совершением дурных поступков. Астано, с трудом удерживаясь от слез, поддержала его и сказала:
— Это я виновата, не вы! Никто из вас не виноват. — В общем, Явен и Астано взяли всю ответственность на себя; наверняка они поступили бы так же, и будь они взрослыми — Отцом и Матерью своих Домов, обязанными самостоятельно принимать любое решение.
— Ненавижу этих ужасных садовников! — воскликнула Рис.
— Да уж, они повели себя как настоящие скоты, — поддержала ее Умо.
— Морваны вонючие! — прибавил Тиб.
Мы были безутешны. Но раз мы теперь лишились врага, надо было срочно придумать что-нибудь еще.
— Знаете что, — сказал Явен, — а ведь мы могли бы поставить «Падение Сентаса».
— Только без оружия, — очень тихо и нетребовательно заметила Астано.
— Ну конечно без оружия. Я имел в виду настоящий спектакль, на сцене.
— А как?
— Ну, сперва нам, естественно, придется Сентас построить. Мне тут как-то пришло в голову, что вершина вон того холма, что за восточным виноградником, очень похожа на крепость. Там еще — помните? — повсюду такие огромные камни валяются, так что будет нетрудно построить и крепостную стену, и ров вырыть, и земляной вал сделать. Кстати, Эверра, по-моему, взял с собой книгу «Осада и падение Сентаса», так что планы крепостных сооружений можно, наверное, прямо там посмотреть. Затем надо распределить роли, — например, Око могла бы быть генералом Туром, а Гэв сумеет произнести речь не хуже любого посланника, ну а Сотур, по-моему, годится на роль прорицательницы Юрно… Сражения мы, конечно же, изображать бы не стали — это просто смешно. Только переговоры.
Пока что все это звучало не слишком увлекательно и особого энтузиазма среди нас не вызвало, однако все мы следом за Явеном потянулись на вершину того холма. Явен так носился среди нагромождения огромных каменных глыб и с таким воодушевлением расписывал нам, где именно можно построить стену, а где вырыть крепостной ров, что идея строительства постепенно начала захватывать и наши души. Потом Явен выпросил у Эверры на время эту книгу и зачитал нам несколько отрывков оттуда, и наше воображение окончательно воспламенилось под воздействием этой великой эпической поэмы, посвященной одному из самых трагических эпизодов нашей истории. Роли себе мы выбрали сами — и все, разумеется, оказались жителями Сентаса, сентанами. Никто не хотел становиться захватчиком из Пагади, армия которого и осадила Сентас, — даже их великим генералом Туром или знаменитым героем Руреком. Хотя именно город-государство Пагади выиграл тогда войну и полностью разрушил осажденный Сентас. Даже теперь, несколько столетий спустя, на месте великолепного Сентаса был всего лишь жалкий городишко, окруженный полуразрушенными стенами, свидетельницами его былой славы. Обычно мы, разумеется, были на стороне победителей, но сейчас, собираясь строить приговоренный к смерти Сентас, мы всей душой болели за этот город и твердо намерены были погибнуть с ним вместе.
Весь остаток того лета мы строили Сентас и по мере сил и возможностей старались воплотить в своем строении и славу этого города, и причину его падения. Строить крепость на вершине холма, покрытого редкой колючей травой, оказалось нелегко, особенно под беспощадно палившим с небес солнцем, когда нигде не было тени, чтобы укрыться, разве что под теми стенами и башнями, которые мы сами же и возводили. Младшие девочки, Око и Умо, неустанно бегали вверх и вниз по склону холма, нося нам воду из ручья, а мы, остальные строители, только потели и ворчали, грозно ругаясь, когда тот или иной камень не желал вставать на место или выскальзывал из рук и попадал по пальцу. Наших маленьких водоносов мы всегда приветствовали радостными криками и похвалами. Изящные ручки Астано стали грубыми и покрылись ссадинами. Мать Фалимер даже сказала, что они напоминают ей лошадиные копыта, но ругать дочку не стала, только улыбнулась. Она даже несколько раз выходила из дома и поднималась к нам на холм Сентаса, чтобы посмотреть, как продвигается работа. Явен и Астано показали ей шедевры нашего зодчества — Восточные ворота, Башню предков и крепостной вал. Очень прямая, в легких летних одеждах, нежно улыбаясь всем, Мать Фалимер слушала и одобрительно кивала. Я видел, как ее рука порой слегка, почти застенчиво, касалась плеча высоченного Явена, и чувствовал в этом жесте острую тоску по сыну, хотя и не понимал, чем она вызвана. По-моему, Мать Фалимер радовалась нашей радости и от всей души хотела, чтобы эту радость не затмили никакие горькие мысли — ни о прошлом, ни о грядущих днях.
Эверра тоже часто поднимался к нам на холм, проверяя, насколько соответствуют схемам из его книги намеченные нами планы строительства и расположение зданий; и мы, конечно же, каждый раз уговаривали его остаться и почитать нам немного, пока мы отдыхаем от бесконечного строительства — возведения каменных стен и копания рва. Эверра соглашался, говоря, что этот замечательный урок, безусловно, пойдет всем нам на пользу. Он с таким энтузиазмом относился к нашему увлечению зодчеством, что, пожалуй, даже немного надоедал нам своими педантичными требованиями тут улучшить, там исправить. Однако к полудню он обычно начинал чувствовать себя неважно из-за жары и возвращался в дом, а мы оставались на обдуваемом горячим ветром раскаленном холме и продолжали ворочать камни, воплощая свою мечту в жизнь.
Все эти месяцы в огромном сельском доме хозяйничали в основном женщины и дети. Отец Алтан был вынужден оставаться в Этре, потому что заседания Сената происходили почти ежедневно. А вот Сотер, старший брат нашей Сотур, довольно часто навещал гостивших в Венте жену и детей, приезжая туда верхом, и даже иногда ночевал, но другой старший брат Сотур, Содера, юрист, тоже все время торчал в городе; его держали там «целые сундуки документов», как выражалась Сотур. Из мужчин на ферме постоянно оставался только двоюродный дедушка Явена, Херро Арка, которому было уже за девяносто и который все время сидел в тени под развесистым дубом. В общем, большую часть времени наш Явен был, по сути дела, единственным мужчиной в доме, хотя роль «настоящего хозяина» ему явно была не по душе.
Среди слуг в доме было несколько умельцев, мастеров на все руки, но все они были уже стариками и по-настоящему почти не работали. Основные заботы легли на плечи женщин. Они привыкли вести хозяйство в отсутствие самих хозяев и были более независимыми как в действиях, так и в поведении, чем городские служанки-рабыни. Да никто здесь особенно и не следил за тем, кто на какой ступеньке общественной лестницы стоит. Все и так шло как по маслу безо всяких там формальностей и строгостей, столь свойственных той жизни, которую мы вели в Аркаманте, — без скрипа, без напряжения, без ненужных сложностей. Когда Мать Фалимер захотела сварить сливовое варенье именно так, как это делали когда-то в ее детстве в Галлекаманте, то никакой особой суеты, никаких поклонов и тщательного выскребания кухни, как это непременно было бы в Аркаманте, не возникло. И никто втихомолку не фыркал презрительно по поводу того, что хозяйка вторглась на чужую территорию. Старая Акко, наша главная повариха, просто встала рядом с Фалимер-йо, как встала бы возле любой своей ученицы, и направляла ее действия, и даже замечания ей делала, и никто ни на кого не обижался. А малышня и вовсе была как бы общей собственностью; женщины-рабыни, разумеется, заботились о детях Семьи, но и наша Мать Фалимер, и жены Сотера и Содеры тоже не гнушались присмотреть за ребятишками рабов, и весь этот «горох» так и катался повсюду; детишки ползали, налезали друг на друга, а потом падали и засыпали, свернувшись клубком и положив друг на друга кто голову, а кто ногу, точно котята.
Ели мы на улице за большими столами, стоявшими в тени дубов возле кухни, и, хотя там, разумеется, имелся «стол Семьи» и «стол рабов», садились все отнюдь не всегда в соответствии с этим правилом. Эверра, например, обычно сидел за «семейным» столом по приглашению Матери и Явена, а Сотур и Астано, сами себя пригласившие, садились вместе с Рис и Сэлло за наш стол. Различия между нами тогда были связаны не столько с положением в обществе, сколько с возрастом и дружеской привязанностью. Эта легкость и простота в общении были, наверное, определяющими в той счастливой жизни, которую мы вели в Венте. Но все изменилось — не могло не измениться! — когда приехал Отец, чтобы провести с нами последние несколько недель лета, и привез с собой обоих своих племянников и Торма.
В первый же вечер мы почувствовали, что их приезд не сулит нам ничего хорошего. Теперь за «семейным» столом было полно мужчин. И все женщины и девочки, принадлежавшие Семье, тоже пересели туда, одетые как полагается и выглядевшие куда более похожими на настоящих дам, чем в течение всего лета. Когда говорили мужчины, они хранили скромное молчание. Меттер и те слуги, которые приехали вместе с мужчинами из города, сидели вместе с нами, но разговаривали только друг с другом. Эверра теперь тоже сидел с нами и молчал. Если же кто-то из нас, детей, осмеливался заговорить, то бывал тут же остановлен хмурыми взглядами.
Обед подавали с соблюдением всех правил приличия, и все это продолжалось ужасно долго, а после обеда дети Семьи — Явен, Астано, Сотур, Умо и Утер — ушли в дом вместе со взрослыми.
Мы же, пятеро детей-рабов, остались снаружи и бродили поблизости, совершенно безутешные. Было слишком поздно идти на холм к Сентасу, и Сэлло предложила прогуляться по дороге мимо деревни, прилегавшей к поместью, и посмотреть, не созрела ли черная смородина в зеленых изгородях. Некоторые из деревенских детей заметили нас и, прячась за разросшимися кустами смородины, стали кидаться камнями — не очень большими, всего лишь галькой, но, наверное, у них были рогатки, потому что даже такой камешек, попав в тебя, жалил очень больно и оставлял темный синяк. Бедная маленькая Око! В нее попали почти сразу, она пронзительно вскрикнула и стала уверять всех, что ее ужалил шершень. А потом и всех нас стали «жалить шершни». Мы видели эти снаряды, вылетавшие из-за изгороди, а потом мельком увидели и самих нападающих. Один из них, уже почти взрослый парень, подскочил и так сердито завопил на своем странном, почти непонятном наречии, что мы бросились бежать. Не смеясь, как когда бегали от преследовавших нас садовников, а испугавшись по-настоящему. Тем более что сумерки уже начинали сгущаться, а спинами мы чувствовали прямо-таки волну ненависти.
Когда мы вернулись на ферму, Око и Рис расплакались от боли и обиды. Сэлло успокоила ревущую Око, мы промыли полученные ссадины и уселись на набитых сеном тюфяках, любуясь высыпавшими на небе звездами. Но разговор не клеился.
— Они увидели, что с нами не было никого из детей Семьи, — сказала Сэлло.
— Но за что же они нас так ненавидят? — проныла Око.
Но никто не смог ей этого объяснить.
— Может быть, потому, что мы можем делать много такого, чего им
нельзя, — сказал я.
— А еще потому, что их отцы нас ненавидят, — прибавила Сэлло. — За наши фруктовые войны.
— Я тоже их ненавижу! — воскликнула Рис.
— И я, — подхватила Око.
— Грязные деревенские свиньи! — сказал Тиб, и я, испытывая столь же яростное презрение, почувствовал одновременно и слабое, почти нежное, отвращение к самому себе из-за того, что разделяю подобные предрассудки и презираю то, чего на самом деле боюсь.
Мы довольно долго молчали, глядя, как звезды выплывают из-за черных дубовых крон и крыш.
— Сэлло, — прошептала Око, — а что, он и спать с нами будет?
Она имела в виду Торма. Око до ужаса его боялась. Она ведь видела, как он убил ее брата.
Под выражением «спать с нами» Око подразумевала, естественно, что и Торм уляжется вместе с нами на соломенный тюфяк под открытым небом, как в течение всего лета это делали мы все, в том числе и дети Семьи.
— Вряд ли, малышка, он этого захочет, — сказала ей Сэлло своим тихим нежным голосом. — Я думаю, никто из них сегодня вообще не придет. Им придется остаться в доме и вести себя так, как полагается детям из порядочной Семьи.
Но, проснувшись на рассвете, когда в светлеющих небесах уже таяли зимние звезды, я увидел, как Астано и Сотур, вскочив со своих тюфяков и завернувшись в легкие одеяла, босиком, крадучись возвращаются в дом.
В то утро дети Семьи вышли из дома гораздо позже, чем обычно. Мы еще не успели решить, стоит ли нам идти на холм Сентаса без них, когда они наконец появились и Явен крикнул:
— Пошли скорей! Чего это вы тут расселись?
Торма с ними не было. А девочки были одеты как всегда — в такие же, как у нас, длинные рубахи-туники поверх весьма потрепанных и насквозь пропыленных штанов.
Мы отправились на холм, и Явен, подхватив Око, посадил ее себе на плечи.
— Ну что, храбрая наездница, — сказал он ей, — правь своим свирепым жеребцом! Пусть он несет тебя к высоким стенам и неприступным воротам Сентаса! Вперед! — Око слабо пискнула, что должно было изображать военный клич, Явен заржал, как конь, и галопом помчался по тропе. Мы все бросились за ним.
Выражение «прирожденный вожак» весьма распространенное. Я полагаю, многие люди по природе своей являются таковыми; существует множество способов руководить другими и множество целей, к которым можно кого-то вести. И первый такой прирожденный вожак, которого я знал, был юношей семнадцати лет, звали его Явен Алтантер Арка, и впоследствии я всех подобных людей всегда сравнивал именно с ним. Такой тип людей характеризуют прежде всего личная притягательность, обаяние, живой ум и безусловная способность брать любую ответственность на себя. Есть и еще кое-что, но это определить уже гораздо труднее: некое напряжение, возникающее между чувством справедливости и состраданием; напряжение это никогда не удается устранить, опираясь лишь на одно из этих чувств, а потому устранить его вообще почти невозможно.
В данный момент Явен как раз и разрывался между верностью своим преданным «сентанам» и необходимостью оказывать поддержку и защиту своему младшему брату. Ближе к полудню, когда пришло время послать кого-то на кухню за хлебом и сыром или чем-то еще, что могли предложить нам на завтрак, Явен вдруг предложил:
— Я сам схожу. — И вернулся с целым мешком еды. И… с Тормом.
Как только Око увидела, что Торм поднимается на холм, она тут же спряталась, присев на корточки за грудой камней у задней стены недостроенной Башни предков. А потом Сэлло потихоньку увела ее вниз к ручью, бежавшему у подножия холма.
Явен показал Торму все наши сооружения, стену, земляной вал и ров, объясняя, насколько они соответствуют реальному историческому плану города, и рассказал ему о тех сценах, которые мы собираемся поставить, когда закончим строительство и будем готовы и к осаде Сентаса, и к его падению. Торм охотно ходил за ним по территории крепости, но говорил мало и казался каким-то напряженным, словно чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Впрочем, он все же сказал несколько слов похвалы в адрес наших оборонительных сооружений — стены и рва, наивысших наших достижений.
Разумеется, строения наши, попросту сложенные из камней, были маленькими и весьма шаткими — и нужно было смотреть очень пристрастно, чтобы увидеть в них сходство с башнями и воротами настоящего города, но ров, вырытый нами, был хоть и небольшим, но, безусловно, настоящим. Мы окружили вершину холма частоколом и рвом с отвесными стенами, а вырытую землю подгребли к внутренней стороне частокола, чтобы защитникам крепости было удобнее отражать атаки неприятеля. В саму крепость можно было попасть только по длинному мосту шириной в одну доску, перекинутому через ров и ведущему к единственным воротам. Торм по-прежнему в основном помалкивал, но, по-моему, его впечатлил объем проделанной нами работы.
— Вот, — говорил Явен, — я, например, начну внезапный штурм… Защитники Сентаса, на стены! К воротам! Враг наступает! Защитим наши дома! — И он немного спустился с холма, а мы пока закрыли ворота и уложили в гнезда огромный деревянный засов; потом мы вскарабкались на скользкую насыпь внутри частокола и на шаткие каменные стены самой «цитадели», и Явен «с атакующим войском» двинулся вверх по склону холма. Когда «враг» пересек ров по мосту, мы с возмущенными воплями принялись осыпать его дождем невидимых стрел и копий. Явен сперва с силой барабанил в ворота, затем вдруг осел на землю и сделал вид, что умирает у нас на глазах, — и все это под наши радостные кличи.
Торм смотрел на нашу игру — не участвуя в ней, но заинтересованно; похоже, даже он заразился нашим воодушевлением.
Мы открыли ворота, впустили Явена внутрь, а затем все вместе устроились в жалкой тени и принялись за принесенную им еду. Сотур, правда, незаметно ускользнула: она хотела отнести немного Сэлло и Око, притаившимся у ручья.
— Ну как тебе наш Сентас? — спросил Явен у брата.
— Очень хорошо получилось, — сказал Торм. — Просто отлично. — Голос у него окреп и стал очень похож на голос Отца Алтана. — Вот только… как-то все же глупо получается: бегаете без оружия, с пустыми руками… — И Торм изобразил, как мы понарошку натягиваем тетиву, вкладываем стрелу и стреляем.
— Да, наверное, для тебя это выглядит немного глупо. Ты ведь все лето имел дело с настоящим оружием, — сказал Явен, как всегда, спокойно, без тени зависти.
Торм снисходительно кивнул.
— Но это же просто игра! Хотя благодаря этой игре Эверра полностью освободил нас от уроков, — сказал Явен. Так оно и было. Эверра давно уже перестал делать вид, что у нас продолжаются занятия, когда строительство Сентаса развернулось вовсю. Он убедил Мать Фалимер — и себя самого, — что на самом деле это исключительно его идея, этакий своеобразный педагогический прием, чтобы мы как можно лучше выучили не только сам текст поэмы, но и как можно больше узнали об истории войн между Пагади и Сентасом и о том, что такое оборонительные сооружения.
— Если бы вы обошлись без вон тех, — и Торм мотнул головой в нашу сторону, — то могли бы обзавестись и мечами, и луками. И тогда нас было бы шестеро.
— Но ведь оружие все равно было бы игрушечным, — возразил ему Явен после секундной паузы. — Не такое, как то, которое изучаешь ты. Ха! Да я ни за что не дал бы Сотур даже игрушечный меч с острым концом! Она же и таким в один миг мне кишки выпустит! Я и охнуть не успею!
— Но ведь рабам давать оружие нельзя, — сказал Утер, не понявший, что значит «вон те». Утер вечно цитировал всевозможные законы, правила и запреты, вечно всех поучал, так что Сотур даже прозвала его Трудеком. — Это противозаконно.
Торм нахмурился и промолчал. А я быстро посмотрел на Тиба, который сразу так весь и съежился — видно, вспомнил, как нам попало, когда мы играли в войну, а Торм нами командовал. Я заметил также, что и Явен обменялся взглядами со своей сестрой Астано. «Помоги найти какой-нибудь выход!» — говорил его взгляд, и она помогла, причем очень быстро, как это умеют только женщины, заговорив очень эмоционально и как бы о другом:
— А мне совершенно не хочется даже игрушечным оружием пользоваться! Мне, например, даже нравится, что у нас и луки, и стрелы воображаемые. Из таких я уж никогда не промахнусь! И они никому не причинят вреда. К тому же со времени тех сражений уже несколько столетий прошло, верно? И вообще, нам еще нужно успеть придумать речи всех эмиссаров, а мы столько времени на один только ров потратили, ужас! Да и башня у нас пока не слишком-то хорошо держится. Зато камни вполне настоящие. Ах, Торм, если б ты знал, каково это — целый день таскать их да укладывать! Нам даже самые маленькие помогали, Умо и Око. И теперь мы все себя сентанами считаем.
В общем, Астано сражалась с помощью своего женского оружия, но, как и у нас, ее главным желанием было во что бы то ни стало защитить город, который мы вместе строили все лето, придуманный нами город, весь пронизанный солнечным светом и сухим горным воздухом.
Торм только плечами пожал, продолжая молча жевать хлеб с сыром. Потом он спустился к ручью, чтобы напиться, и мы увидели, как Сэлло, Око и Сотур нырнули в высокую траву на берегу, прячась от него. Но Торм не обратил на них ни малейшего внимания. Напился, выпрямился, махнул Явену рукой, что-то крикнул и в полном одиночестве зашагал, размахивая руками, назад к дому по белой тропке мимо виноградника, крепкий, коренастый, совершенно отдельный от нас.
Мы какое-то время еще занимались строительством, однако настроение было уже не то, и на вершину холма точно черная тень упала.
Мы и до конца лета почти каждый день ходили строить Сентас, но прежнего вдохновения как не бывало. Да и потом детей Семьи часто отзывали — Явен, Торм и Утер ездили на охоту вместе с Алтаном-ди и его богатыми соседями, а девочки в это время развлекали дома соседских жен. Сотур и Умо, страстно увлекшиеся нашей крепостью-мечтой, при любой возможности манкировали подобными обязанностями и сбегали из дома к нам, но Астано, уже почти взрослая, уйти никак не могла, а без нее и особенно без Явена у нас ничего не клеилось — нам не хватало вожака, не хватало его энергии и убежденности.
Впрочем, и других радостей, связанных с летним отдыхом в Венте, оставалось еще немало — мы плавали, бродили по ручьям, начали созревать смоквы (которые нам не нужно было красть, потому что смоковницы росли сразу за большим домом), а по вечерам мы, как и прежде, подолгу беседовали под звездным небом, прежде чем уснуть. А еще напоследок мы устроили себе настоящий праздник. Это был просто великий день счастья. По предложению Астано мы отправились в пеший поход на вершину одной из Вентайнских гор. Путь был неблизкий, за день туда и обратно не обернешься, так что мы взяли с собой еду и воду, а также одеяла на случай ночевки. Нас сопровождал один из деревенских мальчишек с вьючным животным, похожим на осла, на которого мы и погрузили свои пожитки.
Мы вышли в путь очень рано, еще до восхода солнца; в воздухе уже чувствовались сырость и прохлада, предвестники наступающей осени. Сухая трава на холмах выгорела и стала бледно-золотистой, да и тени стали длиннее, чем в середине лета. Мы все поднимались и поднимались по старой тропке, протоптанной пастухами, которая вилась среди больших округлых холмов. Повсюду мы видели пасшихся на склонах овец, которые совершенно нас не боялись, смотрели с любопытством и громко, блеяли, словно вызывая нас на поединок. Здесь не было никаких оград, поскольку горные овцы и без того держатся своих пастбищ, им не нужны ни ограды, ни пастухи. Между стадами бегали огромные серые пастушьи собаки, охранявшие овец от волков. Эти собаки не обращали на нас никакого внимания, если мы просто шли мимо, но стоило нам остановиться — и какой-нибудь пес тут же начинал медленно к нам приближаться, всем своим видом говоря: «Ступайте себе, куда шли, и все будет хорошо». И мы, разумеется, тут же шли дальше.
Торма и Утера с нами не было. Они предпочли охотиться в сосновом лесу на волков вместе со своими дядьями Сотером и Содерой. Но малышки Око и Умо отправились в поход вместе со всеми. Умо, хоть ей и было уже десять лет, была не намного крупнее шестилетней Око, и обе девочки, хоть и спотыкались то и дело, вели себя мужественно и старались не отставать. Явен время от времени нес Око на плече; а во время последнего, особенно долгого и довольно крутого подъема, когда день уже склонялся к вечеру, мы сняли со спины нашей ослицы — во всяком случае, мне это животное казалось именно ослицей — припасы и одеяла и усадили обеих младших девочек в седло. Ослица была очень симпатичная, серенькая как мышка. Я тогда понятия не имел, что такое «лошак», хотя ослица действительно, пожалуй, была похожа на маленькую лошадку. Сотур объяснила, что если ее отец был ослом, а мать лошадью, то она считалась бы мулом, но поскольку у нее мать — ослица, а отец — жеребец, то это лошак. Тот деревенский мальчик, что шел вместе с нами, слушал объяснения Сотур с каким-то тупым и одновременно сердитым выражением лица, которое мы и раньше видели у здешних крестьян.
— Я ведь правильно объясняю, да, Коуми? — обратилась к нему Сотур. Он как-то странно дернул головой и отвернулся, еще больше нахмурившись. — Все зависит от того, кто были твои предки, верно, Мышка? — сказала Сотур ослице, или лошаку.
Мальчик Коуми потянул за повод, и Мышка покорно двинулась дальше, Око и Умо так и вцепились в седло, чуть испугавшись, но ликуя, ибо теперь ехали верхом. Груз мы разделили на всех, и он был совсем не тяжелый, мы, конечно же, легко могли бы нести его и весь день. Но радости нашей все же не было предела, когда мы наконец добрались до вершины самого высокого из окрестных холмов и решили прекратить подъем. Невозможно было оторвать взгляд от великолепного вида, который оттуда открывался; со всех сторон нас окружал залитый солнцем простор; бледно-золотые дали у горизонта отливали синевой; длинные августовские тени лежали в складках окрестных холмов. А где-то далеко за этими просторами была Этра, казавшаяся сейчас совсем крошечной и какой-то нереальной. Повсюду виднелись деревушки и отдельные фермерские домики, приткнувшиеся по берегам ручьев и вдоль реки Морр, а Явен, обладавший орлиным зрением, сказал, что различает даже стены Казикара и сторожевую башню, хотя я, например, сумел разглядеть только какое-то неясное пятно в глубокой излучине реки Морр. Дальше на восток, а также к югу земля была холмистой, но к западу и к северу пространство было почти ровным и как бы расширялось, гигантскими расплывчатыми уступами спускаясь к горизонту, где свойственный ему зеленый цвет бледнел и начинал отливать синевой.
— Это Данеранский лес, — сказал Явен.
— Это Болота, — возразила Астано, а Сотур спросила:
— Это ведь оттуда вы с Гэвом родом, да, Сэл?
Сэлло стояла рядом со мной; мы долго смотрели в ту сторону. От созерцания этой бескрайней пустоты, за пределами которой раскинулась неведомая страна, где мы с сестрой когда-то родились, душу мою охватило какое-то странное пронзительное, леденящее и одновременно восторженное чувство. Я знал о людях с Болот только то, что они живут не в городах, что они «совершенно не цивилизованные», что они «варвары и дикари». А ведь и у нас с Сэл где-то там были настоящие предки, как у всех свободных людей. Мы тоже были рождены свободными. Тревожно, мучительно было думать об этом. Да и бесполезно. Какое все это имеет отношение к моей теперешней жизни в Этре, к нашей Семье, к Аркаманту?
— А вы хоть чуть-чуть помните Болота? — снова спросила Сотур.
Сэлло покачала головой, а я, сам себе удивляясь, вдруг заявил:
— Иногда, по-моему, я кое-что вспоминаю.
— А какие они?
И я, чувствуя себя полным дураком, принялся рассказывать ей о своем простеньком детском видении.
— Там повсюду вода и тростники… Тростники тоже растут в воде, и из них возникают такие маленькие острова… А вдалеке виднеется красивый голубой холм… Может даже, вот этот, на котором мы сейчас стоим.
— Ну что ты говоришь, Гэв! Ты же тогда совсем маленьким был, — сказала Сэл, и в голосе ее едва слышно прозвучало предостережение. — Мне, наверно, уже года три было, и то я ничего не помню.
— Не помнишь даже, как вас украли? — Сотур была явно разочарована. — Это было бы так интересно!
— Я помню себя только уже в Аркаманте, Сотур-йо, — мягко сказала Сэл, и в голосе ее прозвучала улыбка.
Мы устроили настоящий пир, расположившись на тонкой сухой траве, покрывавшей вершину холма, и ели, глядя на великолепный закат, в котором нестерпимым блеском отражались воды далекого океана. Мы долго сидели так и никак не могли наговориться, и беседа текла столь же легко и непринужденно, как в прежние, счастливые деньки этого долгого лета. Малыши в итоге уснули. И Сэлло тоже задремала, положив голову мне на колени. Рис принесла одеяло, и я бережно укрыл им сестру. На небе замигали первые звезды. Деревенский мальчик Коуми, весь вечер просидевший в отдалении и слегка отвернувшись от нас, вдруг запел. Сперва я даже не понял, что это пение, — звук был такой тонкий, странный и печальный, что больше походил на то дрожание в воздухе, какое долго еще сохраняется, после того как ударишь в колокол. Это странное пение становилось то громче, то затихало…
— Спой еще, Коуми, — прошептала Сотур, когда он умолк. — Ну пожалуйста!
Коуми так долго молчал, что мы уж решили больше к нему не приставать, ибо петь он все равно ни за что больше не будет. Затем тот же слабый, дрожащий, нежный звук возник снова. Голос Коуми точно прял тончайшую музыкальную нить, невнятные обертоны которой уловить порой было почти невозможно. Мелодия была невыразимо печальной, но в то же время странно безмятежной, лишенной тревоги. А когда эти звуки опять замерли вдали, мы еще долго прислушивались, мечтая, чтобы они вновь к нам вернулись.
Теперь на широкой вершине холма воцарилось полное безмолвие. Блеск звезд стал ярче той, почти померкшей сине-бронзовой полосы, что еще светилась где-то далеко внизу, на западе.
Ослица — или лошак? — вдруг принялась топать ногами и так забавно фыркать, что мы засмеялись; потом мы еще немного поговорили вполголоса, а потом легли спать.
Глава 4
Следующие года два прошли без особых волнений. Мы с Сэл продолжали, как всегда, мести полы и дворики и каждый день ходили в школу. Хоуби никто даже не вспоминал, даже Тиб; по-моему, по нему в доме особенно не скучали. Торм, по-прежнему душой и телом преданный своей главной мечте, увлеченно постигал искусство владения клинком. Дома и в классе он всегда выглядел насупленным и надменным, впрочем, был на редкость послушен, а когда раза два чуть снова не вышел из себя, раздраженный чем-то во время урока, то просто извинился и вышел в коридор. Явена мы почти не видели: он был призван в армию. В тот период Этра ни с кем никакой войны не вела, и молодые офицеры вроде Явена проходили обучение на плацу, а порой их отправляли в дозор на границу. Время от времени Явена отпускали домой, и он всегда был веселым, подтянутым и в прекрасном настроении. Два лета подряд мы ездили в Венте, но и там ничего особенного не происходило. Летние дни, как обычно, тянулись в лени и счастливой безмятежности. Явен с нами не ездил. В первое лето у него были армейские учения, а во второе он сопровождал своего отца, отправившегося с дипломатической миссией в Галлек. Торм тоже на ферму не приезжал, все лето проводя в своей фехтовальной школе. Так что вожаком нашим стала Астано.
В первый же вечер она повела нас на холм, к выстроенному нами Сентасу, и мы испытали настоящее потрясение, увидев там одни руины. Мы были прямо-таки убиты горем. Еще бы! Ров заплыл илом во время зимних дождей, насыпь за частоколом совсем расползлась, сам же частокол в некоторых местах был повален, а с таким трудом сложенные нами из камня Башня предков и ворота были развалены и разбиты, но отнюдь не непогодой, а какими-то злодеями.
— Ох уж эти вонючие крестьяне! — ворчал Тиб. Ворчать он теперь мог по-настоящему, почти что басом. Мы потерянно бродили вокруг разрушенной крепости, испытывая одни и те же чувства — ненависть и смешанное со стыдом презрение к деревенским рабам. Они ведь были такими же, как мы, но бросали в нас камни, а теперь еще и разрушили город нашей мечты! Надо сказать, что Астано и Сотур проявили должное мужество и объяснили нам, что мы легко сумеем восстановить частокол и башню, так что можем прямо сейчас, в сумерках, начать собирать для нее камни. В общем, в дом мы вернулись уже затемно, вытащили на улицу свои тюфяки и улеглись, энергично обсуждая планы восстановления нашего Сентаса.
— А знаете, хорошо бы нам удалось и кое-кого из них тоже привлечь к работе, — сказала Сотур. — Если они станут нам помогать, то, возможно, перестанут так ненавидеть и нас, и нашу крепость.
— Фу! — воскликнула Рис. — Не желаю я, чтобы эти вонючки тут торчали!
— Я тоже считаю, что деревенским нельзя доверять, — согласился с ней Утер, который стал теперь, пожалуй, менее тощим и костлявым, зато еще более чопорным.
— Тот мальчик с ослицей, которую вы называли «лошаком», был ничего, — возразила Утеру его сестра Умо.
— Коуми, — подсказала Астано. — Да, хороший мальчик. А помните, как он пел?
Мы примолкли, вспоминая тот золотистый загадочный вечер на вершине высокого холма.
— Придется, наверное, у деревенского старосты спросить, — деловито сказала Астано, обращаясь к Сотур, и они быстренько обсудили, возможно ли заполучить себе в помощь кого-то из деревенских, ведь тогда их придется освободить от других работ.
— А если мы скажем, что им надо кое-что для нас сделать? — предложила Сотур, и Астано откликнулась:
— Ну да, конечно! Это ведь действительно очень тяжелая работа. Мы и сами ее в поте лица выполняли. Особенно когда этот проклятый оборонительный ров копали! Без Явена мы бы ни за что не справились!
— Только теперь все будет совсем по-другому, — осторожно заметила Сотур. — Приказывать кому-то придется…
— Это верно, — согласилась Астано.
И на этом вопрос был закрыт. Больше идея об использовании деревенских детей не возникала.
Мы сами восстановили Сентас, пусть и не совсем хорошо и не в полном соответствии с тем планом, соблюдения которого требовали от нас Явен и Эверра. А когда крепость была восстановлена, мы самостоятельно провели обряд очищения, причем не понарошку, а так, как описано в поэме Гарро. Нашу процессию, совершавшую торжественный круг внутри частокола, возглавлял сам Эверра в качестве верховного жреца; он же зажег в цитадели священный огонь. И потом мы все лето ходили на этот холм — то все вместе, то по двое, то поодиночке, — испытывая одно и то же чувство: этот холм, несмотря на все богатство окрестных лесов, холмов и ручьев, стал для нас самым дорогим местом, нашей крепостью, нашим убежищем.
Помимо восстановления Сентаса никаких выдающихся проектов мы в то лето не осуществили; поставили, правда, несколько танцевальных спектаклей, но, насколько я помню, Тиб и я по большей части либо плавали в озерах под сенью ив и ольховин, либо лениво бродили по тенистым тропинкам и болтали обо всем на свете. А порой мы с ним отправлялись в долгие, но не имевшие никакой конкретной цели экспедиции в южную часть леса. К тому же каждый день до полудня у нас были занятия с Эверрой, а Рис и Сэлло после обычных уроков еще и довольно часто занимались музыкой вместе с Сотур и Умо, для которых учителя музыки и пения специально привезли из Херраманта. Маленькая племянница Сотур, Утте, которая выросла из разряда «малышни», теперь тоже повсюду ходила с нами, находясь под особой опекой Око. А порой мы и малышню брали с собой к ручью и смотрели, как детишки с удовольствием плещутся в воде, вопят и визжат, а потом засыпают, уставшие, прямо на берегу и спят в течение нескольких особенно жарких полуденных часов.
Тетушка Сотур и Мать Фалимер тоже часто ходили с нами на ручей, а иногда даже купались вместе со старшими девочками, и тогда Утера, Тиба и меня отсылали прочь. Утер, убежденный, что деревенские мальчишки прячутся в кустах и подглядывают за ними, вечно ходил вокруг дозором и заставлял нас с Тибом помогать ему «держать этих мерзких скотов подальше от наших женщин». Зная, какое ужасное наказание полагается за подобное преступление — тем более в отношении столь священной персоны, как наша Мать Фалимер, — я, например, даже на сомневался: никто из деревенских и близко не подойдет к купальне, когда там наши дамы. Но Утера было не переубедить; он был уверен, что «у деревенских в голове исключительно грязные мысли».
Я-то взрослел довольно медленно, и мне навязчивая идея Утера казалась столь же нелепой, как и дурацкий смех Тиба, когда он с видом всезнайки пытался намекнуть, что именно можно увидеть, если спрятаться в кустах рядом с купальней. Я и без того прекрасно знал, как выглядят женщины. Я же всю свою жизнь прожил на женской половине. Как, впрочем, и Тиб, который только прошлой зимой перебрался в мужскую Хижину. Однако Тиб вел себя так, словно в женщине без одежды есть что-то особенное, неприличное, и это, по-моему, было полным ребячеством.
И безусловно, не имело ни малейшего отношения к тому, что я и сам вскоре испытал, услышав, как поет Сотур. Это было нечто прекрасное, не имевшее ни малейшего отношения к телесным отправлениям. И я всей душой, преисполненной боли, торжества и неясного, невыразимого желания, внимал ее пению…
А под конец лета в Венте вновь приехали Отец Алтан, Явен и Торм, и вновь возникло разделение нашего маленького общества на членов Семьи и рабов. Однажды я вышел из дома, желая побыть в одиночестве и прогуляться, и в долине между двумя заросшими лесом холмами к югу от нашего поместья обнаружил прелестную дубовую рощу. Там бежал чистый ручей, а чуть выше по склону, над ручьем, виднелась какая-то странная каменная горка, точнее, останки каменной кладки. Похоже, это был старинный алтарь, только я не знал, какому богу он посвящен. Я рассказал об этом Сэлло, и она захотела тоже посмотреть. Так что однажды я отвел туда ее, Рис и Тиба. Тиб сказал, что ничего интересного он тут не видит, вел себя как-то беспокойно и вскоре один побрел назад. А вот у девочек, Рис и Сэлло, возникли те же ощущения, что и у меня: нам всем казалось, что в этой роще есть что-то особенное, что здесь то ли витает чье-то благословение, то ли ощущается чье-то невидимое присутствие и все это явно связано с поляной у ручья и разрушенным алтарем. Вскоре девочки уселись на землю в негустой тени старых дубов и принялись прясть; у каждой из них всегда были при себе веретено и мешочек с шерстью, похожей на облако. Теперь они вошли уже в такой возраст, когда женщин полагается постоянно видеть за выполнением какой-нибудь женской работы. То, что они вообще смогли удрать из дому вместе со мной, никем не замеченные и даже не спросив разрешения, было частью той чудесной простоты и свободы, какой отличалась жизнь в Венте. В любом другом месте две домашние рабыни четырнадцати лет ни за что не получили бы разрешения просто так, без дела, уйти из дома. Но Сэл и Рис были хорошими девочками и взяли свою работу с собой. Да и наша Мать Фалимер доверяла им, как доверяла и общей благожелательности этих мест. Так что мы сидели на склоне холма, поросшего редкой травой, в горячей августовской тени, чувствуя прохладное дыхание бегущей воды, и долгое время просто молчали, наслаждаясь свободой и покоем.
— Я вот думаю: а может, это алтарь Энну-Ме? — нарушила затянувшееся молчание Рис.
Сэлло покачала головой:
— Нет, вряд ли. У алтаря Энну форма другая.
— Тогда какому же богу он принадлежит?
— Наверное, какому-то местному божеству.
— Например, дубовому, — предположил я.
— Нет, дубам покровительствует богиня Йене. Но это и не ее алтарь, — возразила Сэл с какой-то несвойственной ей уверенностью. — Это явно какой-то другой бог. Здешний. Или дух.
— Что бы нам такое оставить ему в качестве подношения? — спросила Рис полусерьезно-полушутя.
— Не знаю, — пожала плечами Сэлло. — Ничего, потом выясним.
Рис умолкла и вновь принялась прясть; легкие, изящные движения ее руки действовали на меня усыпляюще. Рис была не такой хорошенькой, как моя сестра, но от ее чудесных густых и шелковистых черных волос и мечтательных миндалевидных глаз исходило очарование ранней женственности. Она тихонько вздохнула и сказала:
— Тут так хорошо, что мне отсюда и уходить не хочется.
Я понимал, что Рис, конечно же, через пару лет отдадут кому-то «в подарок» — возможно, молодому Одирану Эдиру или наследнику Херраманта — в зависимости от того, каковы будут в тот момент интересы, обязательства и долги семейства Арка. Все мы это прекрасно знали. Девушек-рабынь и воспитывали, для того чтобы кому-то «подарить». Рис очень доверяла нашим хозяевам и надеялась, что будет отдана в такой Дом, где ее сумеют оценить по достоинству и будут хорошо с ней обращаться. Страха она не испытывала; ей было пока что просто интересно узнать, куда и к кому ее отошлют. Я как-то слышал, как они с Сэл разговаривали об этом. Сэл отдавать на сторону не собирались; она с детства была предназначена для Явена, и это тоже всем было хорошо известно. В Семье Арка не было принято слишком рано выдавать замуж своих дочерей, да и девушек-рабынь тринадцати-четырнадцати лет тоже никому не «дарили», даже если физически они выглядели вполне взрослыми. Йеммер неустанно повторяла нашим девочкам слова Матери Фалимер: «Женщина бывает гораздо здоровее и живет дольше, если у нее хватило времени достигнуть зрелости и только тогда вынашивать и рожать детей. Не годится делать это, пока она сама еще ребенок». И Эверра, полностью поддерживая эту идею, цитировал Трудека: «Пусть девушка остается девушкой, пока окончательно не созреет и не наберется житейской мудрости, ибо для предков наших нет ничего приятнее поклонения невинной дочери». А конюх Сим говорил по-простому: «Вы же не станете вязать годовалую кобылку, верно?»
Так что приведенные выше слова Рис были вызваны отнюдь не озабоченностью и страхом перед тем, что ей вскоре придется покинуть родной дом и познать участь «подаренной девушки» где-нибудь в Эдирманте или Херраманте. Просто она понимала: через два-три года у нее начнется новая жизнь и она крайне редко сможет видеться с нами и уж почти наверняка никогда даже отчасти не испытает такой свободы, как сейчас.
Ее покорная грусть тронула и Сэлло, и меня; мы-то оба чувствовали себя в безопасности, зная, что всегда будем жить со своей Семьей, среди знакомых людей.
— А что бы ты сделала, Рис, если бы тебя отпустили на свободу? — спросила ее моя сестра, глядя за ручей, на теплую тенистую лесную чащу.
— Девушек на свободу не отпускают, — разумно ответила практичная Рис. — А вот мужчину могут, если он совершит какой-нибудь героический подвиг. Вроде того раба-зануды из «Басен», который спас богатство своего хозяина.
— Но ведь бывают же страны, где никаких рабов нет. Если бы ты, скажем, туда попала, то стала бы по-настоящему свободной. Как и все там.
— Но там я считалась бы иностранкой, — усмехнулась Рис. — И откуда мне было бы научиться тому, как себя там вести и что делать? Нет уж, от этих заморских штучек можно с ума сойти!
— Ну а ты все-таки представь себе, что получила свободу здесь, в Этре.
Рис задумалась.
— Ну, если бы я стала «освобожденной», то смогла бы выйти замуж. И тогда имела бы возможность оставить при себе своих детей… Впрочем, мне пришлось бы самой о них и заботиться, верно? Тут уж хочешь не хочешь… Не знаю… Я ни с одной «освобожденной» женщиной даже не знакома. И понятия не имею, на что эта жизнь похожа. А ты бы что сделала?
— Не знаю, — сказала Сэлло. — Я не знаю даже, зачем мне вообще подобные мысли в голову приходят. Но почему-то все время об этом думаю.
— А хорошо, наверное, было бы выйти замуж, — помолчав, задумчиво сказала Рис. — Что бы уж точно знать.
Я не понял, что она имела в виду.
— О да! — от всего сердца воскликнула Сэлло.
— Но ты-то знаешь, Сэл. Явен-ди никогда никому тебя не отдаст.
— Да, он, наверное, не отдаст, — сказала Сэлло, и в голосе ее прозвучали нежность, как и всегда, когда она говорила о Явене, и гордость, и некоторая растерянность.
Теперь-то я понимаю, что тогда имела в виду Рис: хозяин был волен передать девушку, которую ему подарили, другому мужчине, или одолжить ее кому-то на время, или отослать на женскую половину нянчить чужих детей — он мог все, что ему заблагорассудится, и она, не имея ни малейшей возможности изменить его волю, обязана была просто подчиниться. Когда мне в голову приходят мысли об этом, я испытываю огромную радость по поводу того, что родился мужчиной. Я даже немного растерялся, когда Сэлло спросила меня:
— А что бы ты делал, Гэв?
— Если бы меня отпустили на свободу?
Она кивнула. На меня она смотрела с той же нежностью и гордостью, что и на Явена, но, разумеется, без тени смущения и чуть насмешливо.
И я, подумав немного, сказал:
— Ну, я бы хотел путешествовать. Побывал бы в Месуне, в тамошнем университете. И в Пагади. Посмотрел бы на руины Сентаса и других городов, о которых все мы читали, например на башни Резвы. Полюбовался бы Ансулом Великолепным с его четырьмя каналами и пятнадцатью мостами…
— А потом?
— А потом вернулся бы в Аркамант и привез бы с собой много-много новых книг! Наш учитель ведь даже говорить о покупке новых книг не хочет. «Старые надежнее», — надменно поджав губы, передразнил я Эверру. Рис и Сэл захихикали. На этом и закончился наш разговор о свободе, которую мы толком даже и вообразить себе не могли.
И духу того чудесного места мы никакого подношения не оставили — если только память не является чем-то вроде подношения.
А на следующее лето наша жизнь на ферме была внезапно прервана слухами о грядущей войне.
Мы прибыли в Венте, как обычно, с родственниками из Херраманта, и в первый же вечер все вдевятером отправились к нашей крепости на холме, ожидая вновь увидеть ее в руинах. Но, хотя зимние дожди и нанесли некоторый ущерб рву и земляному валу, стены и башни стояли прочно и, как нам показалось, были даже слегка надстроены. Должно быть, кто-то из деревенских ребятишек решил превратить наш Сентас в свое убежище и взял на себя заботу о нем. Умо и Утер негодовали больше всех; им казалось, что теперь наша крепость «загажена этими скотами», но Астано сказала решительно:
— Это даже хорошо; теперь, возможно, она так и останется стоять здесь.
Око и Умо были единственными из девочек, вместе с нами принимавшими участие в расчистке рва и укреплении земляного вала и частокола; они вообще работали в крепости больше всех. Астано и Сотур большую часть времени вынуждены были оставаться в доме вместе с женщинами, а мы, мальчишки, несколько утратив интерес к Сентасу, предпочитали заниматься другими делами. Например, мы с Тибом плавали, ловили рыбу и ходили в ту дубовую рощу — иногда с Сэл, когда она могла уйти из дома, иногда с Рис, но чаще вдвоем. К тому же у меня совершенно неожиданно появился новый друг.
Как-то раз я помогал Око и Умо восстанавливать частокол в Сентасе, а потом пошел домой через виноградник; стояла полуденная жара, в траве пронзительно трещали кузнечики и стрекотали цикады, словно опьяненные солнечным светом и теплом. Я заметил, что кто-то из работников идет мне навстречу по соседнему междурядью, то и дело скрываясь за высокими лозами, на которых уже начинали наливаться виноградные грозди. Когда мы поравнялись и уже должны были разойтись в разные стороны, он вдруг остановился, поклонился и сказал: «Ди». Именно так деревенские жители уважительно обращались к хозяевам — не по имени, а просто «господин».
Удивленный, я тоже остановился и внимательно посмотрел на него сквозь переплетение мощных лоз. Я узнал его: это был Коуми, тот парнишка, что со своим лошаком помог нам подняться на вершину высокого холма и так здорово пел, когда мы сидели вечером у костра. Теперь он сильно повзрослел, и я бы, пожалуй, принял его за взрослого мужчину, если бы не был с ним знаком раньше. На щеках у Коуми уже прорастала бородка, черты худого сумрачного лица стали резкими. Я назвал его по имени, и он явно удивился и обрадовался, что я его помню. Некоторое время он стоял молча, потом сказал:
— Надеюсь, мы все ваши камни сложили как полагается?
— О да, получилось просто прекрасно! — заверил я его.
— Это кто-то из ребят Мерива тогда все там разломал…
— Ничего. Это же просто игра. — Я не знал, что еще сказать этому мрачному парню. Он говорил с таким сильным акцентом, что я не сразу его понимал, и от него жутко несло застарелым потом, хотя мы стояли на расстоянии четырех или пяти футов друг от друга. Он был босиком, и его темные загрубелые подошвы упирались в землю, точно крепкие корни виноградной лозы.
Мы довольно долго молчали, и я уж хотел попрощаться и пойти домой, но тут Коуми предложил:
— Если хочешь, я покажу тебе одно отличное место для рыбалки.
В то лето я очень часто ходил ловить рыбу. Мы с Тибом слышали, что в тех местах есть такие ручьи, где местные жители ловят форель, но нам ни разу не удавалось такое место найти. Я дал понять, что меня подобное предложение чрезвычайно интересует, и Коуми быстро сказал:
— Хорошо. У каменной крепости сегодня вечером, — и тут же решительно зашагал прочь.
Хоть меня и одолевали некоторые сомнения, но вечером я все же пошел на холм Сентаса, убедив себя, что если Коуми все-таки не придет, то неплохо будет немного помочь Око и Умо. Но не успел я подняться на холм, как заметил его, быстро идущего через виноградник, и пошел ему навстречу. Мы свернули и молча двинулись вдоль ручья, окаймлявшего холм, к тому месту, где этот ручей соединялся с другим, более широким. Затем мы еще с полмили прошли по берегу этого ручья, и в итоге едва заметная тропинка, что вилась в зарослях ивы, ольхи и лавра, привела нас к подножию очередного холма, где ручей, падая с небольшой высоты вниз, образовал несколько глубоких заводей, окруженных массивными валунами. Вода в этих заводях казалась неподвижной, течение почти не ощущалось. Мы дружно вытащили свою нехитрую рыболовную снасть, молча насадили наживку и, выбрав себе по валуну, забросили лески в темную воду озерца. Вечер был теплый, безветренный; сейчас, в середине лета, до заката оставался еще по крайней мере час, и солнечный свет, просачиваясь сквозь листву, падал на воду мягкими косыми полосами. Крошечные мошки плясали над поверхностью воды и исчезали в тени под высокими берегами. Уже через минуту у меня клюнуло, и я, сам себе не веря, вытащил великолепную рыбину, покрытую розовыми пятнышками и весившую фунта три или четыре. Я понятия не имел, что мне делать с таким роскошным уловом, и ошарашенно посмотрел на Коуми. Тот усмехнулся, сказал: «Новичкам везет» — и снова забросил свою лесу.
Клевало отлично, и мы то и дело вытаскивали из воды форель. Я все сильнее испытывал приязнь и благодарность к этому худому, молчаливому, загадочному юноше, а он ко мне почти и не поворачивался, и я так и не мог понять, почему он потянулся ко мне, чем я ему понравился. Как, несмотря на довольно-таки враждебные отношения, существовавшие между деревенскими рабами и нами, жителями города, он догадался, что мы можем стать друзьями, несмотря на огромную разницу в наших познаниях и опыте? Но в тот вечер мы с ним действительно подружились, хотя почти не разговаривали. Видимо, оба чувствовали в этом молчании некое взаимное доверие.
Когда за деревьями погасли последние темно-красные отблески заката, мы собрали свой улов. У Коуми была с собой плетеная сумка, и я положил туда свою рыбу — ту первую большую рыбину и еще две поменьше. Он тоже поймал несколько форелей и еще одну рыбу с узким телом и свирепой мордой, наверное щуку. Затем мы вновь прошли по уже невидимой в сумерках лесной тропке, и, когда добрались до виноградника, стало совсем темно. Выйдя на ведущую в поместье дорогу, я сказал:
— Спасибо, Коуми.
Он кивнул и остановился, чтобы отдать мне рыбу.
— Оставь себе, — сказал я.
Он колебался.
— Я же все равно не смогу сам ее приготовить, — заверил я его.
Он пожал плечами, и в сумерках блеснула его улыбка. Пробормотав какие-то слова благодарности, он быстро повернулся и почти сразу же исчез в темноте среди высоких виноградных лоз.
После этого мы еще несколько раз ходили с ним на рыбалку, и всегда в разные места. Мне, правда, стало немного не по себе, когда я понял: Коуми всегда знает, где я нахожусь, и только от него зависит, захочет ли он взять меня с собой. Он сам находил меня и почти без слов спрашивал, не хочу ли я сегодня вечером пойти ловить рыбу. Тиба я никогда с собой не брал; я вообще ни слова не говорил ему о своих походах с Коуми: я чувствовал, что не имею на это права. Если бы Коуми захотел, чтобы Тиб пошел с нами, он бы сам его об этом спросил. А Сэл я, конечно, обо всем рассказал, от нее у меня никогда никаких секретов не было. И она нашей с Коуми дружбе обрадовалась. Когда же я попытался вслух решить мучившую меня загадку, почему он именно меня выбрал себе в товарищи и именно меня отвел в самые наилучшие, потаенные рыбные места, Сэл сказала:
— Ну, он, наверное, просто очень одинок, а ты ему нравишься.
— Да откуда ему было знать, что я могу ему понравиться?
— Он же целый день наблюдал за тобой, когда мы в горы ходили! Да и вообще, они замечают гораздо больше, чем мы; да и понимают все лучше нас, тут я уверена… Он уже тогда наверняка понял, что тебе можно доверять.
— Знаешь, иногда мне кажется, будто я с волком в лесу познакомился, — признался я.
— Хотелось бы мне сходить к ним в деревню, — задумчиво промолвила моя сестра. — Как это все-таки странно, по-моему, что нам этого делать нельзя. Словно они впрямь какие-то дикие звери! Между прочим, некоторые из тех женщин, которые прислуживают в доме, состоят в родстве с нашими городскими слугами. И все эти деревенские женщины, по-моему, очень даже милые. Вот только разговор их порой трудно понять.
В общем, у меня зародилась мысль как-нибудь, спросив у Коуми разрешения, вместе с ним сходить к нему домой. Меня и самого давно уже мучило любопытство; хотелось посмотреть, что за жизнь идет в тех темных хижинах, что разбросаны в долине под холмом, хоть между нами и деревенскими и сложились не самые дружественные отношения из-за «садовых войн» и засад, которые мы устраивали друг другу на дорогах. И вот как-то раз, когда мы с Коуми вернулись вечером с реки, я сказал:
— Я провожу тебя до деревни.
В тот вечер улов у нас был особенно хорош; самым большим моим трофеем
была крупная форель длиной с руку, так что я вполне мог бы сослаться на то, что ему будет тяжело одному тащить столько рыбы. Коуми ничего мне не ответил, и я через некоторое время спросил:
— А ваши не будут против?
По-моему, у него мой городской выговор вызывал те же трудности, что и у меня — его деревенский. Он немного подумал, потом пожал плечами, и мы двинулись дальше. Над деревней плыл дымок, поднимавшийся из многочисленных труб, по улицам разносились ароматы готовящейся пищи. Темные людские фигуры мелькали мимо нас на покрытой колдобинами пыльной дороге, которая вилась меж домами; во дворах яростно лаяли собаки. Коуми свернул в сторону, но не к одному из больших бревенчатых домов, а, вопреки моим ожиданиям, к какой-то убогой хижине, построенной на невысоких сваях, чтобы уберечься от зимней грязи и сырости. Какой-то человек сидел на деревянных ступеньках крылечка, и я вспомнил, что уже видел его раньше: он часто работал на виноградниках. Они с Коуми приветствовали друг друга каким-то дружелюбным ворчанием, и мужчина спросил:
— Кто это?
— Он из Большого Дома, — ответил Коуми.
— Ого! — Мужчина явно был очень удивлен и хотел уже испуганно вскочить, решив наверное, что Коуми привел с собой кого-то из хозяйских детей, но Коуми что-то сказал ему — видимо, пояснил, что я всего лишь один из городских рабов, — и мужчина, сразу успокоившись, молча уставился на меня. Мне было страшно не по себе, но раз уж я пришел в деревню, то отступать не собирался и спросил:
— Можно мне войти?
Коуми поколебался, потом, как всегда, то ли кивнул, то ли пожал плечами и повел меня в дом. В хижине было совершенно темно, если не считать слабых отблесков, которые отбрасывали тлеющие угли в очаге. Я заметил там неясные силуэты еще каких-то людей — женщин, старика, нескольких детей; все они жались друг к другу, и в спертом воздухе противно пахло немытыми людскими телами, псиной, едой, деревом, землей и дымом. Коуми взял у меня ту большую рыбину и передал ее вместе с остальным нашим уловом какой-то женщине — я заметил лишь ее сгорбленный силуэт да блеснувшие в темноте глаза. Затем Коуми что-то сказал ей, и она, повернувшись ко мне лицом, спросила:
— Так ты, может, хочешь поесть с нами вместе, ди? — Мне показалось, что голос ее звучит весьма недружелюбно, даже насмешливо, однако она явно ждала ответа, и я сказал:
— Нет, ма-йо, спасибо, мне еще надо домой добраться.
— Какая огромная рыбина! — восхитилась она, держа в руках ту самую форель.
— Спасибо за рыбалку, Коуми, — невпопад сказал я и попятился к двери. — Удачи всем вам, и пусть Энну благословит ваш дом! — И я поспешил выбраться из хижины, страшно смущенный, почти испуганный, радуясь, что наконец-то возвращаюсь домой. Но все же был горд тем, что сумел преодолеть себя. Ладно, по крайней мере, будет что рассказать Сэлло, думал я.
Сэл тут же предположила, что вместе с Коуми проживает вся его большая семья, а тот человек, сидевший на ступеньке, скорее всего, его отец. Она давно уже поняла из разговоров деревенских женщин, что, хотя никаких браков между деревенскими рабами по закону не существует, они все же обычно живут вместе со своими женами и детьми (иногда этих жен бывает несколько, и они все вместе воспитывают многочисленных детей). Все это только на пользу хозяйскому поместью: рабы сами себя воспроизводят, воспитывая новых рабов и с детства приучая их к той же работе, которую выполняют сами. В итоге и родители, и дети знают только эту землю и эту работу, а больше ничего, и жизнь их, как и жизнь их предков, проходит в жалкой деревне у ручья.
— Я бы тоже хотела еще разок повидаться с Коуми, — сказала Сэлло.
И на следующий раз, когда он, как всегда, первым подошел ко мне, я спросил:
— Коуми, ты знаешь тот старый алтарь в дубовой роще?
Он кивнул; разумеется, он знал; Коуми знал здесь каждый камень, каждое дерево, каждый ручей и каждую поляну.
— Приходи туда сегодня вечером, — сказал я. — Вместо рыбной ловли. Мы тебя будем там ждать.
— Кто это «мы»?
— Моя сестра и я.
Он немного подумал, потом, как всегда, то ли кивнул, то ли пожал плечами и ушел.
Мы с Сэлло пришли в рощу примерно за час до заката. Она уселась и стала прясть; облачко дочиста вычесанной шерсти под непрерывно вращавшимся в ее руках веретеном превращалось в серовато-коричневую ровную нить. Коуми появился неожиданно, абсолютно неслышно поднявшись сквозь заросли ивняка. Сэлло поздоровалась с ним, он кивнул в ответ и уселся на некотором расстоянии от нас. Она спросила, виноградарь ли он, и он сказал, что да, он работает на виноградниках, а потом даже немного, то и дело останавливаясь и умолкая, рассказал о своей работе.
— А ты все еще поешь, Коуми? — спросила Сэл, и он, пожав плечами, кивнул.
— Не споешь ли нам?
Как и тогда, на вершине холма, он довольно долго молчал, но потом все же запел — тем странным, очень высоким и нежным голосом, у которого, казалось, не было ни источника, ни средств звучания. Казалось, его песня исходит не из человеческой глотки, а как бы висит в воздухе, точно пение насекомых, столь же бессловесное, только невыразимо печальнее.
Мне хотелось в следующий раз привести в дубовую рощу и Сотур — может быть, послушать, как Коуми поет, или просто посидеть с нами и насладиться царившим там покоем. Я уже представлял себе, как Сотур станет рассматривать алтарь и, может быть, поймет, какому богу он посвящен; как она спустится к ручью и немного побродит по воде, чтобы охладить усталые ступни; как они с Сэлло будут сидеть рядышком и прясть, тихо беседуя и порой смеясь. Я решил, что лучше всего именно Сэл предложить ей пойти с нами. С недавних пор, как бы сильно я ни хотел поговорить с Сотур, мне по какой-то причине все труднее становилось сделать это. И я все откладывал и даже к Сэлло с этой идеей не обращался, сам не знаю почему; возможно, мне доставляло огромное удовольствие просто думать об этом, просто воображать себе, как Сотур поведет себя, оказавшись в нашей дубовой роще… А потом вдруг сразу стало поздно.
Из Этры примчались верхом оба старших брата Сотур и Торм; они были прямо-таки переполнены тревогой и тут же потребовали, чтобы мы незамедлительно начали паковать вещи, а завтра ранним утром уже выехали в город. Оказывается, отряд вооруженных бандитов из Вотуса, переправившись через реку Морр, напал на деревню Мерто, находившуюся не более чем в десяти милях от Венте, и сжег там все сады и виноградники. В Венте бандиты могли оказаться в любой момент, и Торм, явно чувствовавший себя в своей стихии, шагал взад и вперед по дому и резким, воинственным тоном раздавал приказы. Девочкам, членам Семьи, было велено остаться ночевать в доме, а нам, оставшимся снаружи, тоже нормально поспать не удалось, потому что Торм кругами ходил возле дома и сторожил. Очень рано, еще до восхода солнца, приехал сам Алтан-ди; он до полуночи занимался в городе делами, однако так беспокоился о нас, что просто не смог дождаться, когда мы вернемся в Этру.
Утро выдалось ясным и жарким. И мы, и деревенские работали не покладая рук, чтобы вовремя успеть все упаковать и уложить на повозки. Затем они печально простились с нами, и процессия потянулась меж холмов в обратный путь. Рабы, трудившиеся в полях и на виноградниках, лишь поглядывали в нашу сторону, когда мы проезжали мимо, но ничего не говорили. Я поискал глазами Коуми, но не увидел ни его, ни кого-либо еще из знакомых. Мне было не по себе: ведь этим совершенно беззащитным людям придется просто ждать, надеясь, что этранские воины сумеют перехватить мародеров. Отец заверил их, что сюда из Этры уже послан большой отряд и в данный момент он должен находиться где-то между Мерто и Венте, оттесняя вотусанов назад, к реке.
На дороге было жарко и пыльно. Торм на нервной, покрытой пеной, потной лошади криками торопил возниц. Отец Алтан, ехавший рысцой рядом с повозкой жены, даже не пытался утихомирить Торма. Я давно заметил, что Отец всегда очень строг, даже иногда жесток в обращении с Явеном, зато все чаще колеблется в отношении Торма, не желая ни бранить его, ни хотя бы сдерживать. Я сказал об этом Сэл, высказав предположение, что наш Отец просто боится своей строгостью вызвать у Торма очередной приступ ярости и неукротимого гнева. Сэлло кивнула, но прибавила:
— Дело в том, что Явен совершенно не похож на своего родного отца. А Торм как раз очень похож, во всяком случае внешне. У него и походка теперь в точности такая же. Да и у того, у «двойничка» нашего, тоже.
Слово «двойничок» довольно грубо прозвучало в устах нашей мягкой и нежной Сэлло, но она всегда недолюбливала Хоуби, да и Торма тоже. Мы оба внезапно замолчали, заметив, что Сотур-йо, решившая, видно, тоже немного пройтись пешком, идет рядом с нами и, возможно, слышала, как мы обсуждаем Алтана-ди и его сыновей. Однако Сотур не сказала ни слова; она просто шла с нами рядом, и лицо ее было непривычно хмурым и замкнутым. Мне показалось, что она даже и просить разрешения слезть с повозки не стала — ведь ей, девушке из Семьи, не пристало идти пешком вместе с рабами, — а просто сбежала от своих родственников, как часто делала и раньше. Мы долго шли так, в полном молчании, и единственные слова, которые Сотур обронила за все это время, болью отозвались у меня в сердце:
— Ох, Сэлло, Гэв!.. Вот и закончились навсегда наши славные летние деньки! — И я увидел слезы у нее на глазах.
Глава 5
Бандитов наши славные воины оттеснили к реке, и лишь немногие из вотусанов вернулись в свой город.
А мы в то лето в Венте уже не поехали; и на следующий год тоже. Налеты продолжались; постоянно звучали сигналы тревоги; на территорию Этры вторгались теперь вооруженные отряды не только из Вотуса, но и из Оска и даже из куда более могущественного города-государства Казикара, нашего давнего врага.
Вспоминая эти годы, наполненные тревогами и сражениями, я думаю, что несчастливыми они нам, детям, отнюдь не казались. Угроза близкой войны вызывала особое напряжение, придавая любому обычному поступку отблеск подвига. Возможно, мужчины потому и чувствуют себя на войне столь уверенно, что война, как и политика, усиливает у них ощущение собственной значимости, которого им порой не хватает. А возможность того, что их родные дома могут быть подвергнуты насилию и разрушению, придает особый вкус той обычной домашней жизни, которую они в иное время почти презирают. А вот женщины, которые, по-моему, не нуждаются в подтверждении собственной значимости и не разделяют презрительного отношения к обыденной жизни, зачастую не видят никакой необходимости в войнах и не могут понять, в чем заключается добродетель военного дела. Однако и женщин порой способен захватить блеск военных действий, а кроме того, они очень любят прекрасные проявления подлинного мужества и храбрости.
Явен, став офицером, находился в действующей армии Этры. Его полк под командованием генерала Форре в основном защищал западные и южные окраины города от налетов осканских и морванских банд. Сражения с этими вооруженными отрядами случались нерегулярно, с довольно долгими спокойными перерывами на перегруппировку сил, и во время таких перерывов Явену удавалось приехать домой.
На двадцатилетие Мать подарила ему мою сестру Сэлло, которой к этому времени исполнилось почти шестнадцать. Подобный подарок «из рук Матери Дома» — событие довольно значимое и осуществляется в соответствии со строгими правилами. Надо сказать, что для Сэл лучшего и желать было нельзя: она всем сердцем любила Явена и просила у судьбы одного: позволить ей любить его до самой смерти. При всем желании он не смог бы противиться такой щедро изливаемой на него нежности, но, к счастью, и Сэлло была его давней избранницей. Со временем предполагалось, разумеется, что Явен женится на женщине из своего круга, но пока что о свадьбе не было и речи, так что еще несколько лет влюбленным можно было об этом не думать. Они оба были так счастливы, их наслаждение друг другом было столь очевидным и непосредственным, что и вокруг них разливалось некое блаженство, подобно свету от горящей свечи. Когда Явен приезжал в город и был свободен от дежурства, он все дни проводил в компании своих молодых приятелей, военных и штатских, но каждую ночь неизменно возвращался домой, к Сэлло. Когда же он уезжал в полк, она горько плакала, горевала и с нетерпением ждала, когда же он снова приедет домой; и он приезжал, высокий, красивый, и кричал со смехом: «Где же моя милая Сэлло?» — и она стремглав выбегала из «шелковых комнат» ему навстречу, смущаясь и одновременно светясь радостью, гордостью и любовью — и чувствуя себя настоящей женой молодого воина.
Когда мне исполнилось тринадцать, меня наконец выдворили из женской спальни и отослали на тот конец двора. Я всегда боялся перебираться в мужскую Хижину, но это оказалось не так уж и страшно, хотя я все же очень горевал, с тоской вспоминая тот уютный уголок, который занимали мы с Сэлло и где всегда подолгу беседовали перед сном. Тиб, которого отослали в Хижину на год раньше, старательно меня опекал, что оказалось вовсе не нужно: старшие ребята и не думали меня преследовать. Они, правда, бывали порой очень жестоки к тем, кто был их младше, но я, очевидно, выплатил весь свой долг в ту ночь у колодца и заслужил их уважение своим молчанием. Они дразнили меня Болотной Крысой или Клюворылом, но и только; а в общем, даже это бывало редко, и никто из них меня не трогал.
Впрочем, в течение дня я мало с кем из них виделся, поскольку моя работа была теперь полностью связана со школой и библиотекой, где я стал работать вместе с Эверрой, а Око и маленький мальчик по имени Пепа заняли наше с Сэлло место, подметая дворы и коридоры. В мои обязанности входило дальнейшее самообразование и помощь Эверре во время занятий с младшими учениками. В классе появилось несколько новых ребятишек — подросли племянницы и племянники Сотур, а также Семья купила и обменяла какое-то количество новых рабов, в том числе и детей. Сэлло, будучи «подаренной», да еще и сыну хозяйки, освобождалась, естественно, от любой тяжелой и грязной работы и должна была лишь какое-то время прясть или ткать, а также всегда быть свежей и хорошенькой, радуя Явена. Она очень скучала, когда Явен уезжал к себе в полк, а общество других обитательниц «шелковых комнат», а также хозяйских горничных находила скучным и, как она говорила, «душным». Она, правда, никогда особенно не жаловалась, но при каждой возможности старалась убраться из «шелковых комнат» и чем-то занять себя, например посидеть на уроке вместе со всеми или помочь Эверре и мне с малышами. Сидеть целыми днями без дела ей было невмоготу. Мы с ней часто встречались также в библиотеке, где можно было спокойно поговорить и где нам никто не мешал. Сэлло полностью мне доверяла, как, впрочем, и я ей, и наша тесная дружба была для меня настоящим счастьем. Моя сестра стала как бы моим вторым «я». Только с нею я чувствовал себя совершенно свободно и мог спокойно говорить о чем угодно.
Что же касается моих «воспоминаний» — тех видений, или вещих снов, которые являлись мне, когда я был ребенком, — то они по-прежнему посещали меня, хотя уже и не так часто. И некогда данное Сэлло слово ни с кем, кроме нее, не говорить об этом даже сейчас делает для меня разговор о них несколько затруднительным.
В Венте подобные видения тревожили меня крайне редко, но, когда мы вернулись в Аркамант, они стали являться мне все чаще и чаще, обычно когда я бывал один и читал перед сном или уже почти засыпал. Иногда, проснувшись утром, я все еще продолжал видеть перед собой тот далекий голубой холм над сверкающей водой и зарослями тростника и ощущать легкое неровное покачивание плывущей лодки. Или же я снова видел, как снег падает на крыши Этры (и это могло быть как воспоминанием, так и вещим видением). Или же я вдруг снова оказывался на кладбище у реки, или смотрел откуда-то сверху на улицу, где сражались друг с другом мужчины в латах, или входил в ту высокую полутемную комнату, где тот седеющий мужчина поворачивал ко мне свое тонкое печальное лицо и громко произносил мое имя.
По-настоящему новые видения теперь бывали у меня лишь изредка — превращаясь в «воспоминания» о том, чего я еще никогда не видел в действительности. Например, несколько раз я «вспоминал», как взбираюсь на крутой холм, на вершине которого стоит неизвестный мне город; идет дождь, и улицы, зажатые между высокими темными домами, кажутся мне на редкость мрачными и совершенно чужими. Двигаюсь я словно в некоем световом пятне, и этот свет то ли горит во мне, то ли падает откуда-то сверху, точно я несу, подняв высоко над головой, невидимую мне лампу… в общем, лучше я вряд ли сумею это описать.
Однажды, той зимой, когда Сэлло подарили Явену, мне привиделся некий ужасный обнаженный мужчина, худой и черный, как обгорелый труп. И этот человек танцевал! Голова у него была какая-то слишком большая, глаза очень яркие, но совершенно невыразительные, а вместо рта зияла жуткая красная дыра. При этом я смотрел на него как бы снизу, словно лежа в какой-то темной яме. Это было очень страшно, и я очень надеялся, что больше об этом вспоминать не буду. А вот другое видение я вспоминал несколько раз: это была пещера с низким каменным сводом, ее каменный пол был слегка освещен каким-то странным слабым светом, падавшим неизвестно откуда. И все, что там происходило, мелькало у меня перед глазами настолько быстро, что невозможно было удержать это в памяти и потом как следует вспомнить. Хотя, если мне случалось порой даже в обычной, дневной своей жизни встретить какого-то человека или мельком увидеть какое-то место, я потом всегда знал, видел я это или нет. У многих людей время от времени бывает такое: им кажется, что они вроде бы вспоминают что-то, хотя совершенно уверены, что это происходит с ними впервые. У меня, правда, было немного иначе: в тот момент, когда что-то начинало происходить со мной в действительности, я всегда мог точно сказать, где и когда уже видел все это прежде — чаще всего в своих снах-«воспоминаниях».
После того как мои видения становились реальностью, а «воспоминания» о том, что случится в будущем, превращались в обычные воспоминания о прошлом, я мог сколько угодно призывать их по собственному желанию, что было невозможно с теми видениями, которые в жизнь еще не воплотились. Так было, например, с тем редким для Этры снегопадом: я отлично помнил это невероятное событие в жизни нашего города, однако все это привиделось мне задолго до того, как произошло на самом деле, и теперь время от времени воспоминание об этом возникало само собой, непроизвольно и мгновенно. Получался один снегопад — и три совершенно разных воспоминания о нем.
Отчасти особая радость, которую доставляло мне общение с сестрой, была связана именно с тем, что только ей одной я мог рассказать об этих странных видениях. Только с ней обсудить их смысл и значение, тем самым существенно уменьшая тот ужас, который они вызывали в моей душе. А Сэл, в свою очередь, только со мной могла поговорить о том, что творилось в лоне Семьи.
Теперь, когда Явен и Астано школу окончили, а Торм, получив освобождение от школьных занятий, стал обучаться военным искусствам, я видел в классе только младших детей Семьи и Сотур. Сотур по-прежнему посещала уроки Эверры и часто просто так приходила в класс или в библиотеку, чтобы там спокойно почитать. И довольно часто мы втроем, Сэлло, она и я, беседовали почти столь же непринужденно, как когда-то под звездным небом в Венте. Но столь же свободными мы больше уже никогда себя не чувствовали. Перестав быть детьми, мы вынуждены были считаться со своим положением в обществе. Кроме того, меня мучительно смущало некое чувство, которое я в последнее время испытывал к Сотур. Это была смесь целомудренного обожания — что я еще вполне мог оправдать — и страстного полового влечения, которого я до той поры никогда еще не испытывал, совершенно не понимал, воспринимая его со страхом и отвращением.
Страсть была запрещена. Целомудренное обожание было разрешено. Но я оказался слишком косноязычен (а порой от смущения и вовсе лишался дара речи), чтобы выразить свои чувства словами, так что изливал их в весьма дурных виршах, которые никогда Сотур не показывал. Однако самой Сотур не нужны были ни страсть, ни обожание. Ей нужна была наша старая дружба, ибо она чувствовала себя очень одинокой.
Ее ближайшей подругой всегда была Астано, но Астано сейчас вовсю готовили к свадьбе. Ходили слухи (так сказала мне Сэлло), что Астано выдадут за Коррика Белтомо Рунду, сына самого богатого и самого влиятельного сенатора Этры, которому наш Отец, Алтан Арка, и сам был обязан немалой долей своего влияния и власти. Сэлло говорила, что в «шелковых комнатах» только об этом и шепчутся. Коррик Рунда в армии никогда не служил и, по слухам, «якшался» с дурной компанией — богатыми молодыми людьми из числа «освобожденных» и отпрысками не слишком-то знатных семейств, которые вели весьма разгульную жизнь. Говорили также, что будущий жених Астано хорош собой, но склонен к полноте. Нам очень хотелось знать, какие чувства к этому Коррику испытывает наша нежная, красивая и храбрая Астано, действительно ли она хочет выйти за него замуж, а также насколько Отец и Мать Арка могут быть поколеблены в своем решении, если их дочь откажется от этого брака.
Что же касается Сотур, их сиротки-племянницы, то ее желания относительно замужества в расчет вообще не принимались. Ее все равно выдали бы за того, кого сочли бы «наилучшей партией». Такова судьба почти всех девушек в знатных Семьях, и, по-моему, она не слишком отличается от участи рабынь. Мысль о том, что мою слегка мрачноватую, нежноголосую Сотур отдадут какому-то чужому и равнодушному мужчине, который ее не любит и не понимает, приводила меня порой в состояние такой жгучей беспомощной ярости, что мне уже и самому хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Пусть она навсегда исчезнет из нашего Дома, зато я не буду вынужден каждый день видеть ее и стыдиться того, что я всего лишь раб, что мне только четырнадцать лет, что я способен лишь на то, чтобы писать глупые стишки и страстно мечтать коснуться ее, но так и не иметь этой возможности…
Сэлло, разумеется, знала о моих чувствах; да если б я даже и захотел что-нибудь скрыть от нее, то все равно не смог бы. Она знала, что на шее в крошечном мешочке я ношу тщательно свернутую записку, которую Сотур написала мне год назад, когда я болел лихорадкой: «Быстрее поправляйся, дорогой Гэвир, без тебя все стало скучным, словно пылью покрытым». Сэлло очень огорчало то, что мои страстные желания совершенно неосуществимы. Ей казалось страшно несправедливым то, что сама она обрела счастье и полное удовлетворение в любви, а мне было это запрещено даже в мечтах. Разумеется, и раньше возникала порой любовь между женщиной из благородного семейства и рабом, но все подобные истории всегда заканчивались весьма печально и означали для мужчины пытки или смерть, а для женщины если не смерть — во всяком случае, в наши дни, — то чудовищный публичный позор и полное забвение. Сэлло все пыталась найти в этих жестоких законах хоть какой-то смысл, понять, чем же они нас защищают, и старательно убеждала и меня, и себя, что они действительно нас защищают, но доказать, что они справедливы, все равно не могла, даже и притворяться не пыталась. «Справедливость в руках богов, — писал один старый поэт, — а в руках смертных лишь милосердие и меч». Я процитировал Сэл эту строчку, ей очень понравилось, и она потом часто повторяла эти слова. И при этом, по-моему, думала о Явене, своем добросердечном возлюбленном, своем герое, обладавшем и милосердием, и мечом.
Романтическая любовь и страстные мечты совершенно измучили меня. Только Сэлло служила мне утешением, да еще работа.
Эверра наконец позволил мне свободно пользоваться библиотекой Аркаманта, куда прежде мне даже входить не разрешалось, хоть я и подметал повсюду в доме. Дверь в библиотеку находилась в коридоре чуть дальше куполообразного святилища предков. Впервые переступив порог библиотеки, я испытал некий священный ужас, наверное не меньший, чем если б осмелился войти в святилище. Библиотека была небольшая, но хорошо освещенная благодаря высоким окнам с чистыми прозрачными стеклами. На полках имелось более двух сотен книг, тщательно подобранных и расставленных Эверрой; он же регулярно стирал с них пыль. В комнате пахло книгами — этот невнятный аромат некоторым людям кажется душным и пыльным, а некоторых, напротив, возбуждает. И еще там было очень тихо. До этого помещения почти никто никогда и не добирался, разве что подметали пол в коридоре; и в библиотеку тоже почти никто не входил, кроме Эверры, Сотур, Сэлло и меня.
Сотур давно уже упросила нашего учителя даровать им с Сэлло эту привилегию, а Сотур Эверра ни в чем отказать не мог. Она была единственной из старших детей Семьи, кто продолжил занятия в школе, ибо ни Явен, ни Астано больше уже не могли делать то, что им хочется. К тому же Сотур постоянно читала книги и сказала Эверре, что это он поселил у них с Сэл в душе «книжный и душевный голод», так что теперь просто не имеет права отказать им в утолении этого голода. Она объяснила ему, что Сэлло сходит с ума, слушая глупую болтовню обитательниц «шелковых комнат», а она, Сотур, страдает от дурацкой необходимости беседовать с напыщенными торговцами и необразованными политиками. В общем, с разрешения Отца и Матери Арка, прочитав девочкам массу нотаций относительно неразборчивости в подборе книг, Эверра выдал им обеим по ключу.
Однако, как ни тяжело было мне признаться в этом даже самому себе — а уж ни Сэлло, ни Сотур я и вовсе никогда об этом не говорил, — столь давнее желание свободно посещать нашу библиотеку принесло мне жестокоие разочарование. Оказалось, что более половины имевшихся там книг мне уже хорошо известны, а те, которых я еще не читал, которые издали выглядели столь таинственными и недосягаемыми в своих темных кожаных переплетах или в футлярах для свитков, оказались по большей части довольно скучными — это были юридические анналы, всевозможные компендиумы, бесчисленные сборники эпических поэм, созданных весьма посредственными авторами. Этим книгам было по крайней мере лет пятьдесят, а то и значительно больше, что составляло особую гордость Эверры. «Никакого современного мусора я в Аркаманте не допущу», — говорил он, и мне хотелось верить, что большая часть современных литературных произведений — это действительно мусор. Однако я убедился, что и это старье тоже зачастую самый настоящий мусор. Впрочем, Эверре я, разумеется, ничего такого не говорил.
И все же я очень полюбил нашу библиотеку; это было единственное место, где мы могли видеться с Сэлло и Сотур и где я мог оставаться наедине с самим собой. Для меня это было некое средоточие покоя; только здесь я мог полностью отдаться чтению своих любимых поэтов и великих историков, а также мечтам, что, может быть, и я когда-нибудь сумею внести в литературу свой вклад.
Стихи, которые я посвящал Сотур, хоть и были написаны «кровью сердца», получались неуклюжими и глупыми. И я понимал, что поэт из меня никакой, хотя поэзию очень любил, и история мне тоже очень нравилась — оба эти искусства придавали ясности в понимании смысла жизни и человеческих чувств, давали оценку бессмысленным, бесконечным и жестоким войнам людей друг с другом, а также многим прежним правителям и правительствам. Я чувствовал, что история мне, пожалуй, ближе, что именно она должна была стать для меня основным предметом. Я понимал, конечно, что мне нужно еще очень много учиться, но учение доставляло мне огромную радость. У меня были великие планы относительно тех книг, которые я, конечно же, напишу. Трудом всей моей жизни, решил я, будет соединение летописей и документов о жизни городов-государств в одну великую историю; и, написав эту книгу, я тоже стану великим и знаменитым. Я даже набросал несколько развернутых планов своего будущего труда; наброски получились довольно невежественные, чересчур честолюбивые, полные ошибок, но в общем не такие уж и глупые.
Больше всего я опасался, что кто-то уже написал задуманную мною историю городов-государств, а я об этом просто не знаю, потому что Эверра ни за что не желает покупать новые книги.
Однажды весной он с утра пораньше отправил меня через весь город в Белмант, Дом, столь же известный своей библиотекой и ученостью, как и наш. Я любил ходить туда. Тамошний учитель, Мимен, ближайший друг Эверры, был значительно моложе его. Они постоянно обменивались книгами и манускриптами, и чаще всего за ними посылали именно меня. Я выполнял эти поручения с радостью, поскольку это освобождало меня от необходимости слушать, как малыши нудно твердят алфавит, и давало возможность выбраться наконец из дома. Утреннее солнце так чудесно светило, что я выбрал самый длинный, кружной путь — через парк, где росли старые сикоморы и где Торм когда-то заставлял нас маршировать. Потом я не спеша шел по ведущим на юг улицам вдоль городской стены и наслаждался своей недолгой свободой. В Белманте Мимен встретил меня очень приветливо. Я ему нравился, и он частенько рассказывал мне о работах некоторых современных авторов и читал наизусть стихотворения Реттаки, Каспро и других, чьих имен Эверра даже слышать не хотел. Но книг этих писателей Мимен мне никогда не давал, зная, что Эверра запрещает их читать. В тот день мы с ним тоже немного побеседовали, но в основном о слухах, связанных с грядущей войной: ведь наш Явен, как и один из сыновей Семьи Бел, был в армии. Потом Мимен сказал, что ему пора возвращаться в класс, вручил мне целую охапку книг, и я отправился домой.
На этот раз я пошел прямиком через город, потому что книги оказались весьма тяжелыми. Я как раз пересекал Долгую улицу, когда услыхал крики на ее дальнем конце, выходившем к Речным воротам, и увидел там дым, — похоже, горел какой-то дом, а может, и не один, и клубы дыма вздымались все выше и становились все гуще. Люди бегом проносились мимо меня к Гробнице предков, к пожарищу или, наоборот, в обратном направлении. К горящим домам бежали, правда, в основном городские стражники, и они зачем-то на бегу выхватывали из ножен мечи. А я стоял и смотрел на них, вспоминая, что уже однажды видел все это. Затем в конце Долгой улицы появились пешие и конные воины под зелеными знаменами. На них налетела городская охрана, и завязалась битва, сопровождаемая громкими криками и звоном оружия. Я же застыл как памятник, не в силах сдвинуться с места, и тут увидел, что какой-то конь, лишившийся ездока, вырвался из схватки и галопом несется по улице прямо на меня, весь покрытый белыми хлопьями пены и потеками крови. Кровь текла у него из дыры, видневшейся там, где должен был быть глаз. Вдруг конь пронзительно заржал, и я наконец заставил себя отойти в сторону, а потом, пригнувшись, бросился бежать через площадь.
Нырнув в переулок между Гробницей предков и зданием Сената, я боковыми улочками добрался до Аркаманта и влетел в мужскую Хижину с криком: «Вторжение! Вражеские воины в городе!»
Я оказался первым, кто сообщил обитателям нашего Дома эту новость, посеяв среди них панику. Дело в том, что Аркамант отделен от остальной части города тихими площадями и широкими улицами. В других местах весть о вторжении распространилась значительно быстрее, так что, вполне возможно, к тому времени как Эннумер перестала наконец пронзительно причитать, городской страже с помощью воинов, которые в данный момент находились не в полку, уже удалось изгнать незваных гостей и оттеснить их за Речные ворота.
Кавалерийский отряд, расквартированный неподалеку от Скотного рынка, бросился в погоню и поймал сколько-то вражеских воинов на восточном берегу реки у моста, но основной части войска все же удалось уйти. Никто из наших воинов убит не был, хотя имелось несколько раненых. Никакого особого ущерба городу наглые захватчики также нанести не успели, если не считать нескольких сожженных сараев, крытых тростником, возле Речных ворот; но потрясение все же было огромным. Как среди бела дня вражеское войско смогло не только приблизиться к Этре, но и ворваться через Речные ворота на улицы города? И не являлся ли этот наглый налет просто сигналом того, что грядет полномасштабная атака со стороны Казикара, к которой Этра была совершенно не готова? И после того первого нападения все мы испытывали поистине невероятный стыд, гнев и страх, которые оказались не в силах подавить. Я, например, видел, как наш Отец, Алтан Арка, плачет, приказывая Торму во что бы то ни стало защитить Аркамант; сам же он должен был уйти на срочное заседание Сената.
Душа моя разрывалась от страстного желания помочь моей Семье, моему народу, Этре. Я мечтал вместе с нашим войском выйти на бой с врагом. Я помог Эверре собрать всех детей в спальне под присмотром Йеммер, а сам пошел в классную комнату и стал ждать дальнейших указаний, как и все остальные рабы. Мне очень хотелось быть в эту минуту рядом с Сэлло, однако ее и всех девушек заперли в «шелковых комнатах», куда рабам-мужчинам вход был запрещен. Эверра, седой, с серым от волнения лицом, сидел и в полном молчании что-то читал; я же нервно мерил шагами классную комнату. Весь огромный дом окутала странная затянувшаяся тишина. Так прошло несколько часов.
Наконец к дверям классной комнаты подошел Торм и, увидев меня, спросил:
— Что это вы здесь делаете?
— Ждем, пока нам скажут, чем мы могли бы быть полезны, Торм-ди, — вежливо ответил ему Эверра, поспешно вставая.
Торм никак на это не отреагировал и крикнул кому-то:
— Эй, тут еще двое! — И выбежал за дверь, так и не сказав Эверре ни слова.
В класс вошли двое молодых людей и велели нам следовать за ними. При себе у них были мечи, так что они наверняка были из благородных, хотя мы никого из них совершенно не знали. Они отвели нас через задний двор к Хижине, к дверям которой снаружи был прикреплен огромный засов. Я впервые заметил его; во всяком случае, я никогда прежде не видел, чтобы его задвигали. Молодые люди отодвинули засов, велели нам войти внутрь, и мы услышали, как засов с лязгом задвинулся у нас за спиной.
В Хижине оказались все рабы Аркаманта, мужчины разумеется. Даже личные слуги Алтана-ди, которые обычно даже спали у дверей его покоев, даже работники конюшни, даже Сим, наш главный конюх, который и жил, и ночевал в клетушке над стойлами лошадей. В Хижине стало буквально не протолкнуться, ведь обычно там собиралось не более половины всех ее обитателей, поскольку у многих и днем и ночью находились различные занятия и поручения, да и вообще многие приходили туда разве что переодеться или поспать. Там даже и топчанов-то для такой кучи народа не хватило бы, а сейчас и вовсе сесть было некуда. Многие так и остались стоять, возбужденно переговариваясь. В помещении было почти темно — оказалось, что не только двери заперты, но и окна наглухо закрыты ставнями. В спертом воздухе пахло потом и грязноватым постельным бельем.
Мой учитель стоял совершенно растерянный у самых дверей. Я подошел к нему и провел в его комнатушку, крошечный закуток, отделенный от общей спальни; в Хижине было четыре таких комнатушки, они предназначались для самых старых и самых ценных рабов. На лежанке Эверры уже устроились трое конюхов, но Сим тут же велел им убраться оттуда, заявив: «Это комната нашего учителя, нечего тут рассиживаться, вонючие конские яблоки!»
Я поблагодарил Сима, а сам Эверра был настолько потрясен, что даже говорить не мог. Я усадил его на кровать, и он сумел наконец сказать мне, что чувствует себя нормально и хотел бы отдохнуть. Я оставил его и пошел послушать, что говорят другие рабы. Сперва, когда нас всех загнали в Хижину, слышалось немало криков возмущения и протеста, но постепенно эти крики смолкли. Кто-то из старших мужчин объяснил, что в этом нет ничего особенного, что это отнюдь не наказание, а простое правило, которое начинает действовать, когда возникает угроза нападения: в таких случаях всех рабов-мужчин где-нибудь прячут и запирают.
— Подальше от опасности, — прибавил старый Фелл.
— Подальше от опасности? — возмутился один из камердинеров Алтана-ди. — А что, если враг сумеет снова прорваться? Что, если начнутся пожары? Мы же поджаримся тут, как пирожки в духовке!
— Заткни свою вонючую пасть, — тут же посоветовали ему.
— А кто за нашими лошадьми-то смотреть будет? — спросил кто-то из конюхов. Его поддержали:
— Почему они нам не доверяют? Что мы такого сделали? Разве что всю жизнь горб на них гнули!
— Да и с какой стати они нам доверять станут, если мы для них все равно что вещи?
— Нет, я все-таки хочу знать: кто будет ухаживать за нашими лошадьми?
В общем, подобные споры все продолжались, то стихая, то вновь разгораясь. Кое-кто из мальчиков учился у меня в школе, и эти ребята старались держаться поближе ко мне — я думаю, скорее по привычке. Мне стало скучно; монотонным спорам не было конца, и я наконец не выдержал и предложил:
— Вот что, урок, в конце концов, мы отлично можем провести и здесь. Пепа, начинай декламировать «Мост через Нисас». — Мы как раз разучивали с ними эту несколько монотонную балладу, и она им очень нравилась.
Пепа, очень хороший ученик, тут же смутился; ему неловко было декламировать стихи в толпе взрослых мужчин, и я, чтобы подбодрить его, сам произнес первую строчку:
— «У стен высоких Этры…» Ну же, Пепа, продолжай! — Он тут же подхватил, и очень скоро все мальчики по очереди повторяли нараспев прекрасные строки баллады; один начинал, второй подхватывал — в точности как мы это делали в классе. Ралли пронзительно чистым, точно звук трубы, голосом смело пропел:
Неужто ж нам, как войску Морвы,
Перед врагом бежать позорно?
Нет, отстоим мы нашу Этру,
Не посрамим военной славы предков!
И я вдруг заметил, что люди вокруг нас притихли и слушают. Кое-кто вспомнил, что и сам когда-то ходил в школу; а многие слышали эти стихи впервые, но внимали им без насмешливых улыбок, явно тронутые описываемыми в балладе событиями и призывом мужественно защищать родной город. Когда один из мальчиков запнулся, двое каких-то взрослых мужчин подхватили полузабытые строки, которые и они когда-то учили в классе у Эверры, а может, у того учителя, что был до Эверры. Завершив начатую строфу, они словно передали эстафету следующему мальчику, а когда отзвучал впечатляющий финал поэмы, послышались одобрительные возгласы, поздравления в адрес учеников и первый смех за весь этот день.
— Хорошая песня! — похвалил нас конюх Сим. — Теперь давайте еще что-нибудь этакое! — И я заметил, что Эверра стоит в дверях своей комнатушки и очень внимательно слушает. Выглядел он каким-то очень хрупким, старым и седым.
Мы продекламировали одну из баллад Феррио, которая нашим слушателям тоже очень понравилась, — теперь уже слушали почти все. Впрочем, «Мост через Нисас» явно вызвал наибольшее одобрение.
— Давайте еще разок этот «Мост», — сказал кто-то и, вытащив вперед одного из мальчиков, подсказал ему начало: — «У стен высоких Этры…»
К вечеру многие в Хижине уже знали эту балладу наизусть, и на помощь им пришла та способность быстро все запоминать, которую мы часто теряем, научившись читать и писать, и взрослые мужчины в унисон с учениками школы хором ревели знакомые слова.
Порой, правда, они добавляли такие четверостишия, от которых у Феррио волосы бы на голове встали дыбом. Впрочем, сквернословам тут же затыкали рот: «А ну прекратите непристойности! Здесь дети!» И эти взрослые люди просили прощения у Эверры. Вообще большая часть взрослых рабов испытывала к нашему учителю неподдельное уважение, а сейчас — еще и желание защитить его. Эверра хоть и был одним из них, но все-таки не совсем таким же, как они; его и хозяева очень ценили — как же, образованный человек, который знает куда больше, чем многие высокорожденные! Рабы им гордились. Постепенно в Хижине стал устанавливаться порядок, за которым следили в основном Сим и Меттер, как бы взявшие на себя ответственность за соблюдение правил поведения и принятие решений. С Эверрой они, разумеется, советовались, но по большей части все же оберегали его и держали в стороне. И мне повезло: ведь я был его учеником и последователем, а потому мне разрешили спать в его клетушке на полу, а не в чудовищной тесноте большой комнаты, где к тому же ужасно воняло уборной, находившейся рядом, за дощатой стеной.
Хуже всего для большинства из нас было то, что нас держали в полном неведении относительно того, что происходило снаружи, относительно судьбы нашего города и нашей судьбы. Еду нам готовили на общей кухне, и дважды в день кто-то из кухарок приносил ее к дверям Хижины. Тогда отодвигали засов на двери, саму дверь ненадолго распахивали настежь, и женщину встречал рев приветствий и непристойных предложений. Затем все это смолкало, и сыпались вопросы: идут ли бои? напал на нас Казикар или нет? удалось ли вражескому войску пробиться в город? Разумеется, на большую часть этих вопросов у наших кухарок ответа не было, а вот слухов хоть отбавляй. Впрочем, болтать с нами женщинам особенно не позволяли и очень быстро прогоняли обратно в дом, а мы за обедом все продолжали перемалывать вместе с хлебом и мясом эти жалкие сведения и слухи, пытаясь извлечь из них какое-то рациональное зерно. В основном все соглашались в том, что у стен города, скорее всего у Речных ворот, ведутся бои, но атакующей стороне в город прорваться не удалось, хотя и отогнать войско Казикара от наших стен окончательно этранцам тоже пока не удается.
И когда на четвертый день нас наконец выпустили из заточения, оказалось, что именно так все и было. Войска, занимавшиеся военной подготовкой в лагерях, были поспешно переброшены в город из его южных окрестностей и присоединились к кавалерии, находившейся неподалеку. Первую мощную атаку им удалось отбить, и теперь кавалерия преследовала войско Казикара уже за пределами Этры. Городская стража сумела вовремя отступить под прикрытие городских стен и стойко удерживала их, несмотря на мощный натиск вражеских отрядов. Впрочем, авангард Казикара не имел при себе никаких осадных орудий, явно рассчитывая на внезапность массированной атаки на главные городские ворота, через которые легко было проникнуть в самый центр города. В этом и заключалась их тактическая ошибка. Если бы командир вражеского войска, видимо страстно жаждавший славы, не предпринял столь плохо подготовленной атаки, которую городской страже удалось не только замедлить, но и остановить, у нас действительно могло бы не хватить
времени предупредить армию и поднять горожан по тревоге, и Этра вполне могла быть захвачена и сожжена.
А нас еще и заперли в Хижине… Впрочем, теперь уже не имело ни малейшего смысла размышлять на эту тему. Мы вышли на свободу, и радость освобождения была столь всепоглощающей, что горький осадок почти не ощущался.
В тот вечер все, кто смог, выбежали на улицы, чтобы приветствовать первые отряды, возвращавшиеся по мосту через реку Нисас. Даже Сэл украдкой выскользнула из «шелковых комнат», переоделась в мужскую одежду и вместе со мной отправилась к Речным воротам встречать наши войска. Это был совершенно безумный поступок, ибо «подаренной» девушке, осмелившейся выйти на улицы города, грозило ужасное наказание. Но в ту ночь всюду царили радость, всепрощение и вседозволенность; мы точно купались в этом потоке всеобщего ликования, от всего сердца приветствуя наших воинов. В диком мерцании факельных огней мы заметили среди военных и Торма, коренастого, мрачного и воинственного, узнав его по странной походке и привычке размахивать руками. Сэлло тут же опустила голову, скрывая лицо, потому что встреча с Тормом не сулила нам обоим ничего хорошего и вряд ли Торм промолчал бы, увидев подаренную своему брату девушку болтающейся по улицам. Мы с Сэл тут же бросились назад к Аркаманту, смеясь и задыхаясь, и по тихим темным улочкам и дворам быстро добрались до дому.
На следующий день мы услышали от Сэл — а она узнала это от самой Матери Фалимер, — что полк Явена собираются вернуть для охраны города. Сэлло прямо-таки светилась от радости.
— Он возвращается! И будь что будет, мне все равно! Только бы он был со мной! — все повторяла она.
Но, как оказалось, это была последняя хорошая новость, дошедшая до нас.
В Казикаре отлично знали, что войска Этры заняты борьбой с вооруженными бандами из Морвы и Оска, а потому и послали тот первый, довольно большой отряд, чтобы он попытался, совершив молниеносную атаку, внезапно захватить город. Но эта попытка провалилась. Отброшенные защитниками города, воины Казикара поспешно отступили, но всего лишь к границам наших владений, где уже разместилась вся огромная вражеская армия, преодолевшая и довольно большое расстояние от самого Казикара, великого города-государства на реке Морр, и приграничные горы.
В Этре появилось множество беженцев-селян, охваченных паникой; многие явились в город с пустыми руками, другие же, наоборот, волокли с собой все, что могли, погрузив свое имущество в фургоны и повозки, а перед собой гнали еще и скот. Но уже на третий день после того радостного вечера, когда мы встречали наши войска, городские ворота были заперты. Этра оказалась окружена вражескими войсками со всех сторон.
Стоя на стенах, мы видели, как воины Казикара методично воздвигают один лагерь за другим; волокут бревна, копают оборонительные рвы на случай атаки противника. Теперь они были явно хорошо подготовлены к долгой осаде. Среди простых палаток высились расшитые шатры офицеров; то и дело прибывали повозки, доверху нагруженные зерном и фуражом; были построены просторные загоны для коров и овец, захваченных по дороге в деревнях и на фермах, так что мясом войско Казикара себя обеспечило надолго. У нас на глазах вокруг Этры рос еще один город, город мечей.
Сперва никто даже не сомневался в том, что вскоре с юга подойдет наша армия и попросту сметет захватчиков. Надежда на это умирала с трудом. Прошло несколько недель, прежде чем мы увидели, как первые этранские отряды стали изгонять казикарцев с насиженных, укрепленных рвами позиций. Мы радостно приветствовали наших воинов, стреляли зажженными стрелами по палаточному городу, дабы отвлечь врага. Однако этранцам все время приходилось отступать, поскольку захватчики превосходили их численностью раз в десять. Нас мучил вопрос: где же те мощные полки, что отправились отгонять от наших границ морванов и осканцев? Что же происходит на юге? По городу поползли страшные слухи, которым невозможно было не верить. Ведь мы были отрезаны от всего мира и почти никаких вестей не имели.
В первое же утро осады Сенат направил депутацию в башню над Речными воротами, желая предложить противнику вступить в переговоры и объяснить причины столь беспричинной и наглой агрессии. Однако генералы Казикара от переговоров отказались и позволили своим солдатам выкрикивать оскорбления и насмешки в адрес наших сенаторов. Одним из этих сенаторов был Алтан Арка. Я видел, как он вернулся домой, черный от гнева и унижения.
На следующий день Сенат провозгласил одного из своих членов диктатором Этры; им стал Канок Эреко Бахар. Это был древний титул, о котором вспоминали лишь в случае крайней необходимости, присваивая его временному верховному командующему. И всей нашей жизнью сразу стали править новые правила и указы. Прежде всего, ввели строгий учет продовольствия: все запасы провизии были свезены из домов и собраны в просторных общественных складах на рынке; продукты выдавались с поистине ритуальной четкостью и пунктуальностью; пытавшихся утаить продовольствие повесили на площади перед Гробницей предков. Все мужское население от двенадцати до восьмидесяти лет было записано в оборонительные отряды, которыми командовала городская стража. Что же касается рабов-мужчин, то в начале осады многих снова позапирали в амбарах и мужских Хижинах. Нам, например, Отец Арка попросту запретил выходить по ночам за пределы нашего двора; кстати, точно такой же строжайший комендантский час был вскоре введен приказом диктатора и во всем городе. Было очевидно, что рабы-мужчины, крайне необходимые для самых различных работ, стали совершенно бесполезными, поскольку их запирают, точно телят, когда хотят, чтобы животные поскорее набрали вес. И диктатор Бахар издал следующий декрет: рабы по-прежнему остаются собственностью своего хозяина, однако сейчас в связи с чрезвычайным положением они поступают в распоряжение города и Сенат может затребовать группу рабов из любого Дома и присоединить ее к гражданской трудовой армии, проживающей в казармах. Раб, получивший такой приказ, немедленно переезжает в казармы и выполняет ту или иную работу под командованием нашего ветерана, генерала Хастера.
Впервые меня послали в казармы в июне, после почти двух месяцев осады. Я был даже рад этому; мне хотелось быть полезным своему городу и своему народу, и пребывание в классной комнате Аркаманта казалось мне постыдным, слишком уж далеки были там повседневные страхи и заботы Этры. Я страстно мечтал уйти и присоединиться к взрослым мужчинам и был настроен чрезвычайно патриотично, как и большинство обитателей Аркаманта да и жителей города в целом. Когда миновали первые ужасы и потрясения осадного положения, мы обнаружили, что вполне можем жить и в весьма суровых условиях, по строгим правилам, при минимуме пищи, терзаемые бесконечной тревогой и со всех сторон окруженные врагом, стремившимся сокрушить нас если не огнем и мечом, то голодом. Оказалось, что и в такой ситуации можно не просто жить, но жить хорошо, не теряя надежды и чувства локтя.
Сэл пришла ко мне вечером накануне того дня, когда я должен был отправиться в казармы гражданской армии. Она была беременна, но это ничуть ее не портило: глаза горели, смуглая кожа так и светилась. Мы, разумеется, давно уже не получали от Явена никаких известий, но Сэлло была уверена: если с ним что-нибудь случится, она непременно сразу это почувствует, так что пока у него все хорошо.
— Вот ты всегда все помнишь, — сказала она, улыбаясь и обнимая меня. Мы с ней сидели на школьной скамье, как когда-то в детстве, и она, помолчав, спросила: — А помнишь, ты мне рассказывал об одном своем видении — ты еще часто его потом вспоминал? Оно ведь было в точности похоже на самое начало этой войны, на тот самый первый налет. А ты это видел задолго до этого… Я вот ничего такого не вижу. Зато я кое-что понимаю. Я в этом уверена. Помнишь, старая Гамми говорила нам: «У людей с Болот есть странные способности…»? Сэлло засмеялась и ласково подтолкнула меня.
— Ох, Сэл, — сказал я, — а ты никогда не думала о том, что хорошо было бы попасть туда, на эти Болота? Увидеть места, откуда мы родом?
— Нет. — Она помотала головой и снова засмеялась. — Я хочу быть здесь, с Явеном-ди, и чтобы он почаще бывал дома, и чтобы не было никакой осады и было сколько угодно еды!.. А вот тебе… Может быть, тебе все же удастся туда поехать, когда кончится осада. Вот станешь ты ученым, начнешь путешествовать… Для начала тебе, наверное, разрешат покупать в других городах книги, как, например, Мимену. Он ведь часто ездит в Пагади, верно? Вот и ты сможешь путешествовать по всему Западному побережью и на Великие Болота сможешь поехать. Там наверняка у всех такие же длинные носы, как у тебя. — Она погладила меня по носу. — Или как у аистов. Ах ты, мой Клюворыл! Вот увидишь, все так и будет!
Сотур тоже зашла ко мне накануне моей отправки в казармы, и это произвело на меня столь сильное впечатление, что я совершенно утратил дар речи. Она вложила мне в руку маленький кожаный кошелечек и сказала, улыбаясь:
— Это, возможно, тебе пригодится. Ничего, Гэвир, скоро мы опять будем свободны!
Да, разумеется, освобождение нашего города означало и нашу свободу, хоть мы и оставались рабами.
Однако в казармах гражданской армии царили, как оказалось, совсем иные настроения. Да и жизнь там шла иначе. Во всяком случае, я очень скоро понял, насколько по-детски глупым было мое стремление попасть туда. Ведь после Аркаманта я был совершенно не подготовлен к тяжелой работе и скотскому существованию общественного раба. Группа, к которой меня присоединили, должна была разбирать старый склад и относить строительный камень к Западным воротам, где его использовали для восстановления башни и стены. Эти каменные глыбы весили, наверное, не меньше полутонны, и для подобной работы, разумеется, требовалось определенное умение, которым никто из нас не обладал. Не было и соответствующих инструментов, их вообще приходилось выдумывать самим. Мы работали с рассвета до темноты. Пропитание у нас было таким же, как и в Аркаманте, но для той жизни этого вполне хватало, а сейчас всем нам постоянно хотелось есть. Староста нашего отряда, Коут, славился невероятной физической силой и почти полной нечувствительностью к боли. А начальником Коута и правой рукой Хастера — Хастер вообще был здесь самым главным — оказался Хоуби.
Войдя в казарму, первым я увидел именно Хоуби. Он здорово окреп за последнее время, тело его так и бугрилось мускулами. Голову он теперь чисто брил, что делало его сходство с Алтаном-ди и Тормом менее очевидным. Но старый шрам, пересекавший ему бровь, и свирепый взгляд остались прежними. Я поздоровался и хотел даже немного поговорить с ним, но он лишь глянул на меня с нескрываемой ненавистью и презрением и отвернулся.
Он ни разу не заговорил со мной в течение тех двух месяцев, что я провел в казармах. Именно он определил меня в тот отряд, который должен был разбирать и таскать камни, в «каменную бригаду», как нас называли, и старался любыми способами сделать мою жизнь как можно тяжелее. Власти у него для этого хватало. И кое-кто, желая выслужиться перед начальством, тоже пытался мной помыкать. Другие же, напротив, старались по возможности защитить меня от происков Хоуби и постоянно спрашивали, что, собственно, «наш командир» против меня имеет. Я неизменно отвечал, что не знаю; возможно, он просто считает меня виноватым в том, что когда-то в детстве во время игры получил этот шрам.
Хастер сразу потребовал, чтобы мы сдали ему все наличные деньги, потому что в казарме кое-кто вполне мог и за грош соседа прикончить, если б узнал, что у него этот грош имеется. Мне страшно не хотелось расставаться с подарком Сотур — десятью бронзовыми «орлами» в кожаном кошелечке; у меня ведь никогда прежде не было собственных денег. Хастер был с нами честен — по своему, конечно, — и сразу сказал, что пятую часть каждой суммы, оставленной ему на хранение, возьмет себе; однако остальное выдавал по первому же требованию, хоть и мелкими монетами. В городе, естественно, процветал черный продовольственный рынок — в Аркаманте я о таких вещах и понятия не имел, — и я вскоре отлично знал, куда надо идти, чтобы купить дробленое зерно или вяленое мясо, чтобы насытить свое вечно голодное брюхо. За продукты черные торговцы вымогали у людей последние гроши.
Денежки, подаренные Сотур, подошли к концу гораздо раньше, чем закончился мой срок службы в гражданской армии, и последние полмесяца в «каменной бригаде» были самыми тяжелыми. Я даже не очень хорошо их помню, потому что голод и чудовищная усталость довели меня до того, что прежние видения, или «воспоминания», стали являться мне все чаще и чаще и я иногда как бы переходил из одного видения в другое, не успевая прийти в себя. Из тех райских мест с шелковистой синей водой и зелеными тростниками я перекочевывал прямо на вонючую казарменную постель и потом долго лежал без сна, глядя на низкий каменный свод, нависавший прямо над моим лицом (видимо, это был свод пещеры из другого моего видения), а потом вдруг оказывался у окна неизвестного мне дома и смотрел на белоснежную гору по ту сторону сверкающего под солнцем пролива; а потом это чудное видение сменялось жестокой действительностью — и мне вновь приходилось ворочать тяжеленные каменные глыбы под палящим летним солнцем. Меня стали все чаще возвращать к реальной действительности свирепые жалящие укусы хлыста, которым Коут нещадно меня охаживал. «Приди в себя, дубина! И нечего на меня глаза пялить!» — орал он, а я тщетно пытался понять, где нахожусь и что мне надо делать. Мои сотоварищи по команде ругали меня, считая, что я отлыниваю от работы, подвожу их, а порой даже подвергаю опасности их жизнь. Позже я узнал, что Коут давно уже просил Хоуби убрать меня из «каменной бригады», но тот отказался. Наконец Коут через его голову обратился прямиком к Хастеру, который посмотрел, как я работаю, и сказал: «Да уж, от него и впрямь никакого толку. Отправь-ка его домой».
Так я получил освобождение. На то, чтобы добраться до дому, мне потребовался целый час. Приходилось присаживаться чуть ли не на каждом углу, чтобы перевести дыхание, собраться с силами и попытаться отогнать от себя те «воспоминания», те голоса, и странные огни, и лица, которые постоянно мелькали передо мной. Наконец сквозь ветви какого-то неведомого леса я увидел фонтан на залитой солнцем площади и широкий фасад Аркаманта, но, чтобы пересечь знакомую площадь, мне пришлось сперва нырнуть в темную зловонную пещеру. Когда же я добрался до нужной мне двери и постучался, открыла мне Эннумер.
— Уходи, нечего нам тебе подать! — рявкнула она и попыталась закрыть дверь. Говорить я не мог, и она, приглядевшись внимательнее, узнала меня и разразилась слезами.
Меня отнесли в больницу и уложили в постель. Старый Ремен растер камфарной мазью рубцы от ударов хлыстом и напоил меня отваром из кошачьей мяты. Затем пришла моя сестра; сев у постели и роняя слезы, она обнимала меня, гладила по голове, баюкала, а потом, немного успокоившись, стала слегка надо мной подшучивать. Я хорошо помнил, как ко мне в больницу приходила тогда Мать Фалимер; эти воспоминания были настолько яркими, что сейчас казались мне чем-то вроде предвидений. И я с благодарностью сказал сестре:
— Как хорошо, что я уже дома!
— Ну конечно хорошо! А теперь поспи, тебе нужно отдохнуть, — сказала Сэл своим нежным, чуть хрипловатым голосом. — А когда проснешься, то поймешь, что ты по-прежнему дома и никуда отсюда не денешься, милый ты мой Клюворыл. — И я уснул.
Как только я немного поправился — а отдых и нормальная еда, хотя еды-то как раз стало, увы, совсем уж мало, сделали свое доброе дело, — я сразу же отправился в классную комнату и приступил к своим прежним обязанностям, словно никуда отсюда и не уходил.
Когда же в августе меня снова призвали в ряды гражданской армии, Эверра был настолько этим огорчен, что даже осмелился пойти к Алтану-ди и выразить свой протест. Вернувшись, он сказал мне:
— Да будет вечно благословен Дом Арка, Гэвир! Отец наш заботится о детях своих даже в дни войны и голода. Алтан-ди объяснил мне, что под началом Хастера ты больше работать не будешь и жить в казарме тебе тоже больше не придется: тебе предстоит совсем другая работа, с людьми образованными. Вам нужно будет перенести свитки со священными пророчествами и древние летописи из старого хранилища, что у западной стены, в подвалы Гробницы предков. Там этим драгоценным документам будут не страшны ни огонь, ни вода; там их никто не найдет даже в случае вторжения. Священной Коллегии Жрецов требуются для выполнения этой задачи исключительно умные и образованные люди, ибо необходимо соблюсти все возможные предосторожности и все тонкости соответствующих ритуалов. Эта работа действительно требует чрезвычайной аккуратности, однако она не будет слишком тяжелой. Это большая честь для Аркаманта, что выбрали именно тебя! — Эверра, по-моему, даже слегка мне завидовал, страстно мечтая собственными глазами увидеть все эти древние документы и рукописи.
Я тоже обрадовался; хорошо было бы на какое-то время забыть о своих учительских обязанностях, хотя меня несколько тревожила, скажем, проблема еды. Кто его знает, думал я, как эти жрецы будут нас кормить? Теперь все в городе только и думали что о еде. В Аркаманте никогда особых запасов не водилось, а городские кладовые были уже практически истощены; в относительном достатке имелось только зерно. Отец и Мать Арка являли собой пример терпеливого воздержания; они неусыпно и строго следили за тем, что делается на кухне, и еда в доме, хоть ее и было очень мало, всегда распределялась по справедливости. Я с ужасом думал о том, что снова придется вернуться туда, где существуют всевозможные любимчики, где царствуют несправедливость и жестокость, где из-за пищи дерутся насмерть, где голодных бедолаг вовсю обманывают и обвешивают торговцы с черного рынка. Но ослушаться приказа я не мог и вскоре отправился в ту часть здания Священной Коллегии Жрецов, которая была отведена под жилище рабов. Во время первой же трапезы нам подали наваристый куриный бульон с сочным ячменем. Такой еды я не пробовал уже несколько месяцев и сразу понял, что мне здорово повезло.
Полдюжины тамошних рабов были все людьми пожилыми, так что жрецы просили прислать им помощников помоложе и из таких Домов, как Арка, Эрре и Бел, где, как известно, имелись и вполне образованные рабы. Например, я страшно обрадовался, увидев среди них Мимена из Белманта, доброго приятеля Эверры. Мимен привел с собой троих своих учеников. Затем там было двое рабов из Эрреманта, оба лет сорока; их звали Таддер и Йентер. Я о них и раньше слышал от Эверры, который ворчливо говорил о них с неким странным подозрительным восхищением: «Очень образованные, но какие-то несерьезные, нет, недостаточно серьезные!» Я понимал, что он имеет в виду: видимо, они читали «эти современные книги»; «современными» Эверра, как известно, называл все книги, написанные в последние сто или двести лет. И я оказался прав. Когда мы в тот вечер отправились спать — а в спальне было очень тесно, поскольку нам, тринадцати, пришлось как-то разместиться там, где прежде спали шестеро, но зато было тепло, светло и в общем вполне уютно, — то первое, что я увидел у кровати одного из моих новых знакомых, были «Космологии» Оррека Каспро. Эверра как-то раза два упоминал эту поэму, но таким тоном, каким врач упоминает об ужасной, смертельно опасной и страшно заразной болезни.
Таддер, сухолицый мужчина с острым взглядом, глаза которого словно прятались под густыми черными бровями, заметил мое изумление и спросил:
— Ты что, никогда этого не читал, парень? — У него был говор северянина, и в речи встречались порой незнакомые мне обороты.
Я покачал головой.
— Так возьми. — И Таддер протянул мне книгу. — Ознакомься хотя бы!
Я растерялся, не зная, как поступить. И невольно глянул в сторону Мимена, словно тот мог донести Эверре, что я посмотрел на запретную книгу.
— Представляешь, Эверра им не разрешает читать новых поэтов, — сказал Мимен, обращаясь к Таддеру. — Да и вообще никого со времен Трудека. Может, Каспро — это немного чересчур для начала?
— Нисколько, — возразил северянин. — Тебе, паренек, сколько? Четырнадцать? Пятнадцать? В самый раз прочесть Каспро и восхититься его стихами. Ну вот, например, знаешь ты эту его песню? — И Таддер запел приятным чистым тенором: — «Как во тьме ночи зимней…»
— Эй, эй, вы там, потише! — проворчал Йентер, второй человек из Эрреманта. — Не стоит, братцы, в первую же ночь гусей дразнить!
— Это что же, тот самый гимн, который Каспро написал? — спросил старший из местных рабов, пожилой мужчина с тихим голосом и повадками безусловного вожака. — Мне, к сожалению, ни разу не довелось услышать, как его поют.
— Да, в общем, в некоторых местах за пение этого гимна могут и повесить, Реба-ди, — с улыбкой заметил Йентер.
— Только не здесь, — сказал Реба. — Продолжай, пожалуйста. Мне бы очень хотелось его послушать.
Таддер и Йентер быстро обменялись взглядами, и Таддер запел:
Как во тьме ночи зимней
Глаза наши света жаждут,
Как в оковах смертного хлада
Наше сердце к теплу стремится,
Так, ослепнув, шевельнуться не смея,
К тебе одной наши души взывают:
Стань нам светом, огнем и жизнью,
Долгожданная наша свобода!
Красота его голоса и этот мягкий, но неожиданный прыжок мелодии на последних словах настолько потрясли меня, что я чуть не заплакал.
Йентер заметил это и сказал:
— Ага, ты только посмотри, Таддер, что ты с мальчиком сделал. Испортил ребенка одним-единственным стихотворением!
— Вот-вот, Эверра никогда мне этого не простит! — рассмеялся Мимен.
— Спойте еще разок, Таддер-ди, пожалуйста! — попросил один из учеников Мимена и быстро глянул на Ребу: разрешит ли он? Реба молча кивнул, и Таддер снова запел, но на этот раз к нему присоединилось еще несколько голосов. И я вдруг понял, что уже слышал эту мелодию, точнее, отдельные ее фрагменты, те несколько нот, которые в казарме гражданской армии некоторые из рабов то и дело насвистывали, точно подавая друг другу некий сигнал.
— Ну все, спели — и довольно, — тихо, но очень твердо сказал старший. — Или вы хозяев разбудить хотите?
— Ох, вот уж нет! — вздохнул Таддер. — Чего не хотим, того не хотим.
Глава 6
Работать с этими людьми оказалось настолько же приятно, насколько ужасно было работать в «каменной бригаде». Порой, правда, приходилось поднимать и переносить огромные тяжелые сундуки и ящики, полные книг и документов, однако мы подходили к работе с умом, не бросались ворочать тяжести с нетерпеливой яростью; и самое главное, друг к другу тоже относились терпеливо и с уважением. Наиболее трудную работу мы старались распределить по справедливости. Да и подбадривали нас не свист кнута и не сердитые окрики, а шутки и неспешные беседы прямо за разборкой и укладыванием манускриптов и бумаг. Мы разговаривали и об этих древних свитках, и о непрекращающейся осаде нашего города, и о последней огневой атаке — в общем, обо всем, что происходит или происходило под солнцем. Я получил немало дополнительных знаний, просто работая вместе с этими людьми, и прекрасно понимал это. Но очень многое из того, о чем они говорили между собой, вызывало в моей душе неясную тревогу.
Пока мы работали вместе с Ребой и другими здешними рабами, беседы наши обычно носили нейтральный характер. Но большую часть дня жрецы и их рабы были заняты отправлением ежедневных ритуалов в Гробнице предков и Сенате, и вскоре Реба, убедившись, что нам можно полностью доверять и мы все сделаем с величайшей осторожностью и вниманием, стал оставлять нас без присмотра. Так что, спустившись в старое хранилище у западной стены, мы, семеро рабов, были предоставлены самим себе, и здесь, в подземелье древнего храма, за толстыми стенами, никто нас услышать не мог. И вот здесь, пока мы прикидывали, как лучше применить свои небольшие силы, как вытащить и перенести подгнившие сундуки и хрупкие свитки, не повредив их, и начиналось самое интересное. Здесь Мимен, Таддер и Йентер вели такие беседы, каких я еще ни разу в жизни не слышал. Теперь я понимал, почему Эверра считает, что современные авторы оказывают на людей «дурное влияние». Мои новые товарищи постоянно цитировали Дениоса, Каспро, Реттаку и других «новых» поэтов и философов, о которых я никогда прежде даже не слышал. И все цитируемые ими стихи, хоть они и были поистине прекрасны, носили критический, взрывной, мятежный характер, были полны яростных эмоций — боли, гнева, неудовлетворенного желания.
Меня это чрезвычайно смущало. В «каменной бригаде», где я работал прежде, царили жестокие нравы, но тем людям и в голову не пришло бы ставить под вопрос свое положение в обществе; они, скорее всего, сочли бы детским и вопрос о том, почему у одного человека есть власть, а у другого ее нет совсем. Неужели, думал я, то общество, которое оставили нам в наследство наши предки, о котором позаботились и судьба, и боги, можно в мгновение ока полностью переменить, стоит только захотеть? Меня окружали сейчас люди куда более образованные и воспитанные, чем большинство высокорожденных жителей Этры, и куда более честные и тактичные в повседневной жизни, чем они; однако в своих разговорах и мыслях они проявляли просто невероятную, прямо-таки бесстыдную неверность по отношению к своим Домам и самой Этре, осажденной сейчас врагами. Они безо всякого уважения говорили о своих хозяевах, презрительно отзывались об их ошибках и просчетах. Они не испытывали ни малейшей гордости по поводу того, скольких солдат поставил в армию их Дом. Они критиковали даже моральный облик самих сенаторов! Таддер и Йентер, например, и вовсе считали, что, возможно, некоторые сенаторы, вступив с Казикаром в тайный и преступный сговор, намеренно отправили большую часть наших войск на юг и тем самым расчистили Казикару подступы к Этре.
Я целыми днями слушал подобные рассуждения, но сам предпочитал помалкивать, хотя в душе моей росли гнев и протест. Когда Таддер, который даже и этранцем-то по рождению не был и прибыл к нам с севера, из Азиона, взялся рассуждать о падении Этры, но не как о страшном несчастье, а как об одной из возможностей переменить наше будущее, я не смог больше сдерживаться и буквально набросился на него. Не знаю, что уж я там сказал, — я смутно помню, как с яростным гневом обвинял его в безверии, в предательской готовности разрушить наш город изнутри, в то время как враг находится у самых его стен…
Тут вмешались двое других юношей, ученики Мимена, и принялись осыпать меня презрительными насмешками, но Таддер остановил их.
— Гэвир, — сказал он, — извини, если я тебя обидел. Я уважаю твою верность родному городу. Но прошу, прими во внимание и то, что я тоже храню верность, только не тому Дому, который меня купил, и не тому городу, который использует мой труд. Я верен своему народу, таким же, как я, простым людям. И что бы я там ни говорил, я никогда не стану подбивать кого-то из рабов к мятежу! Я знаю, к чему это ведет. Так что пусть тебе подобные мысли даже в голову не приходят.
Ошеломленный его извинениями и его искренностью, устыдившись собственной несдержанности, я совсем смешался, отступил, и мы, как ни в чем не бывало, продолжили заниматься своей работой. Ученики Мимена, правда, всячески меня избегали, презрительно поглядывали в мою сторону и разговаривать со мной не желали, но старшие мужчины обращались со мной точно так же, как и прежде. На следующий день, когда мы с Йентером везли в подвал Гробницы предков один из древних сундуков, погрузив его на маленькую ручную тележку, которую сами же и соорудили для перевозки наиболее хрупких реликвий, он успел рассказать мне историю Таддера. Рожденный свободным в одной из северных деревень, Таддер еще совсем мальчишкой был взят в плен вооруженными налетчиками и продан в рабство — в какую-то семью старинного города Азиона, где и получил образование. А когда ему было лет двадцать, в Азионе вспыхнуло восстание рабов, которое жесточайшим образом подавили. Тогда погибли сотни рабов, женщин и мужчин, а каждого подозреваемого в бунте клеймили каленым железом.
— Ты же видел его руки, — сказал Йентер.
Я действительно видел эти страшные шрамы и еще подумал тогда, что это, наверное, следы пожара или несчастного случая.
— Когда Таддер говорит «мой народ», — пояснил мне Йентер, — то имеет в виду не какое-то отдельное племя, или город, или Семью. Он имеет в виду всех нас, тебя и меня.
Я по-прежнему мало что понял из его слов, ибо тогда даже еще представить себе не мог человеческую общность большую, чем та, что отгорожена от остального мира стенами Этры; я просто принял это как факт.
Ученики Мимена продолжали меня игнорировать, но уже довольно беззлобно. Все-таки я был гораздо младше даже самого младшего из них и, видимо, казался им всего лишь жалким недоучкой. Хорошо было уже и то, что они по-прежнему мне доверяли, зная, что я ни разу их не выдал, и в моем присутствии продолжали разговаривать совершенно свободно. И я — хоть меня по большей части и возмущало то, что они говорили, и я в душе презирал их за ханжество, за притворную верность хозяевам, которых они на самом деле ненавидели, — обнаружил вдруг, что все же прислушиваюсь к ним. Точно так же и дома я, словно зачарованный, прислушивался, испытывая отвращение, даже омерзение, к разговорам об отношениях мужчин и женщин, которые велись порой у нас в Хижине.
Ансо, самый старший из учеников Мимена, любил разглагольствовать о барнавитах, банде беглых рабов, живущих где-то в великих лесах, раскинувшихся к северо-востоку от Этры. Под предводительством некоего Барны, человека выдающегося роста и силы, эти рабы создали собственное государство — республику, в которой все люди были равны и свободны. Каждый человек имел право голоса и мог быть как избранным в правительство, так и исключенным оттуда, если плохо справлялся со своими обязанностями. Всю работу барнавиты делали вместе, товары и добытую пищу делили сообща и поровну. Жили они в основном охотой и рыбной ловлей, а также грабили на дорогах богатых купцов и торговые караваны, которые направлялись в Азион или из Азиона. Местные крестьяне и фермеры их поддерживали и никогда не выдавали ни Казикару, ни Азиону, поскольку барнавиты щедро делились с ними награбленным и нажитым добром, а эти земледельцы, хоть и не были рабами — чаще всего они были «освобожденными», — жили в ужасающей нищете.
Ансо весьма живо описывал жизнь барнавитов в этих диких лесах и уверял, что они не подчиняются ни хозяину, ни сенаторам, ни правителям государств и связаны лишь обетом верности своему сообществу, который дают исключительно добровольно. Ансо знал множество историй о смелых, даже отчаянных нападениях барнавитов на торговые караваны, охраняемые вооруженными воинами, на купеческие корабли, плавающие по реке Расси, а также о том, как барнавиты, умело замаскировавшись, неузнанными приходят в большие города, даже в Казикар и Азион, и обменивают на рынке награбленное добро на то, что им более всего необходимо в лесу. Людей они никогда не убивают, сказал Ансо, только в случае самообороны; а если кто-то случайно забредет в их город, скрытый глубоко в лесной чаще, то ему придется либо молить их о помиловании и впоследствии, принеся обет верности, жить вместе с ними как свободный человек, либо умереть. И у бедняков они никогда ничего не отнимают, да и у зажиточных фермеров забирают только часть собранного урожая, но никогда не трогают зерно, оставленное для посева. Даже женщины на уединенных фермах и в деревнях барнавитов не боятся; женщин они тоже с радостью принимают в свое общество, но только в том случае, если женщина сама захочет к ним присоединиться.
Таддер, правда, сразу утыкался носом в книгу или попросту выходил из комнаты, как только Ансо садился на своего любимого конька и начинал рассказывать эти бесконечные истории. Но один или два раза Таддер все же не выдержал, взорвался и обозвал пресловутых барнавитов «обыкновенной бандой беглецов, промышляющих воровством». Он с таким презрением говорил о них, что это заставило меня задуматься, уж не имеют ли эти люди какого-то отношения к тому восстанию рабов, из-за которого пострадали и сам Таддер, и многие другие рабы в Азионе. Йентер относился к историям Ансо гораздо спокойнее, высмеивал их, называл «невозможной романтической бредятиной», и я был, пожалуй, согласен с ним. Идея о том, что сборище беглых рабов способно обустроить свою жизнь так, словно они сами в ней хозяева, перевернув при этом вверх тормашками вековой, священный миропорядок, казалась мне тогда абсолютно утопической. И все же мне нравилось слушать эти идиллические повествования о лесном братстве свободных людей.
Ибо слова «свобода» и «воля» постепенно завоевали свое, весьма существенное место в моей душе; от них исходил какой-то яркий свет, точно от крупных летних звезд, которыми я так часто любовался в Венте. Я и в городе частенько поднимал глаза к темному небу, но здесь звезды всегда казались более далекими и тусклыми. Вечера у нас были свободными; мы проводили их в своей комнате, и жрецы разрешали нам брать масло для светильников. Я читал «Превращения» Дениоса. Эту книгу одолжил мне Таддер, и она стала для меня поистине великим открытием. Она была похожа на тот сон, превратившийся в «воспоминание», когда мне казалось, что я нахожусь в каком-то неизвестном мне доме, где в светлых комнатах меня радушно встречают незнакомые мне люди, и я вижу множество различных чудес, и меня приветствует какое-то чудесное золотистое животное… Дениос — величайший из поэтов, так утверждали все мои старшие товарищи. Он был рожден рабом и в своих стихах пользовался словом «свобода» с такой нежностью и почтением, что я неизменно вспоминал Сэлло, мою сестру, в те мгновения, когда она говорила о своем возлюбленном. У Мимена был потрепанный, умещавшийся в кармане рукописный вариант «Космологий» Каспро; он сказал, что никогда не расстается с этой книгой, и убедил меня прочесть ее. Мне поэма Каспро показалась очень странной и какой-то тревожной; понял я в ней очень мало, но порой та или иная строчка брала меня за сердце с той же щемящей силой, как тот гимн о свободе, который я услышал в самую первую ночь, проведенную здесь.
Однажды мне позволили отлучиться на часок и сбегать повидаться с сестрой. Стоял жаркий сентябрь. Сэлло выглядела неважно, из-за беременности ноги у нее сильно отекали, осунувшееся лицо казалось каким-то усталым. Она обняла меня и стала расспрашивать обо всем — о жрецах, о других рабах, о нашей работе, — так что все время говорил один я, а потом время у меня вышло, и пришлось бегом бежать назад.
А через несколько дней я получил весточку от Эверры: он писал, что ребенок у Сэлло родился семимесячным и прожил всего лишь час.
Мы не могли похоронить его на нашем кладбище у реки, потому что оно находилось за городской стеной. Во время осады тела умерших рабов сжигали в так называемых огненных башнях, как и тела полноправных горожан. И прах рабов смешивался с прахом свободных людей в водах Зольного ручья, который протекал возле огненных башен и выбегал наружу из-под городской стены через неширокую трубу, чтобы затем воссоединиться с водами реки Нисас, затем — реки Морр, а затем и с морем.
Я стоял в час осеннего заката у огненных башен на берегу ручья с горсткой других людей из Аркаманта. Сэлло на похоронах не было: она еще плохо себя чувствовала, но Йеммер успокоила меня, сказав, что самое страшное уже позади. А через несколько дней мне позволили навестить сестру. Она показалась мне страшно худой и еще более усталой. Она все время плакала, обнимая меня, а потом сказала своим нежным, тихим, усталым голосом:
— Понимаешь, если бы он остался жив, его бы все равно постарались поскорее куда-нибудь сбыть или обменять на что-нибудь полезное. Я слышала, как в одном из Домов ребенка-раба обменяли на фунт мяса. Кому во время осады нужен лишний рот… Знаешь, Гэв, по-моему, он это понимал. Понимал, что никому по-настоящему и не хочется, чтобы он остался жив. Даже мне. Чем… — Она не закончила своего вопроса, а просто слегка развела руками в безнадежном жесте, и я понял, что она хотела сказать: «Чем он мог бы быть для меня или я для него?»
Меня потрясло, как изменились за это время все обитатели Аркаманта. Лица худые, даже костлявые, а взгляд такой же усталый и настороженный, как у Сэлло. Это было лицо осады. Зайдя в классную комнату, я с грустью обнаружил, что мои маленькие ученики совсем отощали, просто кожа да кости, стали равнодушными, вялыми. Дети во время голода всегда умирают первыми. Мы у себя в Коллегии Жрецов ели в два раза лучше, чем большинство людей в городе. Сэлло очень обрадовалась, увидев меня в добром здравии, и все просила, чтобы я рассказал ей, чем нас кормят. И я рассказывал о том, какой у жрецов рыбный пруд, как тщательно они охраняют своих кур-несушек, как нам время от времени перепадает то кусочек мяса, то тарелка наваристого супа, какой у них садик со священными травами и овощными грядами. Рассказал я и о том, что предкам обычно приносят зерно в виде подношений и получается, что зерно это кормит теперь не священных предков, а их потомков. Мне было стыдно рассказывать об этом, но Сэлло сказала:
— Мне так приятно хотя бы послушать о еде! А оливки у жрецов есть? Ох, до чего же я соскучилась по оливкам! Больше всего! — Пришлось сказать, что и оливки нам иногда дают, хотя на самом деле я уже много месяцев ни одной не пробовал.
Перед самым уходом я успел еще повидаться с Сотур. Она тоже была бледной и вялой, ее прекрасные волосы пересохли и потускнели. Она ласково со мной поздоровалась, и я вдруг сказал, сам того не ожидая:
— Сотур-йо, ты не дашь мне бронзовый грошик? Я хочу купить Сэлло несколько оливок.
— Ах, Гэв! Где же ты их возьмешь? Мы их несколько месяцев не видели, — удивилась она.
— Ничего. Я знаю, где их можно достать.
Она молча посмотрела на меня своими большими глазами, кивнула и куда-то ушла. Потом вернулась и сунула мне в ладонь монетку.
— Жаль, что я не могу дать больше, — сказала она, тем самым превратив мою первую в жизни попытку попросить милостыню в нечто обыденное, простое и ничего не значащее.
За эту монету, на которую в прошлом году можно было купить фунт оливок, торговец на черном рынке дал мне всего десяток жалких сморщенных плодов. Я бегом бросился в Аркамант и попросил Йеммер передать их Сэлло, которую уже перевели в «шелковые комнаты». На работу я, разумеется, сильно опоздал, но Реба ничего мне не сказал — возможно, заметил, что я вернулся в слезах.
Реба вообще обладал мягким отзывчивым характером и ясным умом. Иногда мы с ним понемногу беседовали, и он рассказывал мне о священных ритуалах и обрядах, которые зачастую отправляли сами рабы. Он заставил меня почувствовать достоинство этой затворнической жизни и мирную красоту бесконечно повторяемых циклов обрядов и молитв, обращенных к предкам, от которых зависело само благополучие, сама жизнь нашего города. По-моему, Реба видел возможность того, что мой Дом согласится отдать меня Коллегии Жрецов, и мне льстило, что он заинтересован именно в моей персоне. Я вполне мог представить себе жизнь там, в святилище, но хотел жить только в Аркаманте, рядом со своей сестрой, и не хотел заниматься более ничем, кроме того, к чему меня готовили с самого детства: выучиться и получить возможность учить детей моего Дома.
Наша работа приближалась к концу. Старинные документы были перенесены в подвалы под Гробницей предков, и теперь их оставалось только разобрать и сложить. Эту работу можно было бы делать, почти не думая, однако большая часть старинных свитков и летописей не имели ни имени автора, ни каких-либо иных данных, а потому их следовало сперва просмотреть, пронумеровать страницы, постараться выяснить название и имя автора, затем очистить от грязи, пересыпать порошком от насекомых и только после этого как следует упаковать. Поскольку никого из нас дома особенно не ждали — кому нужен лишний рот в период голода? — то мы с удовольствием принялись за разборку этих безымянных документов. Жрецы и их немолодые рабы были очень этому рады; на самом деле без нас им было бы просто не под силу со всем этим справиться. Я с удивлением убеждался, что мы, семеро домашних рабов, и даже я сам оказались куда более образованными, чем члены Коллегии. Они, разумеется, превосходно разбирались в древних обрядах и ритуалах, однако историю нашего города и его соседей знали очень плохо, как, впрочем, и историю тех обрядов, которые каждый день отправляли. Мы раскопали огромное количество самых разнообразных и невероятно интересных документов: жития великих людей Этры, начиная с самых первых дней ее существования, пророчества, описания гражданских и межгосударственных войн и союзнических отношений с другими городами. Все это чрезвычайно меня увлекало, и мне не давала покоя давняя моя мечта — написать историю всех наших городов-государств. Я чувствовал себя совершенно счастливым, зарывшись в груду старинных свитков и пергаментов в тиши глубокого подвала под мостовыми безмолвной, умирающей Этры.
— До чего же все-таки приятно окунуться в прошлое, — сказал как-то Мимен, — особенно если будущее ничего хорошего тебе не обещает.
Теперь у Зольного ручья днем и ночью горели погребальные костры — это жгли тела тех, кто умер от голода, — и дым от этих костров, поднимаясь вверх, смешивался с осенними туманами, отчего над крышами домов постоянно висела голубоватая пелена. Иногда в этом дыме чувствовался запах подгоревшего мяса, и рот у меня тут же невольно наполнялся слюной от голода и тошнотворного отвращения.
Снаружи у северной стены вражеская армия строила огромный земляной вал — опору для осадных орудий, из которых можно было бы бить по верхнему, более тонкому краю стены. Стража Этры и простые горожане, дежурившие на стенах, сбрасывали на строителей булыжники из разобранных мостовых, но враги были чересчур многочисленны и проворны, как муравьи, да и вражеские лучники стреляли в каждого, кто осмеливался показаться между зубцами стены. Защитники города собирали стрелы, выдернутые из тел умирающих; они вообще использовали любую возможность, чтобы пополнить свои колчаны, и делали стрелы даже из ветвей тех деревьев, что росли внутри городских стен, в том числе и
старых сикомор.
Тревога царила и в Сенате; там шли жаркие дебаты и споры, порой изливавшиеся на городские площади. Почему, вопрошали уличные ораторы, Этра оказалась настолько неподготовленной к нападению? Почему в нашем городе не было достаточных запасов ни оружия, ни продовольствия и даже армия оказалась отосланной в дальние края? По городу ползли слухи: неужели среди сенаторов действительно есть предатели, сторонники Казикара? Говорили, например, что сенаторы отказались открыть городские ворота, потому что хотели, чтобы жители Этры вымерли от голода, прежде чем город будет сдан. В общем, одни считали упорство сенаторов благородным и мужественным, а другие — гнусным предательством. Кроме того, все шептались о несправедливом распределении продовольствия. Многие торговцы с черного рынка были жестоко убиты, когда товары у них подошли к концу и их обвинили в утаивании продуктов. А дом одного купца разъяренная толпа попросту разнесла в щепы, ибо все были уверены, что у этого богача закрома ломятся от припасов, в то время как остальные умирают от голода. Но в кладовых купца люди не нашли ничего, только полбочонка сушеных фиг, спрятанного в Хижине рабов. Ходили слухи о запасах зерна, припрятанных в подвалах Сената или в подвалах Гробницы предков и Коллегии Жрецов, и последнее, кстати сказать, было недалеко от истины. Жрецы просто в ужас пришли, узнав об этом. Они опасались не только за сохранность собственной жизни, но и своего драгоценного рыбного пруда, кур и огорода и умоляли поставить вокруг святилища дополнительную охрану. В итоге охрана действительно была выставлена — десять человек, которые, разумеется, ничего не смогли бы сделать, если бы толпа все же ринулась на обитель жрецов. Однако святость Гробницы предков по-прежнему охраняла и жрецов, и нас заодно.
Была уже середина октября. Жизнь как бы застыла, повиснув на волоске, и всем казалось, что наш конец близок. Еще несколько дней — и либо начнется штурм северной стены, который, конечно же, закончится успешно, либо вышедшая из повиновения толпа горожан откроет какие-то ворота, пытаясь спастись, прежде чем в городе начнутся пожары и резня. Впрочем, возможно было, что Сенат все же решит сдать город, дабы избежать полного его уничтожения.
И тут случилось то, на что мы уже давно утратили всякую надежду.
На рассвете, когда дымная пелена и туман тяжело висели над улицами Этры, над вражеским лагерем и над рекой Нисас, мы вдруг услышали сигналы боевой тревоги, громкие крики, пение горнов, ржание лошадей, бряцание оружия. Это армия Этры наконец-то вернулась домой.
Все утро мы слушали шум битвы за городской стеной, а те, кому посчастливилось подняться на стены, могли и наблюдать сражение. Нас, рабов, естественно, заперли во дворе, и мы лишь просили тех, кто пробегал мимо наших ворот, сообщить нам хоть какие-то новости. Ближе к полудню большой отряд городской стражи промаршировал через площадь и остановился перед Гробницей, желая получить благословение предков. Все воины были пешими, лошадей в городе давно уже не осталось: их забили и съели. Вид у стражников был жалкий — худые, оружие убогое, одежда превратилась в лохмотья, лица измученные. Казалось, это просто нищие, притворяющиеся воинами, или, может, призраки воинов. Однако предки благословили их устами жрецов, и они двинулись по Долгой улице к Речным воротам. Шли они молча, слышно было лишь ритмичное бряцание их оружия. Затем впервые за шесть месяцев ворота распахнулись, и отряд этранских стражников ринулся наружу, ошеломив врага этим неожиданным нападением с тыла, ибо те уже вступили в бой с нашими войсками. Об этом мы, по крайней мере, услышали собственными ушами, потому что люди, забравшись на крыши и наблюдая оттуда за сражением, во все горло комментировали его. Потом мы услышали оглушительный рев и победные кличи, и наблюдатели с крыш закричали:
— Ура, мы захватили мост! Мост перешел в руки Этры!
И весь тот день, хотя не раз звучал сигнал тревоги и отдельные отряды Казикара все еще пытались отбить прежние позиции, продолжался постепенный откат вражеского войска от стен города. Армия Казикара бежала под натиском этранцев, тщетно пытаясь перегруппироваться и найти более выгодные пути к отступлению, но все они в итоге оказались блокированы, и к вечеру огромное войско, столько месяцев осаждавшее Этру, превратилось в разбросанную по полям между Этрой и рекой Морр толпу обезумевших людей, пытающихся спасти свою жизнь. Тех, кому удалось переправиться на тот берег реки Нисас, наша кавалерия преследовала, точно охотники дичь, — впоследствии это побоище получило название «охота на диких свиней». Снаружи, у городских стен, на земляном валу и повсюду в разгромленном лагере толстым слоем лежали мертвые тела, тысячи мертвых воинов, уже лишенных доспехов и оружия. Река Нисас местами вышла из берегов, так она была запружена мертвецами.
Нас выпустили на свободу после заката. Я поднялся на стену у Северных ворот и увидел, как живые движутся среди груд мертвецов, приподнимая и переворачивая их, словно туши забитых овец, чтобы снять с них доспехи, а порой и перерезая кому-то горло, если возникали сомнения в том, что человек мертв. Вскоре призвали рабов — нужно было собрать погибших этранцев и перенести их тела к погребальным кострам на берегу Зольного ручья. Нас семерых тоже послали туда, и мы всю ночь при свете луны и факелов собирали и носили трупы. Это была жуткая работа. Я отчетливо помню лишь то, что каждый раз, когда мы с Ансо, работая в паре, клали очередное тело возле погребального костра, мне приходила в голову одна и та же мысль: о ребенке Сэлло, сыне Явена и моем племяннике, который прожил всего час в умирающем от голода городе. И каждый раз я просил Энну сопроводить в страну мертвых не душу этого мертвого воина, а ту крошечную, безвинно загубленную душу, не оставить ее во время странствий по полям вечной тьмы и вечного света.
Очень много было погибших из числа городских стражников. Они дорого заплатили за свою храбрую атаку.
Всю ту ночь в городе было неспокойно; и свободные граждане, и рабы ринулись в открытые ворота и принялись грабить продовольственные кладовые армии Казикара, и этранским солдатам, которые обязаны были охранять и ворота, и эти кладовые, пришлось отступить под натиском изголодавшихся людей, в большинстве своем к тому же хорошо им знакомых. Некоторые воины даже привезли в город повозки, нагруженные зерном, и горожане, облепив их, точно муравьи, дрались из-за каждой горстки зерна. Порядок был восстановлен лишь на рассвете, да и то пришлось применить силу — кнуты, дубинки и даже мечи. В тусклом утреннем свете я видел, какой ужас был написан на лицах воинов, когда они смотрели на своих соотечественников, женщин и мужчин, которые копошились над обглоданными останками овец, точно черви на дохлой крысе.
Рабам под угрозой смертной казни было приказано к полудню вернуться в дома своих хозяев. Так что я покинул святилище, успев лишь поблагодарить старого Ребу и принять в подарок от Мимена его рукописную копию поэмы Каспро.
— Только Эверре эту книжку не показывай, — сказал Мимен со своей суховатой усмешкой, и я, не зная, как его благодарить за столь щедрый дар, лишь пробормотал, заикаясь:
— Нет-нет, ни за что…
Это была моя первая собственная книга. Первая по-настоящему ценная вещь, которая действительно принадлежала мне. Я называл одежду, что была на мне, «своей одеждой» и доску в нашей классной комнате «своей доской», но даже эти вещи мне не принадлежали. Они были собственностью Дома Арка, как и я сам. Но эта книга… эта книга была моей!
Явен, вернувшись домой, первым делом, разумеется, поздоровался с родителями, выразил им свою любовь и почтение и поспешил прямиком в «шелковые комнаты». Было необыкновенно приятно видеть, как после его возвращения сразу расцвела и засияла Сэлло. Явен не слишком исхудал — во всяком случае, у многих горожан вид был гораздо хуже, — но и ему, безусловно, здорово досталось, и выглядел он измученным, огрубевшим и усталым. Он много рассказывал нам об этой военной кампании — мне, Сэл, Сотур, Астано и Око, когда мы все собрались у Эверры в классе, как в былые времена. Оказывается, против Этры вместе с войском Морвы выступили и несколько полков из Галлека, а также из Вотуса и Оска, так что нашим воинам приходилось нелегко, отбивая атаки по нескольким направлениям одновременно. Явен считал, что этранские военачальники допустили несколько существенных ошибок, отдавая путаные приказы, но никакого предательства в рядах нашей армии не было. Этранской армии действительно никак не удавалось поспешить на помощь родному городу, поскольку они постоянно вели сражения с вражескими полками, наступавшими с разных сторон, и в случае их отступления враги, несомненно, стали бы преследовать их до самых городских стен. Однако им все же удалось одержать победу, и они сразу же бросились на помощь Этре. Ночью они по лодочному мосту переправились через реку Морр и врасплох застали осаждавшую наш город армию Казикара, нанеся удар с востока, откуда его никто не ожидал.
— Однако мы и представить себе не могли, до чего трудно вам здесь приходится! — признался Явен. — Мне и сейчас страшно подумать, как вы здесь голодали… — Астано показала ему кусочек «осадного» хлеба, который специально для этого сохранила: коричневатую корочку, похожую на древесную стружку; хлеб в последние недели осады пекли из небольшого количества ячменной или пшеничной муки грубого помола, смешанной с соломенной трухой и солью.
— Вот уж соли у нас было сколько угодно, — сказала Астано. — Не было лишь того, что ею полагается солить.
Явен улыбнулся, однако мрачные морщины у него на лице так и не разгладились.
— Ничего, Казикар нам еще за это заплатит, — сказал он. — Мы его заставим!
— Ах, и ты говоришь о плате… — промолвила Сотур. — Значит, мы теперь купцы?
— Нет, сестренка. Мы воины.
— Нет, а вот с нами, женами воинов, их возлюбленными, матерями и сестрами… как будет Казикар расплачиваться с нами?
— Да уж как получится, — мягко ответил Явен и обнял за плечи Сэлло, сидевшую с ним рядом на школьной скамье.
Эверра заговорил о чести города, об оскорблении, нанесенном нашим великим предкам, о необходимости мести. Явен слушал его внимательно, но больше о войне не сказал ни слова. Зато принялся расспрашивать меня о том, как мне жилось у жрецов, что мы делали в Гробнице предков и какие древние документы и реликвии спасали. И когда я рассказывал ему об этом, то видел перед собой лицо прежнего Явена, страстно любившего историю, эпос и поэзию и с таким вдохновением руководившего нами, когда мы «возводили» на вершине холма в Венте старинную крепость Сентас. Мне вдруг захотелось спросить у него, что он думает насчет «новых» поэтов. Возможно, подумал я, наш Явен когда-нибудь станет Отцом Аркаманта, а я буду учителем в его школе и тогда непременно дам ему прочесть «Превращения» Дениоса — пусть и он откроет для себя целый новый мир… Впрочем, все это были только мечты, по-настоящему я себе подобной возможности не представлял. И все же под воздействием мыслей об этом я рассказал Явену и о том, как мы еще в самом начале осады декламировали в мужской Хижине, где нас заперли, «Мост через Нисас» и все собравшиеся там мужчины хором ревели «У стен высоких Этры…». В общем, кончилось все тем, что мы прямо там, в классе, тоже принялись декламировать баллады, и Явен вел нас своим звучным голосом, и кое-кто из моих учеников, отощавших за время осады малышей, потихоньку прокрался в класс, чтобы послушать этот странный хор. Ребятишки с округлившимися от изумления глазами и не понимая, что происходит, смотрели на молодого высокого воина, который, радостно смеясь, с воодушевлением выкрикивал строки прекрасной поэмы Гарро: «Спасалось бегством войско Морвы, Ее храбрейшие сыны бежали…»
— Снова и снова, — услышал я вдруг шепот Сотур. — И так далее и тому подобное… — Она не выкрикивала вместе с нами патриотические стихи, и вид у нее был несчастный и растерянный. Заметив, что я смотрю на нее с пониманием и сочувствием, она резко отвернулась.
Всю ту осень после осады мы наслаждались одним из самых сладостных удовольствий — освобождением от непрерывного, сильнейшего напряжения и постоянного страха. В этом ощущении легкости и избавления от гнета, по-моему, наиболее ярко и проявляется свобода, ибо оно позволяет душе как бы воспарить над миром. И в Аркаманте царила атмосфера всеобщей терпимости и доброты. Люди были благодарны друг другу за то, что пережили вместе и выжили, несмотря ни на что. И теперь могли сколько угодно радоваться и смеяться и действительно смеялись.
В начале зимы домой вернулся и Торм. Всю осаду он прожил где-то в городе, а не в Аркаманте. Временный диктатор учредил особое войско, состоявшее из тех, кто еще только учился военному делу, и воинов, которые в силу полученных ранений или по старости уже в армии не служили. Эти отряды были призваны оказывать всемерную помощь городской страже, стеречь крепостные стены и ворота, патрулировать улицы, а также порой выполнять функции пожарных и охраны общественного порядка. Войско, в котором служил Торм, немало помогло городу, защищая его и бесстрашно отражая огневые атаки противника. Сперва этих воинов многие считали настоящими героями, однако они все чаще стали принимать участие в казнях торговцев с черного рынка и вообще всех, кто припрятывал провизию, а также тех, кого подозревали в предательстве, и в итоге люди стали их бояться. Больше всего они боялись тех расследований и допросов, которые воины этого особого полка проводили всегда с особой жестокостью. Понемногу их стали обвинять в том, что они слишком широко и чересчур вольно пользуются данной им властью. Впрочем, через несколько дней после освобождения Этры это войско было распущено — после того как временный диктатор подал в отставку, передав всю полноту власти Сенату.
Торму исполнилось всего семнадцать, но выглядел он значительно старше, да и вел себя как взрослый мужчина, мрачный, замкнутый и молчаливый.
Он привел с собой в Аркамант и Хоуби. В порядке вознаграждения за службу он попросил, чтобы Хоуби освободили от работы в гражданской армии и передали ему в качестве личного телохранителя. Как и Меттер, телохранитель Отца Алтана, Хоуби спал теперь у дверей комнаты своего хозяина. Он по-прежнему брил себе голову и стал куда крупнее Торма, но не заметить их сильнейшего сходства друг с другом было невозможно.
Причиной возвращения Торма в родной дом послужила помолвка Астано. Мать Фалимер так и не одобрила ее брак с Корриком Белтомо Рундой и выбрала ей в мужья родственника Коррика по материнской линии, Ренина Белтомо Тарка. Таркмант был одним из древнейших Домов Этры, хотя и не слишком богатым, а сам Ренин, многообещающий молодой сенатор, отличался приятной внешностью и умением вести беседу, хотя, по словам Сэлло, нашего главного источника сведений об очередном женихе Астано, образованием не блистал. «Он даже Трудека не читал! — возмущалась она. — Хотя, может, в политике он и разбирается».
А от Сотур мы на тему замужества не слышали ни слова. Мы вообще мало ее видели. Казалось, она в отличие от нас так и не сумела освободиться от пережитого страха и напряжения. Она никак не могла набрать прежний вес, и у нее по-прежнему было «осадное» лицо. А если я встречал ее в библиотеке с книгой в руках, она лишь ласково здоровалась со мной, но старалась поскорее ускользнуть прочь. Моя мучительная страсть к ней прошла, превратившись в некую болезненную жалость с легким оттенком нетерпения: я совершенно не мог понять, почему она продолжает хандрить в такие чудесные дни, озаренные обретением свободы.
Эверре предстояло вручить жениху и невесте поздравительный адрес, и он целыми днями готовился к этому, выписывая подходящие цитаты из своих любимых классиков. В благостной атмосфере той осени я чувствовал, что гадко и нечестно утаивать от моего старого учителя то, что я узнал от Мимена и других, работая в Гробнице предков. И рассказал Эверре, что прочел Дениоса, а Мимен даже подарил мне свой экземпляр «Космологий» Каспро. Эверра помрачнел, покачал головой, но гневной тирадой не разразился, что весьма меня вдохновило, и я спросил: чем же поэмы Дениоса могут испортить тех, кто их читает, если они столь благородны как по языку, так и по содержанию?
— Неудовлетворенностью, — ответил Эверра. — Благородные слова, которые учат быть несчастным. Такие поэты отказываются от того, чем одарили их предки. Их труд — это бездонный колодец. Ведь если удалить твердую основу тех верований и представлений, на которых, собственно, и строится наша жизнь, то все будет впустую. Останутся одни слова! Заносчивые, пустые слова. А одними словами, Гэвир, сыт не будешь. Только вера дает нам и жизнь, и покой. Вся наша мораль основана на вере.
Я пытался доказать, что и в произведениях Дениоса, несомненно, есть некая мораль, просто более широкая, чем та, что известна нам, но разум мой тогда еще плутал наугад в потемках, и все мои доводы Эверра отмел своей незыблемой уверенностью.
— Дениос не учит ничему, кроме бунта, который, собственно, является… отказом от истины. Молодежь любит такие игры. Я хорошо с этим знаком. Да и ты, став старше, почувствуешь, как надоело тебе состояние этого болезненного безумия, и вернешься к вере, единственной основе нашей морали и нашего права.
Я с огромным облегчением вновь внимал уже известным мне незыблемым истинам. Да и сам Эверра больше ни слова не сказал о том, что запрещает мне читать Каспро. Кстати сказать, я тогда не так уж и часто открывал эту книгу: она оказалась чересчур трудной для меня; идеи, заключенные в ней, представлялись мне странными и весьма далекими от действительности; но порой строки из произведений Каспро или Дениоса сами собой всплывали в моей памяти, раскрывая вдруг весь свой потаенный смысл, раскрываясь во всей своей красе, подобно тому как весной прямо на глазах разворачивается только что проклюнувшийся буковый листок.
И одна из этих строк непрерывно крутилась у меня в голове, когда я стоял вместе со всеми домочадцами и смотрел, как Астано в белом с серебром платье идет через наш просторный атриум навстречу своему жениху: «Она подобна кораблю, плывущему в сиянье вод…»
Эверра произнес свою речь, блистая цитатами из классики и стремясь каждого из гостей потрясти образованностью обитателей Аркаманта. Затем Мать Фалимер сказала все те необходимые слова, которые всегда говорит мать, передавая свою дочь Дому ее будущего мужа. Затем вперед вышла Мать Таркманта, чтобы, в свою очередь, приветствовать и принять в свои объятия нашу Астано. После этого мои маленькие ученики спели свадебную песню, которую Сотур репетировала с ними в течение нескольких недель. На этом официальная часть закончилась. Музыканты на галерее настроили свои лютни и барабаны, и родовитые гости отправились в парадные комнаты пировать и танцевать. Для нас, домашних слуг, тоже устроили пир с музыкой и танцами, только на заднем дворе. Было холодно, моросил дождь, но мы все равно готовы были сколько угодно танцевать и пировать.
Свадьба Астано состоялась в день весеннего равноденствия. А через месяц Явена вновь отозвали в полк.
Этра готовила вторжение в Казикар. Вотус, заключивший во время войны против нас союз с Морвой, теперь переметнулся на нашу сторону, опасаясь растущей мощи Казикара и видя некую возможность для себя урвать свой кусок, пока Казикар ослаблен поражением в войне с Этрой. Этранцы и вотусаны намеревались вместе штурмом захватить Казикар или осадить его. Это был огромный город-государство, порой выступавший против нас, а порой бывший нашим союзником в войнах с другими городами-государствами. В общем, «снова и снова и так далее и тому подобное», как сказала тогда Сотур.
Я виделся с Сэлло в тот день, когда уезжал Явен. Ей было позволено спуститься к Речным воротам, чтобы проводить его полк, отправлявшийся на войну под громкие торжествующие крики толпы. Сэлло не плакала. Она по-прежнему лелеяла твердую надежду, что Явен непременно к ней вернется; эта надежда согревала и питала ее душу в течение всей осады.
— Я думаю, Глухой бог все же прислушивается к нему, — сказала она с улыбкой, но совершенно серьезно. — Во время битвы, я хочу сказать. Во время войны. Но к сожалению, не здесь.
— Не здесь? Что ты имеешь в виду, Сэл?
В этот момент мы были в библиотеке одни и могли разговаривать совершенно свободно. И все же она довольно долго колебалась. Наконец она подняла на меня глаза и, увидев, что я действительно ее не понял, пояснила:
— Алтан-ди даже рад, что Явен уходит на войну.
Я запротестовал.
— Нет, Гэв, это действительно так, честное слово! — Сэл говорила очень тихо, придвинувшись к самому моему уху. — Алтан-ди ненавидит Явена. Правда ненавидит! Он ему завидует. Ведь Явен должен унаследовать всю его власть, и его дом, и его место в Сенате. И Явен красив, высок ростом и добр, как его мать. Явен — настоящий Галлеко, он совсем не похож на представителей семейства Арка. И вот его родной отец едва может смотреть на него, до такой степени он ему завидует, ревнует его. Да-да, я столько раз это замечала! Наверное, раз сто! Почему, как ты думаешь, почему именно Явена, старшего сына и наследника, вечно отправляют на войну? Тогда как младший сын, которому и следовало бы служить в армии и который, кстати, получил великолепное военное образование и всю жизнь мечтал стать воином, остается дома в безопасности? Да еще и с этим своим «телохранителем»! С этим трусливым самоуверенным гаденышем!
Я ни разу в жизни не слышал, чтобы моя добрая, нежная сестра говорила с такой ненавистью, и был потрясен до глубины души. Я просто слов не находил, чтобы ей ответить.
— Вот увидишь, — снова заговорила она, — именно Торма подготовят для того, чтобы он впоследствии служил в Сенате. Алтан Арка надеется, что Явена на войне… убьют… — Ее тихий страстный голос на этом ужасном слове дрогнул и прервался; она крепко стиснула мою руку. — Он действительно на это надеется! — прошептала она.
Мне безумно хотелось опровергнуть все, что она сказала, но слова по-прежнему не шли у меня с языка.
И тут в библиотеку вошла Сотур. Она остановилась, увидев нас, и уже хотела повернуться, чтобы уйти, но Сэлло подняла на нее глаза и так жалобно прошептала: «Ах, Сотур-йо…», что Сотур бросилась к ней и с такой горячностью обняла ее, что я подивился в душе: я никогда прежде не видел, чтобы наша сдержанная, застенчивая, гордая Сотур столь бурно проявляла свои чувства. Казалось, они обе пытаются друг друга поддержать, подбодрить, но не в состоянии сделать это. Я был потрясен и все пытался убедить себя, что они утешают друг друга из-за того, что Явена снова нет дома, что он ушел в опасный поход, но сердцем понимал: дело совсем не в этом. То, что я видел перед собой, не было общим горем или общей любовью. Это был страх.
И когда глаза Сотур встретились с моими — поверх головы моей сестры, — я увидел в ее глазах яростное возмущение. Вскоре, впрочем, взгляд ее смягчился. Какого бы врага она до того ни видела перед собою, сейчас она наконец вновь увидела рядом меня, брата ее любимой подруги Сэлло.
— Ах, Гэвир! — сказала она. — Не мог бы ты убедить Эверру, чтобы он попросил отпустить Сэлло в школу? Пусть бы она помогала ему учить малышей или еще что-нибудь — все, что угодно, лишь бы вытащить ее из этих проклятых «шелковых комнат»! Я понимаю, ты не можешь, он не может… Я все понимаю! Я и сама просила Мать Фалимер, чтобы Сэл отдали мне в горничные. Просила… подарить мне ее на день моего наречения именем, хотя бы пока Явена нет дома… Но она мне отказала; сказала: нет, это совершенно невозможно. А ведь раньше я никогда ни о чем ее не просила! Ах, Сэлло… ты должна заболеть! Или снова начать голодать и стать такой же худой и безобразной, как я!
Я ничего не понимал!
Но Сотур это было невдомек. Зато Сэлло сразу обо всем догадалась, поцеловала Сотур в обе щеки, повернулась ко мне, обняла и сказала:
— Ничего, Гэв, не тревожься. Все будет хорошо!
И ушла; вернулась туда, где жили наши «благородные» хозяева, где находились их «шелковые комнаты», а я пошел назад, в Хижину рабов. Я был озадачен и встревожен этим разговором, однако меня не оставляла искренняя уверенность в том, что Отец, Мать и предки Аркаманта не допустят, чтобы в нашем Доме что-то и впрямь пошло не так.
Часть II
Глава 7
Я лежу в темноте, и от моей постели исходит какой-то странный сильный запах. Потолок совсем близко от моего лица, это невысокий свод из дикого черного камня. К моей ноге крепко прижимается что-то теплое и довольно тяжелое. Какое-то животное. Оно поднимает голову, заросшую серой шерстью; в уголках черных губ свирепая складка; темные глаза его смотрят куда-то за меня. Кто это — собака или волк? Я и раньше множество раз «вспоминал» это видение — пробуждение в неведомой пещере с гранитным сводом, и этого пса или волка, крепко ко мне прижавшегося, и эти вонючие шкуры вместо постели. И теперь я снова вспомнил об этом, ибо именно в такой пещере я и лежал сейчас, и рядом со мной тонко поскуливал серый пес, потом с ворчанием встал и куда-то направился, перешагнув через меня. И кто-то разговаривал с этим псом, затем подошел, присел возле меня на корточки, что-то сказал мне, но я ничего не понял. Я не понимал ни кто этот человек, ни кто такой я сам. Я даже голову приподнять не мог. Даже пальцем пошевелить. Я совершенно ослабел, я был пуст, я превратился в ничто. И ничего не помнил.
Но я, конечно же, стану рассказывать вам о том, что со мной случилось, по порядку, как это делают, скажем, историки, хоть и считаю это совершенно неправильным. В подобном изложении событий уже таится ложь. Ведь я прожил свою жизнь совсем не так, как написана ее история. Моя душа постоянно совершала как бы прыжки в будущее, и я запоминал то, чего еще не было, что еще только должно было произойти. Но теперь то, что было моим прошлым, оказалось для меня утраченным. И то, о чем я сейчас намерен вам поведать, мне пришлось довольно долго разыскивать в глубинах памяти, восстанавливать заново. Воспоминания эти прятались от меня, скрываясь во тьме прошлого, и я лежал в той темной пещере, точно в собственной могиле.
Все началось ранним утром. Уже наступили теплые весенние деньки, и внутренние дворики Аркаманта казались в солнечном свете такими веселыми.
— Где Сэлло?
— Ой, Гэв, Сэлло и Рис ушли с Тормом-ди!
— С Тормом-ди?
— Да. Он повез их куда-то к Горячим Ключам. Они еще ночью уехали.
Вот что сказала мне Фалли, привратница из «шелковых комнат», вечно сидевшая в западном дворике со своей пряжей. Это была сырая, тяжеловесная, медлительная женщина; когда-то, очень давно, она и сама была «девушкой-подарком», ее подарили Отцу Алтану. Фалли каждый раз приседала и почтительно кланялась, стоило упомянуть Отца или Мать Аркаманта или кого-то из членов Семьи. Впрочем, она преклонялась вообще перед всеми представителями родовитых семейств, точно перед богами, и многие смеялись над ней из-за этого нелепого обожания знати. «Фалли, наверное, думает, что все знатные люди уже при жизни стали нашими предками», — говорила Йеммер. Фалли вообще отличалась редкостной глупостью. Ну вот что за чушь она только что несла? Да еще и почтительно кланялась каждый раз, стоило ей упомянуть Торма! Ну с какой стати Торму брать с собой на Горячие Ключи мою сестру, да еще вместе с Рис?
Горячие Ключи принадлежали Коррику Рунде, сыну сенатора Гранока Рунды. Гранок был самым богатым и влиятельным человеком в правительстве Этры. А Коррик когда-то хотел жениться на нашей Астано, однако ему отказали; но он, похоже, никакой злобы не затаил и даже подружился с Тормом, а не так давно стал его начальником. Торм близко с ним сошелся и постоянно торчал в его компании, среди таких же богатых молодых людей, которые теперь только и делали, что радовались жизни. Ведь Этра опять стала свободной и процветающей, поэтому их веселью просто не было конца. К сожалению, эти бесконечные пирушки в обществе веселых женщин частенько заканчивались уличными драками. Правда, кое-кому из нас эта дружба казалась довольно странной, ведь Торм всегда был букой, да к тому же увлекался военными искусствами, а франту Коррику он почему-то полюбился. Коррик прямо-таки ни дня без него прожить не мог; да и Отец Алтан весьма эту дружбу одобрял и всячески ее поддерживал как нечто полезное для Семьи, для всего Аркаманта, интересы которого были тесно связаны с Домом Рунда. Алтан-ди говорил, что молодость есть молодость, что женщины и выпивка — это нормально, что ничего страшного в этом нет, что ничего плохого с Тормом и Корриком, разумеется, не случится.
Тиб, ставший теперь помощником повара, по-прежнему таскался за Хоуби как собачонка, стоило тому появиться в Аркаманте. А потом Тиб, разумеется, пересказывал нам то, что узнавал от Хоуби. Коррику и его приятелям нравилось спаивать Торма, поскольку тот в пьяном виде совсем разум терял и готов был на что угодно. Вот они его и подстрекали то подраться сразу с троими, то сразиться с медведем, то, сорвав с себя одежду, голым плясать на ступенях Сената, пока весь в мыле на землю не рухнет. Они, по словам Хоуби, Торма обожали и дружно уверяли его, что он потрясающий, хотя некоторым из нас казалось, что эта развеселая компания просто использует Торма, держит его для собственно развлечения, как шута или тех карликов, которых Коррик вечно заставляет бороться друг с другом. Я, например, считал, что роль Торма ненамного интереснее роли телохранителя Коррика, полоумного одноглазого великана Хурна. Но Хоуби уверял всех, что Коррик Рунда чрезвычайно ценит Торма, берет у него уроки фехтования и вообще воспринимает его как своего учителя и великого знатока воинских искусств. Он также говорил, что и все друзья Коррика очень уважают Торма и боятся его невероятной силы. Просто им нравится, когда Торм стервенеет от выпивки, потому что тогда и все вокруг начинают бояться не только самого Торма, но и всей их честной компании.
— Торм-ди молод, — заметил по этому поводу Эверра. — Пусть перебесится, погуляет, пока молодой. Ничего, став старше, он станет и мудрее. Его отец это прекрасно понимает. Он ведь и сам в молодости немало дров наломал.
Поместье Рунда под названием Горячие Ключи находилось недалеко от Этры среди богатых пшеничных полей. Сенатор выстроил там большой новый дом и подарил его своему сыну Коррику. Об этом Тибу тоже рассказал Хоуби, а уж Тиб, естественно, — нам. Загородное поместье Рунда роскошно обставлено, в «шелковых комнатах» полно красивых женщин, внутренние дворики все в цветах, а на заднем дворе — чудесный бассейн, куда вода поступает прямо из горячего источника и всегда имеет ту же температуру, что и человеческое тело. Вода в бассейне прозрачная, красивого зеленовато-голубого цвета, а на облицованных зеленым и пурпурным мрамором бортиках бассейна распускают свои роскошные хвосты павлины. Хоуби видел все это собственными глазами, поскольку в качестве телохранителя Торма бывал в этом поместье много раз. У всех знатных молодых людей в соответствии с тогдашней модой имелись телохранители. А у Коррика их было трое, не считая великана Хурна. Да и Торм тоже недавно вторым обзавелся. В Горячих Ключах телохранителей тоже иногда приглашали в «шелковые комнаты» позабавиться с женщинами и полакомиться разными вкусностями — разумеется, после хозяев. Довелось Хоуби и поплавать в этом теплом бассейне. Он хвастался перед Тибом и бассейном, и женщинами, и невероятными деликатесами — паштетом из печени каплунов или язычками нерожденных ягнят.
В общем, когда глупая Фалли сообщила, что Торм забрал с собой в Горячие Ключи мою сестру и Рис, мне показалось, что я с разбегу налетел на каменную стену и был настолько оглушен этим ударом, что в голове у меня стало как-то совершенно пусто. Я тут же бросился на кухню разыскивать Тиба; я надеялся, что, может, хоть он что-нибудь знает о намерениях Хоуби, хотя вряд ли тот стал бы болтать о подобных вещах. Тиб, естественно, ничего не знал, и когда я пересказал ему слова Фалли, он, похоже, не просто растерялся, а был совершенно ошеломлен. Помолчав, он сказал неуверенно:
— Но там же и так женщин полно; эти Рунды у себя в «шелковых комнатах» десятки рабынь держат. Торм говорил, что просто выбирает себе девушку по душе и вовсю с нею развлекается.
Не помню уж, что я ему на это ответил, но после моих слов Тиб надулся и перешел в наступление:
— Знаешь что, Гэв, ты, может, и учительский любимчик и все такое, но вспомни: ведь, в конце концов, Сэл и Рис — «девушки-подарки»!
— Торму их не дарили! — мрачно возразил я. Говорил я медленно, с трудом, потому что по-прежнему ощущал какую-то странную пустоту в голове. — К тому же Рис еще девственница, а Сэл подарила Явену сама Мать Фалимер. Торм не имеет права никуда уводить их из дома. Мать Фалимер никогда бы ему этого не позволила.
Тиб пожал плечами.
— Может, Фалли просто все перепутала, — сказал он и поспешно отвернулся, вновь занявшись своими делами.
Я пошел к Йеммер и рассказал ей то, о чем сообщила мне Фалли, прибавив то, что прежде сказал и Тибу: что Торм не имел никакого права увозить Сэлло и Рис и что Фалимер-йо никогда бы этого не позволила.
Йеммер, как и очень многие люди после осады, выглядела теперь гораздо старше своих лет. Некоторое время она молчала, потом воскликнула: «Ах ты!..» — горестно покачала головой и снова надолго умолкла.
— Да… Нехорошо это! — сказала она наконец. — Надеюсь, впрочем, что… Фалли просто ошиблась. Да наверняка ошиблась! Как она могла позволить ему увести куда-то девушек без разрешения хозяев? Я с ней поговорю. И с другими женщинами из «шелковых комнат» тоже. Ах, Сэлло! — Она всегда больше всех любила мою сестру. — Нет, этого просто быть не может! — вдруг воскликнула она куда более энергично. — Конечно же, ты прав: Фалимер-йо никогда бы этого не позволила. Никогда. Сэлло принадлежит Явену-ди! И ведь малышка Рис еще… Нет, нет, нет! У нашей Фалли просто мозги жиром заплыли, вот она все и перепутала. Прямо сейчас пойду и все выясню!
Я привык доверять Йеммер; она действительно всегда все тут же выясняла и исправляла. От нее я прошел прямиком в классную комнату, и мы с младшими учениками вновь принялись выпевать наизусть старинные тексты. До конца занятий я старался больше ни о чем не думать. Потом пошел на кухню, чтобы перекусить, и увидел, что там собралось довольно много людей, которые встревоженно о чем-то беседовали.
— Нет, — услышал я голос конюха Тэна, — я сам потом лошадей в стойло заводил. Он их в закрытый возок посадил и уехал вместе с Хоуби и этим бандитом, которого он у своего дружка Рунды перекупил; а лошадьми он сам правил.
— Ну, если Фалимер-йо позволила им поехать, так ничего страшного в этом нет! — пропищала Эннумер.
— Конечно нет! И конечно же, Мать Фалимер их отпустила! — поддержала Эннумер еще одна женщина, но Тэн покачал головой и сказал:
— Девушки были связаны! Он их точно узлы с грязным бельем в возок запихивал! Я даже не сразу понял, что это такое, пока Сэлло, высунувшись оттуда, не попыталась что-то крикнуть. Только Хоуби ей не дал и тут же снова ее туда запихнул, словно мешок с мясом, и дверцу захлопнул. А потом они уехали; Торм лошадей галопом погнал.
— Может, это просто шутка? — предположил кто-то из стариков.
— Ага, просто шутка! Только и самому господскому сынку, и его проклятому «двойничку» здорово влетит, когда Отец Алтан об этой «шутке» узнает! — злобно ответил Тэн и тут увидел меня. Он так и впился мне в лицо своими темными глазами, а потом спросил с тревогой: — Ну что, Гэв, ты-то хоть что-нибудь об этом знаешь? Может, Сэлло с тобой поговорить успела?
Я молча покачал головой. Говорить я не мог.
— Ох, да ничего, не тревожься, может, все еще обойдется, — спохватился Тэн. — Это просто дурацкая шутка, дядюшка верно говорит. Нет, правда шутка, хотя и чертовски глупая! Я думаю, они сегодня к вечеру уже домой вернутся.
Я стоял там вместе со всеми, но мне казалось, что все как бы отодвинулось от меня, и я остался один в совершенно пустом помещении, и вокруг меня, в остальных комнатах и двориках Аркаманта, тоже царит пустота. Голоса слуг, столпившихся вокруг, долетали до меня словно издалека.
А потом эта пустота окончательно сомкнулась надо мною, превратившись в тот темный, низкий свод из грубого черного камня, какой я «видел» в той пещере в своих «воспоминаниях»…
И в ушах у меня прозвучали слова Сэлло о том, что она способна понимать кое-что такое, чего не понимают другие люди. «Мы, люди с Болот, обладаем странными способностями!..» Она смеялась тогда, и ее ясные глаза так и светились.
Я понял, что ее нет в живых, еще до того, как за мной послали. До того, как Эверра сказал мне об этом. Они сочли, что будет лучше, если именно он это сделает.
Несчастный случай. Все произошло вчера ночью в бассейне. Очень, очень печально. Но разумеется, это просто несчастный случай, говорил Эверра, и в глазах его стояли слезы.
— Несчастный случай, — повторил я.
И тут он сказал, что Сэлло утопили. Нет, она утонула, тут же поправился он. Утонула, когда эти молодые люди чересчур много выпили и, совершенно забыв о приличиях, стали забавляться с девушками прямо в бассейне.
— Да-да, бассейн с теплой водой, — пробормотал я, точно во сне, — где на мраморном бортике красуются павлины…
Да, подтвердил мой учитель и посмотрел на меня. Он плакал, но мне показалось, что выражение лица у него какое-то странное, ускользающее, хитроватое, словно он стыдится того, что делает, что делать этого ни в коем случае не должен, но, точно школьник, ни за что в этом не признается.
— Рис дома, — сказал он, — она сейчас с женщинами в «шелковых комнатах». Состояние у нее просто ужасное. Бедная девочка! Она не ранена, но… Нет, это просто безумие, безумие! Ведь известно же, что Торм-ди всегда… Что у него постоянно случались эти приступы… Но забрать девушек из дома! Отвезти их туда, к этим недостойным мужчинам!.. Безумие, безумие! Ах, какой стыд, какой стыд! Как ужасно мне жаль тебя, мой бедный Гэвир! — И мой учитель склонил передо мной свою седую голову, скрывая свои заплаканные глаза и свое кривящееся, умоляющее, раболепствующее лицо. — И что теперь скажет Явен-ди? — вдруг с отчаянием воскликнул он.
Я повернулся и пошел прочь — по бесконечным коридорам, мимо комнаты предков, в библиотеку. Там я некоторое время сидел один, чувствуя, что та пустота по-прежнему окружает меня. Пустота и тишина. Я молил Сэлло прийти ко мне, но она не приходила. «Сестра!» — громко окликнул я ее, но отчего-то даже собственного голоса не услышал.
Затем мне ясно представилось, что если ее утопили, то она наверняка так и лежит на дне того бассейна с зеленой водой, теплой, как кровь. Но если ее там нет, то где же она? Она никак не могла быть там, значит ее не могли и утопить.
И я пошел ее искать. Я пошел в «шелковые комнаты», в западный дворик, и всем женщинам, которые попадались мне навстречу, говорил: «Я ищу свою сестру».
Не помню, кто из этих женщин — а может, это были мужчины — отвел меня к ней. Но ее я сразу узнал.
Она лежала, укрытая белыми простынями, из-под которых виднелось только ее лицо. И оно было не смугло-розовым, как всегда, а каким-то серым, и на одной щеке виднелся большой темный синяк. Глаза ее были закрыты, и она казалась очень маленькой и очень усталой. Я опустился возле нее на колени, и люди ушли, оставив нас с нею наедине.
Потом, помнится, они снова явились и сказали мне:
— Мать Дома послала нас за тобой, Гэвир, — словно это имело значение, словно это было нечто чрезвычайно важное. Я поцеловал Сэлло, пообещал ей скоро вернуться и пошел с ними.
Они повели меня по знакомым коридорам в покои Матери Фалимер. Впрочем, коридоры эти были мне знакомы лишь снаружи; Сэлло разрешали входить в комнаты Матери, чтобы прибрать там, а мне нет, так что я подметал только коридор. Фалимер-йо ждала меня и показалась мне очень высокой в своих длинных одеждах.
— Нам так жаль, Гэвир, что твоя сестра умерла, — услышал я ее чудный голос. — Какая ужасная, трагическая случайность! Прелестная была девушка… Я просто не знаю, как мне теперь сказать об этом сыну. Для него это будет таким тяжким ударом! Ты ведь очень любил свою сестру, Гэвир, верно? Но и я тоже очень ее любила. Надеюсь, это послужит тебе хоть каким-то утешением. Да, вот еще что… — И она вложила мне в руку маленький, но тяжелый шелковый кошелек. — Я пошлю на ее похороны всех своих служанок, — сказала она, глядя мне в глаза. — Поверь, мы все просто убиты смертью нашей милой Сэлло.
Я поклонился ей, но продолжал стоять и молчать. Снова вошли какие-то люди и увели меня.
Но назад к Сэлло я уже не вернулся и больше никогда ее не видел, так что мне пришлось запомнить ее лицо таким, каким оно было во время нашего последнего свидания: посеревшим, в синяках и очень усталым. Мне не хотелось помнить его таким, и я постарался выбросить эти воспоминания из головы, позабыть о них.
Меня снова отвели к Эверре, вот только ни он не хотел меня видеть, ни я его. Впрочем, как только я его увидел, слова так и посыпались у меня изо рта:
— Они накажут Торма? Накажут?
Эверра отшатнулся, словно испугавшись.
— Успокойся, Гэвир, успокойся, — бормотал он, пытаясь как-то усмирить мой гнев.
— Они накажут его?
— За смерть девушки-рабыни?
И вокруг этих его слов снова кругами стала расходиться та всепоглощающая тишина. Она захватывала все большее пространство вокруг, становилась все плотнее, все глубже. Я словно погрузился в некий бассейн, на самое его дно, только в бассейне была не вода, а тишина, а вокруг — пустота, и вскоре все заполнилось этой тишиной. Я даже дышать не мог — вдыхал не воздух, а эту тишину и эту пустоту…
А Эверра все еще что-то говорил. Я видел, как открывается и закрывается его рот. Как блестят его глаза. Странно, думал я, старый седой человек беззвучно открывает и закрывает рот? И я отвернулся.
В душе моей точно стена возникла, отгородив собой все то, чего я вспомнить не мог, потому что этого еще никогда не случалось. Раньше я никогда ничего не забывал, просто не мог забыть, зато теперь смог. Я мог забыть дни, ночи, недели. Мог забыть людей. Мог забыть все, что потерял, потому что у меня никогда этого как бы и не было.
Но я помню кладбище, где стоял ранним утром следующего дня, когда в небесах еще только блеснули первые лучи зари. Я хорошо это помню, потому что не раз «вспоминал» это и раньше.
Я хорошо помнил, как мы
хоронили старую Гамми и маленького Мива, помнил тот зеленый дождь молодой ивовой листвы, помнил, как мы стояли под городской стеной у реки, помнил, как пытался понять, кого же все-таки мы снова хороним этим утром…
Видимо, это был кто-то важный, ибо там присутствовала вся личная прислуга Матери Фалимер; все они были в белых траурных одеждах и прикрывали лица длинными белыми покрывалами; и тело покойного тоже было завернуто в прекрасный белый шелк, а Йеммер плакала навзрыд и никак не могла прочесть молитву Энну-Ме. Начнет и тут же срывается, начинает в голос рыдать, своим горестным плачем разрывая в клочья окутавшую всех тишину, так что и другие женщины, тоже плача, сразу принимаются ее утешать.
Я стоял у самой реки и смотрел, как она лижет и грызет землю, подтачивая берег, подъедая его снизу так, что белые корни трав повисают в воздухе и болтаются над водой. Если бы удалось заглянуть вглубь здешней земли, там можно было бы увидеть множество белых косточек, тонких, как эти корни, — косточек маленьких детей, которые похоронены там и ждут, когда вода придет туда и съест их могилы.
Какая-то женщина стояла неподалеку от меня, но не вместе со всеми. Длинная поношенная шаль, накинутая на голову, скрывала ее лицо, но один раз она все-таки на меня посмотрела. И оказалось, что это Сотур. Это я точно знаю. И некоторое время помнил, что рядом со мной была она.
А потом, когда Сотур и другие женщины ушли, вокруг меня появились еще какие-то люди, мужчины, и я спросил, нельзя ли мне еще немного побыть здесь, на кладбище. И один из них, Тэн, тот конюх, что всегда был добр ко мне, когда мы были еще детьми, положил руку мне на плечо и сказал:
— Может, лучше пока немного пройдешься? А потом возвращайся, хорошо?
Я кивнул.
Я видел, что губы он крепко сжал, чтоб не дрожали. И долго молчал, прежде чем сказать:
— Знаешь, Гэв, я другой такой чудесной девушки за всю жизнь не встречал!
А потом и Тэн, и все остальные мужчины тоже ушли. Перед уходом они тщательно закопали могилу и обложили ее зеленым дерном, так что теперь она почти ничем не отличалась от других могил; впрочем, все это, на мой взгляд, никакого значения не имело: все равно река вскоре их подмоет и там ничего не останется, разве что несколько кусков белой материи зацепятся за корни и будут, точно змеи, извиваться в быстро бегущей воде, стремящейся к морю…
Теперь на кладбище уже никого не осталось. Я еще немного постоял у могилы и побрел прочь — вверх по течению Нисас под зелеными ветвями ив.
Вскоре я вышел на тропу, которая, извиваясь между городской стеной и рекой, привела меня к Речным воротам. Я подождал, пока по мосту проедут направлявшиеся на рынок повозки — тяжелые фургоны, запряженные белыми быками, и маленькие тележки, которые тащили ослики или рабы, — и, как только между ними образовался проход, я перебрался через дорогу, прошел по мосту и двинулся дальше по западному берегу реки Нисас. Извилистая тропа, по которой я шел, сама вела меня и была очень красива; она то спускалась к самой воде, то взлетала на холмистый берег, где рачительные горожане устроили небольшие сады-огороды. Несколько стариков в этот ранний час уже торчали там, рыхля землю мотыгами, выпалывая сорняки и наслаждаясь теплым весенним утром. А я уходил все дальше, все глубже погружаясь в ту тишину, в тот пустой безмолвный мир, и мне уже казалось, что надо мною не небо, а низкие каменные своды той привидевшейся мне когда-то пещеры и я ухожу прямо в ее недра, в ее непроницаемую темноту.
Очень многое я больше уже никогда, наверное, не вспомню да и не стану вспоминать — особенно те дни, что последовали за похоронами Сэлло. Когда я наконец научился забывать, то освоил эту науку очень быстро и, пожалуй, даже слишком хорошо. А жалкие обрывки воспоминаний о тех днях, которые я еще способен порой обнаружить в своей памяти, могут оказаться как реальными воспоминаниями о прошлом, так и теми видениями, которые прежде часто мне являлись, — то есть «воспоминаниями» о временах, которые еще не наступили, и о местах, где я еще никогда не бывал. Я жил как бы одновременно и там, где в данный момент находился, и там, где меня никогда не было; и так продолжалось много дней, может, даже месяц или два. Нельзя даже сказать, что я уходил или убегал от Аркаманта, потому что позади у меня не осталось ничего, только та стена, и я уже успел позабыть почти все, что находилось за этой стеной. А впереди у меня и вообще ничего не было, кроме пустоты.
Я просто шел. Кто шел рядом со мною? Может, богиня Энну, которая провожает нас в царство смерти? Или, может, бог удачи, которому молишься порой, хоть он и глух? Скорее, меня вел сам путь. Если попадалась тропа, я шел по ней; если попадался мост через реку, я переходил по нему на тот берег; если встречалась деревня и я, уловив ароматы пищи, чувствовал, что голоден, то шел туда и покупал себе поесть. В кармане у меня по-прежнему лежал тот маленький шелковый кошелек, довольно тяжелый, плотно набитый деньгами, — так полнится кровью сердце, тяжелея от этого. Шесть больших серебряных монет, восемь «орлов», двадцать бронзовых «полуорлов» и девять бронзовых четвертаков. Я пересчитал эти монеты, когда впервые присел отдохнуть на берегу Нисаса в зарослях цветущих кустарников и густой высокой травы. В деревнях я тратил только четвертаки. Там даже такая монета казалась слишком крупной, и ее почти невозможно было разменять. Крестьяне, у которых не было даже нескольких грошей сдачи, предлагали мне взять провизию про запас. Да и вообще почти все люди там охотно делились со мной продуктами, а некоторые и вовсе предпочитали отдать мне еду даром, а не продавать ее. Я был в белых траурных одеждах, у меня была речь образованного горожанина, так что в деревнях меня почтительно называли «ди» и спрашивали: «Куда же ты идешь, ди?» — а я отвечал: «Сестру иду хоронить».
«Бедный мальчик!» — вздыхали женщины. А малышня порой долго бежала за мной с криками: «Сумасшедший! Сумасшедший!» — но ко мне не приближалась.
Меня не ограбили в тех бедняцких селениях, через которые я проходил, только потому, наверное, что у меня даже и мысли такой не возникло; и я ничуть не боялся, что меня могут ограбить; впрочем, даже если б и ограбили, вряд ли это имело бы для меня какое-то значение. Просто я лишний раз убедился, что когда тебе и молить-то богов не о чем, вот тут-то глухой бог удачи и слышит твои шаги.
Если бы в Аркаманте объявили, что у них сбежал раб, и меня стали бы искать, то, конечно же, сразу и отыскали бы. Я ведь не прятался. Любой человек на берегах Нисаса, видевший меня, мог навести на мой след. Но видимо, в Аркаманте решили, что я утопился с горя; мол, Гэвир нарочно остался один на кладбище, а потом взял в руки камень потяжелее и бросился в воду. А на самом деле я вместо камня взял из рук Матери Фалимер шелковый кошелек с деньгами, сунул его в карман да и пошел куда глаза глядят — просто в тот момент мне в голову не пришло, что можно взять тяжелый камень и броситься в реку. Мне, собственно, было все равно, как поступить, и все равно, куда идти; и все дни казались похожими друг на друга. И только в одну сторону я пойти не мог — назад.
Не помню, где я перебрался через Нисас. Сельские дороги, петляя, вели меня из одной деревни в другую, и вот однажды я увидел впереди вершины округлых зеленых холмов. Оказалось, что я невольно вышел на дорогу, ведущую в Венте. Я понимал, что если пойти по этой дороге, то она приведет меня к знакомой ферме и к «нашему» Сентасу. Откуда-то из глубин забвения вдруг всплыли эти слова: «ферма», «Венте», «Сентас»; а потом я вспомнил и одного человека, который раньше там жил, деревенского раба по имени Коуми.
Я сел в тени дуба и стал жевать кусок хлеба, который кто-то дал мне. Мысли мои текли очень медленно, и, чтобы что-то решить, мне требовалось невероятно много времени. Мы с Коуми когда-то были друзьями. И я решил, что вполне мог бы дойти до самой усадьбы, а может, и остаться там. Все домашние рабы хорошо меня знают, думал я, и, наверное, будут неплохо ко мне относиться. И мы с Коуми будем вместе удить рыбу.
Но что, если ферма сожжена дотла во время войны с Казикаром? Что, если сады вырублены под корень, а виноградные лозы выкорчеваны из земли?
Ну что ж, тогда я, наверное, смогу жить в построенном нами Сентасе, как в настоящей крепости…
Дождавшись, когда закончится череда этих медлительных и глупых мыслей, я встал, повернулся спиной к дороге, ведущей в Венте, и двинулся на северо-восток по тропке меж двух полей.
Тропа вывела меня на какую-то почти безлюдную дорогу, узкую и покрытую колдобинами. Дорога эта тянулась и тянулась без конца, все дальше уводя меня ото всего того, что я еще помнил и хотел забыть. Я все шел и шел и наконец попал в какой-то город, где на рынке купил себе еды на несколько дней и грубое коричневое одеяло, чтобы не замерзнуть ночью. Потом я снова двинулся в путь, и вскоре дорога привела меня в жалкую, заброшенную деревушку, где меня облаяли выбежавшие из дворов собаки, а потому я решил там не останавливаться. Да мне и не для чего, собственно, было там останавливаться.
После той деревушки дорога превратилась в узкую извилистую тропку. На округлых холмах, где я не заметил ни одного распаханного поля, паслись и жирели овцы; их охраняли крупные серые пастушьи собаки. Собаки непременно вставали и внимательно следили за мной, когда я проходил мимо. В лощинах меж холмами густо росли деревья, и в этих рощах я устраивался на ночлег. Воду я пил из маленьких ручейков, что струились среди деревьев. Когда у меня совсем не осталось еды, я стал искать там и что-нибудь съедобное. Но было еще слишком рано, и мне попалось только несколько ранних ягодок земляники; впрочем, я и не знал толком, что и как искать, чтобы хоть немного утолить голод, а потому бросил это занятие и пошел дальше. Тропа по-прежнему вилась среди холмов. Меня стал донимать голод, и в голове мелькнула мысль — нет, не воспоминание, просто мимолетная мысль — о том, что, пока меня очень неплохо кормили в святилище у жрецов, один очень близкий мне человек так сильно голодал, что погубил этим своего еще не родившегося ребенка. Так что теперь по справедливости наступила моя очередь голодать.
С каждым днем я проходил все меньше и меньше и все чаще садился отдохнуть на припеке среди диких трав. Цветущие травы были прекрасны в своем разнообразии. Я с удовольствием наблюдал за крошечными мушками, за пчелами, гудевшими в воздухе, или же что-то вспоминал — то ли случившееся в действительности, то ли бывшее одним из моих «воспоминаний», — но все это казалось мне одним и тем же длинным-предлинным сном. День постепенно подходил к концу, солнце завершало свой путь по небосводу, так что мне приходилось вставать и, едва волоча ноги, пускаться в путь, чтобы найти место для ночлега. Однажды в темноте я сбился с той тропы и, не найдя ее утром, пошел просто так, без дороги.
Как-то раз, уже в сумерках, я медленно спускался по склону холма, рассчитывая найти у его подножия ручеек и напиться. Ноги подо мной подгибались от слабости и усталости. Вдруг сзади на меня что-то обрушилось, сильно ударив в спину, так что у меня перехватило дыхание; деревья замелькали, закружились перед глазами, вспыхнул какой-то странный свет — и все померкло.
Через некоторое время я пришел в себя и обнаружил, что лежу на какой-то странной постели из шкур, от которых исходит чрезвычайно сильный и не слишком приятный запах. Совсем близко от моего лица находился потолок, точнее, низкий свод из грубого черного камня. Вокруг было почти темно. Я чувствовал, что к моей ноге прильнуло какое-то крупное и теплое животное. Оно шевельнулось, и я увидел длинную собачью морду, покрытую серой шерстью, с тяжелым лбом, с мрачными складками в углах черных губ. Темные глаза пса смотрели не на меня, а куда-то дальше, за мое плечо. Затем пес тоненько заскулил, встал и куда-то пошел, перешагнув через мои ноги. Я услышал, как кто-то ласково с ним разговаривает. Потом этот человек подошел, присел возле меня на корточки и стал о чем-то расспрашивать, только я почему-то не понимал ни слова и лишь смотрел на него. В слабом свете, который, казалось, отражался от черного каменного пола пещеры, я отчетливо видел яркие белки его глаз и черные с проседью волосы, неопрятными пучками торчавшие вокруг темнокожего или просто смуглого лица. От незнакомца исходил еще более сильный запах, чем от тех грязных, явно плохо выскобленных шкур, на которых я лежал. Он принес мне воды в чашке, сделанной из коры, и помог напиться, потому что я даже руки поднять не мог.
И потом я еще долго просто лежал под этим низким каменным сводом, и в голове у меня не было никаких воспоминаний об иных местах или временах. Я существовал только там и только в данный отрезок времени. В основном я лежал в полном одиночестве, хотя порой со мной оставался пес, всегда устраивавшийся возле моей левой ноги. Иногда пес поднимал голову и смотрел куда-то в темноту пещеры. В лицо мне он никогда не смотрел. Когда в пещеру, пригнувшись, входил тот человек, пес вставал, подходил к нему, тыкался своей длинной мордой ему в руку и исчезал. Через некоторое время он, правда, возвращался, вместе с хозяином или один, перешагивал через меня, один разок поворачивался на месте и снова укладывался возле моей левой ноги. Звали его Страж.
А хозяина его звали Куга или Куха. Иногда он произносил свое имя так, иногда иначе, но всегда очень невнятно. Он вообще как-то странно говорил: звуки доносились откуда-то из глубины его горла, словно что-то мешало им вырваться наружу, словно в глотке у него застряли и перекатываются мелкие камешки. Вернувшись в пещеру, Куга первым делом садился возле меня, давал мне свежей воды и немного поесть: обычно это было несколько тонких полосок вяленого мяса или рыбы, а иногда и немного ягод, когда они стали наконец созревать. Но кормил он меня всегда понемножку.
— С чего это ты так оголодал-то? — спрашивал он. — И зачем сюда забрел? — Он вообще говорил довольно много, и не только со мной; я часто слышал, как он где-то в другой части пещеры разговаривает сам с собой или со своей собакой, но всегда негромко и довольно невнятно — он явно и не ждал ответа на свои слова. У меня же он все допытывался: — Никак я не пойму, что тебя заставило голодать? Еды-то кругом полно. Поищешь и найдешь. Я-то сперва решил, что ты из Деррама и они снова вздумали за мной охотиться. Вот и пошел за тобой. Шел и наблюдал. Я, видишь ли, могу хоть весь день за кем-нибудь наблюдать. А Стражу я сказал: «Лежи и молчи». Потом ты вроде бы дальше собрался идти, я и успокоился. Но ты взял да и поперся прямо сюда. И что я, по-твоему, должен был делать? Ты нахально лезешь прямо ко мне в пещеру и меня не замечаешь, хоть я и стою у тебя за спиной с дубинкой в руке, вот я и врезал тебе по башке — хрясь! — И он, изобразив, как это было, рассмеялся, показывая свои редкие коричневые зубы. — Ты ведь небось меня так и не заметил? В общем, я уж решил, что прикончил тебя. Ты ведь свалился — точно сухая ветка с дерева. Так на месте и рухнул. Ну и ладно, думаю, убил так убил! И поделом этим нахалам из Деррама! Вдруг смотрю — да это ж совсем мальчишка! Сампа, Сампа, думаю, до чего я дошел! Мальчишку ни за что ни про что прикончил! Ан нет, оказалось, ты вовсе и не мертвый, а очень даже живой! Вон, даже и башку свою пустую о камни не расквасил! Но упал, точно ветка сухая. А уж тощий! Я тебя с земли одной рукой поднял, точно козленка. Я ведь сильный! Они все это знают! Потому сюда и не суются. А ты-то чего сунулся, парень? Что тебя заставило? И почему так голодал? Лежал точно мертвый, а у самого в кармане денег — не перечесть! И бронзовых монет, и серебряных, и с ликами богов! Богатый, как король Кумбело! Ну скажи, чего ж ты голодал-то? И чего тебя сюда-то занесло с такими деньгами? Ты что, оленя у госпожи нашей Йене купить хотел? Или ты, может, не в себе, а? Ты, случаем, не спятил? А, парень? — Он кивнул. — Ну да, точно спятил! — Он добродушно усмехнулся и доверительно сообщил: — Так ведь и я тоже, парень, спятил. Меня так и прозвали — Чокнутый Куга. — Он снова тихонько засмеялся и дал мне тоненькую полоску сладковатого мяса, волокнистого и чуть горьковатого, с привкусом дыма и пепла. Я медленно жевал, и рот мой был полон голодной слюны.
Вот и все, что сохранилось в моей памяти об этом периоде моей жизни: постоянное чувство голода, живой вкус пищи, которую скупо выдавал мне мой спаситель, его надломленный невнятный голос, непрерывно что-то бормочущий, черные каменные своды пещеры над моим лицом, сильный, довольно противный запах дыма и шерсти. Да еще прижимающийся к моей ноге пес. Затем я наконец смог сесть. Затем — доползти до входа в свои «каменные покои» и понять, что это самая внутренняя, самая нижняя часть той огромной пещеры, которую Куга превратил в свой дом. Я медленно-медленно обследовал ее. Кое-где я мог даже выпрямиться во весь рост, например в центре. Самая большая ее «комната» оказалась весьма просторной, но пол ее был покрыт толстым слоем каменных осколков, потому что черный пористый известняк, из которого состояли стены и потолок пещеры, постоянно трескался и осыпался. Сверху сквозь эти трещины и щели проникал дневной свет, благодаря чему в пещере царил некий дымный полумрак. Когда же я впервые вышел наружу, то яркий солнечный свет совершенно меня ослепил; перед глазами замелькали золотистые и красные пятна, и я чуть не потерял сознание. А воздух показался мне слаще меда.
Даже вблизи вход в пещеру заметить было почти невозможно; в глаза бросалась только мощная каменистая осыпь, похожая на пересохший водопад и поросшая ползучими растениями и папоротниками.
Основное имущество Куги составляли многочисленные шкуры оленей и кроликов, выделанные, надо сказать, весьма плохо и грубо. У него имелось также несколько чашек из коры, несколько ложек, еще кое-какая кухонная утварь, вырезанная из ольхи, и моток тонких жил для шитья и изготовления лесок. Но самым главным его сокровищем была большая металлическая коробка, наполовину полная грязной крупной соли. Имелись еще трутница и все необходимое для разведения огня, два охотничьих ножа с лезвиями из хорошей стали и ручками из рога косули; эти ножи Куга постоянно точил с помощью гладкого речного камня-голыша. Свои сокровища он ревностно охранял и, подозревая меня в возможном воровстве, старательно их прятал. Я, например, никогда не знал, где он хранит соль. Когда ему впервые пришлось в моем присутствии достать один из своих ножей, он тут же принялся, скалясь, хвастаться им передо мной, а потом сказал своим задушенным голосом:
— Смотри не вздумай его трогать! Даже не прикасайся к нему! Не то, клянусь богом Разрушителем, я этим самым ножом сердце тебе из груди выну!
— Ни за что даже в руки его не возьму, — пообещал я.
— Учти, он сам у тебя в руках извернется и горло тебе перережет, стоит тебе к нему прикоснуться!
— Да не буду я к нему прикасаться!
— Ты лжешь, — заявил он. — Лжешь! Все люди — лжецы. — Иногда он изрекал нечто подобное и потом повторял это без конца, словно у него внутри что-то заело, и больше за день не произносил ни слова. Вот и сейчас он начал бормотать как заведенный: «Все люди — лжецы, все люди — лжецы… Не тронь его, держись от него подальше!..» Хотя в другие дни разговор его был вполне разумным.
Самому-то мне нечего было ему рассказать, но его это, по-моему, вполне устраивало. Он ведь и со мной разговаривал точно так же, как со своим псом, — не ожидая ответа; рассказывал о своих вылазках в лес к кроличьим силкам или вершам для ловли рыбы, о том, как собирал ягоды, и обо всем, что видел, слышал или почуял. Я молча слушал — тоже как пес — эти долгие рассказы, даже не пытаясь его прервать.
— А ведь ты беглый, — сказал он мне как-то вечером, когда мы сидели снаружи и смотрели сквозь листву на крупные яркие августовские звезды. — Ты домашний раб, воспитанный и обласканный хозяевами, настоящий неженка. Значит, ты убежал? И небось думаешь, что я тоже беглый раб? Ох, нет! Нет, нет и нет. Но может, тебе другие беглые рабы нужны? Тогда иди на север, в леса, они там. Только мне у них делать нечего. Все они лжецы и воры. А я — человек свободный! И рожден свободным. И не желаю с ними путаться. И с крестьянами тоже не желаю. И с горожанами, чтоб их всех Сампа покарал, этих лжецов, болтунов и ворюг. Все люди — лжецы, болтуны и воры!
— Откуда ты узнал, что я раб? — спросил я.
— А кем еще ты можешь быть? — сказал он со своей мрачной усмешкой и лукаво на меня посмотрел.
Я не нашелся что ему ответить.
— Я пришел сюда, чтобы стать свободным от них. От всех, — сказал Куга. — Они называют меня диким человеком, отшельником, чокнутым, они меня боятся. Зато теперь они оставили меня в покое. Куга-отшельник, ха! Вот и держатся отсюда подальше. Даже нос сюда сунуть боятся!
— Ты настоящий хозяин Кугаманта! — сказал я с искренним восхищением.
Он некоторое время молчал, переваривая это определение, затем вдруг разразился своим задушенным кудахчущим смехом и принялся шлепать себя по ляжке крупной тяжелой ладонью. Он вообще был человеком очень крупным и очень сильным, хотя ему наверняка уже перевалило за пятьдесят.
— А ну скажи-ка это еще раз, — попросил он.
— Ты настоящий хозяин Кугаманта.
— Вот именно! Так оно и есть! Это все мои владения, и я здесь хозяин! Клянусь Разрушителем, так оно и есть! Наконец-то я встретил человека, который говорит правду! Клянусь Разрушителем! Это ж надо! Человек, говорящий правду, пришел ко мне, и как я его приветил? Разбил ему голову палкой! Ничего себе приветствие! Добро пожаловать в Кугамант — и хрясь! — Куга еще долго смеялся, то замолкая, то вновь начиная тихо кудахтать, потом внимательно посмотрел на меня и сказал торжественно: — Здесь ты свободный человек, можешь мне поверить!
И я сказал:
— Да, я верю тебе.
Куга жил в грязи, никогда не мылся, отвратительно выделанные шкуры гнили и жутко воняли, однако пищу он хранил весьма аккуратно и старательно делал запасы. Он коптил, точнее, вялил мясо всех наиболее крупных животных, которых ему удавалось добыть — кроликов, зайцев, иногда козлят или оленей, — подвешивая его над очагом в той части пещеры, где у него была «кухня». Он ловил в силки всевозможных полевых зверюшек — даже древесных крыс, даже мышей-полевок — и варил их сразу, с аппетитом поедая свое нехитрое варево. Его силки имели весьма хитроумное устройство, а терпение его было поистине безгранично. Но вот с лесками и крючками ему явно не везло, и рыбу он ловил редко. Во всяком случае, достаточно крупные рыбины, чтобы их стоило коптить, ему почти не попадались. Я понимал, что вот тут-то моя помощь и была бы очень кстати. В качестве лесок Куга использовал только сухожилия, вымоченные для мягкости, а я вытянул из льняной основы своего коричневого одеяла несколько крученых нитей и привязал к ним те прекрасные костяные крючки, которые он вырезал сам. Вскоре мне удалось поймать несколько крупных окуней, затем я наловил мелкой коричневой форели, в изобилии водившейся в заводях нашего ручья, и Куга научил меня вялить и коптить рыбу. Но в целом ему от меня пользы было мало. Он не разрешал мне ходить с ним вместе в лес и зачастую вообще целыми днями не обращал на меня внимания, блуждая в потемках своего скособоченного разума и без конца бормоча себе под нос одно и то же. Но когда он садился есть, то всегда делился едой со мной и со Стражем.
Я никогда не спрашивал его, почему он взял меня к себе, почему оставил в живых. Такие вопросы мне и в голову не приходили. Я вообще старался ему вопросов не задавать. И только однажды спросил, откуда взялся Страж.
— Одна пастушья сука, — пояснил он, — ощенилась вон там, чуть подальше, с восточной стороны той скалы. Я заметил ее щенков, они выползли из норы поиграть, и решил, что это волчата. Взял нож и пошел туда. Хотел вытащить их всех из норы да глотки им перерезать. Подхожу к ее логову, а эта сука как вылетит из-за валуна и прямо на меня! Тут я ей и говорю: «Эй, спокойно, мамаша. Волка я бы точно убил, но собаку никогда не трону, ясно тебе?» А она мне зубы показала, вроде как улыбнулась… — и Куга в насмешливом оскале продемонстрировал мне свои коричневые зубы, — да и нырнула к себе в логово. А я домой пошел. Потом еще несколько раз туда приходил, мы с ней познакомились, и она перестала меня бояться, стала сама щенят наружу выносить, а я смотрел, как они играют. А с этим малышом мы подружились. Он потом сам со мной ушел. Я иногда хожу туда ее навестить. У нее сейчас как раз новый помет.
Сам Куга так ни одного вопроса мне и не задал.
А если бы задал, то ответов у меня все равно не было бы. Стоило мне начать что-то вспоминать, и я тут же гнал эти воспоминания прочь, отворачивался от них, старался думать только о том, что в данный момент было у меня перед глазами или в руках, только этим и жил. И те, прежние «воспоминания», или видения, меня совсем не посещали. А если мне что-то и снилось, то, проснувшись, я этих снов уже не помнил.
Свет по утрам теперь отливал старинным золотом, дни стали короче, а ночи — холоднее. Как-то раз «хозяин Кугаманта», сидя напротив меня у нашего небольшого очага, снял губами с палочки небольшую, целиком зажаренную форель, отправил ее в рот, тщательно прожевал, проглотил, вытер руки о голую, покрытую коркой грязи грудь и сообщил:
— Зимой тут ух как холодно! Помрешь ты тут со мной.
Я ничего не ответил. Он знал, о чем говорит.
— Ты дальше иди.
Я долго молчал, потом сказал:
— Некуда мне идти, Куга.
— Есть, есть куда! В лес — вот куда тебе надо! — Он мотнул головой в сторону северных лесов. — В Данеран. В большой лес. Говорят, у Данеранского леса и конца нет. И уж там-то никто за рабами охотиться не станет. Нет-нет. Охотники за рабами туда не суются. Там только лесные люди встречаются. Вот туда тебе и надо идти.
— Там у меня тоже крыши над головой не будет, — сказал я и подбросил в очаг еще кусок коры.
— Нет-нет. Они там славно живут. И крыши у них есть, и стены, и все такое. И кровати, и одеяла. Они меня знают, и я их знаю. Мы с ними друг друга не трогаем. Они меня хорошо знают! Потому и держатся от меня в сторонке. — Куга нахмурился и снова, как обычно, принялся бормотать: «Держатся в сторонке, держатся в сторонке…»
На следующий день он растолкал меня с утра пораньше, выложил на плоский камень у входа в пещеру мое коричневое одеяло, шелковый кошелек, полный монет, вонючую меховую шапку, которую не так давно подарил мне, и сверток с вяленым мясом.
— Ну, давай! — И он кивнул в сторону моих пожитков.
Но я застыл как вкопанный. Лицо Куги помрачнело, стало напряженным.
— Сохрани это для меня, — сказал я, протягивая ему шелковый кошелек.
Он задумчиво пожевал губу, помолчал и спросил:
— Боишься, что тебя из-за него убьют?
Я кивнул.
— Может, и убьют, — сказал он. — Это очень даже может быть. Воры, болтуны… Только и мне эта штуковина совсем ни к чему. Да и где мне ее спрятать-то?
— В коробке с солью, — подсказал я.
Глаза у него гневно вспыхнули.
— А где ты ее видел? — рявкнул он, охваченный неприязненной подозрительностью.
Я пожал плечами:
— Нигде. Я ее так и не сумел найти. По-моему, ее никто бы не нашел.
Это ему понравилось, и он засмеялся, широко раскрыв рот.
— Я знаю, — сказал он. — Знаю, что не нашел бы! Ну ладно.
И тяжелый, покрытый пятнами, утративший свой первоначальный цвет кошелек исчез в его огромной ладони. Куга нырнул в глубины пещеры и довольно долго не появлялся. Затем он вышел оттуда, кивнул мне и сказал:
— Ну давай, пошли. — И тут же двинулся в путь своей неуклюжей — он слегка прихрамывал — походкой; казалось, он идет довольно медленно, но на самом деле легко преодолевал огромные расстояния.
За лето я окреп, так что вполне поспевал за ним, хотя к вечеру и почувствовал себя совершенно измотанным, да еще и ноги себе стер.
У последнего ручья, где мы остановились, Куга велел мне напиться вволю. Затем мы перебрались через ручей, взобрались по пологому склону холма и остановились на вершине. Это был последний холм; дальше расстилалась просторная равнина, на дальнем краю которой виднелась темная полоска леса. Лес охватывал весь горизонт, утопая в голубоватой дымке, и не было ему ни конца ни края. Солнце еще не село, но тени уже стали длинными и темными.
Куга тут же захлопотал: принес дров и разжег костер, причем большой костер, специально воспользовавшись сырым деревом, чтобы дым можно было заметить издали.
— Вот и хорошо, — сказал он. — Они скоро придут. — И сразу собрался уходить назад.
— Погоди! — не выдержал я.
Он остановился, явно испытывая нетерпение, и попытался меня успокоить:
— Ничего, ты просто подожди немного. Они скоро будут здесь.
— Я еще вернусь к тебе, Куга.
Он сердито помотал головой, повернулся и ушел, широко шагая по сухой траве и слегка горбясь, а через минуту уже исчез за деревьями на склоне холма в той стороне, где пылало закатное солнце.
В ту ночь я спал один у костра, завернувшись в свое коричневое одеяло и напялив меховую шапку, пропахшую дымом, и теперь этот запах был мне даже приятен. Я ведь исцелился, окруженный этой вонью.
Спал я тревожно, то и дело просыпался, а потом встал и снова разжег костер — не для того, чтобы согреться, а в качестве сигнала. К утру я снова задремал, и мне приснилось, что я ночую на холме Сентас, в крепости нашей мечты, и все остальные тоже там, со мной. Я слышал, как они шепчутся в темноте. А одна из девочек даже тихонько засмеялась… Проснувшись, я все еще помнил этот сон, и мне не хотелось упускать его из памяти, хотелось еще пожить там, в этом сне. Однако проснулся я, собственно, от жажды и теперь лежал, ожидая рассвета и уговаривая себя встать, пойти к подножию холма и поискать там воду.
Мы ведь никогда не ночевали на холме Сентас, думал я. Мы всегда спали рядом с домом, под деревьями. И всегда сквозь листву видели звезды. Мы, разумеется, не раз говорили, что хорошо бы хоть раз переночевать в нашей крепости, но так на это и не решились.
Глава 8
Я еще ни одного из них не успел заметить, а четверо уже окружили меня. Я едва успел проснуться. Я уже говорил, что лег спать на открытом склоне холма у погасшего костра, и вот теперь они стояли вокруг меня и не двигались, вынырнув из травы, из сероватого воздуха предрассветных сумерек, точно призраки. Я переводил глаза с одного на другого и боялся пошевелиться.
Они были вооружены, но не как воины — всего лишь небольшими луками и длинными ножами. Двое, правда, держали в руках еще и пятифутовые посохи. Вид у всех был весьма мрачный.
Наконец один из них спросил тихим, хрипловатым голосом, почти шепотом:
— Костер потух?
Я кивнул.
Он подошел, пнул ногой полуобгоревшие валежины, тщательно затоптал уголья и даже руками их пощупал. Я встал и принялся вместе с ним забрасывать кострище землей.
— Ладно, пошли, — сказал он. Я быстренько свернул свое одеяло, сунув внутрь остатки вяленого мяса, и нацепил на голову шапку из шкурок кролика и белки.
— Воняет-то как! — заметил один из этих людей.
— Не то слово, — подхватил второй. — В точности как сам старый Куга.
— Это он меня сюда привел, — сказал я.
— Куга?
— Значит, ты у него жил?
— Да, все лето.
Один внимательно меня осмотрел, второй сплюнул, третий пожал плечами, а четвертый, тот, что первым заговорил со мной, молча мотнул головой в сторону леса и стал спускаться по длинному пологому склону холма, ведя нас за собой.
У подножия холма протекал ручей, и я опустился на колени, чтобы напиться, но вожак с хриплым голосом ткнул в меня своим посохом и, не дав мне как следует утолить жажду, сказал:
— Хватит, и так весь день мочиться будешь. — Я поспешно вскочил и последовал за ним на тот берег ручья, под темную сень деревьев.
Шли мы очень быстро, часто даже бежали рысцой и лишь в полдень остановились передохнуть на небольшой полянке в чаще леса. Над поляной висел тяжелый запах крови. Стая стервятников, тяжело хлопая огромными черными крыльями, взлетела с чьих-то останков — на траве валялись кишки и черепа. Туши трех оленей, выпотрошенные и подвешенные высоко на ветвях дерева, блестели от покрывавших их мух. Мои спутники сняли туши и распределили груз так, чтобы каждому досталось примерно поровну. Затем мы снова пустились в путь, но теперь уже не так спешили. Меня по-прежнему мучила жажда, да и проклятые мухи продолжали роиться вокруг нас, соблазненные запахом мяса. Груз, который достался мне, был увязан не слишком удачно, а ноги мои, еще вчера истерзанные долгим путешествием и стертые в кровь, причиняли мне весьма ощутимые страдания. Извилистая тропа, по которой мы шли, была еле заметна в полумраке леса; ее можно было разглядеть перед собой в лучшем случае на два-три шага. Вокруг росли огромные деревья с темными кронами; я все время спотыкался о вылезшие из земли корни; а когда мы наконец добрались до ручья, пересекавшего тропу, я прямо-таки рухнул на землю и припал к воде.
Вожак обернулся и, толкнув меня посохом, заставил подняться.
— Идем! Вот доберемся, там и напьешься! — сказал он. Но один из его спутников, который тоже с жадностью пил, поднял голову и сказал ему:
— Да ладно, Бриджин, пусть пьет.
Вожак возражать не стал и подождал, пока мы не напились вдоволь.
Когда мы вброд переходили ручей, вода омыла мои истерзанные ступни чудесной прохладой, но потом боль в стертых ногах стала совсем невыносимой, а мокрые башмаки еще усилили эту пытку, и, когда мы добрались до лесного лагеря, я уже хромал вовсю. Сбросив свой груз оленины под открытым навесом, я наконец выпрямился и огляделся.
Если бы я пришел в это лесное селение из Аркаманта, оно, скорее всего, вообще никакого впечатления на меня не произвело бы. Несколько низеньких хижин, людей совсем немного, на лужайке у небольшого ручья растут высокие ольховины, а вокруг темная лесная чаща. Но я явился из диких краев, из своего одиночества, и этот поселок в чаще леса меня ошеломил, а присутствие незнакомых людей, от общества которых я совершенно отвык, даже, пожалуй, напугало.
Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. И я, собрав все свое мужество, пошел к ручью, протекавшему в тени ольховин, и наконец-то утолил терзавшую меня жажду; затем снял башмаки и опустил свои окровавленные, горящие ноги в воду. Поляна была насквозь прогрета еще довольно теплым осенним солнцем, так что, немного поколебавшись, я снял с себя одежду, залез в ручей и как следует вымылся. Затем, как сумел, выстирал свою одежду, которая когда-то была белой. Белое платье надевает невеста во время церемонии обручения, в белый саван закутывают покойника, в белых одеждах люди провожают умершего в последний путь. Но сказать, какого цвета моя одежда теперь, не мог даже я. Она приобрела некий серо-коричневый оттенок и более всего напоминала старый половик. Впрочем, я и не думал, что смогу вернуть ей прежнюю белизну. Разложив выстиранные вещи на траве, чтобы немного подсохли, я снова залез в ручей и погрузился в воду с головой: мне хотелось хоть немного отмыть свои свалявшиеся космы. Когда же я вынырнул, то на мгновение ослеп: спутанные отросшие волосы совершенно залепили мне лицо. Я долго и тщательно тер и отскребал их, то и дело ныряя в ручей, а когда в очередной раз вынырнул, то увидел, что возле моих одежек на берегу сидит какой-то человек и смотрит на меня.
— Уже гораздо лучше, — одобрил он мой внешний вид.
Это был тот самый человек, который сказал вожаку, чтобы тот позволил мне напиться из ручья.
Он был невысок и смугл; на его высоких скулах рдел румянец; глаза были темные, узкие; волосы, подстриженные очень коротко, стояли ежиком. И говор у него был какой-то странный, нездешний.
Я вылез из воды, кое-как вытерся своим старым коричневым одеялом и натянул еще сырую рубаху, стремясь хоть как-то соблюсти приличия, хотя вокруг, похоже, были одни мужчины. Кроме того, я здорово замерз, и мне хотелось согреться. Солнце уже ушло с поляны, хотя небо было все еще светлым, и я весь дрожал, но все же не хотел пачкать грязной вонючей шапчонкой свои чистые волосы, ибо чистота эта досталась мне с превеликим трудом.
— Эй, — сказал мне мужчина, — погоди-ка. — Он куда-то ушел и вскоре вернулся, неся рубаху и еще кое-что из одежды; я даже не сразу понял, что это такое. — Надевай. Это, по крайней мере, сухое, — сказал он.
Я стянул с себя липкую, мокрую рубаху и надел ту, что он мне принес. Рубаха была из мягкого коричневатого полотна, сильно поношенная, с длинными рукавами, очень теплая и приятная на теле. Он подал мне какой-то второй предмет, черного цвета, из тяжелого плотного материала, и я решил, что это накидка или плащ. Я даже попытался набросить эту штуковину на плечи, но никак не мог понять, как же ее пристроить.
Мужчина некоторое время наблюдал за моими действиями, потом рухнул навзничь на берег ручья и захохотал, дрыгая в воздухе ногами. Он смеялся до тех пор, пока глаза его совсем не скрылись в морщинах, а лицо не приобрело багровый оттенок. Затем он перекатился на живот, встал на колени и продолжал смеяться, пока не прослезился. Хотя смеялся он не слишком громко, некоторые обитатели лагеря, услышав его смех, подошли к нам, посмотрели на него, на меня и тоже принялись хохотать.
— Ох! — с трудом промолвил наконец мой новый знакомец, вытирая глаза и садясь. — Ох, ну и посмеялся же я! Это килт, малыш. Его носят… — И он снова захохотал, даже пополам от смеха согнулся. — В общем, носят его… на другом конце туловища!
Я внимательно осмотрел «накидку» и увидел, что у нее есть пояс, как у штанов.
— Ладно, я и без этой юбки обойдусь, — сказал я. — Если ты не против.
— Нет, я не против, — сказал он, ухмыляясь. — Давай сюда мой килт.
— Что ж ты парню свои дурацкие юбки подсовываешь, Чамри? — спросил один из тех, что наблюдали за этой сценой. — Погоди, парень, сейчас я раздобуду тебе что-нибудь более пристойное. — Он ушел и вернулся с парой узких штанов, которые вполне мне подошли, хоть и были немного великоваты. Я с удовольствием их натянул, и он сказал: — Оставь их себе, все равно они мне теперь малы, на пузе не сходятся. Значит, это тебя сегодня Бриджин привел? Решил, значит, к нам присоединиться? И как же прикажешь тебя называть?
— Меня зовут Гэвир Арка, — сказал я.
Тот человек, что попытался одеть меня в килт, усмехнулся:
— Ага, значит, так и будем тебя звать.
Я непонимающе на него уставился, и он пояснил:
— Ты что, хочешь пользоваться именно этим именем?
Я так мало думал в последнее время, что мозги мои никак не желали просыпаться; им, видно, требовалось время для разгона. И я, решив, что мое полное имя звучит слишком торжественно, сказал:
— Можно просто Гэв.
— Ну, Гэв так Гэв, — пожал он плечами. — А я — Чамри Берн из Бернманта; я пользуюсь своим настоящим именем, потому что сейчас я так далеко от родного дома, что меня никому не выследить — ни по имени, ни по слухам, ни по приметам.
— Ага, он родом оттуда, где мужчины носят юбки, а женщины мочатся стоя, — пояснил один из собравшихся на берегу, и эти слова снова вызвали смех.
— Нижнеземельцы, что с них возьмешь! — презрительно бросил Чамри Берн, махнув в их сторону рукой. — Только свои Нижние Земли и знают! Ну, пошли, Гэв. Надо тебе клятву принести, если ты надумал с нами остаться. В общем, принеси скорей обет — и получишь свой обед. Я, кстати, видел, как ты целую кучу мяса притащил, так что обед ты вполне отработал.
Бог удачи, говорят, глух на одно ухо — на то самое, к которому мы и приникаем со своими мольбами, так что услышать нас он не может. А что он на самом деле слышит, к чему прислушивается, не знает никто. Поэт Дениос, например, утверждал, что бог удачи слышит «грохот звездных колесниц на перепутье в небесах». Я знаю одно: пока я был погружен в глубины той всеобъемлющей тишины, где не было ни мыслей, ни воспоминаний, ни желаний, ни надежды, ни веры, бог удачи оставался со мной. Я выжил, хотя мне было все равно, выживу ли я. И никто из незнакомых, совершенно чужих людей не причинил мне зла. Я нес с собой много денег, но меня не ограбили. Когда я остался один и готовился умереть, старый безумный отшельник заставил меня вернуться к жизни. И теперь бог удачи послал меня к этим замечательным людям, и одного из них звали Чамри Берн.
Чамри подошел к столбу, торчавшему возле самой большой хижины, и ударил висевшим там ломиком по прибитой к этому столбу железной перекладине. Возле столба тут же стали собираться люди.
— Вот, познакомьтесь, — сказал Чамри, обращаясь к толпе. — Это новичок. Его зовут Гэв. По его словам, он довольно долго прожил вместе с Кугой-Гоблином, чем и объясняется тот запах, который он принес с собой. Впрочем, он уже успел вымыться в нашей речке, а теперь и к нашей компании хотел бы присоединиться. Верно я говорю, Гэв?
Я кивнул. Я страшно смутился, оказавшись в центре такой большой толпы, — по-моему, их было никак не менее двух десятков человек, и все эти люди с любопытством меня рассматривали. По большей части они были молоды, вид имели аккуратный и опрятный, а взгляд столь же непреклонный и решительный, как у Бриджина, вожака того отряда, с которым я пришел сюда. Впрочем, кое-где виднелись и седые или лысые головы; попадались в толпе и толстяки с весьма увесистыми животами.
— Ты знаешь, кто мы такие? — спросил один из лысых.
И я, набравшись смелости, выдохнул:
— Неужели вы и есть те самые барнавиты?
Мои слова кое-кого заставили нахмуриться, а кое-кого — рассмеяться.
— Кое-кто из нас, может, когда-то и был их последователем, — сказал лысый. — А что ты, мальчик, знаешь о Барне и его людях?
Я был здесь самым молодым, и все же мне не понравилось, что меня постоянно называют «мальчиком». Я выпрямился и холодно ответил:
— Я слышал всякие истории… Говорят, что они живут в лесу, что все они свободные люди, что у них нет ни хозяев, ни рабов, что они все делят между собой по справедливости.
— Хорошо сказано! — воскликнул Чамри. — Прямо в яблочко! — Некоторые из обступивших меня людей с явным одобрением закивали, полностью с ним согласные.
— Неплохо, неплохо, — сказал и тот лысый, но чуть надменно. И тут ко мне приблизился человек, чрезвычайно похожий на Бриджина. Как я узнал впоследствии, это был его брат. Меня поразило его лицо — жесткое, красивое, с ясными холодными глазами. Он оглядел меня с головы до ног и сказал:
— Если останешься у нас, быстро поймешь, что такое «делить по справедливости». Это ведь еще означает и то, что любую работу мы делаем сообща. Точнее, что все — то и каждый. А если ты думаешь, что можешь просто жить тут и делать, что твоей душе угодно, так долго ты тут
не продержишься. У нас коли не работаешь, как все, так и не ешь. А уж если ты по собственной глупости или беспечности навлечешь на нас беду, то ты покойник. У нас тут свои законы. Если ты принесешь клятву и решишь с нами остаться, придется тебе и наши законы соблюдать. А если ты свою клятву нарушишь, знай: мы тебя выследим куда быстрее, чем самые лучшие охотники за рабами.
Лица стоявших вокруг людей были суровы; и, слушая его, все они согласно кивали.
— Ну, как тебе кажется, сможешь ты такую клятву сдержать? — спросил он.
— Попробую, — сказал я.
— Этого мало.
— Если я дам вам клятву, то сдержу ее! — Меня начали раздражать его гнусные намеки на мою молодость и слабость.
— Посмотрим, — сказал он и отвернулся. — Принеси все необходимое, Модла.
Тот лысый человек и Бриджин ушли в хижину и вынесли оттуда нож, глиняную миску, олений рог и какую-то еду. Я не стану рассказывать о самом обряде, ибо участвующие в нем дают клятву сохранить все в тайне; не могу я привести здесь и слова этой клятвы. Вместе со мною ее произносили все члены братства. Казалось, этот ритуал еще крепче сплачивает их, и, когда все было закончено, некоторые из них подошли ко мне, дружески похлопали меня по плечу или по спине и сказали, что посвящение прошло хорошо и держался я молодцом. Вообще, почти все поздравили меня с вступлением в их ряды.
Чамри Берн отныне считался моим покровителем и наставником, а молодой человек по имени Венне был назначен моим напарником на охоте. Чамри и Венне во время праздничного пира, последовавшего за обрядом посвящения, сидели по правую и по левую руку от меня. Мясо убитых оленей давно уже жарилось на вертелах, однако были добавлены новые порции, чтобы как следует отпраздновать столь важное событие. К тому времени, когда мы наконец приступили к еде, лес окутала ночная тьма, так что мы расселись у костров — кто на земле, кто на пне, кто на грубо сколоченной табуретке или скамейке. Ножа у меня не было, и Венне отвел меня в хранилище оружия и велел выбрать себе нож. Я взял легкий острый клинок в кожаных ножнах. С его помощью во время пира я легко отрезал от оленьей ляжки куски шипящего, исходящего соком, сильно зажаренного ароматного мяса, ел я — точно изголодавшийся зверь. Кто-то принес мне металлическую кружку, в нее плеснули пива или медовухи — в общем, какого-то кисловатого, немного пенистого напитка, заставлявшего всех кричать и смеяться все громче и громче. Эта добросердечная обстановка согрела мне душу — я уже чувствовал себя одним из этих дружных Лесных Братьев, ибо именно так они называли себя.
Освещенную светом костра поляну со всех сторон обступал темный ночной лес, под деревьями лежала непроглядная тьма, вершины покрытых листвой деревьев казались в звездном свете волнами серого листвяного моря, простирающегося во все стороны далеко-далеко…
Если бы тогда я сразу не пришелся по душе Чамри Берну и если бы Венне не согласился взять меня в напарники, мне в ту первую осень и зиму в лесу жилось бы куда хуже. Частенько я чувствовал, что у меня не хватает сил, что наступил предел моей выносливости. Я жил с Кугой, точно дикарь, но он заботился обо мне, а не просто давал мне кров; он кормил меня, не мучил работой, да летом в лесу и вообще жить значительно легче. А среди Лесных Братьев моя городская изнеженность, нехватка физической силы и неумение выживать в условиях дикой природы вполне могли означать для меня верную смерть. Бриджин, его брат Итер и некоторые другие члены братства были раньше рабами на фермах и привыкли к тяжелой работе и скудной жизни; для этих крепких, бесстрашных и находчивых людей я был помехой, ненужным бременем. Те же, кто вырос в городе, проявляли больше терпения, сталкиваясь с моей чудовищной неосведомленностью, поддерживали меня, подсказывали мне, одалживали самое необходимое, учили меня. Как и с Кугой, очень пригодилась моя сноровка рыболова; во всяком случае, тут и я мог оказаться полезным всем. На охоте же, увы, мои успехи были ничтожны, хотя Венне постоянно брал меня с собой, искренне пытаясь обучить стрельбе из малого лука и прочим неслышным искусствам, которыми должен владеть каждый охотник.
Венне было лет двадцать; в пятнадцать он убежал от своего злобного хозяина, жителя небольшого городка близ Казикара, и направился прямиком в эти леса. По его словам, в Казикаре все рабы знали о существовании Лесных Братьев и мечтали когда-нибудь к ним присоединиться. Венне жизнь в лесу очень нравилась, он чувствовал себя здесь как дома и считался одним из лучших охотников. Но вскоре я понял, что и в его душе нет покоя. Например, у него определенно не ладились отношения с Бриджином и Итером.
— Изображают из себя наших хозяев, — сухо замечал он. И прибавлял: — Не желают, видишь ли, принимать в отряд женщин… А ведь у Барны в городе женщин полно, верно я говорю? Вот я и подумываю, не присоединиться ли к барнавитам…
— Вот и подумай еще, — советовал ему Чамри, пришивая к подошве башмака мягкое голенище; он у нас был и дубильщиком шкур, и сапожником и мастерил весьма неплохие сапоги и сандалии из лосиных шкур. — Ты же через несколько дней обратно прибежишь и станешь умолять того же Бриджина спасти тебя. Ты думаешь, он из себя хозяина строит? Нет и не было на свете такого мужчины, который в умении приказывать другим мог бы сравниться с женщиной! Мужчины ведь по природе своей являются рабами женщин, а женщины — хозяевами мужчин. В общем, здравствуй, женщина, — прощай, свобода!
— Может, и так, — говорил Венне. — Но женщина приносит с собой не только умение командовать.
Они были добрыми друзьями и легко приняли меня в свой кружок, позволяя и слушать их беседы, и принимать в них участие. Многие члены братства, по-моему, вообще предпочитали человеческой речью не пользоваться — буркнут что-то, проворчат невнятно или просто рукой махнут, а то и вовсе сидят, неподвижные и безмолвные, точно животные. Рабская привычка к молчанию так глубоко проникла в их плоть и кровь, что они уже не пытались ей сопротивляться. Чамри же как раз поболтать очень любил; он и сам был довольно красноречив, и других был очень даже не прочь послушать; его речь, ритмичная и напевная — особенно если он рассказывал какую-нибудь историю, — была, на мой взгляд, сродни народной поэзии. И он всегда был готов с любым обсудить что угодно, а то и поспорить.
Я вскоре уже знал о его жизни довольно много, во всяком случае то, что он сам счел нужным мне рассказать, хотя порой его рассказы могли быть довольно далеки от истины, если ему хотелось как-то приукрасить собственное повествование. Чамри был родом из Верхних Земель, горного края, расположенного далеко к северо-востоку от городов-государств. Я раньше никогда об этих краях даже не слышал и все спрашивал его, дальше ли это, чем Урдайл, и он говорил: да, гораздо дальше, дальше даже, чем Бенгдраман. А я название Бенгдраман знал только по старинным историям из сборника «Чамбан».
— Высокогорье дальше самого что ни на есть далёка, — говорил Чамри, — дальше луны и восточнее зари. Это дикие, безлюдные края — холмы да болота, скалы да утесы, а надо всем этим высится огромаднейшая гора с бородой из облаков, и называется она Каррантаг. Вообще-то, в Верхних Землях хорошо только овцам живется. Голодно там и холодно. Зимой и вовсе все вымерзает, да и зима тянется целую вечность. А если раз в год солнце выглянет, так уже праздник. Земли там порезаны на крошечные «земельные владения», как они сами это называют, хотя по здешним меркам это просто жалкие фермерские хозяйства, и у каждого «владения» есть свой хозяин, брантор, а у каждого брантора имеется какой-нибудь особый дар, обычно довольно страшный. Колдуны они все как один. И все прокляты. Вот скажи, тебе понравилось бы, если бы твоему хозяину достаточно было рукой шевельнуть да какое-то словцо прибавить — и твои кишки тут же оказались бы на земле, а глаза внутрь черепа повернулись? Или он бы только глянул на тебя — и в голове твоей сразу стало бы пусто-пусто, ни одной собственной мысли, только те, что он сам тебе в голову вложить захочет?
Чамри очень любил распространяться об этих зловредных способностях, он их называл «проклятыми дарами», о колдунах и ведьмах с Высокогорья, и истории его раз от разу становились все длиннее. Я однажды не выдержал и спросил: ведь и у него когда-то был хозяин, так какими способностями обладал этот человек? Чамри с минуту помолчал, потом посмотрел на меня своими ясными узкими глазами и сказал:
— Ты, может, особым даром это и не сочтешь. Ничего такого, что было бы сразу видно, он не делал. Но благодаря своему дару он мог ослабить кости в теле. На это, правда, требовалось некоторое время. Но уж если он употребил свой дар против кого-то, так примерно через месяц человек начинал слабеть, быстро уставать, а через полгода ноги уже подгибались под ним, точно трава, а через год он и вовсе умирал. Вот уж, право, не советовал бы я сердить человека, который на такое способен! Вам тут, в Нижних Землях, только кажется, что вы понимаете, каково это — иметь жестокого хозяина! У нас в Высокогорье мы даже слова такого — «раб» — не знали. Мы всегда говорили просто «люди брантора». Он, кстати, мог быть в родстве с половиной своих слуг и своих серфов — и всех считал «своими людьми». Однако эти люди были куда бесправнее здешних рабов, а он для них был куда хуже любого, даже самого худшего из здешних хозяев!
— Не знаю, не знаю, — сказал Венне. — По-моему, с помощью кнута и пары больших злобных собак человека можно уничтожить даже быстрее, чем с помощью волшебного заклятия или какого-то колдовского дара. — У Венне и впрямь ноги и спина были покрыты жуткими шрамами, с головы снят скальп, так что волосяной покров кое-где так и не восстановился, и одно ухо наполовину оторвано.
— Нет-нет, тут все дело в страхе, — возразил Чамри. — Это чудовищный страх, ты даже не представляешь себе, до чего он людей доводит! Ты ведь уже не боялся тех, кто тебя бил, и собак, которые рвали твое тело, когда убежал от них достаточно далеко и знал, что они тебя не догонят, верно ведь? А я, вот честное слово, даже убежав на сотни миль от Верхних Земель и своего хозяина, по-прежнему корчился от страха, чувствуя, что он не забыл обо мне, что он меня вспоминает! Да-да, я это очень даже хорошо чувствовал! И вся сила сразу меня покидала, руки-ноги становились как ватные, я даже спину держать прямо не мог. Это действовал его жуткий дар. И единственное, что мне оставалось, — это идти, бежать, ползти все дальше и дальше, пока между нами не пролегли многие мили пути, пока высокие горы и широкие реки не отделили меня от северных земель, от моего хозяина, от его рук, его глаз, его жестокого, убийственного дара. Лишь переправившись через великую реку Тронд, я наконец почувствовал прилив сил. А когда же я перебрался через вторую великую реку, Салли, то понял, что оказался в безопасности. Это колдовство способно воздействовать на человека, даже если колдуна и его жертву разделяет большая река, но не две реки. Дважды пересечь водное пространство этот дар не в силах. Так мне сказала одна мудрая женщина. Но я все же переправился и еще через одну реку, чтобы быть окончательно уверенным! И никогда больше не вернусь на север, никогда! Вы, жители Нижних Земель, просто не знаете, что это такое — быть рабом у таких господ!
И все же Чамри так часто рассказывал о Высокогорье и о той ферме, где родился, что я чувствовал: он очень тоскует по родным местам, хоть и уверяет нас, что это нищие, несчастливые, проклятые края. Благодаря его живым рассказам я так ярко и отчетливо представлял себе эти места, словно сам побывал там и теперь вспоминал бескрайние болотистые пустоши, окутанные облаками вершины гор, озера, с которых на рассвете поднимаются в воздух тысячи белых журавлей, крытые черепицей каменные домики, сгрудившиеся под боком огромной коричневой горы…
И это навело меня на мысль о том, что и у меня есть кое-какой странный дар, или как там еще можно это назвать, — и, прежде всего, моя способность «вспоминать» то, что еще только должно произойти, но уже успело привидеться мне. Я понимал, что когда-то обладал этим даром, но стоило мне подумать об этом, и меня обступали воспоминания о тех местах, которые помнить я совсем не хотел. Эти воспоминания заставляли меня корчиться от боли, а в голове становилось пусто от страха. Я отталкивал их от себя, эти мучительные воспоминания, отворачивался от них, зная, что, если снова все вспомню, это меня убьет. Забвение — вот что сохраняло мне жизнь.
Все Лесные Братья были людьми, бежавшими и спасшимися от чего-то невыносимого, страшного. Они были такие же, как я. У них тоже не было прошлого. И я, научившись выживать в этих жестоких условиях, терпеть постоянно мокрую одежду, отсутствие тепла и чистоты, есть полусырое мясо, вполне мог бы с ними ужиться — как жил и с Кугой в его пещере, не думая ни о чем, кроме того, что в данный момент меня окружает. И большую часть времени я так и поступал.
Но порой, особенно в зимние вьюжные вечера, когда мы вынуждены были отсиживаться в своих щелястых, насквозь продымленных хижинах, когда Чамри, Венне и еще кое-кто усаживались в кружок у тлеющего очага и в полутьме начинали рассказывать друг другу о своей прежней жизни, о тех местах, откуда они родом, о хозяевах, от которых они сбежали, я слушал их истории и в мои мысли прокрадывались отчетливые воспоминания об огромной комнате, полной женщин и детей, о фонтане на городской площади, о залитом солнцем внутреннем дворике, окруженном изящными арками, под которыми сидят и прядут женщины…
Но я старался даже мысленно никак не называть это место, я торопливо от него отворачивался, гнал от себя эти воспоминания и никогда не присоединялся к разговорам людей о том, что лежит за пределами нашего леса. Да и разговоры об этом слушать не любил.
Однажды в послеобеденный час, ближе к вечеру, мы, шестеро или семеро усталых, грязных, голодных людей, как всегда, уселись вокруг жалкого очага, но никак не могли найти тему для беседы: говорить оказалось не о чем. Мы все сидели в каком-то немом оцепенении и слушали шум дождя. Этот сильный холодный дождь продолжался почти без перерыва уже четверо суток. Под низкими тучами, словно придавившими к земле голые деревья, было полутемно, и казалось, что ночь вообще никогда не кончится. Туман и ночная тьма, смешавшись, повисли на мокрых, тяжелых ветвях. Выйти и принести дров для очага означало немедленно промокнуть до костей, и мы выбегали наружу голышом, потому что кожа высыхает быстрее, чем одежда и одеяла из шкур. Одного человека в нашей хижине, по имени Булек, мучили приступы очень нехорошего кашля, от которых он задыхался и весь трясся, точно пойманная собакой крыса. Даже у Чамри иссякли шутки и бесконечные истории. И в этом холодном ужасном месте я думал о лете, о ярких жарких солнечных лучах, о покатых холмах… впрочем, не важно, где это было. А еще мне вдруг вспомнились некие стихотворные строки, и я, сам того не желая, произнес их вслух:
Как во тьме ночи зимней
Глаза наши света жаждут,
Как в оковах смертного хлада
Наше сердце к теплу стремится,
Так, ослепнув, шевельнуться не смея,
К тебе одной наши души взывают:
Стань нам светом, огнем и жизнью,
Долгожданная наша свобода!
— Ага, — сказал Чамри в тишине, что наступила после моей неожиданной декламации, — я тоже это слышал. Только ведь это поют. Это песня, у нее есть мелодия.
Я порылся в памяти и постепенно вспомнил эту мелодию, а заодно и звуки того красивого голоса, который некогда ее пел. Сам-то я петь не мастер, но все же спел.
— Красиво, — тихо промолвил Венне.
Булек прокашлялся и сказал:
— А ты еще такие стихи знаешь? Расскажи, а?
— Да, давай, — попросил и Чамри.
Я снова покопался в своих воспоминаниях, надеясь отыскать хотя бы какую-то строчку, чтобы можно было за нее уцепиться. Сперва ничего не вспоминалось. Затем перед моим внутренним взором всплыли какие-то слова: «И в белых траурных одеждах взошла она высоко по ступеням на стену Сентаса…» Я невольно произнес это вслух, и почти сразу же первая строка привела меня к следующей, а та — к еще одной, и в итоге я отчасти пересказал, отчасти продекламировал им ту главу знаменитой поэмы Гарро, в которой пророчица Юрно ведет словесный поединок с вражеским героем Руреком. Стоя на крепостной стене Сентаса, Юрно, девушка в белых траурных одеждах, кричит этому человеку, убившему ее отца-воина, что вскоре он умрет, и рассказывает, как именно это произойдет. «Бойся холмов Требса! — говорит она. — В холмах ты попадешь в засаду! И даже если ты бежишь и скрыться в зарослях пытаться станешь, стараясь незаметно уползти, они тебя настигнут и убьют, а твое нагое тело в городе швырнут на землю вниз лицом, чтобы все видели: позорны раны, что получил ты, убегая. И труп твой не сожгут, как подобает, под молитвы предкам, а бросят в яму — как хоронят рабов сбежавших и собак!» Разгневанный этим пророчеством, Рурек кричит в ответ: «А вот как ты умрешь, о, лживая колдунья!» — и мечет в нее свое тяжелое копье, и все видят, как это копье пронзает тело девушки и выходит наружу под лопаткой, все окровавленное, — и все же Юрно в белых одеждах по-прежнему стоит на крепостной стене. Ее брат, могучий воин Алира, поднимает это окровавленное копье и вручает его ей, а она бросает его Руреку, не мечет, а именно бросает с презрением, едва касаясь его пальцами, и говорит: «Когда ты станешь от врагов скрываться, спасаясь бегством, твое копье тебе еще послужит, герой Пагади».
Произнося слова этой поэмы в темной, холодной, задымленной хижине под громкий стук дождя, я видел их написанными старательной ученической рукой в общей школьной тетради, которую и сам не раз держал в руках. «Прочти этот отрывок вслух, Гэвир», — прозвучал у меня в ушах голос учителя, и я громко прочел эти слова…
В хижине надолго воцарилось молчание, потом Бакок сказал:
— Ну что за дурак! Надо же, метнуть копье в ведьму! Неужто он не знал, что убить ведьму можно только с помощью огня!
Бакоку было, по-моему, лет пятьдесят, хотя довольно трудно определить на глаз возраст человека, который всю свою жизнь прожил полуголодным под свист кнута; возможно, ему было и гораздо меньше, лет тридцать.
— Хорошая история, но это ведь не все, — сказал Чамри. — Ведь есть и продолжение? А как она называется?
— Она называется «Осада и падение Сентаса», — сказал я. — И продолжение, разумеется, есть.
— Так давайте послушаем дальше, — предложил Чамри, и все с ним согласились.
Сперва я никак не мог вспомнить начальные строки этой поэмы; затем, словно по волшебству, передо мной опять возникла та старая школьная тетрадь, и я «прочел» вслух:
…Сенаторы совет собрали.
И на совет собрались все
Посланники в тяжелых латах.
В руках мечи, отважны и смелы,
Шагами быстрыми они вошли в покои,
Где Сентаса судьба решалась…
Была уже поздняя ночь, когда я закончил пересказывать первую книгу «Осады Сентаса». Огонь в нашем жалком очаге давно догорел, но никто из собравшихся в кружок мужчин даже не встал, чтобы подбросить дров; по-моему, никто вообще даже не пошевелился ни разу.
— Потеряют они свой город, — сказал в темноте Булек под негромкий стук дождевых капель.
— А следовало бы его удержать! Другие-то вон как далеко от дома забираются — например, Казикар, когда в прошлом году Этру захватить пытался, — сказал Таффа. До сих пор я еще ни разу не слышал от него такой длинной фразы. Венне рассказывал мне, что Таффа раньше был не рабом, а свободным гражданином одного маленького города-государства; но его призвали на военную службу, а он воевать не хотел и во время битвы скрылся и бежал в эти леса. Вечно печальный, вечно всех сторонящийся, даже несколько надменный, он редко что-нибудь говорил, но сейчас был почти красноречив. — Они слишком растянули свои войска, понимаешь? Я имею в виду армию Пагади. И теперь, если им не удастся сразу взять город штурмом, они с приходом зимы станут страшно голодать.
И все погрузились в обсуждение военных действий, словно осада Сентаса происходила прямо сейчас, на наших глазах. Словно мы жили в самом Сентасе.
И только один Чамри понимал, что это просто поэма, нечто выдуманное автором, произведение искусства, лишь отчасти повествующее о реальных событиях прошлого, а в значительной степени являющееся плодом художественного вымысла. Но для этих невежественных людей это было настоящим событием, имевшим место в тот самый момент, когда они слушали мой рассказ. И разумеется, им непременно хотелось узнать, что было дальше. Если бы у меня нашлись силы, они готовы были слушать день и ночь. Но я после своего первого «выступления» несколько охрип и потом, лежа на своем деревянном топчане, все думал о том, что в тот вечер так неожиданно ко мне вернулось: о силе слов. И у меня вполне хватило времени подумать, как мне этой силой воспользоваться, и даже составить некий план, чтобы не только продолжить пересказ этой великой поэмы, но и не дать моим слушателям истощить и ее богатства, и мои силы. В итоге я решил, что буду «рассказывать истории» не более двух часов каждый вечер после ужина, ибо зимние вечера казались поистине бесконечными и все были бы рады, если бы кто-то помог их скоротать.
Слух о наших «чтениях» быстро разнесся по лагерю, и уже на второй или третий вечер в нашу жалкую хижину набилось множество желающих «послушать рассказ о войне» и поучаствовать в долгих и страстных спорах о тактике и причинах войны между Пагади и Сентасом, а также высказаться насчет того, были ли с обеих сторон какие-то нарушения общеизвестных моральных устоев.
Бывало, я не мог в точности воспроизвести строки Гарро, но сам сюжет помнил очень хорошо и заполнял эти пропуски пересказом, отрывками из других поэм и даже своими собственными сочинениями, пока не добирался снова до такого куска, который помнил наизусть или мог «увидеть» перед собой в той школьной тетради, заполненной детским почерком, и тогда снова возвращался к чеканному ритму поэмы. Мои собеседники, похоже, не замечали разницы между этими «прозаическими вставками» и поэзией Гарро, но все же, по-моему, поэтические строки трогали их больше и слушали они их более внимательно. Но возможно, это было еще и потому, что строки эти описывали яркие и живые события нашей истории, подлинные страдания людей.
Когда мы, плавно двигаясь по сюжету поэмы, вновь добрались до того куска, который я пересказывал в самый первый вечер, — до пророчеств Юрно со стен крепости, — Бакок даже охнул и затаил дыхание, а услышав, как Рурек «в ярости копье тяжелое вздымает», во весь голос заорал: «Не бросай, парень! Не поможет!» Все тут же возмутились, потребовали, чтобы он заткнулся, но он, никого не слушая, все вопил: «Он что, не понимает? Ни к чему это! Он ведь уже разок метнул свое копье!»
Сперва меня просто восхищала и собственная способность восстанавливать в памяти строки поэмы, и способность моих слушателей часами внимать мне. Они ничего особенного мне не говорили и почти не хвалили меня, но я чувствовал, что они стали относиться ко мне совсем иначе и мое положение в отряде сразу изменилось. У меня, оказывается, тоже имелось нечто такое, что было им нужно, и они начинали меня за это уважать. А поскольку я отдавал свои богатства просто так, ничего не требуя взамен, уважение это не было приправлено ни завистью, ни недоброжелательностью. «Эй, у тебя что, получше ребрышка для нашего мальчонки не нашлось, что ли? — не раз слышал я за ужином. — Ему ведь сегодня еще работать, о войне рассказывать…»
Но у всякого верха есть и свой низ, как говорил Чамри. Бриджин, его братец и люди из их ближайшего окружения, жившие с ними в одной хижине, тоже порой заглядывали к нам, но слушали недолго, стоя поближе к двери, и молча уходили. Мне они не говорили ни слова, но, по словам моих приятелей, утверждали, будто те, кто слушает всякие дурацкие истории, куда большие глупцы, чем тот, кто эти истории рассказывает. А Бриджин якобы прибавлял, что мужчина, который готов полночи слушать, как какой-то мальчишка бормочет о том, что прочитал в книжках, и вовсе в Лесные Братья не годится.
Но почему Бриджин так презрительно относится к книгам? — недоумевал я. В лесу ведь и книг-то никаких нет. Как, по-моему, их никогда не было и в жизни самого Бриджина. Так что же он язвит по поводу наших «чтений»?
Любой из этих людей вполне мог втайне завидовать тем знаниям, которые столь ревностно скрывались от них хозяевами. Рабу с фермы за попытку научиться читать запросто могли выколоть глаза, могли насмерть засечь его кнутом. Книги были опасны, и у рабов были все основания их бояться. Но страх — это одно, а презрение — совсем другое.
Я не обращал внимания на эти насмешки и презрительные высказывания, воспринимая их как обыкновенное злопыхательство, ибо в той истории, которую рассказывал каждый вечер, не было ничего недостойного истинного мужчины. Каким образом могла история о войне и героических подвигах ослабить волю тех, кто каждый вечер жадно ее слушает? Разве эти прекрасные строки не сплачивали людей, не делали их братьями? Разве плохо, что после моего рассказа люди высказывали собственное мнение, и порой весьма интересное, относительно правильности или неправильности тактики генералов и подвигов простых воинов? Неужели лучше было бы сидеть как истуканы в безмолвии вечер за вечером и слушать стук дождя? Так ведет себя бессловесная скотина, лишенная способности самостоятельно мыслить. Неужели они считают, что именно это и делает их настоящими мужчинами?
А однажды утром я услышал, как Итер сказал — прекрасно зная, что я могу его услышать, — что-то насчет великих дураков и великих лентяев, которые готовы вечно слушать, как какой-то мальчишка травит им всякие лживые байки. И я не выдержал. Я уже готов был начать яростно возражать, бросая ему в лицо те самые аргументы, которые только что перечислил выше, но тут запястье мое стиснула чья-то железная рука, а потом чья-то ловкая подножка чуть не заставила меня рухнуть на землю.
Я вырвался и заорал на Чамри Берна:
— Что это ты себе позволяешь? — Он извинился за свою неуклюжесть, но руку мою не только не выпустил, но и стиснул еще крепче, и я услышал, как он в полном отчаянии шепчет:
— Ох, заткнись-ка ты лучше, Гэв! Ты что, не видишь: он же тебе специально наживку забросил! — И Чамри потащил меня прочь от тех людей, что собрались вокруг Итера.
— Он же всех нас оскорбляет! — не унимался я.
— И кто его остановит? Ты, что ли?
Чамри удалось завести меня за поленницу дров, подальше от глаз, и он, увидев, что теперь я спорю уже только с ним и не пытаюсь бросить вызов Итеру, выпустил наконец мое запястье.
— Но почему… почему?..
— Почему они тебя не любят? Почему у тебя есть дар, которого нет у них?
И я не нашел, что на это возразить.
— А рука у них, между прочим, довольно тяжелая, и на твой нежный голос им наплевать. Ах, Гэв, не пытайся быть умнее своих хозяев. Это дорого обходится.
Только теперь я увидел в глазах своего друга ту же печаль, какой были отмечены лица почти всех этих людей, — это был след душевных терзаний. Все они начинали с очень малого, но постепенно утратили даже и эту малость.
— Они мне не хозяева! — гневно воскликнул я. — Мы здесь свободные люди!
— Ну, в общем да, — сказал Чамри. — Отчасти.
Глава 9
Братья Итер и Бриджин — даже если им и не нравилась моя внезапная популярность — понимали, должно быть, что любая попытка помешать нашим ежевечерним «чтениям» может вызвать настоящий бунт. И пока что они только скалили зубы, насмехаясь надо мной и моими друзьями Чамри и Венне, но остальных не задевали. А мы тем временем продолжали яростно пробиваться сквозь бесконечные строфы к концу поэмы об осаде Сентаса, и за окнами нашей хижины долгая темная зима медленно поворачивала к весне. Закончили мы как раз к весеннему равноденствию, и кое-кто из моих слушателей никак не мог понять, что это все и больше Гарро ничего не написал.
Сентас пал, его стены и огромные ворота были разрушены, цитадель сожжена дотла, мужчины зверски убиты, женщины и дети взяты в рабство, а тот герой Рурек, которому предсказывали страшную смерть, ликуя, отправился с победой и богатой добычей назад в Пагади — и что же случилось потом?
— Неужели он все-таки пройдет вместе с армией через те холмы? — желал знать Бакок. — После всего, что ему та ведьма напророчила?
— Ну конечно же, он пройдет мимо Требса, если не в этот день, так в следующий, — сказал Чамри. — Не может человек избежать того пути, который ему судьбой предначертан, тем более что прорицательница видела, как он идет через холмы близ Требса.
— Тогда почему же Гэв об этом не рассказывает? — удивился Бакок.
— Эта история заканчивается падением города Сентас, — сказал я ему.
— Как же так? Получается, что вроде как все умерли? Но ведь умерли-то далеко не все!
Чамри попытался объяснить ему, что такое сочинители и выдуманные ими истории, но Бакока эти объяснения не удовлетворили. Да и прочие мои слушатели загрустили.
— Ну, теперь и вовсе скука начнется! — заявил Таффа. — Жаль, что мы больше не услышим об этих сражениях, где рубятся на мечах. Это жуткая вещь, когда сам в таком сражении участвуешь! А слушать об этом даже приятно.
Чамри усмехнулся:
— Так, пожалуй, почти обо всем в жизни можно сказать.
— А есть еще истории вроде этой, Гэв? — спросил кто-то.
— Историй вообще великое множество, — осторожно ответил я. Мне не очень-то хотелось начинать новую эпическую поэму. Я чувствовал, что становлюсь узником собственной аудитории.
— Ты мог бы и ту, которую мы только что слушали, снова рассказать, — предложил один из моих верных слушателей, и многие с энтузиазмом его поддержали.
— Следующей зимой, — сказал я. — Когда вечера снова станут долгими.
Мой вердикт они восприняли как некий ритуальный закон, озвученный жрецом, и согласились с ним без возражений.
Но Булек все же мечтательно промолвил:
— Хотелось бы мне, чтобы и для коротких вечеров нашлись короткие истории! — Сам он слушал эпическую поэму Гарро с болезненным вниманием, с трудом подавляя мучительный кашель, и батальным сценам предпочитал описания дворцовых покоев, трогательные домашние сценки, а также историю любви Алиры и Руоко. Мне Булек нравился, и я с тоской видел, что этот совсем еще молодой мужчина день ото дня слабеет, одолеваемый страшным недугом, хотя с приходом весны стало гораздо теплее, да и солнышко веселее светило. Я не мог противостоять мольбе несчастного Булека и сказал:
— О, короткие истории тоже есть! И одну из них я вам расскажу. — Сперва я хотел продекламировать «Мост через Нисас», но не смог. Знакомые строки, которые я помнил совершенно отчетливо, были отягощены чем-то таким, чему я был не в силах противостоять. Я просто не смог выговорить ни слова.
Тогда я мысленно представил себе, что вхожу в нашу классную комнату, открываю общую тетрадь и вижу там рукописный текст одной из басен Ходиса Бадери «Человек, который съел луну».
Я пересказал ее им почти наизусть. Они слушали внимательно, как всегда, но басня была воспринята неоднозначно. Некоторые смеялись и кричали: «О, это еще лучше! Такого мы еще не слыхали!» Но другие сочли это «чепухой», «дурацкой историей», а Таффа даже назвал басню «глупой».
— Э нет, в ней для каждого свой урок! — возразил ему Чамри, который слушал басню с явным удовольствием. Они принялись спорить, был ли человек, который съел луну, лжецом или не был. Они никогда не просили меня разрешить их споры или хотя бы принять в них участие. По-моему, я был для них просто книгой, если можно так выразиться. Я, так сказать, выдавал им текст, а уж обсуждение текста было их задачей. Между прочим, порой я слышал от них такие тонкие замечания, особенно по поводу морали, какие мне и от образованных людей далеко не всегда доводилось услышать.
После этого они почти каждый вечер выбивали из меня какую-нибудь басню или стихотворение, однако теперь их требования стали все же менее настойчивыми, поскольку теперь не нужно было прятаться в хижине от дождя и мы собирались под открытым небом. Образ жизни в лагере стал весьма активным — охота, установка силков и ловушек, рыбная ловля сменяли друг друга, ведь в конце зимы и в начале весны мы почти голодали. Мы с жадностью пожирали не только свежее мясо, но и дикий лук, а также другие полезные травы, которые кое-кто из бывших рабов умел отыскивать в лесу. Я, например, очень соскучился по той каше из пшеничных зерен, которая была нашим основным блюдом в Аркаманте, но здесь, разумеется, ничего подобного не готовили.
— Я слышал, что Лесные Братья воруют зерно у богатых фермеров, — сказал я Чамри, когда мы вместе выкапывали дикий хрен.
— Да, воруют те, кто воровать умеет, — ответил он.
— И кто же это?
— Люди Барны. Они в северной части леса живут.
Это имя вызвало какие-то странные отголоски в моей памяти, пробудив целую вереницу летучих образов — молодые люди, беседующие о барнавитах в битком набитой народом теплой комнате, лицо старого жреца… но я не стал задерживать свое внимание на этих образах. Слова — вот что я мог вспоминать без опаски.
— Значит, действительно есть такой человек, которого зовут Барна?
— Ну конечно есть! Хотя не стоит упоминать это имя в присутствии Бриджина.
Я потребовал подробностей, а Чамри никогда не мог устоять перед просьбой что-нибудь рассказать. В итоге я обнаружил, как, собственно, и подозревал раньше, что наш небольшой отряд — это всего лишь некий осколок куда более крупной группы беглых рабов, с которой у него пути разошлись. Барна как раз и есть главарь этой армии беглецов, а Итер и Бриджин, восстав против его главенства, отделились и увели с собой какое-то количество людей, поселившись в южной части того же Данеранского леса, наиболее удаленной от людских поселений, потому и наиболее безопасной. Однако добывать здесь еду оказалось трудновато, если не считать, как выразился Чамри, «скотины с ветвистыми рогами».
— У них там, на севере, настоящее хозяйство! — сказал он. — Они и говядину едят, и баранину. Эх, много бы я отдал за добрый кусок жареной баранинки! Овец я, если честно, всем нутром ненавижу — тупые, мохнатые, противные твари. Но когда такая тварь превращается в жареную баранину, я готов хоть целиком ее проглотить.
— А что, барнавиты и коров с овцами держат?
— Держат, но в основном предпочитают, чтобы за них это делали другие. А сами уж потом выбирают самых лучших животных. Кое-кто назовет это воровством, а только мы это называли «брать свою десятину». От фермерского стада, разумеется.
— Так, значит, и ты вместе с ними жил?
— Какое-то время. И между прочим, жил неплохо. — Чамри, сидя на корточках, поднял голову и посмотрел на меня. — А уж тебе-то и вовсе следовало бы там сейчас быть, знаешь ли. Здесь, среди этих тупоголовых упрямцев, тебе не место! — Он стряхнул землю с корня дикого хрена, слегка обтер его о рубаху и впился в острый корнеплод зубами. — И тебе, и Венне. Вам бы надо бежать отсюда, вот что я скажу. Венне там примут с радостью, он ведь отличный охотник, да и тебе с твоим золотым языком там цены не будет… — Чамри некоторое время жевал сырой хрен, морщась и смахивая с глаз слезы. — А здесь тебя твой язык только к беде и может привести.
— А ты бы пошел с нами?
Он выплюнул волокнистый комок, обтер рот рукой и сообщил:
— Ох и жжет, клянусь священным камнем! Не знаю. Я ведь тогда с Бриджином и остальными ушел только потому, что они были мне добрыми товарищами. А я все покоя не находил… Не знаю, Гэв.
Он вообще никогда не находил покоя. И нам с Венне оказалось совсем нетрудно уговорить его пойти с нами, когда мы наконец решились это сделать. И вскоре действительно ушли.
Бриджин и Итер, чувствуя недовольство среди своих «подданных», попытались подавить его с помощью еще более жестких требований и всевозможных приказов. Итер, например, заявил Булеку, который к этому времени совсем уж разболелся, что если он не будет ходить на охоту и вносить свою долю в общий котел, то никакой еды ему из этого котла не достанется. Он, возможно, просто пытался запугать Булека, надеясь, что его угроза сработает, ведь многие из тех, что живут в тяжелых условиях, но чувствуют себя пока что неплохо, не могут поверить, что болезненная слабость — это отнюдь не проявление лени и не притворство. И то ли Булек испугался, то ли ему стало стыдно, но он настоял на том, чтобы очередная группа охотников взяла его с собой. Он сумел пройти с ними совсем немного и неподалеку от лагеря рухнул на землю; его рвало кровью. Когда его принесли назад, Венне с криками набросился на Итера, обвиняя его в том, что он убил Булека, что он ничуть не лучше надсмотрщика на каторге. После этого Венне, переполненный отчаянием и гневом, отыскал меня у заводи, где я ловил рыбу.
— Мы с другими охотниками хотели немного отойти от лагеря и подыскать Булеку такое местечко, где он мог бы отсидеться и подождать нас, — с горечью говорил он, — да только он и туда дойти был не в силах. Он умирает, Гэв! Нет, я не могу больше здесь оставаться! Не могу подчиняться их приказам! Они что, считают себя хозяевами, а нас — своими рабами? Да мне просто убить хочется этого проклятого Итера! Пора, пора отсюда убираться!
— Давай поговорим с Чамри, — предложил я. И мы поговорили. Сперва Чамри все просил, чтобы мы еще немного подождали, но потом, увидев, как опасен гнев Венне, согласился пойти с нами. Решено было уходить той же ночью.
Поужинали мы вместе со всеми. Никто друг с другом не разговаривал. Булек остался лежать в одной из хижин, мучительно сражаясь за каждый глоток воздуха. Я и сейчас слышу его замедленное, задушенное дыхание в предрассветной темноте, когда Венне, Чамри и я потихоньку выбрались из хижины и выскользнули за пределы лагеря, прихватив с собой то немногое, что сочли своим по праву: носильную одежду, свои одеяла и ножи; Венне взял также свой лук и стрелы, я — рыболовные снасти и кроличьи силки, а Чамри — сапожные инструменты и сверток с вяленым мясом.
Скорее всего, был уже конец мая, примерно два месяца спустя после весеннего равноденствия. Ночь была теплой и темной, ее сменили неторопливый туманный рассвет и утро, полное птичьего щебета. Было хорошо идти вот так, на свободе, оставив позади зависть и жестокость лагерной жизни. Я весь день шел весело, с легким сердцем, удивляясь, почему это мы так долго терпели хамство и всяческие запугивания со стороны Итера и Бриджина. Но вечером мы на всякий случай костра разжигать не стали и залегли в густой траве; стоило мне подумать о том, что они, возможно, станут нас преследовать, как настроение у меня сразу упало. Из головы не выходили мысли о несчастном Булеке; вспоминал я и остальных: Таффу, который, став дезертиром, был вынужден расстаться не только с армией, но и с семьей, женой и детьми, которых очень любил и теперь уж, наверное, никогда больше не увидит; простодушного Бакока, который не знает даже названия той деревни, где рабом появился на свет. Эти люди были добры ко мне. И клятву верности Лесным Братьям я давал с ними вместе…
— Тебя что-то мучает, Гэв? — спросил Чамри.
— Понимаешь, у меня такое ощущение, что я убегаю и от Бакока с Таффой, и от остальных, — сказал я.
— Они тоже могли убежать, если б захотели, — возразил Венне, но сказал это так быстро, что я понял: он думает о том же, что и я, и тоже пытается оправдать перед собой наш побег, наше дезертирство.
— Булек убежать не мог, — сказал я.
— Ничего, он теперь и без побега далеко от них, куда дальше, чем мы, — попытался успокоить меня Чамри. — Не мучай себя понапрасну, Гэв. Булек сейчас дома… Ему уже почти хорошо. А ты, Гэв, слишком уж верный, вот в чем твой главный недостаток. Не надо оглядываться назад. Увидел — и поскорей проходи мимо, так-то оно лучше.
Это показалось мне странным: что он имел в виду? Я ведь никогда не оглядывался назад. И у меня не было ничего, чему я мог хранить верность, за что я мог бы держаться. Я шел туда, куда влекла меня судьба или случай. Я вдруг вспомнил те куски белой ткани из своих видений, что, извиваясь, плыли по течению реки…
На следующий день мы оказались в той части огромного Данеранского леса, где я еще никогда не бывал. Эту территорию Бриджин и Итер никак не могли считать «своей». Вокруг высились могучие темно-зеленые ели. Упавшие деревья создавали непроходимые стены и лабиринты, ибо их могучие ветви насквозь проросли бесчисленными молодыми побегами. Приходилось идти вдоль ручьев или прямо по каменистым руслам; это оказалось нелегко, потому что шли мы по воде, по скользким камням, стараясь обойти пороги и не попасть в омуты, таившиеся в густой тени деревьев. Чамри все повторял, что вскоре мы отсюда выберемся, и мы действительно наконец выбрались — на второй день пути к вечеру мы, шлепая по очередному ручью, вышли к его истоку, на открытый, поросший травой склон холма. Пока мы передыхали там, наслаждаясь ясным вечерним светом, мимо нас к подножию холма проследовало стадо оленей; остановившись не более чем в двадцати шагах от нас, они совершенно спокойно на нас посмотрели и неторопливо продолжили свой путь, сторожко подрагивая большими ушами. Венне тут же вытащил лук и бесшумно вложил в него стрелу. Еле слышно щелкнула натянутая тетива, прожужжала, точно крылья крупного жука, стрела, и шедший последним олень вдруг вздрогнул, упал на колени и прилег на траву, — казалось, мирная тишина вокруг ничем и не была потревожена. Во всяком случае, остальные олени даже не обернулись и вскоре столь же неторопливо скрылись в лесу.
— Ах, и зачем только я в него выстрелил! — с досадой воскликнул Венне. — Теперь придется его освежевать.
Но с этим мы быстро управились и с удовольствием поужинали жареной олениной, да и на потом осталось достаточно. Уже в темноте, когда мы, наевшись до отвала, сидели у догоравшего костра, Чамри сказал:
— Если бы здесь было Высокогорье, я бы сказал, что ты этих оленей к себе призвал.
— Призвал?
— Это такой дар — призывать животных. У нас, например, когда какой-то брантор отправляется на охоту, он обязательно берет с собой человека, который дичь призывать умеет, если, конечно, сам брантор таким даром не обладает. Дикий кабан, лось, олень — да на кого бы они ни охотились, — все к такому человеку сами подойдут.
— Нет, я так не умею, — помолчав, тихонько пробасил Венне. — Но представить
себе это вполне могу. А если я хорошо знаю какие-то места, то почти всегда знаю и то, где в данный момент находятся олени. Как и они знают, где я нахожусь. Только, если они боятся, я их ни за что не найду. А если не боятся, то сами придут. Покажутся — дескать, вот он я, я тебе нужен? Олени — они такие; сами себя отдают. И тому, кто этого не понимает, на охоте делать нечего. Он просто мясник, а не охотник.
Мы еще целых два дня шли по лесным холмам, поросшим деревьями с довольно светлой листвой, и наконец вышли на берег крупного ручья или речки.
— На том берегу начинается царство Барны, — сказал Чамри. — Теперь нам лучше оставаться на тропе и как можно сильнее шуметь — пусть знают, что мы здесь и не собираемся к ним подкрадываться, точно шпионы. — Так что мы, топая, по словам Венне, точно стадо диких свиней, и разговаривая в полный голос, двинулись по тропе и довольно скоро услышали окрик, приказывавший нам остановиться. Мы замерли на месте и увидели, что по тропе к нам идут двое мужчин — один высокий и худой, а второй низенький и толстый.
— Эй, вы хоть знаете, куда попали? — спросил коротышка насмешливо, но без угрозы. Высокий держал наготове свой большой лук, но в нас не целился.
— В Сердце Леса, — ответил Чамри. — И очень надеемся, что нас тут приветят, Тома. Ты что, меня не помнишь?
— Вот это да, клянусь Разрушителем! Говорят, фальшивый грошик вечно в руки попадается! — Тома подошел к нам, схватил Чамри за плечи и несколько раз тряхнул в каком-то яростном приветствии. — Ах ты, горная крыса! Ах ты, паразит! Уполз ночью тайком вместе с этим Бриджином и его кодлой, и поминай как звали? И какого же черта ты-то за ними увязался?
— Это была ошибка, Тома, — честно признал Чамри и покрепче уперся ногами в землю, потому что Тома все продолжал трясти его за плечи. — Назови это ошибкой или как хочешь, только прости, ладно?
— Собственно, почему бы мне тебя и на этот раз не простить? — философски заметил Тома. — Я ведь далеко не в первый и не в последний раз тебя прощаю, Чамри Берн. — Он наконец перестал трясти Чамри и обратил свое внимание на нас. — Кого это ты с собой привел? Неужели своих крысят?
— Ушел я отсюда всего лишь с тупоголовыми свиньями вроде Бриджина и Итера, — сказал Чамри, — зато назад вернулся с настоящими жемчужинами, да еще и в золото оправленными, — как раз для ушей Барны. Вот это Венне, который может свалить оленя с тысячи шагов, а это Гэв, который умеет рассказывать всякие истории и знает такие стихи, которые заставляют человека то плакать, то смеяться. Веди нас в Сердце Леса, Тома!
Мы прошли еще примерно с милю по светлому лесу, где росли огромные дубы и ольховины, и вдруг попали в очень странное место.
Оказалось, что Сердце Леса — это самый настоящий город, обнесенный частоколом, с огородами и амбарами, коровниками и загонами для скота, с множеством домов, с общественными зданиями, с улицами и площадями. Все здесь было из дерева. Города, большие и маленькие, думал я, строят из камня и кирпича, а из дерева строят только сараи для скота и хижины для рабов. Но это был настоящий большой город, целиком построенный из дерева. И жителей там было полно — мужчины, женщины, дети. Я видел их в садах, в огородах, на улицах и с особым интересом разглядывал женщин и детей. А еще меня просто потрясли дома с мощными поперечными балками и двускатными крышами. А на широкой центральной площади было столько народу, что я даже остановился, испуганный. Да и Венне, шедший рядом со мной, прижался ко мне плечом, словно в поисках поддержки.
— Знаешь, Гэв, я в жизни ничего подобного не видел, — вдруг охрипнув, прошептал он. Мы оба шли за Чамри буквально по пятам, точно два козленка за матерью-козой.
Впрочем, и сам Чамри озирался с некоторым изумлением.
— Этот город и вполовину не был таким большим, когда я уходил, — сказал он. — Вы посмотрите, как они тут все здорово устроили!
— Вам повезло, — заметил Тома, наш толстенький сопровождающий. — Вон и сам Барна идет.
Через площадь к нам направлялся огромный бородатый мужчина. Очень высокий, с широкой грудью и мощным торсом, с темно-рыжими курчавыми волосами и пышной бородой, целиком скрывавшей его щеки, подбородок и грудь, с большими ясными глазами, он шел на удивление легко и плавно, словно не шел, а плыл над поверхностью земли. И стоило нам его увидеть, как мы сразу же поняли: это и есть, как сказал Тома, «сам Барна». Он посмотрел на нас дружелюбно, с острым любопытством, и Чамри воскликнул:
— Барна! Возьмешь ли ты меня обратно, если я скажу, что привел к тебе парочку отличнейших новобранцев? — Несмотря на довольно-таки нахальный тон, Чамри держался почтительно — не кланялся, но явно испытывал к своему собеседнику должное уважение. — Если ты меня забыл, то я и есть тот самый Чамри Берн, который несколько лет назад совершил трагическую ошибку, уйдя из Сердца Леса на юг.
— А, тот горец! — улыбнулся Барна. Улыбка у него была широкая, белые зубы так и сверкали в зарослях бороды. И голос у него был потрясающий: густой, глубокий бас. — Ну, что касается тебя самого, то добро пожаловать снова к нам. Ты ведь знаешь: мы тут вольны приходить и уходить когда вздумается! — Он пожал Чамри руку и спросил: — А кто эти парни?
Чамри представил нас, в нескольких словах описав наши таланты. Барна потрепал Венне по плечу и сказал, что охотнику в Сердце Леса всегда рады; на меня он внимательно смотрел с минуту, потом сказал:
— А ты, Гэв, зайди ко мне сегодня попозже, если не трудно. Тома, ты им жилье подыщешь? Хорошо, хорошо, хорошо! Добро пожаловать в свободную жизнь, ребята! — И он широкими шагами зашагал дальше. Издали было особенно хорошо заметно, что он по крайней мере на голову выше всех вокруг.
Чамри сиял.
— Клянусь священным камнем! — воскликнул он. — Ни одного слова недовольства, только «добро пожаловать», и все грехи прощены! Вот вам поистине великий человек! И сердце у него великое!
Мы нашли себе пристанище в одном из домов, который показался нам просто роскошным после наших сделанных кое-как и насквозь продымленных хижин. Потом поели в общей столовой, которая была весь день открыта для всех, и там-то Чамри наконец и обрел то, о чем так сильно мечтал: повара как раз изжарили пару баранов, и он ел жареную баранину до тех пор, пока глаза у него не заблестели от наслаждения над лоснящимися от бараньего жира щеками. После этого он проводил меня к дому Барны, который возвышался над центральной площадью, но со мною внутрь не пошел.
— Не стану торопить судьбу, — пояснил он. — Барна ведь тебя просил зайти, не меня. Спой ему эту песню — «Свобода», так, кажется? Сразу его сердце завоюешь.
Я вошел в дом, пытаясь вести себя как ни в чем не бывало, и сказал там, что меня просил зайти сам Барна. Навстречу мне попадались исключительно мужчины, но где-то в глубине дома я слышал и женские голоса. И эти звуки, звуки женских голосов в глубине большого дома, словно вдруг странным образом сдвинули что-то в моем мозгу, приоткрыли какую-то дверку. Мне захотелось остановиться и послушать. Впрочем, услышать мне хотелось только один-единственный голос.
Но остановиться мне не дали, и пришлось следовать за провожатыми, которые привели меня в какую-то комнату с большим камином. У камина, хоть огонь в нем и не горел, сидел Барна — в огромном кресле, очень для него подходящем и похожем на настоящий трон. Вокруг было много мужчин и женщин, и Барна разговаривал с ними и смеялся. На женщинах были такие красивые одежды, каких я не видел уже много месяцев, а такие расцветки, как у этих тканей, я в последнее время замечал лишь на цветущем лугу или любуясь отблесками зари. Вы будете смеяться, но я просто глаз не мог отвести от этой одежды, причем больше всего меня привлекало именно разнообразие цвета, а не сами женщины. Некоторые мужчины тоже были очень красиво одеты, и вообще было очень приятно видеть чистых людей в красивой одежде, мирно беседующих друг с другом и весело смеющихся. Это было так мне знакомо!
— Поди-ка сюда, парень, — сказал Барна своим глубоким великолепным басом. — Тебя ведь Гэв зовут, верно? Ты, Гэв, из Казикара или из Азиона?
А вот в лагере Бриджина никогда никто не спрашивал человека, откуда он. Среди беглецов, дезертиров и преследуемых законом воров такой вопрос вряд ли восприняли бы с одобрением. Чамри был единственным, кто часто и совершенно свободно рассказывал, откуда он бежал, но и то только потому, что теперь находился далеко-далеко от тех мест. А не так давно по лагерю пронесся слух о рейдах, совершаемых охотниками за рабами в поисках беглецов. В общем, там все считали, что лучше вообще не иметь никакого прошлого, и меня это совершенно устраивало. Так что я был настолько ошеломлен вопросом Барны, что ответил на него нехотя, с трудом и таким тоном, что даже мне самому показалось, что я говорю неправду:
— Я из Этры…
— Из Этры? Да неужели? Впрочем, я ведь сразу распознаю горожанина, стоит мне его увидеть. Я и сам родился в Азионе, будучи сыном одного из тамошних рабов. Как видишь, я и в лес город с собой притащил. Что хорошего в свободе, если ты беден, голоден, грязен и никак не можешь согреться? Такая свобода никому не нужна! Если человек хочет в одиночку зарабатывать себе на жизнь луком или мотыгой, то это его собственный выбор; а здесь, в Сердце Леса, никому не грозит ни рабство, ни нужда. Таков главный и основной закон Барны. Верно я говорю? — спросил он со смехом у тех, что его окружали, и они дружно закричали:
— Верно!
Энергия и доброжелательность этого человека, его нескрываемое наслаждение жизнью воздействовали на других столь сильно, что устоять было совершенно невозможно. Его тепла и силы, казалось, хватает на всех. Кроме того, он, безусловно, был умен; его ясные глаза все подмечали очень быстро и видели глубоко. Посмотрев на меня внимательно, он сказал:
— Ты был домашним рабом и с тобой очень хорошо обращались, верно? Со мной то же самое было. Что тебя научили делать в хозяйском доме?
— Я получил неплохое образование, чтобы впоследствии учить детей в нашей школе. — Я говорил очень медленно, словно читая некую историю, написанную не обо мне, а о ком-то другом.
Барна наклонился вперед, явно заинтересовавшись моим сообщением.
— Получил образование, говоришь? — воскликнул он. — Читать, писать умеешь? И все такое?
— Да.
— Чамри сказал, что ты еще и певец, так?
— Рассказчик, — поправил я.
— Рассказчик, значит… И о чем же ты рассказываешь?
— Обо всем, что когда-то прочел в книгах, — сказал я не потому, что хотел похвалиться, а потому, что это было правдой.
— Что же ты читал?
— Разные книги. Историков, философов, поэтов.
— Да ты действительно образованный человек, клянусь Глухим богом! Образованный человек! Учитель! Не иначе как сам великий бог удачи послал мне человека, в котором я так нуждался, которого мне так не хватало! — Барна с радостью и некоторым удивлением посмотрел на меня, поднялся со своего огромного кресла и заключил меня в медвежьи объятия. Мое лицо оказалось притиснутым к его курчавой бороде. Он так сдавил мне ребра, что у меня перехватило дыхание. Затем он отодвинул меня на расстояние вытянутой руки и сказал: — Ты ведь останешься у нас, да? Приготовь ему комнату, Диэро! А сегодня вечером… Можешь ты сегодня вечером нам что-нибудь рассказать? Покажешь, какими премудростями ты обладаешь, Гэв-Школяр? Договорились?
Я сказал, что непременно.
— Вот только книг у нас здесь для тебя не найдется, — сказал он даже с какой-то тревогой, по-прежнему ласково обнимая меня за плечи. — У нас есть почти все, чего может пожелать человек, кроме книг; книги — это совсем не то, что мои люди сюда приносят; люди у нас в основном невежественные, неграмотные, а книги — вещь очень тяжелая. — И Барна рассмеялся, откинув назад свою крупную голову. — Но теперь мы это исправим. Мы позаботимся о том, чтобы у нас и книги появились. Итак, до вечера, дружок!
И он отпустил меня. Какая-то женщина в изящном черно-фиолетовом платье взяла меня за руку и куда-то повела. Вообще-то, на мой тогдашний взгляд, она была уже довольно старой, наверняка за сорок; лицо у нее было строгое, она ни разу не улыбнулась, но обращалась со мной ласково, и голос у нее оказался ласковый, нежный, и платье очень красивое. И я все удивлялся, до чего же все-таки женщины все делают иначе, чем мужчины, и двигаются, и говорят, и ходят! Диэро привела меня куда-то на самый верх, на чердак, и стала извиняться, что отведенная мне комната находится так высоко и так мала. Я, заикаясь, пробормотал, что вполне мог бы жить и со своими друзьями в общем доме, но она сказала:
— Ты, конечно, можешь жить и в общем доме, если захочешь, но Барна надеется, что ты именно его дом почтишь своим присутствием.
Я просто лишился дара речи после таких слов. Да и разве можно было хоть чем-то огорчить эту изящную, хрупкую, строгую женщину. Меня только удивляло, что все вокруг поверили мне на честное слово, особенно насчет моих знаний, но сказать это вслух я не решился.
Диэро вскоре ушла, и я немного огляделся. Комнатка действительно была небольшая, с квадратным окошком. Из мебели имелись удобная кровать с матрасом, простынями и одеялом, стол, стул и масляная лампа. Мне все это показалось настоящим раем. Спустившись вниз, я сходил в тот дом, где остановились Чамри и Венне, но их там не было, и я попросил какого-то человека, валявшегося на кровати, чтобы он передал им, что я остаюсь в доме Барны. Он посмотрел на меня недоверчиво, потом понимающе усмехнулся и хмыкнул:
— Высоко забрался, а?
Я положил свои жалкие пожитки к пожиткам Чамри, понимая, что мне вряд ли в ближайшем будущем понадобятся мои рыболовные снасти или старое вонючее одеяло; но нож свой я оставил висеть на поясе, заметив, что почти все мужчины здесь тоже носят на поясе ножи. Потом я снова неторопливо пошел в дом Барны, стараясь получше рассмотреть его, поскольку уже не был настолько ошеломлен происходящим. Дом фасадом выходил на центральную площадь и поражал своими внушительными размерами, мощными балками и высокими коньками крыш. Построен он был, разумеется, тоже из дерева, и в окошках с тесными переплетами стекол я не заметил, но все равно он произвел на меня потрясающее впечатление.
Поднявшись к себе, я присел на кровать — в своей собственной комнате! — и позволил головокружительному возбуждению охватить меня целиком. Я очень нервничал из-за того, что мне придется выступать перед этим великодушным, властным, непредсказуемым великаном и целой толпой его приятелей или гостей. Я чувствовал, что должен сразу же, отметая всякие сомнения, доказать, что я и есть тот самый «школяр», «ученый», которого он хотел бы видеть во мне. Как все-таки странно, что меня призвали сделать именно это! И по этой причине я должен выйти из той тишины, в которой прожил так долго, из тишины одиночества, тишины лесов, из безмолвного забвения. Но ведь я уже нарушал эту тишину и это молчание! Я пересказал своим товарищам по несчастью всю поэму Гарро! Тогда я призвал на помощь свою память, и она вернулась ко мне. Это был мой дар, это всегда жило во мне, я помнил все, что когда-то прочел, что когда-то учил в классной комнате вместе с…
Нет. Я подошел слишком близко к той непреодолимой стене, что отделяла меня от прошлого. И мысли мои словно онемели. И голова отупела, вновь стала совершенно пустой.
Я прилег на кровать и задремал. И продремал до тех пор, пока свет в моем маленьком с тесным переплетом окошке не приобрел закатный, красноватый оттенок. Тогда я встал, постарался как можно лучше пригладить волосы пальцами, а потом стянул их на затылке куском рыболовной лески, ибо они вот уже год были не стрижены. Больше я ничего не мог сделать, чтобы придать своему виду хоть какую-то элегантность. Спустившись по лестнице, я прошел в большой зал, где уже собралось человек тридцать или сорок, болтавших, точно стая скворцов.
Со мной радушно поздоровались, и та строгая, милая женщина в черно-фиолетовом, Диэро, подала мне чашу с вином, которую я залпом осушил. У меня, естественно, тут же закружилась голова, но не хватило смелости помешать ей вновь наполнить мою чашу. Впрочем, ума у меня хватило хотя бы на то, чтобы пока не пить больше ни глоточка. Я смотрел на эту серебряную чашу тонкой работы с выгравированными веточками оливы, столь же прекрасную, как и все те вещи, которые… я видел когда-то в одном доме… и думал: интересно, неужели в Сердце Леса есть свои ювелиры и золотых дел мастера? И откуда здесь берется серебро? Затем надо мною навис громогласный Барна, обнял меня за плечи, куда-то повел и поставил перед собравшимися людьми. Призвав своих гостей к тишине, он сказал, что у него есть для них особое угощение, и с улыбкой кивнул мне.
Жаль, что у меня не было лютни, как у странствующих сказителей, которые с помощью этого музыкального инструмента задают тон и настроение своему повествованию. Мне же пришлось начинать в полной тишине, что всегда очень трудно. Однако опыт выступлений я к этому времени приобрел уже довольно большой, так что велел себе: стой прямо, Гэвир, постарайся не махать зря руками, и пусть твой голос идет как бы из твоего сердца, из самых глубин твоей души…
Я рассказывал им старинную поэму «Мореплаватели Азиона». Эта идея пришла мне в голову, потому что Барна и сам был родом из Азиона. К тому же я надеялся, что эта история будет интересна и всем прочим слушателям. В ней рассказывалось о корабле, совершающем каботажное плавание и везущем сокровища из Ансула в Азион. На судно нападают пираты, они берут его на абордаж, убивают офицеров и приказывают рабам грести к острову Соува, где у пиратов логово. Гребцы подчиняются, однако ночью, сговорившись, поднимают бунт, разрывают свои цепи, убивают пиратов и направляют корабль со всеми сокровищами на борту в порт Азион, где городские правители встречают их как героев и награждают каждого частью спасенного имущества и свободой. Эта поэма написана особым, как бы колышущимся стихом, подобным морским волнам, и я видел, что мои слушатели следят за развитием сюжета, широко раскрыв и глаза и рты, — в точности как слушали меня в насквозь продымленной хижине мои Лесные Братья. Меня же чрезвычайно взбодрили и слова поэмы, и внимание аудитории. Казалось, все мы находимся на том корабле, посреди бескрайнего серого моря.
Я умолк, закончив поэму, и в зале ненадолго воцарилась полная тишина, потом встал Барна и проревел:
— Они их освободили! Клянусь Сампой, великим Созидателем и Разрушителем, они дали им свободу! Вот такие истории мне очень нравятся! — Он снова по-медвежьи обнял меня и, придерживая за плечи, но как бы чуть отстраняя от себя, продолжил: — Хоть я и сомневаюсь, что история эта правдива. Благодарность горстке рабов на галере? Непохоже! Слушай, Школяр, сейчас я придумаю для этой сказки конец, куда больше похожий на правду. Эти рабы и не подумали плыть в Азион, а развернулись и поплыли на юг, к Ансулу, из которого и везли это золото; потом они его разделили между собой поровну и прожили остаток своих дней как богатые и свободные люди! Ну как? Хотя, конечно, это очень хорошая поэма, великая поэма, и рассказал ты ее очень хорошо! — Он дружески хлопнул меня по спине и повел по кругу, представляя своим гостям, мужчинам и женщинам, и все меня хвалили и разговаривали со мной очень ласково, и голова у меня совсем пошла кругом, тем более что я все-таки допил свое вино. Все это было очень приятно, но я даже обрадовался, когда мне наконец позволили оттуда уйти и подняться в свою каморку. Испытывая сильнейшее удивление из-за всего того, что произошло со мною за этот долгий день, я рухнул на свою мягкую постель и тут же заснул.
Так началась моя жизнь в Сердце Леса и мое знакомство с отцом-основателем этого лесного города и его идейным вдохновителем. Единственное, о чем я мог тогда думать, — что бог удачи по-прежнему меня не оставляет. Видимо, именно потому, что я не знал, о чем мне попросить Глухого бога, он и давал мне то, в чем я нуждался.
То, что Барна так хорошо меня принял, вызвано было не просто его желанием развлечься и повеселиться, хотя шумное веселье в той или иной степени сопровождало почти все, что он говорил и делал. Нет, его особое отношение ко мне имело давнюю и вполне определенную причину: ему давно хотелось, чтобы у него в городе появились не только свободные, но и образованные люди, которых там до сих пор не было ни одного.
Барна очень быстро приблизил меня к себе, и между нами установились вполне доверительные отношения. Он, как и я, вырос в большом доме, где не только хозяева, но и некоторые рабы получили приличное образование. Там была большая библиотека, и туда, что меня особенно потрясло, приходили ученые, посещавшие Азион, чтобы побеседовать с просвещенными хозяевами Барны. Порой у них в доме подолгу гостили поэты, а философ Деннетер, например, вообще прожил там целый год. Все это восхищало юного Барну, оставляя в его душе глубокий след. Да и сам он тоже удивлял своими способностями и хозяев, и гостей дома; он очень быстро все схватывал, и особенно его интересовала философия. Деннетер, оказавший на него огромное влияние, даже захотел сделать его своим учеником. Хозяева дали согласие, и Барна уже готовился учиться у Деннетера и путешествовать с ним по всему свету.
Но когда ему было пятнадцать лет, рабы из казарм гражданской армии Азиона подняли восстание. Они вломились в оружейные склады города, забаррикадировались там, перебив охрану и всех тех, кто пытался их остановить, и объявили себя свободными людьми. Они требовали, чтобы город признал их новый статус, и призывали всех остальных рабов к ним присоединяться. Многие домашние рабы так и поступили, и в течение нескольких дней в Азионе царили паника и смятение. Затем армия окружила оружейные склады, взяла их, и восставшие были перебиты. После этого бунта почти все рабы мужского пола оказались под подозрением. Многих хозяева заклеймили, чтобы уж никто не заподозрил в них свободных людей. Барна, тогда пятнадцатилетний мальчишка, клейма избежал, однако теперь и речи быть не могло ни об изучении философии, ни о путешествиях. Его отправили в гражданскую армию для пополнения ее поредевших рядов и выполнения разнообразных тяжелых работ.
— И на этом мое образование раз и навсегда прервалось. Ни одной книги не держал я в руках с того дня. Но у меня все же были в жизни эти несколько лет учебы и возможность слушать разговоры поистине мудрых людей; узнал я и о том, что существует жизнь разума и духа, которая превыше всего на свете. Вот почему я прекрасно понимал все это время, чего нам здесь не хватает. Я сумел создать город поистине свободных людей, но что толку в свободе для людей невежественных? Да и что такое свобода, если не способность ума узнавать то, что ему необходимо, если не способность человека свободно мыслить? Ах, даже когда тело твое в оковах, если в голове твоей сохранились мысли, если ты помнишь какие-то идеи философов и слова поэтов, ты можешь чувствовать себя свободным, ибо свободно станешь бродить среди этих великих людей и общаться с ними!
Его хвалы знаниям глубоко тронули меня. До сих пор я жил среди людей настолько бедных, что знания о чем бы то ни было, кроме их собственной нищеты, не имели для них никакого смысла, они считали все прочие знания совершенно бесполезными, и я смирился с их точкой зрения, потому что смирился и с их нищетой. Очень-очень долго я гнал от себя мысли о том, какие идеи проповедовали великие творцы, историки, философы и поэты прошлого, и, когда память об этом стала ко мне возвращаться — я тогда жил еще среди Лесных Братьев, в лагере Бриджина, — уже одно это показалось мне чудесным даром. Впрочем, это никак не было связано ни с моими собственными желаниями, ни с моими намерениями. И, будучи сам нищим и невежественным, я не осмеливался заявить, что невежество не имеет права судить знание.
И вот рядом со мной появился человек, который сумел доказать, что умен, образован, энергичен и смел, тем, что, поднявшись из нищеты и рабства, стал правителем настоящего государства, целый народ привел за собой в царство свободы и независимости. И этот человек ставил знания, образованность, поэзию выше собственных, поистине великих, достижений! И я, испытывая стыд из-за собственной слабости, наслаждался его силой.
Я все лучше узнавал Барну, все сильнее им восхищался, и мне очень хотелось быть ему полезным. Но похоже, пока что единственное, что он видел во мне, — это своего послушного ученика; я ходил вместе с ним по городу, с удовольствием слушал его высказывания и различные планы, а по вечерам рассказывал или декламировал по собственному выбору какую-нибудь историю или стихотворение ему и его гостям. Я предлагал научить и кое-кого из его приятелей читать и писать, но он отвечал, что книг у них нет, так что учить мне их никак не возможно, и, хотя я предлагал написать тексты от руки, он не позволял мне тратить на это время. Барна уверял меня, что книги непременно будут, их найдут и принесут в Сердце Леса, а потом найдутся и образованные люди, которые станут мне помощниками, и тогда мы создадим настоящую школу, где смогут учиться все, кто захочет.
Между тем кое-кто в доме Барны очень хотел учиться; например, те молодые женщины, что там жили. Им было скучно, они мечтали о новых развлечениях, и я, попросив у Барны разрешения, стал учить их читать и писать. Сам Барна только смеялся и надо мной, и над этими девушками.
— Только не позволяй им себя дурить, Школяр! Их ведь не высокая поэзия интересует! Просто хотят посидеть рядышком с молоденьким хорошеньким парнишкой! — Он и его приятели все время дразнили девушек, говоря, что те превратились в книжных червей, и девушки вскоре сдались и почти перестали посещать наши занятия. Одна лишь Диэро по-прежнему приходила довольно часто.
Диэро мне казалась поистине прекрасной, такая она была изящная, нежная. Ее с детства готовили к роли «женщины-бабочки». В Азионе — древнем городе, славившемся своими пышными церемониями, роскошью и красивыми женщинами, — «женщины-бабочки» получали особое образование согласно науке удовольствий, науке тонкой и изысканной, хотя мнение о ней в других городах-государствах было совсем иным.
Но, как рассказывала мне Диэро, чтение в число тех искусств, которым обучали «бабочек», не входило. Она с жадным вниманием вслушивалась в строки той поэзии, о которой я рассказывал, и вообще к знаниям относилась с огромным, хотя и застенчивым, интересом. Я, как умел, поддерживал ее желание научиться читать и писать. Она была необыкновенно скромна, постоянно сомневалась в собственных силах, но схватывала все очень быстро, и та радость, которую она испытывала, удачно ответив урок, и мне тоже была чрезвычайно приятна. Барна относился к нашим занятиям вполне добродушно, как к очередному развлечению.
Самые старшие из его соратников, те, что долгие годы были с ним рядом, являлись поистине его людьми. Они вынесли из долгих лет рабства привычку подчиняться приказам и никогда не претендовать на главенствующую роль, что делало их особенно удобными для такого прирожденного вожака, как Барна. Они относились ко мне как к мальчишке, а не как к своему сопернику; они объясняли мне то, что знать в городе беглых рабов было просто необходимо, и время от времени кое от чего меня предостерегали. Барна, говорили они, с себя последнюю рубаху снимет и тебе отдаст, но, если он решит, что ты ухлестываешь за его девицами, берегись! Они рассказали мне, что Диэро пришла вместе с Барной из Азиона еще в те времена, когда он только-только вырвался на свободу, и в течение многих лет была его любовницей. Теперь, правда, она, что называется, «в отставке», но осталась «женщиной Дома Барны», и человеку, особенно мужчине, который вздумал бы относиться к ней без должного уважения, смешанного с обожанием, там было не место.
Барна как-то объяснил мне — мы с ним сидели тогда на сторожевой башне Сердца Леса, — что мужчины и женщины должны свободно любить друг друга, не давая всяких ханжеских обещаний в вечной верности, которые, точно цепями, связывают людей. Мне его слова очень понравились. О браке я знал лишь то, что это — для хозяев, а не для таких, как я, и даже не думал об этом. А вот Барна о таких вещах не только думал, но и пришел к определенным выводам, которые превратил почти в закон для обитателей лесного города. У него и насчет детей тоже свои идеи имелись: дети должны быть совершенно свободны, их никогда нельзя наказывать, пусть бегают где хотят и находят для себя такие занятия, которые им действительно по душе. Это меня просто в восторг приводило, как, впрочем, и почти все идеи Барны.
Я был хорошим слушателем, иногда задавал вопросы, но по большей части довольствовался тем, что внимательно следил за бесконечными и щедрыми планами, возникавшими в его мозгу. Он и сам говорил, что думается ему лучше всего вслух. И вскоре уже просто требовал моего присутствия, громогласно вопрошая: «Где это наш Гэв-ди? Где наш Школяр? Мне надо подумать!»
Я жил в доме Барны, но часто виделся и с Чамри. Он вступил в гильдию сапожников, вместе с которыми и жил, устроившись вполне уютно; он ни на что не жаловался, разве на то, что женщин в Сердце Леса маловато да и жареная баранина редко на обед бывает. «Надо почаще посылать этих юнцов, что без дела маются, чтобы баранинки раздобыли!» — говорил он.
Венне вскоре обнаружил, что, как и любому охотнику, ему придется большую часть времени проводить далеко в лесах, как это было и в лагере у Бриджина. Однако вся дичь вблизи Сердца Леса давным-давно была выбита, и город теперь кормила совсем не охота. Как-то раз те самые «юнцы, что без дела маются», попросили Венне пойти с ними в качестве охраны, ибо уже знали, как ловко он стреляет из своего небольшого лука. Так он впервые вышел вместе с ними на большую дорогу. Это случилось примерно через месяц после нашего появления в Сердце Леса.
«Десятинщики», а попросту налетчики, занимались там настоящим разбоем. Они выходили навстречу торговым караванам и отдельным повозкам, принадлежавшим богатым купцам; останавливали и стада, которые погонщики перегоняли по дороге из селения в селение. В итоге и скот, и груженные товаром повозки, и возницы, и погонщики, и лошади оказывались у нас в городе, тем самым пополняя и наши продовольственные запасы, и количество повозок, и даже численность населения — если, конечно, эти люди сами выражали желание присоединиться к нашему братству. Если же они этого не хотели, то, по словам Барны, им завязывали глаза, выводили на дорогу и оставляли их там с повязкой на глазах и со связанными руками; и эти несчастные бродили по дороге до тех пор, пока очередной путник их не развяжет. Барна оглушительно хохотал, рассказывая мне, что некоторые возницы так часто попадались его людям, что сами покорно протягивали руки, чтобы их связали.
Имелась в лесном городе и особая категория — «ловцы», которые, отправляясь в одиночку или парами в Азион, покупали или выменивали на рынке необходимые нам вещи, попросту обворовывая дома богачей и сундуки жрецов в богатых храмах. В Сердце Леса деньгами не пользовались, однако нашему братству деньги были необходимы, чтобы покупать то, чего налетчики не могли украсть на дороге, — в том числе доброе отношение местных крестьян, а также молчание купцов в больших городах, пребывавших с «ловцами» в сговоре. Барна любил хвастаться тем, что сидит на таком богатстве, какому могут позавидовать даже самые крупные торговцы Азиона. Где хранилось это богатство, я так и не узнал. Бронзовые и медные монеты выдавались любому, стоило ему сказать, что он отправляется в город за покупками.
Барна и его помощники прекрасно знали каждого, кто уходил в Азион. Таких было немного, и все они были людьми испытанными и надежными, ибо, как говорил Барна, одного дурака, треплющего языком в пивной, вполне достаточно, чтобы Сердце Леса окружила вся армия Азиона. Узкие, прихотливо извивающиеся тропки, ведущие к воротам лесного города, тщательно охранялись, а зачастую их специально уничтожали и прокладывали в другом месте, особенно в тех случаях, когда нужно было скрыть следы колесных повозок или прошедшего стада. Просто так никто не мог пройти к Сердцу Леса. Я, например, все время вспоминал тех часовых, которых мы тогда встретили на тропе, их грозный вид и нацеленный на нас большой лук. И все здесь знали: если кто-то из охраняющих заветные тропы заметит человека, который без разрешения вышел из города и явно пытается уйти прочь, то никаких угроз не последует: предателя просто пристрелят.
Венне не раз просили стать членом городской стражи, но ему очень не нравилась мысль о том, что, вполне возможно, придется стрелять кому-то в спину. Ему куда больше по душе пришлись налеты на торговые караваны и угон скота; кроме того, положение «десятинщика» было весьма престижным. Барна и сам говорил, что самые ценные члены нашего сообщества — это налетчики и «борцы за справедливость», поддерживающие в городе порядок, но, с другой стороны, каждый волен следовать зову собственного сердца, выбирая, чем ему заниматься. Так что Венне радостно ушел с бандой молодых «десятинщиков», пообещав Чамри вернуться с «отарой овец, а если это не удастся, то с целой толпой женщин».
На самом деле женщин в Сердце Леса действительно было маловато, и каждую из них ревниво охраняли — либо один мужчина, либо несколько. Те женщины, которых я мог видеть вне дома — на улице или в саду, — все, похоже, были либо беременны, либо тащили за собой целый выводок малышей. Надо сказать, женщины в лесном городе отнюдь не сидели без дела, наоборот, они постоянно гнули спину: мели полы, пряли, копали землю, пололи огороды, доили коров, то есть занимались всем тем, чем обычно занимаются рабыни в любом хозяйстве. У Барны в доме, правда, молодых женщин было полно, значительно больше, чем где-либо еще; это были самые хорошенькие и самые веселые девушки в городе, всегда очень красиво наряженные. Одежду для них приносили «десятинщики». Если девушка умела петь, танцевать или играть на лютне, это особенно приветствовалось, но работать ей было совсем не обязательно. Все девушки в доме были, по выражению Барны, «именно такими, какими и должны быть женщины, — свободными, красивыми и добрыми».
Он очень любил собирать их вокруг себя, и они с удовольствием с ним кокетничали, льстили ему, любовно его поддразнивали, и он тоже охотно шутил с ними, но серьезные разговоры всегда вел только с мужчинами.
Поскольку Барна по-прежнему держал меня при себе как самого надежного своего конфидента, я со временем даже стал гордиться столь почетным доверием, одновременно сознавая и всю его тяжесть, и очень старался быть достойным дружбы этого великого человека. По вечерам я, как обычно, выступал в большом зале перед всеми, кто желал послушать в моем исполнении произведения самых различных авторов, и благодаря этому, а также из-за того, что Барна постоянно и повсюду брал меня с собой, большинство людей относились ко мне с уважением. Хотя порой я и чувствовал с их стороны зависть или изумление, а то и высокомерное презрение — ведь я, в конце концов, был еще совсем мальчишкой. А кое-кто, о чем мне было прекрасно известно, и вовсе называл меня «образованным придурком», чувствуя, что мне еще многого не хватает, что, несмотря на бесконечное множество подчиняющихся мне слов, я знаю мир очень слабо и неглубоко, точно ребенок.
Я и сам понимал, что это так, но старался не думать об этом. Я сознательно гнал от себя подобные мысли и старался не расставаться с Барной, следуя за ним по пятам, ибо очень в нем нуждался. Он жил так полно и так радостно, что это отчасти заполняло и ту пустоту, внутри которой существовал я сам.
И не только я один это чувствовал. Барна был истинным сердцем созданного им города. Его видение любой проблемы, любое его решение всегда воспринимались с уважением и восхищением; его несокрушимая воля служила людям точкой опоры. Он управлял другими, не запугивая и не смущая их, а всего лишь постоянно — причем часто невольно — демонстрируя превосходство своей силы и своего ума, ну и, разумеется, благодаря своей невероятной природной щедрости. Барна всегда оказывался в нужном месте раньше других и сразу видел, что именно нужно сделать и как это сделать, вовлекая в эту деятельность и всех окружающих, заражая их своей страстностью и активной доброжелательностью. Он любил людей, любил быть среди них, в самой их гуще, и всем сердцем верил в людское братство.
Теперь я уже знал, каковы его мечты, ибо он сам поведал их мне во время наших бесконечных прогулок по городу, когда он направлял и воодушевлял других, порой принимая самое непосредственное участие в их работе, а я следовал за ним, точно послушная, вечно внемлющая ему тень.
Я не всегда мог разделить его любовь к обитателям Сердца Леса и не всегда понимал, как он умудряется сохранять терпение, общаясь с некоторыми из них. Жилье, пища и все необходимое для жизни старались здесь делить по возможности справедливо, но, на мой взгляд, справедливость эта была довольно приблизительной, что, впрочем, вполне естественно. Так что одна комната всегда оказывалась больше другой, в одном куске пирога было больше изюма, чем у соседа, и так далее. И первой реакцией большинства людей на любую допущенную по отношению к ним несправедливость был гнев; они начинали обвинять друг друга в свинстве и пытались отбить свою «законную долю», пуская в ход кулаки, а то и ножи. Многие из них были когда-то рабами на фермах или привлекались к тяжелым работам в гражданской армии; с ними с раннего детства жестоко обращались, они привыкли даже самую малость для себя добывать с боем, стараясь во что бы то ни стало удержать завоеванное. Барна тоже прожил нелегкую жизнь и хорошо понимал этих людей. Он установил в своем городе очень простые правила и законы, но требовал строгого их соблюдения, и в этом ему помогали его «борцы за справедливость», действовавшие порой совершенно безжалостно. Тем не менее время от времени случались и убийства, и шумные ссоры, а драки — почти каждую ночь. Немногочисленные целители, костоправы и зубодеры, работали не покладая рук. Пиво по приказу Барны варили не слишком крепкое, но ведь и легким пивом можно напиться допьяна, если ты не привычен к спиртному или пьешь всю ночь напролет. А если людям не давали напиться или подраться, они начинали жаловаться на несправедливости, на то, что с ними нечестно обошлись, на то, что именно им все время приходится выполнять самую тяжелую работу; одним хотелось, чтобы работы было меньше, другим — делать не это, а нечто совсем другое, или же работать не с теми, а с другими людьми, и так до бесконечности. Все эти жалобы в итоге разбирал сам Барна.
— Людям придется еще учиться быть свободными, — говорил он мне. — Быть рабом легко. А чтобы стать действительно свободным человеком, нужно уметь и головой работать, и понимать, кому отдать, а у кого взять, да и самому надо научиться себя в руках держать, себе самому приказывать. Ничего, они научатся, Гэв, научатся! — Но порой даже его невероятной природной доброты не хватало; она истощалась под теми бесконечными требованиями, которые эти люди на него обрушивали, требуя разрешить всякие глупые и мелочные проблемы, вызванные ревностью и завистью. Порой Барну могли страшно разозлить клевета и соперничество тех, кто был ему ближе других, — тех, кого он называл «борцами за справедливость», а также тех, кто жил у него в доме. На самом деле эти люди, по сути, являлись правительством лесного города, хотя, разумеется, никаких титулов не имели.
У него и у самого титула не было, он был просто Барна.
Барна выбирал себе помощников, а они выбирали помощников себе — правда, всегда с его одобрения. Возможность выборов на основе всеобщего голосования представлялась ему пока довольно туманно; он с подобными идеями был знаком весьма слабо. Я, конечно, мог рассказать ему, что некоторые из городов-государств в то или иное время представляли собой республики или даже демократии, хотя и там, конечно, право голоса имели только свободные и знатные люди. Я вспомнил все, что когда-то читал об Ансуле, городе, находившемся далеко на юге; правительство Ансула состояло из людей, избранных всенародно, и там не знали, что такое рабство, пока сам Ансул не был захвачен воинственными кочевниками, пришедшими из восточных пустынь. В Ансуле мужчины и женщины считались равноправными гражданами, и каждый из них имел право голоса; правящий совет там выбирали на два года, а сенаторов — на шесть лет. Я, как умел, рассказывал Барне об этих формах политического управления. Он слушал меня с большим интересом, незамедлительно добавляя кое-что из только узнанного в свои планы построения некоего идеального Свободного лесного государства.
Эти планы служили основной темой наших бесед, особенно когда Барна пребывал в хорошем настроении. Когда же его начинали доканывать бесконечные драки, ссоры, наветы и прочие мелкие проблемы, почему-то требовавшие его личного вмешательства, когда он уставал от решения вопросов, за которые тоже брал на себя полную ответственность, — например, об обеспечении города провизией или о том, где следует выставить новые сторожевые посты или где построить новые дома и склады, — он начинал рассказывать мне о великом восстании.
— В Азионе на каждого свободного человека приходится три или четыре раба. В Бендайле все, кто работает на фермах, — это рабы. Ах, если б только они понимали, кто они, что без них ничего не может быть сделано! Если б догадывались, как их на самом деле много! Если б могли осознать свою силу и держаться вместе! Тот мятеж с захватом оружейных складов, что случился в Азионе двадцать лет назад, был просто взрывом отчаяния. Никакого плана действий у его вожаков не было, да и сами вожаки людьми руководить не умели. Оружие у них имелось, это да, а вот ни плана, ни конкретной цели не было. Им некуда было идти. Они не сумели удержаться вместе. То, что мечтаю осуществить я, будет происходить совершенно по-другому. Мое восстание должно опираться на два основных момента. Во-первых, это оружие; запасы оружия мы уже делаем. Нас встретят насилием, и мы должны быть готовы ответить на это насилие превосходящей силой. А во-вторых, это прочный союз, объединение всех рабов. Мы должны действовать как один человек. Восстание должно начаться одновременно повсюду — в городах, в деревнях, на фермах. Для этого необходима некая сеть тайных агентов, тесно связанных друг с другом, хорошо подготовленных и обладающих необходимыми сведениями и доступом к оружию, а самое главное, точно знающих, когда и как действовать, чтобы, когда вспыхнет первый факел, вся страна мгновенно загорелась ярким огнем. Огнем свободы! Как там поется
в твоей песне? «Будь нашим огнем, Свобода…»!
Его речи о восстании тревожили и восхищали меня. Не понимая толком, что стоит на кону, я любил слушать, как он строит свои планы, и задавать ему вопросы. Он мгновенно загорался и рассказывал о деталях будущего восстания с невероятной страстностью.
— Твоя искренняя заинтересованность возвращает мне душу, Гэв, — говорил он. — Ее просто сжирают бесконечные попытки наладить здесь все как надо. Я успеваю следить только за тем, что нужно сделать немедленно или в самое ближайшее время, забывая порой, зачем все это делается. Я пришел сюда, чтобы построить укрепленный город, твердыню, где можно было бы не только собрать целую армию и запасы оружия, но и создать некий революционный центр. Отсюда агенты могли бы возвращаться в разные города севера и в Бендайл и, призывая в наши ряды других рабов, в том числе и из Азиона, и из Казикара, и отовсюду, готовить их к восстанию, чтобы, когда оно разразится, их бывшие хозяева нигде не смогли укрыться. Даже если они захотят бросить против нас свои армии, то кто поведет эти армии, кто их возглавит, если хозяева будут взяты в заложники в своих собственных домах и на фермах, а города окажутся в руках рабов? В городах хозяев следует запереть в Хижинах для рабов точно так же, как они запирали нас в Хижинах при малейшей угрозе войны. Верно я говорю? Ну а теперь заперты будут хозяева, а хозяйством станут управлять рабы, как это, собственно, и было всегда; рабы станут поддерживать торговлю, научатся руководить государством. Да и в небольших селениях и деревнях следует сделать то же самое: хозяев крепко запереть и всю власть передать в руки рабов; пусть они делают то, что делали всегда, но с той лишь разницей, что и приказы они будут отдавать себе сами, и всем распоряжаться тоже… Итак, предположим, армия идет в атаку, но в таком случае первыми должны умереть заложники, то есть хозяева, которые, скуля, станут молить о пощаде: «Не позволяйте им убить нас вашими руками! Не убивайте нас! Не атакуйте их!» А генералы подумают: «Да это ж всего-навсего рабы, вооруженные вилами да кухонными ножами! Они тут же бросятся бежать, стоит нам в город войти!» И вот, скажем, один из генералов посылает целый полк на захват какой-то фермы. И его войско терпит неожиданное поражение, а его воины оказываются буквально изрезанными на куски рабами, которые не только вооружены мечами и большими луками, но и обучены искусству боя. Эти рабы сражаются на своей земле и пленных не берут. И вот наконец рабы выводят наружу одного из хозяев, возможно Отца Дома, и ставят его, жалобно скулящего, так, чтобы все солдаты хорошо его видели, и говорят: «Вы сами напали на нас, и теперь он умрет». Несчастному отрубают голову и говорят солдатам: «Если вы будете продолжать воевать с нами, умрет немало и других хозяев». И так по всей стране. Восстание охватит каждую деревню, каждый город, даже огромный Азион… О, это будет великое восстание! И оно не будет завершено, пока хозяева не выкупят свою свободу, пока они не отдадут за нее все, что у них припасено, каждый припрятанный грош! Только тогда им будет позволено выйти из темниц и начать учиться жить так, как живет простой народ.
Барна откинул голову назад и засмеялся — куда веселее, чем во все предшествующие этому разговору дни.
— Нет, ты и впрямь действуешь на меня целительно, Гэв! — воскликнул он.
Картина, которую он рисовал передо мною, казалась совершенно фантастичной, ужасной, но все-таки настолько живой, что полностью завладевала моим воображением.
— Но как же добраться до всех тех рабов, что работают на фермах, в деревнях, в отдельных городских домах? — спросил я; мне хотелось быть практичным и задавать вопросы не просто так, а «со знанием дела».
— Для этого, разумеется, необходимо выработать особую стратегию. Надо послать специальных людей, которые сумеют проникнуть в каждый дом, поговорить с каждым из рабов на фермах и в деревнях и затянуть их в нашу сеть! Но эти люди, несомненно, должны уметь раскрыть перед рабами картину новой жизни, показать им, на что они способны сами и как это сделать. Эти люди должны уметь ответить на любой вопрос тех, с кем они беседуют. Пусть им задают как можно больше вопросов, ибо они должны заставить своих собеседников задуматься о будущем и начать строить собственные планы. Они должны подготовить их к тому, чтобы в нужный момент по нашему сигналу начать действовать. На это потребуется немало времени. Нужно создать сеть таких агентов и распространить ее, нужно составить подробные планы для каждого города и его окрестностей… И все же особенно медлить нельзя! Ведь, если все это слишком затянется, какое-нибудь словечко да просочится наружу, а глупые люди начнут чесать языками, и хозяева немедленно навострят ушки: «Что это за разговоры ведутся в хижине рабов? О чем это они все шепчутся на кухне? Что это кузнец кует до поздней ночи?» И тогда будет утрачено самое главное преимущество: внезапность. А время, как известно, решает все.
Мне его восстание казалось всего лишь очередной сказкой, прекрасной выдумкой. Барна считал, что в ближайшем будущем должно осуществиться великое отмщение, великое очищение от скверны прошлого. Но ни в сердце моем, ни в мыслях прошлого уже не осталось.
У меня вообще ничего не осталось, кроме слов — кроме тех поэтических слов, что сами себя выпевали, постоянно звуча у меня в ушах; кроме тех разнообразных историй, легенд и преданий, которые я мог мысленно представить себе и как бы прочесть. И я старался не отрывать своего взора от этих слов, не обращать внимания на то, что их окружает. Ибо стоило мне оторвать от них глаза — и я окунался в живое кипение настоящего момента, мучительно чувствуя это «здесь и сейчас», но словно не имея никакого прошлого — ни его теней, ни воспоминаний о нем. А слова приходили ко мне, как только у меня возникала в них нужда. Они являлись как бы из ниоткуда. Даже имя мое было просто словом. Даже название Этра было просто словом. И эти слова тоже не имели ни значения, ни собственной истории. Слово «свобода» было словом из поэмы. Красивое слово. Но красота в моем тогдашнем представлении и составляла всю его суть.
Постоянно рассказывая мне о своих планах и мечтах, Барна никогда не спрашивал меня о моем прошлом. Зато однажды он почти точно описал мне его. Он говорил о восстании, и, возможно, я отвечал ему без особого энтузиазма, ибо то ощущение пустоты вновь охватило меня, мешая говорить и действовать убедительно. А Барна обычно очень быстро распознавал истинное настроение своего собеседника и сказал, посмотрев на меня своими ясными глазами:
— Знаешь, Гэв, а ведь ты правильно поступил. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Ты ведь сейчас там, в своем городе, и думаешь: «Какой же я был дурак! Убежать, голодать, жить в лесу с невежественными людьми, рабски трудиться, причем куда тяжелее, чем в доме моих хозяев! Разве это свобода? Разве не был я свободнее в родном доме, беседуя с образованными людьми, читая книги умных философов и тонких поэтов, ложась спать в мягкую постель и просыпаясь в теплой комнате? Разве не был я там счастливее?» Но нет, не был! Ты не был там счастлив, Гэв. В душе ты это понимал, а потому и убежал оттуда. Ибо всегда чувствовал власть своего хозяина, его руку.
Барна вздохнул и какое-то время молча смотрел в огонь; стояла осень, воздух был сырой, холодный. Я слушал его, как и всегда, когда он рассказывал свои сказки, — не возражая и не задавая вопросов.
— Я знаю, как это с тобой было, Гэв, — снова заговорил он. — Ты был рабом в большом доме, в большом городе, у добрых хозяев, которые позволили тебе учиться. Ох, как хорошо я это понимаю! И ты считал, что должен радоваться тому, что у тебя есть такая возможность — учиться, читать умные книги, учить других, становиться человеком мудрым и образованным. Они тебе это позволили. Они дали тебе на это разрешение. О да! Но хотя тебе и дали возможность кое-что сделать, никаких прав ни на что тебе все же не дали. Все права принадлежали только им. Твоим хозяевам. Твоим владельцам. И даже если ты этого еще не понимал, ты всеми фибрами своей души чувствовал, как крепко держит тебя хозяйская рука, как она управляет тобою, как она подавляет тебя. Так что если говорить о правах и возможностях, то какими бы возможностями ты ни обладал, все они в таких условиях были бессмысленны. Потому что через тебя хозяева осуществляли только свои права и возможности. Они использовали тебя, позволяя тебе воображать, что это твои права и твои возможности. Ты получал крошечный кусочек свободы, лоскуток независимости и сам перед собой притворялся, что все это действительно принадлежит тебе. Тогда этого тебе было достаточно для счастья. Я прав? Но ты взрослел и постепенно становился мужчиной. А для мужчины, Гэв, не существует иного счастья, кроме обретенной им свободы. Его личной свободы, дающей ему право делать то, чего хочет он сам. И поэтому душа твоя тоже устремилась к свободе. Как и моя когда-то, давным-давно… — Барна ласково потрепал меня по коленке. — Да не смотри ты так печально! — воскликнул он, и в курчавой бороде сверкнула его белозубая улыбка. — Ты же и сам знаешь, что поступил правильно! Ну и радуйся этому, как этому радуюсь я!
Я попытался сказать, что я только и делаю, что радуюсь.
Но Барне надо было идти по делам, и он ушел, а я в задумчивости остался сидеть у огня. То, что он мне сказал, было правдой. Да, это была истинная правда.
Но не моя.
И я, стараясь не думать о только что рассказанной им истории, впервые решился посмотреть назад, в свое прошлое. Сколько же времени прошло с тех пор, как я заглядывал туда, за ту стену, которую сам выстроил когда-то, чтобы оградить себя от невыносимых воспоминаний? Я заглянул туда и увидел свою правду: да, я был рабом в большом богатом Доме, в большом городе, и был послушен хозяевам, и не имел никакой свободы, кроме той, которую они позволяли мне иметь. И я действительно был тогда счастлив.
В этом доме своего рабства я познал любовь, столь дорогую моему сердцу, что сейчас мне было невыносимо даже думать о ней, потому что я ее потерял. Я все потерял.
Вся моя жизнь была построена на доверии, и это доверие было предано теми, кого я считал своей Семьей. Оно было предано Аркамантом.
Аркамант — с этим названием, с этим словом все, что я позабыл, все, о чем отказывался помнить, вновь вернулось ко мне, вновь стало моим, а вместе с этим вернулась и та невыразимая боль, которую я не желал признавать.
Я сидел у камина, скорчившись, склонив голову, обхватив колени руками и не желая видеть ни эту комнату, ни этот дом. Вдруг кто-то подошел ко мне и остановился рядом — возможно, просто хотел погреться у огня. Оказалось, что это Диэро, нежный призрак в длинной шали из тонкой бледной шерсти.
— Гэв, — очень тихо и осторожно спросила она, — в чем дело?
Я попытался ей ответить и разразился рыданиями. Закрыв ладонями лицо, я плакал в полный голос, не в силах сдержаться, и Диэро присела рядом со мной на каменную скамью. Обняла меня, прижала к себе и ждала, пока я выплачу все слезы.
— Расскажи мне, расскажи обо всем, — наконец сказала она.
— Моя сестра… Она была моей сестрой… — И это слово, «сестра», вновь вызвало у меня безудержные рыдания, такие сильные, что я даже дышать не мог.
Диэро обнимала меня и баюкала, как ребенка, пока я не поднял голову и не попытался вытереть нос и щеки. Тогда она снова попросила:
— Расскажи мне о ней.
— Она всегда была там со мной, — сказал я.
И я со слезами, невнятно, обиняками, недоговаривая слова и предложения до конца и не по порядку излагая события, рассказал ей о нашей жизни в Аркаманте, о Сэлло, о ее смерти.
Стена забвения рухнула. Я снова был способен думать, говорить, вспоминать. Я был свободен. Но свобода эта оказалась невыразимо печальной.
И в тот ужасный час я снова и снова возвращался к смерти Сэлло, к тому, как она умерла, почему она умерла, — ко всем тем вопросам, которые отказывался задавать себе.
— Наша Мать Фалимер знала… должна была знать об этом, — сказал я. — Возможно, Торм действительно забрал Сэлло и Рис из «шелковых комнат» без разрешения родителей; скорее всего, он именно так и поступил. Но другие-то женщины наверняка все знали… и наверняка пошли к Фалимер-йо и сказали ей: «Торм-ди куда-то забрал Сэлло и Рис. Они не хотели идти с ним, они плакали. Неужели это ты ему разрешила их взять? Не пошлешь ли ты за ними кого-нибудь?» Но она никого за ними не послала. Она ничего для них не сделала! Может, это Алтан-ди велел ей не вмешиваться. Он всегда любил Торма больше всех. Так мне и Сэл говорила; она считала, что Алтан-ди ненавидит Явена, а Торма очень любит. Но ведь наша Мать все знала! Она знала, куда Торм и Хоуби увезли девушек. Она знала, что те молодые мужчины обращаются с девушками из «шелковых комнат» точно с животными, которые… Она все это знала! А ведь Рис была девственницей! А мою сестру Фалимер-йо сама подарила своему старшему сыну Явену! Однако она позволила другому своему сыну взять ее, а потом отдать… Как же они ее убивали? Пыталась ли она сопротивляться? Наверное, не могла. Столько мужчин… Они насиловали ее, они ее мучили, вот для чего им были нужны девушки — чтобы услышать, как они будут кричать от боли, чтобы мучить их, убивать их, топить… И Сэл умерла. А я ее увидел только потом. Только уже мертвой. Мать Фалимер за мной послала. И называла ее «наша милая Сэлло». И дала мне… она дала мне денег — она заплатила мне за сестру…
И тут из горла моего вырвался жуткий звук, нет, не рыдание, скорее хриплое рычание. Диэро крепко прижала меня к себе, но не сказала ни слова.
Я наконец умолк, чувствуя, что смертельно устал.
— Они предали наше доверие, — твердо сказал я.
И почувствовал, как Диэро кивнула. Она по-прежнему сидела рядом со мной, держа мою руку в своей.
— Да, это именно так, — сказала она очень тихо. — Самое главное — способен ты оправдать чье-то доверие или нет. Для Барны самое главное — власть, сила. Но это не так. Самое главное — это доверие.
— И у них хватило силы и власти, чтобы предать наше доверие, — горько промолвил я.
— Даже у рабов хватит на это и власти, и сил, — мягко возразила она.
Глава 10
Несколько дней после этого я не выходил из своей комнаты. Диэро сказала Барне, что я болен. А я и впрямь чувствовал себя больным — на меня навалились то горе и гнев, которые я гнал от себя, которых не желал чувствовать в течение многих месяцев, что пролетели с той минуты, когда я повернулся спиной к прошлому и пошел прочь от кладбища по берегу реки Нисас. Я тогда действительно убежал — спасая свою душу и тело от невыносимой боли. Теперь же я наконец остановился, оглянулся и перестал убегать. Однако мне еще предстоял долгий, очень долгий путь назад.
Сам я все равно не смог бы вернуться в Аркамант, хотя все чаще и чаще думал, что смогу это сделать. Но ведь я тогда убежал и от Сэлло, от своих воспоминаний о ней, и вот к ней я обязательно должен был вернуться, чтобы и она могла вернуться ко мне. Я больше не мог, не смел отвергать ее, мою возлюбленную сестру, ее милый призрак.
Я испытал облегчение, оплакав ее, но, увы, ненадолго. Всегда чистую и светлую печаль начинают потом душить ярость и гнев. И горькое чувство вины, чужой и собственной. И ненависть, не знающая прощения. Вместе с памятью о Сэл ко мне вернулось и все остальное — лица тех людей, их голоса, все то, что я так долго отвергал, отталкивал, прятал за той стеной. Часто я совсем не мог думать о Сэлло — я видел перед собой только Торма с его коренастой фигурой и кренящейся походкой; я часто вспоминал Мать и Отца Аркаманта и даже Хоуби. Того самого Хоуби, который втолкнул Сэлло в закрытый возок, хотя она плакала и звала на помощь. Того самого ублюдка Хоуби, незаконнорожденного сына Алтана-ди, который всегда больше всех ненавидел меня и Сэл, душа которого была прямо-таки переполнена злобной завистью, который однажды чуть не утопил меня… Так, может, они там, в бассейне, позволили именно Хоуби и…
Эти мысли заставляли меня корчиться в муках на полу комнаты и затыкать себе рот краем одежды, чтобы никто не мог услышать моих диких криков.
Диэро раза два в день заходила ко мне, и хотя мне было невыносимо, когда кто-то еще видел меня в таком состоянии, она у меня чувства стыда не вызывала, даже наоборот, помогала мне чуточку воспрянуть духом. В ней было некое неяркое, нежное, неколебимое спокойствие, которое мог с нею разделить и я, когда она оказывалась рядом. Я очень ее за это любил и был безмерно ей благодарен.
Она заставляла меня понемногу есть, заставляла вставать с постели и приводить себя в порядок. Она порой могла даже заставить меня думать о том, что через отчаяние я сумею в итоге отыскать путь, ведущий назад, к жизни.
Когда же наконец я покинул свою комнатушку на чердаке и спустился вниз, именно Диэро всячески ободряла меня, вселяя в мою душу мужество.
Барна, которому сказали, что у меня лихорадка, обращался со мной ласково и говорил, что мне не стоит возобновлять свои выступления, пока я окончательно не поправлюсь. Так что, хотя большую часть времени я снова стал проводить в его обществе, зимние вечера мне часто удавалось провести у Диэро; я сидел там, наслаждался исходившим от нее покоем и беседовал с нею. Я каждый раз ждал этих вечерних бесед и потом еще долго лелеял воспоминания о том, какая у Диэро добрая улыбка, как ласково она со мной поздоровалась, какие мягкие и плавные у нее движения, — кстати, это у нее было профессиональное, ее этому специально учили, как учат актеров и танцовщиков. И все же именно ее повадка, ее манера двигаться, по-моему, лучше всего отражали ее истинную сущность. Я знал, что и она радуется моим визитам и нашим тихим беседам. Мы с Диэро очень полюбили друг друга, хотя она никогда больше не обнимала меня после того единственного раза, когда, сидя у большого камина, дала мне выплакаться всласть.
Люди подшучивали над нами — но потихоньку, осторожно поглядывая в сторону Барны, чтобы убедиться, что он не обиделся. Но его, похоже, даже веселила мысль о том, что его бывшая любовница утешает юного «школяра». Сам он никаких шуток или намеков на сей счет не отпускал — и меня даже озадачивала столь необычная деликатность, совершенно ему не свойственная. С другой стороны, Барна всегда очень уважительно обращался с Диэро. Ей же самой было безразлично, что другие подумают о ней или скажут.
Что же касается меня, то если Барна и считал, что мы с ней любовники, то это удерживало его от подозрений, что я пристаю к его девицам. Хотя они казались такими хорошенькими и доступными, что это запросто могло свести любого молодого парнишку с ума. Впрочем, на самом деле их доступность была обманчивой; это была самая настоящая ловушка, о которой меня давно уже предупредили. Люди говорили мне: если Барна дарит тебе одну из своих девушек, ты ее возьми, но только на одну ночь, да не вздумай тайком уединиться с кем-то из его фавориток! А позже, когда многие уже лучше узнали меня и стали доверять моему благоразумию, я узнал и немало жутких историй о бешеной ревности Барны. Однажды, застав кого-то из мужчин с одной из своих девушек, он переломал бедняге руки в запястьях и выгнал его в лес умирать с голоду.
Я не до конца верил этим россказням. Возможно, люди просто немного завидовали тому, что я настолько сблизился с Барной, и без зазрения совести отпугивали меня от общения с его девушками. Хоть я и был очень молод, но некоторые девушки, жившие со мной в одном доме, были еще моложе, а некоторые из них потихоньку флиртовали со мной, всячески меня нахваливали и ласкали, называли меня «господином учителем» и с прелестными ужимками умоляли, чтобы я вечером непременно рассказал «что-нибудь о любви». «Заставь нас плакать, Гэв, разбей нам сердце!» — говорили они. Ведь я, немного придя в себя, снова стал их развлекать, да и слова все снова ко мне вернулись.
Хотя в начальный период этой «агонии воспоминаний», когда на меня вновь нахлынуло все то, что я некогда безжалостно вырезал из своей памяти, единственное, что я мог вспомнить отчетливо, была Сэлло, ее смерть и вся моя жизнь в Аркаманте и в Этре. И много дней после этого мне казалось, что больше ничего я вспомнить не смогу. Я и не хотел вспоминать ничего из того, чему научился там, в доме убийц моей сестры. Все мои сокровища — история, поэзия, литература — были запятнаны пролитой ими кровью. Я не желал помнить то, чему они меня учили. Мне не нужно было ничего из того, что они мне дали и что на самом деле принадлежало только им, моим хозяевам. Я пытался оттолкнуть все это от себя, забыть свои знания, забыть этих людей.
Глупо, конечно, и в душе я это понимал. Постепенно мои душевные раны стали заживать, и мне даже стало казаться, как это всегда бывает после тяжелой болезни, что все это случилось не со мной. И мало-помалу я позволил своим знаниям вернуться ко мне, и они оказались ничем не запятнанными, ничем не опороченными. Эти знания не принадлежали моим хозяевам, они были только моими. Это было единственное мое достояние, единственное, чем я когда-либо владел. Так что я оставил все свои нелепые попытки отказаться от этих знаний и позабыть все то, что я узнал из книг. И память моя полностью вернулась ко мне и по-прежнему была такой ясной и полной, что кое-кто считал ее сверхъестественной, хотя хорошая память — дар не такой уж и редкий. И снова я мог мысленно войти в классную комнату или в библиотеку Аркаманта, мысленно открыть любую книгу и «прочесть» ее. Выступая каждый вечер в высоком зале с деревянными стенами и потолком, я уже не волновался, зная, что мне достаточно всего лишь произнести первые строки какой-нибудь поэмы или сказки — и остальное возникнет у меня перед глазами как бы само собой; казалось, моими устами говорит и поет сама поэзия, а история обновляет себя, повторяясь в моем изложении, и слова стекают с моего языка, точно воды реки.
Большинство моих слушателей считали, что я импровизирую, что я и есть создатель этих строк, поэт, непостижимым образом обретший вдохновение и умение сплетать слова и рифмы. Я не видел смысла спорить с ними. Люди, как известно, всегда знают лучше того, кто делает работу, как эту работу следует делать, и не стесняются говорить ему об этом; и ему, в общем, остается держать свое мнение при себе.
Других развлечений в Сердце Леса, пожалуй, особенно и не было. Некоторые девушки и кое-кто из мужчин умели играть на лютне и петь. Аудитория всегда относилась к нашим концертам благожелательно, а Барна, сидя в своем огромном кресле, поглаживал великолепную курчавую бороду и внимательно, с удовольствием слушал. Некоторые люди, которым не слишком интересны были история или поэзия, приходили либо для того, чтобы подлизаться к Барне, либо просто потому, что им нравилось находиться с ним рядом и делить с ним то, что доставляет ему удовольствие.
А он по-прежнему повсюду таскал меня с собой, излагая мне свои нескончаемые планы. Так, в беседах с Барной, в основном слушая его, а потому имея достаточно времени, чтобы думать самому — ибо думать получается гораздо быстрее и легче, когда ты в тепле, в сухой одежде и сыт, — я провел остаток этой зимы. Я много размышлял о том, что снова ко мне вернулось. И сам я наконец вернулся к моей Сэлло и смог теперь ее оплакивать, осознавая свою утрату и начиная отчетливо понимать, какова была моя прежняя жизнь и какой она могла бы быть.
Думать об Отце и Матери Аркаманта мне все еще было очень больно. Я по-прежнему до конца не понимал, как же мне к ним относиться. А вот о Явене я думал часто и был почти уверен, что он бы нас никогда не предал, не предал бы нашего доверия. А иногда мне приходило в голову: что, если Явен, вернувшись домой, отомстил им, хоть это и было уже бессмысленно? Впрочем, одно я знал твердо: Явен никогда не простит Торма и Хоуби, даже если и сумеет удержаться от мести. Он человек чести, и он очень любил Сэлло.
Но Явен, вполне возможно, теперь тоже мертв, убит при осаде Казикара. Недаром люди говорили, что осада Казикара оказалась для Этры не меньшим несчастьем, чем осада Этры для Казикара. Если это так, то теперь Торм — единственный наследник Аркаманта. Но от мыслей об этом душа моя по-прежнему шарахалась, точно испуганная птица.
О Сотур я мог думать только с пронзительной тоской и болью. Она хранила нам верность, сколько могла. Она ведь осталась там совсем одна, что же с ней стало? Ее, правда, почти наверняка выдали замуж, и она переехала в другое место, и, скорее всего, в такой Дом, где нет ни Эверры, ни библиотеки, ни друзей, ни надежды на спасение.
И я без конца вспоминал тот вечер, когда мы с Сэлло разговаривали в библиотеке, а Сотур вошла туда и они обе попытались объяснить мне, чего и почему они так боятся. Как же они тогда прижимались друг к другу, любящие, беспомощные!..
А я, дурак, ничего не понял!
Не только Семья предала их. Я тоже их предал. Не действием, нет, да и что я такого мог сделать? Но мне надо, надо было их понять! А я просто не хотел понимать, не хотел ничего замечать. Я сам ослепил себя своей верой. Ведь тогда я свято верил, что власть хозяина и покорность раба — это поистине священный союз, основанный на взаимном доверии. Я верил, что справедливость может существовать в обществе, основанном на несправедливости.
Ложь существует только потому, что в нее верят. Эта строка из книги Каспро тоже вернулась ко мне и резала мне душу, точно острой бритвой.
Честь может существовать где угодно, любовь может существовать где угодно, но справедливость может существовать только среди людей, которые отношения друг с другом строят на справедливости.
Теперь, казалось мне, я наконец-то понимаю планы Барны насчет восстания, теперь они обрели для меня новый смысл. Все древнее зло, освященное предками, и этот седой от времени донжон, где в подвальных темницах томятся рабы, а наверху благоденствуют хозяева, должны быть выкорчеваны с корнем, уничтожены, заменены обществом справедливым и свободным. И тогда мечта станет явью. Хвала богу удачи, думал я, ведь это он привел меня сюда, в это средоточие грядущей свободы и великих перемен!
Мне хотелось стать одним из тех, кто воплотит в жизнь мечту Барны. Я представлял себе, как отправляюсь с важным заданием в великий город Азион. Многие из Лесных Братьев были оттуда родом, и я знал, как много там живет людей, свободных и «освобожденных», как много там бывает купцов и ремесленников, среди которых беглому рабу ничего не стоит затеряться, не вызвав ни подозрений, ни лишних вопросов. Агенты Барны, расставлявшие в городах «сети» его идей, часто там бывали, выдавая себя за торговцев, купцов, скотопромышленников или просто рабов, которых фермеры послали с каким-либо поручением в город. Мне очень хотелось к ним присоединиться. Я знал, что в Азионе немало образованных людей и среди знати, и среди простого народа; я мог бы представиться там свободным человеком, ищущим место переписчика, или декламатора, или учителя, и беспрепятственно выполнять любые поручения, закладывая основы великого восстания и распространяя идеи Барны среди тамошних рабов.
Но Барна категорически этому воспротивился.
— Ты мне нужен здесь, Школяр, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты всегда был при мне.
— Но там я смогу принести тебе гораздо больше пользы, — возразил я.
Он покачал головой:
— Нет, это слишком опасно. В один прекрасный день тебя непременно спросят, где ты получил образование. И что ты им ответишь?
Это я уже обдумал и тут же выпалил:
— Скажу, что посещал школу при университете в Месуне, а потом вернулся в Азион, потому что в Урдайле слишком много грамотных людей, а здесь, в Бендайле, их куда меньше и можно как следует заработать.
— А что, если найдутся школяры из университета, которые скажут: нет, этот парень у нас никогда не учился?
— На разных факультетах там учатся сотни людей. Откуда им всем друг друга знать?
Я спорил изо всех сил, но Барна только качал своей крупной кудрявой головой, а потом совсем перестал смеяться и, помрачнев, почти сердито заявил:
— Послушай, Гэв, образованный человек всегда в толпе выделяется, уверяю тебя. А ты и так уже достаточно знаменит. Наши ребята языками повсюду болтают, ты и сам знаешь. А теперь они еще и тобой хвастаются, пытаясь заманить к нам деревенских и городских рабов. Говорят им: у нас есть такой парень, который может рассказать любую историю или поэму, какие только на свете есть! И ведь совсем еще мальчишка, а поди ж ты, настоящее чудо! В общем, при такой-то славе тебе в Азионе делать нечего. Да еще если учесть, что и имя твое всем теперь известно.
Я так и уставился на него.
— Известно? Они что, даже имя мое всем называют?
— Они называют то имя, которым ты себя сам назвал, когда к нам явился, — сказал Барна.
И я наконец понял: ни Барна, ни все остальные, за исключением Чамри Берна, не считают, что Гэв — это мое настоящее имя. Никто здесь, даже сам Барна, не называет себя тем именем, которое имел, будучи рабом.
Увидев мою изумленную физиономию, Барна тоже изменился в лице.
— Ох, клянусь Разрушителем! — воскликнул он. — Неужели ты назвался тем самым именем, которое носил в Этре?
Я кивнул.
— Ну что ж, — сказал он после минутного молчания, — если ты действительно когда-нибудь соберешься от нас уйти, непременно возьми себе новое имя! А пока это тем более основательная причина никуда тебя отсюда не отпускать. Оставайся здесь, Школяр! Твои прежние хозяева наверняка уже заявили, что от них сбежал один чересчур умный мальчишка-раб, на образование которого они потратили уйму денег. Видишь ли, хозяева просто терпеть не могут, когда от них рабы сбегают. А уж если беглецу удается от них уйти, то это им просто покоя не дает. Мы здесь, конечно, от Этры довольно далеко, но никогда нельзя быть полностью уверенным.
А мне до сих пор даже в голову не приходило, что кто-то из Аркаманта станет меня искать или тем более преследовать. Когда я, оглушенный случившимся, ушел с кладбища на берегу Нисаса, для меня это было равносильно смерти. Я уходил от настоящей, полной жизни в никуда, отказываясь ото всего сразу. И никакого страха не испытывал, потому что не испытывал и никаких желаний. Впрочем, страха я не испытывал и потом, уже снова начав жить, возродившись в лагере Барны. Видимо, за это время моя душа проделала такой долгий путь, что мне и в голову не приходила мысль о преследовании.
— Они наверняка считают, что я умер, — сказал я наконец. — Что в то утро я утопился в реке.
— А с чего им так думать?
Я молчал.
Я ведь ничего не рассказывал Барне о своей жизни. Я вообще ни с кем об этом не говорил, кроме Диэро.
— Ты оставил на берегу реки какую-то одежду, так? — спросил он. — Ну что ж, они, вполне возможно, купились на этот старый трюк. Но по-моему, ты был слишком ценной собственностью, так что если твои владельцы все же не уверены, что ты умер, то непременно держат ушки на макушке. С тех пор ведь всего года два прошло, не больше? Не стоит думать, что тебе уже ничто не грозит. Я уверен: ты только здесь можешь чувствовать себя в полной безопасности. И я бы на твоем месте как-нибудь невзначай сказал ребятам, что родом ты из Пагади или Пирама, чтобы они даже слово «Этра», говоря о тебе, не произносили, ясно?
— Да, конечно, я так и сделаю, — пролепетал я в смятении.
Неужели моя глупость поистине бесконечна? Неужели нет предела тому терпению, на которое я своим поведением обрекаю бога удачи?
Но я все же снова попросил Барну отпустить меня в Азион. На что он ответил:
— Ты свободный человек, Гэв. Приказывать я тебе не стану! Но советую все же повременить: сейчас тебе не стоит покидать Сердце Леса. Я уже говорил, что за его пределами ты никогда не будешь в безопасности. А если ты явишься в Азион сейчас, то можешь подвергнуть опасности и остальных моих людей — и там, и здесь. Да и планы нашего восстания тоже. Когда придет время отправить тебя туда, я сам об этом скажу. А если ты все-таки уйдешь сейчас, то сделаешь это против моей воли и моего желания.
И я, разумеется, спорить не стал.
Ранней весной у нас появилась пара новичков; они сбежали из Азиона, спрятавшись в крытой повозке, где возницей был человек Барны. Эти люди принесли с собой довольно большую сумму денег, украденную у прежних хозяев, и какой-то длинный футляр.
— Что это за штука такая? — спросил один из людей Барны и, открыв футляр, так неаккуратно тряхнул его, что оттуда выпал свиток, намотанный на палку, и, развернувшись в воздухе, с шелестом упал на землю. — Это еще что за тряпка? Одежда, что ли?
— Это то, о чем я просил, парень, — сказал ему Барна. — Это книга. Ты с ней поаккуратней! — Он действительно постоянно просил своих людей по возможности прихватывать книги и приносить их в лагерь. Никто, правда, до сих пор ни одной не принес, поскольку большая часть агентов Барны, как и те, кого они агитировали, читать не умели и понятия не имели, где эти книги искать и как они выглядят. Вот как, например, этот парень.
Новые члены нашего лесного братства оказались людьми образованными; одного учили бухгалтерскому делу, второго — декламации. Книги, которые они принесли с собой, оказались очень разными — несколько старинных свитков и несколько напечатанных в типографии томиков в твердом переплете; тем не менее все это вполне годилось для занятий. А одна из книг лично для меня была настоящим сокровищем: маленький, изящно изданный томик «Космологий» Каспро; ведь тот рукописный вариант, который когда-то подарил мне Мимен, я оставил в Аркаманте и горько оплакивал эту утрату.
По словам Барны, эти новички оказались «отличным уловом»: бухгалтер теперь помогал ему вести хозяйственные записи и делать расчеты, а декламатор способен был хоть целый час подряд рассказывать басни и отрывки из эпоса Бендайла, давая мне возможность передохнуть.
Я просто мечтал поскорее познакомиться с этими образованными людьми, но ничего хорошего из этого не вышло. Бухгалтер ничего не желал знать, кроме цифр и расчетов, а декламатор, его звали Пултер, сразу же ясно дал мне понять, что он гораздо старше и гораздо лучше меня образован, а потому я не гожусь ему в подметки и, стало быть, не имею ни малейшего права претендовать на беседу с ним, человеком действительно умным и знающим. Его страшно раздражало то, что большинству людей мои выступления нравились больше, чем его, хотя и у него тоже появились свои почитатели. Меня учили при декламации не выпячивать себя на первый план, а давать возможность самим словам делать свое дело, тогда как Пултер устраивал целое представление: он, точно драматический актер, и подвывал, и вопил, и переходил на шепот, и устраивал длинные паузы, а в случае особого накала страстей даже визжал.
Томик «Космологий» принадлежал ему, однако он сам признался, что Каспро ему совершенно неинтересен, что все современные поэты «темнят и заблуждаются», и отдал книгу мне. За одно это я готов был простить ему и все оскорбительные замечания в мой адрес, и нелепые подвывания во время декламации. Поэма Каспро действительно была очень сложна, но я постоянно к ней возвращался. Иногда я даже Диэро читал отрывки из нее; я по-прежнему любил в тихий послеполуденный час зайти к ней и немного посидеть, отдыхая душой.
В моей жизни никогда не было ничего подобного дружбе с этой прекрасной женщиной. И потом, лишь с одной Диэро я мог поговорить о своей прошлой жизни, об Аркаманте. Когда я был с нею, у меня пропадало всякое желание кому бы то ни было мстить, что бы то ни было ломать и преобразовывать, и я уже не испытывал ни капли гнева на мертвых, бессильных и бесполезных предков. Я понимал теперь, что именно утратил навсегда, но уже мог и вспоминать о том, что имел когда-то. Хотя Диэро никогда не бывала в Этре, она стала для меня как бы связующим звеном с этим городом, который я так долго считал своим родным. Она никогда не знала Сэлло, однако именно она вернула мне сестру, сняв тяжкое бремя с моей души.
Как и большинство рабов, Диэро росла под присмотром различных «приемных матерей», но ни брата, ни сестры у нее не было. Двоих детей, которых она родила в молодости, хозяева почти тут же продали. Диэро, разумеется, мечтала иметь настоящую семью, детей, мужа, как, впрочем, и все мы. И Барна, кстати, отлично это понимал, постоянно взывая к этому чувству в стремлении укрепить наше лесное братство.
Я был рабом необычным — ведь я всю свою жизнь прожил вместе с родной сестрой, и нас связывали необыкновенно близкие и нежные отношения. Потому и моя утрата оказалась для меня столь тяжела, а страдания — столь остры. Я полюбил Диэро, как старшую сестру, а она воспринимала меня как младшего братишку или даже сына; кроме того, по-моему, я был единственным мужчиной в ее жизни, который не выразил желания стать ее хозяином.
Она любила слушать мои рассказы о Сэлло и других обитателях Аркаманта, о золотых деньках на ферме в Венте; ее явно заинтересовали и некоторые обычаи Этры. Она также расспрашивала меня о моем происхождении, поскольку сразу признала во мне уроженца Болот, расположенных к югу от Азиона у истоков реки Расси. Диэро утверждала, что все тамошние жители внешне похожи на меня — темнокожие, невысокие, довольно хрупкого телосложения, с густыми черными волосами и длинными носами с легкой горбинкой. Она называла жителей Болот рассиу. И сказала, что они часто приходят в Азион, особенно по случаю ежемесячной ярмарки, и приносят с собой различные травы и снадобья, которые пользуются огромным спросом; торгуют они также различными корзинками весьма изящного плетения, циновками и тканями из тростникового волокна, а также сшитой из этих тканей одеждой. Все это они охотно меняют на глиняную посуду и разную металлическую утварь. Рассиу без опаски приходят в Азион, ибо их защищает от охотников за рабами старинное религиозное перемирие. Жители Азиона уважают их как людей свободных, а один из городских кварталов, можно сказать, отдан рассиу, которые издавна там поселились. Диэро была потрясена, когда узнала, что работорговцы из Этры совершают налеты на жителей Болот. «Рассиу — священный народ, — говорила она. — Они заключили договор с самим Повелителем Вод. Я думаю, твой город поплатится жестокими страданиями за то, что осмеливается угонять этих людей в рабство».
Некоторые из девушек, живших в доме Барны, относились к Диэро подчеркнуто подобострастно, подлизывались к ней, точно к полноправной хозяйке. Другие же относились к ней с уважением и доверием; а третьи просто не обращали на нее внимания, как и на всех прочих немолодых женщин. Она же вела себя со всеми одинаково — была доброжелательной, мягкой, уступчивой, держалась ровно и с тем скромным достоинством, которое и выделяло ее из всех. По-моему, среди многочисленных обитателей этого дома Диэро чувствовала себя очень одинокой. А однажды я видел, как она беседует с одной из самых молоденьких обитательниц дома, давая той возможность выговориться и выплакаться. То же самое когда-то Диэро сделала и для меня.
Детей в доме Барны не было вообще. Если какая-нибудь девушка беременела, она перебиралась в город, в один из тех домов, где жили женщины, и там рожала свое дитя; она оставляла его при себе или отдавала на воспитание — выбор был за ней. Если ей хотелось вырастить ребенка, это было прекрасно, но если она хотела снова вернуться к Барне и жить вольной жизнью, то ребенка она взять с собой, разумеется, не могла. «Мы здесь делаем детей, но при себе их не держим!» — говорил Барна под одобрительные крики и хохот своих приятелей.
Вскоре после прибытия в город Пултера и его дружка-бухгалтера у Барны в доме появилась новая девушка — причем вместе с маленькой сестренкой, расстаться с которой она категорически отказалась. Девушка была очень красивая и совсем молоденькая, всего лет пятнадцати. Звали ее Ирад. Их с сестренкой привезли из какой-то деревни близ западных границ Данеранского леса. Барна мгновенно воспылал к Ирад пылкой страстью и весьма недвусмысленно дал всем это понять. То ли Ирад уже имела опыт общения с мужчинами, то ли попросту чувствовала себя совершенно беззащитной, но она подчинялась всему, даже не пытаясь выказать какое-то сопротивление, пока ей не сказали, что сестренку у нее заберут. И тут робкая девушка превратилась в львицу. Я этой сцены не видел, но мне с восхищением рассказывали о ней. «Только попробуйте ее тронуть! Я любого на месте прикончу!» — заявила она, выхватив из-за пояса своих расшитых шаровар тонкий длинный стилет, а потом, гневно сверкая глазами, уставилась на Барну.
Барна принялся ее уговаривать, объясняя, что таковы законы этого дома, что о девочке непременно позаботятся, но Ирад больше не проронила ни слова, так и стояла с застывшим лицом, держа свой стилет наготове.
И тут вмешалась Диэро. Она вышла вперед, встала рядом с сестрами, ласково опустила руку на голову девочки, жавшейся к сестре, и спросила у Барны, рабыни ли эти пленницы. Я легко мог представить себе, как звучал ее мягкий, ровный голос, когда она задавала этот вопрос.
Барна, разумеется, ответил, что они «свободные жительницы нашего города».
— Значит, если этого захотят они сами, им обеим можно жить и со мной? — спросила Диэро.
Те мужчины, что, хихикая, рассказывали мне об этом, были уверены, что «старуха Диэро» в кои-то веки приревновала Барну к юной и прелестной Ирад. «У этой старой мегеры и зубов-то всего штуки две осталось!» — сказал один из них.
Только вряд ли этот поступок Диэро был вызван ревностью. Ей вообще не были свойственны ни зависть, ни собственнический инстинкт. Так почему же она вмешалась на этот раз? Причем настояла на своем. Она сразу увела младшую девочку ночевать к себе, а Ирад, разумеется, пошла с Барной. Но в те дни, когда он не звал Ирад в свои покои, она тоже ночевала у Диэро вместе с маленькой Меле.
Когда девушки Барны собирались все вместе, я часто даже пугался, ибо меня совершенно сбивала с толку абсолютная власть надо мной этой многократно повторенной юной женственности; и я в душе по-мужски мстил им: старался их презирать. Это были здоровые, пухлые и очень глупые девицы, готовые хоть весь день бесцельно слоняться по дому, примеряя обновки, украденные «десятинщиками» или «ловцами», и болтая о всяких пустяках. Когда исчезала та или другая — из-за беременности или родов, — это было почти незаметно; череда девиц в доме Барны, по-моему, не имела конца: каждый раз налетчики приводили с собой новых, таких же молоденьких и хорошеньких.
И я вдруг задумался: откуда же они берут столько девушек? Неужели все эти девицы решились убежать от хозяев? Неужели все они просились сюда, в лес? Неужели так уж стремились к свободе?
Ну конечно же стремились. И конечно же пытались спастись от хозяев, которые
насильно заставляли их заниматься любовью.
Но разве их жизнь в доме Барны чем-то существенно отличалась от той, прежней, заставившей их бежать?
Нет, ну естественно, отличалась! По крайней мере, их здесь не били и не насиловали. Мало того, их хорошо кормили, красиво одевали, позволяли ничего не делать.
В точности как женщин в «шелковых комнатах» Аркаманта.
Я и сейчас внутренне содрогаюсь, вспоминая, как корчился от боли и стыда, когда эта мысль впервые пришла мне в голову. Я и теперь испытываю примерно те же чувства.
Я-то думал, что отныне храню и лелею образ Сэлло в кладовых своей памяти, но оказалось, что я снова позабыл о ней, что я не хочу видеть ее по-настоящему, не хочу видеть того, что заставили меня увидеть ее жизнь и смерть. Что я снова отвернулся от прошлого и от нее, спрятался от страшных воспоминаний.
И лишь с огромным трудом, да и то не сразу, я заставил себя снова пойти к Диэро. Я не был у нее уже несколько дней. По вечерам я уходил гулять в город вместе с Венне, Чамри и их друзьями. Когда же я, собравшись наконец с силами, все же зашел в покои Диэро, то от стыда просто утратил дар речи. И потом, я увидел там маленькую девочку Меле…
— Ирад обычно ночует у Барны, — как ни в чем не бывало сказала мне Диэро. — Меле тогда перебирается ко мне в спальню, и мы с ней полночи рассказываем друг другу всякие истории, верно, Меле?
Девочка энергично закивала. Ей было лет шесть. Очень маленькая, темноволосая, она сидела, прижавшись к Диэро, и не сводила с меня глаз. Но когда и я посмотрел прямо на нее, она испуганно заморгала, даже зажмурилась на мгновение, но глаз не отвела.
— Ты Клай? — спросила она.
— Нет. Меня зовут Гэв.
— Клай часто приходил в нашу деревню, — пояснила Меле. — Он тоже был на ворону похож.
— А моя сестра дразнила меня Клюворылом, — попытался пошутить я.
Она еще с минуту смотрела на меня, потом опустила глаза, улыбнулась и прошептала скороговоркой:
— Клюво-клюво-рыл!
— Они жили в деревне, совсем рядом с Болотами, — сказала Диэро. — Возможно, этот Клай как раз оттуда и был. Между прочим, у Меле тоже, по-моему, есть кровь рассиу. А взгляни-ка, Гэв, что она, умница такая, сегодня утром написала! — И Диэро показала мне клочок тонкой материи, которой мы пользовались для уроков письма, поскольку бумаги у нас почти не было. На лоскутке неуверенным крупным почерком было написано несколько букв.
— Т, М, О, Д, — прочитал я вслух. — Это ты написала, Меле?
— Да, мне было очень интересно смотреть, как пишет Диэро-йо, вот я и нарисовала… такие же штуки, только у меня они побольше получились. — Меле подскочила на месте, куда-то сбегала и принесла мне большой кусок материи, можно сказать — целый свиток, который Диэро использовала в качестве ученической тетради. Девочка развернула «свиток» и ткнула пальчиком в последние несколько строчек, написанные Диэро.
— У тебя тоже очень хорошо получилось, — похвалил я ее.
— Только эта вот немного качается, — сказала Меле, критически изучая букву «Д».
— Если бы с ней кто позанимался, так она куда лучше меня писать научилась бы, — мягко промолвила Диэро. Она редко выражала какие-либо желания, а уж если выражала, то так скромно и ненавязчиво, что я частенько этого и не замечал. К счастью, на этот раз я понял, о чем она меня просит, и кивнул.
— Да, эта буква, пожалуй, стоит не совсем уверенно, но я все равно могу отличить ее от других, — сказал я Меле. — Это буква «Д». С нее начинается имя Диэро. Хочешь научиться писать и остальные буквы этого имени?
Девочка снова молча подпрыгнула, убежала и вернулась с чернильницей и кисточкой для письма. Я поблагодарил ее, перенес все это на стол, нашел чистый кусочек полотна и написал на нем крупными буквами: ДИЭРО. Затем подтащил к столу стул, на который Меле и взгромоздилась, как на насест, тут же схватив кисточку.
Она очень неплохо скопировала это слово и получила заслуженную похвалу.
— Я могу и еще лучше написать! — заявила она и снова склонилась над столом, сурово нахмурившись; кисточку она крепко зажала в худенькой, точно лапка воробышка, ручонке, а розовый язычок от усердия крепко прикусила.
Так Диэро в очередной раз вернула мне нечто такое, что я, казалось, навсегда утратил, покинув Аркамант. Ее глаза прямо-таки сияли, когда она смотрела на нас.
И я стал приходить к ним почти каждый день — мы с Диэро занимались чтением и письмом, а заодно я и маленькую Меле учил писать буквы. Часто там бывала и старшая сестра Меле, Ирад. Она сперва очень меня стеснялась. Впрочем, и я стеснялся не меньше — она была так прекрасна и так беззащитна! И, кроме того, я постоянно и очень отчетливо чувствовал, что она принадлежит Барне, что она его собственность. Но Диэро всегда оставалась с нами, как бы защищая нас обоих. Меле обожала Диэро, да и ко мне она скоро привязалась не менее страстно и всегда стремглав бросалась навстречу с криком: «Клюворыл! Клюворыл пришел!» — душила меня в объятиях, а я подхватывал ее на руки. Понемногу и Ирад несколько оттаяла и стала относиться ко мне с большим доверием; то, что мы постоянно находились в обществе маленькой девочки, быстро нас сблизило, и вскоре мы уже чувствовали себя друг с другом совсем легко. Меле была серьезная, смешная и очень умненькая. В яростной, покровительственной любви к ней Ирад таился почти священный восторг, и она, например, часто говорила: «Меле такая умница! Сама Энну велела мне заботиться о ней».
У обеих на шее висели крошечные изображения Энну-Ме в ее кошачьем обличье — довольно-таки грубо вылепленные из глины кошачьи головы.
Мне оказалось совсем нетрудно убедить Ирад, что и ей неплохо бы научиться читать и писать вместе с Меле, и вскоре она присоединилась к нашим занятиям. Как и Диэро, она была полна сомнений и колебаний и чувствовала себя на уроках очень неуверенно. А Меле, напротив, ничуть в себе не сомневалась, быстро делала успехи, и было трогательно смотреть, как младшая сестренка опекает и поучает старшую.
Остальные девушки из нашего дома редко выучивали больше половины алфавита, очень скоро утрачивая всякий интерес к занятиям, и потом, их вечно куда-нибудь звали. Обучая Меле, я получал такое удовольствие, что это навело меня на мысль собрать детишек и устроить для них в нашем лесном городе настоящую школу. Я попытался воплотить эту идею в жизнь, но у меня ничего не вышло. Женщины не решались доверять своих дочерей молодому парню. Кроме того, считалось, что старшие дети обязаны работать в поле или на огороде вместе с матерью или присматривать за младшими дома. А многие из них просто не в состоянии были высидеть на месте хотя бы один урок, да и выучить ничего сами не могли, и их родители никак не могли уразуметь, с какой стати дети вообще должны что-то еще учить.
Мне необходима была поддержка Барны, его авторитет, а потому я явился к нему и сказал, что хотел бы создать для детей настоящую школу, для чего достаточно было бы любого свободного помещения, хотя бы комнаты, где занятия могли бы идти в строго определенные часы. По крайней мере, хотя бы читать и писать я уж точно мог бы их научить. Чтобы польстить Пултеру, я готов был попросить его иногда декламировать детям литературные произведения и рассказывать о них. А бухгалтер мог бы учить детей начаткам практической арифметики. Барна выслушал меня, кивнул и от всего сердца мою идею одобрил, но, когда я начал предлагать ему те или иные помещения, которые считал вполне подходящими, у него каждый раз находились причины, по которым это место якобы никуда не годилось. Наконец он сказал, хлопнув меня по плечу:
— Отложи это до следующего года, Школяр. Сейчас все слишком заняты, у них и времени-то свободного для тебя нет.
— У детей шести или семи лет свободного времени хватает, — возразил я.
— Да разве детишки такого возраста захотят сидеть взаперти! Им надо повсюду бегать, играть, чувствовать себя свободными как птицы!
— Но по-моему, они вовсе не чувствуют себя свободными как птицы, — снова возразил я. — Они каждый день таскаются на огород или на поле вместе со своими матерями или укачивают младших братишек и сестренок. Когда же они смогут научиться хоть чему-то еще?
— Мы позаботимся о том, чтобы они научились всему! И мы с тобой еще не раз поговорим об этом! — припечатал Барна и отправился смотреть, сколько зерна поступило в наши зернохранилища за последние дни. Он действительно постоянно был занят, и я, разумеется, сделал на это скидку, но все же был сильно разочарован.
В общем, я решил принять решение самостоятельно и предложил людям некие просветительные беседы в той пустующей комнате, которую надеялся сделать классной. Я сказал, что по вечерам буду рассказывать всем, кто захочет туда прийти, об истории городов-государств, а также Бендайла и других стран Западного побережья. В первый вечер собралось человек девять или десять; все это были мужчины; женщины не пожелали выходить на улицу в столь позднее время. Слушатели мои пришли явно в надежде на очередную порцию занимательных историй, однако два-три человека все же выказали явный интерес к многообразию обычаев и верований, от души смеялись над иноземными формами быта и мышления и с удовольствием обсуждали со мной всевозможные «почему» и «потому что». Однако все они были очень уставшими после целого дня тяжелой работы, и я, чересчур затянув свою первую лекцию, вскоре увидел, что половина моей аудитории спит. Так я в очередной раз убедился, что если все же хочу заниматься просветительством среди беглых рабов, то должен стараться поймать их в свои сети пораньше, желательно еще детьми.
Мои неудачные попытки на учительской ниве еще больше сблизили меня с Диэро и Меле; в их обществе я чувствовал себя почти счастливым. Днем я по-прежнему повсюду сопровождал Барну, однако все его интересы теперь были связаны с какими-то сиюминутными проектами — строительством новых домов или расширением общественных кухонь. Сердце Леса быстро превращалось в весьма процветающее селение; расширялась площадь, отведенная под сады и огороды, плодился скот, а «десятинщики» приносили все больше различного, «изъятого» на дорогах добра. Я часто беседовал с агентами Барны, посещавшими Азион и другие города; за кружкой слабого пива в любимой пивной Чамри они охотно рассказывали об этих путешествиях, но у меня создалось впечатление, что и там они занимаются только воровством или обменом, а отнюдь не агитацией. К тому же, по-моему, Барне очень нравилось, когда они приносят в лес всевозможные типично городские предметы роскоши.
Венне со своими приятелями, вернувшись из очередного налета, тоже нередко к нам присоединялся. Он своей работой был доволен и говорил, что она его, во-первых, возбуждает, а во-вторых, не требует убивать людей. Я как-то раз спросил у него, знают ли жители окрестных селений, откуда к ним приходят банды налетчиков и кто они такие. По словам Венне, повсюду, вплоть до самого Пирама, крестьяне называли и налетчиков, и агентов «ребятами Барны». Они с удовольствием вели с ними обмен, хотя и опасались этим заниматься, а потому постоянно торопили «ребят Барны» и уговаривали их поскорее отправиться в соседнее селение и «ободрать тамошних купцов как липку».
Я спросил Венне, говорят ли налетчики с другими людьми о восстании. Но оказалось, что он и сам ни о каком восстании не слышал. «Бунт? Это чтоб рабы бунт затеяли? Да разве ж они могут сражаться? Нам тогда надо что-нибудь вроде армии заводить, так мне кажется». Нет, он явно не был посвящен в планы Барны, и я понял, что об этом знают лишь немногие, но кто именно, помимо меня, я выяснить не сумел.
Я также интересовался, часто ли рабы в деревнях или на фермах просятся присоединиться к нам. Оказалось, что очень редко. Венне и его приятели говорили, что, даже если какой-то мальчишка и захочет убежать из дому вместе с ними, они вряд ли возьмут его с собой, ибо даже кража скота не вызывает такого мстительного преследования со стороны властей, как кража раба. Впрочем, у всех у них имелись в запасе истории о тех рабах, которым «некогда» удалось бежать и добраться до лесного города. По большей части, как я понял, этими бежавшими рабами были они сами.
— Мы ж понимали, что в город Барны нам иначе никак не попасть — только если его ребята нас с собой прихватят, — сказал мне один молодой парень из деревни на реке Расси. — И теперь я всегда по сторонам посматриваю, ищу таких же бедолаг, каким когда-то сам был.
— Что же вы, и девушек тоже вот так по сторонам высматриваете? — спросил я.
Это вызвало смех и целый водопад различных историй. Некоторые девушки, догадывался я, действительно были беглянками, однако «десятинщики» принимали их в свои ряды с большой осторожностью, «потому что за ними точно будет погоня, а они и следы-то свои скрыть не умеют, да еще и часто беременными оказываются». А второй паренек прибавил:
— Так ведь к нам в основном только беременные да всякие уродины и калеки пристать пытаются. Ну там, у кого заячья губа или еще что. А те, кого мы бы сами выбрали, взаперти сидят.
— Но вы же все-таки ухитряетесь как-то до них добраться, вон сколько красивых девушек приводите, — сказал я, желая их раззадорить.
Они снова засмеялись.
— А до них мы добираемся точно так же, как до коров и овец, — сказал главный в отряде Венне; я знал, что он, по словам Венне, отличный охотник и следопыт. — Окружаем и загоняем!
— Но не трогаем, нет, не трогаем! — прибавил еще один из их компании. — Во всяком случае, самые хорошенькие всегда Барне достаются. Он любит свеженьких.
И они наперебой принялись рассказывать всевозможные байки о похищении женщин. Оказалось, что Ирад и Меле привели в лагерь тоже парни из их отряда, и один из них стал рассказывать мне, как было дело, причем довольно сильно хвастался, зная, что Ирад — нынешняя фаворитка Барны.
— Они только за деревню вышли и в поле направились, а мы с Атером тут как тут, да еще верхом. Я только и успел, что Атеру подмигнуть, а сам подскочил к ним и хвать ту красотку. Ну и отбивалась она, я вам скажу! Прямо как разъяренная медведица! И все пыталась дотянуться ручонкой до своего стилета, который за поясом носит; теперь-то я понимаю, что мне здорово повезло: ведь если б она до него дотянулась, так точно кишки бы мне выпустила. Да и малышка тоже хороша: прямо звереныш! Знай колотит меня по ногам своей острой лопаткой, прямо в лоскуты их режет, так что Атеру пришлось ее оттащить. И он уж собрался было ее в сторонку отшвырнуть, так они обе как вцепятся друг в дружку, как прилипнут — не оторвешь! Ну, я и говорю: «Ладно, Атер, берем обеих». Связали мы их вместе, точно чурки деревянные, и пристроили передо мной на седло. У меня кобыла-то здоровенная, ей такой груз нипочем. Девчонки все время дергались и вопили, да только их никто не слышал — мы уж довольно далеко от деревни отъехали. Удачная была охота, клянусь Сампой! И вряд ли там кто этих девчонок до темноты хватился, а мы к тому времени уже половину пути проехать успели.
— По мне, так последнее дело возиться с такой бабой, которая чуть что сразу за нож хватается, — вставил Атер, крупный, медлительный мужчина. — Мне нравится, когда бабы мягкие да ласковые.
И разговор тут же свернул совсем не туда, как это часто бывает, когда выпито уже немало. Потом все принялись сравнивать разные типы женщин, и тут оказалось, что лишь у одного из восьми мужчин, сидевших за столом, есть настоящая жена, и на голову несчастного, разумеется, посыпались безжалостные шутки и гнусные намеки на то, чем она в лагере занимается, пока он в походе. Остальные же в основном выдавали желаемое за действительное — то есть говорили скорее о том, что хотели бы иметь, а не о том, что имеют на самом деле. Наш город все-таки оставался городом мужчин и был больше похож на армейский лагерь, как порой и называл его Барна.
Но если мы были солдатами, то на какой же войне мы сражались?
— Ну вот, снова он нос повесил, — сказал Венне, подталкивая меня, и закудахтал, как наседка. Я понял, что кто-то пошутил на мой счет, а я и прослушал. Смеялись они, впрочем, добродушно. Я был Школяр, книжный червь, и им нравилось, когда я играю роль «рассеянного учителя».
Вскоре я ушел домой. В тот вечер мне опять предстояло выступление. Я видел, как Барна устроился в своем просторном кресле, посадив себе на колени Ирад. Он забавлялся с нею, весьма откровенно ее лаская, и одновременно слушал, как я пересказываю одну из историй «Чамбана».
Барна нередко прилюдно ласкал своих девиц, но обычно делал это как бы шутя; он мог, например, подозвать к себе нескольких девушек сразу и громогласно попросить их «согреть его зимней ночью»; мог и столь же громогласно пригласить «на угощение» и кое-кого из своих друзей. Но это чаще случалось после пира и обильной выпивки, а не во время декламации старинной поэзии. Все вокруг только и говорили, что Ирад «совсем свела его с ума», что он каждую ночь зовет ее в свою спальню, совершенно игнорируя предыдущих фавориток. Но столь откровенное проявление похоти у всех на глазах было чем-то новым.
Ирад держалась абсолютно спокойно, подчиняясь ласкам Барны, становившимся все более страстными; лицо ее показалось мне совершенно равнодушным.
Я умолк, не закончив главу. Слова словно иссохли у меня в душе. Я совершенно утратил нить повествования, как, впрочем, и многие мои слушатели. С минуту я стоял молча, затем поклонился и сошел вниз.
— Это ведь еще не конец, верно? — спросил своим густым басом Барна.
— Нет, — сказал я. — Но по-моему, на сегодня хватит. Может быть, теперь Дорремер сыграет для нас?
— Сперва закончи эту историю! — прогремел Барна.
Но в зале уже задвигались, заговорили, а некоторые громко поддержали мою просьбу насчет музыки, и Дорремер вышла вперед со своей лютней, как это часто бывало после наших с Пултером выступлений. Похоже, пока эта выходка сошла мне с рук, так что я поспешил удалиться. Но пошел не к себе на чердак, а к Диэро. Душа моя была исполнена тревоги, и мне хотелось посоветоваться с моей старшей подругой.
Меле спала, а Диэро сидела в гостиной, не зажигая света. В окно светила яркая луна. Стояла чудесная светлая ночь, какие бывают в начале лета. Лесные птички, которых называют «ночными колокольчиками», пели где-то в темной листве деревьев, зовя и отвечая на призыв; порой негромко ухала маленькая совка. Дверь Диэро была не заперта, и я вошел без стука. Я поздоровался, сел рядом с нею, и некоторое время мы так и сидели молча. Мне очень хотелось рассказать ей о поведении Барны во время моего выступления, но нарушить ее покой я не решался; она всегда и меня как бы заражала этим своим покоем. Наконец она сказала:
— Ты сегодня что-то печальный, Гэв.
И тут я услышал на лестнице чьи-то легкие шаги. В комнату влетела Ирад. Волосы ее были распущены. Мне показалось, она задыхается.
— Не говорите, что я здесь! — прошептала она и снова выбежала в коридор.
Диэро встала. Она была похожа на иву с черными ветвями, всю серебрящуюся в лунных лучах. Она взяла кремень и кресало, высекла искру и зажгла светильник. Над маленьким масляным светильником расцвел желтоватый цветок света, и сразу в комнате все изменилось, и холодное лунное сияние отодвинулось куда-то далеко-далеко в небеса. Мне было жаль царившего здесь покоя, и я уже собрался чуть раздраженно спросить у Диэро, чего это Ирад играет в прятки, но тут на лестнице послышались куда более тяжелые шаги, и в дверях возник Барна. Его лицо показалось мне почти черным и каким-то распухшим; спутанная борода и вздыбленные курчавые волосы придавали ему еще более грозный и страшный вид.
— Где эта сучка? — заорал он. — Она здесь?
Диэро потупилась. Всю жизнь ее учили подчиняться, и вряд ли она была способна ответить ему чем-то еще, кроме уклончивого молчания. А я попросту отшатнулся от этого великана, ослепленного яростным гневом.
Барна оттолкнул нас, промчался к дверям спальни, распахнул их, заглянул внутрь и снова вернулся к нам, пристально на меня глядя.
— Ты! Ты на нее глаз положил, да? Конечно! Потому Диэро ее здесь и держит! — Он бросился на меня, точно огромный рыжий дикий кабан, угрожающе подняв руку, готовую нанести страшный удар. Но тут между нами встала Диэро, громко выкрикнув его имя. Одной рукой он отшвырнул ее в сторону, а второй вцепился мне в плечо и стал трясти меня так, как это делал когда-то Хоуби; потом надавал мне пощечин и швырнул на пол.
Не знаю, что произошло сразу после этого. Когда я немного пришел в себя, попытался сесть и что-то разглядеть сквозь отвратительную черную пелену, пульсировавшую у меня перед глазами, то увидел Диэро, скорчившуюся на полу. Барны в комнате уже не было.
Я ухитрился встать на четвереньки, потом медленно поднялся и заглянул в спальню. Там никого не было, кроме крошечной тени, скорчившейся у стены за кроватью.
— Не бойся, Меле, — сказал я, — все в порядке. — Но слова оказалось отчего-то очень трудно вытолкнуть изо рта. Рот то и дело наполнялся кровью, а справа сильно качались два зуба. — Диэро сейчас придет…
Я вернулся к ней. Она уже сидела. В слабеньком свете масляного светильника я увидел на ее нежной щеке ссадину и здоровенный синяк. У меня даже дыхание перехватило, и я опустился возле нее на колени.
— Он ее нашел, — прошептала Диэро. — Она спряталась в твоей комнате, Гэв, а он прямо туда и пошел. Что же ты теперь будешь делать? — Она взяла меня за руку. Ее рука была холодна, как лед.
Я покачал головой, отчего у меня в ушах снова зазвенело, а перед глазами поплыла пелена. Я все глотал и глотал кровь.
— Что он с ней сделает? — с трудом вымолвил я. Диэро молча пожала плечами. — Он в таком гневе… он может убить ее…
— Да, наверное, он ее побьет. Но женщин он не убивает, Гэв. А вот тебе здесь оставаться нельзя.
Я решил, что она имеет в виду свою комнату. Но я ошибся.
— Ты должен уйти. Уходи скорей! Ах, зачем она пошла в твою комнату! Бедная девочка, она просто не знала, где спрятаться! Ах, Гэв, я так тебя любила! — Диэро, горько плача, на мгновение прижалась лицом к моей ладони, потом снова вскинула голову. — За нас не бойся. Здесь все обойдется. Мы же не мужчины, мы вообще не считаемся. Но тебе надо поскорей уходить.
— Я возьму с собой тебя, — сказал я. — И девочек — Ирад и Меле…
— Нет, нет, нет! — в ужасе прошептала она. — Нет, Гэв, он убьет тебя! Уходи немедленно. Нам с девочками ничего особенного не грозит. — Она встала, пошатнулась, ухватилась за край стола и некоторое время постояла так, явно борясь с головокружением; потом прошла в спальню. Я слышал, как она тихим голосом разговаривает с Меле. Потом она вышла оттуда, неся девочку на руках. Та прильнула к ней, пряча личико у нее на плече.
— Меле, детка, ты должна сказать Гэву «до свидания».
Девочка повернулась ко мне, протянула ручонки, и я взял ее, крепко прижал к себе и сказал:
— Ничего, Меле, все будет хорошо. Ты пока занимайся с Диэро, обещаешь? И помогай Ирад делать уроки. Тогда скоро вы обе станете очень умными. — Я сам не знал, что говорю. Слезы выступили у меня на глазах. Я поцеловал Меле и поставил ее на пол. Потом взял руку Диэро, поднес к губам и некоторое время не отпускал. А потом резко повернулся и вышел за дверь.
Я быстро прошел к себе в комнату, прицепил к поясу свой нож, надел куртку, сунул в карман томик Каспро и в последний раз оглядел эту маленькую комнатку, единственную «свою» комнату, какая у меня была в жизни.
Из дома Барны я выбрался через черный ход и кружным путем пошел туда, где жили сапожники. Омытый лунным светом, этот деревянный город казался мне сейчас серебристо-голубым, молчаливым и прекрасным; и прекрасны были густые черные тени, пересекавшие его.
Часть III
Глава 11
Чамри тут же проснулся, стоило мне присесть рядом на лежанку. Я объяснил, что хочу немного пожить с ним, поскольку у нас с Барной возникла размолвка.
— Какая еще размолвка? — встревожился он. И довольно быстро вытянул из меня всю эту историю, хотя я вовсе не собирался ничего особенного ему рассказывать. — Ты хочешь сказать, та девушка оказалась в твоей комнате? Ох, клянусь священным камнем, тебе надо поскорее убираться отсюда, и чем дальше, тем лучше!
Я стал спорить, доказывая, что это всего лишь недоразумение, что Барна был просто пьян. Но Чамри уже вылез из постели и рылся под своим лежаком.
— Где тут твои вещички? Твои рыболовные снасти и все остальное… Ага, вот они. Я же знал, что все здесь. Ну хорошо. Бери свои манатки, ступай к воротам и скажи охране, что хочешь еще до восхода солнца успеть к тому озеру, где форель водится. Объясни им, что самый лучший клев как раз на рассвете…
— Самый лучший клев на закате, — поправил я его.
Он глянул на меня со скорбным отвращением. Потом посмотрел более внимательно, с искренней озабоченностью, и ласково коснулся моей щеки:
— Влепил он тебе, да? Твое счастье, что он тебя прямо на месте не убил. Но если ты ему снова на глаза попадешься, он тебя точно прикончит. Он всегда так. Из-за женщины убить готов. Или если ему покажется, что кто-то его власть ослабить пытается. Я это не раз собственными глазами видел. Видел, как он человека убил. Удушил, вернее; голыми руками шею ему сломал. Вот что, бери-ка свои снасти и одеяло свое старое тоже непременно прихвати. И ступай к воротам.
Но я по-прежнему стоял столбом.
— Ох, ладно, я сам с тобой пойду, — сердито буркнул Чамри и действительно пошел со мной. Он торопливо провел меня по задам зданий к городским воротам, при этом не умолкая ни на минуту; он все время о чем-то со мной разговаривал, объяснял, что мне сказать охране и как вести себя, когда я окажусь вдали от лагеря, в лесу. — По тропам не ходи! — предупреждал он. — Все они для тебя сейчас опасны, все охраняются, и ты там почти наверняка на патруль наткнешься. Хорошо бы… Да! Вот именно! Вот пусть он тебя и проводит! Давай-ка сюда свернем на минутку. — И мы свернули на ту улицу, где жил Венне вместе со своими приятелями-налетчиками. Меня Чамри оставил в густой тени под стеной дома, а сам вошел внутрь. Я стоял, смотрел вокруг, и мне казалось, что серебристо-голубые крыши города словно танцуют, слегка покачиваясь в такт болезненному тиканью у меня в висках. Чамри вскоре снова вышел из дома, ведя за собой Венне. — Значит, так, — сказал он мне, — ты собрался не на рыбную ловлю, а на охоту. А теперь пошли!
У Венне за спиной висели два лука и колчан со стрелами.
— Мне очень жаль, что ты попал в беду, Гэв, — тихо сказал он мне.
Я попытался объяснить, что ни в какую беду я не попал, что Барна был просто пьян, что вся эта паника совершенно ни к чему, но Чамри прервал мои излияния:
— Не слушай его, Венне. По-моему, Барна ему все мозги начисто отшиб. Ты отведи его подальше, чтобы он без опаски и поскорее отсюда убрался.
— Это я могу, — сказал Венне. — Если только нас за ворота выпустят.
— А уж это мое дело, — заверил его Чамри. И действительно, он так умело заговорил зубы страже, что нас моментально выпустили за ворота. Болтая со стражниками, Чамри первым делом выяснил, не давал ли Барна каких-либо распоряжений относительно меня. Но было ясно, что о случившемся стражникам ничего не известно. Зато они прекрасно всех нас знали и запросто отпустили, предупредив лишь, чтобы мы непременно до заката вернулись назад. — Ну, я-то почти сразу вернусь, — успокоил их Чамри. — Я по ночам в лес не хожу. Я просто этих идиотов проводить вышел.
Он действительно проводил нас немного, пока мы не миновали огороды, разбитые на опушке леса.
— А что мне им сказать, когда я один назад вернусь? — спросил Венне.
— Что вы с ним в лесу разминулись. Договорились, мол, встретиться у реки, потом ты его весь день искал, но он то ли в реку свалился, то ли вообще убежал… Как думаешь, это сойдет?
Венне кивнул.
— Вранье, конечно, так себе, — задумчиво промолвил Чамри, — очень даже так себе. Но я в случае чего скажу, что не раз слышал от Гэва, как ему хочется в Азион сбежать. Вот и выйдет, что он будто бы тебя обманул — попросил, чтоб ты его на охоту взял, а сам взял да и удрал. В общем, я думаю, на твой счет подозрений не возникнет.
Венне снова кивнул; похоже, возможные подозрения его не слишком беспокоили.
Чамри повернулся ко мне.
— Гэв, — сказал он, — ты висел у меня на шее, не давая жить спокойно, с тех самых пор, как попытался напялить себе на голову мой килт. Ты взбаламутил меня, заставив вернуться к Барне, а теперь сам же от него и убегаешь. И все на мою голову! Но я все-таки от всего сердца желаю тебе удачи. Ступай на запад, беглец.
Он посмотрел на Венне, словно ища поддержки, и тот снова кивнул.
— И держись подальше от Высокогорья! — прибавил Чамри. Затем крепко обнял меня, отвернулся и тут же исчез во тьме под деревьями.
Я нехотя последовал за Венне, который без колебаний двинулся вперед по тропе, которую я почти не способен был различить в такой темноте. Мы шли так быстро, что мелькавшая меж черными ветвями и стволами деревьев луна вызывала у меня головокружение. Я все время спотыкался, и Венне, догадавшись, что мне трудно идти, немного замедлил ход.
— Здорово он тебе врезал, да? — спросил он. — Голова кружится?
Голова у меня действительно кружилась, меня даже немного подташнивало, но я заверил Венне, что это ничего, скоро пройдет, и мы пошли дальше. Я по-прежнему был уверен, что все это полнейшая нелепость, что мои друзья зря паникуют, что совершенно ни к чему было заставлять меня бежать из-за какого-то пустячного недоразумения, которое уже утром непременно разъяснилось бы. Мне и раньше доводилось быть свидетелем гнева Барны, гнева безумного, неукротимого, какого-то зверского, но это всегда продолжалось недолго, и гнев его уносился прочь, точно грозовая туча. В общем, я решил на заре сказать Венне, что поворачиваю назад.
А пока мы все шли и шли небыстрым шагом, и в ночной тиши и прохладе голова моя понемногу прояснилась. Я стал вспоминать о том, что произошло в доме Барны, и ужасные события того вечера вновь в мельчайших подробностях вставали у меня перед глазами. Я снова видел, как Барна непристойно ласкает Ирад, а она сидит совершенно неподвижно, с застывшим, лишенным всякого выражения лицом, и все вокруг, мужчины и женщины, это видят. Я снова видел исполненные ужаса глаза Ирад, когда она вбежала в комнату Диэро, спасаясь от своего бешеного преследователя. Снова видел его физиономию, искаженную безумной, слепой яростью. И тот темно-красный кровоподтек на нежной щеке Диэро…
Венне остановился на крутом скалистом берегу небольшой речушки и спустился к воде, чтобы напиться. Я тоже напился, вымыл лицо и сразу почувствовал, как сильно распухли у меня правое ухо и обе щеки; от воды их стало щипать. Где-то в чаще жалобно прокричала маленькая совка. Стало еще темнее: луна только что зашла.
— Давай подождем здесь, пока не станет хоть немного светлее, — тихо сказал Венне. Мы уселись на землю и долго молчали. Он задремал. А я то и дело мочил руку в воде и прикладывал холодную ладонь к распухшему уху и к вискам, упорно глядя куда-то во тьму. Не могу сказать, как именно в этой темноте шли мои мысли, но, по мере того как деревья, листва на них, скалы на берегу и вода в речушке стали таинственным образом вновь обретать привычные очертания, окутанные серыми предрассветными сумерками, я понял — со странной ясностью, никак не связанной с каким-либо разумным решением, — что в дом Барны мне уже никогда не вернуться.
Единственное чувство, которое я в эти минуты испытывал, был стыд. Стыд за него, стыд за себя самого. Снова я кому-то доверился и снова был предан и предал сам.
Венне выпрямился и протер глаза.
— Я пойду дальше, — сказал я ему. — И тебе вовсе не обязательно меня провожать.
— Ну что ж, — ответил он, — значит, в лагере я скажу, что ты от меня улизнул, а я весь день искал тебя, да так и не нашел. Понимаешь, мне бы хотелось, чтобы ты успел уйти как можно дальше, чтобы они тебя не поймали…
— Да они меня даже искать не будут!
— Что-то не очень я в этом уверен.
— Барна сам не захочет, чтобы я к нему вернулся.
— Зато он, скорее всего, захочет довершить начатое и окончательно вышибить тебе мозги. — Венне встал и потянулся. Я посмотрел на него с какой-то печальной любовью; этот молодой, гибкий, покрытый шрамами охотник с тихим голосом всегда был мне добрым товарищем, и мне бы очень хотелось быть уверенным, что он не навлечет на себя гнев всесильного Барны из-за того, что помог мне бежать.
— Я пойду на запад, как советовал Чамри, — сказал я. — А ты сделай круг и возвращайся назад с севера, чтобы они, если за мной действительно отправят погоню, пошли по ложному пути. Так что давай расстанемся прямо сейчас, чтобы у тебя на все времени хватило.
Но Венне настоял на том, чтобы вывести меня на тропу, по которой я наверняка смогу выйти из Данеранского леса на западную дорогу.
— Я же видел, как ты по лесу плутал! — сказал он. И надавал мне целую кучу советов: не разжигать костер, пока я окончательно не выйду из леса, помнить, что в это время года солнце садится значительно южнее обычного, и так далее. Он очень сожалел, что у меня с собой нет никакой еды. Пока мы шли — совсем без тропы, но по весьма светлому дубовому лесу, где огромные деревья росли довольно редко, — он все время присматривался к каждому холмику и комку земли; потом подошел к груде какого-то лесного мусора и сухих веток, разрыл землю, и там оказалась кладовая лесной крысы. Оттуда Венне извлек две пригоршни лесных орехов и желудей и отдал все это мне. — Поев желудей, — сказал он, — станешь немного чаще мочиться, но и такая еда все же лучше, чем ничего. А дальше, в начале западной дороги, есть довольно большая роща сладких каштанов, и на ветках, вполне возможно, еще кое-что сохранилось, так что смотри внимательно. А уж когда леса останутся совсем позади, так придется тебе либо милостыню просить, либо воровать. Впрочем, тебе ведь это уже приходилось делать, верно?
Наконец мы вышли на ту тропу, которую он искал; тропа оказалась довольно широкой и была отчетливо видна. У поворота направо, в западном направлении, я настоял, чтобы Венне отправился в обратный путь, ибо время уже близилось к полудню. Я хотел просто пожать ему руку на прощанье, но он крепко, как и Чамри, обнял меня и пробормотал:
— Да сопутствует тебе удача, Гэв! Я тебя никогда не забуду. И твои истории тоже. Да хранит тебя Глухой бог!
Он повернул назад и мгновенно исчез в тени деревьев.
А я остался стоять на тропе, пережидая эти мрачные мгновения.
Вчера в это время я завтракал вместе с веселыми обитателями дома Барны, озабоченный лишь тем, что вечером мне снова придется выступать перед полным залом. Еще вчера я чувствовал себя «школяром» Барны, любимцем Барны…
Я присел на землю рядом с тропой и подверг ревизии имевшееся у меня имущество: башмаки, штаны, рубаха, куртка, старое, рваное, омерзительно пахнущее коричневое одеяло, рыболовные крючки, полные карманы орехов и желудей, украденных у лесной крысы, хороший нож и книжка Оррека Каспро.
А еще у меня имелись бесконечные воспоминания: о моей жизни в Аркаманте, о жизни в этом лесу, о каждой книге, которую я прочел, о каждом человеке, которого я знал, о каждой ошибке, которую я совершил. На этот раз я все воспоминания взял с собой и решил, что никогда больше не откажусь от них, никогда не отвернусь от собственной памяти. Никогда больше. И мои воспоминания всюду будут со мной. Все до единого.
Но куда же мне направиться со всем этим богатством?
Пока что ответ на этот вопрос был только один: передо мной простиралась дорога, которая должна была привести меня на запад, к Болотам, в те края, где мы с Сэлло, скорее всего, и появились на свет. Именно там жил тот единственный на свете народ, к которому я принадлежал. И я сказал себе: я верну народу Великих Болот его украденных детей или по крайней мере одного. Я встал и решительно двинулся на запад.
Когда я по берегу реки уходил прочь от Этры, одинокий мальчишка в белых траурных одеждах, людям действительно могло показаться, что я тронулся умом. И это меня тогда защищало. Безумцы святы. Теперь же, идя в одиночестве по этой пустынной лесной тропе, я был на два года старше, выглядел и был одет в полном соответствии со своей сущностью — беглого, почти уже взрослого раба. Так что если бы я встретил людей, тем более охотников за рабами, то единственной защитой от подозрений была бы моя сообразительность. Может быть, конечно, мне помог бы и бог удачи, хотя ему, похоже, уже поднадоело со мной возиться.
Тропа должна была вывести меня на западную опушку Данеранского леса, и если все время держаться западного направления, то в итоге я должен был добраться до Великих Болот. Я не знал, какие селения могут встретиться мне на пути, но был уверен, что никаких более-менее крупных городов там нет. Я ведь уже когда-то раньше видел эту местность, по которой шел сейчас, — издалека, с одной из вершин Вентайнских гор, окутанных золотистым вечерним светом. Тогда она показалась мне совершенно пустынной, безлюдной. Я хорошо помнил огромную неясную тень леса на востоке и ровное открытое пространство, простиравшееся к северу. Мы с Сэл тогда долго смотрели в ту сторону, а Сотур все спрашивала, не сохранилось ли у нас хоть каких-то воспоминаний о Болотах, и я рассказал ей о сверкающей воде, о тростниках, о голубом холме вдалеке… Но Сэлло сказала, что мы были слишком малы, чтобы действительно что-то помнить. Наверное, все-таки те мои воспоминания были совсем иного рода — это были «воспоминания» о том, чего в моей жизни еще не бывало. Они тогда часто меня посещали.
А теперь у меня давно уже не было подобных видений. Наверное, покинув Этру, я оставил там не только свое прошлое, но и свое будущее. Долгое время я жил лишь сегодняшним моментом — пока минувшей зимой, поговорив с Диэро, не собрался наконец с мужеством и не оглянулся назад, вернув себе тем самым и свой странный дар, и бремя воспоминаний обо всем том, что утратил. Однако способность к предвидению, те мимолетные видения грядущих времен я, похоже, утратил навсегда.
Возможно, причиной тому стала моя затянувшаяся жизнь в лесу, среди деревьев, думал я, шагая по лесной дороге. Эти бесконечные стволы и спутанные тенистые ветви не позволяют видеть далеко вперед — ни в пространстве, ни во времени. За пределами леса, на открытой равнине, что раскинулась между голубой водой и голубыми небесами, я, возможно, вновь обрету способность смотреть вперед и видеть далеко. Разве не уверяла меня Сэлло, когда мы сидели с ней рядышком на школьной скамье, что именно эту способность я получил в наследство от народа Болот?
— Никому об этом не рассказывай, Гэв, — прошелестел у меня в ушах ее нежный тихий голос, и я почувствовал ее теплое дыхание. — Обещай, что ты ни с кем об этом разговаривать не будешь!
И я никогда ни с кем, кроме нее, об этом не разговаривал. Ни с кем из наших хозяев, наших пленителей из Аркаманта, которые подобными способностями не обладали, которые их боялись, которые меня бы просто не поняли. Ни с кем из беглых рабов — ни в лагере Бриджина, ни в Сердце Леса у Барны; впрочем, там у меня вообще никаких видений будущего и не возникало; я только и слушал, что планы Барны и его мечты о вселенской революции и освобождении рабов. Но вот если бы я оказался среди своего родного народа, где нет ни хозяев, ни рабов, я, возможно, и отыскал бы других людей, которые, как и я, обладают этой способностью видеть будущее; и может быть, они подсказали бы мне, как вернуть эту способность, как научиться ее использовать.
Подобные мысли весьма бодрили меня. На самом деле я был даже рад, что наконец остался один. Мне казалось, что весь этот год я ни на минуту не расставался с Барной, и его громкий, веселый голос постоянно звучал у меня в ушах, заполняя все мое существо, управляя моими мыслями и суждениями. Власть надо мной этого человека была подобна неким волшебным чарам, и я мог оставаться самим собой лишь в самых укромных уголках своей души, прячась там, точно в густой тени. И теперь, размеренно шагая по лесной тропе и уходя от него прочь, я мог позволить своим мыслям бродить совершенно свободно, мог по собственному желанию вернуться в любую временную точку своего пребывания в Сердце Леса, или в лагере Бриджина, или в пещере у Куги, старого безумного отшельника, который спас меня, такого же безумного, как он, мальчишку, от голодной смерти… Мысль об этом неожиданно вернула меня к реальной действительности. Я ничего не ел с прошлого вечера, и мой желудок начинал требовать обеда, а орехов, лежавших у меня в кармане, вряд ли хватило бы надолго. Я решил, что не съем ни одного орешка, пока не достигну опушки леса, а уж там устрою себе настоящий пир из украденных у лесной крысы припасов, а заодно и решу, что мне делать дальше.
Уже к середине дня тропа вынырнула из леса и, пройдя через негустую ольховую рощицу, вывела меня на довольно широкую дорогу, ведущую на юг. На дороге после недавних дождей четко отпечатались многочисленные следы колесных повозок, конских подков и овечьих копыт, хотя, сколько я ни смотрел в ту и другую сторону, на ней не было видно ни души. За дорогой виднелось открытое пространство, кое-где поросшее кустарником и бурьяном, среди которых торчали редкие купы деревьев.
Я сел, укрывшись за кустами, и торжественно разгрыз и съел десять из имевшихся у меня орехов. После чего их осталось двадцать два, и еще девять крупных желудей, которые я решил приберечь на крайний случай. Подкрепившись, я встал и храбро пошел по дороге налево, обдумывая, что мне сказать вознице, или погонщику скота, или всаднику, если те вдруг меня нагонят.
В итоге я пришел к выводу, что у меня есть пусть маленькое, но все же доказательство того, что я не просто беглый раб: та маленькая книжка, что лежит у меня в кармане. Я решил показывать ее и говорить, что жил в Азионе у одного ученого человека и хозяин попросил меня отнести эту книгу своему другу, другому ученому из Этры, который заболел и выразил горячее желание перед смертью еще раз прочитать ее. Но упросил моего хозяина прислать ему эту книгу с кем-нибудь, кто мог бы ему ее прочесть, ибо его собственные глаза уже сильно ослабели из-за болезни… В общем, я разработал эту легенду в мельчайших подробностях и настолько увлекся, что не заметил фермерской повозки, которая где-то у меня за спиной выехала с боковой дорожки на большую дорогу, и лишь звяканье упряжи и цоканье конских копыт пробудили меня от мечтаний. Обернувшись, я чуть ли не у себя над плечом увидел огромную конскую морду с ласковыми глазами и услышал:
— Залазь! — Это крикнул возница,
коренастый широколицый человек, который равнодушным взглядом смерил меня с головы до ног.
Я пробормотал некое подобие приветствия.
— Да залазь же! — крикнул он снова. — До перекрестка еще топать да топать.
Я вскарабкался на сиденье. Он то и дело изучающе косился на меня. Глазки у него были удивительно маленькие и выглядели точно семечки тмина на широком каравае его лица.
— Небось в Шешу идешь, — сказал он, словно ни капли в этом не сомневался.
Я кивнул, решив, что в данном случае лучше в подробности не вдаваться.
— Что-то я на дороге ваших почти не встречаю, — заявил возница. И тут до меня дошло, что он принял меня — что он действительно меня принял! — за жителя Болот, так что теперь мне совсем не нужна сложная, только что выдуманная мною история и теперь я уже не беглый раб, а местный уроженец.
Ну и прекрасно! Кстати, этот парень, может, и не знает, что такое книга.
Весь долгий путь до перекрестка, занявший остаток того неторопливо тянувшегося дня и начало вечера, полного золотисто-пурпурных красок огромного, в полнеба, заката, возница рассказывал мне о сложных взаимоотношениях одного тамошнего фермера с его, возницы, родным дядюшкой. Затем переключился на стадо свиней и какой-то клочок земли близ селения Крысиная Вода и некую несправедливость, которую по отношению к нему, вознице, допустили. Я так толком ничего и не понял, но оказался вполне способен в нужных местах кивать и что-то ворчать себе под нос в знак одобрения или неодобрения; этого ему, впрочем, было вполне достаточно.
— Всегда любил поговорить с вашими, — заявил он, ссаживая меня у перекрестка. — Совет-то ваш по-прежнему собирается, да? А вот и твоя дорога на Шешу.
Я поблагодарил его и двинулся на юго-запад, навстречу догоравшему закату и вечерним сумеркам. Если Шеша — это селение болотных людей, думал я, то тем лучше.
Через некоторое время я остановился, расколол между двумя камнями все оставшиеся у меня орехи и съел их один за другим на ходу, потому что голод снова начал донимать меня, становясь совсем уж нестерпимым.
Наконец в густеющих сумерках я увидел впереди мерцание огней. Когда я подошел ближе, то оказалось, что это последние лучи заката играют на поверхности вод. Миновав просторный луг, где паслись коровы, я попал на околицу крошечной деревушки, стоявшей на берегу озера у самой воды. Дома там все были на сваях, и некоторые стояли прямо в озере; к ним вели длинные причалы, к которым было привязано множество лодок. Я не очень хорошо все это разглядел, уж больно устал и очень хотел есть. Меня манило к себе мерцание ласкового желтоватого света в окошке одного из домов; этот свет в сумерках показался мне просто прекрасным. Я подошел к этому дому, взобрался по деревянной лесенке на узкое крылечко и заглянул в открытую дверь. Больше всего это было похоже на гостиницу или пивную. Я увидел перед собой просторную комнату без окон, с низеньким прилавком или буфетной стойкой, но совсем без мебели. Четверо или пятеро мужчин сидели прямо на ковре, которым был застлан пол, и держали в руках маленькие глиняные чашечки. Все они одновременно посмотрели на меня и тут же отвели глаза — видимо, сочли, что неприлично так пялиться на незнакомого человека.
— Ну входи, парень, входи, — пригласил меня один из них. Все они были темнокожие, довольно хрупкого сложения и невысокие. А когда женщина за прилавком обернулась, мне показалось, что передо мной старая Гамми: те же пронзительные темные глаза, тот же орлиный нос…
— Ты откуда пришел-то? — спросила меня женщина.
— Из леса. — От волнения я говорил каким-то хриплым шепотом. Воцарилась полная тишина, и я пояснил: — Я ищу свой народ.
— Ну и кого же ты своим народом называешь? — усмехнулась женщина и снова махнула мне рукой. — Да входи же! — Я продвинулся чуть дальше от порога, думая, что выгляжу наверняка не лучше бродячего пса. Женщина что-то шлепнула на тарелку и подтолкнула тарелку ко мне.
— У меня денег нет, — тихо сказал я.
— Ешь! — сердито буркнула она. Я взял тарелку и сел с ней на скамейку у очага, только огонь в этом очаге не горел. На вкус еда напоминала что-то вроде холодной рыбной запеканки или рыбного пирога, но как следует разобраться я не успел: довольно большой кусок этого кушанья почти мгновенно исчез у меня во рту.
— Так кого все-таки ты своим народом-то называешь? — снова спросила меня женщина.
— Не знаю.
— Тогда довольно трудно будет твоих сородичей найти, — заметил один из мужчин. И все они посмотрели на меня, но не в упор и без враждебности; просто на жизненном пути им попалось нечто новое, и они украдкой, осторожно его изучали. Впрочем, мгновенное исчезновение куска запеканки вызвало среди них легкое оживление.
— Ты здешний? — спросил меня второй мужчина, потирая лысину.
— Не знаю. Нас украли — меня и мою сестру. Охотники за рабами из Этры. Этра ведь к югу отсюда, да?
— Когда это случилось? — вдруг довольно резким тоном спросила меня хозяйка.
— Четырнадцать или пятнадцать лет назад.
— Так он, должно быть, беглый раб? — с некоторой тревогой шепнул на ухо своему соседу самый старый из мужчин.
— Значит, ты тогда совсем малышом был, — сказала хозяйка. Она налила что-то в глиняную чашку, подала ее мне и спросила: — А как тебя звали?
— Гэвир. А мою сестру — Сэлло.
— И все? Ты только имена и помнишь?
Я кивнул.
— А как ты в лесу-то очутился? — дружелюбно спросил меня лысый, хотя это был, безусловно, непростой вопрос, и он все отлично понимал.
Я немного поколебался и сказал:
— Я заблудился.
К моему удивлению, этот ответ их вполне удовлетворил, во всяком случае пока. Я выпил молоко, предложенное мне этой доброй женщиной, и оно показалось мне сладким как мед.
— Может, ты еще какие-то имена помнишь? — спросила женщина.
Я покачал головой:
— Мне ведь всего год или два было.
— А твоей сестре?
— Она была года на два постарше.
— И она сейчас рабыня в Этре? — Слово «Этра» хозяйка произносила как «Эттера».
— Она умерла. — Я смотрел прямо на них; их темнокожие лица казались мне встревоженными и исполненными сочувствия. — Ее убили. Потому я и убежал.
— Ага… — промолвил лысый. — Ну что ж… И давно это было?
— Два года назад.
Он покивал, потом переглянулся с приятелями.
— Эй, Биа, дай-ка парню что-нибудь получше этой коровьей мочи! — потребовал самый старый из них; у него была беззубая улыбка, а вид несколько простоватый. — Налей ему пива, я угощаю.
— Ему молоко нужно, — возразила хозяйка, снова наливая мне полную чашку. — Если его пивом напоить, он тут же носом в пол уткнется.
— Спасибо, ма-йо, — сказал я и с благодарностью выпил молоко.
Похоже, столь почтительное обращение ее рассмешило.
— Говоришь как горожанин, а по виду настоящий рассиу, — заметила она.
— Значит, полагаешь, они пока на твой след не вышли? — спросил лысый. — Я твоих городских хозяев в виду имею.
— Они, наверное, думают, что я утонул, — сказал я.
Он кивнул.
Усталость и то, что я наконец немного утолил терзавший меня голод, а также деликатная доброжелательность этих людей, принимавших меня, пусть и осторожно, таким, какой я есть, и еще, наверное, мои собственные слова о том, что Сэлло была убита, — все это так подействовало на меня, что я чуть не расплакался. Едва сдерживая слезы, я смотрел на черные угли в очаге, словно там горел живой огонь, и тщетно пытался скрыть охватившую меня слабость.
— Выглядит как южанин, — услышал я шепот одного из мужчин, а второй сказал:
— Я знавал некую Сэлло Эво Данаха, давно, еще на Журавлиных Равнинах.
— Гэвир и Сэлло — это имена сидою, — сказал лысый. — Все, Биа, спасибо тебе, а я спать пошел. Завтра еще до рассвета выйду, так что ты заверни там что-нибудь перекусить, ладно? А ты, Гэвир, если хочешь, можешь завтра со мной пойти. На юг.
Вскоре Биа и меня отправила наверх, в общую спальню. Я постелил свое старое одеяло на какую-то лежанку, лег и тут же провалился в сон, точно камень в черную воду.
Было еще совсем темно, когда лысый разбудил меня, тряхнув за плечо.
— Идешь? — только и спросил он. Я моментально вскочил, схватил свои пожитки и последовал за ним. Я понятия не имел, куда он направляется, зачем и на чем, знал только, что на юг и мне предложено к нему присоединиться.
Внизу горел маленький масляный светильник. Хозяйка, как мне показалось простоявшая за своей стойкой всю ночь, вручила лысому большой пакет, но не из бумаги, а из чего-то странным образом похожего на промасленный шелк, затем приняла от него бронзовый четвертак и сказала:
— Да хранит тебя Ме, Аммеда.
— Да будет так, — откликнулся он и нырнул во тьму. Я последовал за ним. Мы спустились к воде, где у причала была привязана лодка, показавшаяся мне просто огромной. Аммеда отвязал веревку и шагнул в лодку так уверенно, словно всего лишь спустился еще на одну ступеньку, идя по лестнице. Я, разумеется, вел себя куда более осторожно, однако тоже поспешно влез в лодку, которая уже отплывала от причала, и скорчился на корме. Аммеда все ходил туда-сюда мимо меня, совершая во тьме какие-то загадочные действия. Золотистое сияние, исходившее из распахнутой двери гостиницы, виднелось над черной водой уже где-то далеко позади и постепенно становилось слабее света звезд, отражавшихся в озере. Мой спутник поднял парус на невысокой мачте, укрепленной в центре лодки, этот небольшой парус тут же поймал легкий попутный ветерок, и мы уверенно поплыли вперед. Я постепенно начинал привыкать к тому, что и во время плавания по лодке, оказывается, можно передвигаться, даже ходить, и к тому времени, как небо несколько посветлело, я уже мог довольно неплохо делать это, но, разумеется, только держась за что-нибудь руками.
Лодка была длинная, с невысокими бортами и палубой, окруженной низенькими канатными поручнями; а под этой палубой, занимая почти всю центральную часть лодки, я обнаружил нечто вроде низенькой комнаты.
— Так ты и живешь в лодке? — спросил я Аммеду, который уселся на корме у руля и смотрел поверх вод на разгоравшуюся в небе зарю.
Он кивнул, промолвив некое нечленораздельное «ао». Затем, помолчав, спросил:
— Ты рыбу-то ловить умеешь?
— Да, у меня и снасти с собой.
— Видел. Вот и попробуй.
Я был рад оказаться ему полезным. Вытащил свои крючки, лески и легкое складное удилище, сделанное под руководством Чамри и состоявшее из нескольких идеально соединяющихся друг с другом отрезков. Никакой наживки Аммеда мне не предложил, а у меня ничего не было, кроме нескольких желудей в кармане. Я нацепил на крючок самый червивый из них и, чувствуя себя полным дураком, уселся, свесив ноги за борт. К моему удивлению, уже через минуту у меня клюнуло, и я вытащил какую-то очень хорошенькую красноватую рыбку.
Аммеда выпотрошил ее изящным ножиком весьма опасного вида, соскоблил с нее чешую и разрезал на куски; затем вытащил из мешочка, висевшего у него на поясе, какую-то бутылочку, чем-то побрызгал из этой бутылочки на рыбу и предложил мне попробовать. Я никогда прежде не ел сырой рыбы, однако откусил без колебаний. Рыба была очень нежной и чуть сладковатой, а приправа, которой воспользовался Аммеда, оказалась попросту диким хреном. Острый вкус хрена заставил меня вспомнить, как год назад мы с Чамри Берном копали эти корешки близ лагеря Лесных Братьев.
Мой второй желудь на крючке тоже не задержался. Аммеда, выложив рыбьи потроха на каком-то листке, очень похожем на бумагу, протянул их мне и предложил использовать в качестве наживки. Вскоре я поймал еще две красные рыбки, и мы их тоже съели, приправляя диким хреном.
— Эти рыбки и других рыб тоже едят, — заметил Аммеда. — Едят себе подобных, как и люди.
— Похоже, они вообще все, что угодно, едят, — сказал я. — Как и я.
Каждый раз, испытывая голод, я с тоской вспоминаю ту замечательную кашу из пшеничных зерен, какую варили в Аркаманте, густую, с привкусом орехов, приправленную маслом и сушеными оливками. Я и тогда сразу же ее вспомнил, хотя без особой тоски, поскольку в желудке у меня находилось уже фунта полтора вкусной рыбы. Взошедшее солнце приятно пригревало мне спину. Маленькие волны лизали борта лодки. Впереди и повсюду вокруг нас расстилалась сверкающая поверхность вод, на которой тут и там виднелись зеленые пятнышки — тростниковые островки. Сытый и согревшийся, я улегся на спину на дне лодки и уснул.
До самого вечера мы шли под парусом вдоль берега какого-то озера странной вытянутой формы. А на следующий день, когда берега озера стали как бы сближаться друг с другом, образуя некий пролив или канал, мы попали в настоящий лабиринт проток и проливов, отделенных друг от друга высоченными тростниками и каким-то кустарником, растущим прямо в воде. Эти полосы серебристо-синей воды то расширялись, то сужались, точно коридоры с бледно-зелеными и буровато-коричневыми стенами, и были настолько похожи друг на друга, что я даже спросил Аммеду, как это он умудряется находить дорогу в этом невероятном водном лабиринте, и он ответил:
— А мне птицы подсказывают.
Сотни крошечных птичек порхали над зарослями кустарника; над головой пролетали утки, гуси и крупные серебристо-серые цапли; небольшие белые журавли бродили у кромки тростниковых островков. К некоторым из журавлей Аммеда обращался с неким подобием приветствия, произнося странное название или имя: Хасса.
Он больше не задал мне ни одного вопроса о моей прошлой жизни, удовлетворившись, видимо, тем, что я рассказал в тот, самый первый вечер, и о себе тоже ничего не рассказывал. Никакого недружелюбия я в этом не чувствовал; просто, по-моему, он был очень молчаливым по характеру.
Солнце весь день сияло в безоблачном небе, а ночью ему на смену выплыла ущербная луна. Я смотрел на летние созвездия, которыми так часто любовался на ферме Венте, наблюдая, как они всходят и плавно скользят по темному небосводу. Днем я ловил рыбу или просто грелся на солнышке и смотрел на кажущиеся абсолютно одинаковыми и все же чем-то незаметно отличающиеся друг от друга полосы чистой воды, на заросли тростника, на синее небо. Аммеда сидел на руле, направляя лодку. Домик под палубой оказался почти доверху забит грузом — в основном кипами какой-то очень похожей на бумагу ткани; в одних кипах она была потоньше, в других потолще, но и та и другая были очень прочными. Аммеда сказал мне, что это ткань из тростникового волокна; вообще же в этих краях из расщепленных стеблей тростника делали, по-моему, все — от мисок и тарелок до одежды и домов. Из южных и западных болот, где эту замечательную ткань в основном и делали, Аммеда возил ее в другие части своей страны, и люди с удовольствием ее покупали или на что-то обменивали. Подобный обмен зачастую приводил к тому, что жилище Аммеды оказывалось забитым всякими странными и случайными вещами — горшками, сковородками, сандалиями, очень хорошенькими плетеными поясами и накидками, глиняными кувшинами с маслом и невероятным количеством связок дикого хрена. Я догадался, что он либо сам всем этим пользуется, либо, если захочет, старается побыстрее распродать. Вырученные деньги — четвертаки, бронзовые «полуорлы», а также несколько серебряных монет — он складывал в бронзовую плошку, стоявшую в уголке, даже не пытаясь где-то их припрятать. И это, и поведение тех, с кем я в первый же вечер познакомился в Шеше, заставило меня думать, что люди на Болотах подозрительностью совсем не страдают и ничего не боятся — ни чужаков, ни друг друга.
Я знал, я даже слишком хорошо знал свою врожденную склонность чрезмерно доверять людям. Интересно, думал я, а это вообще свойство моей расы, вроде темной кожи и длинного носа с горбинкой? Ведь прежде моя излишняя доверчивость часто приводила к тому, что я, позволив другим предать меня, невольно и сам предавал совершенно невинных людей. И теперь я очень надеялся, что наконец-то попал именно туда, куда мне и было нужно: к таким людям, которые, как и я, на доверие отвечают доверием.
У меня хватало времени на подобные размышления, да и на мысли о прошлом тоже. В те долгие, полные солнечного света дни, проведенные на воде, я мог спокойно оглянуться назад и подумать. Но стоило мне подумать о том времени, что я прожил в Сердце Леса, как в ушах моих начинал звучать голос Барны, его глубокий сочный бас, заглушающий все прочие звуки и мысли; Барна снова и снова что-то рассказывал мне, что-то объяснял, на чем-то настаивал… и сейчас эта благословенная тишина вокруг, это молчание болот и молчание моего нынешнего спутника казались мне неким освобождением от тяжкого бремени и приносили необычайное облегчение.
В последний вечер моего путешествия с Аммедой я, весь день просидев с удочкой, показал ему свой улов, а он растопил «плиту» — большой керамический горшок, набитый углем и накрытый решеткой, который он установил под защитой «дома». Увидев, что я за ним наблюдаю, он сказал:
— Знаешь, у меня ведь деревни нет.
Я не совсем понял, что именно он хотел этим сказать и почему сказал так, и просто кивнул, ожидая какого-то продолжения, но он больше ничего не прибавил. Обрызгав рыбу маслом, он слегка посолил и быстро зажарил на решетке. Получилось очень вкусно. А когда мы наелись, Аммеда принес глиняный кувшин, две чашки и налил нам того, что называл «вином из рисовой травы», напитка прозрачного и весьма крепкого. Мы сидели на корме и пили вино, а лодка медленно плыла по широкой протоке. Аммеда даже не пытался поймать ветер, лишь время от времени чуть поправлял руль, чтобы не сойти с курса. Ясные сине-зелено-бронзовые сумерки окутали воду и тростники. На западном краю небосклона, дрожа, точно капля воды, повисла вечерняя звезда.
— Сидою, — сказал Аммеда, — живут у самой границы, потому туда время от времени охотники за рабами и являются. Может, ты как раз из этих мест родом. Смотри, если хочешь, оставайся пока со мной. Оглядись. А не то я через пару месяцев буду назад возвращаться и снова мимо этих берегов проплыву. Если тебе здесь не понравится, могу тебя с собой прихватить. — И, помолчав, он прибавил: — Всегда хотел иметь спутника-рыбака.
Так он, как всегда лаконично, дал мне понять, что будет очень рад, если я все же захочу к нему присоединиться.
На следующее утро, на заре, мы снова вышли на открытое водное пространство и через час или два приблизились к настоящему берегу, где росли деревья и виднелись маленькие домики на сваях. Я услышал детские крики. Ребятишки собрались у причала, встречая подплывающую лодку. «Женская деревня», — сказал Аммеда, и я увидел, что взрослые, следом за детьми спустившиеся к воде, — это одни женщины, одетые в короткие туники и чем-то похожие на Сэлло: темнокожие, кудрявые, с тонкими изящными руками и ногами. И, глядя на них, я увидел глаза Сэлло, ее лицо; она то и дело мерещилась мне, мелькала среди них, и это было странно и тревожно: видеть свою сестру среди этих незнакомок, тоже казавшихся мне сестрами.
Как только мы привязали лодку, женщины полезли через борт, чтобы посмотреть, что им предлагает Аммеда; они ощупывали ткань из тростникового волокна, нюхали кувшины с маслом и непрерывно болтали с ним и друг с другом. Со мной они не разговаривали, но какой-то мальчик лет десяти подошел ко мне, остановился напротив, широко расставив ноги, и с важным видом спросил:
— Ты кто такой? Ты чужестранец?
И я ответил, охваченный нелепой надеждой на то, что меня тут же признают:
— Нет. Меня зовут Гэвир.
Мальчишка подождал минутку, насупился, словно я его чем-то обидел, и с еще более важным видом переспросил:
— Гэвир?..
Похоже, мне нужно было иметь все-таки не одно имя!
— Назови твой клан! — потребовал мальчишка.
К нам подошла какая-то женщина и довольно бесцеремонно оттолкнула нахального мальчишку в сторону, и Аммеда сказал ей и еще одной, довольно пожилой женщине, которая подошла вместе с нею:
— Его в рабство продали. Он, возможно, из сидою.
— Ясно! — промолвила старая женщина. И, повернувшись ко мне боком, не глядя на меня, но, безусловно, обращаясь именно ко мне, спросила: — Когда же тебя отсюда забрали?
— Лет пятнадцать назад, — сказал я, и снова глупая надежда проснулась в моем исстрадавшемся сердце.
Она подумала, пожала плечами и сказала:
— Нет, он не отсюда. Ты что же, и клана своего не знаешь?
— Нет. Я был не один. Нас было двое. Моя сестра Сэлло и я.
— Меня тоже Сэлло зовут, — сказала эта женщина довольно равнодушным тоном. — Сэлло Иссиду Асса.
— Я ищу своих сородичей и свое имя, ма-йо, — сказал я и успел заметить, как она искоса метнула на меня взгляд, хоть и стояла по-прежнему вполоборота ко мне.
— Попробуй поищи среди ферузи, — посоветовала она. — Из тех мест солдаты часто людей в рабство угоняли.
— А как мне туда добраться?
— По суше, — сказал Аммеда. — И все время на юг. А протоки легко и сам переплыть сможешь.
Я отвернулся и стал собирать свои пожитки, а он все продолжал о чем-то беседовать с этой Сэлло Иссиду Ассой. Потом она ушла, и он велел мне подождать, пока она не вернется. Она принесла из деревни большой пакет из тростниковой ткани, положила его передо мной и тем же равнодушным тоном, по-прежнему отвернув от меня лицо, сказала:
— Это еда.
Я поблагодарил ее и завернул пакет с едой в свое старое одеяло, которое выстирал и высушил за время нашего путешествия по болотам и которое в скатанном виде служило мне чем-то вроде заплечного мешка. Затем я повернулся к Аммеде и еще раз от всей души поблагодарил его, а он сказал мне:
— Да хранит тебя Ме.
— Да будет так, — откликнулся я и прибавил: — И тебя пусть хранит великая Энну-Ме!
Я уже хотел спрыгнуть с причала на берег, но тут две женщины вдруг подняли страшный визг, а тот важный мальчишка так и ринулся ко мне, преграждая путь и что было сил возмущенно вопя: «Это женская деревня, женская!» Я испуганно озирался, не зная, как же мне быть, и Аммеда указал мне направо, где я заметил тропинку, выложенную по краям камнями и раковинами моллюсков и идущую по самой кромке воды.
— Мужчины ходят только здесь, — пояснил Аммеда, и я пошел по этой тропинке.
Прошел я совсем немного, и тропинка привела меня в другую деревню. Мне тут же снова стало не по себе, однако здесь на меня никто не кричал, не прогонял и не требовал держаться подальше, и я пошел дальше между маленькими домиками на сваях. Какой-то старик грелся на солнышке, сидя на крылечке домика, который, как мне показалось, был целиком сделан из плотных тростниковых циновок, прикрепленных к деревянному каркасу.
— Да хранит тебя Ме, сынок, — сказал мне старик.
Я ответил ему тем же и спросил:
— Отсюда есть дорога на юг, ба-ди?
— Заладил «бади, бади»! — проворчал он. — Что значит «бади»? Меня зовут Рова Иссиду Мени. И откуда ты только явился такой со своим «бади-бади»? Я же тебе не отец. А кто твой отец, знаешь?
Он скорее поддразнивал меня, чем сердился. У меня было такое ощущение, что он прекрасно знает то «городское» приветствие, каким воспользовался я, но не желает его принимать. Волосы у него были совсем седые, а на лице — тысяча морщинок.
— Нет, не знаю, — сказал я. — Я ищу своего отца. И свою мать. И свое имя.
— Ха! Ничего себе! — Старик осмотрел меня с головы до ног. — А почему на юг идешь?
— Хочу найти ферузи.
— Ага! Только эти ферузи — народец странный. Я бы, например, туда не пошел. Но ты иди, коли хочется. Эта тропа дальше через пастбище идет. — Он снова устроился поудобнее и принялся почесывать свои длинные, черные, костлявые ноги, похожие на журавлиные.
Больше я в деревне никого не заметил, лишь далеко на воде виднелись рыбачьи лодки. Я снова вышел на тропу, идущую через пастбище, и двинулся дальше на поиски своих сородичей.
Глава 12
До тех мест, где обитали ферузи, я шел два дня. Тропа была довольно извилистой, но в общем вела меня на юг, во всяком случае, если судить по солнцу, которое по утрам всегда было слева от нее, а на закате — справа. Многочисленные протоки среди заросших высокой густой травой лугов, окруженных ивами, мне приходилось переплывать или переходить вброд, держа над головой скатку с имуществом и башмаки, привязанные к палке. С другой стороны, идти там было легко и приятно, а сухих рыбных лепешек и соленого сыра вполне мне хватало, чтобы как следует перекусить. Время от времени я видел дымок над какой-нибудь одинокой хижиной или тропу, ведущую к маленькой деревушке, но, поскольку основная тропа по-прежнему вела меня на юг, я старался с нее не сходить. К вечеру второго дня тропа наконец свернула налево, и я, следуя по песчаному берегу огромного озера и миновав пастбище, где паслись коровы, оказался в очередном селении, состоявшем из нескольких домишек на сваях; у причалов, как всегда, были привязаны лодки. Да и все деревушки здесь были похожи одна на другую и отличались лишь незначительными особенностями, и повсюду царила одна и та же бедность, если не нищета.
Детей возле деревни видно не было, но я заприметил какого-то мужчину, расправлявшего рыболовную сеть, и направился прямиком к нему.
— Здесь ферузи живут? — крикнул я.
Он аккуратно положил сеть на землю и пошел мне навстречу.
— Да, ферузи. Это деревня Восточное Озеро, — сказал он и с мрачным видом выслушал мой рассказ о том, чего я ищу.
Ему было лет тридцать, и мне показалось, что это самый высокий мужчина из всех рассиу, которых я до сих пор встречал. Глаза у него, как ни странно, были серые; позже я узнал причину этого: он был сыном женщины с Болот и неизвестного этранского воина, который ее изнасиловал. Я сказал ему, как меня зовут, и он в ответ назвал свое имя: Рава Аттиу Сидой, а потом любезно пригласил меня к себе домой и усадил за стол.
— Рыбаки скоро в деревню вернутся, — сказал он, — и все пойдут к рыбной циновке. Если хочешь, пойдем с нами; там можно будет поспрашивать у женщин насчет твоей родни. Если у нас об этом кому и известно, так только женщинам, они всегда все знают.
Рыбацкие лодки между тем одна за другой причаливали к берегу и выгружали улов. Лодочки были легкие, с маленькими парусами, напоминавшими крылья бабочек. От голосов мужчин и лая собак деревня сразу стала оживать. Собаки, завидев берег, выпрыгивали из лодок и бросались к нему по мелководью; собаки были некрупные, с черной жесткой курчавой шерстью, большими ясными глазами и прямо-таки светскими манерами. Они приветствовали друг друга одним-единственным «гавом», энергично виляя при этом хвостом, затем одна склоняла голову, вторая принимала поклон и каждая следовала за своим хозяином. Одна собака тащила крупную мертвую птицу, по-моему лебедя, и со своими товарками здороваться не стала, а с важным видом потрусила прямиком к дому. Вскоре все мужчины, сложив улов в корзины, вереницей двинулись куда-то по тропинке. Мы с Равой последовали за ними, и вскоре на берегу небольшого залива с заросшими травой берегами я увидел женскую деревню Восточное Озеро.
Несколько женщин уже ждали на лугу возле расстеленной на земле большой тростниковой циновки. Вокруг носилась туча детей, которые, впрочем, вели себя очень осторожно и на циновку ни в коем случае не наступали. Всевозможные горшки и тростниковые короба, полные готовых кушаний, были расставлены на циновке, точно на рыночном прилавке. Мужчины сели у противоположного края циновки и тоже выложили свой улов. Даже та собака положила туда принесенную ею птицу и чуть отступила, виляя хвостом. Только теперь я начал понимать смысл выражения «рыбная циновка». Отовсюду доносились шутки и смех, но это, несомненно, был некий старинный и уважаемый обычай, и когда кто-то из мужчин выходил вперед и брал коробку или горшок с едой или женщина выбирала себе корзинку с рыбой, они непременно произносили некую, явно ритуальную, фразу в знак благодарности. Потом какая-то старуха, ткнув пальцем в лебедя, воскликнула: «А это не иначе как стрела Коры!» — и ее слова вызвали новую порцию шуток. Женщины, похоже, точно знали, кому чей улов полагается; мужчины же порой немного спорили, кому достанется то или это, но женщины тут же вносили ясность; так, например, когда двое молодых людей заспорили из-за короба с рыбными лепешками, хозяйка лепешек мгновенно разрешила спор, всего лишь кивнув одному из претендентов. И тот, кому лепешек не досталось, молча отошел в сторону, хотя и с весьма недовольным видом. Когда все разобрали, Рава вывел меня вперед и сказал, обращаясь ко всем женщинам сразу:
— Вот. Этот человек сегодня пришел в нашу деревню и сказал, что ищет своих сородичей. Солдаты угнали его в рабство в Эттеру — (он тоже говорил «Эттера», а не Этра) — еще совсем ребенком, и он знает одно лишь свое имя: Гэвир. Люди на северном краю Болот сказали ему, что он, возможно, один из сидою.
После этого женщины обступили меня со всех сторон и принялись рассматривать. Затем одна из них — лет сорока, остроносая и темнокожая — спросила:
— Сколько лет назад это случилось?
— Примерно пятнадцать, ма-йо, — ответил я. — Нас вместе с сестрой забрали. Ее звали Сэлло.
И тут какая-то старуха вскрикнула:
— Так это же дети Тано!
— Ну да, их тоже Сэлло и Гэвир звали! — поддержала старуху женщина с младенцем на руках. А та старуха, что почему-то назвала мертвого лебедя «стрелой Коры» и теперь держала его головой вниз за широкие черные перепончатые лапы, протолкнулась сквозь толпу, внимательно изучила меня с головы до ног и заявила:
— Да. Это наверняка ее дети! Дети Тано. Слава тебе, Энну-Амба, Энну-Ме!
— Тано в тот день за черным папоротником отправилась по Долгой протоке, — сказала мне одна из женщин, — и детей с собой взяла. А обратно никто из них так и не вернулся. И лодки ее потом никто не нашел.
— Говорили, что вроде утонула она, — заметила другая женщина, а ее соседка возмущенно воскликнула:
— Ничего она не утонула! Наверняка на них охотники за рабами напали! — После этих слов старуха с лебедем подошла ко мне совсем уж вплотную — видно, пыталась разглядеть в моем лице черты той женщины, которую все они когда-то хорошо знали. Молодые женщины отступили назад; они смотрели на меня совсем иными глазами, но с явным сочувствием.
И лишь та темнокожая длинноносая женщина, что первой заговорила со мной, пока что помалкивала и близко ко мне не подходила. Старуха с лебедем принялась что-то ей втолковывать, после чего темнокожая наконец подошла ко мне и сказала:
— Тано Айтано Сидой — это моя младшая сестра. А меня зовут Гегемер Айтано Сидой. — Лицо у нее при этом было чрезвычайно мрачным, а слова она произносила резко, отрывисто.
Я страшно смутился и не знал, что сказать. Но через минуту все же спросил:
— Скажи, тетушка, как же все-таки мое настоящее имя?
— Гэвир Айтана Сидой, — сказала она почти нетерпеливо. — А что, твоя мать… и твоя сестра… они тоже с тобой сюда вернулись?
— Матери своей я совершенно не помню. Мы с сестрой были рабами в Этре. А два года назад ее убили. И тогда я оттуда ушел. И направился в Данеранский лес. — Я говорил очень короткими фразами и нарочно сказал «ушел оттуда», а не «сбежал», потому что в присутствии этой женщины с зоркими и черными, как у вороны, глазами чувствовал необходимость вести себя как настоящий мужчина, а не сбежавший от хозяев мальчишка.
Она быстро и остро на меня глянула, явно стараясь не встречаться со мной глазами, и обронила:
— Хорошо. Мужчины рода Айтану позаботятся о тебе. — И тут же повернулась ко мне спиной.
Зато остальным женщинам хотелось и как следует меня разглядеть, и расспросить вволю, но, похоже, они не решились перечить моей тетке и покорно последовали за ней. Впрочем, и мужчины уже потянулись в свою деревню, так что пришлось и мне тоже уйти вместе с ними.
По дороге Рава и двое мужчин постарше все время о чем-то спорили. Я, к сожалению, понимал далеко не все — их говор звучал еще слишком непривычно для моих ушей, и в нем было немало таких слов, которых я вообще не знал. Но похоже, говорили они о том, откуда же я все-таки родом. В конце концов один из них обернулся ко мне, сказал: «Идем», и я покорно последовал за ним к его хижине.
Собственно, хижина представляла собой легкий деревянный каркас, покоившийся на деревянном настиле, а стены и крыша были сделаны из тростниковых циновок. Там не было ни окон, ни дверей, и любую из стен можно было поднять наверх, превратив дом в навес. Мой новый провожатый убрал куда-то короб и глиняный горшок с провизией, которые он обменял у женщин на рыбу, и поднял одну из стен — ту, что была обращена в сторону озера. Он привязал скатанную циновку к боковым столбикам, так что она, образуя некий козырек, очень удачно затеняла эту часть деревянного настила от горячих лучей полуденного солнца, и, усевшись на толстую циновку или тюфяк, разложенный на полу, принялся шлифовать почти готовый рыболовный крючок из раковины моллюска. Некоторое время он работал молча, не глядя на меня, потом махнул рукой в сторону «комнаты» и предложил:
— Бери сам, что хочешь.
Я чувствовал себя здесь незваным гостем, и ничего брать мне не хотелось. Я совершенно не понимал этих людей. Если я действительно тот самый пропавший из их деревни ребенок, их сородич, то неужели это все гостеприимство, которое они способны мне оказать? Я испытывал горькое разочарование, но отнюдь не намерен был это показывать — не хотелось демонстрировать собственную слабость перед этими чужими людьми с холодным сердцем. Надо непременно сохранить собственное достоинство, думал я, и держаться так же надменно, как они. В конце концов, я горожанин, человек образованный, а они варвары, дикари, живущие среди болот… И я решил: раз уж я преодолел столь долгий путь, так, по крайней мере, могу хотя бы переночевать здесь. А потом уж придумаю, куда мне идти дальше, раз и здесь для меня места не нашлось.
Я отыскал еще одну циновку и тоже уселся, но на противоположном конце этой «палубы», свесив ноги над илистым берегом озера и болтая ими в воздухе. Посидев так некоторое время, я вежливо спросил:
— Могу я узнать, как зовут хозяина этого дома?
— Меттер Айтана Сидой, — сказал он, не отрываясь от работы. Голос его звучал очень мягко.
— Так не ты ли мой отец?
— Я младший брат Гегемер, твоей тетки.
То, как он это сказал, по-прежнему не поднимая глаз, заставило меня заподозрить, что он просто очень стесняется, а вовсе не демонстрирует свое ко мне безразличие. Я догадался, что и мне не стоит особенно пялить на него глаза, но краешком глаза все же на него посматривал, и мне показалось, что он не очень-то похож на ту женщину с вороньими глазами, мою тетку, да и на меня, пожалуй, тоже.
— Значит, и моей матери ты тоже брат?
Он кивнул. Один раз, но очень энергично.
После этих слов мне пришлось все же присмотреться к нему внимательнее. Меттер был значительно моложе Гегемер и не такой темнокожий; да и черты лица у него были не такие резкие. Пожалуй, он чем-то напоминал Сэлло, такой же круглолицый, с чистой смуглой кожей. И я решил, что примерно так, наверное, выглядела и моя мать, Тано.
Ему, наверное, было примерно столько же лет, сколько мне сейчас, когда пропали его старшая сестра и двое ее маленьких детей.
Я долго молчал, потом снова обратился к нему:
— Дядя…
— Ао, — откликнулся он.
— Я буду жить здесь?
— Ао.
— С тобой?
— Ао.
— Но мне надо будет многому научиться. Я ведь не знаю, как вы здесь живете.
— Анх.
Вскоре я, конечно, привык к подобным кратким ответам, которые Меттер произносил еле слышно, себе под нос. «Ао» означало «да»; «энг» — «нет»; а словечко «анх» могло означать все, что угодно, между «да» и «нет» и имело примерно такой смысл: «Я слышал, что ты сказал».
Вдруг послышалось тихое «мяу», и маленькая черная кошка, вынырнув из кучи каких-то вещей в темном углу хижины, подошла ко мне и уселась рядом, изящно обернув хвостом передние лапки. Я осторожно погладил ее по спинке. Она с наслаждением выгнулась, и я продолжал ее гладить, при этом оба мы смотрели не друг на друга, а куда-то за озеро. Мимо хижины по берегу промчалась пара черных рыбачьих собак, но кошка не обратила на них никакого внимания. И тут я заметил, что мой дядя Меттер, оказывается, оторвался от своей работы и смотрит на кошку с явным облегчением, прямо-таки написанным у него на лице.
— Прют отлично мышей ловит, — заметил он.
Я почесал Прют за ушком, и она замурлыкала.
Помолчав, Меттер прибавил:
— Мышей в этом году уйма.
Я снова почесал Прют, думая, не сказать ли ему, что и мне как-то целое лето пришлось есть мышей, это была основная моя пища. Но решил пока ничего о себе не говорить: это показалось мне неразумным, ведь пока что никто из них и не думал спрашивать меня о том, откуда я пришел и как жил в последние годы.
Только потом я понял, что никто на берегах озера Ферузи никогда о таких вещах и не спрашивает. Я долго прожил в «Эттере» — откуда приходят охотники за рабами и солдаты, которые грабят, насилуют, убивают, крадут детей рассиу, — и этого им было достаточно. Я, правда, жил и в других местах, но об этих других местах они ничего знать не хотели. Хотя не так уж много на свете людей, которые ничего не хотят знать об окружающем их мире.
И расспрашивать их об этом озерном крае оказалось тоже нелегко, но не потому, что они его плохо знали или не хотели мне о нем рассказывать. Просто это был их мир, даже больше — целая вселенная, а потому то, что их окружало, и воспринималось как некая данность, как воздух, которым они дышат. Им порой был непонятен даже смысл тех вопросов, которые я задавал. «Как это кто-то может не знать названия нашего озера? И с чего бы это он вдруг спрашивает, почему мужчины и женщины живут отдельно друг от друга? Ведь каждому ясно, что это полное бесстыдство — поселиться всем в одной деревне! И как человек может ничего не знать об обязательных вечерних обрядах поклонения богам или о тех словах, которые нужно произносить, когда кому-то даешь пищу или от кого-то ее получаешь? Как может мужчина не уметь резать тростник, а женщина — расплющивать стебли и плести циновки?» Я вскоре понял, что меня здесь воспринимают как полного незнайку, как человека совершенно невежественного; здесь я чувствовал даже большую растерянность, чем в самую первую свою зиму в лесу, хотя там поводов убедиться в своей неприспособленности к такой жизни было куда больше. Горожане могли бы сказать, что образ жизни у рассиу самый примитивный, но, по-моему, «примитивной» можно назвать только такую одинокую, нищую и жестокую жизнь, как у Куги, и все равно это слово не даст о ней верного представления. А в селениях болотных людей шла своя, особая жизнь, похожая на гобелен, сотканный из сложных родственных отношений, строгих общественных требований, обязанностей и правил. Я считаю, что это одинаково трудно — жить как по законам болотных людей, так и по законам этранцев.
Мой дядя Меттер принял меня в свой дом, не выказав особого гостеприимства, но, с другой стороны, и без малейших колебаний. Казалось, он вполне готов любить своего давным-давно пропавшего племянника. Это был человек очень скромный и мягкий, даже нежный, и его полностью устраивала та система обязанностей, обычаев и родственных отношений, которая существовала в его родном обществе, как устраивает она пчел в улье или ласточек в колонии, состоящей из сотен глиняных гнезд. Среди других мужчин Меттер особым авторитетом не пользовался, но это ничуть его не возмущало, не вызывало у него ни беспокойства, ни зависти. А вот то, что у него имелось несколько жен, служило предметом зависти и уважения среди его односельчан, хотя взаимоотношения с женщинами и стояли как бы в стороне от истинно мужской жизни. Но если я попытаюсь объяснить, как именно я понимаю жизнь настоящего сидою — а я познавал эту жизнь медленно, фрагментарно, опираясь на всевозможные догадки и предположения, — то истории моей просто не будет конца. Но я все же кое-что поясню одновременно с рассказом о том, как дальше развивались события.
Вечером мы с дядей отлично поужинали холодными рыбными лепешками, запивая их вином из рисовой травы. Вместе с нами ужинали и дядина кошка Прют, и его собака Минки, добрая старая сука, как из-под земли возникшая точно перед ужином. Минки подошла и очень вежливо поздоровалась со мной, положив свою седеющую морду мне на ладонь. После ужина Меттер исполнил некий ритуальный танец и произнес краткую хвалебную молитву в честь Повелителя Вод, как это делали и все наши соседи на своих деревянных настилах, уже окутанных ранними сумерками. Затем он развернул на полу свою постель и помог мне тоже устроить ложе из запасных циновок и моего старого одеяла. Кошка отправилась ловить мышей куда-то под хижину, а собака свернулась клубком на постели хозяина. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и легли спать, когда последние отблески заката еще не померкли на озерной воде.
А утром не успело солнце взойти, как рыбаки уже вышли на озеро, погрузившись в лодки по одному или по двое, с одной или двумя собаками. Меттер объяснил, что сейчас в озеро по протокам, соединяющим его с морем, как раз приходят большие стаи рыбы, которая называется тута, и рыбаки надеются сегодня утром устроить настоящую охоту, загоняя рыбу в сети. И если тута действительно пришла, то в течение месяца работы в обеих деревнях будет более чем достаточно: мужчины будут ловить рыбу, а женщины ее вялить. Я спросил, можно ли и мне пойти с ними, чтобы поучиться загонять рыбу и ловить ее сетями, но Меттер явно принадлежал к тому типу людей, которые просто не могут сказать «нет». Он мялся, что-то бормотал, обещая, что вот, мол, кое с кем еще надо непременно на сей счет переговорить, и я, в общем, так ничего и не понял, а потому спросил:
— Это что же, у отца моего надо разрешение спросить, что ли?
— У твоего отца? Нет, Меттер Содиа ушел на север сразу после того, как Тано пропала, — как-то невпопад ответил мой дядя. Я попытался еще что-то спросить у него об отце, но он сказал лишь: — А с тех пор никто ничего о нем и не слышал, — и почти сразу ушел, оставив меня одного во всей деревне, если не считать, конечно, кошек, тоже оставшихся дома. Здесь в каждом доме имелся по крайней мере один черный кот, а то и несколько. Когда мужчины и собаки из дома уходили, там правили кошки; они лежали на деревянных настилах, слонялись по крышам, шипя на соперников, и выносили котят поиграть на солнышке. Я сидел и наблюдал за кошками, и, хотя симпатичные котята порой заставляли меня смеяться, на сердце у меня было тяжело. Теперь я уже понял, что никакого недружелюбия в поведении Меттера не
было. Но я-то пришел домой, к своим сородичам, а они оказались мне совершенно чужими, а уж я и подавно был для них чужаком.
Мне было видно, как на середине озера, далеко-далеко от берега, трепещут паруса их суденышек, точно крылышки бабочек над синей и гладкой, как шелк, водой.
Затем я заметил какую-то лодку, плывущую по направлению к деревне, точнее, большое каноэ. Гребцы в нем работали веслами, как сумасшедшие. Каноэ подлетело к топкому берегу, и люди, выпрыгнув из него, втащили его повыше, а потом направились прямо ко мне. Сперва мне показалось, что лица у них просто раскрашены, но потом я понял, что это татуировка. Многочисленные линии спускались у них от висков к подбородку, а у одного пожилого мужчины весь лоб до самых бровей и переносицу покрывали вертикальные черные линии, и он от этого был похож на черноголовую цаплю: сверху черная «шапочка», а под ней светлые перья. Шли они с важным достоинством, а у одного в руках была какая-то палка, на верхнем конце которой красовался большой пучок перьев белой цапли.
Они остановились перед хижиной Меттера, и тот пожилой спросил:
— Это ты — Гэвир Айтана Сидой?
Я встал и поклонился.
Тогда он разразился каким-то длинным торжественным монологом, из которого я не понял почти ни слова. Затем все они немного помолчали, словно ожидая какой-то моей реакции, и пожилой презрительно бросил человеку с палкой:
— Ну, этого явно ничему не учили!
Они немного посовещались, затем человек с палкой повернулся ко мне и сказал:
— Ты пойдешь с нами. Тебе необходимо пройти обряд посвящения. — На моем лице, должно быть, ничего не отразилось, и он пояснил: — Мы старейшины твоего клана, Айтану Сидою. Только мы можем сделать тебя мужчиной и разрешить тебе выполнять мужскую работу. Тебя, конечно, ничему не учили, но ты все-таки постарайся как следует, а мы будем подсказывать тебе, что и как надо делать.
— Ты не можешь и впредь оставаться таким, какой ты сейчас, — сказал пожилой. — У нас так не полагается. Мужчина, не прошедший обряда инициации, — это опасность для всей деревни и позор для его сородичей. Над ним занесена когтистая лапа Энну-Амбы, от него убегают стада Суа, так что идем. Идем скорей. — И он повернулся, чтобы идти прочь.
Я быстро спустился вниз, и они сразу окружили меня, а тот человек с палкой коснулся моей головы перьями белой цапли. Он сделал это без улыбки, но я почувствовал, что намерения у него добрые. Остальные, обступив меня со всех сторон, держались холодно, сурово и почти надменно. Мы пошли прямиком к каноэ, сели в него и оттолкнулись от берега. «Ложись на дно», — шепнул мне Перо Цапли. Я послушался и лег между ногами гребцов, разглядывая дно лодки. Оказалось, что и лодка тоже сделана из циновок, несколько раз крепко прошитых и несколько раз покрытых какой-то прозрачной пленкой вроде лака, так что борта и днище были одновременно и прочными, как металл, и достаточно гибкими.
Выплыв на середину озера, гребцы осушили свои весла-лопатки, и каноэ как бы повисло, со всех сторон окруженное тишиной. И в этой тишине какой-то человек вдруг запел. Но на этот раз слов я совершенно не понимал. Теперь-то я думаю, что пел он, скорее всего, на аританском языке, древнем языке Западного побережья, в течение многих веков бережно хранимом жителями Болот и используемом во время отправления священных обрядов и ритуалов. Впрочем, не уверен. Пение продолжалось довольно долго, порой тот человек пел один, порой к нему присоединялись еще несколько голосов. Я же по-прежнему неподвижно, точно покойник, лежал на дне лодки, отчасти погрузившись в некий транс, из которого меня вывел Перо Цапли, шепнув: «Ты плавать-то умеешь?» Я кивнул. «Ладно, но выныривай с той стороны», — прошептал он. И тут меня подхватили несколько человек, словно я и впрямь был трупом, раскачали и, подбросив высоко в воздух, вышвырнули из лодки головой вперед.
Я так неожиданно плюхнулся в воду, что сразу не понял, что же произошло. Вынырнув и стряхнув воду с ресниц, я увидел над собой борт каноэ и вспомнил слова, которые сказал мне Перо Цапли: «Выныривай с той стороны». Я снова нырнул, проплыл под лодкой, снизу казавшейся огромной, и снова вынырнул, жадно хватая ртом воздух, точно у противоположного борта. Там я некоторое время повисел, разгребая руками воду и глядя на мужчин в каноэ. Перо Цапли, потрясая своим «жезлом», кричал: «Хийи! Хийи!» — затем протянул мне тот его конец, где не было перьев, я ухватился за него и забрался в каноэ. Меня сразу подхватили несколько пар рук, помогли сесть, и я почувствовал, как на голову мне что-то с силой надели, — больше всего это было похоже на деревянный ящик, доходивший мне почти до плеч. Я даже шевельнуться внутри его не мог и ничего не видел, кроме узкой полоски света под самым подбородком. Перо Цапли снова закричал: «Хийи!» — затем послышался смех и одобрительные возгласы. Видимо, все получилось как надо. Меня с чем-то поздравляли, а я сидел, накрытый этим дурацким ящиком, и даже не пытался понять суть происходящего со мною.
То, что я рассказываю об этом обряде, никакой тайны собой не представляет; смотреть на это может каждый. Рыбаки, ловившие там рыбу, тоже подплыли поближе и с любопытством наблюдали за происходящим. Но как только на голове у меня оказался тот ящик, мы тут же на большой скорости понеслись туда, где и должен был завершиться обряд моего посвящения.
Ферузи обитали в пяти деревнях: в той, где я когда-то родился, носившей название Восточное Озеро, и в четырех других, расположенных в нескольких милях друг от друга. Для завершения обряда инициации меня отвезли в деревню Южный Берег, самую большую из всех, где хранились священные артефакты. А такие большие каноэ, как то, на котором мы плыли, здесь называли «военными», но не потому, что народы Болот когда-либо воевали с другими народами или друг с другом, а потому, что мужчинам нравилось считать себя воинами; собственно, только мужчины и имели право плавать на таких больших каноэ. Тот ящик, что напялили мне на голову, оказался маской. И пока эта маска была на мне, меня называли «Дитя Энну». Народ рассиу верит, что богиня-кошка Энну-Ме способна принимать и другое обличье, Энну-Амбы, черной болотной львицы. Вот, пожалуй, и все, что я могу рассказать об инициации. Когда все было кончено, лицо у меня оказалось украшено искусной татуировкой — двумя черными линиями, спускавшимися от висков к подбородку. У меня такая темная кожа, что эти линии теперь едва заметны. Вернувшись после обряда посвящения в деревню Восточное Озеро, я увидел, что у всех тамошних мужчин по обе стороны лица тянутся такие же черные линии, а у большей части этих линий даже по две или больше.
И теперь, после прохождения обряда, я стал не просто взрослым: я стал одним из них.
Хотя, конечно, им-то я по-прежнему казался очень странным, этакой ходячей нелепостью. И по-прежнему крайне мало знал об их жизни. Но теперь они все-таки давали мне понять, что я не так уж безнадежно глуп и даже обладаю кое-какими многообещающими навыками — например, неплохо ловлю рыбу на удочку.
И обращались со мной по-прежнему как с мальчишкой. В тех краях мальчик обычно переходит из женской деревни в мужскую сразу после обряда инициации, то есть лет в тринадцать, и живет там несколько лет с кем-то из своих старших родственников — с братом матери, или со своим старшим братом, или, что бывает реже, с отцом. Отцовство на Болотах считается куда менее важным, чем родственные связи внутри материнского семейства; по матери определяется и тот клан, к которому ты принадлежишь.
В мужской деревне мальчики учились мужской работе: ловить рыбу, строить лодки, охотиться на птиц, сажать и собирать рисовую траву, рубить тростник. Женщины у себя в деревне разводили домашнюю птицу и скот, возделывали сады и огороды, плели из тростника циновки и ткали ткани; не менее важными занятиями считались также готовка пищи и запасание продуктов впрок. Мальчики старше семи-восьми лет, живущие в женской деревне, не должны были делать женскую работу; от них этого не только не ожидали, но и не позволяли им этим заниматься, так что в мужскую деревню подростки являлись обленившимися, невежественными и в общем никчемными. Во всяком случае, взрослые мужчины не уставали им это повторять. Мальчиков, однако, никогда не били — я, например, ни разу не видел, чтобы рассиу ударил другого человека, или собаку, или кошку, — но отчаянно бранили и дразнили почем зря, а также все без конца им что-то приказывали и неустанно критиковали их за неумелость, пока они более-менее не осваивали какое-нибудь мастерство. После этого они проходили второй обряд посвящения — окончательно становясь взрослыми людьми и получая разрешение жить самостоятельно в отдельной хижине, одни или с друзьями. Но вторую ступень инициации, как я уже сказал, разрешалось преодолевать только после того, как старейшины придут к выводу, что тот или иной юноша овладел хотя бы одним мастерством. Но бывало и так, рассказывали мне, что кто-то из юнцов отказывался во второй раз проходить этот обряд и предпочитал вернуться в женскую деревню и жить там как женщина до конца своих дней.
У моего дяди было несколько жен. А у некоторых женщин рассиу было по несколько мужей. Собственно, брачная церемония заключалась в том, что двое будущих супругов заявляли во время ежедневного обмена продуктами у «рыбной циновки»: «Мы поженились», вот и все. Между двумя деревнями — женской и мужской — было разбросано немало крошечных хижин со стенами из тростниковых циновок, где едва помещалась лежанка или толстая циновка из тростника, служившая постелью. Этими хижинами свободно пользовались мужчины и женщины, желавшие спать вместе и заявившие об этом у «рыбной циновки» или во время личных встреч на лесной тропе или в полях. Если какая-то пара решала пожениться, мужчина строил брачную хижину, и его жена или жены приходили туда в условленное время. Я как-то спросил своего дядю, когда он вечером в очередной раз собрался уходить, к которой из жен он сейчас направляется, и он, застенчиво улыбнувшись, сказал: «О, ну это они сами решают».
Наблюдая, как флиртуют и женихаются молодые люди, я понял, что в плане женитьбы успех в значительной степени зависит от умения мужчины ловить рыбу и умения женщины вкусно ее готовить. Этот ежедневный обмен сырья на готовую еду и происходил у «рыбной циновки». Женщины приносили жареную и вареную птицу, молочные продукты, овощи и вообще гораздо больше всевозможной еды, чем могли обеспечить мужчины с помощью одной лишь рыбной ловли, однако принесенные женщинами масло, сыр, яйца и овощи принимались как нечто само собой разумеющееся, тогда как каждая пойманная мужчинами рыбка вызывала массу шумных восторгов.
Теперь я понимал, почему у Аммеды всегда был несколько пристыженный вид, когда он готовил пойманную мной рыбу. В мужской деревне никто никогда ничего не готовил. Мальчики и неженатые молодые люди должны были договариваться и заключать сделку с кем-то из женщин или же просто к кому-то подольщаться, чтобы получить обед; в крайнем случае они брали себе то, что осталось после разбора на «рыбной циновке». Вкус у моего дяди — как в отношении женщин, так и их кулинарных способностей — был просто отменный, и я, пока жил у него, питался просто роскошно.
После инициации я прожил год как Айтана Сидой из народа рассиу, учась необходимым мужским умениям: ловить рыбу, сажать и собирать «рисовую траву», рубить тростник и складывать его на хранение. С луком и стрелами я толком управляться так и не научился, так что меня и не просили вылезти из лодки и подстрелить какую-нибудь дичь, хотя других юношей довольно часто просили об этом. Я помогал дяде забрасывать сети и верши, а пока не приходило время их вытягивать, весьма успешно ловил рыбу на удочку. Мои способности в этом деле быстро заслужили всеобщее признание и одобрение. Мы с Меттером часто брали с собой кого-то из мальчишек, вооруженных луком, чтобы он мог подстрелить какую-нибудь водную птицу; это было огромной радостью для старой Минки — ей позволялось прыгнуть в воду за подстреленным гусем или уткой, притащить птицу в лодку, а потом, гордо махая хвостом, выпрыгнуть с ней на берег. Минки всегда отдавала своих птиц Пьюмо, старшей жене моего дяди, и та каждый раз от всей души благодарила старую собаку.
Сажать и собирать «рисовую траву» — это, по-моему, самое легкое дело на свете. Осенью отплываешь по шелковой синей воде к северному берегу озера, где рисовые островки расположены рядом друг с другом, и, отталкиваясь шестом, медленно плывешь по крошечным протокам между ними, разбрасывая направо и налево пригоршни мелких, темных, сладко пахнущих семян. Затем поздней весной возвращаешься, наклоняешь высоченные стебли над лодкой и стряхиваешь туда созревшие семена при помощи маленьких деревянных грабелек, пока лодка до половины не наполнится зерном. Помнится, женщины частенько подшучивали над тем, сколько шуму поднимают мужчины, говоря о посеве и сборе дикого риса, точно о некоем «особом умении»; однако сами они всегда принимали полные мешки собранного нами риса с похвалами и благодарностью во время сборов у «рыбной циновки», приговаривая: «Вот уж я накормлю тебя до отвала!» Кстати, то, что они готовили из зерен дикого риса, было почти так же вкусно, как моя любимая каша из пшеницы.
А вот рубка тростника была работой действительно очень тяжелой. Этим приходилось особенно много заниматься в конце осени и в начале зимы, когда погода становилась пасмурной, холодной и дождливой. Но когда я немного привык стоять целыми днями в воде два-три фута глубиной и махать изогнутым серпом, соблюдая тройной ритм — срезал, собрал в пучок, передал вязальщикам, — мне эта работа стала даже нравиться. Тростник нужно увязывать в снопы быстро, пока он снова не рассыпался на отдельные стебли и не уплыл по течению, и сразу укладывать эти тяжелые снопы в лодку. У нас сложилась отличная компания молодых ребят, и мы весьма ревностно относились к возможности показать свою сноровку в этом нелегком деле; впрочем, ко мне, новичку, все относились по-доброму, и эта тяжелая работа всегда скрашивалась бесконечным запасом всевозможных шуток, прибауток, сплетен и песен, которые мы вместе с моими новыми друзьями с наслаждением орали в зарослях тростника, несмотря на противный осенний дождь и холодный ветер. Старшие мужчины резать тростник отправлялись очень редко: мешал ревматизм, который здесь почти все заполучали еще в юности.
Теперь я понимаю, что жизнь на Болотах была достаточно скучна и однообразна, но тогда это было именно то, в чем я нуждался. Такая жизнь давала мне достаточно времени не только для того, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье, но и для размышлений, для взросления моей души и тела, которое, в общем, взрослеть не торопилось.
Особенно спокойной, даже ленивой была вторая половина зимы. К этому времени тростник был нарезан и передан женщинам для превращения в циновки и ткани, и мужчинам заняться было особенно нечем. Работы хватало только у тех, кто строил лодки. В общем-то, все было неплохо, и меня раздражали, даже угнетали, только постоянная сырость, туманы и холод. Единственным источником тепла в хижине был крошечный очаг — точнее, керамический горшок, наполненный тлеющими углями. Так что, если выдавался солнечный денек, я уходил из холодной хижины на берег и смотрел, как строят лодки. Это было тонкое и точное мастерство. Лодки рассиу славились повсеместно. Например, большое, «военное», каноэ казалось мне похожим на стихотворную строку, в которой нет ничего лишнего, а потому поистине совершенную. Так что если я не сидел скорчившись у глиняного горшка-очага, предаваясь воспоминаниям и мечтам, то торчал на берегу, с восхищением наблюдая, как лодка прямо на глазах растет и приобретает свои изящные легкие формы. Я тоже понемногу кое-что мастерил и сделал для односельчан немало удочек, лесок и крючков; кроме того, если не было слишком сильного дождя, я ходил ловить рыбу, а также в гости — поболтать со своими новыми приятелями из числа деревенской молодежи.
Хотя женщины никогда даже не заглядывали в мужскую деревню, как, впрочем, и мужчины в женскую, для встреч у них имелось сколько угодно других мест. Мужчины и женщины с удовольствием болтали друг с другом, собравшись у «рыбной циновки», или во время рыбной ловли на озере — ибо женщины тоже ловили рыбу, особенно угрей, — или встречаясь на заросших высокой травой пастбищах для скота, расположенных подальше от берега, в более сухих местах. То, что я был удачлив в рыбной ловле, помогло мне завести друзей и среди девушек, которые с удовольствием обменивали приготовленную ими еду на мой улов. Девушки постоянно, хотя и добродушно, меня поддразнивали и даже слегка со мной флиртовали. Мы также очень любили небольшой компанией — несколько девушек и юношей — прогуливаться по берегу озера или по тропе, ведущей в луга. Уединяться парочкам было запрещено до прохождения второй инициации, и юноши, нарушившие этот закон, пожизненно изгонялись из родной деревни, так что мы старались держаться стайкой. Из девушек мне больше всех была по душе Тиссо Бету, по прозвищу Сверчок. Ее прозвали так за узкое лицо с высокими скулами и чуть впалыми щеками и худенькое тело. Она была умненькой, очень доброй и веселой, любила посмеяться и старалась всегда как-то ответить на мои вопросы, а не пялила на меня удивленно глаза, как это делали обычно деревенские, приговаривавшие: «Ну, Гэвир, это же все знают!»
Однажды я спросил у Тиссо, принято ли у них рассказывать друг другу всякие истории. Дождливые осенние дни и зимние вечера были такими долгими и скучными, что я постоянно держал ушки на макушке, надеясь услышать где-нибудь сказку или песню, но темы для разговоров как среди молодежи, так и среди взрослых людей были здесь весьма немногочисленны и без конца повторялись: события минувшего дня, планы на завтра, еда, женщины, очень редко незначительные новости, которые принес кто-то из другой деревни или встретившись с кем-то на озере или в лугах. Я бы с удовольствием развлек их, да и себя самого, какой-нибудь историей, как развлекал банду Бриджина и приятелей Барны. Но здесь, похоже, это принято не было. Я знал, что «всякие иноземные выдумки», как и любая попытка переменить устойчивый здешний распорядок вещей, жителями Болот отнюдь не приветствуются, так что у мужчин я и не спрашивал. Но, разговаривая с Тиссо, я не очень боялся попасть впросак, а потому спросил ее напрямик: неужели никто здесь даже сказок не рассказывает, не поет песен, не повествует о великом прошлом своего народа? Она рассмеялась:
— И поем, и рассказываем.
— Кто? Женщины?
— Ао.
— А мужчины?
— Энг. — Она захихикала.
— Почему же нет?
Этого она не знала. А когда я попросил ее рассказать мне какую-нибудь из историй, какую наверняка мог бы услышать, если бы, как и она, вырос в женской деревне, это ее буквально потрясло.
— Ой, Гэвир, я не могу!
— Значит, и я не могу рассказывать тебе те истории, которые давно знаю?
— Энг, энг, энг, — прошептала она. «Нет, нет, нет».
А еще мне очень хотелось поговорить с моей теткой Гегемер и расспросить ее о моей матери. Но Гегемер по-прежнему держалась отстраненно. Я не понимал почему и спросил об этом у девушек. Они смутились и ничего толком мне не ответили. Похоже было, что Гегемер Айтано — женщина весьма властная, обладающая некими особыми возможностями или умениями, и в деревне ее не слишком любят. Однажды зимой мы с Тиссо Бету прогуливались по пастбищам, чуть отстав от остальных, и я спросил ее, почему моя тетка не желает даже просто поговорить со мной.
— Ну, она же амбамер! — удивилась моему вопросу Тиссо. Слово «амбамер» означало «дочь болотного льва», это я знал, но мне пришлось все же попросить Тиссо объяснить, что это значит в жизни.
Она задумалась и ответила:
— Это значит, что она может видеть весь мир насквозь. И слышать голоса из самого далекого далека. — Тиссо посмотрела на меня, проверяя, понял ли я, что это значит. Я кивнул, хоть и не слишком уверенно. И она продолжила: — Гегемер иногда слышит, что говорят мертвые. Или те люди, которые еще не родились. В доме старух, где они поют особые песни, в нее вселяется сама Энну-Амба, и в этом обличье она может бродить по всему свету и видеть все, что уже произошло или еще только должно произойти. Знаешь, другие люди у нас тоже обладают похожими способностями, но только в детстве, но тогда они этого еще толком не понимают. Но уж если Энну-Амба берет себе в дочери какую-то девочку, та обретает способность видеть и слышать все на свете до конца своей жизни и из-за этого, по-моему, становится немного странной. — Тиссо опять ненадолго задумалась. — Знаешь, Гегемер ведь пыталась рассказать людям, что она видела, но мужчины даже слушать ее не захотели. Мужчины утверждают, что только им дана способность видеть прошлое и будущее; они говорят: «Все эти амбамер — просто сумасшедшие», но моя мама рассказывала мне, что Гегемер Айтано видела ядовитый прилив — когда множество людей с Западных Болот, где все собирают и едят моллюсков, заболели и умерли, — задолго до того, как это случилось. Она увидела это, когда сама была еще ребенком… А еще Гегемер знает, кто в деревне должен вскоре умереть, и люди из-за этого ее боятся. Или, может, она и сама из-за этого их боится… И она, например, часто предсказывает, будет ли у той или другой девушки ребенок, причем задолго до того, как эта девушка действительно выйдет замуж и забеременеет. Я сама слышала, как она говорила: «Я видела, как смеется твой ребенок, Йенни». А Йенни плакала и смеялась, она была ужасно рада это слышать, потому что давно хотела ребенка, но так ни одного и не родила. А через год у нее действительно ребеночек родился!
Все это давало мне богатую пищу для размышлений. Но ответа на свой вопрос я по-прежнему не находил.
— И все-таки я не понимаю, почему моя тетка так меня не любит, — сказал я.
— Хорошо, я расскажу тебе о том, что узнала от мамы, только ты обещай, что больше никому из мужчин этого не скажешь. — Я пообещал хранить молчание, и Тиссо объяснила: — Видишь ли, Гегемер все пыталась узнать, что случилось с ее сестрой Тано и племянниками. Она много лет пыталась это сделать. Наши старухи специально для нее устраивали песнопения, которые продолжались очень долго. Гегемер даже какие-то особые снадобья принимала, а амбамер не должна никаких таких снадобий принимать. Но Энну-Амба все равно не позволяла ей увидеть сестру или племянников. А потом… потом вдруг в деревню явился ты, а она до этого так ни разу и не смогла тебя увидеть, хотя очень старалась… И не угадала, кто ты, пока ты не назвал свое имя. И все его услышали. А Гегемер была посрамлена, и теперь она считает, что совершила непростительную ошибку, что Амба наказывает ее, потому что она отпустила Тано одну так далеко на юг и виновата в том, что солдаты изнасиловали Тано, а тебя и твою сестру продали в рабство. И она думает, что ты это знаешь. — Я хотел возразить, но Тиссо не дала мне сказать ни слова. — Знаешь душой, сердцем, а не разумом. Это ведь совсем не важно, если разумом ты чего-то не знаешь или не понимаешь, если это знает и понимает твоя душа. Так что ты для Гегемер словно живой упрек. Ты омрачаешь ей душу.
— Это она омрачает мне душу, — возразил я.
— Да, конечно, я понимаю, — печально согласилась Тиссо.
Даже странно, до чего Тиссо оказалась похожей на Сотур! Во многом очень разные, они были одинаковы в своей способности мгновенно проявить сочувствие, понять чье-то горе, пожалеть человека — причем без лишних слов.
Я оставил мысль о том, чтобы как-то сблизиться с теткой, пробиться к ней сквозь прочную броню ее вины и обиды. Но страстно мечтал узнать как можно больше о ее необычных способностях и о том, на что Тиссо намекнула, сказав, что многие жители Болот тоже обладают подобными способностями, но только в детстве. Вот что не давало мне покоя. Однако границы, отделявшие здесь мужские знания от знаний женских, соблюдались не менее строго, чем границы, пролегавшие между мужской и женской деревнями. Тиссо и без того тревожилась, так много рассказав мне о том, чего мне знать было не положено, и я не мог на нее давить и без конца о чем-то выспрашивать. А другие девушки, стоило мне задать хоть самый чепуховый вопрос, касавшийся «женских таинств», тут же начинали ухать, как совы, или трещать, как зимородки, чтобы меня не слышать и не дать мне договорить, — их пугало, что я нарушаю давно установленные правила, а кроме того, это был дополнительный повод посмеяться надо мной и сообщить мне, что я «тупица» и «невежда».
А у своих приятелей я и вовсе не решался спрашивать о странной способности некоторых жителей Болот видеть прошлое и будущее. Я и так слишком сильно от них отличался, и подобные разговоры лишь еще больше способствовали бы моему отстранению. Расспрашивать моего дядю Меттера было совершенно бесполезно: он сторонился всяческих тайн и загадок и искал лишь покоя, причем именно там, где его было легче всего обрести. Самым добрым из жителей деревни я считал Раву, но он, во-первых, был старейшиной и главой своего клана, а во-вторых, очень много времени проводил в деревне Южный Берег. В общем, получалось, что есть только один человек, которому могли бы понравиться мои вопросы: старый Перок. Он действительно был очень стар и сед; исхудалое лицо его избороздили глубокие морщины; конечности скрючил ревматизм, причинявший ему постоянные страдания. Его истерзанные артритом пальцы мало на что уже годились, однако он искусно плел и чинил рыбацкие сети, и хотя работал он медленно, но делал все исключительно хорошо. Перок жил в крошечной хижине вместе с двумя кошками. Говорил он немного, но со мной всегда был ласков. Часто его настолько одолевала болезненная хромота, что он даже к «рыбной циновке» пойти не мог. Тиссо или ее мать приносили для него еду и передавали ее через меня. Я приносил приготовленные ими кушанья к хижине старика, ставил на настил и сообщал: «Это тебе от Лали Бету, дядюшка Перок». Мы, молодежь, как я уже говорил, всех стариков называли «дядюшка».
При ясной погоде Перок обычно сидел на солнышке и возился с сетью или просто смотрел куда-то за травянистые луга, что-то напевая себе под нос. Когда я приносил ему еду, он прерывал свои занятия и ласково благодарил меня, но стоило мне отвернуться, как монотонное пение тут же возобновлялось. Если вслушаться, то полупонятные слова начинали складываться в некую странную песню о болотном льве, о повелителях рыб, о царе цапель… Это были первые серьезные песни, которые я вообще услышал в краю ферузи, которые, по крайней мере, намекали, что за ними таится некая история. И вот однажды, поставив на настил тростниковую коробку с едой, я сказал: «Это тебе от Лали Бету, дядюшка Перок», но, когда он поблагодарил меня, я не ушел, как всегда, а спросил у него:
— Скажи, дядюшка Перок, что это за песни ты поешь?
Он удивленно вскинул на меня глаза и тут же снова их опустил, некоторое время продолжая работать; затем вдруг отложил свою сеть и снова внимательно посмотрел на меня.
— После того как пройдешь второй обряд, скажу, — промолвил он.
Именно этого я и боялся. Спорить со священными законами рассиу было совершенно бессмысленно. Я пожал плечами и сказал:
— Анх.
Но Перок, видно, понял, что у меня есть еще вопросы, и ждал, когда я их задам.
— Неужели все истории рассиу священны?
Старик некоторое время задумчиво меня изучал, потом кивнул:
— Ао.
— Значит, мне нельзя даже послушать, как ты поешь?
— Энг, — мягко запретил он. — Позже. Когда побываешь во дворце царя. — Он смотрел на меня с явной симпатией. — Там ты и выучишь эти песни, как и я когда-то.
— Это дворец царя цапель?
Он кивнул и тут же прошептал:
— Энг, энг! — и приложил палец к губам, запрещая мне задавать подобные вопросы. Потом снова повторил: — Позже. Уже скоро.
— И здесь нет таких историй, которые не считались бы священными?
— Есть, но их рассказывают женщины и дети. Для мужчин они не годятся.
— Но ведь существуют же всякие истории о героях — например, о Хамнеде, о великом герое древности, который скитался по всему Западному побережью, и…
Перок некоторое время молчал, качая головой, потом сказал:
— Сюда, на Болота, он не приходил. — И снова склонился над своей работой.
Так что все сказки, басни, исторические хроники и поэмы так и остались у меня в голове взаперти; они молчали, как и книга Каспро, что покоилась, завернутая в тростниковую ткань, в доме моего дяди, единственная книга во всем краю ферузи и никем здесь не прочитанная.
Однажды весенним днем я в одиночестве удил рыбу. Дядя Меттер ушел вместе с кем-то на озеро ставить сети. Старая Минки, как всегда запрыгнув ко мне в лодку, тут же уселась на носу и застыла, точно статуэтка с кудрявыми длинными ушами. Я поставил маленький парус и позволил ветерку медленно гнать лодку вдоль берега. Я ловил на удочку рыбу ритту; это небольшие придонные рыбешки с очень сладким и сочным мясом, но страшно ленивые. Вскоре мне тоже стало лень без конца таскать их из воды, и я, бросив это занятие, просто сидел в медленно плывущей лодке, любуясь шелковистой синевой озерной воды; вдали виднелись тростниковые островки, чуть дальше низкий зеленый берег, а еще дальше высился какой-то голубой холм…
И я вдруг понял: круг замкнулся; я вернулся к тем, самым ранним, самым первым своим «воспоминаниям», или видениям, оказавшись теперь как бы внутри этих воспоминаний.
И тут же на меня нахлынули и другие «воспоминания».
Я вспоминал улицы каких-то городов, огни домов, плотными рядами выстроившихся вдоль канала или пролива, темный булыжник незнакомой, круто уходящей вверх улицы, где гулял зимний ветер… затем мне вспомнилась площадь с фонтаном перед Аркамантом, и какая-то незнакомая мне башня над гаванью, полной судов, и какое-то большое здание с исхлестанными непогодой стенами из красного кирпича — все это возникло внезапно, в вихре иных образов и видений, которые толпились перед моим внутренним взором, тесня друг друга, и тут же ускользали прочь, прежде чем я успевал их ухватить; и снова передо мной всплывало то видение моего далекого раннего детства: голубая вода, голубое небо, низкие зеленые берега и далекий холм, окутанный голубоватой дымкой, — места, где я когда-то жил и где теперь вновь оказался…
Однако видения мои начинали слабеть, расплываться, да и Минки уже стала озираться по сторонам, оглядываясь в сторону дома, так что я неторопливо развернул лодку и поплыл к деревне. Возле «рыбной циновки» уже собирались люди. У меня, правда, имелось всего лишь несколько рыбешек ритта, но Тиссо и ее мать всегда приносили для меня какую-то еду, так что я взял то, что причиталось мне, а также долю Перока и пошел назад в мужскую деревню. Подойдя к дому Перока, который, как всегда, сидел и чинил тонкую сеть, я поставил его порцию на настил и сказал:
— Это от Лали Бету. Могу я задать тебе один вопрос, дядюшка?
— Анх.
— Всю жизнь с раннего детства меня посещают некие странные видения, которые я потом долго вспоминаю. Мне видится то, чего на самом деле я еще никогда не видел, такие места, в которых я никогда не бывал… — Я умолк, а он поднял голову и не сводил с меня мрачноватого взгляда. И я спросил: — Скажи, неужели все жители Болот обладают такой способностью? Это дар богов или проклятие? И есть ли здесь такие люди, которые могли бы объяснить мне, что это такое — мои видения?
— Да, — сказал он. — В деревне Южный Берег. И по-моему, тебе надо туда отправиться.
Перок с трудом встал, спустился со своего настила вниз и пошел вместе со мной в хижину моего дяди Меттера. Дядя обедал, устроившись на настиле; рядом с ним с одной стороны сидела Минки, просительно постукивая хвостом по полу, а с другой — Прют, аккуратно обернув хвостом передние лапки. Меттер вежливо поздоровался с Пероком и предложил ему пообедать с ним вместе, но старик отказался.
— Гэвир Айтана был так добр, что принес мне еду от «рыбной циновки», — сказал он как-то, по-моему, чересчур торжественно. — Всем известно, Меттер Айтана, что в вашем роду было немало великих провидцев. Так ли это?
— Ао, — подтвердил мой дядя, не сводя со старика глаз.
— Вполне возможно, что и Гэвир Айтана тоже обладает такими способностями. Хорошо бы сообщить об этом Хранителям.
— Анх, — согласился дядя, внимательно глядя уже на меня.
— Кстати, сеть твоя будет завтра готова, — совсем другим тоном сообщил ему Перок и захромал обратно к своей хижине.
Я сел рядом с дядей и принялся за свой обед. Мать Тиссо принесла мне отличные рыбные лепешки, завернутые в листья салата и приправленные острейшим соусом из жгучего перца.
— Пожалуй, мне действительно надо съездить в Южный Берег, — сказал мне дядя. — Или, может, лучше сперва с Гегемер поговорить? Но ведь она… Нет, наверное, лучше просто съездить… не знаю.
— Можно и мне с тобой?
Минки тут же просительно застучала хвостом об пол.
— Да, пожалуй, так даже лучше будет, — с облегчением разрешил он мне.
И на следующий день мы с ним поплыли в деревню Южный Берег, где я проходил обряд посвящения. Меттер, похоже, понятия не имел, что нужно делать и к кому обращаться, так что, как только мы туда добрались, я прямиком направился к Большому Дому, где хранились всякие священные вещи и отправлялись различные обряды. Это было самое большое строение из всех, какие я видел на Болотах, с прочными стенами из тростника, в несколько слоев покрытого лаком, — примерно так же здесь мастерят и «военные» каноэ, о чем я уже рассказывал, — и с высокой тростниковой кровлей. На огороженном дворе перед Большим Домом не было совершенно никакой растительности, лишь посредине — небольшой прудик и огромная старая плакучая ива. Сам дом выглядел очень мрачно; казалось, внутри у него царит кромешная темнота, вызывающая священный ужас и смутные воспоминания об обряде инициации. Мы с Меттером туда войти не осмелились и в полном молчании ждали возле пруда, пока во двор кто-нибудь не выйдет. Я-то сперва думал, что мы отыщем в деревне каких-то представителей нашего рода Айтана и спросим у них совета, но мой дядя, видно, не считал это необходимым. Как только из дома показался какой-то человек, он бросился к нему и принялся объяснять, что его племянник, то есть я, обладает способностью видеть странные вещи. Этот незнакомец был одноглазым и в руке держал метлу — он явно вышел, чтобы подмести двор, — так что я попытался остановить Меттера, который продолжал скороговоркой вываливать все человеку, который явно ничего решить не мог и был здесь просто дворником, но Меттер умолк, лишь сказав все, что считал нужным. Человек с метлой кивнул, приосанился и сказал:
— Хорошо. Я все расскажу моему двоюродному брату Дороду Айтане, провидцу с Тростниковых Островов, и он, возможно, определит, годится ли твой племянник для обучения. Видно, сама Энну-Амба направила ваши стопы и привела вас ко мне! Ступайте с миром. Да хранит вас великая Энну-Ме!
— И тебя да хранит Энну-Ме, — с благодарностью откликнулся Меттер. — Идем, Гэвир. Все устроено. — Ему явно не терпелось поскорее уйти подальше от этого страшного дома с темным разверстым входом, так что мы прямиком направились к причалам, сели в лодку, которую охраняла верная Минки, свернувшись клубком на корме, и поплыли домой.
Я не слишком-то поверил хвастливым заверениям того одноглазого. Мне казалось, что если я действительно хочу что-то узнать о природе своих видений, то мне надо действовать самостоятельно.
И, собравшись с мужеством, во время очередного схода у «рыбной циновки» я решительно подошел к своей тетке Гегемер. Я только что обменял неплохой улов ритты на отличного толстого гуся, которого тщательно ощипал и вымыл. Я уже не раз видел, что мужчины, пытаясь завоевать расположение той или иной женщины, как раз и делают подобные подношения, а потому положил гуся перед Гегемер и сказал несколько нахальнее, чем собирался:
— Тетушка, я бы хотел получить от тебя совет и помощь. — Все-таки Гегемер была, безусловно, потрясающей женщиной, к которой просто так подойти и заговорить было невозможно.
Сперва она вообще никак на меня не прореагировала и гуся не взяла. Я прямо-таки чувствовал, как она напряжена и как ей не хочется мне отвечать. Но в конце концов она все-таки взяла мое подношение и кивком указала мне в сторону садов и огородов, где мужчины и женщины часто встречались для бесед. Туда мы с ней и направились в полном молчании; по дороге я все думал, с чего именно мне начать, и, когда она остановилась у рядка старых карликовых вишен и повернулась ко мне лицом, я сразу выпалил:
— Я знаю, тетя, что ты наделена великими способностями. Я знаю, что порой ты можешь видеть наш мир насквозь, видеть его прошлое и будущее и бродить по нему вместе с Энну-Амбой.
К моему великому изумлению, она рассмеялась, чуть удивленно, и довольно язвительным тоном сказала:
— Ха! Вот уж никогда не думала, что услышу это от мужчины!
Это меня озадачило; я заколебался, но все же сумел заставить себя продолжить.
— Я очень мало знаю, — сказал я, — но у меня, по-моему, есть две способности: я могу очень точно запоминать и воспроизводить все то, что когда-либо слышал или видел. К тому же я порой как бы «вспоминаю» то, чего со мной никогда еще не случалось, чего я никогда не слышал и не видел… — Я запнулся и стал ждать, что она скажет.
Она слегка отвернулась, погладила кривоватый шершавый ствол крошечного вишневого деревца и спросила все с той же злой насмешливостью:
— И что же я, женщина, могу сделать для мужчины, обладающего такими способностями?
— Ты можешь объяснить мне, что это такое. Как мне понимать эти видения? Можно ли их как-то использовать? Там, где я раньше жил, в том большом городе, а также в Данеранском лесу, ни у кого больше таких способностей не было. Я думал, что если смогу вернуться к своему народу, то там, возможно, мне объяснят, что к чему. Но по-моему, никто здесь этого не может или не хочет, кроме тебя.
Она совсем от меня отвернулась и довольно долго молчала. Наконец она посмотрела мне прямо в лицо и сказала:
— Я могла бы чему-то научить тебя, Гэвир, если бы ты вырос в родной деревне. — Только сейчас я заметил, как крепко она сжимает губы, чтоб не дрожали. — А теперь слишком поздно. Слишком поздно, Гэвир. Женщина ничему не может научить мужчину. И ты должен был понять это еще там, где жил раньше!
Я ничего не сказал ей в ответ, но она, видно, прочла по моему лицу, что я с нею не согласен и что она причинила мне сильную боль.
— Что же мне еще сказать тебе, сын моей сестры? — горестно воскликнула она. — Ты действительно обладаешь всеми этими способностями. Тано могла пересказать любую историю, которую хоть раз слышала, и повторить слово в слово то, что случайно услышала несколько лет назад. И я действительно могу «бродить по миру вместе с Энну-Амбой», как ты выразился, — что бы это ни значило в моей жизни. Возвращать прошлое с помощью своей памяти — это великий дар. И «помнить» то, чего еще не было, — дар не менее великий. Как этим пользоваться, спрашиваешь ты меня? Я не знаю. И никогда этого не знала. Возможно, это знают мужчины, которые свысока смотрят на женщин и на то, что женщинам «мерещится», считая эти видения бессмысленными и глупыми. Спроси у них! Я же тебе ничего сказать не могу. Но прошу тебя: береги свой второй дар, тот, которым обладала и твоя мать Тано, ибо этот дар, по крайней мере, не сведет тебя с ума!
Она больше на меня не смотрела и глаза то и дело отводила в сторону, но я заметил, как яростно они сверкают, непроницаемые и черные, как у вороны. И голоса наши звучали на удивление похоже.
— Что хорошего в моей памяти, во всех тех историях, которые я помню, если мужчинам не разрешается ни рассказывать их, ни слушать? — сказал я, чувствуя, как мой гнев, с таким трудом сдерживаемый, вновь вскипает и рвется навстречу ее яростному гневу.
— Ничего хорошего, — согласилась она. — Тебе бы следовало родиться женщиной, Гэвир Айтана. Тогда по крайней мере один из тех даров, какими ты обладаешь, возможно, принес бы тебе счастье.
— Но я не женщина, Гегемер Айтано, — с горечью промолвил я.
Она искоса глянула на меня, и выражение ее лица переменилось.
— Нет, — сказала она. — Но пока еще и не совсем мужчина. Хотя вскоре ты им станешь. — Она помолчала, глубоко вздохнула и снова заговорила: — Если хочешь, я дам тебе один совет, хотя вряд ли ты им воспользуешься. Видишь ли, пока ты помнишь себя, с тобой ничего плохого случиться не может. Но как только ты начнешь помнить дальше и шире, ты начнешь терять себя… ты начнешь блуждать в лесу собственных воспоминаний и видений. Не теряй себя, сын Тано Айтано! Держись собственной жизни. Помни себя. Никто не говорил мне, что нужно делать именно так. Никто, кроме меня, не скажет тебе, как именно следует поступать. Что ж, рискни. А я, если когда-нибудь увижу тебя во время своих «прогулок со львом», непременно расскажу тебе, что видела. Иного подарка у меня для тебя, увы, нет. Ответного подарка. — И она, точно поясняя, что имеет в виду, качнула тушкой гуся, держа его за перепончатые красные лапы, потом нахмурилась и ушла.
А поздней весной, когда уже совсем потеплело, я однажды вернулся вместе с Минки и дядей с рыбной ловли и увидел, что на нашем настиле сидят двое незнакомцев. Один из них, высокий, довольно крепкого телосложения, не свойственного рассиу, был одет в длинную узкую рубаху из тончайшей тростниковой ткани, отбеленной так, что она стала почти белоснежной; я решил, что это, должно быть, какой-то жрец или чиновник. Второй человек выглядел совершенно обычно и казался очень молчаливым и застенчивым. Мужчина в длинной рубахе назвался Дородом Айтаной и монотонно перечислил наши с ним сложные родственные связи. Тут Меттер вдруг сказал, что ему надо срочно отнести наш улов к «рыбной циновке», и поспешил убраться восвояси, тем более что этот Дород сказал, что они пришли поговорить именно со мной. Когда он ушел, Дород сказал, покровительственно мне улыбаясь:
— Мне говорили, что ты приходил к нам, в Южный Берег, и меня искал.
— Вполне возможно, просто я этого тогда еще не знал, — ответил я весьма распространенной среди жителей Болот фразой, помогающей им избежать как прямого отрицания, так и излишней ответственности.
— И ты никогда не видел меня в своих видениях?
— По-моему, никогда, — скромно ответил я.
— А между тем пути наши сближались уже довольно давно, — сообщил мне Дород. У него были глубокий сочный голос и весьма впечатляющая манера держаться. — Я знаю, что ты вырос среди чужеземцев и
находишься в нашем краю всего лишь год. Меня известил о том, что ты наконец объявился, один наш сородич из Большого Дома. Ты ищешь учителя? Можешь считать, что уже нашел его. Я же нашел провидца, которого давно искал. А теперь мы с тобой отправимся в мою деревню Тростниковые Острова и как можно скорее начнем занятия. Ибо ты слишком поздно попал в родные края, слишком поздно. Тебе следовало бы уже несколько лет учиться тому, как правильно воспринимать свои видения. Ничего, мы постараемся непременно все наверстать, не теряя больше времени, верно? И если мы очень постараемся, ты уже через год или два войдешь в полную силу, но для этого тебе придется вкладывать в наши занятия всю душу. И тогда твоя вторая инициация станет для тебя не просто посвящением в рыбаки или рубщики тростника. Ты станешь провидцем своего клана! Сейчас в роду Айтана провидца нет. Его нет уже много лет. Так что мы тебя давно ждали, Гэвир Айтана! Ты был очень нам нужен!
Из всего сказанного лишь эти последние слова действительно проникли мне в самое сердце. Разве мог я думать, что кто-то будет ждать моего прихода? Я, украденное у матери дитя, беглый раб, ставший для своего родного народа почти призраком, чувствующий себя повсюду чужим, разве мог я надеяться, что кто-то захочет меня ждать?
— Хорошо, я пойду с тобой, — сказал я Дороду Айтане.
Глава 13
Тростниковые Острова — это самая западная, самая маленькая и самая бедная из пяти деревень края. Ее домишки рассыпаны по островам и островкам залива в юго-западной части огромного озера Ферузи. Дород жил вместе со своим кротким и молчаливым двоюродным братом Темеком на болотистом, со всех сторон окруженном тростником крошечном мысу. В женской деревне женщин было совсем мало, гораздо меньше, чем мужчин в мужской, и эти женщины совсем мне не понравились: они казались какими-то равнодушными и надменными. В общем, в двух деревнях было, наверное, человек сорок, а брачных хижин всего четыре. А когда мужчины и женщины собирались у «рыбной циновки», это отнюдь не походило на те веселые ежевечерние встречи, к каким я привык в деревне Восточное Озеро.
В новой деревне я почти ни с кем так и не познакомился толком, если не считать самого Дорода. Он не давал мне ни минуты покоя, постоянно заставлял чем-то заниматься и старался держать подальше от остальных. Я тосковал по приятному, ни к чему не обязывающему, даже ленивому времяпрепровождению, когда можно было, если хочется, ловить рыбу вместе с дядей или приятелями, гулять, беседуя с Тиссо и другими девушками, или просто наблюдать, как делают лодки. Даже наиболее тяжелая работа — рубка тростника или сбор дикого риса — в деревне Восточное Озеро была временной. В таком неторопливом ритме, который, сознаюсь, порой нагонял на меня жуткую скуку, я прожил целый год и ни разу не почувствовал себя несчастным.
Здесь же мне приходилось каждый день отправляться на рыбную ловлю, и мы часто оставляли половину улова себе, ибо здешние женщины выращивали мало овощей и то количество еды, которое они приносили на обмен, было чересчур скудным. О фруктах нечего было и мечтать. Я, разумеется, мог бы и сам пожарить рыбу или даже приготовить рыбные лепешки с той мукой из грубых зерен, которые женщины мололи вручную, но для здешнего мужчины самостоятельно готовить еду означало вывернуть наизнанку все общественные устои, а меня в таком случае и вовсе тут же сочли бы изгоем. Так что мы с Дородом ели рыбу сырой, как и во время моего плавания с Аммедой, только у нас не было приправы из дикого хрена, чтобы хоть немного скрасить это поднадоевшее блюдо. На птиц здесь никто не охотился; дикие гуси, утки, лебеди и цапли в этой деревне находились под запретом и считались существами священными, Хасса. Маленькие пресноводные улитки, весьма нежные на вкус, которых там было очень много, могли бы несколько разнообразить нашу диету, однако эти улитки время от времени, причем совершенно непредсказуемо, становились ядовитыми. Дород запрещал мне их есть и никогда не ел их сам.
Темек рассказал мне, что предыдущий ученик Дорода, совсем еще мальчишка, три года назад умер, как раз отравившись этими улитками.
Наши отношения с Дородом, надо сказать, не заладились. По природе я совсем не бунтарь, к тому же мне очень хотелось научиться тому, что он мне обещал: понимать свой дар и управлять им. Но пока что я научился лишь гораздо осторожнее и строже относиться к собственной доверчивости. А Дород между тем требовал от меня абсолютного доверия. Он постоянно мною командовал и вообще вел себя как самый настоящий деспот, ожидая от меня молчаливой покорности. Я же, прежде чем что-то сделать, требовал объяснить, зачем это нужно. Он отвечать отказывался. Ну а я отказывался подчиняться.
Так продолжалось примерно с полмесяца. Однажды утром он велел мне целый день стоять на коленях в хижине, закрыв глаза и повторяя слово «эрру». Два дня назад я уже стоял так и сказал ему, что мои колени еще не успели зажить с прошлого раза и трещины на них причиняют мне сильную боль. Он разозлился, заявил, что я должен делать то, что он мне велит, и ушел.
Я понял, что с меня довольно, и решил пешком по берегу вернуться в деревню Восточное Озеро.
Дород, заметив, что я закатываю свои пожитки в старое коричневое одеяло, которое кошка Прют успела здорово разодрать когтями, поскольку очень любила устроиться на моем одеяле и всласть поспать, с некоторой тревогой воскликнул:
— Гэвир, ты не можешь от меня уйти!
— А зачем мне у тебя оставаться, — ответил я, — если ты ничему меня не учишь?
— У каждого провидца должен быть проводник. Именно он истолковывает таинственные видения провидца, это его тяжкое бремя и святая обязанность.
Он часто употреблял подобные выражения и, надо сказать, делал это весьма авторитетно; по-моему, он действительно верил в свою «святую обязанность».
— Но ведь и провидцу нужно понимать, что и зачем он делает, — возразил я. — Во всяком случае, мне это совершенно необходимо. А ты требуешь от меня слепого послушания. С какой стати ясновидцу быть слепым?
— Тот, кому являются видения, обязательно должен иметь проводника, руководителя, — сказал Дород, — ибо он не может сам себя направлять. Ведь он блуждает среди своих видений, не сознавая, живет он сейчас или в далеком прошлом или вообще улетел в грядущие годы. Ты ведь и сам, хотя твои путешествия во времени еще только начинаются, уже успел ощутить это. Никто не может пройти по этому опасному пути без проводника!
— Но моя тетя Гегемер…
— Ох уж эта амбамер! — презрительно фыркнул Дород. — Женщины вечно болтают всякую чушь! Поднимают визг и вой, стоит им мельком увидеть то, чего они совершенно не понимают. Фу! Ясновидец должен быть непременно хорошо обучен и непременно иметь проводника. Только так он сможет в полной мере служить своему народу, стать человеком поистине ценным для всех рассиу. И я могу сделать тебя таким, ибо мне ведомы все тайные приемы и методы этого обучения. Без настоящего проводника любой провидец ничуть не лучше глупой крикливой женщины!
— Ну что ж, возможно, я и не лучше женщины, — обиженно сказал я, — но я уже не ребенок. А ты обращаешься со мной как с ребенком!
Разум Дорода с трудом постигал любую новую идею; он был почти столь же неразвитым и невежественным, как и большинство его сородичей, однако умел слушать и думать; кроме того, он обладал почти сверхъестественной чувствительностью к чужим настроениям. Видимо, мои слова нанесли ему весьма ощутимый удар, потому что он довольно долго молчал, потом наконец спросил:
— Сколько же тебе лет, Гэвир?
— Около семнадцати.
— Ясновидцев начинают учить гораздо раньше, с детства. Мой предыдущий ученик Убек умер, когда ему было двенадцать, а к себе я его взял, когда ему едва исполнилось семь. — Дород говорил медленно, словно о чем-то размышляя. — Ты уже прошел первый обряд посвящения, ты уже почти стал мужчиной. Тебя очень трудно учить. Только ребенка можно заставить полностью подчиняться своему учителю.
— Когда-то в детстве меня даже слишком хорошо научили доверять людям и подчиняться своему учителю! — сказал я с горечью. — Но с тех пор я поумнел, и теперь мне каждый раз хочется знать, кому и почему я должен доверять, кому и почему я должен подчиниться.
И снова он надолго задумался после моих слов.
— Сила твоей души такова, что тебе дано увидеть истину, — наконец изрек он, — именно к этому ты и должен стремиться вместе со своим проводником.
— Но раз я уже не ребенок, почему же я не могу сам стремиться к этому?
— Но кто же истолкует твои видения? — воскликнул Дород, явно изумленный.
— Истолкует мои видения? — с неменьшим удивлением переспросил я.
— Естественно! Я, например, должен научиться читать истину в твоих видениях, чтобы затем донести ее до людей. Такова задача проводника. Разве может ясновидец сам это сделать? — Заметив, что я сильно озадачен, он с воодушевлением продолжал: — Вот ты можешь сразу понять, что именно ты видишь, Гэвир? Ты можешь сказать, что тебе известны промелькнувшие перед твоим мысленным взором лица людей, разные места и времена? Можешь ты сразу истолковать значение увиденного тобою?
— Нет, это возможно, лишь когда увиденное мною становится прошлым, — признался я. — Но как же ты-то можешь понять, в чем смысл того, что вижу я?
— Таков уж мой талант! Если ты — глаза нашего народа, то я — твой голос! Ясновидцу не дано читать и истолковывать собственные видения. Это должен сделать другой человек, специально этому обученный, способный разобраться в хитроумном сплетении каналов и проток, знающий, откуда берут силу корни тростника, где ходит Амба, где пробегает Суа, где пролетает Хасса. Ты научишься видеть и рассказывать мне о том, что видишь. Ведь для тебя твои видения — это тайна, загадка, верно? Ты можешь рассказать только то, что видишь, но не объяснить это. А я, заглянув глубоко внутрь твоих видений глазами Амбы, непременно разгадаю эту загадку, истолкую смысл увиденного тобой и сообщу его людям, дабы они смогли разобраться в той или иной сложной жизненной ситуации. Ты нуждаешься во мне так же сильно, как и я нуждаюсь в тебе. А наши сородичи, весь наш народ нуждается в нас обоих.
— Но откуда же ты знаешь, как… читать мои видения? — Я заколебался, произнося слово «читать», ибо такого слова я до сих пор еще не слышал на Болотах, и здесь оно явно имело совсем не тот смысл, к которому привык я.
Дород слегка усмехнулся.
— А откуда ты знаешь, как можно все это видеть? — спросил он. Он смотрел на меня теперь уже не надменно, а дружелюбно, почти ласково. — Почему человек обладает одним даром, а не другим? Ты не можешь научить меня ясновидению. Я же могу научить тебя тому, как увидеть прошлое и будущее, но не тому, как прочесть свои видения, потому что такого дара у тебя нет. Он есть только у меня. Говорю же тебе, мы нужны друг другу.
— Значит, ты можешь научить меня видеть… то, что я сам захочу?
— А что, как ты думаешь, я все это время пытался сделать?
— Не знаю! Ты же никогда мне ничего не объясняешь. Ты говоришь, что нужно каждый третий день поститься, что нельзя ходить босиком, нельзя спать головой на юг, заставляешь меня стоять на коленях, пока на них дырки не появятся, — ты велишь мне подчиняться сотне правил и запретов, но для чего?
— Ты постишься, чтобы душа твоя стала чистой, избавилась от ненужного груза мыслей, ибо так ей легче странствовать.
— Но меня даже между постами не кормят как следует! Моя душа настолько чиста и легка, что ни о чем другом уже не думает, кроме еды. Что в этом хорошего? — Дород нахмурился и, похоже, почувствовал себя несколько пристыженным. Я воспользовался отвоеванным преимуществом и снова бросился в атаку: — Я ничего не имею против постов, но голодать постоянно я не намерен. И почему я должен все время ходить в обуви?
— Чтобы предохранить ступни от соприкосновения с землей, которая притягивает к себе твою душу.
— Это все суеверия! — пренебрежительно заявил я и, заметив, что он смутился, тут же прибавил: — У меня бывали видения и когда я был обут, и когда разут. И послушанию мне учиться не нужно. Этот урок я уже усвоил. И даже слишком хорошо! Я хочу понять, в чем моя сила, и научиться этой силой пользоваться.
Дород молча склонил голову. Он долго не отвечал мне, потом заговорил — и речь его была суровой, лишенной как высокомерного нетерпения, так и обычной для него напыщенности.
— Если ты будешь поступать, как велю тебе я, то я попытаюсь объяснить тебе, почему у ясновидцев все это происходит. Возможно, это будет правильно: в конце концов, ты ведь действительно уже взрослый, прошедший обряд посвящения мужчина и такие знания тебе вполне по плечу.
Я был чрезвычайно горд собой: я не только не уступил ему в этой схватке, но и добился определенного уважения. Я вернул свои вещи на прежние места и остался у Дорода в его уединенной и, надо сказать, весьма грязной лачуге.
Я вполне понимал, что действительно необходим ему, поскольку его предыдущий ученик умер, унеся с собой в могилу и былую репутацию Дорода как наставника и проводника ясновидцев. Впрочем, думал я, если Дород действительно научит меня всему, что знает сам, то это будет вполне справедливой сделкой.
Ему было непросто лишиться положения властного хозяина, отвечать на мои бесконечные вопросы, объяснять, почему я должен делать то или другое. Дород не был злым по природе; мне кажется, порой ему даже нравилось, что на этот раз ученик у него — не раб, а настоящий последователь его идей и помощник; но он по-прежнему ничего мне не объяснял, если я сам не спрашивал.
Все, что он мог или хотел передать мне из своих знаний, например ритуальные песни и сакральные мифы, я запоминал мгновенно. Наконец-то я узнал кое-что о тех богах и духах, которым поклоняются рассиу, об их песнях и преданиях, тем самым как бы отыскав путь к сердцу этого народа.
Итак, дар быстрой памяти меня не покинул, хотя я долгое время совсем им не пользовался, и в этом отношении мои успехи были для Дорода столь поразительны, что однажды он рассмеялся и сказал — после того, как я слово в слово повторил ему один только раз рассказанный им сакральный миф:
— Этот миф я целый месяц пытался вбить Убеку в голову, но он так и не сумел его запомнить хотя бы наполовину! А ты с одного раза наизусть запомнил!
— В этом заключена половина моих врожденных способностей; к тому же именно этому меня учили, когда я был рабом, — сказал я.
А вот моя способность к ясновидению, похоже, совсем заглохла под упорными попытками Дорода ее развить и закрепить. Я прожил у него месяц, потом еще месяц, но у меня ни разу так и не возникло тех видений, которые можно было бы назвать «воспоминаниями о будущем». Я стал проявлять нетерпение; Дород, напротив, казался совершенно невозмутимым.
Сутью того, чему он меня учил, было, по его выражению, «ожидание льва». Мне полагалось сидеть тихо, почти не дыша, выбросив из головы все мысли о том, что меня окружает, и погрузиться в некую «внутреннюю тишину». Сделать это оказалось очень трудно. Даже колени мои наконец привыкли к неподвижности, но разум привыкать к ней явно не собирался.
Дород требовал, чтобы я непременно в мельчайших подробностях рассказывал ему о каждом видении, какое у меня когда-либо было. Сперва это давалось мне с огромным трудом. Сэлло сидела рядом со мной и шептала: «Только никому об этом не рассказывай, Гэв!» Всю жизнь я слушался этого совета. И теперь вынужден был нарушить ее запрет, чтобы выполнить желания какого-то странного и совершенно чужого мне человека. Я сопротивлялся, не желая открывать ему душу. И все же только Дород мог, как мне казалось, научить меня всему необходимому, а потому я заставлял себя говорить — с трудом, с остановками, неполно описывая свои прежние видения-воспоминания. Терпение Дорода было поистине безгранично, и мало-помалу он вытащил из меня все; я рассказал ему о снегопаде в Этре, о нападении войск Казикара, о тех городах, где я «бродил», о том незнакомом человеке в комнате, полной книг, о той пещере с каменным сводом, о той ужасной танцующей фигуре, которая привиделась мне снова во время обряда посвящения, и даже о самом простом, самом первом своем видении — о голубой воде, тростниках и далекой горе, окутанной дымкой. Он заставлял меня снова и снова повторять эти рассказы.
— Итак, расскажи мне об этом еще раз, — говорил он. — Значит, ты плывешь на лодке и…
— Что ж тут еще рассказывать? Ну, я плыву на лодке и вижу Болота. В точности такие, какие они и есть на самом деле. Наверное, именно такими я и видел их еще младенцем, до того как меня украли. Голубая вода, зеленые тростники, синий холм вдалеке…
— На западе?
— Нет, на юге.
Откуда мне было известно, что этот холм на юге?
И каждый раз он слушал меня с одинаковым вниманием, часто задавая вопросы, но никогда никаких комментариев не делал. И красноречие мое явно не имело для него никакого значения, хотя я всегда старался как можно живее описать те города, которые «видел», или ту комнату, полную книг, или того незнакомого человека, что обернулся ко мне и назвал меня по имени. Дород никогда в жизни в городе не был. Он пользовался словом «читать», но читать не умел и ни одной книги никогда в жизни не видел. Я принес на занятия маленький томик «Космологий», завернутый в шелковистую ткань, чтобы показать ему, что такое печатное слово. Он взглянул, но ни малейшей заинтересованности не проявил. Он не спрашивал ни о реалиях, ни о значении того или иного понятия и требовал лишь четкого и максимально подробного описания увиденного мною. Для чего это было ему нужно, я так и не узнал, потому что об этом он так и не сказал мне ни слова.
Меня очень интересовали другие ясновидцы и их проводники. Я спрашивал Дорода, кто еще на берегах озера Ферузи обладает таким же даром, и он назвал мне два имени: один человек был из деревни Южный Берег, а второй из Срединной деревни. Я спросил, нельзя ли мне поговорить с кем-то из них. Он с любопытством посмотрел на меня:
— А зачем?
— Ну, просто поговорить… спросить, как это бывает у него — так же как у меня или…
Дород покачал головой.
— Они с тобой разговаривать не станут. Они говорят о своих видениях только с проводником.
Я настаивал. И он сказал:
— Гэвир, это святые люди. Они живут в полном уединении, поглощенные только своими видениями. Разговаривать с ними разрешается исключительно их проводникам, а с другими людьми они не общаются. И даже если бы ты уже стал настоящим ясновидцем, тебе все равно не позволили бы с ними повидаться.
— Так что же, и мне такая жизнь предстоит? — ужаснулся я. — Значит, и я буду жить в полном уединении, ни с кем не общаясь и существуя исключительно внутри собственных видений?
По-моему, Дород почувствовал охвативший меня ужас и, немного поколебавшись, сказал:
— Ты другой. Ты начинал по-другому. Я не могу заранее сказать, как сложится твоя жизнь.
— А что, если у меня больше и не будет никаких видений? Что, если я, придя к своим истокам, вернувшись к своему народу, положил тем самым конец своим болезненным видениям?
— Ты боишься, мальчик, — неожиданно мягко сказал Дород. — Да, это тяжело — сознавать, что лев идет прямо к тебе. Но не бойся. Я всегда буду с тобой.
— Но не там, — сказал я.
— Нет, и там тоже. А теперь ступай на настил и жди прихода льва.
Я подчинился; мне вдруг все стало совершенно безразлично. Я опустился на колени на настиле, нависавшем над илистым дном и самым краем каменистого берега, и стал смотреть на раскинувшееся передо мной озеро и спокойное серое небо, стараясь дышать ровно, как учил меня Дород, и полностью сосредоточиться на мыслях о льве. И вдруг осознал, точнее, почувствовал, что черная львица действительно приближается ко мне сзади, но даже не обернулся, ибо, если я и боялся чего-то прежде, в эту минуту страх мой полностью испарился. Я то оказывался в каком-то крошечном садике, полном цветов, то шел ночью по вымощенной булыжником улице, и шел дождь, и ветер швырял дождевые струи на высокую красную стену напротив меня, и я видел эти струи в слабом свете, падавшем из окошка. То я вдруг попадал в залитый солнечным светом внутренний дворик какого-то хорошо знакомого мне дома, и юная девушка с улыбкой выходила мне навстречу, и я испытывал огромную радость, глядя на нее. То я оказывался посреди какой-то бурной реки, и течение чуть не сбивало меня с ног, а на плечах у меня была тяжелая ноша, настолько тяжелая, что я едва не падал под бешеным напором воды; а песок у меня под ногами на дне расползался, и сохранить равновесие было невероятно трудно, и я споткнулся, сделал шаг вперед и… увидел, что по-прежнему стою на коленях в нашей хижине на мысу. На небе догорал закат, и последняя стая диких уток пролетела на фоне красноватых небес. Я ощутил у себя на плече руку Дорода.
— Идем в дом, — тихо сказал он мне. — Ты проделал долгое путешествие.
В тот вечер он был молчалив и ласков. Он ничего не спрашивал о том, что я видел. Лишь удостоверился, что я поел как следует, и отправил меня спать.
В течение всех последующих дней я мало-помалу пересказывал ему свои видения, повторяя их снова и снова. Он знал, как вытащить из меня любые сведения об увиденном, даже такие мелочи, вспоминать которые мне бы и в голову не пришло. Мне казалось, что я ничего такого даже и не заметил, и я вспоминал это, лишь когда он в очередной раз заставлял меня пересказать свое видение с самого начала, в мельчайших подробностях, словно я смотрю на висящую передо мной картину. При этом я чувствовал, как две разновидности моей памяти как бы соединяются воедино.
В последующие дни я еще несколько раз «путешествовал», как это называл сам Дород, и каждый раз мне казалось, что передо мной открыта некая дверь, в которую я могу пройти — но не по собственному желанию, а по воле той львицы.
— И все-таки я не понимаю, чем эти видения могут быть полезны для моих сородичей, как ими вообще можно руководствоваться, — сказал я как-то вечером Дороду. — Мне ведь почти всегда видятся иные места, иные времена, и ничто в этих видениях не связано с Болотами, так какой же в них прок?
Мы с ним ловили рыбу, отплыв подальше от берега. В последнее время наш улов был весьма жалок, и обмен у «рыбной циновки» тоже оказывался соответствующим: еды, которую давали нам женщины, явно не хватало. Вот мы и решили забросить вершу и некоторое время дрейфовали поблизости, прежде чем ее вытянуть.
— Пока ты еще путешествуешь, как ребенок, — сказал Дород.
— Что значит «как ребенок»? — тут же взвился я.
— Ребенок способен видеть лишь собственными глазами. Он видит то, что находится непосредственно перед ним, — в том числе и те места, где он впоследствии окажется. По мере того как он, взрослея, учится путешествовать правильно, он учится видеть гораздо шире — видеть то, что способны увидеть и глаза других людей, те места, куда эти другие люди придут впоследствии. Он бывает там, где никогда сам — во плоти, — скорее всего, и не окажется. Весь наш мир, все времена открыты взору ясновидца. Он ходит повсюду вместе с Амбой, летает повсюду вместе с Хассой, странствует по всем рекам и морям вместе с Повелителем Вод. — Дород произносил эти поэтические фразы деловито, каким-то суховатым тоном, а потом, окинув меня проницательным взглядом, прибавил: — Ты слишком долгое время оставался необученным и слишком поздно начал, а потому до сих пор и видишь все как бы глазами ребенка. Но я могу научить тебя совершать и более значительные путешествия. Только ты должен полностью доверять мне, иначе ничего не получится.
— Значит, я тебе не доверяю?
— Пока нет, — спокойно ответил он.
Моя тетка, помнится, тоже говорила что-то в этом роде: мол, я никогда не иду дальше воспоминаний о самом себе. Я мог бы и в точности вспомнить ее слова, но рыться в памяти мне не захотелось. Я и так понимал: Дород прав, и если я намерен чему-то у него научиться, то должен вести себя так, как этого требует он.
Мы вытянули вершу, и на этот раз нам повезло. На «рыбную циновку» мы принесли двух здоровенных карпов. На мой взгляд, карп — рыба так себе, довольно костистая и пахнет илом, но женщины из деревни Тростниковые Острова ужасно карпов любили, и нам в тот вечер достался отличный обед.
Когда мы поели, я спросил Дорода:
— Скажи, как же все-таки ты станешь учить меня видеть глазами взрослого, а не ребенка?
Он довольно долго не отвечал, потом сказал:
— Прежде всего, ты должен быть к этому готов.
— И что для этого нужно?
— Послушание и доверие.
— Неужели я не проявляю должного послушания?
— В душе — нет, не проявляешь.
— Откуда ты знаешь?
Он лишь молча посмотрел на меня, и в его взгляде я прочел презрение и жалость.
— Так скажи же, что я должен сделать? Как мне доказать, что я тебе полностью доверяю? — воскликнул я.
— Ты должен проявить послушание.
— Хорошо, ты только скажи, что надо делать, и я все сделаю.
Я очень не любил эти словесные перепалки; мне совсем не хотелось с ним спорить, зато ему, видимо, именно этого и хотелось. И, добившись своего, он заговорил со мной совершенно иначе, очень серьезно:
— Тебе вовсе не обязательно идти дальше, Гэвир. Путь ясновидца — тяжкий путь. Тяжкий и страшный. Я, конечно же, всегда буду с тобой, но ведь путешествия совершаешь именно ты. А я могу проводить тебя лишь к началу пути, но не могу за тобой последовать. Тут важна только твоя собственная воля, только твоя смелость; и только твои глаза действительно способны видеть. Если же тебе вовсе не хочется совершать великие путешествия, оставим все как есть. Я тебя заставлять не стану — это не в моих силах. И ты можешь хоть завтра уйти от меня и вернуться в деревню Восточное Озеро. Твои детские видения еще будут порой к тебе возвращаться, но постепенно станут слабеть и вскоре совсем прекратятся, ибо ты утратишь способность заглядывать в прошлое и будущее. А после этого ты станешь жить как обычный человек. Если, конечно, ты именно этого и хочешь.
Весьма смущенный его словами, я растерялся, но, чувствуя в них некий вызов, все же сказал:
— Нет. Я же говорил, что хочу узнать, в чем моя сила.
— Хорошо. Ты это узнаешь, — сказал он с тихим торжеством.
И с этого вечера Дород стал обращаться со мной и мягче, и одновременно требовательнее. Я же решил полностью ему подчиниться, не задавать лишних вопросов и постараться действительно выяснить, в чем моя сила и насколько она велика. Дород снова потребовал, чтобы я каждый третий день постился, и очень строго следил за тем, что я ем, не позволяя мне употреблять в пищу ни молока, ни зерна. Зато прибавил к моему рациону некоторые другие вещи, которые называл «священными»: яйца уток и некоторых других диких птиц, коренья шардиссу, а также эду, мелкие грибочки, что растут обычно в ивовых рощицах; все эти продукты нужно было есть сырыми, и Дород очень много времени тратил на то, чтобы их раздобыть. Шардиссу и эда были просто отвратительны на вкус и вызывали у меня тошноту и головокружение, но, к счастью, съесть их нужно было совсем чуть-чуть.
Через несколько дней, употребляя в пищу всю эту дрянь и по многу часов проводя на коленях, я почувствовал и в теле, и в мыслях странную легкость, похожую на ощущение свободного полета. Преклонив колени у нас на настиле, я должен был без конца повторять: «Хасса, Хасса», и вскоре мне стало казаться, что при этом я поднимаюсь в воздух, словно за спиной у меня крылья дикого гуся или лебедя.
Стоя на коленях, я словно летел над болотным краем, видел под собой воду и плывущие по ней тени облаков, видел деревни на берегах озер и рыбацкие лодки, видел лица детей, женщин, мужчин. Потом вдруг я оказывался в какой-то большой реке, пытаясь преодолеть ее с тяжкой ношей на плечах, согнутый в три погибели, совершенно измученный, потом сбрасывал эту ношу и вновь обретал крылья, на этот раз крылья цапли, а потом снова летел, летел… И приземлялся на наш настил, испытывая тошноту и озноб, чувствуя, как затекло все тело, как сводит от боли колени, как сильно болит живот. В голове, казалось, не было ни одной мысли, я ничего не соображал.
Дород помогал мне встать, заботливо провожал меня внутрь и усаживал возле маленького очага, в котором горел огонь, ибо уже близилась зима. Огонь здесь, как и в деревне Восточное Озеро, разводили в глиняном горшке с решеткой. Дород утешал меня, хвалил и кормил прозрачными ломтиками сырой рыбы, овощами, взбитыми яйцами и неизменно совал на закуску корешок распроклятого шардиссу и полную кружку воды, чтобы поскорее избавиться от мерзкого вкуса во рту.
— А она поила меня молоком, — говорил я, вспоминая ту хозяйку гостиницы у самой границы болотного края и мечтая вновь ощутить дивный вкус молока. И всю ночь меня окружали воспоминания, они оставались со мной до утра. Я лежал в хижине Дорода, и одновременно сидел подле моей сестры в классной комнате Аркаманта, и видел, как страшная буря разрушает деревню Херру, срывая крыши и разметывая стены из плетеных циновок, и слышал в кромешной тьме пронзительные крики людей и грозное завывание ветра…
А потом меня стало жутко тошнить; меня прямо-таки выворачивало наизнанку, и я, перевернувшись на живот, выплевывал все это прямо в прибрежный ил, корчась от боли в животе и легких. А Дород, опустившись рядом на колени, гладил меня по спине и говорил, что все в порядке, что все это скоро пройдет и я снова смогу спать спокойно и видеть разные сны. И через какое-то время я действительно засыпал, и во сне ко мне являлись видения. И, проснувшись, я вспоминал то, чего никогда прежде не знал. А Дород просил меня рассказать о том, что я видел, и я начинал рассказывать, но на меня наплывали новые видения, и Дород исчезал вместе с хижиной, и сам я тоже исчезал, блуждая среди незнакомых людей и мест и зная, что никогда потом не смогу ни узнать их, ни вспомнить. Я буду просто лежать в темной хижине, терзаемый тошнотой, болью и головокружением, так что даже сесть не смогу, и Дород снова придет, даст мне воды, заставит меня поесть немного, поговорит со мной, пытаясь и меня разговорить, и скажет:
— Ты очень храбрый, мой Гэвир! Ты непременно станешь великим ясновидцем! — И после таких слов я льнул к нему, ибо только его лицо было единственной реальностью и не казалось мне ни сном, ни видением, ни воспоминанием; только его рука была настоящей, и я мог ее сжать, держаться за нее, за руку моего единственного проводника, моего спасителя… Того, кто завел меня в тупик, кто предал и обманул меня.
Но в путанице снов и видений передо мной вдруг явилось лицо той, кого я сразу узнал. И голос ее я тоже узнал. Но разве не узнавал я и все прочие лица и голоса? Я же помнил всё, всё! И Куга склонялся надо мной. И Хоуби шел на меня по коридору. Но она — она действительно была рядом со мной. И я узнал ее, я произнес ее имя вслух:
— Гегемер.
Ее воронье лицо, как всегда, было суровым, а черные, вороньи глаза, как всегда, смотрели остро, проницательно.
— Племянник, — сказала она, — помнишь, я обещала тебе, что если увижу тебя в своих видениях, то непременно сообщу тебе об этом?
Я помнил. Да, она говорила мне об этом когда-то раньше, давно. Все это вообще происходило давно. И я все помнил только потому, что это случалось со мной уже сотни раз. И лежал я сейчас потому, что долгое путешествие слишком утомило меня, у меня даже сесть сил не хватало. Рядом, скрестив ноги, сидел Дород. Хижина, погруженная во мрак, казалась какой-то странно уменьшившейся. И тетка моя, разумеется, никак не могла в ней находиться: это же мужская хижина, а она женщина! Оказывается, она опустилась на колени у порога, не входя внутрь, и оттуда смотрела на меня, и говорила мне своим резким голосом:
— Я видела, как ты идешь вброд через реку и несешь на руках дитя. Ты хорошо понимаешь меня, Гэвир Айтана? Я видела тот путь, которым тебе предстоит пойти! Если ты как следует посмотришь, то и сам его увидишь. Это была уже вторая река, которую ты непременно должен был преодолеть, ибо только тогда оказался бы в безопасности. На том берегу первой реки тебя подстерегала опасность. А на том берегу второй ты окажешься в полной безопасности. Когда ты переберешься через первую реку, смерть будет преследовать тебя по пятам. Однако, перебравшись через вторую реку, ты начнешь новую жизнь. Ты хорошо меня понимаешь, Гэвир? Ты слышишь меня, сын моей сестры?
— Возьми меня с собой, — прошептал я. — Возьми!
И не увидел, а скорее почувствовал, как Дород пытается встать между нами.
— Ты давал ему эду! — возмущенно сказала ему Гегемер. — Чем еще ты травил мальчика?
Я умудрился сесть, потом встал и, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, побрел к двери. Дород преградил мне путь, и я умоляюще крикнул, глядя Гегемер прямо в глаза:
— Возьми меня с собой!
И она, поймав мою протянутую руку, с силой потянула меня к себе, вытаскивая из этого дома. Видя, что я едва держусь на ногах, она обняла меня и, бережно поддерживая, сказала Дороду, дико на него глянув, точно ворона на коршуна, пытающегося ограбить ее гнездо:
— Неужели тебе мало жизни одного ребенка? Отдай мне вещи Гэвира. Пусть мальчик уйдет со мной. А если ты станешь нам препятствовать, я опозорю тебя перед старейшинами Айтаны, перед всеми женщинами твоей деревни, и твой позор никогда не будет забыт сородичами!
— Он станет великим ясновидцем, — сказал Дород; его трясло от гнева, однако он не сделал ни шагу, чтобы помешать нам. — Он станет могущественным человеком. Только позволь ему остаться со мной. Я больше никогда не дам ему эду.
— Гэвир, — сказала Гегемер, — выбирай сам.
Я не очень-то понимал, о чем они говорят, и лишь повторил:
— Возьми меня с собой.
Она кивнула и велела Дороду:
— Отдай мне его вещи.
Дород отвернулся. Затем сходил в дом и вынес оттуда мой нож, мои рыболовные снасти, книгу, завернутую в тростниковую ткань, и рваное коричневое одеяло. Все это он положил на настил у дверей. Он, не скрываясь, плакал в голос, и слезы ручьем текли у него по щекам.
— Пусть всю жизнь тебя преследует только зло, мерзкая женщина! — выкрикнул он. — Дрянь! Мерзавка! Ты же ничего не знаешь! Ты понятия не имеешь, как надо обращаться со священными предметами! Ты только все пачкаешь своими прикосновениями, мерзкая тварь! Ты осквернила мой дом!
Гегемер ничего ему не ответила; она помогла мне собрать пожитки и спуститься с настила, все время меня поддерживая. Затем мы пошли к причалу, где была привязана ее лодка, женская лодочка, легкая как листок. Я с трудом перелез через борт и, весь дрожа, скорчился на дне. А над берегом гремел голос Дорода, проклинавшего Гегемер и обзывавшего ее всеми теми гнусными словами, какими мужчины обычно поносят женщин. Когда же моя тетка отвязала веревку, собираясь отплыть от причала, он прямо-таки взвыл от гнева и огорчения:
— Гэвир! Гэвир!
Но я лишь еще ниже пригнул голову и закрыл ее руками, прячась от него. Потом стало тихо, и я понял, что мы уже далеко от берега. Шел небольшой дождик. Я по-прежнему чувствовал себя настолько слабым, что даже голову поднять был не в силах. Я сильно замерз, меня все время тошнило, и я лежал без движения, скорчившись и привалившись спиной к лодочной скамье. Видения так и кружили у меня перед глазами — лица, голоса, города, холмы, дороги, небеса, — и я снова отправился в бесконечные странствия.
Для Гегемер явиться в дом Дорода и стоять на пороге его жилища было нарушением всех мыслимых правил; она действительно преступила допустимые границы, и едва ли это можно было оправдать срочностью тех сведений, которые она хотела мне передать. Однако она все же не решилась привести меня в женскую деревню Восточное Озеро, как не решилась и сама войти в мужскую деревню. Она отвела меня в свободную брачную хижину, находившуюся на «нейтральной территории» между деревнями, постаралась устроить меня там поудобнее и ушла, но раза два в день обязательно приходила меня проведать. Здесь это считалось делом самым обычным, — если кто-то из мужчин серьезно заболевал, его почти всегда помещали в свободную хижину, чтобы его жена или сестра могла о нем позаботиться или просто его навестить.
Я лежал в этом крошечном, хрупком домике со стенами из циновок, и ветер продувал его насквозь, а по крыше неумолчно стучал дождь, и капли дождя просачивались внутрь сквозь пучки тростника. Я трясся от холода и то начинал бредить, то впадал в ступор. Не знаю, как долго Дород кормил меня ядовитыми грибами и кореньями и как долго длилось мое выздоровление, но я уехал с ним еще летом, а когда наконец начал понемногу приходить в себя, уже снова наступала весна. Я чудовищно исхудал и ослабел, руки мои стали похожи на узловатые стебли тростника. А когда я попытался ходить, то у меня перехватило дыхание и сильно закружилась голова. Да и прежний аппетит ко мне вернулся не скоро.
Моя тетка кое-что рассказала мне о тех вещах, которыми кормил меня Дород, пытаясь отправить «в большое путешествие». Она говорила об этом с ненавистью, с презрением.
— Я тоже принимала эду, — призналась она, — когда решила во что бы то ни стало узнать, куда исчезла твоя мать и моя сестра. Я тоже покорно слушала то, что говорили мне эти «проводники», эти «мудрые» мужчины из Большого Дома — чтоб им собственными словами подавиться, чтоб им грязь есть и утонуть в зыбучих песках! «Принимай эду, — говорили они, — и тело твое станет легким, а мысли свободными, ты полетишь, куда захочешь!» Да, мысли после этого действительно «летят», это верно, только за эти «полеты» живот расплачивается, да и разум тоже. А я, редкостная дура, глотала эту дрянь, но мать твою, разумеется, так и не нашла, зато проболела месяца два. И ведь я всего раза два эти проклятые грибочки ела! Сколько же он тебе-то их скормил? Как часто он их тебе давал, а? А желчный корень, шардиссу, я хорошо знаю; от него сильно кружится голова, а сердце начинает стучать как молот и дыхания словно не хватает. Сама я его никогда не принимала, но знаю, что его часто используют знахари. Но у этих мужчин — у этих глупцов! — все подряд называется «священной медициной»! Я-то знаю, что они под видом этой «медицины» друг с другом делают! — Гегемер зашипела, как кошка, и повторила: — Глупцы! Все глупцы — и мужчины, и женщины. Все мы глупцы.
Я сидел на пороге хижины, а она рядом, на плетеной скамеечке, которую принесла с собой; женщины на Болотах плетут из тростника замечательные складные сиденья, очень легкие, переносные, на которые всегда можно где угодно присесть. Земля была еще влажной после недавнего дождя, но небо светилось бледной голубизной, и солнце пригревало уже совсем по-весеннему.
Нам с ней оказалось очень легко друг с другом. Я отлично понимал, что она спасла мне жизнь, и она это знала. И по-моему, именно поэтому постепенно перестала так мучить себя, упрекая за то, что отпустила мою мать навстречу смерти. Гегемер была человеком непростым, очень резким, обладавшим бешеным нравом, однако во время моей болезни она заботилась обо мне с невероятным терпением, даже с нежностью. Часто мы с ней не понимали друг друга, но даже это не имело значения, ибо между нами существовало некое высшее понимание, для которого не нужны слова; оно основано на сходстве душ, которое сильнее всех различий и разногласий. Но одно мы оба знали твердо, хоть никогда об этом и не говорили: что, поправившись, я непременно покину Болота.
Я-то уходить не спешил, зато спешила она. Ведь это она видела, как я иду на север, а смерть преследует меня по пятам. Я должен был уйти. Я должен был перебраться через ту, вторую реку и обрести спасение. И уходить мне надо было как можно скорее. Наконец Гегемер не выдержала и сказала мне об этом прямо.
— Но какая разница, как скоро я отсюда уйду, — возразил я, — ведь смерть все равно от меня не отстанет.
— Энг, энг, энг! — нахмурилась она, яростно тряся головой. — Если ты будешь слишком долго откладывать, смерть придет за тобой прямо сюда!
— Ну и ладно, тогда я останусь здесь и дождусь ее, — сказал я, пытаясь шуткой смягчить ее тревогу. — С какой стати мне покидать своих сородичей и самому идти навстречу смерти? Мне нравятся здешние люди, мне все здесь нравится. И рыбу я очень люблю ловить…
Разумеется, я просто дразнил ее, и она это понимала. Она, в общем, не возражала против подобных шуток, но все же она видела то, чего не видел я. И не могла относиться к этому столь же легкомысленно.
Кстати, среди множества бессмысленных, бесконечных видений, роившихся в моем мозгу, пока я жил у Дорода и в первое время после возвращения в родную деревню, было одно, которое я запомнил особенно хорошо. Я стою посреди реки, по пояс в воде, и сильное течение так и тащит меня, пытаясь сбить с ног, а на спине у меня какой-то тяжелый груз, из-за которого я то и дело теряю равновесие. Я делаю шаг, надеясь добраться до берега, и тут же понимаю, что это был ошибочный шаг — песок под ногами плывет, я теряю опору, но не вижу, куда же мне идти, столь широка река, столь быстры ее воды. Потом я все же делаю шаг вправо, еще один и еще — и следую в этом направлении дальше, словно ощущая под ногами некую невидимую подводную тропу, которая ведет меня и помогает сопротивляться яростному течению. И это все; больше я ничего не помнил.
Это видение снова вернулось ко мне, когда я начал поправляться. Видимо, оно было одним из последних, связанных с моим отравлением снадобьями Дорода. Я рассказал о нем Гегемер, когда она пришла навестить меня, и она, слушая меня, морщилась, как от боли, и вздрагивала, а потом прошептала:
— Это же та самая река!
Я тоже вздрогнул, когда она это сказала.
— Я видела тебя там, — продолжала она. — А на плечах ты несешь ребенка. — Она умолкла и довольно долго молчала, потом наконец снова заговорила: — Ты спасешься, сын моей сестры! Ты доберешься до безопасных мест! — Голос ее показался мне каким-то чересчур тихим, хрипловатым, но говорила она с такой страстью, что я воспринял эти ее слова не как пророчество, а как ее личное желание непременно спасти меня от чего-то.
Я уже понимал тогда, что действительно поступил очень глупо, уехав с Дородом. Бедняга Дород! Он так долго ждал нового ученика, так хотел удержать меня при себе — правда, исключительно в своих корыстных целях, мечтая стать самым важным человеком среди своих сородичей, проводником ясновидящего, человеком, определяющим судьбу других, а потому обладающим невероятной властью. Я повернулся спиной к Гегемер, которая, возможно даже сама этого не сознавая, действительно все это время ждала меня, действительно хотела, чтобы я был рядом, — и не для того, чтобы я сделал ее
великой, а ради любви.
Я достаточно поправился, чтобы к апрелю вернуться в дом моего дяди, но был еще не совсем здоров, чтобы отправиться в дальние края. В последний день моего пребывания в брачной хижине Гегемер зашла навестить меня и попрощаться. Мы сидели на солнышке перед хижиной, и я сказал:
— Сестра моей матери, дорогая моя тетя, могу ли я рассказать тебе о моей сестре?
— Сэлло, — прошептала она имя девочки, своей племянницы, которую украли в возрасте двух или трех лет.
— Сэл всегда была моей опорой, моей защитницей. Она всегда была очень храброй, — сказал я. — Она совершенно не помнила Великих Болот, ей почти ничего не было известно о наших сородичах, однако она знала, что мы, болотные люди, обладаем такими способностями, каких нет больше ни у кого. И она очень просила меня никогда никому не рассказывать о своих видениях. Сэлло была очень мудрой. И прекрасной. Здесь нет ни одной девушки, которую можно было бы с нею сравнить, которая была бы такой же красивой, такой же доброй, любящей и преданной! — Я видел, как внимательно слушает меня тетка, и все говорил, говорил, говорил, пытаясь рассказать ей, как выглядела Сэл, как она говорила и что для меня значила. Увы, на это не потребовалось слишком много времени. Невозможно рассказать о человеке все. Да и прожила Сэлло слишком мало, чтобы история о ней была такой уж длинной. Ведь сейчас даже мне было больше лет, чем ей, когда…
Я умолк; меня душили слезы. И Гегемер сказала:
— Твоя сестра была похожа на мою сестру. — И ласково накрыла своей смуглой рукой мою смуглую руку, и несколько мгновений мы сидели молча.
А потом я снова собрал свои немудреные пожитки — одеяло, рыболовные снасти, нож, книгу — и отправился назад, в мужскую деревню, в дом дяди. Меттер приветствовал меня с добродушным спокойствием. Кошка Прют тоже вышла мне навстречу, виляя хвостом, и, как только я расстелил на лежанке свое старое одеяло, вспрыгнула туда и принялась деловито его скрести, громко при этом мурлыча. А вот старая Минки меня не встречала. Оказалось, она умерла еще зимой, как печально сообщил мне об этом Меттер. И старый Перок тоже умер, один в своем домике. Меттер зашел туда как-то утром, чтобы отдать ему в починку сеть, и нашел его; он сидел, согнувшись, над остывшим очагом, но работу из помертвевших рук так и не выпустил.
— А у Равы щенки родились, целый выводок, — сообщил через некоторое время Меттер. — Если хочешь, завтра сходим посмотрим.
Мы сходили к Раве и выбрали себе замечательного крупного, ясноглазого щенка, курчавого, как ягненок. Меттер назвал собачку Бо и в тот же день взял с собой на рыбалку. Стоило ему оттолкнуться от причала, как малыш прыгнул в воду и принялся, шлепая лапами, плавать вокруг лодки. Меттер выудил его из воды и стал что-то сурово ему внушать, но щенок только радостно помахивал хвостом и явно ничуть не раскаивался. Мне очень хотелось поехать вместе с ними, но для рыбалки я пока еще был слабоват; после прогулки до хижины Равы и обратно я совершенно обессилел, стал задыхаться, и меня еще долго бил озноб. Чтобы согреться, я уселся на настиле в солнечное пятно и стал смотреть, как крошечный, похожий на крылышки бабочки парус Меттера становится все меньше, тая в голубой озерной дали. Было хорошо вновь почувствовать себя дома. Да эта хижина и была, по-моему, единственным настоящим моим домом. Во всяком случае, куда более моим, чем что бы то ни было другое.
И все-таки этот дом моим не был. И мне не хотелось прожить здесь всю жизнь. Теперь это стало мне совершенно ясно. Да, я родился с двумя талантами, двумя способностями. Одна из них была, если можно так выразиться, здешняя; она была издавна известна людям Болот, они умели ее развивать и использовать. Но я не сумел ни развить ее, ни научиться ею пользоваться. Мое обучение потерпело крах — то ли из-за невежества и нетерпеливости моего учителя, то ли из-за того, что мои способности к ясновидению были на самом деле не столь уж велики. Возможно, это был просто дар природы, довольно распространенный у представителей моей расы и дающий возможность иногда заглянуть как бы немного вперед, предвосхитить ближайшие события. Это был так называемый детский дар, который нельзя развить, на который нельзя рассчитывать взрослому и который с возрастом у всех постепенно слабеет.
А другая моя способность, хотя и вполне надежная, оказалась здесь совершенно бесполезной. Рассиу не видели проку в том, что у человека голова забита всякими историями. История и поэзия были им не нужны. Чем меньше мужчина рассиу говорит, считали здесь, тем больше он достоин уважения. А истории пусть рассказывают женщины и дети. Пение же песен и вовсе было окутано тайной; песни исполнялись только во время священнодействий, например во время страшноватого обряда инициации. Слово не было определяющим в жизни этого народа. Для них куда важнее было предвидение и настоящий момент вполне реальной жизни. А те знания, что я почерпнул из книг, оказались здесь ни к чему. Неужели, думал я, и мне надо все это забыть, предав собственную память, отказавшись от развития своего разума, своей души? Неужели нужно позволить себе со временем соображать и запоминать все хуже и хуже?
Те люди, что украли меня у моих сородичей, и моих сородичей тоже украли — только уже у меня. И я чувствовал, что теперь мне никогда не стать одним из рассиу, не стать истинным представителем этого народа.
А значит, я не смогу и увидеть, по какому пути мне следует идти дальше.
И главное, куда идти.
На север, сказала Гегемер. Она видела меня идущим на север, в дальние края, за две больших реки. Скорее всего, она имела в виду реки Сомулане и Сенсали. Азион находится к северо-западу от Сомулане, в Бендайле; а Месун — на северном берегу Сенсали, в Урдайле. В Месуне есть большой университет. Там живут многие ученые и поэты. Там живет поэт Оррек Каспро.
Я встал и пошел в нашу маленькую хижину. Кошка Прют трудилась над моим старым одеялом, глаза у нее были полузакрыты, а когти она то выпускала, то втягивала, ни на мгновение не прекращая этого занятия. Я взял с полки маленький сверток из тростниковой ткани, вынес его наружу и уселся на настиле, скрестив ноги и думая о тех часах, днях, месяцах, которые провел на коленях в хижине Дорода. Про себя я поклялся, что никогда в жизни больше не встану на колени! А еще я думал о том, что хорошо бы иметь такую легкую плетеную складную скамеечку, какие носят здесь с собой все женщины. Вот только вроде бы не полагается мужчине пользоваться женскими вещами? Хотя женщины ведь пользуются тем же, чем и мужчины, — во всяком случае, во время работы. А мужчины совершенно напрасно избегают и даже презирают огромное количество чрезвычайно полезных вещей, которые умеют делать женщины, — например, плести скамеечки, или готовить пищу, или рассказывать всякие истории; ведь тем самым мужчины лишают себя множества умений и удовольствий. А все из глупого желания доказать, что они не женщины, хотя, по-моему, лучше бы они это доказывали делами.
Но это только по-моему. Они считают иначе. А я так и не стал одним из них.
Итак, скрестив ноги и поудобнее устроившись на настиле, я развернул шелковистую ткань и вытащил книгу Каспро. Впервые за долгий срок — сколько же времени прошло: год или два? Я открыл ее наобум, точнее, она открылась сама, и я прочел:
Там, где владычествует Повелитель Вод,
Растет камыш, растет тростник зеленый.
Хасса! Хасса!
И над водой летают лебеди, крича,
Почти касаясь тростников зеленых.
Хасса! Хасса!
И цапли серые над озером кружат,
Ложится тень на воду от широких крыльев.
И облака плывут в небесной синеве,
В болотах и протоках отражаясь,
Плывут над тростником, над рисовой травой…
Благословенны будьте, жители Болот!
И ты, великий, грозный Повелитель Вод!
Я захлопнул книгу и, закрыв глаза, оперся спиной о столбик в дверном проеме, подставив лицо солнцу, которое просачивалось сквозь мои зажмуренные веки, пропитывало меня насквозь. Откуда он это узнал? Откуда он узнал, как здесь все выглядит? Откуда он узнал священное имя лебедя и цапли? Неужели Оррек Каспро — тоже рассиу, житель Болот? Неужели он тоже ясновидящий?
Я задремал, повторяя про себя плавные строки стихотворения, и проснулся, когда Бо прыгнула мне на колени и с энтузиазмом принялся вылизывать мне лицо. Меттер как раз поднимался на настил.
— Что это? — спросил он, с некоторым любопытством глядя на книгу.
— Это шкатулка со словами, — сказал я и показал ему книгу. Он покачал головой и сказал:
— Анх, анх.
— Ну что, наловил ритты сегодня?
— Нет. Только окуни да ерши. А за риттой нам с тобой вместе нужно пойти. Ты сегодня как, к «рыбной циновке» собираешься?
Я пошел с ним к «рыбной циновке», надеясь встретиться там с Тиссо. Она и впрямь была там, и я страшно этому обрадовался. Мы с ней довольно долго беседовали, усевшись в тени под садовой изгородью. А чуть позже тем же вечером, когда я сидел на настиле и любовался закатом, я вдруг с острым смущением осознал, что Тиссо, вполне возможно, влюбилась в меня или вот-вот влюбится, хоть я и не прошел еще второго обряда инициации, хоть я и выгляжу до сих пор так, словно сделан из одних только черных палок, хоть я и оказался неудачником, из которого никакого ясновидца не получилось.
Меттер брился. Здешние мужчины, вообще-то, не особенно бородатые, так что брился он следующим образом: выщипывал отдельные редкие волоски с помощью щипцов из раковины моллюска и черной плошки с водой, в которую смотрелся, как в зеркало. Похоже, он явно наслаждался этим процессом, на мой взгляд весьма малоприятным. Закончив, он вручил щипцы из ракушки мне, и я очень удивился. Однако, ощупав свой подбородок и заглянув в «зеркало», понял, что и у меня на щеках выросло некоторое количество курчавых черных волос. Я аккуратно выдернул их один за другим и был весьма доволен достигнутым результатом. Надо сказать, что почти все мелкие ежедневные дела я здесь выполнял с удовольствием. Я понимал, что буду скучать по этой мирной, приятной жизни, по своему добродушному дядюшке, но все больше убеждался в том, что непременно должен отсюда уйти.
Впрочем, уйти я не мог, пока не наберусь сил, так что решил постараться и до конца весны придерживался весьма строгого распорядка. Я почти все время проводил в мужской деревне, каждый вечер ходил к «рыбной циновке» и участвовал в общих разговорах, а вот прогулки с молодыми людьми и девушками прекратил. А если хотел пройтись, чтобы укрепить ослабевшие ноги и восстановить нормальное дыхание, то уходил один на берег озера и отмахивал зараз несколько миль. Я сменил Перока, занявшись починкой сетей, ибо это, по крайней мере, можно было делать сидя; до Перока мне, конечно, было далеко, но все же починенные мною сети были лучше порванных, так что кое-какую пользу своей деревне я все-таки приносил.
Вскоре я уже выходил вместе с Меттером и на рыбную ловлю и помогал ему дрессировать Бо, хотя, по-моему, ни в каком обучении эта собака не нуждалась. Умение приносить добычу пес впитал с молоком матери. В первый же раз, когда у меня с крючка сорвался крупный окунь, Бо мгновенно прыгнул в воду и вскоре вынырнул, сжимая в пасти извивающуюся рыбину; я даже не успел расстроиться, что упустил такую добычу, как уже получил ее обратно.
А если шел дождь, то утром и вечером, усевшись под нависающей кровлей нашей хижины на настиле, я прочитывал несколько страниц из своей книги. Прют, которая тоже постарела и становилась все ленивее, тут же забиралась ко мне на колени. День мы с дядей завершали коротким ритуальным танцем и молитвой Повелителю Вод — я всему этому давно уже научился; ну а потом мы ложились спать.
День проходил за днем; миновал и день летнего солнцестояния. Я и не думал больше о том, что мне скоро надо уходить. Я вообще больше ни о чем не думал. И никакой потребности немедленно покинуть деревню у меня не возникало. Я был всем доволен.
Кончилось все это тем, что во время очередного собрания у «рыбной циновки» моя тетка Гегемер решительно подошла ко мне и, сверкая черными глазами, точно разгневанная ворона, уставилась на меня. Детишки так и брызнули в разные стороны, так страшно она на меня смотрела.
— Гэвир! — сказала она. — Гэвир, у меня было новое видение: человек, который тебя преследует. Этот человек и есть твоя смерть!
Я так и замер, не сводя с нее глаз.
— Ты должен немедленно уходить отсюда, сын моей сестры!
Часть IV
Глава 14
Тетка моя объявила всем, что я, подчиняясь ее приказу, связанному с неким страшным видением, покину деревню уже послезавтра. И когда на следующий день я в последний раз пошел к «рыбной циновке», меня уже ждала там мать Тиссо, чтобы передать мне одеяло, сотканное или связанное из тростниковых волокон, которые были обработаны особым образом и стали очень мягкими и пушистыми, как шерсть. Одеяло было замечательное и очень теплое.
— Это подарок от моей дочери, — сказала мне Лали Бету, и я ответил:
— Спасибо ей за это огромное! Я никогда вас обеих не забуду и каждый раз в холодную ночь буду вспоминать вас добрым словом.
Сама Тиссо держалась поодаль и даже не пыталась заговорить со мной. Я попрощался с женщинами и коротко переговорил с Гегемер. Однако она быстро свернула наш разговор; она хотела одного: чтобы я поскорее ушел, перебрался через ту вторую реку и оказался наконец в безопасности.
Я покинул деревню ранним утром, еще до того, как встал мой дядя. Щенок спал у него в ногах, а кошка Прют свернулась клубком на моем старом одеяле. Я шепнул: «Да хранит вас Ме», имея в виду их всех, и тихонько выскользнул из хижины. На сердце у меня было тяжело: ведь я покидал родные края, быть может, навсегда.
Шел я пешком, а потому решил пока что избрать восточное направление. Тете моей это наверняка не понравилось бы: она требовала, чтобы я поспешил на север. Но я не хотел, чтобы меня гнал ее страх. Да и лодки у меня не было, так что, если бы я направился по суше на север, мне бы пришлось без конца петлять в лабиринте болот и проток; кто его знает, сколько на это ушло бы дней. Денег у меня тоже не было, как не было и никакой возможности заработать их по пути.
И тут я вспомнил, что, вообще-то, денежки у меня имеются. Кровавые деньги, откупные: плата за смерть моей сестры. Я оставил кошелек с ними у Куги, и он спрятал их где-то в своей пещере. Этих денег должно было с избытком хватить, чтобы добраться до Месуна, если не тратить слишком много, да я и не привык деньги транжирить. Я хорошо запомнил тот путь, который мы прошли вместе с Венне и Чамри, и решил держаться немного восточнее тех мест, где расположено Сердце Леса, чтобы случайно не налететь на людей Барны, когда окажусь поблизости. Самое трудное, думал я, — это отыскать пещеру Куги близ южной границы Данеранского леса. Но я не сомневался, что память моя мне поможет и подскажет нужное направление, как только я увижу знакомые холмы, — если, конечно, сумею туда добраться.
В заплечном мешке у меня было полно дорожных припасов — вяленая рыба, твердый сыр, сухари и сушеные фрукты. Женщины во время последнего сбора у «рыбной циновки» дали мне с собой столько еды, что ее мне, по-моему, и на месяц было бы много, да и мужчины потом по очереди заходили к Меттеру, желая поделиться со мной всем тем, что могло пригодиться мне в дальних странствиях. Во всяком случае, голод мне в ближайшие недели явно не грозил. Помимо провизии и нового одеяла я, как всегда, взял с собой рыболовные снасти, нож и книгу Каспро, надежно упакованную в плотную ткань из тростника, способную защитить ее, если мне придется переходить реку вброд или даже ее переплывать. Я чувствовал, что прежние силы полностью вернулись ко мне, и мог, равномерно шагая, идти хоть целый день и даже наслаждаться ходьбой.
Через два дня я вышел из болотного края на холмистую, поросшую редким лесом равнину. Поскольку я все время забирал к востоку, то теперь, насколько я мог судить, находился где-то поблизости от северных границ Казикара. Я издали видел большие фермы, но они показались мне совершенно безлюдными. В долинах паслись стада коров и овец — увы, весьма немногочисленные. Потом мне то и дело стали встречаться сожженные сады и разрушенные до основания сельские усадьбы. Было ясно, что здесь прошли войска, грабя все подряд и уничтожая ненужное; это были печальные последствия бесконечных войн, которые вели друг с другом соперничающие города-государства. Дороги здесь почти заросли, виднелись лишь старые колеи, и людей я почти не встречал, разве что иногда случайно мне попадался погонщик скота или пастух. Мы перебрасывались парой фраз или просто приветственно махали друг другу рукой, и я шел дальше.
Мне почти все время приходилось теперь идти в гору; местность вокруг была холмистая, прорезанная глубокими оврагами и довольно дикая. Собственно, сюда я и стремился, хотя понятия не имел, где именно может находиться пещера Куги. Лес становился все более густым, и даже с вершины холма почти невозможно было ничего разглядеть. Мне оставалось полагаться лишь на собственное внутреннее чутье и зрительную память. Когда солнце стало клониться к западу и его золотые лучи уже с трудом пробивались сквозь густые ветви деревьев, я понял, что окончательно сбился с пути, идя вот так, наугад. Увы, мой план оказался безнадежен. Не зная точного направления, я мог бы до бесконечности скитаться в этих холмах, пока не стал бы таким же слабым и безумным, каким меня подобрал здесь когда-то Куга. Я сел, решив немного поесть и собраться с мыслями, а потом все же идти дальше, пока не начнет темнеть, и только тогда подыскать себе какое-то убежище на ночь. Я привалился спиной к стволу молодого дуба и со вздохом промолвил:
— Ах, Энну, прошу тебя, помоги мне! Выведи меня к той пещере!
Затем я достал из мешка свои припасы, отломил кусок сухаря, отрезал тонкий ломтик копченой рыбы и стал медленно жевать, наслаждаясь соленым дымным вкусом и вспоминая родную деревню. И в какой-то момент, подняв глаза, вдруг увидел черного льва, вышедшего из леса на поляну шагах в десяти от меня. Собственно, это была львица, и шла она прямо ко мне, низко опустив голову и длинный хвост. Затем она остановилась, глядя прямо на меня, и я беззвучно прошептал: «Ах, Энну-Амба!» Львица еще немного постояла так, потом прошла дальше и почти мгновенно исчезла в зарослях.
Через некоторое время я закончил свою трапезу, завернул рыбу и хлеб, аккуратно уложил все в заплечный мешок, облизал жирные пальцы и вытер их об олений мох, на котором сидел. Во рту у меня пересохло от волнения, и я напился из маленькой фляжки, сделанной из тростниковой ткани, пропитанной лаком; фляжку я предусмотрительно наполнил у последнего ручья. Затем я медленно встал, решив, что идти можно только в одном направлении: туда, куда ушла львица. Вряд ли это было разумно, но я находился в таких местах, где разум и мудрость, скорее всего, совершенно бесполезны. И я пошел следом за львицей.
Едва пробравшись сквозь заросли, в которых она скрылась, я вышел на отчетливо видимую даже в лесном полумраке тропу, которая вскоре привела меня в светлый дубовый лес. Идти было легко, и видно вокруг было очень хорошо. Но львицу я больше ни разу не видел. Я довольно долго шел размеренным шагом, и солнце, лучи которого пробивались сквозь листву, уже почти касалось горизонта, когда я наконец узнал ту местность, в которую попал. Мы когда-то проходили здесь вместе с Кугой; мимо вон того огромного дуба он вел меня знакомиться с Лесными Братьями. Ну что ж, вот мы и снова в Кугаманте, подумал я и удивился: почему «мы», а не «я»? Теперь, чтобы добраться до пещеры, нужно было всего лишь свернуть с «львиной» тропы и пройти тем путем, который я хорошо помнил и сам, — вниз и направо.
Я остановился и от всей души поблагодарил великую богиню Энну, затем решительно повернул направо и через лес, который с каждым шагом казался мне все более знакомым, подошел к нашему «домашнему» ручью, перебрался через него и остановился перед скалой, где был потайной вход в пещеру. Свет заката ярко горел на вершинах деревьев.
Я хотел уже окликнуть Кугу, но вдруг отчетливо почувствовал, что его там нет. Не произнеся ни слова, я нырнул в узкий лаз, и пещера встретила меня абсолютной темнотой. Запах дыма и плохо выделанных шкур, типичный запах Куги, еще царил там, но уже начинал слабеть, превращаясь в некое эхо былого. Но самое ужасное — что в этой пещере было мертвенно холодно и темно. Я снова вышел наружу, и вечер показался мне удивительно светлым и теплым, и я вспомнил тот ослепительный праздник, которым встретило меня солнце, когда я, слегка набравшись сил, впервые вышел из пещеры под присмотром Куги.
Положив заплечный мешок у входа в пещеру, я взял фляжку и спустился к ручью. Там я всласть напился воды, наполнил фляжку и присел возле ручья на корточки, следя за бегущей водой, и в сгущающихся сумерках на берегу ручья увидел его.
Зубы зверей, вода и ветер здорово потрудились над ним, и за год или два от него осталось не так уж много: череп с дыркой во лбу, несколько костей, клочки заплесневелой меховой одежды и знакомый мне кожаный ремень.
Я ласково коснулся черепа и погладил его, не поднимая с земли; потом немного поговорил с Кугой. Вечерний свет быстро меркнул. Я очень устал, но спать в пещере мне не хотелось. Я расстелил свое новое одеяло в заросшей травой ложбинке среди скал и уснул. Спал я крепко и долго.
Утром я пошел в пещеру, намереваясь именно там похоронить Кугу, но холодная и темная пещера показалась мне такой безрадостной, что я решил оставить его возле ручья. Я выкопал небольшую могилу подальше от воды, чтобы уберечь ее от зимних паводков, собрал то, что осталось от Куги, и сложил в могилу вместе с его ремнем и одним из ножей, который обнаружил в пещере. В могилу я положил также ту металлическую коробку с солью, которую Куга считал самым главным своим сокровищем. Он все время прятал ее от меня, когда я жил у него; мне так и не удалось узнать, в каком именно месте он ее прятал. А нашел я ее, открытую, на полу возле очага. В ней еще оставалось немного соли. А под солью я обнаружил один из его драгоценных ножей и тот маленький кошелек с деньгами, который я когда-то оставил у него на хранение.
Мне сразу стало значительно легче: я понял, что Кугу убили вовсе не из-за этих проклятых денег. А то, что он вытащил коробку с солью наружу, а не спрятал, как всегда, в укромном месте, говорило, скорее всего, о том, что он, будучи раненым или чувствуя себя плохо, захотел взглянуть на свои сокровища, но убрать их у него не хватило сил. Когда он понял, что умирает, он бросил все как есть и вышел наружу, чтобы навсегда уснуть в том месте у ручья, где так любил сидеть.
Я засыпал маленькую могилу, разгладил землю руками и попросил Энну проводить Кугу в страну мертвых. Кошелек с деньгами я бросил на дно своего заплечного мешка, даже не заглянув туда. Попрощавшись с Кугой, я направился вверх по холму и на северо-восток — в ту сторону, где впервые встретился с Лесными Братьями.
С тех пор как я ушел из деревни Восточное Озеро, меня не покидало чувство одиночества. А ведь когда-то одиночество доставляло мне почти наслаждение! Но то были отдельные и крайне редкие минуты одиночества, да и одиночества-то весьма относительного — почти всегда поблизости находились другие люди, до них, можно сказать, было рукой подать. А теперь все было иначе, и одиночество мое тоже носило иной характер. В очередной раз уйти от своих близких, от всего, что стало мне привычным и знакомым, знать, что повсюду, куда бы я ни пошел, я буду окружен чужими людьми… Сколько бы раз я ни пытался убедить себя, что это и есть свобода, все равно ощущение одиночества и полной заброшенности не проходило. И пожалуй, тот день, когда я покинул Кугамант, оказался самым тяжелым. Я брел наугад, но находил верный путь, даже не задумываясь об этом. Добравшись до вершины того холма, где Куга тогда меня оставил, я решил сделать привал, но костра разжигать не стал, чтобы не привлекать внимания Лесных Братьев или кого бы то ни было еще. Я должен был идти один, и я пойду один! Но в ту ночь я лежал и горевал — о себе и о Куге. И о своих сородичах из деревни Восточное Озеро, о Тиссо и Гегемер, о моем добром, ленивом дядюшке — обо всех. И о Чамри Берне и Венне, и о Диэро, и даже о Барне, ибо когда-то я любил Барну. И о некогда близких мне людях из Аркаманта я тоже горевал; я вспоминал Сотур, Тиба, Рис, маленькую Око, Астано, Явена, учителя Эверру и мою дорогую Сэлло, мою возлюбленную сестру, утраченную навсегда. Да и все они были для меня потеряны навсегда. Мне очень хотелось заплакать, но слез почему-то не было, и у меня просто разболелась голова. Крупные летние звезды медленно скользили к западу, и, глядя на них, я наконец-то уснул.
Проснулся я на заре. Небо казалось прозрачным розовым куполом света над темным холмом земли. Мне страшно хотелось есть и пить. Я быстро встал, сложил вещи в мешок и пошел вниз по склону холма к ручейку, возле которого Бриджин когда-то не позволил мне вдоволь напиться. Зато уж теперь я напился вволю! Я был один — значит я и дальше пойду один и проживу свою жизнь так, как считаю нужным, и буду пить там, где захочу. И непременно отправлюсь в Месун, где все люди свободные, где в университете учат всяким премудростям и где живет поэт Каспро.
На ходу я попытался спеть его гимн Свободе, но певцом я всегда был никудышным, да и голос мой среди этой тишины и птичьего пения показался мне похожим на карканье вороны. Так что петь я не стал, но повторял про себя слова его поэмы, и они словно оживали и шли рядом со мною, и в ушах у меня звучала тихая музыка, сплетенная из этих слов.
В лесу все быстро меняется, падают старые деревья, поднимается новая поросль, зарастают кустарником тропы, но свой путь я все время видел совершенно отчетливо и всегда находил его именно там, где искал, и позволял своей памяти подсказывать мне, что именно связано с тем или иным местом, в которое я пришел. Вот и поляна, где мы с отрядом Бриджина подобрали убитых ими ранее оленей. Там я съел свой скромный обед, жалея, что сейчас у меня нет ни кусочка той замечательной оленины. Мой заплечный мешок стал каким-то чересчур легким, и я уже подумывал, не стоит ли снова свернуть на восток, чтобы побыстрее выйти из этого проклятого Данеранского леса и попытаться купить еды в какой-нибудь деревне. Но пока что мне не очень хотелось покидать лес. Пожалуй, решил я, лучше все-таки остаться здесь и постараться как можно дальше обойти лагерь Бриджина, если он все еще существует; а потом постараться выйти на тот путь, куда в тот раз вывел нас с Венне Чамри, советуя как можно скорее уйти на безопасное расстояние от Сердца Леса и людей Барны, и оттуда двигаться прямо на север, к реке Сомулане, первой из тех двух рек, которые мне предстояло преодолеть. А по дороге к реке наверняка найдется какая-нибудь деревушка, где можно будет раздобыть еды.
Я очень даже неплохо воплощал свой план в жизнь, пока не понял, что нахожусь неподалеку от Сердца Леса, чуть восточнее этого города. Река Сомулане в этих местах как раз поворачивала на север, и я, следуя вдоль ее излучины, не сразу заметил, что оказался в знакомых местах. Мне очень хотелось есть, а в реке я заметил маленькие водовороты и сразу понял, что это играет форель, — так иной человек безошибочно определяет, например, что высоко в небе кружат именно голуби. Упустить подобную возможность я, разумеется, не мог. Спустившись на берег очень милой небольшой заводи, я быстренько собрал удилище, прицепил леску, насадил на крючок слепня и в одну минуту поймал отличную рыбину. А потом и еще одну. Когда я забрасывал леску в третий раз, меня вдруг кто-то окликнул:
— Это ты, Гэв?
Я так и подскочил. Наживку форель, конечно же, сразу слопала. Я схватился за нож и быстро повернулся к этому человеку, который стоял уже у меня за спиной. Узнал я его не сразу и лишь через несколько минут понял, что это Атер, один из тех налетчиков, которые похитили Ирад и Меле. Я сразу вспомнил, как они рассказывали об этом под пиво и этот Атер тогда сказал еще, что любит, когда женщины мягкие да ласковые. Но тогда он был крупным, даже тяжеловесным мужчиной, а теперь передо мной стоял человек настолько изможденный и оголодавший, что я смотрел на него с ужасом, хотя ни малейшей угрозы в его взгляде и не было. Скорее там читалось некое тупое удивление.
— Как ты сюда попал, Гэв? — спросил он. — А я тогда думал, что ты утонул или совсем от нас сбежал.
— Да, тогда я действительно сбежал, — сказал я.
— А теперь, значит, вернулся?
Я молча покачал головой.
— И правильно. К чему там возвращаться-то? — сказал он с тоской и посмотрел на пойманную мной рыбу. Я хорошо знал, как голодные смотрят на еду, но все же решил сперва спросить о том, что уже начинал постепенно понимать:
— Что ты хочешь этим сказать, Атер?
Он лишь беспомощно развел руками.
— Ну, — сказал он, — ты же и сам, наверно, знаешь. — Но поскольку я продолжал молча смотреть на него, он тоже глянул на меня и пояснил: — Там же все дотла сгорело!
— Как? Неужели весь город? Неужели Сердце Леса сгорело дотла?
Он никак не мог поверить, что я действительно ничего об этом не знаю. Это событие казалось ему настолько значимым, настолько важным для всей его жизни, что некоторое время мне пришлось добиваться от него более толковых разъяснений.
В первую очередь, разумеется, меня сейчас интересовало то, где находятся остальные лесные братья и не набросятся ли на меня охранники Барны, но Атер все повторял как заведенный:
— Нет. Никто не придет. Никого нет. Все сбежали. — А потом прибавил: — Знаешь, я ведь дошел даже до той деревни, куда мы так часто заглядывали; хотел выяснить, нельзя ли там жратвой разжиться, но они и ее тоже сожгли.
— Кто?
— Солдаты.
— Из Казикара?
— Наверно.
Извлечь из него нужные сведения явно будет непросто, понял я и спросил:
— Костер-то можно разжечь? Это безопасно?
Он кивнул.
— Тогда разожги костер, надень рыбу на прутья и зажарь. У меня тут еще немного хлеба есть.
Пока Атер возился с костром, я успел поймать еще одну крупную форель. Он едва смог дождаться, чтобы рыбу слегка опалило огнем, и сразу стал есть, отчаянно спеша и давясь кусками сухарей.
— Ах, как хорошо! — приговаривал он. — Как хорошо! Спасибо, Гэв! Спасибо тебе!
Когда мы поели, я снова занялся рыбной ловлей; когда форель клюет на пустой крючок, просто грешно ей этого не позволить. Пока я ловил рыбу, Атер сидел рядом на берегу и рассказывал о том, что произошло в Сердце Леса. Хотя о многих событиях мне приходилось догадываться самому, поскольку рассказ его был на редкость бессвязен и невнятен.
Этра и Казикар теперь стали союзниками и создали некую Северную Лигу; теперь они вместе воевали против Вотуса, Морвы и более мелких городов, расположенных на южном берегу реки Морр. Еще во время войн Этры с Казикаром в деревнях была перебита большая часть проживавших там рабов, а остальные разбежались, и теперь приходилось их кем-то заменять или устраивать на них настоящую охоту. Селения поблизости от Данеранского леса давно уже полнились слухами о некоем огромном лагере или даже целом городе, основанном беглыми рабами, и новые союзники решили выяснить, что это такое. Они собрали большое войско, которое быстро преодолело расстояние между Данераном и Болотами. Люди Барны ничего не знали о готовящемся нападении, пока с внешних сторожевых постов леса не примчались гонцы и не подняли людей по тревоге.
Барна собрал всех мужчин, готовых вместе с ним встать на защиту Сердца Леса. Женщинам и детям он приказал рассыпаться в зарослях. Однако и многие мужчины потом убежали вместе с женщинами. А те, кто колебался или остался добровольно, вскоре попали в ловушку: войска Этры и Казикара окружили деревянный город и стали методично поджигать его со всех сторон; а когда пали ворота и стены, они ворвались внутрь и принялись бросать горящие факелы на крыши домов. Люди Барны, конечно, оказывали им какое-то сопротивление, но силы были неравны: барнавиты слишком сильно уступали нападающим в численности и в первом же сражении потерпели сокрушительное поражение. После чего оставшееся население города было буквально вырезано. Солдаты окружили горящий город и хватали каждого, кто пытался избежать страшной гибели в огне, а затем цепью прошли по лесу и переловили всех тех, кто там прятался. Они двое суток ждали, пока Сердце Леса не выгорит дотла, и только потом принялись за грабежи, хотя там не так уж много и осталось. Однако им удалось найти сокровищницу Барны. Разделив добычу, они затем разделили и пленных — половину Этре, половину Казикару — и пешим порядком отправились назад, гоня закованных в цепи рабов вместе со стадом уцелевших коров и овец.
По щекам Атера текли слезы, когда он рассказывал мне об этом, но голос его оставался ровным и бесцветным. Когда подожгли город, его самого там не было — он с другими «десятинщиками» был довольно далеко на севере. Возвращаясь обратно, они еще издали увидели дым и языки пламени. Но подобраться ближе смогли лишь через пару дней, когда солдаты оттуда ушли.
— А Барна?.. — спросил я, и Атер ответил:
— Говорят, солдаты отрубили ему голову и гоняли ее по земле ногами, как мяч.
Мне очень трудно было заставить себя спросить о других знакомых мне людях, но я все же спросил. Только ответов у Атера почти не нашлось; он, похоже, зачастую даже и не понимал, о ком я спрашиваю. Чамри? Он только пожал плечами. Венне? О Венне он ничего не слышал. Диэро? О ее судьбе он тоже ничего не знал. И все-таки определенной части бывших рабов тем или иным образом удалось спастись. Впоследствии большинство из них вернулись к разрушенному и сожженному городу, не зная, куда им еще податься. К счастью, уцелели кое-какие запасы зерна, хорошо припрятанные и не найденные врагом, и теперь люди жили в основном за счет этих запасов и того, что еще можно было отыскать в садах и на огородах. Но вряд ли этого могло хватить надолго. Атер опять-таки ничего внятного мне сказать был не в состоянии, но я догадывался, что налет и пожар, скорее всего, имели место с полгода назад, где-то в самом начале зимы.
— Ты теперь снова туда вернешься? — спросил я, и он кивнул.
— Там безопаснее, — сказал он. — Солдаты повсюду так и шныряют. В рабство забирают. Я тут как-то в Эббере был, так и там почти так же плохо. Совсем рабов не осталось, в полях работать некому.
— Ладно, я тоже с тобой пойду, — решил я. Я хотел все же узнать, что сталось с моим друзьями.
Поймав еще пяток увесистых рыбин, я переложил их листьями, упаковал, и мы двинулись в путь. К Сердцу Леса мы подошли, когда уже близился вечер.
Тот город, который в ту последнюю ночь предстал передо мной в серебристо-голубом одеянии из лунного света, теперь являл собой груду обугленных балок, мусора и пепла. Пеплом было усыпано все вокруг. Возле одной из обгорелых городских стен, ближе к огородам, люди устроили себе жилье — жалкие лачуги и шалаши из спасенных от пожара досок и бревен, тоже в основном почерневших от огня. Какая-то старуха, половшая грядку, поклонилась нам, отворачивая лицо. Двое мужчин сидели на пороге хижины, бессильно свесив руки между колен. На нас с лаем бросилась собака, потом завизжала и трусливо побежала прочь. На голой земле, в грязи, сидел ребенок, равнодушно взирая на нас с Атером. Но стоило нам подойти поближе, как и он поспешно убежал и спрятался.
Я пришел сюда, чтобы спросить о своих друзьях, но не мог задать ни одного вопроса. Перед глазами у меня вставали то Диэро, пойманная в ловушку в горящем доме Барны, то труп Чамри, сброшенный в общую могилу, то Венне в цепях, которого гонят по дороге, точно скотину. И я сказал Атеру:
— Нет, я не могу больше здесь оставаться! — Я отдал ему сверток с рыбой и велел: — Ты уж поделись этим с кем-нибудь.
— Куда же ты теперь? — спросил он тем же бесцветным голосом.
— На север.
— Ох, смотри остерегайся охотников за рабами, — посоветовал Атер.
Я хотел уже повернуться и уйти, когда кто-то вдруг так крепко схватил меня за обе ноги, что я чуть не упал. Оказалось, что это тот самый ребенок, который сидел на земле и смотрел на нас, а потом удрал. Я присмотрелся: это была девочка, которая неожиданно закричала тонким, пронзительным голосом, точно птица:
— Ой, Клюворыл, Клюворыл, Клюворыл! Неужели это ты, Клюворыл!
Я попытался расцепить ее ручонки, чтобы освободить себе ноги, но она тут же вцепилась мне в запястья своими тоненькими пальчиками, умоляюще заглядывая мне в глаза, и я, вглядевшись в это исхудавшее до неузнаваемости личико, покрытое грязью, смешанной со слезами, потрясенно воскликнул:
— Меле?
Она притянула меня к себе, и я подхватил ее на руки. Она почти ничего не весила — казалось, я несу призрака, — но так же крепко обнимала меня за шею, как когда я входил в комнату Диэро, чтобы учить их обеих читать и писать. Прижавшись ко мне, Меле спрятала лицо у меня на плече, а я спросил у Атера, который так и застыл, с изумлением глядя на нас:
— Где же она живет?
Атер молча указал на стоявшую рядом хижину, и я двинулся было туда, но Меле прошептала:
— Не ходи туда, не ходи!
— Ты что же, не живешь там? Где же твой дом, Меле?
— Нигде.
Из дверей хижины, на которую указал мне Атер, выглянул какой-то мужчина. Я смутно помнил его и знал, что он плотник, но знакомы мы не были. У него тоже было равнодушно-спокойное выражение лица — такие лица я часто видел в осажденной Этре.
— Где сестра этой девочки? — спросил я у него.
Он только плечами пожал.
— Скажи, а Диэро… не спаслась? Нет?
Он снова пожал плечами и как-то на редкость гнусно усмехнулся. Взгляд его несколько прояснился, и он спросил:
— Хочешь эту девчонку?
Я, утратив дар речи, молча уставился на него.
— «Пол-орла» за ночь, — пояснил он. — Или можно едой заплатить. Если, конечно, у тебя еда имеется. — И бывший плотник шагнул вперед, пытаясь заглянуть в мой заплечный мешок.
Я быстро прикинул, что к чему, и надменно ответил:
— Не на того напал. Я свое имущество кому попало не раздаю! — Я отвернулся от него и пошел прочь тем же путем, каким пришел сюда. Меле по-прежнему молча прижималась ко мне, крепко обхватив меня за шею и пряча лицо.
Бывший плотник что-то злобно крикнул мне вслед, залаяла собака, ей стали вторить другие псы. Я вытащил нож, то и дело поглядывая назад через плечо, но за нами так никто и не погнался.
Я прошел уже с полмили и только тогда понял, что мой маленький «призрак» на самом деле гораздо тяжелее, чем мне сперва показалось. Кроме того, следовало все-таки подумать, как быть дальше. Вскоре мы вышли на некое подобие тропы, почти совсем заросшей, и я некоторое время шел по ней, потом свернул в сторону, за густые заросли бузины, полностью скрывавшие нас от любого, кто может пройти по тропинке, и опустил Меле на землю. Потом и сам плюхнулся рядом, с трудом переводя дыхание, и она, присев возле меня на корточки, сказала тоненьким голоском:
— Спасибо тебе, Клюворыл, что забрал меня оттуда.
Ей, наверное, исполнилось уже лет семь или восемь, однако она не особенно выросла с тех пор и была такой худющей, что суставы у нее на руках и ногах напоминали узлы. Я вытащил из заплечного мешка немножко сушеных фруктов и предложил ей. Она стала есть, изо всех сил стараясь не выглядеть чересчур голодной и жадной. И даже протянула кусочек мне. Я покачал головой и сказал:
— Я не так давно поел.
Когда она проглотила сушеные фрукты, я отломил кусочек сухаря, разбил его ножом на мелкие осколки и протянул ей, предупредив, что сперва сухари нужно как следует размочить во рту слюной, а уж потом жевать и глотать. Она сунула в рот кусочек, и ее грязное исхудавшее личико немного просветлело и расслабилось.
— Меле, — сказал я, — я иду на север. Очень далеко отсюда. В город, который называется Месун.
— А можно и мне пойти с тобой? Возьми меня с собой, пожалуйста! — умоляюще прошептала она; личико ее снова стало напряженным, а глаза — очень большими, но она, похоже, опасалась лишний раз поднять их на меня.
— Ты не хочешь там оставаться? В…
— Ох, нет! Пожалуйста! Нет, нет, нет! — Она говорила все тем же напряженным шепотом. — Пожалуйста!
— Значит, там никого не осталось, кто бы…
Меле снова отрицательно помотала головой.
— Нет, нет, нет… — шептала она.
Я не знал, что делать. То есть сделать я мог только одно, но совершенно не представлял себе, что из этого выйдет.
— А ты идти сможешь? Нам придется далеко идти.
— Я сколько хочешь могу пройти! Я буду идти и идти, ты только возьми меня с собой! — горячо воскликнула она. И, застенчиво сунув в рот еще кусочек сухаря, принялась размачивать его слюной, как я велел.
— Ну что ж, — сказал я, — значит, тебе придется идти и идти.
— Я пойду, пойду! И тебе совсем не нужно будет меня нести, обещаю!
— Это хорошо. А теперь нам надо отойти немного подальше от города. Я хотел бы до наступления темноты вернуться к реке. А уже завтра мы с тобой навсегда уйдем из этого леса. Согласна?
— Да! — просияв, ответила она.
Меле действительно старалась не отставать от меня и вообще вела себя очень мужественно. Но ножки у нее все-таки были еще коротковаты, да и силенок не хватало после стольких дней голода. К счастью, мы добрались до Сомулане даже раньше, чем я предполагал, и устроились на поляне в излучине реки. Рыбалка там, правда, пошла не так хорошо, как в той чудесной заводи выше по течению, но я все же ухитрился поймать форель и парочку окуней — вполне достаточно для ужина. Ужинали мы, сидя на мягкой траве и любуясь тем, как красиво падают меж ветвями деревьев солнечные лучи, отчего поверхность воды казалась совершенно бронзовой.
— Здесь так красиво! — то и дело восхищалась Меле.
Она уснула почти сразу же после ужина, улегшись прямо на охапку травы. У меня просто сердце переворачивалось при виде этой хрупкой фигурки, свернувшейся клубочком. Как я мог взять эту малышку с собой? А как я мог ее не взять?
Бог удачи, как известно, слушает обращенные к нему мольбы только своим глухим ухом, но я все же заговорил с ним, надеясь, что он повернется ко мне тем ухом, которое «слышит колеса звездных колесниц». «Ты всегда был со мною, повелитель, — сказал я ему, — даже когда я об этом не знал. И я очень надеюсь, что сейчас ты не оставишь без помощи это невинное дитя. Что ты ее не обманешь». А потом я еще поблагодарил великую Энну-Ме и попросил ее
сопровождать нас в пути. После этого я расстелил свое мягкое одеяло из волокон тростника, перенес на него спящую Меле, улегся с нею рядом и уснул.
Проснулись мы оба почти одновременно; на небе еще только-только разгоралась заря. Меле сбегала к реке и вернулась, вся дрожа; ей удалось отмыться почти дочиста, однако она насквозь промокла и продрогла. Я быстренько завернул ее в одеяло, чтобы согрелась, пока мы едим свой скудный завтрак. Она очень смущалась, но держалась с достоинством.
— Меле, — начал я, — а твоя сестра…
И она тут же прервала меня, сказав каким-то странным, очень тоненьким, но очень ровным голосом:
— Мы пытались спрятаться. За овечьими выгонами. Но те солдаты нашли нас. И увели Ирад. Дальше не помню.
И я вспомнил рассказ бандитов Барны о том, как они похитили этих двух девочек и как эти девочки, когда Атер хотел отшвырнуть младшую в сторону, так крепко обнялись, что их было не оторвать друг от друга. Вот только на этот раз удержать друг друга им не удалось…
У Меле дрожал подбородок. Она, потупившись, жевала сухарь, но проглотить никак не могла. Больше мы с ней об Ирад не говорили. После долгого молчания я спросил:
— Твоя деревня ведь, кажется, близ западной опушки Данеранского леса? Ты туда вернуться не хочешь?
— В деревню? — Она вскинула на меня глаза и задумалась. — Я не очень-то ее помню.
— Но у тебя там, наверное, была семья. И твоя мать…
Она покачала головой:
— Никакой матери у нас не было. Нашим хозяином был Ган Були. Он часто нас бил. И моя сестра… — Она не договорила.
Возможно, бог удачи все-таки немного помог Меле в трудную минуту.
Но не Ирад.
— Ладно, все ясно. Тогда ты пойдешь со мной, — деловито сказал я, стараясь ее успокоить. — Но послушай-ка меня. Тут дело вот в чем: нам придется идти по проезжим дорогам, через разные селения — во всяком случае, иногда — и встречаться с разными людьми, так что, по-моему, было бы лучше тебе прикинуться моим младшим братишкой. Ты сумеешь притвориться мальчишкой?
— Конечно сумею! — Она была явно заинтересована. Подумав немного, она заметила: — Только нужно мне имя выбрать. Я могу, например, стать Мивом.
Я чуть не вскрикнул: «Нет!» — но вовремя осекся. Пусть у нее будет такое имя, какое ей самой нравится. В конце концов, Мив, как и Меле, имя весьма распространенное.
— Ладно, Мив, — сказал я с некоторым усилием. — А я тогда буду Авви.
— Авви, — повторила она и прошептала с улыбкой: — Авви Клюворыл!
— Так, хорошо. Теперь запомни: мы с тобой не рабы, потому что в Урдайле никаких рабов нет, а мы якобы оттуда. Я — студент университета в Месуне. Я учусь у одного великого человека, который живет там и сейчас ждет нас. А тебя я взял с собой, потому что хочу, чтобы ты поступил в школу при университете и тоже учился. А родом мы из тех краев, что с востока примыкают к Великим Болотам.
Меле кивнула. Ей все это казалось в высшей степени убедительным. Но ведь ей и было-то всего лет восемь.
— Я очень надеюсь, — продолжал я, — что нам все-таки удастся по большей части держаться вдали от больших дорог. У меня есть кое-какие деньги, так что еду мы сможем покупать в деревнях и на фермах. Но вести себя везде нужно очень осторожно и остерегаться охотников за рабами. Если мы никого из них не встретим, то все у нас с тобой получится.
— А как имя того великого человека из Месуна? — спросила Меле. Хороший вопрос! Я совершенно не был к нему готов и задумался. А потом назвал того единственного великого человека из Месуна, которого знал:
— Его зовут Оррек Каспро.
Она кивнула.
Но, похоже, никак не могла успокоиться; что-то еще было у нее на уме, и она, поколебавшись, все-таки сказала:
— Я не умею пи́сать, как мальчишки.
— Это не страшно. Если тебе понадобится пописать, я буду стоять на страже. Согласна?
Она кивнула. Теперь мы были готовы отправляться в путь. Чуть ниже по течению, вскоре после излучины, река стала значительно шире и мельче, и я сказал:
— Давай здесь и перебираться на тот берег. Ты плавать-то умеешь… Мив?
— Не умею.
— Ну ладно, если там будет слишком глубоко, я посажу тебя на плечи. — Мы сняли башмаки и привязали их к моему заплечному мешку. Затем я обвязал талию Меле тонкой бечевкой, а другим концом этой бечевки обвязал себя так, чтобы между нами оставалось несколько футов. Держась за руки, мы вошли в воду, и я тут же вспомнил то свое видение — с переправой через реку — и подумал: может, именно эту девочку мне и придется нести на плечах? Кстати, плечи у меня болели еще со вчерашнего дня. Но эта река совсем не была похожа на ту, из моего видения. Тщательно выбирая путь и двигаясь зигзагом от отмели к отмели, я ни разу не погрузился в воду выше пояса и вполне мог поддерживать Меле. Только в одном месте, где течение оказалось особенно быстрым, возле намытого островка из гальки, было довольно глубоко, и я велел ей покрепче ухватиться за веревку и как можно выше держать голову над водой. Я проплыл несколько ярдов вдоль этого галечного барьера, таща за собой Меле, и вскоре встал на ноги. Берег был уже рядом, и Меле с головой ушла под воду только в самый последний момент, когда ей показалось, что она уже может стоять, но до дна достать не сумела. Она вынырнула, задыхаясь и отплевываясь, я подтянул ее к себе, и мы легко преодолели последнюю полосу мелководья, отделявшую нас от берега.
Выбравшись на берег, мы наконец перевели дыхание и принялись сушить промокшую одежду. Отдохнув и надевая обувь, я сказал Меле:
— Итак, мы с тобой переправились через первую из тех двух великих рек, которые мне суждено было пересечь. Эта страна называется Бендайл.
— А вот герой Хамнеда хоть и был ранен, но все-таки переплыл реку, верно?
Нет слов, как меня это тронуло! Дело даже не в том, что историю о Хамнеде она узнала от меня. Дело в том, что она о нем думала, что он стал ей близок настолько же, насколько был близок и мне. Мы с этой девочкой говорили на одном языке, на том языке, каким я больше никогда не пользовался, с тех пор как оставил свое собственное детство в Этре. Я обнял Меле за хрупкие плечики, и она удобно привалилась ко мне.
— Давай-ка теперь поищем какую-нибудь деревню и купим там еды, — предложил я. — Но сперва я достану немножко денег, чтобы не надо было рыться в мешке на глазах у других людей. — Я извлек свой тяжелый шелковый кошелек, от которого все еще исходил слабый запах Куги, запах дыма и гниющих шкур; похоже, правда, к нему примешивался и аромат той вяленой рыбы, которую мне дали в дорогу мои сородичи с берегов озера Ферузи. Я развязал шнурок и, открыв кошелек, застыл в недоумении. Я хорошо помнил, что было в кошельке: несколько бронзовых монет и четыре серебряных. А теперь там, помимо бронзовых монет, лежали еще девять серебряных, четыре золотых из Пагади, которые в народе называют «диктаторами», и большая золотая монета из Ансула!
Оказывается, мой дорогой Куга был не только беглым рабом, но и вором.
— Как же мне идти с такими деньгами! — в ужасе воскликнул я. Я чувствовал ту опасность, которую способны навлечь на нас эти золотые. Ведь если кто-то догадается, что у нас в заплечном мешке целое состояние… Больше всего мне хотелось попросту выкинуть эти монеты в траву и забыть об их существовании.
— Тебе их кто-то подарил? — спросила Меле.
Я кивнул, говорить я не мог.
— Тогда можно зашить эти монеты в одежду, чтобы их никто не нашел! — уверенно предложила она, с любопытством и восхищением перебирая «диктаторы». — Эти очень красивые, но та, большая, лучше всех! У тебя есть иголка с ниткой?
— Только рыболовные крючки и леска.
— Ну, может, удастся раздобыть все это в деревне? Или, может, нам по дороге коробейник встретится. А шить я умею.
— Шить я и сам умею, — глупо обиделся я. — Ну в общем, сейчас лучше поскорее убрать все это в мешок. И зачем только мне удалось этот проклятый кошелек отыскать!
— А что, это очень много денег?
Я кивнул.
Она все еще рассматривала монеты.
— Г… о… — город П-а-к-…
— Пагади, — подсказал я.
— Ой, да тут слова идут кругом, по самому краю! «Город-государство Пагади, год 8» и что-то еще… — Меле склонилась над монетой точно так же, как склонялась над книгой в доме Барны, сидя за столом у Диэро при свете масляной лампы. Потом подняла голову, гордо улыбнулась и передала мне золотую монету. Глаза ее сияли.
Я положил в карман несколько четвертаков и бронзовых «полуорлов», а кошелек снова спрятал, и мы двинулись дальше по берегу реки, потому что там была ясно видна тропа. Наверное, с час мы шли молча, потом Меле вдруг сказала:
— Может быть, в том городе, куда мы идем, нам удастся выяснить, где моя сестра? Тогда мы смогли бы отдать солдатам эти золотые монеты и выкупить ее.
— Да, конечно, мы непременно постараемся ее выкупить, — сказал я, и сердце мое болезненно сжалось. А потому я поспешно добавил с некоторой тревогой: — Только разговаривать об этом ни с кем нельзя. Вообще ни с кем.
— Я не буду, — пообещала Меле. И больше не сказала об этом ни слова.
Следуя вдоль реки, резко свернувшей к северу, мы в полдень увидели впереди довольно большой город, и мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы войти туда. А вот Меле, похоже, совсем ничего не боялась, полностью доверяя моей силе и мудрости. Мы храбро дошли до рыночной площади, купили еды и маленькое одеяло для Меле, которое можно было также использовать и в качестве плаща. Затем я приценился к шкатулочке, где лежала крепкая новая игла и моток белых ниток. На рынке многим хотелось поговорить с нами; нас то и дело спрашивали, откуда мы идем и куда направляемся. Я, разумеется, всем рассказывал выдуманную нами историю, но этот «студент университета» для большинства местных жителей был фигурой настолько загадочной, что они просто не знали, как с нами обращаться. Полная пожилая женщина со стертыми зубами, например, потребовала целый четвертак за иголку с нитками и, с состраданием глядя на Меле, вздохнула:
— Уж больно, как я погляжу, тяжело жить в студентах такому маленькому парнишке-то!
— Просто он зимой очень много болел, — заступился я за «братишку».
— Ах ты, бедняжка! Как же тебя зовут, сынок?
— Мив, — преспокойно ответила ей Меле.
— Ну, я думаю, братец твой о тебе хорошо заботится, вот только зря он потащил тебя в такой дальний путь. Не стоит тебе пока так много пешком-то ходить, — сказала женщина. А потом — может, ей стало ясно, что я не намерен платить такую грабительскую цену за иголку, а может, по какой-то иной причине — вдруг что-то протянула Меле и пояснила: — А это тебе, пусть Энну хранит вас обоих в пути. Да возьми, не бойся, это подарок! Не стану же я брать деньги с ребенка за то, что его благословила! — И она снова протянула Меле маленькую фигурку кошки, вырезанную из темного дерева, с медной проволочной петелькой, чтобы можно было носить ее на цепочке как подвеску; я заметил у нее на подносе несколько таких крошечных изображений Энну-Ме. Меле вопросительно подняла на меня свои огромные глаза, и я вспомнил, что они с Ирад обе носили на шее такие фигурки, хотя эта кошечка была, пожалуй, более тонкой работы. Разумеется, я тут же вручил торговке требуемый четвертак, взял иголку с ниткой и кивнул Меле, чтобы она приняла подарок.
Стиснув в ладошке фигурку богини, она поднесла сжатый кулачок к ямке под горлом и с благодарностью посмотрела на торговку.
На этой рыночной площади я чувствовал себя неожиданно спокойно и свободно. Нас тут никто не знал; мы были просто путниками, растворившимися в толпе таких же людей, но отнюдь не чувствовавшими себя одинокими даже в этом диком краю. Заметив на каком-то прилавке сладкие жареные пирожки, источавшие восхитительный аромат, я предложил Меле:
— Давай-ка купим пирожков. — И мы, держа в руках по горячему пирогу, присели на широкий край прохладного фонтана, чтобы перекусить. Тесто оказалось довольно тяжелым, масляным, и Меле с трудом съела только половину своего пирога. Я искоса на нее глянул и вдруг увидел то, что сразу заметила та торговка с плохими зубами: этот чрезвычайно худой ребенок прямо-таки падает от усталости.
— Ты, похоже, устал, братец Мив? — спросил я.
После недолгой борьбы с собой Меле сдалась — опустила плечи, уныло кивнула и сгорбилась.
— А давай сегодня переночуем в какой-нибудь гостинице, — беспечным тоном предложил я. — Вряд ли у нас потом будет еще такая возможность, а этот городок кажется мне вполне симпатичным. Все-таки ты сильно промокла и замерзла, когда мы вброд переходили ту реку. Да и вообще сегодня мы очень много прошли, так что вполне заслужили возможность как следует выспаться в настоящей постели.
Меле еще больше сгорбилась, посмотрела на свой истекающий жиром пирог и показала его мне.
— Ты не мог бы его съесть, Клюворыл? — прошептала она смущенно.
— Я могу съесть все, что угодно, Пискля! — с энтузиазмом воскликнул я и тут же это доказал. — Вот и все. А теперь идем. Тут неподалеку, совсем рядом с рыночной площадью, я приметил одну гостиницу.
Жене хозяина гостиницы Меле явно очень понравилась, — похоже, моя маленькая спутница служила нам пропуском к людскому сочувствию. Нас проводили в очень уютную комнатку, расположенную в задней части дома, где была широкая, хотя и несколько коротковатая кровать. Меле тут же улеглась и свернулась калачиком, по-прежнему крепко сжимая в кулачке фигурку Энну-Ме. Свой новый «плащ» она снять не пожелала. «Мне в нем тепло», — все повторяла она, и я увидел, что ее бьет озноб. Я накрыл ее сверху еще одеялом, и она вскоре уснула. А я сел в кресло у окна и задумался. Я так давно не сидел в кресле, давно уже не бывал в обычном, большом и прочном доме, который совсем не похож на хижины болотных людей, где стены сделаны из тростниковых циновок. Затем я вытащил из мешка книгу Каспро и немного почитал. Я давно уже выучил «Космологии» наизусть, но уже одно то, что я держу в руках книгу и слежу взглядом за строчками, действовало на меня успокаивающе, а мне так необходима была поддержка. Я, в общем-то, и с самого начала не слишком хорошо понимал, что делаю и куда иду; а теперь еще и взвалил на себя ответственность за этого ребенка, что как минимум должно было сильно замедлить мое продвижение на север. А что, если мне оставить Меле у кого-нибудь здесь, в этом городке, и позже вернуться за нею? — вдруг подумал я. Оставить ее? Вернуться за ней? Но откуда вернуться? Я посмотрел на нее. Она крепко спала. И я тихонько вышел из комнаты и заказал нам обед.
Когда Меле проснулась, я подал ей большую чашку куриного бульона, и она села в постели, чтобы его выпить, но отпила совсем немного. Мне показалось, что у нее жар, и я решил посоветоваться с женой хозяина гостиницы, которую звали Амено. С первого взгляда она производила впечатление женщины доброжелательной и очень веселой, впрочем, этого и требовали от нее обязанности хозяйки гостиницы, но мне показалось, что вся эта веселость напускная и что на самом деле Амено — женщина очень спокойная, серьезная и рассудительная. Она пришла, посмотрела на Меле и сказала, что «мальчик» мог чем-то заразиться в пути, а может, просто сильно устал.
— Ты иди поужинай, — сказала она мне, — а я разожгу пожарче огонь и за ребенком присмотрю. — Она убедила Меле отдать ей фигурку богини-кошки, сказав, что проденет в петельку цепочку и вернет ей. Девочка внимательно следила за тем, как она это делает, а потом снова задремала. Я спустился в общий зал и отлично поужинал жареной бараниной, тут же, разумеется, с любовью и грустью вспомнив Чамри Берна.
Мы прожили в этом городишке, который назывался Рами, четверо суток. Амено, естественно, довольно быстро догадалась, что Меле — не мальчик; она дала мне это понять, но вслух никаких вопросов не задавала, прекрасно понимая, почему девочка могла захотеть путешествовать в обличье мальчика, и никаких намеков на сей счет не отпускала. Меле, к счастью, не заболела, но действительно была чуть жива от голода и усталости. Три дня отдыха, хорошей еды и доброй заботы Амено сотворили с малышкой настоящее чудо. На третий день, сидя в постели, Меле аккуратно зашила наши золотые в мою одежду и снова уснула. Я бы с удовольствием остался в Рами еще на несколько дней, чтобы окончательно поставить девочку на ноги, поскольку путешествие нам предстояло еще долгое, если бы на четвертый вечер кое-что случайно не услышал, спустившись в общий зал гостиницы, чтобы посидеть у камина.
Здешние мужчины каждый вечер заходили туда, чтобы выпить стаканчик сидра или кружечку пивка, поболтать друг с другом или с постояльцами гостиницы, если, разумеется, те были не против. Местные сперва держались со мной несколько скованно, даже настороженно, считая, видимо, что я студент, столичная штучка и беседовать с ними не стану. Однако, увидев, что я всего-навсего молодой парнишка, говорю мало и веду себя скромно, они вскоре перестали меня стесняться и стали относиться ко мне вполне по-дружески. Беседа у них шла в основном о местных делах и событиях, но порой к ней присоединялись и путешественники, которые рассказывали об иных краях и о том, что творится в мире. Это было мне особенно интересно, ведь я так долго прожил в лесу и на Болотах, не имея никаких сведений ни о городах-государствах, ни о Бендайле.
Меле крепко спала после отличного ужина, и я никуда не торопился. Вскоре разговор зашел о Барне и барнавитах. У каждого имелась своя история об этих «благородных разбойниках», которые частенько совершали грабительские налеты на дороги, фермы и торговые селения. Некоторые из этих историй сильно напоминали те романтические сказки, которые я слышал еще в детстве, в Этре. Но тут один человек подтвердил, что люди Барны действительно занимаются «благородным разбоем», и рассказал, что три года назад они угнали у него половину стада, которое он собирался продать на рынке, и угнали «по-честному», пересчитав животных и разделив их «одно тебе, одно нам». А ведь запросто могли бы угнать и все стадо! Вот почему он, по его собственным словам, и проклинать-то их мог только вполсилы. У меня, впрочем, сложилось впечатление, что и слушатели тоже поверили этому рассказчику лишь наполовину.
Затем посыпались истории о лесном городе Барны, одна другой краше. Один рассказывал, например, что в домах у «этих беглых рабов» полным-полно красивых женщин, а краденого золота у них столько, что они кроют им крыши, так что, когда солдаты подожгли город, это золото расплавилось и потекло ручьями в канавы. Каждый что-то знал о Барне, и все считали его великаном с огненно-рыжей шевелюрой, который собирался напасть на Азион, затем стать правителем Бендайла и сделать так, чтобы рабы правили своими бывшими хозяевами. Затем вдруг возник спор — можно или нельзя доверять рабам, — и тут же все согласились на том, что нельзя, каким бы верным тот или иной раб ни казался. Разумеется, были приведены многочисленные примеры предательств, совершенных рабами.
— А вот вам и еще подходящая история, — сказал один из постояльцев гостиницы, скупщик шерсти из Восточного Бендайла. — О неверном рабе и о верном. Я только что ее слышал. Один мальчишка, уроженец Болот, был некогда гордостью своих хозяев из города Этры. Он мог рассказать любую историю, спеть любую песню, какую пожелаете, — он знал их все. Этот раб стоил своим хозяевам никак не меньше ста золотых монет. И что вы думаете? Он соблазнил хозяйскую дочку и сбежал, украв целый мешок золота. Хозяева, разумеется, послали вдогонку охотников за рабами, но никто его так с тех пор и не видел; говорили, будто он утонул. В общем, поиски потихоньку заглохли. Но у хозяйского сына был верный раб, который поклялся, что отыщет беглого мальчишку и вернет его в Этру, чтобы хозяева могли подвергнуть его надлежащему наказанию за то, что он опозорил их дом. И этот верный раб сумел выйти на след беглеца, а потом еще и услышал, будто некий молодой раб, которому удалось скрыться в лесном городе Барны, славится тем, что умеет рассказывать любые истории. Сам Барна, будучи рабом образованным, весьма ценил этого юношу. Только тот и его обманул и еще до того, как в лес пришли солдаты, снова исчез. Но верный раб продолжал охотиться за ним. Я тут разговаривал с одним человеком, который этого раба хорошо знает и называет его Трехбровым. Так этот раб ему рассказывал, что уже побывал и на Болотах, и в Казикаре, и в Пираме, но не остановится до тех пор, пока не поймает этого беглеца, даже если на это уйдет вся его жизнь. Вот это, по-моему, действительно верный раб!
Остальные выразили свое согласие с оратором, хотя и довольно умеренное. Я тоже покивал в знак согласия, но сердце мое вмиг похолодело как лед. То, что я назвался студентом, надеясь, что эта выдумка спасет меня от подозрений, теперь, похоже, как раз могло меня погубить. Ах, если б только проклятый торговец не сказал, что тот беглец родом с Болот! Весь мой облик, особенно цвет кожи, свидетельствовал об этом! Это всегда привлекало ко мне повышенное внимание, и, разумеется, торговец тоже меня заметил и, оторвавшись от пивной кружки, спросил:
— А ведь и ты, похоже, родом с Болот. Ты ничего не слыхал о том знаменитом рабе?
Говорить я был не в силах и лишь покачал головой, старательно напустив на себя равнодушный вид. Затем последовали новые истории о беглых рабах и охотниках за рабами. Я сидел, слушал, пил свой сидр и твердил себе, что не должен поддаваться панике, что никто еще не подверг сомнению выдуманную мной историю, что присутствие ребенка, «мальчика», должно отвести от меня любые подозрения, что завтра нас с Меле здесь уже не будет. Да, конечно, я совершил ошибку — нельзя было оставаться так долго на одном месте. Но, с другой стороны, Меле просто не смогла бы продолжать путь, если бы мы не передохнули. Ничего, уверял я себя, все будет хорошо. Еще несколько дней — и мы доберемся до той, второй реки, переправимся через нее и станем свободными.
В тот вечер я поговорил с Амено и спросил, не знает ли она кого-либо из возниц, отправляющихся на север, которые согласились бы за плату подвезти нас. Она сказала, куда мне нужно пойти. Рано утром я поднял еще совсем сонную Меле с кровати и мы вышли из дома. Провожала нас только Амено. Она приготовила нам в дорогу сверток с едой и с благодарностью приняла серебряную монету, которую я предложил ей в уплату. «Да пребудет с вами бог удачи! Да хранит вас Энну!» — сказала она и крепко-крепко обняла Меле. Затем мы прошли, окутанные утренним туманом, через весь город и в каком-то дворе действительно обнаружили несколько повозок, готовящихся к отправке в дальний путь. Некоторые из возниц с удовольствием брали и пассажиров. Нам повезло: один из них согласился подвезти нас до селения Тертуди, находившегося, по словам этого возницы, примерно на полпути к большой реке. Я не очень хорошо помнил карту этой части Бендайла, так что приходилось полагаться на то, что говорили мне эти люди; я знал лишь, что река находится где-то на севере, а город Месун — на ее противоположном берегу и чуть восточнее.
Медлительным лошадкам нашего возницы потребовался целый день, чтобы добраться до Тертуди, жалкого городка, в котором даже гостиницы не было. Впрочем, мне и не хотелось там останавливаться. Меня наверняка бы заметили, а после тех нескольких дней, что мы провели в Рами, мне очень хотелось не оставлять после себя больше никаких следов. В Тертуди мы даже ни с кем не разговаривали. Расставшись с нашим возницей, мы тут же вышли на дорогу и отшагали по крайней мере пару миль среди заросших травой лугов, а потом устроились на ночлег на берегу небольшого ручья. Вокруг в теплом вечернем воздухе громко пели сверчки. Меле с удовольствием поела и сказала, что совсем не устала. Она очень просила меня рассказать ей одну хорошо знакомую нам обоим историю. Она так и сказала: «Расскажи мне, пожалуйста, ту историю, которую я давно знаю». И я рассказал ей начало «Чамбана». Она слушала внимательно, почти не шевелясь, и только под конец у нее стали слипаться глаза. Она зевнула и уснула, свернувшись калачиком под своим «плащом», прижимая к ямке под горлом крошечную фигурку кошки.
Я лежал и, слушая пение сверчков, высматривал на небе первые звезды. Потом мирно соскользнул в сон, однако среди ночи вдруг проснулся. Мне показалось, что на лугу, среди стогов сена, я заметил какого-то человека; он стоял и смотрел в нашу сторону. Я узнал его, узнал его лицо и тот шрам, что пересекал его бровь. Я попытался встать, но не мог пошевелиться, я был точно парализован, как когда принимал те снадобья, что давал мне Дород; сердце молотом стучало у меня в груди. Была глубокая ночь, в небе сияли звезды. Сверчки и цикады почти все уже смолкли, но один все еще продолжал трещать где-то рядом. Я сел. Но никого на лугу видно не было. Впрочем, заснуть мне все равно уже не удалось.
Мне было чрезвычайно грустно сознавать, что последним звеном, связывающим меня с Аркамантом, оказалась злобная ненависть. Сам я теперь уже с благодарностью мог вспоминать тех, с кем прожил в этом доме столько лет, я был от всей души признателен им за то, что они мне дали, — доброту, безопасность, знания, любовь. Мне и в голову никогда бы не пришло, что, например, Сотур или Явен могут меня обмануть, предать мое доверие. И теперь пусть отчасти, но я уже способен был понять, почему мое доверие предали Мать и Отец Аркаманта. Хозяин живет в той же ловушке, что и раб, и, возможно, ему, хозяину, даже труднее выбраться из этой ловушки, увидеть, что находится за ее пределами. Впрочем, Торму и его двойнику, рабу Хоуби, никогда и не хотелось узнать, что за пределами привычной ловушки есть и что-то еще, какая-то другая жизнь; для них не существовало ничего более ценного, чем власть, возможность управлять другими людьми и жестоко подавлять их. Так что, если бы Торм узнал, что я действительно сбежал и бегство мое оказалось столь успешным, это сильно уязвило бы его душу. Ну а Хоуби, с рождения, по-моему, преисполненного ненависти и зависти ко всему на свете, просто в бешенство привело бы известие о том, что я стал свободным человеком, и уж он-то непременно попытался бы меня найти и отомстить. Так что я почти не сомневался: он наверняка меня преследует и, возможно, уже идет за мной по пятам. Хоуби я действительно очень опасался, понимая, что мне не по силам с ним тягаться. Тем более теперь, когда его заложницей может стать маленькая беспомощная Меле, способная пробудить всю его жестокость. А я прекрасно знал, какова эта жестокость.
Я разбудил Меле задолго до рассвета, и мы сразу же пустились в путь. Я знал только одно: нам нужно как можно быстрее идти вперед.
Весь день мы шли по просторной равнине, покрытой, точно волнами, невысокими округлыми холмами. Встречные селения мы старались обходить как можно дальше и избегали приближаться даже к немногочисленным одиноким фермам, где во дворах лаяли собаки. Впрочем, человеческое жилье здесь попадалось редко; кругом были сплошные пастбища с сочной травой и множество скота. Один раз мы случайно повстречались с каким-то пастухом верхом на лошади, который тут же спешился и пошел рядом с нами, ведя коня в поводу. Ему, видно, осточертело одиночество и хотелось с кем-нибудь поговорить. Меле сперва его немного побаивалась, да и я был ему не слишком рад. Однако он не проявил ни малейшего любопытства, даже не спросил, кто мы, откуда идем и куда направляемся. Он тащился рядом с нами и без умолку рассказывал о своем коне, о своем стаде, о своих хозяевах — обо всем, что ему в голову приходило. Меле постепенно оттаяла и почувствовала себя свободнее, но, когда пастух предложил ей прокатиться на лошади, она снова от него шарахнулась. Впрочем, его дружелюбная небольшая лошадка ей очень нравилась, и в итоге она все же позволила мне подсадить ее в седло.
Наш новый приятель рассказал, что должен найти и отогнать назад часть хозяйского коровьего стада, отделившуюся от основного; он знал, что коровы где-то поблизости, но, похоже, не особенно спешил выполнить поручение. Он преспокойно прошел вместе с нами не одну милю, ведя коня под уздцы. Меле ехала в седле и выглядела совершенно счастливой. Когда я спросил пастуха, есть ли где-то здесь большая река, которая называется Сенсали, он сначала меня не понял, и мы довольно долго говорили загадками, причем он утверждал, что река должна быть на востоке, а не на севере. В конце концов он воскликнул:
— Ах вот вы о чем! О Салли! Но я только ее название и знаю. Ну и еще то, что она очень далеко отсюда, прямо-таки на краю света! А недалеко отсюда протекает река Амбаре; она, по-моему, как раз в Салли-то и впадает, только я не знаю, где именно. Только пешком вам долго туда идти придется. Вы бы лучше лошадей раздобыли!
— Значит, если идти на восток, то как раз к этой вашей реке и выйдешь?
— Да, но и до Амбаре отсюда тоже довольно далеко. — Пастух долго и сложно объяснял нам, как туда добраться, перечисляя всякие тропы, проложенные погонщиками скота, и закончил совершенно неожиданно: — Но если идти напрямик, через холмы, так можно и очень быстро туда попасть.
— Ну что ж, мы, пожалуй, через холмы и пойдем, — сказал я, и он тут же заявил:
— Так и я, может, с вами пойду, а? Вдруг эти чертовы коровы где-нибудь там?
Мне это показалось подозрительным. Не зря же говорят, что страх туманит разум. Я шел и думал: а что, если ему кто-то поручил следить за нами и заманить нас в ловушку? Но я не знал, как от него избавиться. Хотя сперва у меня в нем ни малейших сомнений не было; я видел, что это просто очень одинокий человек, которому хочется иметь спутников и который рад доставить удовольствие ребенку. Заметив, что я умолк и задумался, он не стал мне докучать и принялся беседовать о чем-то с Меле, которая застенчиво расспрашивала его о лошадях и конской сбруе. Вскоре он уже позволил ей самой держать поводья и объяснял, как можно заставить Брауни бежать рысцой. Голос у него был негромкий, мягкий; он одинаково хорошо ладил и с конем, и с ребенком. Правда, когда он протянул к Меле руку, чтобы показать, как нужно держать поводья, она в страхе так шарахнулась, что чуть не свалилась с седла. После этого он старался не подходить к ней слишком близко, проявляя безусловный врожденный такт. В общем, трудно было ему не верить, однако тревога и подозрения продолжали терзать мою душу. Если до Сенсали действительно так далеко, как говорит этот человек, называя те места «краем света», сколько же времени мы с Меле будем туда добираться? Ведь в день мы могли пройти не больше десяти миль, а если мы так и будем без конца ползти по этой открытой равнине, то обнаружить нас любому, кто этого хочет, будет совсем не трудно.
Впрочем, оказалось, что наш добровольный проводник сказал правду: вскоре, миновав гряду невысоких холмов, мы увидели довольно большую реку, текущую на северо-восток. На вершине одного из холмов мы уселись под раскидистыми буками, чтобы перекусить. Брауни, разумеется, тоже получила свою торбу с овсом. Меле называла нашего спутника «пастух-ди», что страшно его веселило, а он называл ее «сынок», принимая, естественно, за мальчика. Меле сидела подле меня, но разговаривала только с пастухом, и основной темой их разговоров были лошади и коровы. Я заметил, что Меле так и сыплет вопросами, что, в общем-то, свойственно всем детям ее возраста, однако она делала это так, чтобы избежать любых встречных вопросов о себе или обо мне, маленькая хитрюшка.
С вершины того холма, где мы сидели, были видны изредка проплывавшие по реке лодки и барки, и наш спутник сказал:
— Вот вам и река! По берегу доберетесь до города, а там сядете в лодку, и вас отвезут куда надо.
— А где же город-то? — удивилась Меле.
— Чуть подальше, вон там, за излучиной, — сказал он, неопределенно махнув рукой в ту сторону, где река скрывалась за холмом. — А я, пожалуй, дальше с вами не пойду. Вряд ли мои коровы дальше этих мест забрели. Уж в городе-то их точно нет. А вы ступайте туда, берите лодку, и вас отвезут куда надо, правильно я говорю?
Я подумал: как странно, что он два раза в точности повторил слова «вас отвезут куда надо», словно его этим словам научили. Неужели его научили, как заманить нас в ловушку?..
— Да, это было бы здорово — на лодке по реке проплыть! — сказала Меле. — Правда, Авви?
— Да, наверное, — рассеянно ответил я.
Меле ласково попрощалась с Брауни, долго гладила лошадку и что-то ей шептала, обнимая за длинную шею; да и с пастухом она попрощалась тоже очень тепло, хотя и без объятий, так и не позволив ему даже прикоснуться к себе. Она долго смотрела ему вслед, а когда он скрылся за холмом, грустно вздохнула. Когда мы уже спускались по склону холма к реке, она вдруг сказала:
— Они были такие красивые!
И мне стало стыдно. Но я по-прежнему не мог отделаться от снедавшей меня тревоги.
— Так мы действительно пойдем в город и сядем в лодку? — спросила она через некоторое время.
— Не думаю.
— А почему нет?
И тут я понял, что не нахожу слов, чтобы объяснить ей, почему нам нельзя идти в город, почему мы должны и дальше идти пешком. Можно было бы, конечно, сказать, что мы должны избежать встречи с тем, кто нас преследует, однако и мне самому отнюдь не казалось, что так мы сумеем уйти от опасности.
— Или можно было бы купить лошадей, как советовал пастух-ди, — не умолкала Меле. — Вот только… лошади, наверно, очень дорогие, да?
— Да, довольно дорогие. И, кроме того, нужно еще уметь ездить верхом.
— Я теперь умею. Почти.
— А я нет, — отрезал я.
И мы пошли дальше. Спускаться с холма было легко, и Меле скакала вприпрыжку. Внизу мы обнаружили какую-то тропку, ведущую в сторону реки, и пошли по ней.
— Раз ты не умеешь ездить верхом, — сказала Меле, — значит было бы все-таки лучше взять лодку. Разве я не права?
Ответственность за нее теперь прямо-таки придавливала меня к земле, точно каменная глыба. Если бы я был один, то уж как-нибудь сумел бы спрятаться, уйти от преследования, сбежать. Я сердился на Меле за то, что она задерживает меня, заставляет меня замедлять шаг, спорит со мной насчет того, как нам лучше добраться до цели…
— Не знаю, — сухо ответил я.
Мы двинулись дальше, и снова мне приходилось приноравливать свой шаг к маленьким шажкам Меле. Вскоре мы вышли на проезжую дорогу; река была уже совсем близко. А потом показались и крыши домов, а чуть правее и причалы с привязанными к ним лодками.
И тогда я стал просить бога удачи благословить эту девочку, не оставить ее, как когда-то он не оставил и меня. Неужели и он обманет мое доверие? — думал я. Только глупец действует так, словно ему все известно лучше, чем богу удачи. Я, разумеется, часто делал глупости, но глупцом все же не был.
— Ладно, доберемся до города, а там посмотрим, — сказал я Меле после долгого молчания.
— У нас ведь хватит денег на лодку, да? Хватит?
Я кивнул.
В общем, когда мы, миновав яблоневые сады, вошли в город, то сразу направились к реке и стали высматривать лодку. Но ни одной лодки у причалов не оказалось, да и на пристани не было ни души. На выходившей к причалам улочке мы заметили маленькую гостиницу, и я заглянул в ее распахнутые двери. Из-за буфетной стойки тут же вынырнул какой-то карлик ростом не выше Меле. У него была огромная голова, но лицо очень красивое, хотя и хмурое.
— Тебе чего, болотник? — спросил он почти сердито.
Я тут же чуть не бросился бежать. Но он продолжал ворчливым тоном задавать вопросы:
— Кто это там с тобой? Щенок? Нет, клянусь Сампой, мальчонка! Да и сам-то ты не больно взрослый. Оба вы еще дети малые, как я погляжу. Ну так чего вы хотите? Молока?
— Да, — сказал я, и Меле прибавила:
— Да, пожалуйста!
Он тут же подал нам две кружки молока, мы уселись за маленький столик и стали пить. А он стоял за стойкой и посматривал на нас. От его взгляда мне стало как-то очень не по себе, но Меле, похоже, его присутствие ничуть не беспокоило; выпив молоко, она и сама без малейшего стеснения уставилась на карлика, а потом спросила:
— А черная кошка у вас есть?
— С чего бы это мне черную кошку держать? — удивился он.
— А так написано на картинке, что висит у вас над дверью.
— Ага! Нет. Это просто дом так называется. А черная кошка — это символ госпожи нашей Энну, да будет тебе известно. Ну и куда же вы направляетесь, ребятишки? Да еще и совсем одни.
— Вниз по реке, — сказал я.
— Так вы, наверное, на лодке приплыли. — Он выглянул в открытую дверь, проверяя, не стоит ли у причала наша лодка.
— Нет. Мы пешком пришли. Но дальше хотели бы, конечно, на лодке, если кто-нибудь захочет нас взять.
— Сейчас и лодок-то подходящих нет, — задумался хозяин гостиницы. — А барка Педри только завтра придет.
— И что, он потом вниз по реке отправится?
— До самой Салли, — кивнул он; похоже, в этих местах все именно так называли реку Сенсали.
Он налил Меле еще молока, а сам протопал к буфетной стойке и вернулся с двумя полными кружками сидра. Одну он поставил передо мной, а вторую приподнял в знак приветствия.
Я чокнулся с ним. Меле тоже подняла свою чашку с молоком и чокнулась с нами.
— Оставайтесь ночевать, если хотите, — предложил мне хозяин, и Меле тут же воззрилась на меня с радостной надеждой. Близился вечер, и я, постаравшись выкинуть из головы свои страхи, решил принять то, что предлагал нам бог удачи. Я кивнул, и карлик спросил:
— У тебя заплатить-то есть чем?
Я вынул из кармана пару бронзовых монет.
— Это хорошо. Потому что, если б не нашлось, я бы съел этого парнишку, ясно? — с самым серьезным видом сказал он и, страшно разинув рот, двинулся на Меле. Она ойкнула, спряталась за меня, но тут же рассмеялась — даже раньше, чем я сумел заставить себя улыбнуться в ответ на его шутку. Он тоже улыбнулся и отошел от нас, а Меле пропищала ему вслед:
— Как ты меня напугал!
По-моему, он был очень доволен, но я-то чувствовал, как испуганно бьется сердечко у моей маленькой спутницы.
— Убери свои деньги, — буркнул он мне. — Будешь уходить, тогда и договоримся.
Он отвел нас в маленькую комнатку наверху, в передней части дома; ее низкие окна выходили на реку. Там было вполне чисто, но почему-то стояло очень много кроватей, штук пять по крайней мере, плотно придвинутых друг к другу. Положив вещи, мы спустились, и хозяин подал нам вкусный ужин, который мы съели в компании портовых грузчиков, которые, как оказалось, ужинали у него каждый день. Грузчики ели молча, да и сам хозяин на этот раз тоже говорил немного. После ужина мы с Меле пошли прогуляться вдоль причалов и полюбоваться отблесками заката на речной воде, потом сразу поднялись к себе и легли спать. Сперва я никак не мог уснуть; разум мой метался, не в силах разобраться в путанице мыслей и беспочвенных страхов. Наконец я все же провалился в сон, но спал недолго и некрепко, а потом и вовсе сел на постели и попытался вслепую нашарить свой нож, который положил рядом на пол. На лестнице послышались осторожные шаги. Скрипнула дверь.
И в комнату вошел какой-то человек. Я с трудом различал его массивный силуэт в слабом свете звезд, лившемся из окна. Я сидел неподвижно, крепко сжимая нож и затаив дыхание.
Огромная темная фигура ощупью пробралась мимо меня к ближайшей кровати. Человек сел, и на пол с глухим стуком упали его башмаки. Затем он лег, немного повозился, чертыхнулся, замер и больше не шевелился. Вскоре он вовсю захрапел, но я почему-то решил, что это просто хитрость, что он хочет убедить нас, будто спит, а на самом деле… Но он все продолжал храпеть и сопеть, а я просидел так до самого рассвета.
Когда Меле проснулась и обнаружила в комнате незнакомого мужчину, то очень испугалась. И стала просить меня поскорее уйти оттуда.
Хозяин подал Меле на завтрак теплого молока, а мне налил теплого сидра; на столе был также отличный свежий хлеб и персики. Мы поели, но меня по-прежнему снедало сильное беспокойство, и я, решив не дожидаться той барки, сказал хозяину, что мы, пожалуй, пойдем пешком. Карлик пожал плечами:
— Хотите идти пешком, так идите. Но вообще-то, барка часа через два как раз в ту сторону поплывет.
Меле обрадовалась, закивала, и я сдался.
Барка подошла к причалам поздним утром; это было длинное тяжелое судно, на палубе которого, ровно посредине, возвышалось нечто вроде жилого дома, что сразу напомнило мне лодку Аммеды, который отвез меня на озеро Ферузи. Палуба барки была сплошь заставлена корзинами, упаковочными клетями и тюками сена; я заметил также несколько клеток с курами и груду каких-то свертков. Пока шла разгрузка и погрузка, я спросил шкипера, может ли он взять нас на борт, и мы довольно быстро договорились; за одну серебряную монету он готов был довезти нас до самой Сенсали, но сказал, что спать нам придется на палубе. Я вернулся в «Черную кошку», чтобы уплатить по счету.
— Один «полуорел», — сказал мне карлик.
— Но ведь нас двое! Две постели, еда, выпивка, — запротестовал я, выкладывая перед ним четыре бронзовые монеты.
Он подтолкнул две из них ко мне и сказал без улыбки:
— У меня не так часто бывают постояльцы моего роста.
Итак, где-то в полдень мы покинули этот городок на борту судна, принадлежавшего шкиперу Педри, и поплыли вниз по реке Амбаре. Солнце ярко светило, у причалов царила веселая суматоха, и Меле была радостно возбуждена, впервые оказавшись на борту «настоящего корабля», но от шкипера и его помощника старалась держаться подальше и жалась ко мне. Оказавшись на воде, я испытал невероятное облегчение и даже помолился про себя Повелителю Всех Вод и Источников — этой молитве я научился у своего дяди Меттера. Стоя рядом с Меле, я смотрел, как грузчики отвязывают чалки, как шкипер отдает команды, как медленно расширяется полоса кипящей воды между бортом судна и причалом. И в тот момент, когда барка уже развернулась по фарватеру, я увидел, что к причалам быстро идет какой-то человек. Я внимательно пригляделся и узнал Хоуби.
Мы с Меле стояли на самом видном месте, у стены того «домика» на палубе, и я мгновенно присел, закрыв руками лицо.
— Что случилось? — спросила Меле, тоже присев возле меня на корточки.
Я осторожно, из-под руки, глянул на берег. Хоуби стоял на причале и смотрел вслед нашей барке, и я не мог бы с уверенностью сказать, видел он меня или нет.
— Клюворыл, что случилось? — снова шепотом спросила встревоженная Меле.
И я, собравшись с силами, ответил ей:
— Похоже, нам здорово не повезло.
Глава 15
Город вскоре скрылся за кормой; мы вошли в излучину реки и плыли, легко несомые течением. Жарко пригревало солнышко, а мы с Меле стояли у поручней, и я объяснял ей, что увидел на причале одного очень плохого человека, которого знал когда-то, и теперь опасаюсь, что и он,
возможно, меня узнал.
— Это один из людей Барны? — шепотом спросила Меле.
Я покачал головой:
— Нет, я знал его гораздо раньше. Когда еще был рабом в том большом городе.
— А он что, действительно очень плохой? — снова спросила она, и я твердо сказал:
— Да, очень.
Вряд ли Хоуби успел меня заметить, думал я, и все же этого было маловато для полного спокойствия; ведь ему достаточно спросить людей на пристани или хозяина «Черной кошки», не видели ли они молодого человека с темной кожей и длинным носом, похожего на жителя Болот.
— Но ты не бойся, — сказал я Меле. — Ведь мы-то на лодке, а он на земле.
Однако мои слова прозвучали не слишком успокаивающе. У барки была та же скорость, что и у течения реки; собственно, река и несла ее, а рулевой на корме лишь слегка направлял судно с помощью длинного рулевого весла. Кроме того, барка заходила в каждое селение на берегу и повсюду брала на борт или сгружала различные грузы и пассажиров. Шкипер объяснил нам, что когда барка поплывет обратно, вверх по течению, то ее будут тащить лошади на бечеве, так что скорость у нее будет еще меньше. Да мы и сейчас-то, по-моему, едва плыли! Амбаре, протекавшая по обширной плоской равнине, явно никуда не спешила и текла неторопливо, плавно, то вдруг заглядывая куда-то в сторону, то почти останавливаясь и превращая свои берега в сущее болото. Погонщики скота, видно, пользовались той же хорошо утоптанной тропой, по которой шли лошади, таща барку против течения, и мы часто проплывали мимо большого стада, остановившегося, чтобы напиться. Коричневые и пестрые коровы шлепали по мелководью, медленно продвигаясь, как и мы, вниз по реке, и нашей барке требовалось немало времени, чтобы обогнать их и оставить позади.
Но в целом эти дни, проведенные на реке, оказались просто чудесными, исполненными благостной лени и спокойствия. Но стоило нам подойти к пристани какого-нибудь селения, как сердце мое начинало беспокойно биться, и я всматривался в каждое лицо на берегу. Мне все время казалось, что, возможно, было бы разумнее сойти с судна где-нибудь на восточном берегу и оттуда пешком добираться до Сенсали, обходя стороной все города и деревни. Но увы, Меле, которая, правда, в последнее время значительно окрепла, не смогла бы идти ни слишком долго, ни слишком быстро, так что, видимо, было все же лучше плыть хотя бы до тех пор, пока между нами и нашей целью будет не больше одного дня пути пешком. Наша барка направлялась в город Беметте, находившийся у слияния двух рек, Амбаре и Сенсали, и я решил, что в этот город нам попадать ни в коем случае нельзя, хотя там, по словам нашего шкипера, ходил паром через Сенсали, и это было бы очень кстати. Однако я почти не сомневался, что именно возле парома-то нас и будет поджидать Хоуби. И хорошо еще, если ему не придет в голову попытаться перехватить нас еще до прибытия в Беметте. Верхом, или в повозке, или даже быстрым шагом он наверняка мог обогнать барку и раньше нас добраться до любого селения на западном берегу.
Шкипер Педри не особенно баловал нас своим вниманием и от своего помощника требовал того же, запрещая ему тратить время на болтовню с нами. Мы для него были грузом, таким же как тюки сена и клетки с курами. Груз у него, надо сказать, был довольно беспокойный: из деревни в деревню он возил и шустрых упрямых коз, и непоседливых старушек; мы сами видели, как один перепуганный жеребенок то и дело пытался совершить самоубийство, бросившись с палубы в реку. Педри с помощником по очереди спали в своей хибаре на палубе и по очереди стояли на часах, внимательно следя за всем происходящим. Еду мы готовили себе сами, покупая продукты в деревнях, где останавливались. Меле успела подружиться с курами, сидевшими в клетках и ехавшими далеко, в Беметте. Это была какая-то особая, очень ценная порода кур с красивым хвостовым оперением и в симпатичных пушистых «штанишках»; почти все они были несушками. Куры были совершенно ручные, и я купил Меле мешочек птичьего корма, чтобы она могла немного скрасить им тяготы долгого пути. Она дала им всем имена и могла сидеть возле них часами. Порой и я устраивался рядом с нею: ее ласковые бесконечные разговоры с курами действовали на меня успокаивающе. И лишь когда в небе над рекой начинал кружить коршун, в клетке смолкали писк и кудахтанье и куры собирались под шестком в кучку, спрятав голову в пышные перья, и умолкали.
— Не тревожься, Рыженькая, — утешала Меле, — не бойтесь, Малышка и Модница! Ему до вас не добраться. Я его сразу прогоню!
Не бойся, Клюворыл! Не тревожься понапрасну!
Я читал свою любимую книгу и пересказывал Меле старинные поэмы. Она выучила наизусть «Мост через Нисас», и мы продолжили знакомство с «Чамбаном».
— А знаешь, Гэв, мне бы и вправду хотелось быть твоим младшим братом, — как-то вечером шепнула она, когда мы любовались темной рекой и звездным небом. И я ответил ей тоже шепотом:
— Но ты и вправду моя сестра.
Мы сошли на берег в одном из селений на восточном берегу. Педри и его помощник были очень заняты — разгружали тюки сена — и не обращали на нас внимания. Собственно, селения как такового там и не было — так, какой-то амбар или склад и пара пастухов, охранявших его.
— Далеко ли отсюда до Беметте? — спросил я у одного из них, и он ответил:
— Часа два-три на хорошем коне.
Я снова быстро поднялся на борт и велел Меле собираться. Мой мешок был уже уложен; в дороге я доверху набил его продуктами. А за провоз я расплатился заранее, так что на берег мы соскользнули почти незаметно. Проходя мимо Педри, я небрежно бросил, указывая на юго-восток:
— Мы тут решили сойти, отсюда до нашей фермы совсем недалеко, мы запросто пешком доберемся.
Он что-то проворчал, не переставая кидать тюки, и мы быстро пошли прочь от реки в ту сторону, куда я ему указал. Но как только барка скрылась из виду, мы тут же повернули на северо-восток, к Сенсали. Местность вокруг была какой-то на редкость плоской; изредка попадались жалкие рощицы и отдельные купы деревьев. Меле держалась хорошо и на ходу тихо бормотала, точно молитву: «До свидания, Модница, до свидания, Рози, до свидания, Златоглазка, до свидания, Малышка…»
Шли мы прямиком, без тропы. Вокруг не было ни одного бросающегося в глаза ориентира, если не считать далеко-далеко на севере, по ту сторону реки, волнистой синей линии, которая вполне могла оказаться и грядой облаков. Я определял направление только по солнцу, которое, кстати, уже клонилось к западу. Заночевали мы в какой-то роще; быстренько перекусили, завернулись в одеяла и уснули. Никаких признаков преследования я пока не заметил, но был уверен, что Хоуби от своего замысла не отказался и, возможно, уже поджидает нас где-нибудь впереди. Ужас, который я испытал, увидев его на пристани, так никуда и не ушел, и все мои беспокойные сны были полны этого ужаса. Я проснулся задолго до рассвета, разбудил Меле, и еще в сумерках мы вышли в путь, по-прежнему продвигаясь на север. Взошло солнце и повисло в дымке над бескрайней равниной, красное и огромное.
Почва стала болотистой, местами попадались бочажки, заросшие тростником, а к полудню мы наконец увидели Сенсали.
Она действительно была очень широкой, эта великая река. Но не слишком глубокой — насколько я мог заметить, повсюду чуть в стороне от стрежня виднелись отмели и галечные наносы. А еще мы сразу обратили внимание на то, сколько там всевозможных проток и ответвлений. Но сказать, стоя на берегу, где течение наиболее быстрое и где оно прорыло глубокие ямы, было совершенно невозможно.
— Значит, так, — сказал я Меле и себе, — мы пойдем по берегу на восток и, может быть, отыщем брод. Или паром. Месун все равно значительно выше по течению, так что, как только найдем переправу, двинем прямо к нему.
— Ладно, — сказала Меле. — А как называется эта река?
— Сенсали.
— Я так рада, что у рек тоже есть имена. Как у людей. — И она принялась напевать: «Сен-са-ли, Сен-са-ли…», и, пока мы шли, я все время слышал ее тоненький голосок. Идти сквозь заросли ивняка оказалось малоприятно, и мы вскоре спустились к самой воде и пошли прямо по широкой полосе наносного ила, гальки и песка.
Конечно, так нас было гораздо легче заметить, но если Хоуби действительно уже вышел на наш след, то прятаться не имело смысла, да и негде тут было прятаться, в этой открытой и совершенно безлюдной местности. Никаких признаков человеческого присутствия мы вообще не обнаружили, видели только оленей и еще каких-то диких копытных.
Вскоре пришлось остановиться, чтобы Меле могла немного передохнуть. Я попытался ловить рыбу, но мне не везло: попался лишь один небольшой окунек. Вода в реке была очень чистая, прозрачная. Я вошел в воду, убедился, что течение не слишком сильное, и приметил пару мест, где, по-моему, вполне можно было попробовать перейти реку вброд. Но у противоположного берега, похоже, имелись довольно коварные темные омуты, и мы пошли дальше.
Так миновало три дня. Еды у нас оставалось еще дня на два, после чего пришлось бы жить исключительно рыбной ловлей. Был вечер, и мы оба чувствовали себя бесконечно усталыми. Ощущение того, что кто-то гонится за нами по пятам, совершенно меня измотало; я плохо спал, то и дело просыпаясь и прислушиваясь. Выбрав место для ночевки, я оставил Меле устраиваться на песочке под ивой и поднялся повыше на берег, как всегда пытаясь высмотреть брод. Вскоре я нашел то, что искал: едва заметные следы колес, тянувшиеся от берега к воде. Там наверняка должен был быть брод, да и река в этом месте разлилась широко и была вся перерезана бесчисленными галечными отмелями.
И тут, оглянувшись, я увидел вдали одинокого всадника, скачущего вдоль кромки воды.
Я тут же бросился к Меле, сказал: «Идем!» — и подхватил с земли свой мешок. Она испугалась, растерялась, но все же подняла с земли свое скатанное одеяльце. Я взял ее за руку и прямо-таки поволок за собой, так что она едва успевала перебирать ногами. У самой воды следы были гораздо отчетливее и глубже. Здесь явно перебиралось через реку немало лошадей и телег. Мы сразу вошли в воду, и я успел лишь предупредить Меле: «Не бойся. Как только станет глубоко, я возьму тебя на руки».
Сперва все шло хорошо; в прозрачной воде были хорошо видны мелкие места между галечными наносами. Когда мы были уже примерно на середине реки, я наконец позволил себе оглянуться. Всадник явно нас заметил. Он въехал на коне прямо в реку, с шумом разбрызгивая воду, и сомнений у меня не осталось: это был Хоуби. Я даже издали узнал его круглое, жесткое и тяжелое лицо, такое же, как у Торма, как у нашего Отца Алтана. Лицо, как бы принадлежавшее одновременно и рабовладельцу, и его рабу. Хоуби хмурился, сердито понукал коня и что-то кричал мне, но слов я разобрать не мог.
Все это я увидел разом и тут же отвернулся, продолжая идти поперек течения и таща за собой выбивавшуюся из сил Меле. Увидев, что она совсем задыхается, я сказал:
— Забирайся ко мне на плечи, Меле, и держись крепче, только за горло меня не хватай.
Она послушно сделала, как я сказал.
И тут я вдруг понял, где нахожусь. Это была та самая река, и я переходил ее вброд с тяжелой ношей на плечах. Вокруг я не смотрел, потому что знал: это не нужно, а нужно идти вперед, хотя я едва-едва уже достаю ногами до дна. Вон там, у берега, похоже, то самое место, куда мне и надо бы выбраться, только мне туда не дойти, потому что песок сейчас начнет расползаться у меня под ногами… Я с головой ушел под воду, взял правее, потом еще правее, и тут течение налетело на меня с неожиданной силой, я потерял равновесие и почувствовал, что пытаюсь плыть, тону, захлебываюсь, но снова обретаю под ногами опору, и ребенок, которого я несу на плечах, изо всех сил обнимает меня за шею, а я, сопротивляясь бешеному течению реки и задыхаясь, прорываюсь на мелководье, карабкаюсь на берег, цепляюсь за мокнущие в воде корни густо растущих ив, падаю, поднимаюсь и могу наконец оглянуться.
Лошадь я увидел сразу: она пыталась выбраться из стремнины, но седока на ней не было.
В этом месте, откуда мы все же сумели как-то выбраться, течение было настолько мощным, словно именно здесь река собрала все свои силы.
Меле соскользнула у меня со спины и крепко ко мне прижалась; она вся дрожала. Я обнял ее, но по-прежнему стоял как вкопанный и смотрел на реку, на лошадь; ее уносило течением, но она отчаянно пыталась выбраться, явно почувствовав под ногами дно. В итоге она, оскальзываясь и погружаясь в воду с головой, все же сумела выскочить на берег. Я не сводил глаз с поверхности реки, без конца, вновь и вновь обследуя взглядом отмели и галечные барьеры вверх и вниз по течению. Песок, галька, сверкающая вода…
— Гэв, Гэв, Клюворыл! — плача, звала меня Меле. — Идем! Идем же! Нам же надо идти дальше! Нам надо поскорей уходить отсюда! — Она потянула меня за руку.
— Да, наверное, надо, — хотел сказать я и не смог: не было голоса. Пошатываясь и спотыкаясь, я побрел следом за Меле вверх по берегу, подальше от воды, в ивовые заросли, где было посуше. Там ноги у меня окончательно подкосились, и я осел на землю. Я пытался объяснить Меле, что со мной все в порядке, что теперь мы в безопасности, но говорить по-прежнему не мог. Мне не хватало воздуха. Я снова был в реке, вода окружала меня со всех сторон, накрывала с головой и была прозрачной, сверкающей, просвеченной солнцем, а потом вдруг стала холодной и очень темной…
Когда я пришел в себя, уже наступила ночь, теплая и пасмурная. Река казалась черной лентой со светлыми пятнами отмелей и наносов. К моему боку прижимался какой-то горячий и мокрый комок: Меле. Девочка спала, но я разбудил ее, и мы на ощупь, ползком пробрались сквозь заросли, поднялись повыше и отыскали какую-то ложбинку, которая показалась мне вполне пристойным местом для ночлега. Костер я развести так и не смог: все необходимое для этого промокло насквозь. Тогда мы сняли с себя мокрую одежду, старательно растерли друг друга, завернулись в наши мокрые одеяла и мгновенно уснули, крепко прижавшись друг к другу.
Страх мой полностью исчез. Я все-таки преодолел ту, вторую реку!
Спал я долго и крепко, и разбудил меня солнечный свет. Мы с Меле расстелили на солнышке свои вещи и позавтракали мокрым, дурно пахнущим хлебом, сидя в той ложбинке среди прибрежных ив. Меле, похоже, ничуть не пострадала, но была какой-то молчаливой и настороженной. Наконец она не выдержала и спросила:
— Разве нам больше не нужно ни от кого убегать?
— Думаю, что нет, — сказал я. Еще до завтрака я спустился к воде и, прячась в зарослях, внимательно осмотрел реку и отмели. Разум твердил мне, что все же не стоит проявлять беспечность, что Хоуби вполне мог и выплыть, перебраться через реку и спрятаться где-то неподалеку; но неразумная моя душа радостно твердила: «Ты спасен, его больше нет, связь с прошлым порвана окончательно!»
Меле посмотрела на меня; в ее глазах было написано полное доверие.
— Теперь мы в Урдайле, — сказал я ей. — Здесь нет никаких рабов и никаких охотников за рабами. И теперь мы… — Я умолк. Я не знал, видела ли она, как Хоуби преследовал нас, как его захлестывало течением. Я не знал, как мне рассказать ей об этом. — И теперь мы с тобой совершенно свободны, — все же договорил я начатую фразу.
Она немного подумала и спросила:
— А я могу снова называть тебя Гэв?
— Мое полное имя — Гэвир Айтана Сидой, — сказал я. — Но мне нравится прозвище Клюворыл.
— Ну да, мы с тобой Клюворыл и Пискля, — улыбнувшись, шепнула Меле и тут же смущенно потупилась. — А можно мне пока оставаться Мивом?
— Что ж, это неплохая идея. Если хочешь, оставайся Мивом.
— Значит, теперь мы пойдем искать в том большом городе твоего великого человека?
— Да, — сказал я.
И как только наша одежда немного подсохла, мы отправились в путь.
Наше путешествие в Месун было относительно легким; хотя если честно, то и весь наш путь оказался в общем не так уж труден. Но этот последний отрезок пути запомнился мне тем, что я полностью избавился от постоянного страха, столь сильно мучившего меня. Я понятия не имел, что буду делать, когда мы доберемся до Месуна, и на что мы будем жить, но задавать сейчас слишком много вопросов казалось мне проявлением неблагодарности и богу удачи, и госпоже нашей Энну. Раз они до сих пор не покинули нас, так уж, наверное, и теперь не покинут, надеялся я. И в благодарность тихонько спел им на ходу гимн Каспро.
— Ты поешь гораздо хуже, чем некоторые другие люди, — дипломатично заметила моя маленькая спутница.
— Я знаю. Тогда спой ты.
И Меле запела нежным, дрожащим голоском любовную песню, которую наверняка слышала в доме Барны. А я вспоминал ее красавицу-сестру и думал о том, что и Меле тоже вскоре станет настоящей красавицей. И вдруг поймал себя на том, что прошу богов: «Пощадите ее! Пусть она не будет такой же красивой, как Ирад!» Но я тут же прогнал эту позорную мысль, мысль раба, и твердо сказал себе: я должен научиться мыслить как свободный человек!
Урдайл — очень красивый край, богатый яблоневыми садами. Мы неторопливо поднимались от берега реки по обсаженной тополями дороге к тем синим холмам или горам, которые я увидел издали. Мы шли пешком, хотя иногда нас кто-нибудь немного подвозил на телеге или повозке; еду мы покупали на деревенских рынках, а порой женщины предлагали нам выпить молока, увидев на дороге усталых путников и пожалев насквозь пропыленного ребенка. Меня, разумеется, бранили за то, что я таскаю за собой по дорогам «маленького братишку», но «маленький братишка» тут же прижимался ко мне и начинал так гневно поглядывать на ругательницу, выказывая полнейшую верность «своему старшему брату», что женщина тут же таяла и предлагала нам поесть или переночевать на сеновале. В общем, через пять дней мы снова вернулись к реке, делавшей в этих местах большую излучину, и вскоре увидели впереди на высоком холмистом берегу город Месун.
Дома в этом городе были построены в основном из камня и сверкали на солнце черепичными и слюдяными крышами; каменными были и городские башни, и украшенные резьбой мосты, но городской стены я не увидел. Это показалось мне очень странным. И ворот там никаких тоже не было, и никаких сторожевых башен, и никакой стражи! Да и солдат на улицах мы нигде не встретили. Мы вошли в этот огромный город совершенно беспрепятственно, точно в деревню.
Дома, высокие, в три, а то и четыре этажа, громоздились вдоль узких улиц, где так и кишели люди, лошади и всевозможные повозки. Толпа, суматоха, шум — все это просто оглушило нас. Меле крепко держалась за мою руку, и я был очень этому рад. Мы миновали рыночную площадь возле реки, и по сравнению с ней центральная площадь Этры показалась мне маленьким деревенским рынком. Я решил, что сперва, пожалуй, лучше найти какую-нибудь скромную гостиницу, где можно будет оставить вещи, немного отчиститься и отмыться, а уж потом продолжить знакомство с этим городом, ибо вид у нас был совершенно непрезентабельный — грязные, вонючие, в измятой одежде. Проходя мимо рынка и высматривая вывеску какой-нибудь гостиницы, я заметил двух молодых людей, которые чуть враскачку спускались нам навстречу по крутой улочке; они были в длинных легких серо-коричневых плащах и бархатных шапочках, прикрывавших уши, — в точности как на картинке в книге, которую я брал в библиотеке у Эверры. Под картинкой, помнится, было написано: «Двое студентов из университета города Месуна». Студенты заметили, что я остановился и не свожу с них глаз; один из них слегка подмигнул мне, и я, набравшись смелости, шагнул к нему и спросил:
— Простите, вы не могли бы сказать нам, как пройти к университету?
— Прямо на этот холм, дружище, — ответил мне тот, что подмигивал. И с любопытством посмотрел на меня.
Я не знал, что еще у него спросить, потом сказал:
— А там, наверху, где-нибудь можно остановиться?
Он кивнул:
— Конечно. Но дешевле всего в «Перепелке».
Его спутник тут же возразил:
— Нет, в «Лающей собаке».
И первый пояснил:
— Все зависит от того, какие насекомые вам больше понравятся: блохи в «Перепелке» или клопы в «Собаке».
И они, смеясь, пошли дальше.
А мы стали подниматься на холм, и вскоре булыжная мостовая сменилась каменными ступенями, и я понял, что мы не просто поднимаемся, а огибаем некую высоченную каменную стену. Когда-то давно Месун тоже был городом-крепостью, и это, видимо, сохранилась стена его цитадели. Над стеной нависали какие-то дворцы из серебристо-голубого камня с островерхими крышами и узкими высокими окнами. Наконец каменная лестница привела нас на извилистую улочку с небольшими домами, и Меле прошептала:
— Вон они.
Они действительно стояли рядом, две гостиницы, и на вывесках у них были изображены перепелка и яростно лающий пес.
— Так что, блохи или клопы? — спросил я, и Меле тут же ответила:
— Блохи.
Так что мы остановились в «Перепелке».
Мы с наслаждением вымылись, переоделись и отдали грязную одежду в стирку; ее приняла у нас сама хозяйка гостиницы, особа с кислым выражением лица. Мы очень опасались блох, но их там, похоже, было значительно меньше, чем на тех сеновалах, где нам приходилось ночевать в пути. Обед оказался довольно скудным и не слишком вкусным, но Меле сказала, что наелась и хочет сразу лечь спать. Она очень неплохо перенесла наше путешествие, и все же под конец дня ее невеликие силенки совершенно иссякали. В последние два дня она даже иногда начинала капризничать и плакать, как и любой окончательно измученный дорогой ребенок. Я и сам чувствовал себя порядком вымотанным, однако нервное возбуждение не позволяло мне сразу лечь спать, и я спросил у Меле, не будет ли она бояться, если я ненадолго схожу в город. Она лежала, прижимая к груди фигурку богини Энну и укрывшись, помимо одеяла, еще и своим любимым плащом.
— Нет, — заверила она меня, — ничего я не буду бояться. Ты иди, Клюворыл.
Но мне она показалась какой-то печальной, неуверенной, и я сказал:
— Может, мне все-таки лучше не ходить?
— Иди, иди, — сурово возразила она. — Уходи же! А я буду спать! — Она закрыла глаза, нахмурилась и поджала губы.
— Ну хорошо. Я скоро вернусь — еще до того, как стемнеет.
Меле мне ответить не пожелала, только еще крепче зажмурилась. И я вышел из комнаты.
Как только я оказался на улице, то сразу увидел тех самых молодых людей, которые указали нам дорогу. Они слегка запыхались после крутого подъема. Тот, что тогда подмигнул мне, тоже заметил меня и спросил:
— Ну что, значит, выбрали блох?
У него была очень приятная улыбка, и он совершенно не скрывал, что мы с Меле его заинтересовали. Я воспринял эту вторую встречу как некий знак судьбы и спросил:
— Вы ведь студенты университета? — Он кивнул; его спутник с недовольным видом стоял рядом. — Я бы очень хотел узнать, могу ли и я стать студентом.
— Мне так и показалось.
— Не могли бы вы… вообще-то… как мне следует… и у кого мне лучше спросить?..
— А что, разве тебя никто сюда не посылал? Ну, твой учитель или ученый, у которого ты работал? Неужели нет?
— Нет, — ответил я, и сердце у меня упало.
Он задумчиво склонил голову набок; смешная бархатная шапочка сидела у него на голове как-то особенно лихо.
— Ладно, идем с нами в «Большую бочку», выпьем и поговорим, — сказал он. — Меня зовут Сампатер Йилле, а это Гола Медерра. Он изучает юридические науки, а я — филологию.
Я назвал свое имя и сказал:
— Я был рабом в Этре.
Я решил сразу во всем признаться — до того, как они со стыдом поймут, что предложили свою дружбу бывшему рабу.
— В Этре? Неужели ты и во время той знаменитой осады там жил? — сразу заинтересовался Сампатер, не обращая внимания на мое «ужасное» признание, а Гола сказал:
— Да идемте же, мне пить хочется!
Мы пили пиво в «Большой бочке», битком набитой шумными студентами; они в основном были примерно моих лет или чуть старше. Сампатер и Гола стремились, во-первых, выпить как можно больше пива и как можно скорее, а во-вторых, поговорить с каждым, кто находился в зале, и каждому они представляли меня, и каждый давал мне совет, куда лучше пойти и с кем повидаться, чтобы получить разрешение посещать лекции по филологии. Когда же выяснилось, что я не знаю ни одного из тех знаменитых преподавателей университета, имена которых они упоминали, Сампатер воскликнул:
— Неужели ты не знаешь ни одного имени? Ни одного человека, у которого хотел бы учиться?
— Учиться я хотел бы у Оррека Каспро, — сказал я.
— Ха! Ничего себе! — Он так и уставился на меня, потом рассмеялся и поднял кружку, желая со мной чокнуться. — Так ты у нас, значит, поэт!
— Нет, нет. Я только… — Я не знал, кто я такой. Я вообще знал слишком мало; не знал даже, чем хочу заниматься, кем хотел бы стать. Никогда в жизни я не чувствовал себя до такой степени невежественным.
А Сампатер, осушив кружку до дна, заявил:
— Всем еще по одной, я плачу. А потом я провожу тебя и покажу, где он живет.
— Нет, не могу же я…
— Почему же нет? Видишь ли, он держится совсем не как профессор университета и званиям особого значения не придает. Так что к нему вовсе не нужно подползать на коленях. В общем, выпьем и пойдем прямо к нему, это совсем близко.
Но я все-таки ухитрился улизнуть от этой развеселой компании, сказав, что сейчас мне непременно нужно вернуться в гостиницу, потому что мой маленький братишка остался там один. Я заплатил за выпитое нами пиво, что еще больше расположило ко мне моих новых знакомых, и Сампатер подробно рассказал, как найти дом Оррека Каспро; оказалось, что он всего в двух улицах от «Большой бочки», за углом.
— Ты обязательно завтра же сходи и повидайся с ним! — сказал Сампатер. — Или лучше давай я сам с тобой схожу.
Но я заверил его, что непременно завтра же отправлюсь к Орреку Каспро и постараюсь воспользоваться его именем как паролем. Лишь после этого мне удалось убраться из «Большой бочки» и вернуться наконец в «Перепелку». Голова у меня от всех этих событий просто шла кругом.
Проснулся я рано и долго лежал, размышляя, пока в нашу комнатку с низким потолком не заглянуло солнце. И тут я наконец пришел к определенному решению. Мои невнятные планы насчет того, чтобы стать студентом университета, как-то сами собой растворились. У меня не хватало денег, не хватало знаний, и я был уверен, что никогда не смогу стать таким же уверенным и легкомысленным, как эти веселые, доброжелательные парни из «Большой бочки». Они были, в общем-то, моими ровесниками, вот только взрослели мы по-разному.
В действительности же мне первым делом нужно было найти работу, чтобы содержать себя и Меле. В таком большом городе, где нет никаких рабов, работа, конечно же, должна была бы найтись. Но в Месуне я пока что знал имя только одного человека и решил пойти именно к нему. Если же у него для меня работы не найдется, тогда я поищу ее в другом месте.
Когда Меле наконец проснулась, я сказал, что для начала нам надо пойти и купить себе какую-нибудь приличную одежду. Ее эта идея чрезвычайно вдохновила. Мы обратились за советом к нашей хозяйке с кислым лицом, и она объяснила нам, как добраться до рынка, где торгуют подобными вещами; он находился у подножия того холма, на котором стоит цитадель. На рынке мы обнаружили великое множество людей, торговавших как новым, так и поношенным платьем, так что экипировались мы вполне пристойно, даже с некоторым шиком.
Заметив, что Меле с завистью и восхищением любуется очень красивым вышитым платьем из шелка цвета слоновой кости, я как бы невзначай сказал ей:
— Знаешь, Пискля, тебе совсем не обязательно продолжать быть Мивом.
Она стыдливо понурилась и прошептала:
— Все равно оно мне слишком велико. — Платье действительно было на взрослую женщину. Мы всласть полюбовались им, вышли из лавки, и Меле вдруг сказала: — Знаешь, оно чем-то очень похоже на Диэро.
И я был с ней совершенно согласен.
В конце концов мы выбрали себе узкие мужские штаны, льняные рубашки и куртки; так были одеты почти все мужчины и мальчики вокруг. Для Меле я отыскал элегантную бархатную курточку с пуговицами, сделанными из медных монеток. Она была страшно довольна и все рассматривала эти пуговки, пока мы снова взбирались на крепостной холм.
— Ну вот, теперь у меня всегда будет немножко денег, — говорила она.
Подойдя к стойке уличного торговца, мы перекусили хлебом с оливковым маслом и маслинами, и я сказал:
— А теперь мы пойдем повидаться с тем великим человеком.
Меле пришла в восторг. Она, точно козочка, скакала впереди меня, поднимаясь по крутой улочке, а я шел за ней, подгоняемый какой-то пугающей решимостью. По дороге я забежал в гостиницу и взял свою заветную книжку, завернутую в тростниковую ткань.
Дорогу Сампатер объяснил хорошо; мы сразу нашли тот дом, который был нам нужен, — высокое узкое строение, вплотную примыкавшее к выступающей из щели холма скале. На этой улице дом Каспро оказался последним. Я подошел к двери и постучался.
Дверь открыла молодая женщина с такой бледной или белой кожей, что мне показалось, ее лицо светится. А уж волосы! Мы с Меле так и уставились на ее волосы; никогда в жизни не видел я таких волос! Они были точно тончайшая золотая проволока, точно взбитая овечья шерсть, точно светящийся нимб у нее над головой!
— Ой! — невольно воскликнула Меле, и я чуть не сделал то же самое.
Женщина слегка улыбнулась. Я представил себе, какими смешными мы ей, должно быть, кажемся: два мальчика, большой и маленький, чистенькие, но страшно скованные, стоят на пороге, пялятся на нее во все глаза, но не говорят ни слова. Улыбка у нее была добрая, и это придало мне смелости.
— Я пришел в Месун, чтобы повидаться с Орреком Каспро, если… если это возможно, конечно, — сказал я.
— Да, я думаю, это вполне возможно, — кивнула она. — Не могу ли я узнать…
— Мое имя Гэвир Айтана Сидой. А это мой брат… его зовут Мив…
— Меня зовут Меле, я девочка, — быстро сказала Меле и тут же нахохлилась, нахмурилась, точно крошечный ястребок, и опустила глаза.
— Пожалуйста, войдите, — пригласила нас женщина. — Меня зовут Мемер Галва. Я сейчас спрошу, не освободился ли Оррек. — И она ушла, быстрая и легкая, и ее чудесные волосы пылали у нее над головой, точно пламя свечи, точно солнечный свет.
Мы стояли в узком вестибюле. По обе стороны виднелись двери в разные другие помещения.
Меле просунула в мою ладонь свою ручонку и прошептала:
— Это ничего, что я назвалась не Мивом?
— Конечно ничего. Я очень даже рад, что ты не Мив.
Она кивнула. И вдруг снова воскликнула, но гораздо громче:
— Ой!
Я проследил за ее взглядом и остолбенел: по коридору навстречу нам шел лев.
Он, как бы не замечая нас, остановился в дверном проеме, виляя хвостом и нетерпеливо оглядываясь через плечо. Только это был не черный болотный лев; он был цвета песка и не слишком большой. И я беззвучно прошептал: «Энну!»
— Иду, иду, — послышался чей-то звонкий голос, и в дверях показалась женщина, спешившая следом за львом.
Увидев нас, она воскликнула:
— О, пожалуйста, не бойтесь! Она совсем ручная. Я не знала, что здесь кто-то есть. Может быть, вы пройдете в гостиную?
Львица слегка повернулась к ней и села, всем своим видом выражая нетерпение. Женщина положила руку ей на голову и что-то тихонько сказала, а львица чуть обиженно ответила: «Ауфф!»
Я посмотрел на Меле. Девочка застыла как изваяние и не сводила с львицы глаз; на лице ее были написаны весьма сложные чувства — то ли ужас, то ли полное восхищение. Женщина тоже смотрела на нее.
— Ее зовут Шетар, — сказала она, обращаясь именно к Меле. — К нам она попала еще котенком. Хочешь ее погладить? Она это любит. — Голос у женщины был необычайно приятный, низкий, грудной, мелодичный. А говор ее напомнил мне Чамри Берна, — видимо, она тоже была уроженкой Высокогорий.
Меле, еще крепче сжав мою руку, кивнула, и мы с ней осторожно подошли к львице. Женщина улыбнулась нам и сказала:
— Меня зовут Грай.
— Она — Меле. А я — Гэвир.
— Меле! Какое чудесное имя! Шетар, пожалуйста, поздоровайся с Меле как полагается.
Львица вскочила и, повернувшись к нам мордой, низко поклонилась — вытянула передние лапы, как это делают кошки, когда потягиваются, и опустила на них подбородок. Потом выпрямилась и выразительно посмотрела на Грай. Та достала что-то из кармана, сунула львице в пасть и похвалила ее:
— Хорошая девочка!
Через несколько минут Меле уже гладила львицу по широкой голове и мощной шее, а Грай легко и непринужденно отвечала на ее вопросы насчет Шетар. Это пока всего лишь пол-львицы, сказала Грай, а я подумал: и половины более чем достаточно!
Затем Грай повернулась ко мне:
— Вы, наверное, пришли с Орреком повидаться?
— Да. Но… та госпожа сказала, чтобы мы подождали.
Как раз в эту минуту в вестибюль вернулась Мемер Галва и сообщила:
— Он попросил вас подняться к нему в кабинет. Если хотите, я покажу вам дорогу.
А Грай предложила:
— Может, ты, Меле, предпочтешь пока побыть с нами? С Шетар и со мной?
— Ой, конечно! Пожалуйста! — выпалила Меле и посмотрела на меня, проверяя, хорошо ли это с ее стороны.
— Пожалуйста, — эхом откликнулся я. — Конечно оставайся. — Сердце мое стучало как бешеное, и все мысли куда-то разбежались. Я последовал за бледным пламенем волос Мемер, и мы, поднявшись по узенькой лесенке, оказались в каком-то коридоре.
Когда она открыла дверь, я сразу понял, где нахожусь. Я узнал это помещение; я его вспомнил. Я был здесь множество раз, в этой темной комнате с высоким окном, со столом, заваленным книгами, с этой горящей настольной лампой… Я узнал это лицо, которое повернулось ко мне, живое, печальное, незащищенное. Я узнал этот голос, произносящий мое имя…
Я не мог вымолвить ни слова. Я замер, точно каменная глыба. А он внимательно посмотрел на меня и тихо спросил:
— В чем дело, Гэвир?
Я пробормотал какие-то извинения, а он встал, снял со стула стопку книг, усадил меня на него и сам тоже уселся напротив.
— Итак?
Я сжимал в руках свой сверток из тростниковой ткани. Потом развернул его, неловко цепляясь за волокна, и протянул ему «Космологии».
— Когда я был рабом, — сказал я, — мне было запрещено читать ваши книги. Но один мой друг, тоже раб, подарил мне свой рукописный экземпляр «Космологий». Когда я потерял все на свете, то потерял и эту книгу, однако она снова была мне подарена и вместе со мной пересекла две реки — реку смерти и реку жизни. Она служила мне знаком, указывавшим, где находится главное мое сокровище. Она была моим проводником. И я… я последовал за нею к ее создателю. И, увидев вас, я понял, что это вас я всю жизнь видел в своих видениях, что именно сюда я и должен был прийти…
Он взял маленький томик в потрепанном, разбухшем от воды переплете, повертел его в руках, осторожно, с нежностью открыл и прочел:
— «Три вещи, приумножаясь непрерывно, укрепляют душу: любовь, знания и свобода». — Он вздохнул и сказал чуть устало, возвращая мне книгу: — Я был ненамного старше тебя, когда написал это. Ты оказал мне великую честь, Гэвир Айтана. Ты сделал мне самый лучший подарок, какой только читатель может сделать писателю. Могу ли и я что-нибудь подарить тебе?
И у него тоже был говор уроженца Верхних Земель, как у Чамри Берна.
Я молчал; у меня не было слов. Моя вспышка красноречия была недолгой, и теперь язык точно прилип к нёбу.
— Ну что ж, у нас еще будет время обсудить это, — ласково сказал он, заметив, в каком я состоянии. — Лучше расскажи-ка мне немного о себе. Где ты жил, когда был рабом? Насколько я могу судить, это не та страна, которую я так хорошо знаю. У нас в Верхних Землях рабы разбираются в книгах не лучше хозяев.
— Я был рабом в Доме Арка, это в Этре. — И слезы выступили у меня на глазах, стоило мне произнести эти слова.
— Но ты ведь явно уроженец Болот! Я не ошибся?
— Нас с сестрой похитили охотники за рабами… — И постепенно ему удалось вытянуть из меня всю историю моей жизни, в кратком изложении разумеется, однако он все продолжал меня расспрашивать и не позволял забегать вперед. Я не стал особенно распространяться о гибели Сэлло — не мог же я взвалить на плечи почти незнакомого человека самое большое горе своей жизни. Но когда я добрался до своего возращения в лес и встречи с Меле, глаза его блеснули, и он сказал:
— Мою мать тоже звали Меле. И мою маленькую дочь… — Голос его дрогнул, и он отвернулся. — Эта девочка ведь, кажется, пришла с тобой? Так Мемер мне сказала.
— Ну да, не мог же я в лесу ее оставить, — сказал я; мне казалось, что присутствие Меле в этом доме требует неких извинений.
— А кое-кто наверняка смог бы.
— Меле очень способная! — быстро заговорил я. — У меня никогда не было такой замечательной ученицы. Она все прямо на лету схватывает. Я надеюсь, что здесь… — И я вдруг умолк. А на что я, собственно, надеялся? Как в отношении Меле, так и себя самого?
— Здесь она, разумеется, сможет получить все, что такой малышке необходимо, — быстро и твердо сказал Оррек Каспро. — Как же ты странствовал с маленькой девочкой на руках? Как вам вообще удалось добраться от Данеранского леса до Месуна? Нелегко, должно быть, пришлось?
— Да нет, это оказалось не так уж и сложно, пока я не узнал, что… что мои враги из Аркаманта все еще охотятся за мной, что они идут за нами по пятам. — Но я не стал называть их имена — Торм и Хоуби. Я чувствовал, что мне необходимо самому вернуться туда и сказать им в лицо, кто они такие. Сказать им, что в смерти моей сестры виновны именно они, что эта смерть по-прежнему на их совести.
Когда я рассказывал Орреку, как Хоуби гнался за нами, как он почти настиг нас, когда мы переправлялись через Сенсали, он слушал меня так же, как мужчины в лагере Бриджина слушали в моем исполнении «Осаду и падение Сентаса», — затаив дыхание.
— Ты видел, как он утонул? — спросил он.
Я покачал головой:
— Я видел только, что на коне больше не было всадника. Река там очень широкая, и было трудно разглядеть даже то, что творилось у ближнего ко мне берега. Он мог утонуть. А мог и не утонуть. Но мне кажется… — Я не знал, как выразить словами, что та цепь наконец разорвана.
Каспро некоторое время молчал, обдумывая рассказанное мною, потом сказал:
— Я бы хотел, чтобы Мемер и Грай тоже послушали твою историю. А еще мне хотелось бы побольше узнать об этих «воспоминаниях», как ты их называешь, или видениях… о том, как это ты, например, видел меня! — И он рассмеялся, ласково, с симпатией и удивлением, на меня глядя. — И мне очень хочется поскорее познакомиться с твоей спутницей. Так, может, теперь пойдем вниз?
Рядом с их домом был садик, небольшой, как бы зажатый между стеной дома и тем скалистым утесом, к которому этот дом примыкал. Садик был залит лучами утреннего солнца и полон цветов, что расцветают во второй половине лета, и я тут же «вспомнил» эти цветы. Вода в маленьком фонтанчике не била струей, а разлеталась легкими брызгами. У фонтана на мраморных скамьях сидели две женщины, девочка и львица — женщины и девочка мирно беседовали, а львица, разумеется, спала. Меле, у которой вид тоже был довольно сонный, ласково ее поглаживала.
— По-моему, вы с моей женой уже познакомились. Ее зовут Грай Барре, — сказал мне Каспро. — Мы с ней оба уроженцы Верхних Земель. А Мемер Галва приехала к нам из своего родного Ансула и весь этот год гостит у нас. Мы с ней обмениваемся знаниями: я рассказываю ей о современных поэтах, а она учит меня аританскому языку; ты, наверное, знаешь, что это древний язык всего Западного побережья. Итак, представь меня, пожалуйста, своей юной спутнице.
Но стоило нам подойти ближе, как Меле вскочила и прижалась ко мне, пряча лицо. Это было на нее не похоже, и я не знал, что делать.
— Меле, — сказал я, — хозяин этого дома хочет с тобой познакомиться; это тот самый великий человек, ради которого мы и пришли сюда.
Но она упорно обнимала меня за ноги и на Каспро смотреть не желала.
— Ничего страшного, — сказал он, и по лицу его скользнула тень грусти. Затем, не глядя на Меле и не приближаясь к ней, он спокойно обратился к женщинам: — Грай, Мемер, мы должны еще немного задержать наших милых гостей. Я бы очень хотел, чтобы и вы послушали их историю.
— А Меле уже кое-что нам рассказала — например, о курах на барке, — сказала Мемер. Ее золотистые волосы так сияли на солнце, что я и смотреть на нее не мог, и глаз отвести был не в силах. Каспро сел на скамью рядом с Мемер, а я напротив, поставив Меле между колен и прижав ее к себе. Мне казалось, что таким образом я защищаю не только ее, но и себя.
— По-моему, нам сейчас в самый раз немножко перекусить, — сказала Грай. — Меле, ты ведь поможешь мне, да? Тогда идем со мной. Мы скоро вернемся. — И Меле довольно легко позволила ей увести себя, но от Каспро упорно отворачивалась.
Я стал извиняться за ее поведение, но он возразил мне:
— А ты подумай, разве может малышка сейчас вести себя иначе? — Я задумался, вспоминая наше путешествие, и понял, что, пожалуй, единственным незнакомым мужчиной, с которым Меле сразу же охотно заговорила, был тот карлик, хозяин гостиницы, который, возможно, показался ей похожим на странного ребенка; ну, и еще, пожалуй, тот пастух, но и он тоже далеко не сразу завоевал ее доверие. Да, Меле явно сторонилась мужчин, стоило вспомнить хотя бы тех матросов на барке. Видимо, теперь она их просто боялась. А я этого просто не заметил. И у меня сжалось сердце, когда я вспомнил, какую жизнь она вела до моего появления в сожженном Сердце Леса.
— А ты, наверное, родом с Болот? — спросила у меня Мемер. Я вздрогнул. У всех этих людей были удивительно красивые голоса; ее, например, звучал точно бегущая вода.
— Да, я там родился, — с трудом вымолвил я, но больше ничего прибавить не смог, и вместо меня заговорил Каспро:
— А потом, когда он еще совсем малышом был, их вместе с сестрой похитили охотники за рабами и увезли в Этру. Там ты и вырос, верно, Гэвир? Похоже, тебя в том доме неплохо учили. Зачем же твои хозяева хотели дать тебе образование? И кто был твоим учителем?
— Один раб. Его звали Эверра.
— А какие книги были в твоем распоряжении? Не думаю, что города-государства — это обитель знаний, хотя в Пагади, безусловно, есть несколько настоящих ученых и поэтов. Впрочем, и там больше думают об армии, чем об ученых.
— Все книги, которые имелись у Эверры в библиотеке, были старые, — сказал я. — Современных авторов он нам читать не позволял — то есть тех, кого он считал современными…
— Вроде меня, например, —
быстро вставил Каспро со своей мимолетной широкой улыбкой. — Понимаю, понимаю. В общем, вы изучали Нему, всевозможные эпические поэмы и летописи, «Этику» Трудека… Меня в Деррис-Уотере примерно тем же заставляли заниматься. В общем, ясно: тебя учили для того, чтобы впоследствии ты смог учить детей этого Дома. Ну что ж, это уже неплохо. Хотя воспринимать учителя своих детей как раба…
— Там к домашним рабам совсем не так уж плохо относились, — возразил я. — Пока… — И я умолк.
— Разве можно быть довольным своим положением раба? — удивилась Мемер.
— Можно, если твои хозяева — люди не жестокие и если ты ничего иного никогда не знал, — твердо сказал я. — Если все вокруг уверены, что таков порядок вещей, таким он был всегда, ибо его завещали нам предки, и таким должен навсегда и остаться, тогда тебе и неоткуда узнать, что тут… что-то не так, что-то неправильно.
— Но как же ты сам-то мог этого не понимать? — воскликнула она, задумчиво на меня глядя; она не обвиняла меня, не спорила со мной, а просто пыталась понять то, что было ей непонятно. Потом сказала, глядя мне прямо в глаза: — А знаешь, я ведь тоже в Ансуле была рабыней. Как и весь мой народ. Но это произошло, потому что нас завоевали. По рождению мы к касте рабов не принадлежали и вовсе не обязаны были верить, что являемся рабами только потому, что «таков порядок вещей». Но это, наверное, нечто другое. У вас все было иначе.
Мне очень хотелось еще поговорить с ней, но я не мог — слишком еще стеснялся.
— Между прочим, — сказал я, повернувшись к Орреку Каспро, — именно раб научил меня петь твой гимн Свободе.
И тут же мимолетная улыбка вспыхнула на мрачновато-спокойном лице Мемер. Хотя кожа у нее и была очень светлой, а волосы — рыжими, глаза оказались поразительно темными и яркими и сверкали, точно затаенный огонь внутри опала.
— Мы тоже пели эту песню в Ансуле, когда прогнали оттуда альдов! — радостно воскликнула она.
— Все дело в том, что у этой песни чудесная мелодия, — сказал Каспро. — Очень хорошая мелодия. Запоминающаяся. — Он потянулся, наслаждаясь солнечным теплом, и снова повернулся ко мне. — Знаешь, я бы хотел побольше узнать о Барне и его городе. Похоже, там произошла чудовищная трагедия. Мне будет интересно все, что ты сумеешь припомнить. Но ты, кажется, говорил, что стал у него кем-то вроде придворного сказителя? Значит, у тебя хорошая память?
— Очень хорошая, — кивнул я. — Говорят, это мой особый дар.
— Ага! — Он явно полностью мне верил, и я не испытывал ни малейшего смущения. — И ты быстро все запоминаешь?
— Я даже и не запоминаю — оно само запоминается, — сказал я. — Я, в общем-то, именно поэтому сюда и пришел. Какой прок от головы, битком набитой тем, что ты когда-то слышал или прочел, если это никому не нужно? Правда, в лесу люди с удовольствием слушали всякие мои истории, а вот на Болотах моим сородичам даже это оказалось ни к чему. Вот я и подумал, что, может быть, в университете…
— Да, да, несомненно, — сказал Каспро. — Или, может быть… Ну ладно, там посмотрим. К нам уже идет медеренде феребо ен рефема — я правильно сказал, Мемер? На аританском это значит «красивая женщина, несущая еду». Тебе наверняка захочется выучить аританский язык, Гэвир. Ты только представь себе: это же совершенно другой язык, — во всяком случае, он весьма отличается от всех современных языков побережья, хоть и является их праязыком, — и на этом дивном языке существует совершенно иная поэзия, целый огромный ее пласт! — Каспро говорил горячо и страстно, что, как я уже успел заметить, вообще было для него характерно, однако на Меле он по-прежнему старался не смотреть и даже близко к ней не подходил. Смотрел он только на жену, помогая ей расставлять на мраморной скамье принесенную еду — хлеб, сыр, оливки, фрукты и легкий сидр.
— Где вы остановились? — спросила Грай, и, когда я сказал, что в «Перепелке», — она засмеялась: — Ну и как там блохи?
— Не так уж страшно. Правда ведь, Меле?
Меле уже опять подошла и стояла возле меня, тесно ко мне прижавшись. Она покачала головой и почесала себе плечо.
— У Шетар тоже есть свои собственные, личные блохи, — сообщила ей Грай. — Львиные. И этими блохами она с нами делиться не желает. А те блохи, что водятся в «Перепелке», ее почему-то не кусают. — Шетар приоткрыла один глаз, нашла принесенную еду недостойной внимания и снова задремала.
Немножко перекусив, Меле присела рядом со мной на каменную дорожку так, чтобы можно было достать рукой до львицы и погладить ее. Грай тоже перебралась к ней поближе, и они все время о чем-то беседовали шепотом, стараясь не мешать нашему с Каспро разговору, к которому присоединилась и Мемер. Каспро очень мягко, не в лоб, потихоньку выяснял, насколько я действительно образован, что знаю и чего не знаю. А Мемер, на мой взгляд, хоть она и успела сказать за это время совсем немного, знала, похоже, все, что только можно знать о народной поэзии, о всевозможных сказках и легендах. Зато, когда мы перешли к истории, она тут же объявила, что ничего в этом не понимает и знает только историю родного Ансула, да и то весьма поверхностно, потому что в этом городе все книги подчистую были уничтожены завоевателями. Мне очень хотелось послушать ее рассказ об этом чудовищном преступлении, но Каспро настойчиво гнул свою линию и продолжал задавать вопросы, пока не выяснил для себя все, что хотел. Он даже умудрился вытянуть из меня признание в том, что когда-то давно, еще совсем глупым мальчишкой, я хотел написать историю всех городов-государств.
— Только вряд ли мне это когда-нибудь удастся сделать, — сказал я, притворяясь, что мне подобная затея стала, в общем-то, почти безразлична. — Ведь для этого нужно непременно туда вернуться, а мне эта дорога заказана.
— Это почему же? — спросил Каспро и нахмурился.
— Я ведь беглый раб!
— Все граждане Урдайла — люди свободные. — Он все еще хмурился. — Никто и нигде не имеет права объявить гражданина Урдайла рабом!
— Но я ведь не гражданин Урдайла.
— Ничего страшного. Мы с тобой сходим в палату общин, я за тебя поручусь, и уже завтра ты сможешь стать полноправным гражданином Урдайла. Здесь много бывших рабов, и все они свободно ездят куда угодно — в Азион и в другие города-государства, — поскольку считаются гражданами Урдайла. Кстати сказать, ты мог бы отыскать весьма интересные исторические документы прямо здесь, в университетской библиотеке; их здесь гораздо больше, чем в самих городах-государствах.
— Это верно; они и впрямь не знают, что с такими документами делать, — с грустью подтвердил я, вспоминая, сколько интереснейших летописей и прочих чудесных свидетельств прошлого мы перенесли и спрятали тогда в подвалах под Гробницей предков.
— Возможно, со временем ты сможешь разъяснить им, для чего нужны подобные документы, — улыбнулся Каспро. — Но первое, что тебе нужно, — это стать гражданином Урдайла, а затем пойти и записаться в университет.
— Каспро-ди, у меня не так уж много денег, — возразил я. — И по-моему, первое, что я должен сделать, — это найти себе работу.
— Ну что ж, и на сей счет у меня есть одна идея, если, конечно, Грай согласится. У тебя ведь, наверное, и почерк хороший?
— Да, неплохой, — сказал я, с благодарностью вспомнив бесконечные домашние задания Эверры.
— Мне нужен переписчик. Кроме того, человек с такой отличной памятью, как у тебя, мог бы оказать мне и еще кое-какую, причем весьма существенную, помощь, поскольку у меня последнее время неладно с глазами. — Он сказал это как-то очень легко, и темные глаза его смотрели вполне ясно, но легкая гримаса все же скользнула по его лицу, и я заметил, что Грай бросила на него взгляд, полный тревоги и озабоченности. — А помощь эта заключалась бы в следующем: например, мне понадобилась для лекции некая ссылка на одно из произведений Дениоса, а я никак не могу вспомнить, что следует за словами «Пусть лебедь к северным краям стремится…»
И я тут же подхватил:
Пусть серый гусь летит с гусыней рядом
Весной на север. Я ж на юг отправлюсь…
— Ах! — воскликнула Мемер, и солнечный нимб ее волос засиял еще ярче. — До чего же чудные стихи!
— Еще бы! — поддержал ее Каспро. — Только поэма эта, к сожалению, малоизвестна. Ее знают разве что немногочисленные южане, тоскующие по родным краям. — А я тут же вспомнил тоскующего по родному дому северянина Таддера, который одолжил мне томик Дениоса, где было это стихотворение. Но Каспро тем временем продолжал развивать свою идею насчет помощника: — Вот вам наглядный пример того, как полезно было бы мне иметь дома такую вот «живую антологию»! Но разумеется, если самого Гэвира подобная работа хоть как-то привлекает. Я думаю, что даже если бы ты и не помнил чего-то наизусть, то все равно с легкостью отыскал бы это в книгах. У меня ведь довольно много книг. Кроме того, при такой работе ты вполне успевал бы и университетские лекции посещать. А ты что по этому поводу думаешь, Грай?
Грай, по-прежнему сидевшая на каменной дорожке рядом с Меле, подняла на него глаза, взяла его за руку, и они некоторое время молча смотрели друг на друга, и в этом взгляде читалась спокойная сила любви. Меле сперва взглянула на Грай, потом на Оррека; на него она посмотрела сурово, нахмурившись, изучая.
— По-моему, это отличная мысль, — сказала наконец Грай.
— Видишь ли, — сказал мне Каспро, — у нас в доме имеется несколько свободных комнат, но одна из них сейчас занята Мемер и будет занята ею столько, сколько она сама позволит нам задерживать ее здесь, — я думаю, ближайшую зиму, по крайней мере, она проживет с нами. Затем есть еще комнаты на чердаке, где у нас с недавних пор живут две молодые женщины из Бендрамана. Они студентки. Сейчас, правда, они уехали в Деррис-Уотер, дабы потрясти тамошних священнослужителей приобретенными знаниями, так что пока эти комнаты свободны. Ждут тебя и Меле.
— Оррек, — остановила его жена, — все-таки следовало бы дать Гэвиру время подумать.
— Порой бывает очень опасно тратить много времени на размышления, — возразил он и посмотрел на меня с улыбкой, одновременно извиняющейся и вызывающей.
— Для меня это было бы… это было бы… Мы были бы… — У меня никак не получалось закончить предложение.
— А для меня было бы огромным удовольствием, если бы в доме наконец поселился ребенок, — сказала Грай. — Вот эта девочка. Если, конечно, самой Меле подобная идея по душе.
Меле посмотрела на нее, на меня, и я быстро сказал:
— Меле, хозяева этого дома приглашают нас пока пожить с ними.
— И с Шетар?
— Да.
— И с Грай? И с Мемер?
— Да.
Больше она ничего не сказала, только кивнула и опять принялась гладить львицу по густой шерсти. Шетар слабо, но явственно похрапывала.
— Прекрасно! Значит, решено, — сказал Каспро, и в его речи особенно отчетливо зазвучал северный говор. — Ступайте за своими вещами в «Перепелку» и перебирайтесь сюда.
Я колебался, не веря собственным ушам.
— Разве ты с детства не видел меня в своих видениях? Разве я, незнакомец, не окликал тебя по имени? И разве наяву ты стремился не ко мне? — Оррек говорил тихо, но, как всегда, с затаенной страстью. — Если нас направляет сама судьба, разве можем мы спорить с таким проводником?
Грай смотрела на меня с сочувствием.
А Мемер улыбнулась, быстро посмотрела на Каспро и сказала мне:
— С ним очень трудно спорить!
— Но я… я вовсе не хочу с ним спорить! — заикаясь, возразил я. — Вот только… — И я снова умолк, не в силах договорить.
Меле встала с дорожки, села рядом со мной на скамью, тесно ко мне прижалась и прошептала:
— Не надо плакать, Клюворыл, не надо! Все хорошо.
— Я знаю, — сказал я и обнял ее за плечи. — Все хорошо, Меле.
Примечания
1
Траву моли Одиссей получил от Гермеса и, подмешав в напиток, одержал победу над волшебницей Киркой (Цирцеей).
(обратно)
2
Английские слова
dragon и
dragonfly являются однокоренными, так что детское прозвище главной героини — Стрекоза (Dragonfly) носит дополнительный смысл, ибо впоследствии эта девушка превращается в дракона.
(обратно)
3
Чем больше одно походит на другое, тем больше они отличаются
(фр.).
(обратно)
4
Следует помнить, что слова «
dragon» (дракон) и «
dragonfly» (стрекоза) являются однокоренными.
(обратно)
5
Римский император
Юлиан Отступник (331–363), получив христианское воспитание и став императором, объявил себя сторонником языческой религии, реформировал ее на базе неоплатонизма и издал эдикты против христиан, за что и получил от христианской церкви прозвище Отступник.
(обратно)
6
Имеется в виду выступление
Лютера в Виттенберге в 1517 г. против индульгенций; это выступление послужило началом Реформации.
(обратно)
7
Франц I (1768–1835), из династии Габсбургов, с 1804 г. имевший титул императора Австрии; последний император Священной Римской империи, один из организаторов Священного союза. Его дочь,
Мария Луиза, в 1810 г. была выдана за Наполеона I.
(обратно)
8
Мне также очень хотелось бы это знать!
(нем.).
(обратно)
9
Священный союз — реакционный союз Австрии, Пруссии и России, заключенный в Париже в 1815 г. после падения империи Наполеона I. Одной из основных целей союза являлось подавление революционного и национально-освободительного движения. В конце 1815 г. к союзу присоединились Франция и ряд других европейских государств. Священный союз фактически распался к началу 30-х гг. из-за противоречий между его членами и развития революционного движения.
(обратно)
10
Стилихон (
ок. 365–408) — римский полководец; из вандалов. С 395 г. фактически правил западной частью Римской империи в качестве опекуна малолетнего императора Гонория. Пытался распространить свое влияние и на восток империи, но потерпел неудачу. Был убит по приказу Гонория.
(обратно)
11
Высшее сословно-представительское учреждение во Франции в 1302–1789 гг., состоявшее из депутатов духовенства, дворянства и 3-го сословия (ремесленников, купцов, крестьян). В 1789 г. депутаты 3-го сословия объявили себя Национальным собранием Франции.
(обратно)
12
Пьер Виктюрньен Верньо (1753–1793) — деятель Великой французской революции, один из руководителей жирондистов. По приговору революционного трибунала казнен.
(обратно)
13
Когда ангелы выводили Лота, племянника Авраама, вместе с его семейством из Содома, который должен был неизбежно погибнуть, жена Лота, несмотря на запрет ангелов, все же оглянулась назад и превратилась в белый соляной столб.
(обратно)
14
Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) — немецкий писатель, критик, богослов, философ. Теоретик «Бури и натиска», друг И. В. Гёте. Проповедовал национальную самобытность искусства, утверждал национальное своеобразие и равноценность различных эпох культуры и поэзии (четырехтомная работа «Идеи к философии истории человечества»). Собирал и переводил народные песни. Оказал значительное влияние на немецкий романтизм.
(обратно)
15
«Высший свет»; «Два мира»
(фр.).
(обратно)
16
«Верую в единого Господа. Всемогущего»
(искаж. лат.).
(обратно)
17
Partie carrëe (фр.) — здесь вечеринка вчетвером.
(обратно)
18
Клеменс Меттерних (1773–1859) — князь, министр иностранных дел и фактически глава австрийского правительства в 1809–1821 гг., канцлер — в 1821–1848 гг. Противник объединения Германии. Во время Венского конгресса 1814–1815 гг. подписал секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России и Пруссии. Один из организаторов Священного союза. В Австрийской империи установил систему полицейских репрессий. Конец власти Меттерниха положила революция 1848–1849 гг.
(обратно)
19
Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707–1788) — французский естествоиспытатель; основной труд — «Естественная история» в 36 томах (1749–1788); выдвинул положение о единстве растительного и животного мира; в противоположность К. Линнею отстаивал идею об изменяемости видов под влиянием условий среды.
(обратно)
20
И так далее, и тому подобное
(нем.).
(обратно)
21
— Пусть я приду, пусть ты придешь, пусть он придет!
— Ну так приходи!
— А он придет?
(фр.).
(обратно)
22
Вечное движение
(ит.).
(обратно)
23
Сжалься, Господи!
(лат.).
(обратно)
24
Мычание коров
(лат.). Брелавай сперва делает ошибку, присоединяя к корню союзное слово «
que», а потом исправляется.
(обратно)
25
«Слава в высших Богу!» — славословие, возглашаемое ангелами при рождении
Иисуса Христа (Евангелие от Луки, 2, 14)
(лат.).
(обратно)
26
На тебя, Господи, уповаю
(лат.).
(обратно)
27
Имеется в виду
Июльская революция 1830 г. во Франции, покончившая с монархией Бурбонов и послужившая непосредственным толчком к Бельгийской революции 1830 г. и к Польскому восстанию 1830–1831 гг. Нанесла решительный удар Священному союзу. Главной движущей силой этой революции были рабочие и ремесленники.
(обратно)
28
Карл X (1757–1836) — французский король из династии Бурбонов, издавший знаменитые ордонансы 1830 г., ограничивавшие демократические свободы. Свергнут Июльской революцией.
(обратно)
29
Имеется в виду так называемая
Июльская монархия — период правления французского короля Луи-Филиппа между Июльской (1830) и Февральской (1848) революциями и господства верхушки торгово-промышленной и банковской буржуазии.
(обратно)
30
Мари Жозеф Лафайет (1757–1834) — маркиз, французский политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке (в звании генерала американской армии). В начале Великой французской революции и во время Июльской революции командовал национальной гвардией. Сторонник конституционной монархии, содействовал вступлению на престол Луи-Филиппа.
(обратно)
31
Свершившийся факт
(фр.).
(обратно)
32
«Верую в единого Бога!»
(искаж. лат.).
(обратно)
33
Брат мой
(ит.).
(обратно)
34
Брюна (от
фр. brune) — брюнетка.
(обратно)
35
Радость любви
(фр.).
(обратно)
36
Пабло Касальс (1878–1973) — испанский виолончелист, дирижер, с 1936 г. жил по Франции, с 1956 г. — в Пуэрто-Рико
(обратно)
37
К музыке
(нем.).
(обратно)
38
Kyrie eleison — Господи, помилуй
(греч.). Benedictus — Благословенный
(лат.). Sanctus — Священный
(лат.).
(обратно)
39
Начало молитвы «Благословен будь тот, кто является от имени Господа»
(лат.).
(обратно)
40
О, прекрасная Музыка, благодарю тебя
(нем.).
(обратно)
41
Лилли Легман (1848–1929) — немецкая оперная певица, знаменитое сопрано.
(обратно)
Оглавление
ЗЕМНОМОРЬЕ
(Летопись волшебной страны)
ОСВОБОЖДАЮЩЕЕ ЗАКЛЯТЬЕ
(рассказ)
ПРАВИЛО ИМЕН
(рассказ)
ДОЧЬ ОДРЕНА
(рассказ)
СВЕТ ОЧАГА
(рассказ)
ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ
(трилогия)
Книга I. ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Книга II. ГРОБНИЦЫ АТУАНА
Пролог
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Книга III. НА ПОСЛЕДНЕМ БЕРЕГУ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
ТЕХАНУ
(роман)
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
СКАЗАНИЯ ЗЕМНОМОРЬЯ
(сборник)
Предисловие
Искатель
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Темная Роза и Диамант
Кости земли
На верхних болотах
Стрекоза[4]
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Краткое описание Земноморья
Народы и языки
Ардические земли
Драконы
Языки
Письменность
Литература и исторические источники
История
Начало начал
История архипелага
Короли Энлада
Морред
Короли Хавнора
Махарион и Эррет-Акбе
Темные времена, «Братство Руки», Школа Волшебников
История каргадских земель
Магия
Школа на острове Рок
Волшебство и целибат
НА ИНЫХ ВЕТРАХ
(роман)
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
ШКАТУЛКА, В КОТОРОЙ БЫЛА ТЬМА
(рассказ)
ОДЕРЖАВШИЙ ПОБЕДУ
(рассказ)
ОРСИНИЯ
(цикл)
МАЛАФРЕНА
Часть I. В провинциях
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Часть II. Изгнанники
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Часть III. Выбор
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Часть IV. Путь в Радико
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Часть V. Тюрьмы
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Часть VI. Неизбежная страсть
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Часть VII. Малафрена
Глава 28
Глава 29
Глава 30
РАССКАЗЫ ОБ ОРСИНИИ
(сборник)
Фонтаны
Курган
Ильский Лес
Ночные разговоры
Дорога на восток
Братья и сестры
Неделя за городом
An die Musik[37]
Дом
Хозяйка замка Моге
Воображаемые страны
Две задержки на Северной линии
Глава 1
Глава 2
Глоток воздуха
ЛЕГЕНДЫ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
(цикл)
Книга I. ПРОКЛЯТЫЙ ДАР
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Книга II. ГОЛОСА
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Книга III. ПРОЗРЕНИЕ
Часть I
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Часть II
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Часть III
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Часть IV
Глава 14
Глава 15
*** Примечания ***