
 Винцент Шикула
Каникулы с дядюшкой Рафаэлем
повесть
Винцент Шикула
Каникулы с дядюшкой Рафаэлем
повесть
Рисунки В. Чапля
VINCENT SIKULA
PRÁZDNINY SO STRÝCOM RAFAELOM
MLADÉ LETÁ. BRATISLAVA. 1966
ПЕРЕВЕЛА CO СЛОВАЦКОГО В. В. ЧЕШИХИНА
В 1966 году в Праге проходил Международный конкурс книг для детей и юношества под девизом «Для молодёжи атомного века». Первую премию на этом конкурсе получила повесть молодого словацкого писателя Ви́нцента Ши́кулы «Каникулы с дядюшкой Рафаэ́лем».
В весёлой непритязательной манере рассказывает повесть о деревне Гру́шковец, «самой обыкновенной деревне, как и все», и о знаменитом деревенском оркестре, в котором играет на геликоне герой повести одиннадцатилетний Винцент.
Но за этим непритязательным весёлым рассказом встаёт жизнь современной словацкой деревни со всеми её заботами и радостями.
 ГРУШКОВЕЦ
ГРУШКОВЕЦ
Гру́шковец — самая обыкновенная деревня, как все. По обе стороны улицы — домики, и перед каждым растёт груша.
В этом особенность нашей деревни. В других-то перед домами вы найдёте ну хоть орехи, сливы, яблони или черешни. И некоторые деревни так и называются — по деревьям.
Так, к примеру, у нас есть Верхние и Нижние Ореша́ны, потом Яблонец, который раньше назывался Га́льмешем.
А что такое Гальмеш? Никто не знает, и я тоже. А яблоко-то всякий знает. А тому, кто яблоко знает, и груша не в диковинку.
Там, где плодовым деревьям не повезло, и деревни по-другому прозваны: Ве́рбова, Ясенева, Ду́бовец, Ду́бово, Гра́бушица или Сосновка.
У нас болтают, будто первые тачки появились в Сосновке.
Нашим предкам тачки служили для перевозки тяжестей. На тачке, скажем, можно переправить к соседу мешок картошки или зерна. А если первые тачки в Сосновке появились, так и деревню назвать следовало бы в честь такого человека, который тачку придумал. Может, звали его Ма́цак, По́лякович или Ла́буда. И деревня должна была бы называться Ма́цаковка, По́ляковичева или Ла́будова, Ма́цаковцы, По́ляковичевцы или Ла́будовцы.
Есть ещё и другие деревни: Играм, Ча́тай, Ба́гонь, Ци́фер, Го́цног, Штефа́новка, Ка́плна, Ча́ста, Выпыта́лец.
Откуда взялись такие названия, можно голову ломать хоть до самых святок. Не лучше ли взять велосипед и поехать по деревням, подмечать в них всякие особенности и спрашивать у людей: «Эй, послушайте! Почему Багонь называется Багонь?» Только поосторожней спрашивайте: ведь кое-где на вас и обидеться могут. В Чатае, например, не выговаривают «р»: вместо «гурьба» говорят «гульба», вместо «вихор» — «вихол». В Штефановой каждый второй мальчишка — Ште́фан. Частане в гости часто ходят, в Играме музыку любят, хорошо поют. Измеринцы вечно что-то меряют. Жители Выпытальца все страх как любопытны. Встретят кого-нибудь и давай выпытывать да расспрашивать о чём попало:
— Вы откуда?
— Из Грушковца.
— Из Грушковца?
— Да.
— Из какого? Из какого это Грушковца? Ха-ха-ха!
— Как — из какого? Двадцать, что ли, Грушковцев-то?
— Хе-хе-хе!
— Чему вы смеётесь?
— Чему? Хе-хе-хе-хе! Так, значит, из Грушковца? Хи-хи-хи-хи-хи! Это ведь у вас колокол?
— Какой колокол?
— Ну, тот самый!
— А нам как будто колоколов хватит: три их у нас. В будни звонит один, в воскресенье — все три.
— Ну тот самый, из-за которого вас рваными-драными дразнят. Хи-хи-хи!
— И такой колокол есть. Ну так что? Хоть сто колоколов звони, а наш-то всегда распознать можно!
— Распознать? Хи-хи-хи-хи!
Вот видите. Выпыталицкие-то ещё и насмешники вдобавок. Ни за что ни про что высмеют. К счастью, в Грушковце никто ещё из-за колокола не обижался.
Так оно и есть.
Не обыкновенный наш колокол-то! Обыкновенный где угодно найдётся, а такого, как наш, хоть весь свет пройди, ни за что не встретить. Издалека, за несколько километров, вдруг вы слышите знакомый голос: рванн-дранн… дранн-рванн…
ГРУШКОВЕЦКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Раз уж вспомнился мне колокол, нужно сказать и о грушковецком духовом оркестре. Его знают не меньше колокола, и грушковцы по праву им гордятся. Я ведь и собирался начать как раз с нашего духового оркестра, да в то время у нас полдень отбивали, вот я и заговорил о колоколе, чтобы ненароком не забыть о нём.
В деревнях-то духовые оркестры постепенно на нет сходят. Молодым музыкантам по душе больше джаз, а у стариков — ни одного зуба во рту. А как на трубе беззубый сыграет? Где там!..

Встретятся два старичка, один из них когда-то капельмейстером был. Заглядывают они друг дружке в рот да головой качают: передних-то зубов давным-давно не осталось.
Вот старички и ведут, к примеру, такой разговор:
— Марш Ра́коши знаешь?
— Ну, как не знать!
Другой старичок, выпятив губы, насвистывает несколько тактов.
— Хороший был марш! — растроганно говорит один старик.
— Просто замечательный был марш! — ещё растроганнее восклицает второй.
— И «Победу» помнишь?
— И «Победу» помню. Как же! И «Злату Прагу», — начинает перечислять первый.
— Прекрасные марши были.
— Отличнейшие марши… Слыхал я, будто в Грушковце и по сю пору «Злату Прагу» играют, — сообщает первый, помолчав.
— «Злату Прагу»? — переспрашивает второй.
— И «Злату Прагу» и «Победу», — отвечает первый. — И ты знаешь, Йо́жка, на ком всё держится?
— Да на ком там оркестр держаться может? На старом За́грушке только. Когда он молодой был, кое-что усвоил и ничего не перезабыл.
— На нём весь духовой оркестр держится, — повторяет первый и снова растроганно качает головой.
— Потянет ещё немного — и конец. Совсем дряхлый стал.
— В прошлый четверг ждал я поезда в Ше́нквицах…
— В Ча́никовцах, — поправляет второй.
— В Шенквицах…
Шенквичанам название «Чаниковцы» не нравится, вот они и называют свою станцию по-старому.
— Ждал я там поезда, наконец примчался он с грохотом… И тут из одного вагона выскакивает Загрушка, а за ним остальные музыканты посыпались. Не все ещё на перрон выбраться успели, а кто-то уже Загрушку за полу дёргает.
— Грянем, что ль? — прогудел этот дядька.
— Грянем! — ответил Загрушка.
— Что ж мы отхватим? — спросили музыканты.
— Отхватим-ка «Злату Прагу»…
Я и опомниться не успел, а музыканты уже в круг стали да как грянут. Пассажиры из вагонов в окна высунулись, на перроне со всех сторон оркестр обступили.
— Что тут такое, что за музыканты? — спрашивают.
— Из Грушковца музыканты. Знаете небось старого-то Загрушку?
— Загрушку? Это какого?
— Капельмейстера.
— А едут они откуда? — спрашивают пассажиры. — Со свадьбы, что ли?
— Зачем со свадьбы! В Цифере на похоронах играли!
— На похоронах? Вот тебе и раз! А тут этакую весёлую завели?
— Сами слышите. Покойнику сыграли, теперь живым играют.
— Кому же они играют?
— А всем. Это вам не филармония. Филармония только для радио играет да тем, кто в Братиславе живёт. А грушковецкий духовой оркестр хоть кому сыграет.
— Ну-ну! Так ведь это разные вещи!
— Понятно, что разные. Грушковецкий оркестр играл в Цифере, а филармония в Цифер не приедет.
Первый старичок и сказать не успел, а второй уже смеётся.
— Духовой оркестр играл в Цифере, а в Цифер филармония не приедет! — ещё раз повторил первый.
Потом он глянул на своего приятеля, увидал, что тот смеётся, и давай сам смеяться. Сначала потихоньку, а потом всё громче и громче. Беззубый рот разинул и глаза выпучил так, что слёзы брызнули.
Все на улице видели, как они от смеха за живот держатся. Я и сам их видел, а потому могу вам всё это рассказать.
ГЕЛИКОН
Я стоял у Ри́зика и ждал, когда набежит вода в ведро. Я порядком озяб и начинал злиться на святого Флориана. Это из-за него вода текла медленно, словно он позволил ей замёрзнуть за ночь и только сейчас спохватился воду оттаивать. Вот стою я так, на пальцы дую, на деревню поглядываю. И вдруг, откуда ни возьмись, старый Загрушка из-за церкви выходит. Я сразу его узнал: он ходит, с ноги на ногу́ переваливается, того и гляди, упадёт ещё. «Прощай тогда весь оркестр! — думаю. — И куда ты такую огромную трубу тащишь?» А нёс он на плече ту большущую трубу, которую вы, уж конечно, видали в оркестре. Шагал он по дороге, и вид был у него ужасно важный. Все, кто стоял на улице, с любопытством на него поглядывали. Сегодня праздника, кажись, никакого нет? Или, может, процессия какая-нибудь будет?
А моё ведро тем временем наполнилось. Я взял его обеими руками и осторожно поставил на землю. «Посмотрю-ка ещё на старика», — думаю, а он сам, да чудно как-то, на меня поглядывает. Неподалёку остановился и глаз с меня не сводит. «Ну что ты на меня так смотришь?»

И вдруг он меня спрашивает:
— Сколько лет-то тебе?
— Что?
— А ты разве оглох?
— Почему оглох?
— Я ведь спросил, сколько лет тебе?
— Одиннадцать.

— Одиннадцать?.. Всего одиннадцать? Маловато.
— Почему же маловато?
— Мал ещё, — говорит он словно про себя, а сам глаз с меня не спускает.
Мне-то всё-таки холодно, стоять никак нельзя. И ведро надо скорей домой отнести. А тут он меня остановил:
— Послушай! Ты сможешь эту трубу носить?
— Отчего же не смогу?
— Да я не о том, чтобы ты её сейчас же и понёс. Я вообще спрашиваю: сможешь ли ты её носить Первого мая, или там в престольный праздник, или, скажем, осенью, когда всякие торжества устраиваются — ну, уборка винограда, что ли, или демонстрация, или кто-нибудь день рождения справляет? Ведь в день рождения оркестр должен играть. В день святого Йозефа, на Яна, на Ви́нцента, на Елену играть приходится. Знаешь, кто такой Винцент был?
— Винцентов много было.
— Правильно. Много их было, да и в нашей деревне тоже немало найдётся. Человек семнадцать, а то и все двадцать пять наберём. Двадцать пять Винцентов! Гм… Значит, говоришь, унесёшь эту трубу?
Я покосился на дядюшку Загрушку и слегка пожал плечами. А он продолжал:
— Но знаешь, парень, это ещё не всё. Ты вот что мне скажи: научишься ты чему-нибудь на этом музыкальном инструменте? Погудеть денёк-другой — и до свиданья, таких-то сколько хочешь! Но если кто вздумает этот инструмент у себя завести, тот должен во всякий день недели упражняться, учиться…
Дядюшка Загрушка говорил очень обстоятельно, и мне волей-неволей вспомнилось, как ещё несколько лет назад отец повёл меня в музыкальную школу определять, а меня принять не захотели. Был там этакий краснолицый человечек. Такой красный, будто только что выпил красного вина. Он что-то такое бренчал на рояле и всё заставлял меня петь.
«У этого парня вообще нет слуха!» — заявил он в конце концов.
«Как же это так — нет слуха?» — заволновался отец.
«Нет, и всё тут!»
«Гм… гм… — промычал отец. — А у других детей он есть?» — переспросил отец ещё раз.
«У других детей есть», — отвечал директор.
«А у моего сына, значит, нет?»
«А у вашего мальчика нет».
«Ну нет, так, значит, нет. Насильно его к вам в школу пихать не стану».
Нужно бы, наверное, сказать об этом Загрушке, чтоб знал он, с кем дело имеет. Сказать — нет? Сказать — нет?
— Так, говоришь, ты стал бы учиться? — спросил Загрушка.
— Было бы время, а так отчего не поучиться?
— Вот это самое мне и хотелось знать. Надобно знать, найдётся ли у тебя время-то. Вечер за вечером, вечер за вечером должен ты упражняться.
— Один? — неуверенно спросил я.
— А как бы ты думал? Ума тебе никто не прибавит. Хочешь чего-нибудь добиться — сам добивайся. И ещё одно слово. Вот дело-то какое. Труба не моя и не твоя, а она просто ничья. Но… — Старик выразительно поднял указательный палец. — Если с ней что-нибудь случится, её всей деревне недоставать будет. Понял?
Я кивнул в ответ.
Он надел трубу мне на плечо. Я даже удивился, как это ноги у меня от тяжести не подкосились! Тяжеленная труба оказалась, но я сделал вид, что для меня эта громадина — сущий пустяк.
— Сегодня четверг, через три дня — воскресенье. Вот в воскресенье и придёшь ко мне, посмотрим, как у тебя дело пойдёт. Не забудешь?
— Нет, не забуду!
— Если тебе не по вкусу эта музыка придётся, лучше ты сегодня же ко мне прибеги!
Труба и вправду была ужасно тяжёлая. И ещё хотелось мне поскорей уйти. Совсем руки и ноги закоченели. Да и с водой поторопиться пора бы.
— Знаешь, как эта штука называется? — И дядюшка Загрушка вытащил из инструмента трубочку. — Да откуда же тебе знать, что это такое! Это амбушюром зовётся, а старые музыканты называют мундштуком — на немецкий лад. А вся труба называется «бас» или «геликон». Запомнишь?
— Запомню.
А мне уж реветь впору — так я промёрз, до самых костей. Сунул я руки в карманы, да толку от этого чуть. А старик всё ещё глядел на меня, беспрестанно надувал губы с таким видом, будто чем-то поперхнулся. Господи боже, да скажите же наконец, в чём дело!
— Ты ещё не бреешься? — вдруг спросил дядюшка Загрушка.
— Нет, не бреюсь.
— Это хорошо, что ещё не бреешься. Если бы ты брился, пришлось бы мне тебя ещё всяким другим вещам учить. Да в тринадцать-то лет и бриться никому ещё не надо. Ты ведь сказал, что тебе тринадцать?
— Одиннадцать! — поправил я.
— Гм… Одиннадцать — это ещё меньше, чем тринадцать. А ты знаешь, когда винцентов день?
— Знаю.
— Винцентов день — двадцать первого января. Был когда-то двадцать второго, а теперь уже лет десять, как справляют его двадцать первого. Перед Винцентом всегда были Агнешки, а ныне Агнешек не бывает. Кто-то нос в календарь сунул и Агнешку вычеркнул. Ты в календарь не заглядывал?
— Нет.
— Иной раз думаю я об этом и никак, ну никаким способом догадаться не могу, кто в календарь нос сунул и такой ералаш в именах сотворил… Гляди! — И старик вынул из кармана мятую бумажку. — Вот тебе нотная бумага. К винцентову дню надо бы кое-чему тебе обучиться.
— Научусь, — пообещал я.
Он посмотрел ещё на мои зубы, постучал по ним пальцами, потрогал губы — крепкие ли они. Отошёл в сторонку и ещё довольно долго меня разглядывал, сощурив глаза, словно хотел убедиться, что труба мне идёт.
— Ну, значит, занимайся! Никто ещё сразу учёным не родился! — закончил он разговор и свернул к нижнему концу улицы, перешёл по мостику замёрзший ручей и ещё несколько раз оглянулся на меня.
Я заторопился домой.
КОГДА Я ПРИШЁЛ ДОМОЙ…
Мама дождаться меня не могла и послала отца на улицу посмотреть, где это я застрял с водой.
Отец стоял у ворот, и видно было, что он чем-то недоволен. В руках он держал крохотный окурок. Папа-то мой завзятый курильщик и обычно бросает сигарету, когда от неё остаётся один уголёк, который обжигает губы. Обожжётся — и ходит по дому ворчит, иногда с мамой или со мной ссорится. При этом мне кой-когда здорово попадает. Я как увижу, что отец курит и окурок всё меньше становится, так меня просто нетерпение разбирает поглядеть: что же дальше-то будет? Маме порой не терпится, и тогда она вмешивается раньше времени:
— Брось! Опять ведь обожжёшься!
Отец прикладывает окурок к губам, морщится и в ту же минуту выплёвывает его на пол.
— Что я говорила? — скажет мама. — Хоть бы разок усищи свои спалил.
У отца усов нет, вот он сразу и выходит из себя:
— Да что ты ко мне с этими усами пристала?
— Будь у тебя усы, давно бы ты их спалил, — говорит мама.
— Да что тебе мои усы дались, а? Я на всю семью работаю, ночей не сплю, и никто этого не ценит.
— Перестань.
— А ты на что здесь смотришь? — накидывается на меня отец.
Он хватает меня за ухо, притягивает к столу и требует мой школьный дневник.
Конечно, когда родителям вздумается придраться к своему ребёнку, так они первым делом дневник спрашивают. Перелистают его, а потом дадут взбучку за плохую отметку, полученную ещё в начале учебного года.
— Почему у тебя нет пятёрок?
Всякому небось хочется, чтобы у его сына или дочери были в дневнике одни пятёрки!
Попробуйте представить себе, что выйдет, если исполнится это желание! Все ученики станут пятёрочниками, и никаких табелей не надо, достаточно лишь объявить, что весь класс аттестован. Но что с такими делать, у кого нет музыкального слуха? Или, скажем, Ян Ма́тейка. Он и перекувырнуться-то толком не может. Он знает, как надо перекувырнуться, но он такой увалень, что никак у него кувырканье не получается. Почему же в таком случае у Яна по физкультуре пятёрки нет?
Вот о чём я и думал, подходя к папе. Я чуть-чуть улыбнулся. Таким способом можно иногда изменить или хотя бы поправить отцовское настроение.
— Где ты болтался? — начал отец и тут же выплюнул окурок.
— Я не болтался.
— «Не болтался, не болтался»! Всё воды ждал?
— Да, ждал. А потом меня остановил дядя Загрушка.
— Все тебя останавливают! Бегай побыстрей, так никто и не остановит!
— А меня вот остановили.
 Отец взял у меня инструмент, надел себе на плечо.
Отец взял у меня инструмент, надел себе на плечо.
— Что же ты такое тащишь? — спросил ещё отец.
— Музыку.
— Ты что, играть на этом умеешь?
— Нет, не умею.
Отец перестал хмуриться. Он осмотрел трубу со всех сторон, взял у меня ведро и понёс его маме.
Я вошёл в дом, подпрыгивая и растирая закоченевшие пальцы.
Отец в ту же минуту оказался возле меня.
— Что же ты намерен с этой штукой делать? — спросил он.
— Играть на ней.
— Как же ты станешь играть, раз не умеешь?
— Учёным ещё никто не родился.
Отец взял у меня инструмент, надел себе на плечо. Он прижал губы к мундштуку и даже покраснел от натуги.
— Он заткнут чем-то, кажись, — сказал отец, вытирая рукой слёзы, выступившие на его глазах.
— Нет, он не заткнут, — сказал я.
— А ты сам-то пробовал?
— Нет.
В душе я допускал, что в трубе может что-нибудь такое торчать: полотенце или там шапка — внуки-то Загрушки могли ведь туда насовать всё, что хочешь.
Я увивался возле отца — уж очень мне хотелось самому затрубить.
— Дайте, папа, я попробую.
— Отстань! — не сдавался отец.
Он ещё раз надулся, по лицу даже пятна красные пошли. Я глядел на него: его глаза напоминали большущие зелёные орехи.
— Никакого толку не будет! — сказал он и подал мне инструмент.
Я приложил к губам мундштук.
— Великоват для тебя, — заметил отец.
— Что?
— Геликон.
— Ничего не великоват!
— Да, да. И мундштук великоват.
— Нет. Просто ещё холодный. А пока мундштук не прогрелся, играть нельзя.
— Ещё чего!
— Нет, правда!
— Кто тебе сказал?
— Я уж знаю.
— А как же в мороз музыканты играют?
— Они не играют.
— А почему бы им не играть?
— Из-за холодных мундштуков.
— А они всё-таки играют.
— Так надо мундштуки-то прогреть сначала.
Я дунул в трубу, и она издала звук, похожий на хруст. Я поглядел на отца.
— Он чем-то заткнут, — завёл опять своё отец.
— Мы попробуем сделать что-нибудь.
— Что?
— Не знаю.
— Погоди, я принесу проволоку.
— Зачем?
Я снова прикоснулся к мундштуку и извлёк из геликона несколько бессмысленных звуков.
— Плохо, очень плохо. Так не играют, — сказал отец.
Я надулся так, что глаза на лоб полезли, словно я хотел кого-нибудь напугать. И снова дунул в трубу; в ней что-то хрястнуло, послышался настоящий звук.
— Что ты сделал? — удивился отец.
— Ничего.
— Труба не заткнута?
— Нет.
— Как же ты додумался?
— Вот так и додумался.
И вдруг мы оба очень обрадовались.
— Ну, покажи, я тоже попробую, — предложил отец.
— Погодите!
— Давай сюда! — Он выхватил у меня геликон и попробовал дунуть в него.
Брм-брм-брм-брм… — забурчало в трубе. Раньше всего зазвенела люстра, потом задребезжали двери и оконные стёкла.
— Ну-у, — нетерпеливо протянул я.
— Чего тебе?
— Идите уж одеваться.
— Что-о?
Отец разозлился, потому что я напомнил ему о службе.
— Ты что, о работе должен мне напоминать? — проворчал он.
— Вы на автобус опоздаете.
— А тебе какое дело?
Тут лицо его прояснилось, и он громко рассмеялся.
— Чему вы смеётесь?
— Гляди! У тебя на губах колёсико!
Он быстро снял со стены зеркальце и подал мне. Я взглянул и тоже рассмеялся.
— И у вас на губах колёсико!
— У меня?
— Глядите сами! — И я сунул зеркальце отцу.
И мы оба засмеялись: у обоих вокруг рта оказались красные кружочки.
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Отец возился с геликоном недолго. Попробовал он сыграть на нём «Детвянских жандармов», но у него ничего не вышло. Тогда он разочарованно положил инструмент на постель.
— Пустое занятие, — сказал он, прихлопнув за собой дверь, и вышел во двор.
Вскоре он вернулся рассерженный ещё больше прежнего.
— Послушай, — сказал он, — и ты думаешь, что теперь целыми днями дудеть будешь?
— Как — дудеть?
— Не валяй дурака! Или ты думаешь, что тебя целыми днями слушать станут?
— Я буду играть потихоньку.
— Как ты будешь играть потихоньку, если от этого весь дом дрожит?
— Дядя Загрушка велел мне учиться, — защищался я.
— Дядя Загрушка? А кто он такой, чтобы тебе приказывать? Кто тебя кормит? Дядя Загрушка?
— Он капельмейстер.
— Дядя Загрушка может дома распоряжаться. Ясно? Ты уроки учить не будешь — из школы ко мне придут, а не к дяде Загрушке!
— А я буду учить, и никто ни к кому не придёт.
— Так ты же их не учишь.
— Учу.
— Знаю я тебя.
В школе-то мои дела шли не блестяще. В дневнике то и дело появлялись двойки, а иной раз и колы выскакивали. Иногда только тройки, а про пятёрки и говорить нечего — они и взаправду всего разика два попадались.
— Слушай, — сказал отец теперь уже совершенно серьёзно, — трубу ты отнесёшь в комнату и, пока не будет у тебя пятёрок, не думай к геликону прикасаться.
— Круглые пятёрки?
— Понятно, только круглые.
— И до тех пор трубить нельзя?
— До тех пор ни-ни!
Я подошёл к инструменту, погладил его.
— Я сказал: геликон мы унесём в комнату и будем ждать отличных отметок.
— А если мне не поставят?
— Не поставят — значит, не заслуживаешь.
Отец подошёл к кровати, неумело взял инструмент и унёс из кухни.
Я пошёл за ним.
— Папочка!
— Что?
— Хоть бы на минутку вы мне его оставили.
— Что ещё тебе?
— Ну, поиграть.
— Уроки выучил?
— Я выучу.
— Не выучил? Садись за стол и учи! В твои годы мне отец велосипед пообещал. Сперва, когда у меня будут хорошие отметки, потом, когда я в саду землю вскопаю… Всегда какое-нибудь «потом» находилось. И отметки были приличные, и сад я вскопал, дров из лесу натаскал, и забор починил, а велосипеда и посейчас не вижу.
— А я трубу получу?
— Как бы не так!
Тут вошла мама.
— Ты только погляди, что он принёс! — Отец показал на инструмент.
— Что это такое? — спросила мама.
— Геликон, — ответил отец.
— Зачем он нам? — опять спросила мама.
— Зачем геликон? Это та самая труба, на которой играл Кемёнешев парень.
— Ру́до?
— Он самый.
— А что он на ней больше не играет?
— Как же он может играть? Ведь он теперь в Остра́ве.
— А-а, ты имеешь в виду того Кемёнешева парня?
— Ну да. Он теперь в Остраве, и на трубе играть некому.
— Так ведь он уже давно в Остраве.
— Давно.
— И сейчас вместо него никого нет?
— Должно быть, нет. А этот воображает, — отец обернулся ко мне, — что из-за этой трубы все должны с ума сойти.
— Ты ему принёс? — спросила мама.
— Сам притащил, — ответил отец.
— А где ты взял трубу? — спросила у меня мама.
— У дяди Загрушки.
— У Загрушки, — повторил отец.
— У Загрушки? — переспросила мама. — А почему же он тебе отдал?
— Чтобы я учился на ней играть.
— А тебе что, больше учиться нечему? Пресвятый боже! — воскликнула мама, всплеснув руками.
МОИ ОБЯЗАННОСТИ
Кое-кто, может, подумает, что после школы у меня дома никаких забот нет, кроме уроков, заданных на дом. А у меня работы побольше, чем вы думаете. Первым делом должен я дров наколоть, принести их в кухню и в комнату. Мама-то ведь тоже служит, и времени на такое дело у неё нет. Вернётся домой после работы, так ей всегда хлопот с готовкой хватает. То за мукой я беги, то за сахаром и всякий раз опять за мыльным порошком мчись. А там, глядишь, вода маме понадобилась, и я ношу воду, как и сегодня. Если бы речь шла просто о воде, можно было бы всегда зачерпнуть её в ручье, в колодце, где угодно. Только не всякая вода маме нравится. Принесёшь из колодца, а мама велит её вылить: вода, мол, жёсткая. Все деревенские уверяют, что для стирки лучше всего вода из Ризика. Я-то, понятное дело, считаю, что всё это выдумки. Как может быть вода жёсткая или мягкая? Она может быть хорошая или плохая, чистая или грязная, холодная или горячая. Взбредёт кому-нибудь в голову ерунда, и все сразу же ей верят. А ты бегай по деревне, ноги сбивай, тапочки промачивай. Ведь когда спешишь, вода-то из ведра выплеснется не раз и не два. Вода, мол, жёсткая! Что правильно это, я пока как-то не заметил, хоть воды и понатаскал ой-ой сколько! Ну да ладно! Отец говорит: «Ты, оболтус, старших слушайся!» Самое скверное, что пока я туда-сюда ношусь, все мои одноклассники давно уже уроки приготовили, и ребятам никто не мешает вытворять на улице всё, что им вздумается. Одни на коньках катаются, другие в снежки играют. Иду я по краю дороги, и вдруг — бац! — по голове снежок, да такой большущий-пребольшущий.
 Беру ведро и иду своей дорогой.
Беру ведро и иду своей дорогой.
Я ставлю ведро на землю и оборачиваюсь.
— Кто бросил? — строго спрашиваю я.
А ребята только смеются.
— Кто бросил? — спрашиваю я ещё раз и подхожу к ним.
А они смеются, признаться и в голову никому не придёт. Если бы не спешить, я виновника легко нашёл бы, а так что я могу сделать?
Беру ведро и иду своей дорогой. Опять кто-то бросил снежок, мимо самого уха пролетел.
Но больше всего меня злит, когда мальчишки начинают насмехаться надо мной: всегда, мол, тебе некогда…
— Винцо-о-о!
— Ну?
— Куда воду носишь?
— Куда её носить? Домой…
— Столько? Ха-ха-ха!
— Чему вы смеётесь?
А они всё смеются. Ослы!
— На что вам воды столько? — кричат мне ребята.
— На что? Про запас!
— А зачем запасаться?
— Надо, вот и запасаемся. Сушим её, а потом в шкаф складываем.
— В шкаф? Ха-ха-ха!
— Вот видите. Не знаете, что воду можно сушить? — Я презрительно оттопыриваю нижнюю губу. — Воду режут на красивые ровные кубики и потом складывают их в шкаф.
— Заливаешь!
— Сами вы заливаете! Ну как вы думаете, зачем я столько воды стану носить?
— Врёшь ты всё!
Я больше ничего не объясняю. Пусть голову поломают.
Пришёл домой, а отец уже на работу собрался. Сажусь за стол и жду, что ещё он или мама придумают. Отец прощается с нами и уходит. У мамы не находится для меня никакого дела. Я сижу над учебниками, будто урок учу. Когда же мама выходит во двор, откладываю книгу в сторону. Притворяться мне, что ли? Не хочу вовсе быть каким-то примерным! Почему? Вам-то я могу признаться. Как только мама обо мне забудет, я улизну на улицу: мне тоже ведь хочется хоть чуточку поиграть.
Ребята встречают меня криком.
— Воды уже наносил? — спрашивают они.
— Наносил.
— И она уже сушится?
— Сушится.
— Так ты нам потом принеси.
— Чего?
— Сушёной воды.
— Там видно будет.
Вот так мы друг друга и поддразниваем.
Когда стемнеет, ребята идут ужинать, после ужина они смотрят телевизор, а когда начнут клевать носом, могут и спать ложиться. А я снова сажусь за книжки и тетрадки. Сейчас, например, мне нужно написать сочинение. Самое обыкновенное сочинение. О том, что я делал вчера. Но разве можно об этом написать? Я напишу, что носил воду, а меня снова на смех поднимут. Ну и пусть себе на здоровье смеются!
ГДЕ ЖЕ ТОГДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Учительница приезжает в деревню на автобусе. Некоторые девчонки ждут её на автобусной остановке, чтобы донести портфель до школы. Терпеть не могу девчонок — такие они подлизы… Не будь она учительницей, они бы ни за что её портфель не носили. Марье́на Ра́чкова — лентяйка из лентяек! Так сразу нюни и распустит, если иной раз ей придётся за молоком пойти вместо брата. Но учительница об этом не знает. Она считает Марьену одной из самых примерных. Марьена-то, мол, и хорошо учится, и уроки-то у неё всегда прекрасно приготовлены. Но разве этого достаточно? Ла́цо Гельдт старается больше всех в классе, а отметки у него ещё хуже моих. У меня за полугодие было две двойки, а у Лацо даже кол! Я потому Лацо вспоминаю, что мы сидим вместе. Учительница говорит, что мы друг на друга очень похожи. Может, потому, что мы друг другу помогаем? То он мне подскажет, то я ему. Вы, должно быть, скажете, что это не помощь, а я утверждаю, что да. Ну конечно, так оно и есть. Самый лучший ученик рад-радёхонек подсказке, когда он что-нибудь забудет. Я считаю Лацо своим другом. Остальные мальчишки с ним не дружат, а если водят с ним дружбу, так больше для виду перед учительницей. Они часто дают обещание заниматься с нами после уроков. Но только всякий раз обманывают! По совести говоря, я в их помощи не нуждаюсь. С какой это стати Марьена Рачкова будет мне помогать? Если ей так хочется, пускай уж своему брату помогает или своим родителям. Лацо дело другое. Когда бы Лацо к нам ни пришёл, он помогает мне дров наколоть.

Иногда после этого мы вместе садимся за уроки. Так отчего бы намине подсказать друг дружке, раз мы знаем, что учили урок вместе! Когда мы отвечаем, другие ребята обычно начинают смеяться. А если мы даже хорошо отвечаем, всё равно смеются. Учительница, конечно, на них прикрикнет, но не всякий раз. Тогда Лацо замолчит, если даже и вправду отвечал хорошо, и уж после того стоит столбом. А когда смеются надо мной, я тоже замолкаю сперва, а потом веду себя совсем по-другому. Я начинаю злиться и, закусив удила, кричу ребятам и девчонкам что попало. Так, однажды я крикнул Ми́лану Фу́тке, что он украл голубя у Ми́шко Ште́фанца.
— Кто это украл голубя? — сразу вскочил Милан.
— Ты.
— Я украл голубя?
— Да, ты!
Милан схватил меня за куртку, рукав было оторвал. Я его оттолкнул, и он чуть не свалился. Учительница оставила нас в классе после уроков, и мы должны были писать: «Я не буду драться с товарищами». Но ведь это было несправедливо! Почему Милан смеялся? Почему вскочил с места, когда я закричал про голубя, и схватил меня за куртку? Не схватил бы, я бы его не толкнул. А насчёт голубя — так это чистая правда. Когда нас отпустили из школы, мы подрались. Учительница увидела это и пожаловалась родителям. Дома мне здо́рово влетело, а Милану ничего не было. Где же тогда справедливость?
ХОР
В начале учебного года учительница установила, какой у кого голос, проверяя каждого ученика отдельно, Каждый мальчик и девочка должны были спеть песенку, а учительница после этого что-то в свою записную книжку записывала. Лацо спеть не захотел, так что она и записать его не могла. Она пригрозила пожаловаться родителям. Пожаловаться не пожаловалась, но и в хор его не взяла. А хор-то выступает почти на всех деревенских праздниках. Я тоже в хор не попал, хотя учительница меня дольше всех проверяла.
— Скажи «а»! — говорила учительница.
— А…
— Пропой!
— А-а-а!
И готово: все уже смеялись.
Учительница пела на все лады и всё добивалась, чтобы я ей подражал. Но откуда же у меня возьмётся такой тонкий голос? А она не умеет петь низким. Только её никто не заставляет петь низко, а от нас она требует. И напоследок она сказала, что я — музыкальный антиталант. Сперва мне это понравилось. Но когда учительница почти на каждом уроке музыкального воспитания подчёркивала это, мне стало противно. Почему же я антиталант, если во всём классе антиталантов больше нет? Больше всего меня злило, что я не знаю значения этого слова. А мама мне сказала, что у меня нет музыкального слуха. Я немного успокоился: ведь то же самое сказали обо мне, когда ещё мои родители собирались записать меня в городе в музыкальную школу. Так я этому и поверил! Как можно сказать о человеке, что у него нет музыкального слуха? Разве лучше меня слышит Марьена Рачкова или Анча Фиа́лова? Не верю! Кроме того, когда какой-нибудь ученик очень фальшиво поёт, я знаю об этом так же хорошо, как и всякий. По-моему, ошибка из-за того получилась, что у меня такой низкий голос.
На уроках музыкального воспитания весь класс всегда выходит к доске, и только мы двое — Лацо и я — сидим на своих местах. Остальные ребята смеются над нами, и мы сначала им завидовали, но потом быстро поняли, что мы выгадали. Они-то должны целый урок простоять, а мы сидим! Если человек понимает свою выгоду, расстраиваться ни к чему!
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
В воскресенье после обеда отправился я с геликоном к старому Загрушке. Он живёт за новой школой, на краю школьного сада. Когда-то там старая школа стояла, но от неё и следочка не осталось — ни кирпича, ни единого камушка. Всё растащили по деревне: кирпичи пошли на каменные сараи и кладовые, дядюшка Гло́знек камнем вымостил двор. Но старую школу я ещё очень хорошо помню. Как же её не запомнить! Однажды я спрятался за дровяником (я тогда ещё воровал в поповском саду орехи), а дядюшка Глознек там меня нашёл и вытащил за уши. Поповский сад разделили те, кому негде было жить, дома́ там себе построили. Лацо Гельдт в таком доме живёт. Но я о другом сказать собирался. В старой школе жил старый директор. Я всё думаю: почему же его из нашей деревни перевели куда-то? Сам он, что ли, уехать вздумал? Всё может быть. Но мне и тогда это не нравилось. И теперь не нравится. Иногда я говорю себе, что его перевели только потому, что и вправду он был очень старый и как-то для новой школы не подходил. Может, он теперь на пенсии и целыми днями газеты читает? Отец говорит, что когда он выйдет на пенсию, то ничего делать не станет, только газеты читать. Кто его знает? Но почему-то мне жалко старого директора. Ведь он однажды подарил мне абрикос. Такой большущий абрикос, хотя директор меня вовсе и не знал: в школу-то я в то время ещё не ходил. А если вам кто-нибудь делает подарок, хоть вас и не знает, значит, это хороший человек. Я всегда так считаю. Но директора в деревне никогда никто не вспомянет. Неблагодарны люди, что ли? Были бы благодарны, так хоть разок бы его пригласили посмотреть, какая теперь красивая у нас новая школа, когда её оштукатурили. В школьном саду столько плодовых деревьев, которые ещё старый директор посадил. С тех пор здорово они выросли. На некоторых в прошлом году плоды уже были. С чего же мне вдруг директор вспомнился? И сам не знаю. Может, потому, что я спросить хотел, почему он мне этот абрикос дал? А может, спасибо за него сказать?
У ДЯДЮШКИ ЗАГРУШКИ
Дядюшка Загрушка сидел у окна и курил. Одна створка была приоткрыта, чтобы дым шёл наружу. Ведь дядюшка Загрушка не такой уж завзятый курильщик, как мой отец, и любит чистый воздух. Выкурит сигарету, проветрит комнату и как следует запрёт окно: на дворе-то ведь зима ещё!
— Здравствуй! — приветствовал он меня, когда я вошёл. — Я уже думал, ты не придёшь. Ты хоть немного-то упражнялся? — спросил он.
— Упражнялся.
— Каждый день?
— Каждый день? Каждый день я не мог.
— Ишь какие разговоры! Или ты воображаешь, что у других времени больше? Просто тебе не хотелось. Как захочешь, всегда времени хоть немного найдётся. Когда дядя Але́ксин на кларнете играть учился, было у него уже шестеро или семеро детей. Как ты считаешь, времени много свободного он находил? Как бы не так! Он ждал, пока все заснут, взбирался по лестнице на чердак и там играл.
— Я не мог.
— А дядюшка Алексин мог? Отлично на чердаке он упражнялся! Чтоб не мешать никому, он кларнет засовывал в сапог и перебирал пальцами в сапоге. Чему ты смеёшься? Или музыка — только забава для тебя? Сыграй мне «си бемоль», — строго приказал он.
— Какое ещё «си бемоль»? — спросил я.
— Сначала сыграй нижнее. Потом можешь сыграть верхнее.
— Верхнее?
— Сначала сыграй нижнее!
— Я ещё не умею играть.

Дядюшка Загрушка посмотрел на меня, и я покраснел.
— Играй! — приказал он ещё раз.
Я дунул в трубу, но едва только раздался звук, дядюшка Загрушка рассердился:
— Что это такое? Насмешки строишь? Я постарше тебя. Если нужно, я в два счёта с таким щенком разделаюсь. Твой папочка в твои годы каждый день что-то в дом приносил. А ты что делаешь? Придёшь из школы, берёшь санки и тут же мчишься в Ага́чину!
— Я не хожу в Агачину.
— Молчи, а то подзатыльник дам! Дома тебя не бьют, в школе не бьют, растёшь — заботы никакой не знаешь! Придётся с твоим отцом поговорить. Не может ли он каждый день щелчком-другим тебя угостить? Да будь у меня такой мальчишка, я бы каждый день его драл. Так через годок-другой из него виртуоз получился бы. Ты знаешь, что такое виртуоз?
— Нет, не знаю.
— Зачем же ты в школу ходишь? В школу ходишь, а ничего не знаешь. Кто тебя учит? Учитель?
— Нет, учительница.
— И с ней я поговорю, пусть возьмёт тебя в руки. Мне показалось, ты парень во! И вдруг на́ тебе! Думаешь, трубу взял — и шагом марш? Таких растрёп в деревне я миллион найду. Но таких мне и даром не надо. Такого растрёпу я за шиворот возьму и вон вышвырну. Гляди, как ты стоишь! — Он дёрнул меня за плечи, словно хотел выпрямить. — Видал ты, чтобы какой-нибудь музыкант так стоял? Может, и видел, а я ещё раз говорю, что это был никакой не музыкант. А тоже какой-нибудь растяпа. — Дядюшка Загрушка помолчал, потом сказал уже спокойнее: — Важно, как ты держишь трубу, как выглядишь, понял? Выглядишь чуточку чудно́, и люди на тебя уже пальцем показывают: смотрите, мол, какой смешной парень на геликоне играет. Глядите, глядите, у этого парня глаза словно яблоки!
Я улыбнулся.
— А это всё важные вещи, — продолжал Загрушка. — Один музыкант глаза таращит, другой щёки надувает. Зачем щёки надувать? Кто-нибудь возьмёт да и ткнёт в них булавкой. — Теперь засмеялся и он. — Считать умеешь?
— Считать?
— Считать не научишься, никакого проку из тебя не получится. У нас, например, есть целая нота. — Он взял со стола бумагу, из кармана достал карандаш и нарисовал неуклюжий кружочек. — Какая это нота?
— Целая.
— А как ты считать будешь?
— Раз.
— Как бы не так! Какая целая нота?
— Целая.
— Заладил: «Целая, целая»! Это я тебе сказал, что целая, но сколько времени будем мы считать целую ноту?
Я пожал плечами.
— Сколько у тебя по арифметике?
— Тройка.
— Я поставил бы тебе единицу. Если мы возьмём яблоко и разрежем его на четыре части, сколько будет четвертинок?
— Четыре.
— Вот видишь. Я тебе сам всё уже заранее сказал. Сколько нужно отсчитать, чтобы сыграть целую ноту?
— Четыре.
— Дуй в трубу и считай!
— Так ведь не получится ничего.
— Кто тебе сказал?
— Как я могу дуть и считать?
— Так же, как и другие.
— Вместе считать и дуть?
— Считать на четыре.
— Но ведь и вправду так сделать нельзя.
— «Нельзя, нельзя»! Если ты этому не научишься, никогда в жизни музыкантом не станешь. Я не говорю, что это легко. Будь музыка лёгким делом, каждый дурак на трубе бы играл. Тут-то и зарыта собака. Музыкант должен знать ноты, должен уметь обращаться с инструментом и, кроме всего прочего, уметь считать. Гляди на меня. — Дядюшка Загрушка выпрямился, закрыл глаза и некоторое время не шелохнулся. — Ты что-нибудь заметил?
— Заметил.
— Что ты заметил?
— Вы закрыли глаза.
— Балда! Я спрашиваю: заметно ли было, что я считал?
— Нет, не заметно.
— Теперь понимаешь? Вот чему ты должен научиться. Ты считаешь, но никто этого не замечает. Попробуй-ка!
Я закрыл глаза и сосчитал до четырёх.
— Считал?
— Да, считал.
— До скольких ты считал?
— До четырёх.
— Я вижу, из тебя выйдет толк. Теперь ты можешь при счёте отбивать такт ногой. Вот так.
Он закрыл глаза, выставил правую ногу и начал медленно поднимать и опускать носок.
— Понял?
— Понял.
— В школах будто бы такт отбивать запрещают, но ты можешь отбивать сколько тебе угодно. Пойдём дальше. Извлеки из трубы длинный звук и при этом считай до четырёх. Действуй!
Я приложил к губам мундштук и сыграл длинный звук.
— Ты сейчас считал?
— Да, считал.
— Какая же это была нота?
— Целая.
— Почему же это была целая нота?
— Потому что я считал до четырёх.
— Я вижу, ты понимать начинаешь. Сколько долей в половине ноты?
— Две.
— Очень-очень хорошо! Сумел бы ты её сыграть?
Я приложил мундштук к губам и сыграл половину ноты.
— Если будешь так успевать, очень меня порадуешь. Я отцу не пожалуюсь и про учительницу думать не стану. Какие у тебя были отметки?
— В прошлом году?
— В табеле.
— Две двойки!
— По каким предметам?
— По словацкому языку и по русскому.
— Глуповат ты ещё… Половинные ноты мы считаем так: раз-два, три-четыре, раз-два, три-четыре… — После каждых двух слов он взмахивал рукой, как будто что-то отрубить хотел. — Раз-два, — взмах, — три-четыре, — новый взмах руки.
При четвертных нотах он взмахивал каждый раз: раз, два, три, четыре…
При нотах в одну восьмую долю он сунул руки в карманы и только покачивал головой: ра-аз, два-а, три-и, четы-ре…
При нотах в шестнадцатую долю он покачивал головой быстрее: ра-а-аз, два-а-а-а, три-и-и-и, че-ты-ре-е.
Исписал нотами целый лист, сунул мне в карман и велел прийти через неделю.
У ЛАЦО ГЕЛЬДТА
Я говорил уже, что Лацо Гельдт живёт в новом доме. Дом-то новый, а дорога к нему страсть какая плохая, вся в ухабах. Ещё счастье, что шоссе близко.
Я остановился у железной калитки и нажал красную пуговку. Не потому, что калитка заперта была. Мне просто попробовать электрический звонок захотелось. Таких звонков в городе-то у вас сколько угодно, а в Грушковце всего три или четыре отыщется. И этот звонок поставил сам Лацо. «Вот пустяки какие!» — скажет иной. А отчего же в других домах таких звонков нет? Будь Лацо постарше, его непременно бы мастером на все руки называли. Я нашёл его в самый разгар работы. Он паял какие-то проволочки для радио. Как увидал меня, свою работу отложил в сторону и вокруг меня начал крутиться. Ну понятное дело, геликон был ему интересен, а вовсе не я.
— Откуда он у тебя? — спросил Лацо и поглядел широко открытыми глазами на трубу.
— Ведь я же неделю назад тебе о нём говорил.
— А это взаправду? — недоверчиво спросил он.
— Что — взаправду?
— Взаправду тебе на время дали?
— Сам видишь. Вот я и пришёл тебе показать.
— И ты уже что-нибудь сыграть можешь?
Я, конечно, тут же поднёс мундштук к губам и гамму сыграл.
— Что это?
— Гамма.
— И песенку сумеешь?
— Ещё не научился.
— А когда ты песенки играть станешь?
— И песенкам научусь, — пообещал я.
Я дал геликон Лацо и, как обращаться с ним, показал. Лацо был парень самонадеянный.
Я немного позанимался с ним, потом его радио меня заинтересовало.
— Радио-то у тебя будет самое настоящее? — спросил я.
— Самое настоящее.
— И играть станет?
— Какое же это радио, если не играет?
— А ты его сам сделаешь?
— Сам. Ну и брат старший поможет, — добавил Лацо, помолчав.
— Когда же готово оно будет?
— Когда все детали куплю.
— Разве их у тебя нет?
— Нет.
— А когда будут?


— Когда я денег на них накоплю.
— Вот здорово! — воодушевился я.
Такой разговор кое-чего стоит. Мы ещё поболтали немного и распрощались.
ДЯДЮШКА ТАУБЕРТ
По улице вышагивает дядюшка Та́уберт. На спине у него барабан, в руках палочки барабанные. Дядюшка Тауберт малюсенький, меньше меня, а барабанище во какой!
Играли однажды грушковецкие музыканты в Верхних Орешанах. И, говорят, лопнул вдруг ремень, барабан-то покатился, а дядюшка Тауберт за ним побежал с горки. Почти догнал он свой инструмент, а как его остановить, не знает. Бежал, бежал дядюшка, барабан даже успел обогнать и вдруг — бац! — растянулся на дороге. Барабан перекатился через него и в канаву упал. До сих пор дядюшке Тауберту это припоминают.
— Дядя Тауберт, вы куда? — закричал я ему.
— Куда же мне как не на репетицию? — ответил он.
— На репетицию? На какую?
— Нашего оркестра.
Засмеялся он и дальше зашагал. Я за ним.
— Дядя Тауберт, а мне можно с вами?
— Со мной? А тебе что там делать?
— Я трубить стану, — отвечаю я.
— Тру-у-бить? Много таких найдётся! Купи трубу и труби на здоровье.
— Дядя Тауберт, так ведь я учусь уже…
— Это хорошо, что ты учишься. Учись, пока молод! В мои-то годы поздно будет учиться.
— Дядя Тауберт, так ведь я уже две недели учусь. Вы не знаете? У меня геликон!
— Гелико-он? А ты, малыш, понимаешь, что такое геликон? Такую большую трубу тебе и не поднять.
— А я поднимаю!
— Да унести не можешь.
— Он у меня дома. Это Рудо Кемёнеша геликон.
— Помолчи-ка! Где же ты его украл? — Старик даже остановился.
— Да мне сам дядя Загрушка дал.
— Загрушка? Он тебе на время дал. Геликон-то общественный. Посмотрим! Так, значит, у тебя геликон Рудо? Хе-хе! И ты уже кое-что играешь?
— Гамму.
— Это хорошо, что ты гамму можешь сыграть. Хе-хе-хе! Но хватит ли у тебя силёнок?
— Я играю гамму снизу вверх и сверху вниз.
— Ишь ты! Далеко уже пошёл. А какую? Какую гамму ты сыграешь?
— Си бемоль мажор!
— Си бемоль мажор? А до мажор ещё не сыграешь?
— Нет. Но ми бемоль мажор тоже сыграю.
— Две гаммы? Ну, тогда беги домой, и мы можем пойти вместе. Беги домой, я тебя подожду.
РЕПЕТИЦИЯ
Репетицию нашего оркестра всегда устраивают в пожарке. Помещение невелико и вдобавок ещё всяким хламом завалено. На стенах пожарные рукава, запасные брандспойты, а у дверей сигнальные трубы. На самой серёдке длинный стол поставлен, и на него музыканты кладут ноты. Табуреток нет. Но это даже удобнее. С табуретками-то в пожарку не все музыканты влезут. Неподалёку от двери маленькое окошечко с решёткой. Ребятишки, живущие поблизости, музыку как заслышат, прибегают и лезут к окошечку, заглядывают внутрь. Дядюшка Тома́шович или дядюшка Загрушка то и дело выскакивают наружу и шугают ребятишек шапкой. А те всякий раз врассыпную. Но стоит дядюшке Томашовичу уйти, как они снова к окошку лезут. Дядюшка Томашович становится возле вторых голосов и давай в нотах рыться. Вы не знаете, что такое вторые голоса? Второй голос — это музыкант, который вто́рит. На нотах написано: «Труба S», но старые музыканты называют инструмент не «труба S», а «втора». Об этом я узнал на первой же репетиции. Дядюшка Тауберт познакомил меня со всеми музыкальными инструментами, только одного не сумел объяснить: какая разница между бас-корнетом и эуфониумом. Это такие две довольно большие трубы, только эуфониум чуть побольше. Непосвящённый человек это едва ли даже заметит. Бас-корнет называют ещё тенором.
— Какая же между ними разница? — спросил я у дядюшки Тауберта.
— Никакой, — ответил он.
— Тогда почему же они не называются одинаково?
— Почему? Слишком много с меня спрашиваешь. Я не композитор или вроде того. Я музыке нигде не обучался и ровно столько же знаю, что и прочие. — И он показал на остальных музыкантов.
— Бас-корнет играет мелодию, а эуфониум — терцию, — вмешался в наш разговор дядюшка Ра́чко, отец Марьены Рачковой.
— Корнет играет мелодию ещё больше, на то он и корнет, — добавил ещё дядюшка Томашович.
— Именно поэтому, — сказал дядюшка Рачко.
— А терция что такое? — спросил я у дядюшки Томашовича.
— Терция — это и есть втора, — ответил тот.
— Плохо ты ему объяснил, — хотел его поправить дядюшка Тауберт.
— Объяснил, как умел. Не умеем мы никто всё подробно объяснить, с нами ведь никто теорией никогда не занимался. Пришёл однажды покойный Сла́нинка из Выпытальца и сказал ребятам: «Эта нота половинная и её играют на две доли. Поняли, ребята?» — «Понимаем, не такие уж дураки». — «Ребята, сыграйте вот это!» Вот мы и начали играть.
— Больно ты скорый! — перебил его дядюшка Алексин, кларнетист.
— Я только хотел сказать, что у нас в ту пору времени не было теориями заниматься, — возразил дядюшка Томашович.
— Хочешь не хочешь, а играть надо. А этим поросятам учиться неохота, — сказал дядюшка Рачко, показав на меня.
— А мне как раз и хочется! — перебил я.
— Сегодня хочется, а через две недели, глядишь, и расхотелось.
— Нет, не расхочется!
— Посмотрим, — сказал дядюшка Томашович и покачал головой. — Ты, значит, учишься на геликоне Рудо? — спросил он ещё.
— Да, на геликоне Рудо, — ответил за меня дядюшка Тауберт.
— Учись же смотри! — сказал дядюшка Томашович. — У меня книжечка специальная есть. На время, если захочешь, дам тебе.
— Хороший геликон, — повторил дядюшка Алексин.
— Внимание, ребята! — скомандовал дядюшка Загрушка и строго поглядел на музыкантов.
Всё стихло, и тогда подал голос самый старый музыкант — дядюшка Яно Сли́нтак.
— Грянем? — спросил он.
— Грянем, — ответил дядюшка Загрушка.
— Что же мы сыграем? — спросили вторые голоса.
— Давайте сыграем «Возле Орешан…».
Музыканты приготовились.
— А ты пока не играй, только вид делай, что играешь, — шёпотом посоветовал мне дядюшка Тауберт.
Я кивнул.
— Винцо, ты только ногой отбивай, привыкай такт держать, — сказал мне и дядюшка Загрушка.
Так я и сделал.
ВИНЦЕНТОВ ДЕНЬ
Я уже говорил, что в нашей деревне много Вин-центов. Столько ни в одной деревне не сыщется. Только на одной нашей улице почти в каждом доме свой Винцент: Винцо Яворка, Винцо Бе́луш, Винцо Грзна́рик, Винцо Дрнай, дядюшка Винцо Овечка, Винцо Фья́ла. Я всех могу назвать. На винцентов день у лесорубов праздник. Они сидят в трактире, обсуждают, у кого какая пила, какой топор, какой клин.
— Лучше всех пила у дядюшки Винцо Ште́бела, — говорит Винцо Белуш.
— Нет! — возражает дядюшка Овечка. — Самая лучшая пила у Оливера Ду́бана.
— А у Грзнарика? — вмешивается Дрнай.
— Хоть у Грзнарика и хороша, а у дядюшки Оливера и дядюшки Алексина всё-таки лучше, — утверждает дядюшка Овечка.
— Какой это Алексин? — спрашивает Штебел.
— Он у луга живёт, — отвечает Овечка.
— У него, значит? У меня тоже недурна, — говорит Грзнарик.
— Твоя пила и Алексина — это всё равно что деревня Грушковец и город Ко́шице, — говорит дядюшка Овечка.
— Что-о?
— Да. Не веришь — у Белуша спроси.
— У дядюшки Алексина и киянка
[1] хороша, — говорит Винцо Белуш.
— О киянке и говорить нечего, — возражает Винцо Дрнай.
— Вы сказали: Грушковец и Кошице. Разве это унижает Грушковец? — спрашивает Винцо Штебел.
— Кто сказал, что унижает? Мы о пиле и киянке говорим.
— Грушковец городом собираются сделать, — сообщает Винцо Штебел.
— Грушковец? А что можно из Грушковца сделать? Пока что у нас только парк и есть. Из-за этого? Так, по-моему, из Грушковца никогда города не будет, — возражает дядюшка Лу́кач.
— Лет этак через сто будет, — говорит Винцо Штебел. — Как вы думаете, почему дорогу нам починили?
— Винцо, ты просто глуп, — обрывает его дядюшка Лукач. — Дорогу нам потому отремонтировали, что нужна нам она.
— И раньше она нам требовалась, хоть бы и просто булыжником вымощенная, — снова возражает Винцо Штебел.
— А может, это и правда, — говорит Грзнарик. — Асфальтом дорогу покрыли, захотели с Грушковцем что-то сделать.


— Нам думать об этом нет смысла, — говорит дядюшка Овечка.
— Нет, есть, — возражает Винцо Белуш. — Асфальтовая-то дорога ведь денег всё-таки стоит.
— Вот увидите, годиков через сто будет приличный городок из Грушковца, — отвечает Винцо Штебел.
— Что через сто лет тут станет, мы всё равно не увидим, нас уж на свете не будет, — возражает дядюшка Лукач.
— У нас и площадь будет, как в Мо́дре или Пе́зинке.
— Дожидайся! Если бы задумали мы площадь сделать, надо найти какого-нибудь знаменитого человека. В его честь и площадь назвать, — говорит дядюшка Овечка.
— В Модре был Штур, — вспоминает дядюшка Лукач.
— Так это в Модре, — соглашается Грзнарик.
— Стало быть, великий человек, раз ему такой памятник поставили.
— Это известный писатель был.
— И писатель и политик.
— А разве он не генерал был? — спрашивает Винцо Штебел.
— Ты путаешь его со Ште́фаником, — отвечает Грзнарик.
— А ты тут что делаешь? — вдруг обращается ко мне дядюшка Овечка. — Поглядите только, какие сопляки в трактир ходят! Марш отсюда!
— Что тебе? — спросила меня трактирщица.
— «Бы́стрицы».
— Смотри-ка! Этакий щенок — и уже курит!
— Я не курю.
Я заплатил за сигареты и вышел вон. На улице меня остановил дядюшка Загрушка.
— Винцо, дорогой, я тебя с самого утра ищу.
Он говорит со мной как со взрослым.
— Меня?
— Ведь я говорю с тобой. Представь себе, сегодня винцентов день. Здесь, в Грушковце, ими хоть пруд пруди. Я ребятам говорю: «Нам следует играть в честь Винцентов». А как можно играть без геликона?
— Без геликона?
— Геликониста нет! Рудо Кемёнеш в Остраву уехал, и приходится всякий раз из Частой геликониста звать. Подумай, кто сейчас побежит в Частую? Мужчине, может, на работу надо идти, а нам музыку начинать с самого обеда. Вот я сразу же о тебе и подумал.
— Обо мне?
— Ведь ты, надо полагать, кое-чему уже научился?
— Песенки играть?
— Не в песенках дело! Будешь делать вот так: хр, хр, хр, хр…
— А я сумею?
— Ну тогда, по-моему, ты чистый болван! Целый месяц музыкальный инструмент терзаешь, хрипеть-то на нём можно бы уже научиться. Станешь делать: хр, хр, хр, хр… А не сумеешь, так для виду хоть надувай щёки. Беги сейчас же за геликоном, а через полчаса будь у меня.
РУДО КЕМЁНЕШ ВЕРНУЛСЯ
Совсем запыхавшись, я влетел в дом. Мама сидела за столом и щипала перья.
— Не пыхти так, ты всё у меня сдуешь, — сказала она.
— Да я сейчас уйду…
Не договорив, я вбежал в комнату.
Что такое? На шкафу, на котором всегда торчал геликон, ничего не было.
— Геликон где? — спросил я, бросаясь в кухню.
— Геликон? Я только тебе сказать собиралась. Был здесь этот Кемёнеш и взял трубу.
— Рудо?
— Он самый.
— Ведь Рудо в Остраве?
— Нет.
— Он там!
— Он третьего дня вернулся.
— Третьего дня?
— Да.
— И у нас был?
— Был у нас, дома тебя не застал.
— А что ему понадобилось?
— Да ничего. Взял геликон и ушёл.
— Он взял геликон?
— Ну да.
— А почему вы ему отдали?
— Отец отдал.
— А почему?
— Рудо сказал, что труба его.
— Чья?
— Рудова.
— Совсем не его!
— Так он сказал.
— Дядя Загрушка говорил, что все трубы общественные.
— Не знаю.
— Почему же вы отдали?
— Что ты на меня кричишь? — сердито спросила мама.
— А зачем вы ему отдали?
— Иди к нему и спрашивай с него!
— Он мне не отдаст.
— А почему он отдать должен?
— «Почему, почему»! Кому её дядя Загрушка дал?
— Он тебе на то время дал, пока Рудо в Остраве находился. Вернулся Рудо, значит, и труба опять к нему перешла.
— Она ведь не его!
— Его… Вон там ведро, сходи-ка лучше к Ризику за водой.
— Не пойду!
— Что ещё за «не пойду»? Ты у меня только не послушайся!
— Не пойду!
— Ну, без разговоров! — приказала мама.
— А вот и не пойду!
— Ах, вот как?!
Мама встала и пошла за отцовским ремнём.
Я схватил ведро и выскочил на двор. Там с досады и от злости я швырнул ведро в снег и пнул его изо всех сил. Это делать как раз и не следовало: из сарая вышел отец.
— Ты что делаешь? — удивлённо спросил он.
— Ничего!
— Мариша, подай-ка мне ремень! — воскликнул отец, обращаясь к маме, и направился в кухню.
В ту же минуту я оказался на улице.
Я УШЁЛ ИЗ ДОМА
Я вздумал было пойти к дядюшке Загрушке, да одет был совсем не по-праздничному. Приду к нему в будничном, а дядюшка Загрушка ругать меня за это начнёт. Да и зачем я туда пойду? Раз Рудо вернулся, дело и без меня обойдётся. Рудо старый музыкант, а я ещё ничего играть не умею.
Я отправился бродить по деревне, но пробирался от дома к дому так, чтобы ни отец, ни мать меня не заметили. Как теперь я домой вернусь? Сейчас отец меня непременно выдерет. Правда, можно вечером прийти, когда отец на работу уедет. Мама даст мне щелчок-другой, на том дело и кончится. А может, и просто за вихор дёрнет. Нет, отец меня не помилует. Пойти домой сейчас, так мне и от мамы и от отца влетит.
Я встретил Юро Ва́нду и Ми́лана Фу́тко. Они шли кататься на лыжах.
— Пойдём с нами, — позвали они меня.
— Мне что-то не хочется.
— Да у тебя и лыж нету! — воскликнул Милан.
— Я тебе свои покататься дам, — предложил Юро Ванда.
— Нет. Неохота мне.
— Просто на лыжах не умеешь кататься, — ухмыльнулся Милан и оттолкнулся сразу двумя палками.
Не пойти ли мне к Лацо Гельдту? Но мама, уж конечно, будет там меня искать. И я не пошёл к Лацо.
— Винцо, Винцо! — окликнул меня кто-то.
Оглядываюсь.
— Винцек, ты разве не пойдёшь с нами? — Мне улыбается дядюшка Тауберт с барабаном. — Гм… С чего это ты тут ходишь? Ты именинник сегодня, мы в твою честь играть к вам придём.
— Правда придёте?
— Ну, понятное дело! К каждому Винценту зайдём. И не только к Винцентам, но и ко всем лесорубам. А ты почему надутый какой-то?
— Да нет, я ничего.
— Ну да, я по лицу вижу.
— Озяб немножко, — отвечаю я дядюшке Тауберту.
— Озяб? Разве так холодно? Ты просто плох оделся. Почему ты не надел зимнее пальто?
— Нету.
— Как так?
— Дома оставил.
— Ну вот я и говорю, что плохо оделся. Мы придём к тебе сегодня, сыграем в твою честь.
— А когда? Когда придёте-то? Вечером?
— Вечером. Сегодня славный такой денёк, — говорит дядюшка Тауберт.
— Где там славный! Холодно!
— Это тебе кажется. Зиму через месяц поминай как звали. Ты погляди, воды-то сколько на дороге!
— Дождик идёт.
— Никакого дождика нет. Такое тепло — хорошая примета. Примету знаешь?
— Нет, не знаю.
— На винцентов день воды много — вина будет много.
— А почему?
— Оттепель сегодня.
— Но почему же вина будет много?
— Люди опытные уж знают.
— Но неправда это, наверное.
— Как бы не так! Если на Винцента курица из лужи воды напьётся, значит, в тот год вина много будет… Так ты, значит, не пойдёшь с нами?
— Рудо Кемёнеш вернулся, — еле выговариваю я, потому что у меня в горле стоит какой-то ком.
— Что с тобой?
— Ничего.
— Набедокурил что-нибудь? Признавайся.
— Да нет, ничего.
— Ну так я пошёл.
ГОЛУБЕЙ МНОГО
Я всё ещё бродил по деревне. Мне холодно, хоть и оттепель. Снега ой-ой ещё сколько! А на дороге слякоть. Хоть бы пальто у меня было!
Я нашёл на винограднике сторожку и оттуда давай глядеть на горку, где было полно ребятишек. Они скатывались с бугра на лыжах, на санках. Им-то что, дома их никто не заругает! Может, и побранят, так не побьёт хоть никто.
Анча Фиалова спускалась в деревню по руне. Руна — это такая насыпь из камней между виноградниками. Руны длинные и летом зарастают малиной, но сейчас вся малина под снегом.
Эй, эй! Конечно, это Анча Фиалова. Я сразу узнал её по голосу.
Со стороны Врби́нки послышалось пение. Я подумал, что, должно быть, поёт Мишко Штефанец. Как знать, может, ещё водятся у него этакие голуби зобастые — дутыши? Они обязательно у него быть должны: ведь Мишко Штефанец голубей не убивает и не продаёт. А не зайти ли к нему погреться?
Вот я и пошёл.
Мишко высокий, тощий старик. Зимой и летом он носит короткую кожаную куртку и кожаную фуражку. Взрослые к нему не ходят, а порой и смеются над ним. Детям говорят, что нужно уважать всякого человека, а сами друг дружку высмеивают. Кто его знает, может, они голубям Мишкиным завидуют?
Я остановился у деревянной калитки.
Мишко стоял на лесенке, доставал из кармана зерно и давал клевать его голубям прямо с руки.
— Мишко, можно к тебе зайти поглядеть?
— Что? — И старик обернулся ко мне.
— Мне на голубей поглядеть охота.
— На голубей? Много таких найдётся! Вдруг голубь какой-нибудь пропадёт, а я ищи его потом.
— Почему же он пропадёт?
 Мишко — высокий, тощий старик. Зимой и летом он носит короткую кожаную куртку и кожаную фуражку.
Мишко — высокий, тощий старик. Зимой и летом он носит короткую кожаную куртку и кожаную фуражку.
— Таких, как ты, я уж не один десяток видывал!
— Мишко, а я у тебя ещё ни одного голубя не взял. Если хочешь, я тебе помогу голубятню почистить.
— Голубятню? И другие чистили, да только почти всякий раз после того у меня голуби пропадали.
— А какие? Какой голубь у тебя пропал?
— Какой? Как же я тебе покажу, раз его у меня нет? Если бы голу́бки не несли яиц, у меня бы все голуби перевелись.
— Голубки и сейчас несутся?
— Много будешь знать — скоро состаришься!
— Мишко, у тебя был такой белый-белый, он ещё пропал у тебя осенью…
— Правда, пропал такой. И осенью, и зимой мои голуби пропадали… Гу-у, — загукал он, и все голуби слетелись к нему с крыши.
— Мишко, да ты с голубями умеешь разговаривать!
— Что?
Он взял в ладони голубя, который сел ему на плечо, и посадил птицу в голубятню.
— Попробуй скажи им что-нибудь, — принялся я его упрашивать.
— Голубям сказать? С голубями разговаривать не след, их понимать надо. А что озорник, как ты, понимает? Приходит такой сорванец с рогаткой, натянет резинку — и птица лежит у моего порога. Я несу её в сад — закопать, а другой головорез просит продать мне птицу для супа. Годится ли голубя в суп класть? В суп хороша и ворона. Ты уже ел ворону?
— Нет, не ел.
— Сама ворона не больно-то хороша, а суп — это да! Я как-то варил-варил ворону, а она всё жёсткая, словно чурка буковая.
— Правда?
— Правда.
— Мишко, можно к тебе погреться?
— Иди!
Мишко слез с лесенки и отпер калитку.
У МИШКО ШТЕФАНЦА
Мы уже были в доме, а Мишко всё рассказывал и рассказывал о своих голубях. Он сказал, что жил у него как-то один дикий голубь. Спал он в крайнем гнезде голубятни, в которое течёт вода с крыши. Конечно, это весной было, когда то и дело дождик идёт. Как раз в такое время голубь и прилетел, а домашние ему покоя не давали. Дикий и месяца не выдержал.
— Какой же он был?
— Клинтух.
— Клинтух?
— Да. Есть ещё один дикий голубь, который называют вяхирем.
— И такой у вас тоже был?
— Нет, такого не было.
— Какой вяхирь с виду?
— Вяхирь? Вяхирь побольше.
— Побольше всех других голубей?
— Зачем всех? Побольше клинтуха вяхирь. Глаза у него жёлтые. Глядит, глядит, а как человека заметит, сразу и улетает.
— Почему же он улетает?
— Боится.
— И тебя он боится?
— Да.
— Я видел дикого голубя, не знаю только, как он называется.
— Клинтух, — сказал Мишко.
— Может, это был вяхирь?
— Нет.
— Мог быть.
— Нет, не мог.
— Почему?
— У вяхиря глаза жёлтые.
— А может, и у этого были жёлтые?
— Нет.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. Вяхирь — птица умная. Он смотрит на человека с сосны, а сам не показывается.
— Прятаться хорошо умеет?
— Да.
— А ты его сам видел?
— На сосне видел.
— Что, он семена клевал?
— Да, на сосне семена из шишки выклёвывал.
— Из шишки?
— Вот-вот. Я осторожно подкрался и говорю ему: гру, гру-у. А он мне в ответ тоже: гру, гру, гру-у-у-у.
— Так и ответил?
— Да, так. — Мишко посмотрел в окно и увидал, что уже наступили сумерки. — Пора бы тебе и домой, — сказал он.
— Мне ещё не надо.
— Надо.
— А что мне дома-то делать?
— Не пойдёшь, так тебя дома забранят.
— Не забранят.
— Ты чей?
— Я? — Мне не хотелось называть свою фамилию.
— Зовут-то тебя как?
— Винцо.
— Значит, ты именинник сегодня?
— Ага.
— А почему же ты из дому ушёл?
— Там нет никого, — соврал я.
— И мамы?
— Нет.
— А отец где?
— Отец на работе.
— Но вечером-то он вернётся?
— Нет, не вернётся.
— Когда же он вернётся?
— Завтра только.
— А мама?
— Мама в Братиславе.
— И тебя одного оставили?
— Ну да.
— Сегодня оркестр в честь Винцентов будет играть, — сказал старик.
— Я знаю.
— И в твою честь. В твою честь разве не сыграют?
— Сыграют.
— А может, музыканты у вас уже были? Дома никого нет, они взяли да и ушли дальше… Тебе лапши хочется?
— Какой лапши?
— С маком.
— Ты сам стряпаешь?
— Сам.
— И лапшу сам умеешь делать?
— Гляди!

Он подвинул ко мне миску, стоящую на столе. Лапша оказалась толстая, грубая, но маку в ней было много.
— А кто тебя стряпать научил? — спросил я.
— Меня? Я, видишь ли, сам научился. Дать тебе ложку?
— А где у тебя ложка?
— Вот. — Он достал ложку из кармана.
— А ты есть не будешь?
— Сперва ты поешь.
Я взял ложку и съел лапши не меньше трети.
— Понравилась?
— Да, понравилась.
Тем временем стемнело. Старик взял миску и тоже поел. При этом он рассказал, что раньше у него были кошки, но их пришлось прогнать. Кошки, они хитрые. Глазищи зажмурят, а сами на голубей зубы точат. Влезет кошка на чердак или на крышу и к голубям одним махом перескочит. Правда, старого голубя она не изловит, а с молодым живо расправится.
— Кошка у тебя задушила хоть одного голубя?
— Не успела, я ей дал жизни!
— Как это?
— Схватил за шиворот и метлой вздул.
После этого Мишко ещё что-то ужасно долго рассказывал. У меня начали слипаться глаза, и я даже не заметил, как заснул.
Утром я проснулся на лавке, закрытый одеялом и кожаной курткой. Под головой у меня лежала маленькая подушечка.
Я НЕ ПОШЁЛ В ШКОЛУ
Я сбросил с себя одеяло и сел. Протёр глаза, огляделся. Где же спал Мишко? Никакой кровати не видно, только старый шкаф, стулья и стол. Может, есть ещё вторая комната? Но как же это я заснул одетый?
Я вышел во двор. Мишко опять стоит на лесенке и опять голубей кормит. Некоторое время я смотрю на него.
— Доброе утро! — здоровается он.
— Доброе утро!
— Ты уже позавтракал?
— Нет.
— Там ещё лапши немного осталось, можешь её доесть.
— Можно?
— Конечно, можно.
— Мишко, а ты где спал?
— Я?
— Ты не был в деревне ночью?
— А что мне там делать?
— Где же ты спал?
— В сарае.
— И тебе не было холодно?
— Нет… Гугу! — загукал он на голубей.
Все голуби к нему слетелись и закружили около него. Он протянул руку, и один голубь сел прямо на ладонь.
— Мишко, а мне можно погукать?
— Погукай!
— Гугу-у-у! — загукал я, но голуби и не подумали ко мне подлететь.
— Загукай ещё раз!
— Гугу-у-у!
Но и на этот раз они ко мне не полетели.
— Заберись-ка сюда наверх! — предложил Мишко.
Я мигом очутился рядом с ним. Он насыпал зерна на мою ладонь, взял меня за руку и загукал сам:
— Гугу!
Голубь перелетел с его руки на мою.
— Попробуй погукай ты! — сказал Мишко.
— Гугу-у-у! — загукал я.
Голубь испугался и взлетел на крышу.
— У тебя голос нехороший, — сказал Мишко.
— А почему?
— Не знаю.
Мы спустились на землю. Старик отставил лестницу и разбросал по двору остатки зерна. Опустошив оба кармана, он пошёл со мной в комнату.
— Дома тебя не побьют? — спросил он.
— За что же меня бить?
— Дома-то не знают ведь, где ты ночевал.
— Не будут меня бить.
— А в школе?
— И там тоже не побьют.
— Раньше в школе были розги, и кого попало розгами пороли.
— Кто порол?
— Директор.
— Сам директор?
— А разве я знаю, кто теперь директор?
— Тернь.
— Какая у него фамилия чудна́я! — сказал Мишко.
— Какая есть.
— Он что, злой?
— А я не знаю.
— Розгу он о тебя ещё не обломал?
— У него нет розги.
— Может, о кого другого обломал? В школе-то ведь плохо.
— Почему?
— Потому что бьют там.
— Вовсе и не бьют.
— Если не бьют, значит, подзатыльниками угощают.
— И подзатыльников нет.
— Правда? Почему же тогда в школу ходить не хотят?
— Кто не хочет?
— Ребятишки.
— Учиться им неохота.
— Может, их учат плохо?
— Может, и так.
— Я вот никого не зову, а ребятишки ко мне сами каждый день приходят, и сопляки вот этакие нос сюда суют.
— Сопляки? — И я поскорей вытер нос рукой.
— И грязнули. От земли не видать, нос сопливый, а сам стянуть что-нибудь так и норовит.
— А у меня какой нос?
Мишко поглядел на меня.
— У тебя нос чистый, — сказал он. — В школе у вас за носами-то следят?
— Ага.
— А кто?
— Учительница наша.
— Она вас и учит?
— Она.
— А чему же она вас учит?
— Да всему.
— Всему-то всё равно не научит. Глупый всё равно ничему не научится.
— Но учиться-то надо всякому.
— Надо. К пятёрочнику-то никто не придерётся.
— Почему?
— А не так это разве?
— Так.
— У тебя какие отметки? Получаешь единицы?
— Нам ещё та́беля не выдавали.
— Но в прошлом-то году у тебя колов не было?
— Двойки были.
— Гуськи? А будь у тебя пятёрки да четвёрки, ты мог бы уже велосипед получить.
— Кто вам сказал?
— Я уж знаю.
— А у меня дома геликон есть, — похвалился я.
— Врёшь!
— Нет, не вру. Правда был…
— А сейчас?
— Сейчас нет, но мне его опять отдадут.
— Не будешь учиться, не отдадут.
— Дадут.
— Нет, не дадут… Если хочешь, съешь эту лапшу.
Мишко придвинул мне блюдо.
— Да нет, не хочется что-то.
— Ты что, обиделся?
— С чего это я обижаться стану. Когда Рудо Кемёнеш вернётся в Остраву, геликон мне опять дадут.
— А если Рудо не вернётся?
— И всё равно мне дадут.
— Учился бы ты получше, никто бы и не взял его.
— Но ведь я учился!
— На геликоне играть?
— И на геликоне.
— И в школе учиться надо.
— Я и учусь.
— Как же ты учился, если у тебя двойки были? Эх, дружок! Если хочешь геликон или велосипед получить, хоть тресни, а в школе учись.
Я УШЁЛ В ДЕРЕВНЮ
Я медленно брёл по деревне, стараясь всех обходить. Что, если меня за шиворот схватят и отведут к нашим? Я шагал вдоль ручья и всё время оглядывался. Сегодня пасмурно, снова, пожалуй, снег пойдёт.
И вдруг из-за школьной ограды выскочила прямо мне навстречу гурьба мальчишек. Я бежать. Сперва через ручей, а там по другой стороне улицы. Ка́рол Бе́луш бежал уже за мной по пятам. За ним — Юро Ванда.
— Сто-ой!
Бегу дальше. Вдруг Карол Белуш хвать меня за куртку!
— Чего вам от меня надо?
А меня уже со всех сторон дёргают.
— Пустите меня, не то кусаться стану.
— Пошли с ним в школу! — предлагает Ви́ктор Ре́менар.
— Не пойду я в школу!
— Не пойдёшь? Так мы тебя отнесём!
— Я учительницу позову, — предлагает Милан Футко и тут же с глаз исчез.
Остальные ребята волокут меня к школе.
— Его запрут в классе после уроков, — говорят они друг другу.
— Не запрут.
— Вот увидите, запрут.
— Я на вас пожалуюсь, — пытаюсь я пригрозить.
— Пожалуешься? Ха-ха-ха! А кому же ты пожалуешься?
Анча Фиалова и Марьена Рачкова бегут нам навстречу, и уже издали слышен их смех.
— Чему вы смеётесь?
— Ай-ай! Опять тебе влетит!
— Ничего мне не будет.
— А кто из дому сбежал?
— Сами вы сбежали! Я у врача был.
— У врача? Вот врёт-то! «У врача»!
— Куда вы его тащите? — спрашивает тётка Грзна́риха, останавливаясь на дороге.
— В школу.
— Отпустите, пусть сам идёт!
— Он ещё убежит!
— Убежит?
— Он по сторожкам прятался!
— Ночевал у Мишко Штефанца.
— Гру-гру! Гу-гу!
— Кто это вам наврал?
— Гру-гру, гру-у-у-у…
Вдруг откуда ни возьмись — мой отец.
— Куда вы его тащите? — окликает он мальчишек.
Я пытаюсь вырваться, но они крепко меня держат.
Отец подскакивает к нам. Подзатыльники так и сыплются во все стороны: один, другой, третий…
— Кто вам позволил его тащить?
Мальчишки разбегаются. Отец ведёт меня за рукав домой.
— Та-ак… Значит, прогульщиком стал?
Я молчу.
— Почему ты в школу не пошёл?
Я молчу, словно воды в рот набрал.
— Ты что, понимать разучился? Почему в школу не пошёл?
— У меня с собой учебников не было.
— Не было? А почему за ними домой не зашёл?
— Проспал.
— Ладно. Дома разберёмся.
Ещё несколько шагов — и мы у калитки. Я замираю. Теперь начнётся. Отец открывает калитку. Мама стоит на дворе, в руках у неё овощи.
— Та-ак!.. Нашёлся наконец! Погоди-погоди, я сейчас тебе покажу!
Мама высвободила одну руку и потянулась к моим волосам — за вихор, видно, хотела дёрнуть, но отец втащил меня в кухню.
— Садись! — сказал он.
Я сел за стол.
— Есть хочешь? — спросил отец.
— Нет.
Мама хотела войти, но отец жестом показал ей, чтобы она осталась за дверью.
— Почему ты убежал? — спросил отец.
— Я боялся.
— Кого ты боялся? Меня?
— Я мамы боялся.
— А меня, значит, не боялся?
— И вас тоже.
— А сейчас не боишься?
Я гляжу в пол и молчу.
— Смотри! — сказал отец. — Я исхлестать тебя мог бы. И шапкой и ремнём. Захотел бы, так и два часа хлестал бы. Ты думаешь, что я на то и существую, чтобы бить тебя почти каждый день? Я из тебя человека сделать хочу, а ты — неблагодарный мальчишка! Мама говорит, что тебя надо отдать в исправительный дом. Как ещё с таким сорванцом поступить? Для таких, как ты, лентяев исправительный дом как раз и создан! Я тебе велосипед обещал, а ты не слушаешься. Рассердил маму, учительницу, меня. Разве ты заслуживаешь велосипед?
— Нет… не заслуживаю.
— Велосипед-то я всё равно купил бы, да как-то просто руки всё не доходили. Ты не понимаешь, что на свете есть вещи поважнее велосипеда? Мне сорок лет, а я на велосипеде ещё никогда не езживал. Ездил, конечно, но всегда только на чужих. Не веришь?
Я опустил голову ещё ниже.
— Я-то знаю, ты думаешь, что хуже меня отцов на свете нет.
— Нет, так я не думаю.
— Думаешь.
— И взаправду…
Но я так и не договорил, потому что из глаз у меня покатились слёзы.
— Возьми ведро и сходи за водой к Ризику.
Я медленно поплёлся во двор.
В ШКОЛЕ
В нашем классе есть парта, которой, наверное, столько же лет, сколько нашим отцам. За неё будто бы когда-то сажали самых отъявленных лентяев, шалунов, воров и лгунов. Стоило сорвать в школьном саду орех или яблоко, и — готово дело! — бедняга уже сидел в углу и вытирал спиной штукатурку.
Учителя были строгие-престрогие. Таких строгих учителей нынче, кажись, и не найдёшь. Линейка и указка не показывали на карте реки и не дирижировали, а выбивали пыль из штанов какого-нибудь лодыря.
— Подойди ко мне! — манил учитель пальцем ленивого ученика.
Ученик подходил к столу. Учитель брал в руки указку, вертел в руках, но лицо его было такое сердитое, как у самого строгого школьного инспектора.
— Почему ты урок не выучил?
— Господин учитель, я не понял.

— Вы слышали? — обращался учитель к остальным ученикам. — Он не понял. А вы поняли?
— Поняли, — отвечал весь класс хором — и умные, и глупые, и самые глупые ученики.
— Сколько получит такой негодяй, который ничего не понимает?
— Двадцать пять!
— Считайте! — приказывал ученикам учитель.
Он клал лентяя поперёк колен, розга начинала свистеть.
Какая-нибудь девчонка, трусливая или пожалостливее, начинала плакать.
— А ты почему плачешь? — спрашивал учитель.
Девчонка продолжала плакать.
— Урок знаешь? — спрашивал учитель.
— Нет, не знаю.
— Подойди сюда!
И всё повторялось сначала.
Потом мальчик и девочка садились на знаменитую скамейку.
— Ученики, что это за скамейка? — спрашивал учитель.
— Для ослов.
— Какие ученики на ней сидят?
— Глупые.
Давно, конечно, это всё было. А в четырнадцать лет ученика совсем из школы выгоняли, да и сами учителя каждый год менялись. Потом приехал в деревню директор Ле́нгарчик и отменил парту «для ослов». Он играл на фисгармонии, но в его столе не было места, и на этой парте он держал свои ноты. Директор был хороший человек. Как жалко, что его, когда уже построили новую школу, уволили!
Школу построили, старые парты пошли на дрова, в новой школе фисгармонию поставили в коридор, и мальчишки повыдергали клавиши.
Эх, видел бы это директор Ленгарчик!
А что с этой партой «для ослов» произошло? Я уже сказал, что она стоит в нашем классе. Учительница держит на ней цветы, которые поливает через день Анча Фиалова.
После моего проступка никто не мог придумать, как меня наказать. Наказали, положим, только легко очень. Учительница велела переставить цветы на окно, а мне пришлось сесть за ту самую парту, которую помнят все наши отцы.
— Ребята, какая это парта? — спросила учительница.
— Старинная! — ответили некоторые.
— Какая?
— Прочная, — ответили остальные.
Учительница засмеялась и ничего не сказала.
„ВИНЦЕК, ТЫ САМ ВИНОВАТ!“
Всё остальное в школе было в порядке. Я исправился и после уроков обычно сидел дома, а на улицу выходил, лишь когда меня посылали в магазин или по воду.
— Гру-гру! — кричали мне вслед мальчишки и девчонки, но я не обращал на них внимания; рассердишься, так они без конца смеяться надо мной будут.
— Гру-гру!
Я шагаю по дороге, словно глухой.
— Винцо!
— Ну?
— Ты, видно, оглох!
— Нет.
— А куда ты идёшь?
— Никуда.
— И тебе не хочется поиграть с нами?
— Нет.
— А что у тебя?
— Где?
— В карманах.
— Не́шточки.
— Не́шточки?
— Ага.
— Что это такое?
— Вон какие вы любопытные!
— Покажи нам!
— Не покажу.
— А вправду это нешточки?
— Вправду.
— Зачем они тебе?
— Я выращиваю дома молодые аэропланы.
— Голубей?
— Аэропланы.
— Самолёты?
— Ага.
— При чём же тут нешточки?
— Вот при том! Чем мне самолёты кормить?
— Гру-гру!
— Вот я вас и разыграл!
— Это мы тебя разыграли!
— Как бы не так!
— Винцек, почему ты меня не подождёшь? — кричит мне кто-то сзади.
Я оглядываюсь.
— Винцек, а какой ты, оказывается, выдумщик, — говорит, догоняя меня, дядюшка Алексин, кларнетист.
— Они надо мной смеются, — отвечаю я.
— Смеются над тобой? Так ведь ты им врёшь!
— Нет, не вру.
— Слышал я.
— Я вру им так, чтоб они об этом догадались.
— Винцек, ты лгун… Послушай! Почему же ты не пошёл с нами в винцентов день?
— Никто меня не звал.
— Винцек, золотой мой, не говори так! Я знаю, что за тобой дядюшка Загрушка лично заходил.
— Меня звали, но Рудо Кемёнеш взял у меня геликон.
— Вот видишь. Ты и меня хотел обмануть. Зачем же обманывать? Всегда правду говорить надо. Если Рудо взял у тебя геликон, ты должен был прийти ко мне или к дядюшке Загрушке, и ты давно уже получил бы другой.
— Какой другой?
— Так ведь у нас два геликона.
— Правда?
— Или ты думаешь, что я попусту болтаю? Раз я говорю, значит, так оно и есть.
— Где же второй?
— До сих пор у меня был, а сейчас у дядюшки Загрушки.
— У вас? Так ведь вы на кларнете играете?
— Есть время — играю и на геликоне, нет — не играю. Мне бы твои-то годы, милый Винцек, я бы показал, что с этой трубой можно сделать!
— А где он сейчас?
— Геликон? Я ведь тебе сказал где. Винцек, ты сам виноват! Вместо того чтобы упражняться, ты с мальчишками зубоскалишь.
— Я не зубоскалю.
— Ну конечно! Слышал я, как вы все смеялись. Беги что есть духу!
— К дядюшке Загрушке?
— Беги знай!
И ОПОМНИТЬСЯ НЕ УСПЕЕШЬ…
И опомниться не успеешь, как весна уже пришла.
В один прекрасный день выходишь на двор и видишь своих соседей на деревьях. Сначала можно подумать, что с ними что-то приключилось, можно подумать, что они в детство впали. Один сосед пилой сучья режет, другой ножницами щёлкает. А-а, теперь всё ясно: деревья расчистить нужно, обрезать. В центре сада куча сухих листьев, бумаг и всякого мусора. Непременно сжигать всё это придётся.

— Дядя Яно, а что вы с листом делаете? — спрашиваю я через забор у соседа слева.
— Что-о? — откликается сосед справа.
Его тоже зовут Яно, и он слышит лучше первого. А тот на ухо туговат.
Я перехожу через двор и завожу разговор с соседом справа.
— Дядя Яно, что вы с сухим листом сделаете?
— Да что-нибудь уж сделаю.
— Сожжёте?
— Ещё чего!
— Что же тогда вы с ним сделаете?
— Отвезу вон туда — к стене.
— К стене?
— Ну да.
— Почему же к стене?
— Годик-другой оставлю их там погнить.
— А потом?
— Что — потом? Потом из них перегной получится.
— А из бумаги тоже?
— Разве может перегной из бумаги получиться?
— Может.
— «Может, может»! Ведь я не думал сказать, что вообще не может получиться. Бумага гниёт дольше, чем трава и листья, вот оно что!
— А можно вам помочь?
— Почему же нельзя!
Я перепрыгиваю через забор и собираю лист в деревянную тележку. Наполнив её, отвожу к тому месту, которое указал мне дядюшка Яно. Куча среди сада быстро исчезает. Я беру грабли и ещё раз старательно прочёсываю всю лужайку. Дядюшка Яно перелезает с дерева на дерево и весело пощёлкивает ножницами.
— Эй, сосед! — вдруг зовёт сосед слева, который туговат на ухо.
— Ну-ну? — откликается дядюшка Яно.
— Ишь какой у тебя помощник, хе-хе! — громко смеётся другой сосед.
— Да вот нашёлся один, — отвечает дядюшка Яно и начинает насвистывать.
— Сосед, а тебе, кажись, весело, — неуверенно говорит второй.
Он не знает: вправду ли свистит дядюшка Яно или это только так показалось?
— Мне весело, — отвечает дядюшка Яно.
— И мне весело, — говорит второй сосед и немного спустя добавляет: А надо думать, весна пришла.
— Что? — переспрашивает дядюшка Яно: он тоже ведь глуховат.
— Говорю, весна-то и вправду пришла!
— Ну, и я это же говорю.
— Что?
— Говорю, что весна уже!
Пусть вас слово «сосед» с толку не сбивает. На нашей улице почти ко всем так обращаются. Я постарше стану, и ко мне так будут обращаться, а я так других называть стану.
„ПРИРОДА-ТО РАЗУМНО УСТРОЕНА…“
Однажды мама принесла в кухню гусёнка. Она показывает его отцу и мне, и мы все радуемся. Отец весёлый ушёл на двор, а я всё ещё верчусь около мамы. Она завернула гусёнка в белую тряпку и осторожно положила в корзину. А я лучше положил бы его на пол и любовался бы им долго-долго. Но мама сказала, что на полу ему холодно.
— Сколько у нас гусят будет? — спросил я у мамы.
— Десять или одиннадцать.
— Хорошо как! И я буду их пасти.
— Захочется ли ещё тебе, — ответила мама.
— Мне сейчас уже хочется, — сказал я.
— Сию минуту хочется, а потом раздумаешь.
— Нет, не раздумаю.
— Там увидим, — сказала мама.
— Мама, а гусяткам холодно не будет? — спросил я.
— Не будет. Видишь ведь, что этого я в тряпку закутала.
— А после? Потом разве им теплей станет?
— Когда потом?
— Когда мы их пастись выпустим.
— Не будет им холодно. Ведь уже весна.
А верно ведь! Идёшь по улице и чувствуешь тепло, но как-то забываешь про весну, а ведь пришла самая настоящая весна. И вдруг на свет гусёнок появился. Никто его не звал, но он появился, словно сам хотел напомнить людям о весне.
— Мама, но почему гусёнок знает, что весна пришла?
— Он этого знать не может, — отвечает мама.
— Но он знает!
— Нет, ничего он не знает.
— Почему же тогда он раньше не появился?
— Не мог он раньше появиться. Если он раньше времени вылупится, так и взаправду замёрзнет.
— Значит, он о весне всё-таки знал. Или, может, хоть гусыня о ней знала?
— И гусыня ничего не знала. Если хочешь, подумай-ка сам. Гусёнок — тоже частица природы, как и трава, деревья, вообще всё на свете. Если кто его и позвал, так это сама природа.
— Правда?
— Правда. Природа-то разумно устроена…
ПОХВАЛА
Отец вернулся с ночной смены. Он улыбался. И вообще по нему не видно, что он ночь не спал. Иной раз он и после работы спать не ложится. Приедет домой, позавтракает и около дома возиться начинает. На прошлой неделе он сделал новую лестницу. Старая-то уж совсем развалилась. Даже куры по ней прыгать не могли, а мама — за яйцами в курятник влезать.
— Я ведь уволился, — сообщил отец.
— Неужто? — удивилась мама.
— Я ведь говорил уже, что уволюсь. Этими поездками я по горло сыт. Теперь в кооперативе работать стану.
— Механиком?
— Я уже договорился. Механиком буду, да и ездить никуда не придётся.
Я собирался в школу, но эта новость меня остановила.
Отец обернулся ко мне:
— Ты всё ещё здесь?
— Иду уже, иду. — И я шагнул было к
двери.
— Погоди, — позвал меня отец, — покажи-ка свой дневник.
Я открыл портфель, а отец сам взял школьный дневник. Я так и замер.
— Ну, успехи-то у тебя не больно велики, — проворчал отец.
Я и словечка не обронил.
— А это что же такое? — спросил он ещё.
— Двойку схватил, — ответила за меня мама.
— Двойку? А за что? — спросил отец.
— За письмо, — ответил я.
— Что? Писать до сих пор не научился, что ли?
— Научился, — протянул я.
— Балбес! — сердито сказал отец и замахнулся на меня. Он ещё полистал дневник, и вдруг лицо его несколько прояснилось. — Вот это. Прочитай-ка мне! — сказал он и протянул мне дневник.
Пришлось прочитать вслух:
— «Ваш сын на прошлой неделе собрал лечебных трав больше всех».
— Неужто ты? — спросил отец.
— Да, я, — подтвердил я, кивнув головой, и вдруг почувствовал себя удивительно странно.
— А кто же это написал?
— Учительница.
— Недурно, — сказал отец. — Значит, похвалила она тебя?
— Ну да, похвалила.
— Ну хоть разок тебя за что-то похвалили, — одобрил отец.
Сначала он нахмурился, потом засмеялся.
— А ту двойку ты исправишь! — добавил он построже.
— Исправлю, исправлю!
— Ну, беги!
НА РЕПЕТИЦИИ
Дни стали длинные. Работы у всех в поле и на виноградниках по горло. А когда уже совсем темно, музыканты собираются в пожарке. Одни на носилки садятся, другие устраиваются прямо на земле.
— Милые мои, вы не поверите, как мне сегодня поработать пришлось! — говорит дядюшка Тауберт.
— А кто не работал? Каждый руки натрудил, — говорит дядюшка Рачко, отец Марьены Рачковой.
— Лучше всех Загрушке живётся, тому работать не надо, — в шутку говорит дядюшка Алексин.
— Загрушке? Он своё уже отработал, — отвечает дядя Яно Слинтак, самый старый из музыкантов.
— Честное слово! Спина прямо трещит, будто я буфет целый день таскал.
— Винцек, а ты что делал? — спрашивает дядюшка Тауберт.
— Я?
— Гусей, надо полагать, пас, — говорит дядюшка Алексин.
— Я воду носил, — смущённо отвечаю я.
— Воду? У вас во дворе колодца, что ли, нет?
— Колодец-то есть, да для стирки приходится с Ризика воду носить.
— Для стирки? Это правильно, — говорит дядюшка Рачко.
— И для стирки и для стряпни, — добавляет дядюшка Алексин.
— В Ризике вода хорошая, — говорит дядюшка Тауберт.
— Да-а, в Ризике вода отличная, — соглашается дядюшка Яно Слинтак.
В пожарку входит Рудо Кемёнеш. Рудо парень молодой, неженатый ещё. Все музыканты его любят: он никогда с такта не собьётся.
— А где вы вторые голоса оставили? — спрашивает дядюшка Загрушка.
— А что вам надо от нас? — отзываются с носилок вторые голоса.
— Значит, все в сборе. Ну как, начнём?
— Томашовича ещё нет, — говорит дядюшка Тауберт.
— Томашович не придёт, — сообщает дядюшка Загрушка. — Встанем, братцы! — командует он.
— Грянем?
— Грянем.
— Нет ещё!
— Нет, пока ещё не грянем. И поупражняться хоть немножко надо.
— Так для начала-то можно что-нибудь отхватить!
— Что?
— «Победу».
— Но помягче играйте, — предупреждает дядюшка Загрушка.
— Марш? Нельзя марш играть мягко. Марш громко играть полагается, — возражает дядюшка Алексин.
— Правильно, — поддерживает его дядюшка Яно Слинтак.
— Погромче, но с чувством сыграем, — объясняет дядюшка Загрушка, чтобы успокоить их. — Винцек, ты уже знаешь «Победу»?
— Дело помаленьку на лад идёт, — хвалит меня Рудо Кемёнеш.
Дядюшка Тауберт бьёт в барабан, и мы начинаем. Конечно, сейчас я сумею вам кое-что о музыке сказать, но всё-таки я не специалист.
Самое лучшее будет, если вы послушаете именно наш духовой оркестр. Как знать: может, и нас пригласят когда-нибудь на радио или на телевидение. Дядюшка Загрушка на настоящего дирижёра похож. И жалко, что не все его видят.
— Винцо, а что у тебя с геликоном? — спрашивает один из музыкантов, играющих второй голос, когда мы кончаем марш.
— А что?
— Почему он у тебя дребезжит?
— Это «фа» дребезжит. Когда я ещё в армии был и выдувал «фа», всегда керосиновая лампа тухла. Капельмейстер-то говорил мне не раз: «Ты, Рудо, полегче дуй, когда «фа» играешь, не репетировать же нам из-за тебя в темноте».
— Правда?
— Правда. Винцек, и ты не так сильно, дуй, когда «фа» тебе надо сыграть.
— Теперь сыграем «Ракоши-марш», — предлагает дядюшка Алексин.
— Как же «Ракоши» играть? Ведь нот-то у нас нет, — говорит дядюшка Рачко.
— Видали? А ты играл когда-нибудь «Ракоши» по нотам? — смеются над ним вторы.
— Старайтесь-ка вы получше вторить, — обрывает их дядюшка Яно Слинтак.
— Вторы должны греметь, — говорит дядюшка Алексин, вытряхивая слюну из кларнета.
— Внимание! — восклицает дядюшка Загрушка и подаёт знак дядюшке Тауберту ударить в барабан.
Я слушаю те вещи, которые ещё не умею играть. При этом я наблюдаю, как Рудо перебирает пальцами и как губами шевелит при каждом звуке. Хороший, очень хороший геликонист Рудо Кемёнеш!
КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА
А вот уже и конец учебного года. Все ученики в школу идут нарядные, как в праздник. Те, кто должен получить награду, несут учительнице цветы. В прошлом году и Милан Футко тоже принёс букет, но, узнав, что он награды не получит, домой его взял.
Сегодня в школу кое-кто из родителей пришли. Дядюшка Фиа́ла, отец Анчи Фиаловой, произнёс длинную речь, хотя в начале и пообещал говорить очень кратко. Он сказал, что пришлось, к сожалению, из-за этого выступления уйти с работы на молотилке, но иначе поступить он не мог. Он должен, мол, сказать о тучных колосьях, которые уродились на грушковецких полях. Где землю получше обработали и удобрили, там и урожай был богатый, а где урожаю мало внимания уделяли, там и на уборке всё справедливо сказалось. Вот так и с табелями получается: кто лучше учился, у того и отметки лучше, а у тех, кто лентяйничал, и отметки плохие — двойки, а то и единицы. Что такое единицы? Для школьников единица — это не что иное, как пустой колос.
То же самое сказал в прошлом году и дядюшка Ру́мел. И о колосьях, и о табелях. Сначала мы подумали, что он пришёл звать нас в бригаду, а когда речь кончил, мы поняли, что в школе, как и повсюду на свете, царит справедливость, и он хотел нам это доказать. Потому и речь он свою сказал.
Речи кончились, и учительница стала раздавать награды.
— Да́гмар Аугусти́ничева, — вызвала учительница.
— Ка́рол Ба́кош…
И тут дело пошло очень быстро. Послышалась фамилия Лацо, а там вскоре и моя. Мы разложили свои табеля на партах и долго рассматривали отметки. У Лацо была одна двойка. У меня оказалось три тройки. Всё-таки мы не совсем осрамились и были этим очень довольны. Марьена Рачкова получила награду, но мы ей не завидовали. Всякому ведь известно, что у неё весь год никаких других забот не было — знай учись только! Её родители всегда хвалились, что у Марьены в дневнике одни пятёрки.
Учительница пожелала нам весёлых каникул, и мы с криками выбежали из школы.
НЕВЗГОДЫ ИЗ-ЗА ГЕЛИКОНА
Как только всходит солнце, сна в доме у нас как не бывало. Петухи горланить начинают ещё в темноте, кур будят. Те давай кудахтать, словно девчонки на автобусной остановке, когда учительницу ждут. Но куда ещё ни шло — куры. После них гусям черёд приходит. Отец постоянно забывает закрыть калитку в загородке, где у нас гуси ночуют. И потому никто им не мешает перейти через двор и остановиться у самых дверей в кухню. Подождали бы тут! Так нет! Как начнут долбить носами в дверь, словно очередями из автомата сыплют. Но самое скверное — это мухи. Едва солнышко покажется, как мухи уже над головой жужжат, будто самолёты, хоть ты тресни! И откуда только эти мухи берутся? Хоть каждый день их изничтожай, всё равно они откуда-то летят и летят. Больше ещё скажу: муха из всех насекомых самая назойливая. Вот именно так! Муху можно сто раз прогнать, сто раз от неё рукой отмахнуться, а муха опять прилетит. Вот какие мухи назойливые! Ну не-ет! Не позволю мухам себя донимать!
Сбрасываю с себя одеяло и встаю с постели.
— Что с тобой? — спрашивает мама.
Никак у неё в голове не укладывается, что вдруг я сделался такой ранней птахой.
Я пожимаю плечами и молчу.
— Почему ты уже встал? — допытывалась мама.
— Почему? Из-за мух! Мухи мне спать не дают!
— Но ведь не так уж их много! Позавчера всех перебила.
— Перебили? Откуда же они тогда взялись?
— Вот я говорю: не так уж их много.
— А всё-таки есть! Спать мне не дают, — говорю я, хотя и чувствую, что не так уж здорово сержусь. Наоборот даже, пожалуй, почти и не сержусь. Мне даже нравится, что я в такую рань встал.
— Если хочешь, ступай ложись на чердаке, — предлагает мама. — Отец ведь спит на чердаке, там воздуху больше.
— Э-эх!.. — И я потягиваюсь так, что у меня трещат кости.
Потом беру мыло и отправляюсь во двор, у колодца наливаю немного воды в таз, отхожу в сторонку и начинаю умываться. Мама стоит в дверях и всё ещё дивится, что я встал так рано, никак не может поверить, что из-за каких-то дурацких мух я поднялся.
— Завтракать будешь? — кричит мне мама с порога.
— Завтракать?
— Завтрак готов. Если хочешь, можешь сесть за стол.
— Нет, потом.
Таз и мыло я оставляю у колодца — и марш прямо в комнату. Там я беру геликон, надеваю на плечи и стою, словно с ним разговор веду. Наконец я извлекаю из него несколько протяжных звуков и, разыгравшись немного, начинаю гамму. Не успел я её окончить, как с чердака выскочил отец.
— Ах ты олух несносный! И ночью от тебя покоя никому нет! Только и знаешь хрипеть, фырчать да дудеть без умолку. Как у тебя труба только не лопнет!
Ничего не понимая, я гляжу на отца, а мама за его спиной смеётся.
— Или нарочно вы всё это подстраиваете, с ума, что ли, оба посходили, человеку отдохнуть не даёте! — сердито выговаривает нам обоим отец.
— Который час? — спрашивает мама и глядит на часы.
— Который час? Половина шестого! — ещё громче кричит отец. — Целый день по полю гоняешь, вечером возле дома возишься, а захочешь под утро поспать, так труба над ухом начинает реветь, весь дом дрожит!
— Что дрожит, где дрожит? — смеётся мама.
Глядя на неё, смеюсь и я.
— Шалопай этакий, он ещё и смеётся! — набрасывается на меня отец, хватает за воротник и выталкивает на двор вместе с трубой.
Ничего-то родители не понимают, и от этого у меня успехов не прибавится. Отец-то музыкантом не был. Понюхал бы музыки, знал бы, что научиться чему-нибудь можно, только если упражняться каждый день или хоть через день. Не понимает этого отец. И понять никак не желает. Зачем же, спрашивается, в таком случае тащил он меня в музыкальную школу? Зачем толковал о гармонике? А разве только одна гармоника существует на свете?
Я забираюсь в самый дальний угол двора и, сев на дубовую колоду, с грустью размышляю о своих родителях. Ничего-то они не признают! Думают, что только у них одних заботы есть. А если я чего-нибудь нового не разучу, что сказать дядюшке Загрушке в своё оправдание? И что Загрушка мне скажет? Он лодырем меня назовёт и геликон отнимет. Вот и сижу я да раздумываю, как мне родителей переубедить. Как их переупрямить? Скорей всего, так: не стану ничего есть. Сначала они будут меня насильно кормить, а там, глядишь, обо мне забудут. Тем дело и кончится. Или же отец, уходя на работу, шапкой меня шлёпнет. Скорей всего, так и будет.
Сижу я, посиживаю, на ласточек смотрю. Как они весело щебечут на крыше! Смотрите, живут как хотят, и никто им не мешает! Эх, был бы я ласточкой! Ну нет! Что-то такое я читал, и глупо это было. Гм… Быть бы птицей побольше! Я ещё некоторое время гляжу на крышу, потом забываю обо всём и играю гамму.
«Цвик! Цвиу!» — проносятся с криком ласточки над моей головой.
— Чао! — отвечаю я им и продолжаю играть.
— Соседка! — слышу я голос с соседнего двора.
У нас ни звука. Я прикладываю мундштук к губам и ещё раз проигрываю гамму.
— Соседка, вы слышите? — снова кричат с соседнего двора.
— Меня зовёт кто-то? — откликается мама на кухне.
— Соседка, не может ли ваш мальчишка дудеть ещё где-нибудь?
— Что-о?
— Дудеть! Знай себе дудит, а это нашему псу не больно-то по вкусу пришлось. Воет, словно бешеный.
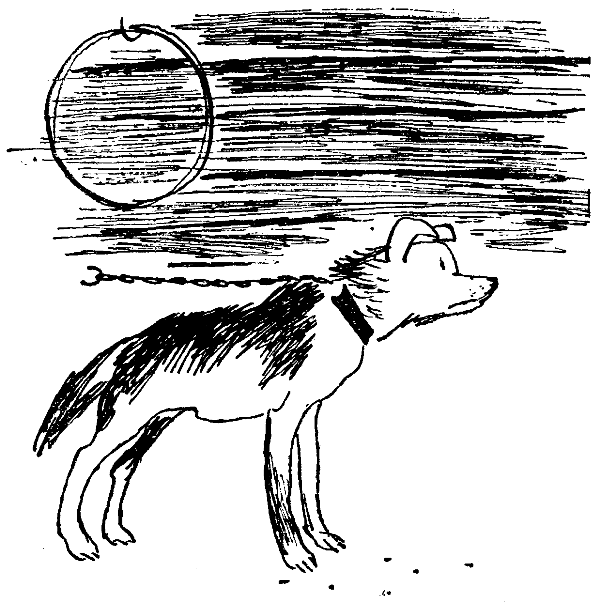
— Ваш пёс?
— И голуби пугаются. Заприте-ка вашего парнишку куда-нибудь в подвал, что ли! Не перестанет, так я его водой оболью!
Конечно, кому не надоест меня слушать! Разобиженный, я проглатываю слюну, что набралась на губах, и тащусь через двор.
— Я отсюда ухожу, — ворчу я, проходя мимо мамы.
— Почему? И куда? — спрашивает она, и по её голосу я чувствую, что она раздражена точно так же, как и я.
— Ухожу.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Хоть бы амбар у нас какой-нибудь был! — вздыхает мама.
Но я уже сыт по горло всеми этими невзгодами, тащу геликон в комнату, потом стою, заложив руки за спину, не зная, что предпринять и куда уйти. Когда я уже надел шляпу, доставшуюся мне в наследство от деда, вдруг мне на глаза попалась плетушка, и тогда мне приходит в голову: а ведь можно сходить в лес по грибы! На душе сразу становится легче, и я появляюсь на дворе с прояснившимся лицом.
— Куда ты? — опять спрашивает мама, и по её голосу я понимаю, что она всё ещё мне сочувствует.
— Никуда.
— Ну, чего ты отговариваешься?
— Я не отговариваюсь.
— Так скажи, куда же ты пойдёшь?
— По грибы.
— По грибы?
— Ну да.
— Один?
— А я ведь ни с кем не сговаривался.
— Заплутаешься ещё. Не годится в лес одному ходить.
— Ну-у…
— Ты, я вижу, и разговаривать по-человечески не умеешь. Смотри, отцу скажу.
— Да-а, все на меня жалуются. А я виноват, что мешаю всем?
— Кому ты мешаешь? — серьёзно спрашивает мама, и снова в её голосе слышится сочувствие. Но от этого я ещё больше злюсь.
— Всем мешаю.
— Тебя в лесу ещё лисица искусает, — говорит мама.
— Лисица?
— Лисы сейчас болеют.
— Лис я в лесу пока ещё не встречал.
— А вдруг наткнёшься?
— Наткнусь, так только рад буду!
— А не заблудишься?
— Нет, не заблужусь.
В ЛЕС ПО ГРИБЫ
Вот я и шагаю по тропинке. Слева ручеёк журчит, где мы всегда ловим раков. Однажды — дело было четыре или пять лет назад — я сунул руку под корень в воде да как закричу.
Ребята все ко мне сбежались, а когда я руку вытащил, они хохотать принялись, да так злорадно. Ещё бы! Рак-то клешнями в мой палец вцепился. Вот я какой герой!
Справа от тропинки виноградники тянутся. Старые лозы сейчас сверху донизу обрызганы купоросом; от купоросной лазури прямо в глазах рябит. Но кое-где виноградники заброшены: даже до лоз руки не дошли. Взрослые сами о многом часто забывают. А почему? И потом на молодёжь ссылаются: мол, молодые-то все в город бегут. И ещё грозят своим детям: «Осёл! Здесь останешься, работать в кооперативе тебя заставлю!» Будто в кооперативе одни дураки работают!
У Гра́бовки я задерживаюсь. Грабовка — это родник. Вытекает он из-под скалы, и всё лето в него падают орехи и дикие яблоки. Нигде по всей округе нет лучше воды, чем в Грабовке. Сюда пить ходят не только из нашей деревни, но и из соседней, что стоит сразу же за холмом по ту сторону ручья. Но сейчас ещё рано, пить мне пока не хочется, а потому я весело бегу дальше.
Наконец я и в лесу. На самой опушке растут толстенные дубы. Лиловые колокольчики выглядывают из высокой травы. Я вспоминаю о девчонках. Вот где могут они нарвать красивые букеты! Но где сейчас девчонки? Во время каникул разве найдёшь их? Они не скоро ещё вернутся в деревню: кто с экскурсией уехал, кто у всяких там бабушек гостит. А колокольчики-то тем временем, глядишь, и отцветут!
— Эй, дядя! — слышу я вдруг за своей спиной.
Я оглядываюсь.
— Дядюшка, правильно мы идём к Красному камню?
А-а, да это экскурсанты какие-то! Никакого дядюшки вблизи не видно. И я иду дальше своей дорогой, а сам в душе немножко злорадствую. «Вот и они почему-то спать не стали, тоже, видно, им мухи покоя не дают», — думаю я об экскурсантах. Это семь или восемь человек, идущих через лес.
— Дядюшка, правильно ли мы к Красному камню идём? — спрашивают они во второй раз.
Я останавливаюсь, гляжу во все стороны. К кому же это они обращаются?
А они снова:
— Дядюшка!
— Меня вы, что ли, спрашиваете?
— Мы правильно на Красный камень идём?
— Какой я дядюшка! — протестую я, думая, не обидеться ли мне на них всерьёз.
— Пожалуйста, мы вас спрашиваем…
— Да какой я вам дядюшка!
Они, приглядевшись, разражаются смехом.
— Извините нас! — говорит один. — Ваша шляпа нас с толку сбила.
— Шляпа?
— Шляпа и палка.
— Шляпа-то дедушкина!
Они смеются ещё громче.
— Шляпа дедушкина, а палку я взял грибы искать.
Я показываю дорогу на Красный камень, хотя и поругиваю их в душе, и отправляюсь искать грибы. Тот, кто ходит по грибы, знает, что самое трудное — найти первый гриб. Найдёшь один, а там уже ходишь взад-вперёд, стараясь не слишком далеко отойти от того места, где нашёл первый гриб, и не наступить случайно на его собрата. Но из-за этого первого столько ходишь, что и супа грибного не захочется. Грибы искать — то же самое, что рыбу ловить. Сидишь у воды, полчаса сидишь, с поплавка глаз не сводишь, а он когда-то ещё дёрнется. Вот тебе на! Наживку-то рыба съела — и до свиданья! Хорошо так посидеть! Да только если терпения нет, и рыбу ловить не затевай. То же самое и по грибы ходить, как я уже сказал. Ходишь, ходишь, все глаза проглядишь, и вдруг — вздрогнешь даже! — тебе белый гриб померещится, а на поверку выходит, что стоит перед тобой этакий дурацкий мухомор в красной шляпке, которую чуть не за сто метров видать. Но если тебе взбредёт иной раз в голову мухомор найти, чем угодно ручаюсь, что ты по лесу проходишь самое малое часа два. А сейчас ни с того ни с сего он тебе на глаза лезет. Все эти поиски рано или поздно прискучат, вот тогда счастье тебе и привалит. Вот он, гриб-то! Чуть я на него не наступил! Бедняга! Вздохнёшь только, может, и сам не поймёшь, как тебе досадно. Знаю я всё это. Наступил на гриб, а у самого сердце кровью обливается. На местах, где мох растёт, кое-что ещё видно, но там гриб и другие сразу увидят, значит, одно на одно выходит.
Я брожу по лесу часа полтора уже, а нашёл всего несколько лисичек и два крохотных белых грибка, которые едва-едва выглядывали из земли. Они росли вблизи от того бедного гриба, на который я наступил. И снова я чувствую досаду. Ещё на опушке поищу — и отправлюсь домой. Скажу маме, что грибы не растут: дождичка бы надо на два-три денька.
— Винцко-о! — вдруг слышу я чей-то протяжный голос.
— Ау-у-у! — откликаюсь я так же протяжно и оглядываюсь. — Кто меня звал?
— Винцко! Нашёл уже что-нибудь?
— Что-о?
— Спрашиваю: нашёл что-нибудь?
— Да так, кое-что!
— Верно. Если ходить, так всегда кое-что найдётся. И я нашёл кое-что.
— Поглядеть можно?
— Что?
— Можно ли поглядеть, спрашиваю?
— Отчего же не поглядеть? Ведь я кое-что нашёл. Если ходить, всегда кое-что найдётся, — повторяет он ещё раз.

В деревне у нас дядюшка Еле́менский один из самых завзятых грибников. Всегда, отправляясь по грибы, берёт он рюкзак и, пока не наполнит его доверху, из лесу ни за что на свете не уйдёт.
Я подхожу к дядюшке Елеменскому, заглядываю в рюкзак, и у меня от зависти дух захватывает.
— Здо́рово! — невольно восклицаю я. — Да ведь у вас почти полно.
— Полно, как же! — смеётся он мне прямо в лицо. — Туда их войдёт ещё во-он сколько — половина твоей корзинки, — говорит он, показав на мою плетушку.
— А я думал, что грибов-то вовсе ещё нет!
— Нет? Если с толком ходить, всегда кое-что найдётся, — повторяет он уже наверное в третий раз.
И вдруг он, вскрикнув словно ужаленный, подскакивает ко мне, нагибается и прямо у меня из-под ног выхватывает белый гриб.
— Ты, кажись, ослеп!
— Что?
— Иди-ка ты теперь куда-нибудь отсюда подальше!
— Почему?
— Теперь ты, парень, здесь мне не нужен… Оставь его! — закричал он, когда я тут же заметил ещё один белый гриб.
Я выпрямился, обчищая гриб. Дядюшка Елеменский мигом очутился около меня.
— Отдай! — приказал он и протянул ко мне руку.
Я глаза вытаращил.
— Отдай же! Не понимаешь? А тот гриб кто нашёл? Ты или я? Уж очень ты ловок — дружка из-под носа выхватить! Ты вообще-то знаешь, что такое дружок у грибов?
— Что же?
— Ну знаешь, я не виноват, что у тебя понятия никакого нет о таких важных вещах. Грибник найдёт какой-нибудь гриб, и все остальные, что поблизости растут, принадлежат тому, кто нашёл первый. Грибы, что в одном месте растут, вроде бы как одна семья. Все они братья или друзья. Друзья! Так ведь и говорится: грибную семейку в один кузовок кладут.
Он выхватил у меня белый гриб и сунул его в свой рюкзак.
— А теперь чеши отсюда! — приказал он мне, показывая на дорогу.
Я ни с места, в себя никак прийти не могу.
— Не слышишь, что ль?
Я ушёл в конце концов. Хоть и злился я, но и весело было мне. Всё-таки мне повезло. Пока я добрался до дороги, ещё четыре больших гриба мне попалось. Все четыре росли на одном месте. Ну, а что, если и пятый там же ещё остался? Дядюшка Елеменский пойдёт за мной и, может, найдёт его. Гм… А грибную семейку, мол, в один кузовок кладут!
ВСТРЕЧА С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
Когда я вышел из лесу, первым делом встретился мне дядюшка Томашович. Тот самый, что в духовом оркестре на корнете играет. Дядюшка Томашович играет первый голос, дядюшка Белай — второй. Оба они люди хорошие, и оба, с тех пор как начал я учиться на геликоне играть, со мной подружились. Иной раз остановят меня на улице, а ребята глаза таращат: о чём это я со взрослыми говорю?
— Сколько диезов в c-dur? — всякий раз пристаёт ко мне дядюшка Рафаэль.
— У c-dur нет диезов.
— У c-dur нет диезов? — глядя на меня, щурится дядюшка Рафаэль. При этих словах он как-то так чудно́ горбится, и все ребята, которые это видят, покатываются со смеху.
— У c-dur ничего нет.
— В самую точку попал! — восклицает дядюшка Рафаэль. После этого он расправляет плечи и накидывается на мальчишек: — Вы-то чему смеётесь?
— А мы не смеёмся.
— Ну и сыпьте отсюда!
Он топает ногой, и им приходится отступить.
Сейчас он на моё приветствие ответил и тут же меня проверять принялся.
— На какой счёт вальс играют? — спросил он.
— Вальс играют на счёт три.
— На какой счёт польку играют? — продолжает он свой допрос.
— Польку на два.
— А марш?
— Тоже на два.
— Вижу, ты вперёд подвигаешься, — похвалил он меня. — В мою книжку заглядывал?
— Заглядывал.
— Хорошая книжка… По ней мальчуган вроде тебя многому научиться может. Не врёшь, в самом деле заглядывал?
— В самом деле…
Он улыбнулся мне и дальше было пошёл, но вдруг вспомнил о чём-то.
— Послушай-ка! А тебе не хочется подработать? — спросил он.
— Подработать? А где?
Сперва я подумал, что, видно, он по грибы собрался, а сейчас, когда меня встретил, передумал и предпочитает у меня грибы купить.
— По-моему, подработать ты был бы не прочь.
— Подработать? А где?
— Вместе со мной.
— С вами?
— Ну да.
— Но ведь вы коров пасёте?
— Да, коров пасу. Ну так что? Плохая разве работа пастухом быть?
— Работа ничего.
— Тебе, кажись, не больно по вкусу такое дело. Ты доктор, что ли?
— Не-ет.
— Я о тебе подумал вот почему. Знаешь, сколько у меня коров в стаде? Сто двадцать!
— Как много!
— И по-моему, тоже много. Сто двадцать коров, да ещё тёлок около семидесяти.
— Как много! — повторил я.
— Я ещё бычков не помянул.
— А сколько же бычков вы пасёте? — спросил я, желая показать, что я и взаправду работой его заинтересовался.
— Это уж дело моё. Я потому и спросил, не хочешь ли ты подработать.
— Заработать-то я бы хотел…
— Гм… А тебе коров пасти не хочется?
— Коров? Гм… — тоже в свою очередь хмыкнул я. — Вы их один пасёте?
— Здесь вон, на Гре́фтах, пасу. Ежели знать хочешь, тут получше всякого курорта будет. Заманивать тебя я не хочу. Мать твою я уже спрашивал, а она сказала, чтоб я с тобой потолковал.
— Мама? Когда же вы с ней говорили?
— Раз я что говорю, значит, так оно и есть. Здесь я пасу. Мне какого-нибудь помощника всё обещают дать, да что-то никого не пришлют. Стар я стал, и нет у меня в ногах прежней прыти. Я кричу, а корова не стоит. Я еле-еле встану, а угнаться мне за ней уж не под силу.
— Я у председателя спрошу.
— Чего ж тут спрашивать? Помощника мне давно обещают и всё никак не пришлют.
— А у вас корнет при себе есть? — спросил я ещё.
— Понятно, есть. Разве здесь, в лесу, без корнета обойдёшься?
Я снова хмыкнул.
— Когда придёшь-то?
— Как скажете, так и приду.
— Завтра с утра? Идёт?
Я кивнул.
КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
Вот так я и ушёл из деревни. Вещей взял с собой совсем мало. Из одежды кое-что да две-три книжки. Вернее, две книжки и тетрадь. В неё я записываю всё, что о духовом оркестре узнаю́. Грушковецкий духовой оркестр ещё в то время возник, когда дядюшка Томашович был чуть постарше меня. Тогда пастухом деревенским был дядюшка Загрушка. Перед каждым домом щёлкал он кнутом, на верхнем и на нижнем конце улицы в корнет трубил. Корнет купил он у Гала́мбоша за семьдесят пять крон. А Галамбош этот краловский пастух был, то есть родом из Кра́ловой. По словам дядюшки Рафаэля, Галамбош продал Загрушке корнет и научил его играть гамму. Остальному дядюшка Загрушка сам научился. Правда, кое-что он узнал, пока был в солдатах, но всё равно и так о дядюшке Загрушке можно сказать, что у него выдающийся талант. А потом стал в деревню ходить покойный Сла́нинка. Родом он из Выпытальца и много лет был военным капельмейстером. Вот этот Сланинка вместе с дядюшкой Загрушкой и основал грушковецкий духовой оркестр.
— У грушковецкого духового оркестра своя традиция есть, — говорил дядюшка Томашович.
— Традиция?
— Да.
— Какая традиция? — спросил я.
— Славная традиция.
— А что такое традиция?
— Традиция создаётся, когда что-нибудь, возникнув, долго существует и живёт.
— Духовой оркестр наш существует, а традиция в том, что он до сих пор жив и всё ещё людям дорог.
— И дядюшка Загрушка тоже традиция?
— И он.
— И дядюшка Сланинка?
— Да.
— Но дядюшка Сланинка уже умер.
— Всё равно. И ты традиция.
— И я?
— И ты…
Я всё это записал. И много ещё чего другого занёс в тетрадку. Постепенно я всю её испишу. На первой странице я написал: «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем». Пониже в скобках поставил: «Мои заметки». И дальше всё, что дядюшка Томашович мне рассказывал, и то, о чём мы с ним говорили.
— Дядя Рафаэль!
— Что?
— Какая это птица?
— Воробей.
— Это не воробей.
— Нет, воробей.
— Как ты узнал?
— Он щебечет.
— Воробьи не щебечут.
— Нет, щебечут.
— А олень?
— Олень трубит.
— А сойка?
— Сойка стрекочет.
— Кре-кре?
— Да, так.
— Или повыше чуть-чуть. — Я попытался передразнить сойку.
— Ещё выше.
— У меня низкий голос.
— Попробуй петь низким.
— Но тогда это не будет сойка.
— Не будет.
— Кто же будет?
— Ты.
И мы оба засмеялись.
СКАЗКА О ЗАКОЛДОВАННОМ
— Если сейчас кому-нибудь сказать, что когда-то я был браконьером, всякий возмутится, — принялся однажды рассказывать мне дядюшка Томашович. — В те-то времена любой порядочный человек браконьером был. Те, кто послабодушней, дома отсиживались, перья щипали или фасоль перебирали, если была она у них. Да и фасоли-то, милый мой, не всегда хватало. Вот однажды оделся я потеплее, карабин под куртку сунул, и чуть смеркаться стало, из дома улетучился.

— Вы, значит, вроде как волшебник были?
— Вот об этом-то я и собираюсь тебе рассказать.
— О волшебниках?
— Пожалуй, не совсем так. Словом, ты лучше послушай! Взял я тогда карабин: поищу, думаю, какого-нибудь зайчишку. Добежал я, значит, до Ку́хлы, где Не́спал капусту сажал. Никакой капусты, понятно, там не было, разве что кочерыжки остались, да и те гнилые, мёрзлые. Я там расставил силки. И решил я посмотреть, а то вдруг придёт ещё кто-нибудь да заберёт добычу, и с силками вместе. Прошёл я по силкам, все до единого обошёл — нигде ничего. Обозлился я: домой-то с пустыми руками воротиться неохота. «Перейду-ка вон там через ручей, может, и подкараулю кой-кого». Вечер был ясный. А ты и сам хорошо знаешь, что в ясный зимний вечер мороз сильнее. Поднял я воротник, разок-другой шмыгнул носом, пока до ручья дошёл. Подумал ещё: раз такая стужа, ручей-то, поди, замёрз и перебраться на другой берег ничего не стоит. Холодно-то холодно, а лёд-то обманчив оказался. Ступил на лёд, а он как затрещит! Я обеими ногами и ухнул в воду, полны башмаки воды набрал. Тьфу ты пропасть! Только этого мне недоставало! Бранился я, чертыхался, а домой без зайчишки вернуться не хочется. Чтобы не замёрзнуть, надо ходить. А если ходить, так зайцам и на меня и на капусту наплевать будет. Стал я на самую толстую ольху и жду. Стою полчаса, час, два часа будто прикованный, а зайцами и не пахнет. И мышь не прошмыгнула, в снегу не завозилась. Наконец появился какой-то заяц, первую попавшуюся ему на пути кочерыжку принялся грызть, да от меня далеко уж очень. Высунулся я из-за дерева, а заяц стрекача дал, только его я и видел. А больше ни единого зайчишки нет как нет. Что такое? Уж не высылали ли зайцы вперёд разведчика, а он меня заметил и остальных предупредил. Так и до самого утра проторчать тут можно! Нет, не выйдет! Зайцы — звери глупые, их сто раз спугни, а они, если голодны, всё равно к капусте вернутся. Тут, видно, неладно что-то. Погожу, думаю, ещё минутку и, если не появится никто, пойду домой да под перину забьюсь, а завтра на воро́н поохочусь или на куропаток. Ещё полчаса минуло — и хотя бы тебе один заяц! Выругался я и решил — домой надо идти! Только хотел шаг сделать — что за чёрт! — нога-то к земле пристала и ни с места. Что за чудо такое, думаю? Попробовал другую ногу переставить, и её тоже от земли никак не оторвать. Я так и обомлел. Заколдован я, что ли, на самом деле? Чего-чего только не наслушался я об околдованных людях, но никогда мне в это по-настоящему не верилось. Так в чём же дело? Как всё это надо понимать? Непременно я заколдован, как тот парень из Штефановой…
— В Штефановой околдованный человек был? — перебил я дядюшку Рафаэля.
 Оставил ботинки как есть и сломя голову домой помчался.
Оставил ботинки как есть и сломя голову домой помчался.
— Если бы только в Штефановой! И в Га́льмеши, и в Бо́ровой. Хуже всего было с этим парнем в Штефановой. Ведь он ни высморкаться, ни рукой двинуть не мог. А я хоть сразу вытащил тряпочку, которая мне вместо носового платка служила. Ну вот! Хоть в этом-то мне повезло! Высморкаться и руками шевелить могу, хоть и держит меня на месте какая-то сила, не отпускает никак, и ботинки словно к земле гвоздями прибиты. И вдруг на грушковецкой колокольне полночь бьёт! Плохо моё дело! Надо поскорее с этого места убираться. Убираться! А как? Пробую нагнуться. В пояснице хрустнуло, а в общем, играючи, я нагнулся, и тут меня осенило: разуться я надумал. Расшнуровал ботинок — и ногу вон! То же и с другой ногой проделал. Оставил ботинки как есть и сломя голову домой помчался. Вбежал в дверь, когда и в Краловой бить часы начали. «Слава тебе, тетереву, — подумал я, — что грушковецкие часы ушли вперёд на целых пятнадцать минут».
КАК ВОЗНИКАЮТ СКАЗКИ
Дядюшка Рафаэль замолчал и с любопытством уставился на меня: как-то я ещё отнесусь к его рассказу?
— Дядя Рафаэль, и всё это взаправду было? — спросил я.
— Вправду, конечно.
— Но как же вы были заколдованы?
— Я и сам хотел бы знать.
— По-моему, просто ваши ботинки примёрзли.
— Примёрзли? Гм… А ты слыхал когда-нибудь, что ботинки чьи-нибудь примерзали?
— Нет, не слыхал.
— То-то и оно. Головой ручаюсь, что меня, ясное дело, околдовали.
— Но ведь такое только в сказках бывает.
— А со мной вот близёхонько, под Ку́клой, было!
— Морозило ведь?
— Ну, морозило.
— И перед тем вы в воду прыгнули?
— Прыгнул.
— Так ваши ботинки непременно примёрзнуть должны были!
— Да что ты мелешь! Малым ребёнком меня считаешь, что ли? Говорю, был околдован, значит, так оно и было. Знай я, что ты к этой истории так отнесёшься, лучше ничего бы не рассказывал. Теперь, пожалуй, на смех меня подымешь или где-нибудь людям разболтаешь.
— С чего это я болтать стану?
— А ты не из таких?
— Нет.
— Меня и так это сердит.
— Что сердит?
— Что я пустые разговоры с тобой завёл.
— Почему же пустые?
— Раз ты мне не веришь.
— Я вам верю!
— Чему же ты не веришь?
— Сказкам.
— А почему?
— Нельзя сказкам верить.
— Кто это тебе сказал?
— Нельзя.
— А вообще-то ты знаешь, откуда сказки берутся?
— Как это — берутся?
— А вот как. Приключится с кем-нибудь что-либо, а он людям о том расскажет. Вот и сказка готова.
— А если в сказках всякие небылицы рассказываются?
— Так ведь и с людьми всякое в жизни бывает. Как сказка-то начинается? «Жил-был король…» Что ж, королей никогда не было? Ха-ха-ха! Сколько ещё было-то! Иную сказку так начинают: «В некотором царстве, в некотором государстве, за тридевять земель…» Могло так быть? Непременно так и было. Где-нибудь должно быть тридевятое или тридесятое и какое угодно государство. И в каждом из них события разные происходят, а пока до нас из такой дали новости дойдут, нам всё удивительным может показаться. Не так разве?
Я хмыкнул.
Дядюшка Томашович рассердился:
— Послушай! Раз ты к моим словам относишься несерьёзно, в другой раз ничего тебе не скажу.
— А что я плохого сказал?
— Чего же ты всё хмыкаешь?
— Если хмыкнул я, так плохого ничего сказать не хотел.
— И я тебе ничего плохого не сказал.
— Гм… И много тогда браконьеров этих самых было? — вернулся я к сказкам.
— Много. Когда есть людям нечего, браконьеров, преступников и всяких негодяев много по свету шатается… Ой-ой-ой! Но того негодяем считать надо, кто без нужды негодяем стал. У него и крыша над головой есть, и еда, а он развлекается и думает: какую бы ещё гадость людям сделать? Вот это негодяй настоящий! А приходится человеку по свету шататься, и он даже воровать вынужден, чтобы себя и семью прокормить. Так разве он негодяй?
— Нет.
— Вот и я так думаю. В сказках-то говорится о тех и о других, о добрых и злых людях. Добрыми и злыми их называют по заслугам. Расскажешь обо мне людям — вот тебе и сказка на свет появилась. Я расскажу о тебе — будет две сказки… Смотри-ка! Корова-то у нас за колючую изгородь забралась! Ну-ка, гони её оттуда!
Я побежал за коровой.
ПОЧЕМУ КУКУЮТ КУКУШКИ
На Гре́фтах есть такая бревенчатая избушка, а в ней только железная кровать, деревянная скамейка маленький дубовый стол. За избушкой бежит ручеёк, который делит деревенские луга на две равные части, и мы пасём стадо то на одном, то на другом берегу.
Летом ручеёк похож на овражек: русло у него глубокое, а воды в нём совсем мало. Чуть отойдёшь в сторону — и журчанья совсем не слышно.
А весной и осенью ручеёк вздувается, вода начинает шуметь громче, отрывает от берегов землю, и тогда он похож на настоящую речку.
Я всегда сердился, что никто для этого ручейка никакого названия не придумал. И по этой причине его ни на какой географической карте не обозначили, как и Грушковца на обыкновенной карте вы тоже не найдёте.
— Дядя Рафаэль! — окликнул я дядюшку Томашовича.


— Ну?
— А как вы назвали бы эту речку? — спросил я.
— Речку? А для чего эту речонку называть?
— Попробуйте дать ей название!
— Грушковец.
— Грушковец — это деревня.
— Тогда Гру́шковица.
— Грушковица?
— Да.
— Почему так?
— Где деревня Грушковец, пусть речка будет Грушковица.
Это мне понравилось. С этих пор я так и буду называть эту речку. Я взял камушек и кинул его на другой берег.
Дядюшка Рафаэль, чистивший свой корнет, поглядел на меня.
— Как по-твоему, который час? — спросил он.
— Шесть.
— Шесть часов? А по-моему, уже больше.
— А мне кажется, что шесть.
— Сбегай-ка в избушку!
Я мчусь вдоль ручейка, срываю по пути лиловый цветок чертополоха и бросаю его в воду.
Грушковица уносит цветок.
Будь в речке воды побольше, понесла бы она и меня. Да плавать-то я не умею!
Если бы Грушковица была настоящей рекой!
Быстро возвращаюсь к дядюшке Рафаэлю.
— Так который же час? — спрашивает он.
— Половина седьмого.
— В самом деле? Вот видишь, я был прав.
Я сажусь подальше, чтобы послушать кукушку, которая кукует не умолкая…
Если бы была Грушковица рекой!
Да о чём я всё время думаю?
Дядюшка Рафаэль продолжает чистить свой корнет.
— Дядя Рафаэль!
— Ну?
— Почему кукушки кукуют?
— Что-о?
— Почему кукушки кукуют?
— Кукуют, потому что сейчас лето.
— Но почему всё-таки они кукуют?
Он ничего не ответил. Положил корнет на траву, поискал сигареты в карманах.
— Дело в том, — сказал он, помолчав, — что всё, кажется, ясно, а как подумаешь — непонятно. Ты знаешь, почему растёт трава?
— Нет, не знаю.
— И я не знаю. Скорее всего потому, что не может она в земле выдержать. Солнышко её слегка приголубит — и покоя у травки как не бывало. Так, должно быть, и с кукушками получается. Кукуют, потому что сил нет удержаться.
Снова тихо!
Дядюшка Рафаэль курит, я бросаю камушки через ручеёк.
— А вам не хочется кукушкой стать? — спрашиваю я.
— Нет, не хочется.
— А почему вы не хотите стать кукушкой? — допытываюсь я.
— Не хочу, вот и весь сказ.
— А почему всё-таки?
— Тогда куковать бы пришлось!
— И удержаться вы не смогли бы?
— Зачем же мне куковать, когда я трубить могу? — сказал дядюшка Рафаэль и громко рассмеялся.
Мы встали и принялись загонять коров за деревянную изгородь.
Быстро наступил вечер. Мы поели хлеба с салом, напились воды из ручейка.
— Хорошая вода! — похвалили мы.
Если бы была Грушковица рекой!
Мы улеглись, когда уже совсем стемнело. Дядюшка Рафаэль лёг на кровать, я растянулся на скамейке и накрылся толстым одеялом, ещё раз обдумывая все наши разговоры.
Кукушка не может вытерпеть и кукует…
Дядюшка Рафаэль не может вытерпеть и играет на корнете…
НАШИ РАЗГОВОРЫ
— Что ты сделаешь с деньгами? — спросил меня дядюшка Рафаэль на другой день.
— С какими деньгами?
— С теми, что ты здесь заработаешь.
— Куплю себе транзистор.
— Ну вот ещё!
— Что?
— Скучное дело!
— Почему?
— Гм… Почему? Человек слушает, слушает, а потом сам уже ничего не выдумает. Когда-то люди думали больше. Когда-то и пели больше и один-два спектакля ставили за зиму. А теперь ничего люди не делают.
— А людям ничего и делать не надо.
— В том-то и дело. Только они меры в своём безделье не знают.
— А что же им надо делать?
— Так ведь я сказал. Прежде здесь, в Грушковце, люди сами спектакли ставили. Хор был. Пел на четыре голоса. Времени-то было у людей меньше, а его на всё хватало. Теперь и настоящего голоса человеческого не послушаешь. Идёшь здесь по лесам, бежишь по тропинке, дивишься: кто это, мол, так красиво поёт? А подойдёшь поближе и видишь, что не человек это, а транзистор. И в поезде и в автобусе у всякого нахала транзистор хрипит, людям и поговорить нельзя. Во всём мера должна быть…
Устанем мы от разговоров, и тогда дядюшка Рафаэль уходит куда-нибудь под дерево, в холодок, и спит.
В это время за коровами присматриваю я один. Выспится он, проснётся, в избушке свой корнет берёт и проигрывает гамму. Это мне намёк. Я оглядываю коров, не забралась ли какая куда не надо, и бегу к дядюшке Рафаэлю.
— Сыграем? — спрашиваю я его.
— Сыграем.
— Что же мы сыграем?
— Скажи ты!
— «Возле Орешан…» — предлагаю я.
— Нет, что-нибудь другое.
И дядюшка Томашович, немного подумав, начинает.
Я подхватываю аккомпанемент.
— Понимаешь, — объясняет он мне, когда мы проигрываем пьесу до конца, — с игрой на трубе так же дело обстоит, как с ездой на велосипеде. Перестанешь год-другой на велосипеде ездить — глядь, сидишь уже на нём неуверенно. Как перестанешь трубить — «мундштук теряешь». А без этого что сделаешь? Ничего! Так ведь?
Я соглашаюсь.
— Когда я ещё в армии был, — рассказывает он дальше, — служил со мной некий Бле́ха. Так капельмейстер запирал Блеху в комнату, совал ему в руки трубу и приказывал: «Труби!» И этот Блеха трубил там добрых четыре часа. И замолчи он хоть на одну минуту, капельмейстер, бывало, тут как тут.
Неподалёку каменщики работали, так от этой трубы чуть с ума не сошли. Сначала они только покрикивали, а потом и кирпичи бросать начали в нашего Блеху. А он всё трубил и трубил, пока не приходил капельмейстер и не говорил: «Хватит!» Ну как? Сыграем ещё? — спросил после этого дядюшка Томашович.
— Сыграем.
Мы сыграли ещё четыре песенки. Отложив инструменты, снова говорим о духовом оркестре и вообще о музыке. Музыка действует на человека, от неё он становится лучше. Дядюшка Томашович сказал об этом так:
— Посмотри, как на вечёрке бывает. Приходит на вечёрку человек, и может быть, он не знаю уж какой скупердяй. А как заслышит музыку, давай музыкантам деньги совать! Но лучше всего это видно на самих музыкантах. Приглядись-ка к ним получше! Дядюшка Загрушка, к примеру сказать, хороший человек!
— Да.
— А дядюшка Тауберт?
— Тоже.
— Вот видишь. И он хороший, хоть и барабанщик всего-навсего. Или дядюшка Алексин.
— Он тоже хороший.
— Вот как здорово! — воскликнул дядюшка Рафаэль и почесал за ухом. — Кто же плох?
— Никто.
— Ну-у?..
— В Грушковце все хорошие.
— Ты так думаешь?
— Да.
— А почему все они хорошие?
— У них есть духовой оркестр.
— Ты сам до этого додумался?
— Сам.
— Я вижу, ты понимать кое-что начал.
Мы обходим деревянную изгородь и снова возвращаемся к бревенчатой избушке. Теперь мы беседуем о другом. Дядюшка Томашович уверяет, что нынче вина будет много. Виноградарям в этом году бочек не хватит. Это хорошо, что вина вдоволь будет.
 — Сыграем? — спрашиваю я дядюшку Рафаэля.
— Сыграем, — отвечает он.
— Сыграем? — спрашиваю я дядюшку Рафаэля.
— Сыграем, — отвечает он.
От этих разговоров, не знаю уж как, мы
перешли к Югославии, Италии и всем другим странам, где выделывают вино.
— Мир велик! — вздохнул дядюшка Рафаэль, когда мы перебрали уже по крайней мере с дюжину стран.
— Вы свет повидали?
— Да, повидал много кое-чего. Кто в армии побывал, тому и свет повидать довелось.
— Вы повсюду были?
— Да, был.
— И как там?
— Так же, как и у нас здесь. Солнце повсюду одинаково кругом земли ходит.
— Солнце кругом земли не ходит.
— Разве?
— Не ходит оно по кругу.
— Кто это тебе сказал?
— Я это знаю.
— Но если на солнце поглядеть, так оно землю кругом обходит.
— Это земля вертится.
— Земля?
Я кивнул утвердительно.
— Ты это серьёзно? — засмеялся дядюшка Рафаэль.
— Серьёзно.
— Это просто так говорится.
— Мы про это учили.
— Учили?
— Да, учили.
— А почему она вертится?
— Вертится, потому что круглая.
— Иди ты! И вправду это просто так говорится.
— Колумб открыл Америку…
Я хотел было рассказать ему о Колумбе.
— Ему ничего не стоило открыть её, раз уж она на свете была.
— А другие доказали…
— Что доказали?
— Что земля круглая и вертится.
— Кто это доказал?
— Коперник.
— Коперник?
— Да, он.
— Такое имя я уже слышал. И этому тебя в школе учили?
— Всякий это учит.
— Гм… Но я кое-что такое читал в газетах. Гм… Кто его знает? В твои-то годы я в школу много не заглядывал. Значит, как же звали этого человека?
— Коперник.
— А того, кто открыл Америку?
— Колумб.
— Колумб?
— Да.
— Легко было Америку открыть, если она уже существовала.
Наступает молчание. Потом дядюшка Рафаэль заводит речь о другом.
— Послушай! А ты знаешь, что в воскресенье мы поедем на дожинки
[2]?
— А зачем мы туда поедем?
— Играть.
— И я поеду?
— Понятное дело, поедешь. Мы в Пе́зинке на дожинки будем играть. Вот как здорово мы весь Пезинок взбудоражим!
— Ха-ха-ха-ха! — засмеялся я. — Что же мы будем играть?
— Всё.
— И «Злату Прагу»?
— И «Злату Прагу», и «Победу»!
— А потом?
— Потом сыграем «Возле Орешан…».
— Ха-ха-ха-ха! Грянем?
— Грянем!
— А кто за нас коров пасти будет?
— Да уж кто-нибудь найдётся.
Я МОГ БЫ ПРОДОЛЖАТЬ
Взрослые могут сказать, что эта книжка не кончена, но и они, бывает, ошибаются. Ошиблась же учительница, сказав, что у меня музыкального слуха нет. Её почему-то с толку сбил мой голос. Виноват я разве, что так рычу? Нет, не виноват. Учительница поёт и говорит этаким высоким писклявым голоском, она и не заметила бы меня, если б мы все пели с ней в один голос.
В духовом оркестре высокий голос у кларнета или у корнета. Дядюшке Загрушке или дядюшке Алексину и в голову не придёт приказывать мне сыграть на геликоне такой же высокий звук, как они.
У всякого инструмента свои возможности. И не только у инструмента. Если Яно Мате́йка не может перекувырнуться, это ещё не значит, что он ни на что не годен. Нет никого в классе старательнее Лацо Гельдта, а у него двойки были за год. Разве это не странно?
Я мог бы ещё продолжать, но это ни к чему. Упомяну ещё только о том, как мы играли на празднике дожинок.
Мы прошли, играя марш, через весь городок, а за нами валила толпа. Потом мы остановились на площади и ещё целый час играли.
— Кто это, что за музыканты? — спрашивали все друг друга.
— Грушковецкие, — сказал какой-то человек. — Я гляжу на их геликон.
— Геликон? У них два геликона. Нынче не во всякой деревне такое найдётся.
— Знаю, знаю. Да ведь я на их геликониста гляжу. Удивительно, как он такую громадную трубу тащит?
— Тащит, как не тащить! Удивительно, как у него дыхания хватает играть?
Я оглядываюсь и вижу отца в толпе, а рядом с ним новёхонький велосипед.
— Папка, чей это велосипед? — спрашиваю я.
— Твой, — смеётся отец. — Разве я тебе не говорил, что когда-нибудь его куплю?
— Ребята, внимание! — командует дядюшка Загрушка, и мне приходится отвернуться от отца.
— Грянем, что ли? — спрашивают музыканты.
— Грянем!
— Что грянем? «Злату Прагу» или «Победу»?
— Сыграем «Возле Орешан…».
Дядюшка Загрушка косится, поднимает руку, и мы начинаем играть.
Стоящие вокруг нас запевают:
Возле Орешан
Гладкая дорожка,
Как ладошка…
Дядюшка Загрушка прикладывает к губам мундштук и присоединяется к тем, кто играет мелодию…
К ЧИТАТЕЛЯМ
Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-17, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
Для младшего возраста
Винцент Шикула
КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
ПОВЕСТЬ
Ответственный редактор Л. Е. Касюга. Художественный редактор А. В. Пацина. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры С. П. Мосейчук и Э. Н. Сизова.
Сдано в набор 13-XII 1967 г. Подписано к печати 12-II 1968 г. Формат 60Х84 1/16. Печ. л. 8. Усл. печ. л. 7,46. [Уч. — изд л. 6,72]. Тираж 100 000 экз. ТП 1968 № 486. Цена 32 коп. на бум. № 1. Издательство „Детская литература“, Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1764.
 ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Для детей младшего школьного возраста в 1968 году издаются следующие произведения современных иностранных писателей:
Агарвал С.
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Для детей младшего школьного возраста в 1968 году издаются следующие произведения современных иностранных писателей:
Агарвал С. *
ПЯТЕРО БЕССТРАШНЫХ.
Повесть о дружбе и приключениях индийских школьников.
Перевод с хинди
Вестли А. К. *
ПАПА, МАМА, ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ И ГРУЗОВИК.
Повесть о норвежской семье, о радостях и неприятностях, о дружбе и взаимной поддержке. Переиздание.
Перевод с норвежского
Трэверс Л. *
МЕРИ ПОППИНЗ.
Фантастическая повесть-сказка о чудесной няне, появляющейся как добрая волшебница в семьях, где дети требуют её забот и внимания.
Перевод с английского.
Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации. Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом „Книга — почтой“ областных, краевых и республиканских книготоргов.


 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Кия́нка — столярный инструмент в виде деревянного молотка. У лесорубов служит для забивания клиньев.
(Прим. перев.)
(обратно)
2
Дожи́нки — праздник по окончании жатвы.
(Прим. перев.)
(обратно)
Оглавление
ГРУШКОВЕЦ
ГРУШКОВЕЦКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ГЕЛИКОН
КОГДА Я ПРИШЁЛ ДОМОЙ…
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
МОИ ОБЯЗАННОСТИ
ГДЕ ЖЕ ТОГДА СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
ХОР
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
У ДЯДЮШКИ ЗАГРУШКИ
У ЛАЦО ГЕЛЬДТА
ДЯДЮШКА ТАУБЕРТ
РЕПЕТИЦИЯ
ВИНЦЕНТОВ ДЕНЬ
РУДО КЕМЁНЕШ ВЕРНУЛСЯ
Я УШЁЛ ИЗ ДОМА
ГОЛУБЕЙ МНОГО
У МИШКО ШТЕФАНЦА
Я НЕ ПОШЁЛ В ШКОЛУ
Я УШЁЛ В ДЕРЕВНЮ
В ШКОЛЕ
„ВИНЦЕК, ТЫ САМ ВИНОВАТ!“
И ОПОМНИТЬСЯ НЕ УСПЕЕШЬ…
„ПРИРОДА-ТО РАЗУМНО УСТРОЕНА…“
ПОХВАЛА
НА РЕПЕТИЦИИ
КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА
НЕВЗГОДЫ ИЗ-ЗА ГЕЛИКОНА
В ЛЕС ПО ГРИБЫ
ВСТРЕЧА С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
СКАЗКА О ЗАКОЛДОВАННОМ
КАК ВОЗНИКАЮТ СКАЗКИ
ПОЧЕМУ КУКУЮТ КУКУШКИ
НАШИ РАЗГОВОРЫ
Я МОГ БЫ ПРОДОЛЖАТЬ
*** Примечания ***


 Винцент Шикула
Каникулы с дядюшкой Рафаэлем
повесть
Винцент Шикула
Каникулы с дядюшкой Рафаэлем
повесть
 ГРУШКОВЕЦ
ГРУШКОВЕЦ
 Встретятся два старичка, один из них когда-то капельмейстером был. Заглядывают они друг дружке в рот да головой качают: передних-то зубов давным-давно не осталось.
Вот старички и ведут, к примеру, такой разговор:
— Марш Ра́коши знаешь?
— Ну, как не знать!
Другой старичок, выпятив губы, насвистывает несколько тактов.
— Хороший был марш! — растроганно говорит один старик.
— Просто замечательный был марш! — ещё растроганнее восклицает второй.
— И «Победу» помнишь?
— И «Победу» помню. Как же! И «Злату Прагу», — начинает перечислять первый.
— Прекрасные марши были.
— Отличнейшие марши… Слыхал я, будто в Грушковце и по сю пору «Злату Прагу» играют, — сообщает первый, помолчав.
— «Злату Прагу»? — переспрашивает второй.
— И «Злату Прагу» и «Победу», — отвечает первый. — И ты знаешь, Йо́жка, на ком всё держится?
— Да на ком там оркестр держаться может? На старом За́грушке только. Когда он молодой был, кое-что усвоил и ничего не перезабыл.
— На нём весь духовой оркестр держится, — повторяет первый и снова растроганно качает головой.
— Потянет ещё немного — и конец. Совсем дряхлый стал.
— В прошлый четверг ждал я поезда в Ше́нквицах…
— В Ча́никовцах, — поправляет второй.
— В Шенквицах…
Шенквичанам название «Чаниковцы» не нравится, вот они и называют свою станцию по-старому.
— Ждал я там поезда, наконец примчался он с грохотом… И тут из одного вагона выскакивает Загрушка, а за ним остальные музыканты посыпались. Не все ещё на перрон выбраться успели, а кто-то уже Загрушку за полу дёргает.
— Грянем, что ль? — прогудел этот дядька.
— Грянем! — ответил Загрушка.
— Что ж мы отхватим? — спросили музыканты.
— Отхватим-ка «Злату Прагу»…
Я и опомниться не успел, а музыканты уже в круг стали да как грянут. Пассажиры из вагонов в окна высунулись, на перроне со всех сторон оркестр обступили.
— Что тут такое, что за музыканты? — спрашивают.
— Из Грушковца музыканты. Знаете небось старого-то Загрушку?
— Загрушку? Это какого?
— Капельмейстера.
— А едут они откуда? — спрашивают пассажиры. — Со свадьбы, что ли?
— Зачем со свадьбы! В Цифере на похоронах играли!
— На похоронах? Вот тебе и раз! А тут этакую весёлую завели?
— Сами слышите. Покойнику сыграли, теперь живым играют.
— Кому же они играют?
— А всем. Это вам не филармония. Филармония только для радио играет да тем, кто в Братиславе живёт. А грушковецкий духовой оркестр хоть кому сыграет.
— Ну-ну! Так ведь это разные вещи!
— Понятно, что разные. Грушковецкий оркестр играл в Цифере, а филармония в Цифер не приедет.
Первый старичок и сказать не успел, а второй уже смеётся.
— Духовой оркестр играл в Цифере, а в Цифер филармония не приедет! — ещё раз повторил первый.
Потом он глянул на своего приятеля, увидал, что тот смеётся, и давай сам смеяться. Сначала потихоньку, а потом всё громче и громче. Беззубый рот разинул и глаза выпучил так, что слёзы брызнули.
Все на улице видели, как они от смеха за живот держатся. Я и сам их видел, а потому могу вам всё это рассказать.
Встретятся два старичка, один из них когда-то капельмейстером был. Заглядывают они друг дружке в рот да головой качают: передних-то зубов давным-давно не осталось.
Вот старички и ведут, к примеру, такой разговор:
— Марш Ра́коши знаешь?
— Ну, как не знать!
Другой старичок, выпятив губы, насвистывает несколько тактов.
— Хороший был марш! — растроганно говорит один старик.
— Просто замечательный был марш! — ещё растроганнее восклицает второй.
— И «Победу» помнишь?
— И «Победу» помню. Как же! И «Злату Прагу», — начинает перечислять первый.
— Прекрасные марши были.
— Отличнейшие марши… Слыхал я, будто в Грушковце и по сю пору «Злату Прагу» играют, — сообщает первый, помолчав.
— «Злату Прагу»? — переспрашивает второй.
— И «Злату Прагу» и «Победу», — отвечает первый. — И ты знаешь, Йо́жка, на ком всё держится?
— Да на ком там оркестр держаться может? На старом За́грушке только. Когда он молодой был, кое-что усвоил и ничего не перезабыл.
— На нём весь духовой оркестр держится, — повторяет первый и снова растроганно качает головой.
— Потянет ещё немного — и конец. Совсем дряхлый стал.
— В прошлый четверг ждал я поезда в Ше́нквицах…
— В Ча́никовцах, — поправляет второй.
— В Шенквицах…
Шенквичанам название «Чаниковцы» не нравится, вот они и называют свою станцию по-старому.
— Ждал я там поезда, наконец примчался он с грохотом… И тут из одного вагона выскакивает Загрушка, а за ним остальные музыканты посыпались. Не все ещё на перрон выбраться успели, а кто-то уже Загрушку за полу дёргает.
— Грянем, что ль? — прогудел этот дядька.
— Грянем! — ответил Загрушка.
— Что ж мы отхватим? — спросили музыканты.
— Отхватим-ка «Злату Прагу»…
Я и опомниться не успел, а музыканты уже в круг стали да как грянут. Пассажиры из вагонов в окна высунулись, на перроне со всех сторон оркестр обступили.
— Что тут такое, что за музыканты? — спрашивают.
— Из Грушковца музыканты. Знаете небось старого-то Загрушку?
— Загрушку? Это какого?
— Капельмейстера.
— А едут они откуда? — спрашивают пассажиры. — Со свадьбы, что ли?
— Зачем со свадьбы! В Цифере на похоронах играли!
— На похоронах? Вот тебе и раз! А тут этакую весёлую завели?
— Сами слышите. Покойнику сыграли, теперь живым играют.
— Кому же они играют?
— А всем. Это вам не филармония. Филармония только для радио играет да тем, кто в Братиславе живёт. А грушковецкий духовой оркестр хоть кому сыграет.
— Ну-ну! Так ведь это разные вещи!
— Понятно, что разные. Грушковецкий оркестр играл в Цифере, а филармония в Цифер не приедет.
Первый старичок и сказать не успел, а второй уже смеётся.
— Духовой оркестр играл в Цифере, а в Цифер филармония не приедет! — ещё раз повторил первый.
Потом он глянул на своего приятеля, увидал, что тот смеётся, и давай сам смеяться. Сначала потихоньку, а потом всё громче и громче. Беззубый рот разинул и глаза выпучил так, что слёзы брызнули.
Все на улице видели, как они от смеха за живот держатся. Я и сам их видел, а потому могу вам всё это рассказать.
 И вдруг он меня спрашивает:
— Сколько лет-то тебе?
— Что?
— А ты разве оглох?
— Почему оглох?
— Я ведь спросил, сколько лет тебе?
— Одиннадцать.
И вдруг он меня спрашивает:
— Сколько лет-то тебе?
— Что?
— А ты разве оглох?
— Почему оглох?
— Я ведь спросил, сколько лет тебе?
— Одиннадцать.













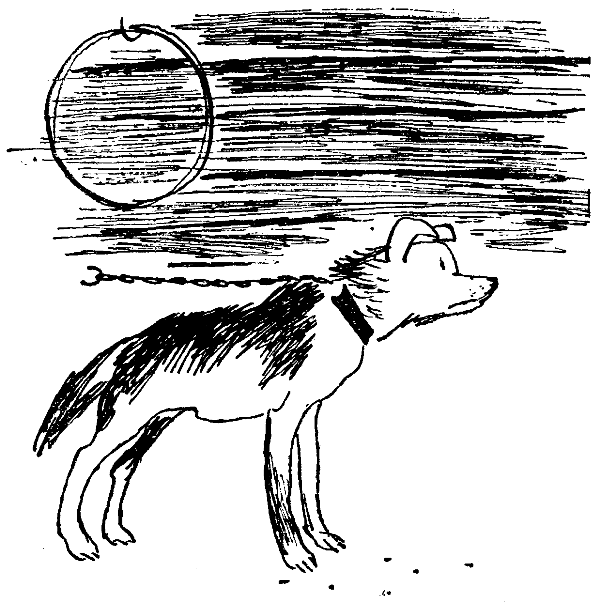






 ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“


 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.