Ф.Ф. Зелинский
История античной культуры
Введение
§ 1. Понятие «
культура» определяют обыкновенно как совокупность условий окружающего нас быта. Недостаточность этого определения, неизбежно порождающего дальнейший вопрос «а что такое быт?», преодолевается делением культуры на материальную, общественно-экономическую и духовную, причем под первую подводится то, что служит человеку для удовлетворения его физических нужд (пища, одежда, жилище, утварь, оружие), под вторую — всякого рода группировки человеческих особей, имеющие целью поддержание их жизни и благосостояния (семья, род, колено, сословия, профессиональные организации, государство), а под третью — все, отвечающее идеальным запросам человека как мыслящего и чувствующего создания (религия, нравственность, искусство, наука). Это деление удовлетворительно в том отношении, что дает возможность ввести в установленные им рамки все культурные явления; оно поэтому вполне пригодно для всех сочинений преимущественно
справочного характера. Неудовлетворительно оно не столько вследствие зыбкости границ между установленными отделами (таковая — неизбежный спутник всех подобного рода делений), сколько вследствие своего чисто внешнего характера, обусловленного отсутствием центральной, объединяющей идеи. Таковую нам может дать только та наука, которая лежит в основе всех вообще гуманитарных наук, а именно —
психология, как это покажет дальнейшее.
§ 2. Относя понятия «культура» и «быт» к числу тех первичных понятий, содержание которых получается нами не столько аналитически — путем определения, сколько синтетически — путем бессознательного сложения однородных явлений, мы прежде всего должны обратить наше внимание на основную разницу между
человеческой культурой и той, которая наблюдается в животном мире. Разница эта состоит в бесконечной
изменяемости первой и принципиальной неизменяемости второй.
Европейское человечество испытало огромные изменения своей культуры за тот период своей истории, который отделяет античность от наших времен; за тот же период семейный быт ласточек и общинный быт муравьев остался тем же, каким был раньше. Животный быт если и изменяется, то либо в смысле бессознательного приспособления к изменившимся внешним условиям жизни, либо (в кругу так называемых домашних животных) под непосредственным воздействием человека; принципиально же он неизменяем.
Отсюда следует, что
история культуры возможна только для человека, но не для животного мира.
§ 3. Но, спрашивается, какие же силы влияют на изменение быта человека, обусловливая собой развитие человеческой культуры? Вопрос этот поныне представляется спорным, и при его решении намечаются две крайние культурно-исторические теории.
Согласно одной из них, изменения условий человеческого быта объясняются стремлением человечества — и в отдельных его особях и в его социально-политических группах — к увеличению своего материального благосостояния, то есть силами экономического характера, вследствие чего самой теории присвоено название
экономического материализма. Эта теория, будучи применена с научной осмотрительностью и со знанием дела, раскрыла много важных сторон специально в области материальной и общественно-экономической культуры (см. выше § 1); но в своем стремлении к универсализму она потерпела неизбежное крушение в области духовной культуры, явления которой она пыталась либо подчинить своему главному экономическому принципу, либо низвести до уровня маловажных и излишних придатков экономической жизни.
Противоположная ей теория признает стремление человеческой души к совершенствованию вложенных в нее природой задатков, другими словами — ее стремление к идеалам. Какие это идеалы — другой вопрос, о котором речь впереди (§ 4); сама же теория носит название
идеологизма. Свои наибольшие успехи она, понятно, одержала в области духовной культуры; экономический принцип она не столько отрицает, сколько стремится подчинить себе, сводя намеченную им цель человеческих стремлений к одному из своих идеалов.
Борьба между обеими этими теориями продолжается и поныне, хотя и без прежних увлечений, и, по-видимому, в широкой области культурно-исторических явлений она затянется надолго. Это никого не должно тревожить: не силен тот, кто боится борьбы.
Все же в настоящем изложении истории античной культуры поставлена во главу угла идеологическая теория, главным образом, по двум причинам: во-первых, потому, что опыт доказал практическую исполнимость подчинения экономического принципа идеологизму, но не наоборот; следовательно, только исходя от идеологического принципа, мы можем получить единое и последовательное изложение культурного развития народа; во-вторых, потому, что специально
античная культура именно своими духовными достижениями наиболее решающим образом повлияла на культуру новых времен; следовательно, только идеологическая теория дает нам возможность выдвинуть те стороны античной культуры, которые для нас особенно драгоценны.
§ 4. Признав идеологический принцип руководящим для нашего изложения, мы этим самым поставили себя лицом к лицу с вопросом:
каковы те идеалы, стремление к которым вложено природой в нашу душу. Ответ на этот вопрос может нам дать только та наука, которая имеет своим предметом нашу душу, то есть психология.
В основе психологической науки лежит деление первичных душевных явлений на три категории — представления, чувства и волевые акты. И хотя опыт, при сложности нашей психической организации, не дает нам ни одного душевного явления, которое, будучи первичным, принадлежало бы всецело к одной из этих трех категорий, тем не менее — мы имеем право также и сложные явления,
по преобладанию в них элементов той, другой или третьей категории, делить на явления (преимущественно) познавательного, чувственного или волевого порядка.
В чем же состоит в каждой из этих трех категорий то стремление к совершенствованию, которое мы признали вложенным в нашу душу?
В
познавательной области это совершенствование сводится к возможному приближению нашего
представления о предметах, составляющих наш внешний и внутренний мир в его настоящем, прошлом и будущем, к самим предметам; идеал, витающий при этом перед нами, есть идеал
истины; совокупность же познавательных достижений, в которых проявляется притягательная сила этого идеала, называется
наукой.
В
чувственной области оно сводится к возможному очищению и углублению наших
чувств посредством таких восприятий, которые, увеличивая нашу жизнеспособность, усиливали бы в то же время и ценность для нас переживаемой нами жизни. Идеал, к которому мы при этом стремимся, есть идеал
красоты; совокупность же воплощений этого идеала в созданиях нашего духа именуется
искусством.
Наконец, в
волевой области оно сводится к такому направлению нашего
поведения, при котором достигается возможно большее благосостояние — не наше собственное (это — ступень чистого эгоизма, самая грубая, не столько первобытная, сколько вырожденская), а сначала наших близких по родовой, социальной и национальной группировкам (это — ступень относительного альтруизма, она же и коллективного эгоизма), а затем и всего человечества (ступень чистого альтруизма, самая совершенная). Идеал, определяющий таковое наше поведение, есть идеал
добра; совокупность же созданных нами для посильного воплощения этого идеала бытовых форм и условий составляет широкую область
нравов в самом общем значении этого слова.
Нетрудно убедиться, что при таком определении понятия «нравы» в него укладывается и весь общественно-экономический быт, так как все его формы и условия созданы людьми для обеспечения возможно большего благосостояния себе и своим (причем от более широкого или узкого толкования этого последнего понятия зависит и большая или меньшая нравственная ценность означенных форм и условий). Таким образом, мы получаем возможность, подчиняя экономический принцип идеологическому, вывести всю систему культуры — а стало быть, и ее историю — из одной основной идеи.
§ 5. Предметом
науки является весь внешний и внутренний мир. Этим определением установлено заодно деление наук на две обширные категории — на науки о
внешнем и науки о (нашем)
внутреннем мире. Первая занимается явлениями, происходящими в сфере
пространства; вторая — явлениями, происходящими в сфере (нашего человеческого)
сознания. Первые мы называем
естественными, вторые —
гуманитарными науками.
Примечание. Разница между ними все-таки скорее принципиальная. С одной стороны, явления нашего сознания обусловлены до некоторой степени функциями нашего физического организма; с другой стороны, они являются рычагами, приводящими в движение силы, действующие в пространстве. Так, например, передвижения народов, войны и т.д. несомненно разыгрываются в пространстве; тем не менее, мы причисляем трактующую о них «политическую историю» к гуманитарным наукам, так как рычаги этих явлений находятся в нашем человеческом сознании. Вообще, не отвлеченность от пространства, а наличность сознания (а следовательно, воли и цели) отличает гуманитарные науки от естественных.
1.
Естественные науки распадаются, прежде всего, на
феноменологические (описательные) и
помологические. Первые заносят на свои скрижали описания наблюдаемых явлений внешнего мира как в его целом (космография, метеорология, география, геология), так и в составляющих его элементах (минералогия, ботаника, зоология, антропология, причем последняя обнимает собой анатомию с физиологией, на которых основывается, как прикладная наука, медицина). Номологические науки исследуют
законы явлений; главные из них — механика (которая в применении к космографии дает астрономию), физика и химия. Впрочем, развитие феноменологических наук ведет к возможно большему проникновению их номологическим элементом, так что и эта граница представляется довольно зыбкой.
Преддверием к естественным наукам следует признать науки
математические, которые все развиваются из двух первичных: науки о числе и науки о пространственной мере, то есть арифметики и геометрии.
2. Таким же преддверием к
гуманитарным наукам является наука о человеческом сознании вообще, то есть
психология. Сами же они, будучи посвящены изучению творений человеческого духа, поневоле изучают их в их последовательном развитии; они все поэтому науки исторические, — точнее говоря: науки историко-филологические, так как всякая история изучается по памятникам, а науку о памятниках мы называем филологией. Систематика этих историко-филологических наук определяется систематикой их общего основания — психологией. Мы различаем, прежде всего, психологию индивидуальную и психологию коллективную (или народную). Последняя имеет три предмета: язык, верования и нравы; в соответствии с этим мы различаем три крупных исторических науки о творениях коллективной человеческой души: а) науку об истории языка (лингвистику, возникшую из грамматики), б) науку об истории религии и в) науку об истории нравов. А при широком значении, которое мы присвоили этому последнему понятию (ниже, § 7), в эту историю входят также — и история права, и экономическая, и политическая история. Переходя затем к индивидуальной душе, мы замечаем две главных области, в которых она действует наиболее самобытно и в наименьшей зависимости от окружающей среды; это — область науки и область искусства. История наук и история искусств поэтому завершают собой цикл гуманитарных наук.
Примечание. Правило об историческом характере всех гуманитарных наук допускает только одно действительное исключение; о нем см. тотчас. Кажущихся исключений много — грамматика, система права и т.д.; но они именно только кажущиеся: грамматика растворяется в истории языка, система права — в истории права и т.д. Затем надлежит помнить, что границы между обеими категориями гуманитарных наук опять-таки являются зыбкими: индивидуальная душа имеет подчас значительное влияние на предметы наук первой категории (знаменитый спор о «роли личности в истории») и, в свою очередь, находится в известной зависимости от среды в предметах наук второй категории (особенно в искусстве — ср. теорию Тэна[1]). Здесь может быть речь поэтому только о преобладании, а не об исключительности.
Особняком стоит
философия. Из тех наук, которые теперь входят в ее состав (в древности их было больше, см. ниже), мы уже выделили психологию. Логика, как наука о законах мышления (а равно и ее продолжение — гносеология, или теория познания), должна быть объявлена преддверием уже не одних только гуманитарных наук, а всех вообще до их разделения; там, где они снова соединяются, — место для метафизики, конечной цели и завершения всех наук. Каждая из них соприкасается с ней посредством своего венца — науки о (своих) принципах. Есть науки о принципах математики, принципах лингвистики, принципах истории и т.д. Поскольку эти науки относятся к разряду гуманитарных, они безвременны, образуя таким образом единственное исключение из только что упомянутого правила об историческом характере гуманитарных наук.
§ 6.
Искусства мы разделяем, прежде всего, на
изобразительные и
мусические; первые существуют в пространстве, вторые — во времени.
1. В состав
изобразительных искусств (или художеств) входят: архитектура (зодчество),
скульптура (ваяние) и
живопись. Все три граничат с известными ремеслами (плотника, каменщика, гончара, кузнеца, ткача и т.д.), которые мы относим к области нравов; четкой границы между ними нет, данный же предмет мы относим к той или другой категории вполне последовательно, смотря по тому, преобладали ли при его изготовлении расчеты (художественной) красоты или же (практической) пользы как одного из проявлений идеи добра.
2.
Мусические искусства на своей первобытной ступени составляют одно целое, так называемую
хорею, то есть соединение слова (песни), звука (напева) и жеста (пляски) под общим управлением ритма. В своем дальнейшем развитии они распались на эти три составных части, из коих первая дала
поэзию как искусство слова, вторая — музыку как искусство звука, и третья —
орхестику (включая мимику) как искусство жеста. К поэзии со временем присоседилась проза, которая первоначально, как орудие науки, не принадлежала вовсе к области искусств; она вошла в нее, став художественной. Граница между поэзией и прозой, ныне неопределенная, была в древности довольно четкой, так как поэзия, в силу своего рождения из хореи, навсегда осталась связанной со своим ритмом, то есть с
размером. Правда, в поздние периоды античной культуры и проза стала ритмической; тогда она убила поэзию и завладела ее наследством. Из этой позднейшей ритмической прозы возникла средневековая (и наша) поэзия.
Примечание. Мусическими называются эти искусства потому, что их покровительницами считались девять муз. Их приурочение к искусствам, а заодно и деление последних выяснит следующая таблица:
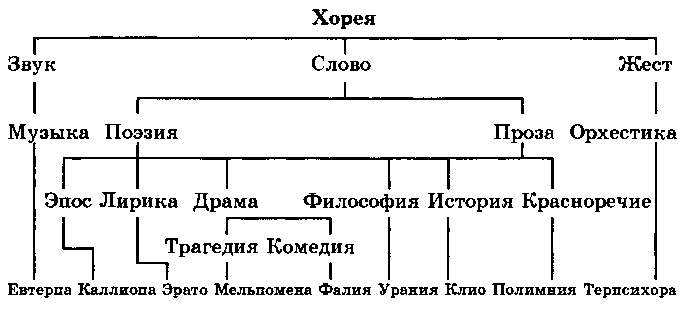 Эта схема относится к той эпохе, когда последняя отрасль прозы (красноречие) стала художественной, то есть к IV веку до Р.Х. Первоначально муза (или музы) была покровительницей всей области хореи. Гомер безразлично употребляет единственное или множественное число; Гесиод определяет число муз девятью и называет их имена, но разницы между ними и он не делает.
Эта схема относится к той эпохе, когда последняя отрасль прозы (красноречие) стала художественной, то есть к IV веку до Р.Х. Первоначально муза (или музы) была покровительницей всей области хореи. Гомер безразлично употребляет единственное или множественное число; Гесиод определяет число муз девятью и называет их имена, но разницы между ними и он не делает.
§ 7. Широкая область
нравов показывает нам человека в общении с его ближними, так как только в этом общении и может быть осуществлен идеал добра. Число комбинаций здесь бесконечно; мы можем наметить лишь главные из них.
1.
Семья. Она рассматривается нами двояко: и как биологическая, и как экономическая единица; другими словами, мы различаем
семейный быт (отношения между супругами, между родителями и детьми, между господами и челядью; рождение, воспитание, свадьба и похороны) и
семейное хозяйство, которое было в древности много сложнее, чем теперь. Поскольку семья и для своей жизни и для своего хозяйства нуждается в известных изделиях, начиная глиняным горшком и кончая домом, в указанный отдел входит вся вышеназванная (§ 1) так называемая
материальная культура. К семье же мы причисляем и посредствующие между семьей и государством группы, поскольку они основаны на общности крови: род, фратрию, колено (филу).
2.
Корпорации, сплетающие между собой однородные особи различных семей, объединяя их культовыми, профессиональными или другими интересами.
3.
Государство. И оно, подобно семье, рассматривается с двух сторон: и как носитель государственной жизни или политики в тесном смысле (характер государственной власти, отношение управляющих к управляемым, проявление народной воли и т.д.), и как арена государственного хозяйства, или
политической экономии (производство сырья, промышленность, торговля). Но оно рассматривается также и с третьей стороны — как индивидуальный организм, имеющий свою индивидуальную историю,
политическую историю, как ее принято называть (между тем как индивидуально-семейная история, то есть история какой-нибудь одной семьи, не интересует науку). Эта политическая история делится на внутреннюю и внешнюю и состоит в обоих отделах из насильственных кризисов и умиротворительных актов. Во внешней истории кризисы называются войнами, умиротворительные акты — договорами; во внутренней: кризисы — революциями, умиротворительные акты — законодательствами. В обеих областях задача государственной мудрости состоит в том, чтобы умиротворительным актом предупредить кризис. В древности это в области внутренней политики удавалось часто, в области внешней — реже; отсюда значение войны и науки о ней, так называемых «военных древностей», — с одной стороны, и законодательства и права — с другой.
Но во всех названных областях одинаково сказывается один общий элемент, нормирующий поведение человека — как члена семьи, и как участника в корпорациях, и как гражданина; это — его
нравственное сознание. Оно не тождественно с существующими правовыми нормами, которые оно, однако, из себя породило: право говорит «так не поступай, не то — суд и кара»; нравственность, кроме того, — «так поступай в видах внутреннего оправдания, Божьей милости и общественной симпатии». Античная нравственность была преимущественно
положительной: в этом ее великая заслуга.
§ 8. В указанных трех областях своей культуры — науке, искусстве и нравах — человек стремится осуществить три чаемых им идеала — истины, красоты и добра. И если мы, наблюдая развитие данной культурной эпохи, находим, что за истекший период времени она приблизилась к их осуществлению, то мы отмечаем этот период времени как период
культурного прогресса; если же нет, то — как период
застоя или
регресса.
Из данного определения видно, что этими обозначениями нужно пользоваться чрезвычайно осторожно.
Во-первых, так как означенных идеалов не один, а три, то следует признать принципиально вполне возможным, что один и тот же период, будучи периодом прогресса, например, в области науки, окажется периодом застоя или регресса в обоих других и т.д.
Во-вторых, из названных трех идеалов только один оказывается достаточно бесспорным, а именно — идеал истины, поскольку он воплощается в науке. Вот почему только периоды научного прогресса, застоя и регресса в истории человечества вырисовываются перед нами с достаточной четкостью. Оба остальных подвержены спорам, а с ними — и оценка данных периодов в развитии искусств и нравов. Приверженец жизненной красоты усмотрит в переходе от античного искусства к средневековому регресс; напротив, поклонник аскетической красоты тот же переход признает прогрессом. Такой же спор возникает и в области нравов при сравнении периодов старинной простоты с осложненностью и утонченностью так называемых периодов расцвета.
В-третьих, спорной представляется и
сравнительная оценка наших трех идеалов. Если, скажем, прогресс в области наук и искусств окупается регрессом в области нравов — следует ли в этом признать выигрыш или утрату (ср. теорию Руссо
[2])? А если припомнить, что даже один и тот же идеал может неравномерно осуществляться в различных отделах своей области (красота музыки, например, в ущерб красоте живописи, семейный быт в ущерб государственному), то вопросы сравнительной оценки станут еще сложнее и неудоборазрешимее.
Отдать себе отчет в том, что мы разумеем под идеалами, какова их сравнительная ценность для человечества и в чем, следовательно, заключается прогресс и регресс, — все это составляет задачу, обязательную для каждого мыслящего человека, которую мы называем
выработкой миросозерцания. Но не только это.
§ 9. До сих пор не было речи о
религии. Это произошло не потому, чтобы она не соответствовала ни одному из названных идеалов, а, наоборот, потому, что она соответствует всем трем, объединяя их в себе. Религия одновременно наполняет собой наши представления, волнует наши чувства, направляет нашу волю; ее предмет — божество, а в божестве совмещаются понятия высшей истины, высшей красоты и высшего добра.
В частности, каждая религия высшего порядка состоит из трех частей — догматической, повествовательной и обрядовой.
1.
Догматическая часть, как учение о божестве и духовном мире, примыкает к области наук, покрывая в значительной степени тот их венец, который мы выше (§ 6) назвали метафизикой. Это, таким образом, — религиозная философия.
2.
Повествовательная часть (в античной религии мы называем ее мифологией) так же точно примыкает к искусствам, вдохновляя поэтов и художников, призывая к жизни религиозную поэзию, скульптуру и живопись. Эта сторона особенно характерна для античной культуры: откровение божества в красоте — специально античное воззрение.
3.
Обрядовая часть, наконец, составляет значительный фактор как в семейном и корпорационном, так и в государственном быту, врезываясь, таким образом, в область нравов. Сверх того, обрядность античной религии приняла в себя все искусства (включая орхестику), соприкасаясь также и с этой областью культуры.
Таким образом, религия своими тремя составными частями граничит со всеми тремя областями светской культуры. А где имеются общие границы, там неизбежны и
переходы их с обеих сторон. Направлением этих переходов обусловливается развитие отношений между религией и светской культурой.
Если мы в данном периоде наблюдаем поступательное распространение религии по всем областям светской культуры, то он представляется нам периодом ее
сакрализации.
Если, наоборот, замечается стремление — чем далее, тем более — вытеснить религию из области науки, искусств и нравов и ограничить ее неотъемлемой ее областью специально религиозного чувства, то мы говорим о
секуляризации (обмирщении) культуры.
Следует помнить, что история культуры человечества отнюдь не может быть сведена к постепенной ее секуляризации, как это думали французские философы XVIII века; так, из разбираемых здесь периодов истории античной культуры первый (ахейский) представляет нам ее в сравнительно светском состоянии, за которым следует (эллинский) период быстрой сакрализации, сменяющийся (аттическим) периодом медленной секуляризации, продолжающимся в эллинистическую и римско-республиканскую эпоху, после чего следует (в эпоху империи) новая решительная сакрализация, завершающаяся в Средние века. В этих сменяющих друг друга периодах сакрализации и секуляризации заключается
внешняя история религиозной культуры.
Ее
внутренняя история сводится к постепенному очищению и углублению самого религиозного чувства и может быть выражена в формуле: «от божков к богам, от богов к богу, от бога к божеству». Всего полнее совершается эта эволюция в сознании личностей, между тем как для народа характерно совместное существование всех этих ступеней.
Вне этой эволюции стоит
атеизм, встречающийся одинаково на всех ступенях. Следует различать атеизм
кажущийся и атеизм
действительный. Первый сводится: либо 1) к отрицанию
данной ступени религиозной эволюции, часто по той причине, что ум отрицающего чает наличность более высокой; так, первые христиане казались атеистами окружающим их языческим массам (атеизм
относительный); либо 2) к такому состоянию ума, при котором религиозный идеал только оттесняется на задний план другими, более волнующими нас в данный момент нашего развития (атеизм
биологический). Напротив,
действительный атеизм сводится к атрофии религиозного чувства, как (органическая) слепота — к атрофии зрительных нервов и т.д. Отнюдь не должно думать, будто атеизм (действительный) может быть результатом научного развития: религиозный идеал, подобно трем первым, принадлежит к первичным элементам объективного мира и, подобно им, в одинаковой степени и недоказуем наукой, и неопровержим.
От атеизма (непризнавания божества) следует отличать
антитеизм, то есть враждебное отношение к признаваемому божеству под влиянием жизненных неудач, разочарований и т.д. Подобно атеизму, и он встречается только у отдельных личностей, а не в народных массах.
Значение религии как фактора культурной жизни античных народов доказуемо наукой — оно и будет представлено в настоящем очерке. Напротив,
оценка религиозного идеала — дело совести каждого; она, равным образом, относится к той обязательной для всякого мыслящего человека
выработке миросозерцания, о которой речь была выше (§ 8).
§ 10. Предыдущие страницы были посвящены определению содержания понятия «культура» вообще; теперь надлежит определить
рамку — этнологическую и хронологическую — специально
античной культуры.
Под «античными народами» принято разуметь только два —
греков и
римлян. Ограничение это не случайно: так как интерес, внушаемый античным миром, обусловливался сознанием, что он был родоначальником нашей культуры, то естественно было его сосредоточить на тех двух народах, из которых один был творцом этой культуры, другой — посредником между ней и нами, выделяя их этим из числа других народов древности, интерес к судьбам которых представляется скорее интересом простой любознательности.
Называя греческий народ творцом нашей культуры, мы не думаем оспаривать его собственной зависимости от других, более древних в культурном отношении народов, которые мы объединяем под общим именем «классического Востока». Все же, 1) эта зависимость была лишь частичной: как будет показано в соответственных отделах, она вовсе не касалась таких важных в умственном отношении областей, как литература, философия и почти вся область нравов, и только отчасти затронула остальные; 2) ее воздействие проявилось (если не считать религии) главным образом в эпоху младенчества греческой культуры, и 3) пути этого воздействия, в большинстве случаев, могут быть определены лишь более или менее гадательно.
Особое место принадлежит
христианству. Как религия, зародившаяся в пределах Римской империи в эпоху ее наибольшего расцвета и покорившая весь античный мир, оно несомненно входит в область античной культуры. Тем не менее, мы по причинам специального характера оставляем его, как религию, за пределами нашего очерка, касаясь его только как культурной силы.
Когда история античного мира излагается с политической точки зрения — центр интереса после Александра Великого (323 г. до Р.Х.) переносится из Греции в Рим, где он и остается до конца. Здесь не то: так как культурой античного мира была именно греческая культура, то мы от начала до конца можем следовать начерченной для нее магистрали. Вот почему история античной культуры гораздо более едина, чем политическая история античного мира.
Начинается она в очень древние времена на побережьях и островах Эгейского моря при участии многих племен, из которых лишь к концу доисторической эпохи выделяется одно — ахейское
[3]. Но так как мы только об эпохе преобладания этого племени знаем из
говорящего памятника — Гомера, то мы и весь доисторический период по его имени называем «
ахейским»
Этому преобладанию положило конец вторжение в ахейскую Грецию северных племен, главным образом, дорийцев; воцарился новый хаос, из которого выделяется ряд племен, одинаково участвовавших в культурной работе. К концу периода политическое преобладание принадлежит Спарте, но в культурном отношении с ней успешно состязаются и другие племена, входящие в состав,
эллинского народа, именем которого мы и называем весь период.
Освободительная война с персами (500-478 гг. до Р.Х.) выдвигает на первый план
аттическое племя, завладевающее, кроме политического, также и культурным руководительством, которое остается за ним и после потери политического и только победами Александра Великого переносится в другие центры. Мы вправе поэтому весь период от персидских войн до смерти Александра — период расцвета — назвать
аттическим.
Победы Александра раздвинули рамки греческого мира на востоке и юго-востоке; столетием позже и Рим коснулся своими владениями этого греческого мира, что повело и к его подчинению греческой культуре. Отныне уже вся «вселенная» делается ее поприщем, сначала в лице своих отдельных государств, а затем и объединенная, политически — под эгидой Рима и религиозно — под знаменем креста. Весь этот период поэтому — от смерти Александра до конца античного мира — носит у нас название
вселенского. Распадается он на следующие части:
А. До политического объединения (323-30 гг. до Р.Х.):
1) Эллинистический период на Востоке
параллельно
2) Римско-республиканский период на Западе
Б. После объединения (30 г. до Р.Х.-529 г. по Р.Х.):
1) Период языческой империи (30 г. до Р.Х.-313 г. по Р.Х.)
2) Период христианской империи (313-529 гг. по Р.Х.)
Пределом поставлен 529 год — год закрытия императором Юстинианом афинского университета, последнего оплота античной культуры.
Примечание. Слово «вселенная» употреблено здесь в его первоначальном значении — «населенная» (земля), переводится с греческого oikumene от oikein — «населять» (с привкусом культурной жизни специально в духе греко-римской культуры). Отсюда, например, «вселенский собор» — concilium oecumenicum. Ныне это слово вследствие этимологического недоразумения, вызванного созвучием с местоимением «весь», часто употребляется в смысле «мироздания».
Все же эти периоды с их подразделениями будут изложены в настоящем курсе довольно неравномерно. Причина этой неравномерности двойная:
1. Мы сами очень неравномерно осведомлены о культурной жизни античного мира за различные периоды его истории. Всякое историческое знание зависит от обилия и достоверности сохранившихся
памятников; и вот эти-то памятники — и по количеству и по качеству — очень неравномерно распределены между означенными периодами.
Разделяются они на две категории — на 1) словесные и 2) вещественные. К первой категории принадлежат сохранившиеся в позднейших копиях литературные тексты и в подлиннике (хотя и в более или менее поврежденном виде) — надписи; ко второй — всякого рода изделия и творения человеческой руки, от глиняного черепка до мраморной статуи и мраморного храма. Вещественные памятники сохранены за гораздо более раннее время, чем словесные, — уже начиная с третьего тысячелетия до Р.Х.; но одни, без параллельной литературной традиции, они дают очень мало для духовной культуры.
2. Неравномерна и
ценность различных сторон культурной жизни различных периодов — даже с чисто объективной точки зрения и независимо от того обязательного простора личной оценки, о котором речь была выше (§ 8). Так, например, несомненно, что подражательное культурное явление обладает меньшей ценностью, чем самобытное. Вот почему греческая литература в эпоху империи, хотя от нее уцелело больше памятников, будет изложена нами менее обстоятельно, чем литература аттического периода.
Часть первая
Ахейский период
(От древнейших времен до приблизительно 1000 года до Р.Х.)
Глава вводная. Внешний облик греческой земли
§ 1. Страна, ставшая центральной ареной греческой культуры, состоит из собственно Греции с прилегающими островами Ионийского моря, разделяющейся на северную, среднюю и южную (или Пелопоннес), островов Эгейского моря и северного (фракийского) и восточного (малоазиатского) побережий этого моря, которые, впрочем, лишь к концу нашего периода были заселены греками.
1.
Пелопоннес (по античной традиции, в сущности верной, Pelopos nesos, то есть остров Пелопа, мифического родоначальника династии Пелопидов в Микенах) состоит из центрального плоскогорья и его очень неравных по величине склонов к окружающим морям. Плоскогорье называлось
Аркадией — страна суровая, поросшая дубовыми лесами, дававшими приют медведям, от которых она и получила свое название (arkos-arktos — «медведь»). Преобладал пастушеский быт; горные котловины мешали политическому объединению, и только в юго-восточном, сравнительно ровном углу возникли более значительные общины: Мантинея и Тегея. По краям плоскогорья возвышаются, особенно на севере и востоке, горные цепи с вершинами, долго покрытыми снегом (Эриманф, Киллена). Здесь реки, не находя стока, исчезают в пропастях (так называемых катавотрах; особенно знаменито своей мрачной красотой падение Стикса); эти явления подали повод к мифам о подземном царстве и к роли Гермеса, главного бога страны, как проводника душ. Из склонов наиболее значительны оба южных —
Мессения (долина Памиса) и
Лаконика (долина Эврота), отделенные друг от друга высокой горной цепью альпийского характера — Таигетом (Taygetos). Оба очень плодородны, особенно Мессения, но ее делит на две части важная для истории страны гора Ифома (Ithome), затрудняя ее объединение. Напротив, Лаконика, по природе единая, так и льнула к центральной общине, каковой были в начале Амиклы (Amyklai), позднее Спарта.
В противоположность южным склонам восточный,
Арголида, продолжая природу центрального плоскогорья, распадался на ряд кантонов (Сикион, Коринф, Эпидавр, Трезен, Микены с Аргосом). Зато он обладал прекрасными гаванями, открывшими доступ к нему восточной материальной культуре, а это обстоятельство повело к возвышению его главной общины, «золотых» Микен (Mykenai) с их соседом, «надбрежным» Тиринфом (Tiryns), не только в Арголиде, но и во всем Пелопоннесе.
Малозначителен северный спуск, узкая приморская полоса, часто разоряемая стекающими с северно-аркадской горной цепи бурными потоками; свое название «
Ахайя» он получил уже в следующий период, как одно из последних убежищ разгромленного ахейского племени.
Важнее западный склон,
Элида (Elis), собственно, долины двух рек — Пенея (элидского) и Алфея, самой значительной реки Пелопоннеса. Отвращенная от эгейского центра, Элида особенной роли в истории не играла; своей известностью она обязана главным образом Олимпии на Алфее, священной роще Зевса Олимпийского, где происходили каждые четыре года так называемые олимпийские состязания. Основаны они были, по преданию, еще Пелопом, царем Микен и Пелопоннеса, но особый блеск получили лишь в следующем периоде.
К Лаконике примыкает остров
Кифера (Kythera), причисляемый поныне к так называемому ионийскому семиостровию (Heptannesos), важный для нашего периода как стоянка финикиян, которые здесь ввели свой культ Афродиты-Астарты «Киферейской»; позднее он подпал власти Спарты и никакой роли в истории не играл. Не играл таковой и «лесистый»
Закинф (Zakynthos), второй в числе семиостровия, прилегающий к Элиде.
Примечание. Название Ионийского (Ionion) моря для нас загадочно; во всяком случае, оно не имеет ничего общего с именем ионийцев (Iones), которые даже не жили на его берегах. Загадочно и название Эгейского моря.
2.
Средняя Греция отделена от Пелопоннеса двумя заливами, Коринфским и Сароническим (название загадочно), из которых первый особенно глубоко врезался в землю; между ними лежит географическое чудо античного мира, Коринфский перешеек (Истм), почти сплошь занятый горами и позволяющий поэтому с большой легкостью вести военную оборону
(Пелопоннеса. Расположенная между этой парой заливов (Амвракийским и Мелийским) и северной Элладой средняя Эллада представляет собой узкую и гористую полосу земли, самой природой не приспособленную к политическому объединению. В ахейскую эпоху ее раздробленность была еще больше, чем в историческую. Так, позднее столь единая
Аттика распадалась на несколько независимых общин и союзов, среди которых выделялись Афины и Элевсин (Eleusis) благодаря своему положению в равнинах, редких в этой довольно пустынной и малоплодородной, но здоровой стране. В наш период, впрочем, оба города были довольно маловажны; природных богатств не было, морские же пути были преграждены двумя островами, славным позднее
Саламином (Salamis) — тогда еще гнездом пиратов — и особенно
Эгиной, царицей Саронического залива.
Суровая горная цепь Киферона (Kithairon), прославленная в сагах, отделяет Аттику от могучего Фиванского царства, которое вместе с соседним «золотым» Орхоменом позднее образовало историческую
Беотию. Страна эта тучная, гордящаяся своим Копаидским озером с его рыбными богатствами и плодородными долинами фиванского Исмена и орхоменского Кефиса; а впрочем, горная природа была почти такая же, как и в Аркадии, вследствие чего и здесь (в Орхомене) были живы предания о царстве мертвых. Из гор особенно славился, кроме Киферона, еще Геликон (Helikon), позднее, благодаря поэзии Гесиода, родина (геликонских) муз.
Страна к западу от Беотии особенно пострадала от великого народного сдвига, положившего конец ахейскому периоду; это целый лабиринт гор и ущелий (позднее
Фокида с тремя
Локридами), над которыми царствует гигант средней Греции — Парнас. Горой Аполлона он стал лишь в следующем периоде, когда на его склоне были основаны Дельфы; в ахейском главным городом этой местности была приморская Криса. Дальше на западе хаос опять проясняется: мы вступаем в долину Ахелоя, сказочной реки греческого запада, и в пределы соперничающих городов Плеврона и Калидона (Kalydon). В историческое время они подпали под власть полудикого племени
этолийцев, и лишь по ту сторону Ахелоя, в
Акарнании, культура возобновлялась, да и то лишь благодаря приморским колониальным городам.
С запада к средней Греции примыкают три дальнейших острова ионийского Гептаннеса —
Кефалления, Итака и
Левкада, из коих оба последних в настоящее время спорят из-за чести быть
гомеровской Итакой, родиной Одиссея. В нашу эпоху все три были крупными культурными центрами; позднее они потеряли значение.
3.
Северная Греция. Тот лабиринт гор, о котором речь была выше, заполняет собой местность между Мелийским заливом и Ахелоем, оставляя свободной на востоке лишь узкую теснину между крайней горой — величавой Этой (Oite) и морем: это — знаменитые
Фермопилы, после коринфского Истма второй оплот Греции. Здесь, между Этой и Офрисом (Othrys) — долина реки Сперхея, родина доброй части греческой мифологии (мифов о Девкалионе, аргонавтах, Геракле, Ахилле). Далее на севере горный лабиринт суживается, образуя северо-южную горную цепь Пинд и оставляя свободной к востоку от нее роскошную равнину, самую широкую и плодородную в Греции,
Фессалийскую. Через нее течет река (фессалийский) Пеней; путь к морю ему преграждает новая приморская горная цепь — знаменитое трехгорье Олимп-Осса-Пелион; он пробивает себе дорогу между Олимпом и Оссой, образуя там живописную Темпейскую долину (Tempe, то есть «прорезь»). Ее северная гора, Олимп, — самая высокая гора Греции (около трех тысяч метров) и вместе с тем ее северный предел; здесь, где земля с небом соприкасаются, предполагалось местожительство «олимпийских» богов; здесь горные нимфы, «олимпийские» музы, вдохновляли певцов-гомеридов. Та же Темпейская долина служила для Греции, после Истма и Фермопил, третьей фортификационной линией.
В противоположность культурной Фессалии страна к западу от Пинда,
Эпир, была во все времена (включая настоящее) полудикой; все же здесь, в земле молоссов, находилась «бурная» Додона, древнейшее прорицалище Зевса, с его «многоязычным» дубом, шелест которого почитался вещим.
Само название страны «Эпир» (Epeiros), то есть «материк», указывает на то, что она была так названа более культурными островитянами. Таковыми были жители противолежащей
Коркиры (Korkyra или Kerkyra), шестого и, собственно, последнего острова ионийского Гептаннеса (седьмой, маленький Паксос, был прихвачен только для восполнения священного числа). В позднейшее время он сыграл довольно важную роль как колония дорического Коринфа; но уже в нашу эпоху он, как доказали недавние раскопки, был культурным центром.
4.
Эгейское море. Настоящим двигателем греческой культуры было «царь-море» (Archipelagos) страны с его бесчисленными островами, так и манящими вдаль, с его правильными летними ветрами (этесиями), так облегчающими задачи молодого, еще неуверенного в себе судоходства. Острова эти, будучи важны и сами по себе, получают особое значение еще тем, что они были природными мостами между Европой и Азией. Таких мостов мы различаем три.
Южный образуется, главным образом, длинным островом
Критом (Krete), замыкающим с юга все Эгейское море. Его богатство кипарисовыми лесами (ныне почти исчезнувшими) дало этому острову возможность стать первой в Греции морской державой, каковое его значение связано с именем мифического царя Миноса и его столицы Кносса. Расцвет Крита относится именно к нашему периоду, о чем свидетельствуют и грандиозные находки, полученные благодаря раскопкам недавнего времени; в историческую эпоху он пал, сохраняя память о своем давнишнем морском величии в пиратских наклонностях своих жителей. Его славу позднее унаследовал остров Родос, посредством которого наш мост примыкает к юго-западному углу Малой Азии.
Как этот южный мост от Пелопоннеса, так
средний исходит от средней Греции — отчасти непосредственно от Аттики, отчасти от параллельного с ней острова
Эвбеи (Euboia), прилегающего ко всей восточной половине средней Греции до самого Мелийского залива и содержащего в своем центре плодородную Лелантскую равнину — предмет самой серьезной войны эллинского периода между главными городами острова Халкидой (Chalkis) и
Эретрией. Исходящие от Аттики и Эвбеи острова образуют прежде всего (полу-)круг — отсюда их название
Киклады (Kyklades). Все они довольно мелкие; более прочих привлекают внимание обильный здоровой водой Андрос, затем оба соседа-соперника, славные своим мрамором Парос и своим вином Наксос. Самый знаменитый позднее Делос был в нашу эпоху еще пустынной скалой. Далее к востоку наш полукруг продолжается в «рассеянных» островах, так называемых (южных) Спорадах, примыкающих к Малой Азии, между Родосом к югу и Икарией с
Самосом к северу. Особенно важен последний, сыгравший большую роль в судьбах Греции до последних времен. Из Спорад важнейшая — Кос, позднее прославившийся своим культом Асклепия и своей медицинской школой.
Северный островной мост посередине разорван: начинаясь у фессалийских берегов так называемыми северными Спорадами (главная — Скирос, опасное гнездо пиратов), он уже не имеет продолжения, которое от них бы вело либо к богатому и мрамором, и вином
Хиосу, либо, севернее, к идиллическому Лесбосу, либо, еще севернее, к мрачным фракийским островам: вулканическому
Лемносу, золотоносному
Фасосу (Thasos) и известным позднее своими мистическими культами
Самофракии и
Имбросу. Когда поэтому говорят о северном мосте между Европой и Азией — под ним разумеют не острова, а македонско-фракийское побережье.
5. Это македонско-фракийское побережье начинается уже у Олимпа, но затем, по ту сторону реки Аксия (ныне Вардар), прерывается глубоко вдающимся в море «трехпалым» полуостровом
Халкидикой (так называемым потому, что его занимали главным образом выходцы из эвбейской Халкиды), юго-восточный угол которого оберегает грозный Афон (Athos). Далее — устье второй великой македонской реки Стримона (Strymon, ныне Струма), за которым вскоре начинается Фракия. Ее побережье очень манило поселенцев вплоть до впадения ее главной реки Гебра (Hebros, ныне Марица); за ним следовал негостеприимный берег, вскоре переходящий в предельный полуостров, хлебородный (фракийский) Херсонес.
Между Херсонесом и противолежащим малоазиатским берегом тянется извилистый
Геллеспонт, переходящий затем в
Пропонтиду. Так (то есть «предморьем») она была названа потому, что служила как бы преддверьем к настоящему, нелюдимому «морю», начинающемуся по ту сторону второго пролива, так называемого
Боспора (Bosporos), и названному скорее из благоговейного страха «гостеприимным»
(Pontos Euxeinos). О нем в наш период ходили лишь внушительные слухи, увековеченные в мифе об аргонавтах, в ожидании того времени, когда оно откроет греческим пловцам доступ в пределы нашего отечества, оплодотворяя его первыми семенами культуры.
Западное
малоазиатское побережье начинается против фракийского Херсонеса славной в греческой саге геллеспонтской
Фригией, над которой царила
Троя на Скамандре, один из главных культурных центров нашего периода. Далее следовала, против Лесбоса,
Мисия с ее главной рекой Каиком; следующая крупная река, Герм, образовала приблизительную границу между ней и
Лидией, центральной рекой которой был знаменитый своими лебедями Каистр. Четвертая крупная река Малой Азии, извилистый Меандр, впадающий в море против Самоса, отделяет Лидию от
Карии, последней области западного побережья Малой Азии.
Оба названных побережья привлекали поселенцев помимо своих природных богатств также и наличием названных крупных рек, которые, будучи судоходными и вдаваясь далеко вглубь страны, предоставляли поселенцам возможность прибыльной торговли с ее полудикими обитателями. Но эти преимущества сказались лишь к концу нашего периода и, главным образом, к начету следующего.
Таков был этот уютный мирок, это единственное в Европе полное и тесное сочетание моря и земли. Именно оно характерно для европейской культуры. Течения великих рек, на которых создавались культурные деспотии Востока, замыкают кругозор своих народов; напротив, море, если оно оживлено островами, открывает его, неудержимо увлекая вдаль. Европейская культура, созданная греческим народом, — дочь моря и земли.
Глава I. Нравы
§ 2. Семейный быт. Основным принципом греческой семьи на ее древнейшей, уловимой для нас, ступени является принцип
единобрачия: у мужа-хозяина только одна жена, хозяйка его дома и мать его детей. Уже один этот факт исключает возможность коренного воздействия восточных полигамических культур на греческую.
Ценными качествами невесты считаются: знатность, красота, ум и искусность в женских работах. Приметивший себе невесту жених получает ее от тестя, уплатив за нее подобающее
вено (hedna; обыкновенно известное число голов скота), которое тесть должен был возвратить, если дурное поведение жены принуждало мужа к разводу. Свадьба была торжественным и веселом актом, сопровождавшимся пиршеством, песней и пляской; насколько она имела религиозный характер, мы не знаем. Положение жены в доме мужа было очень почетным: она была «женой-госпожой» и управляла всей женской челядью. Правда, этот почет находился отчасти в зависимости от того, была ли в живых ее родня, у которой она могла найти заступничество в случае обиды со стороны мужа.
Воспитание детей происходило внутри дома, причем нередко знатный отец, отвлекаемый внедомашней и военной работой, поручал уход за сыном почтенному клиенту. Обучение мальчика имело целью сделать из него и храброго воина и хорошего хозяина (ср. Одиссея), но, кроме того, и образованного по понятиям того времени человека, то есть способного и в физических состязаниях постоять за себя (как наездник, борец и т.д., см. ниже, с. 30), и складно сказать слово, и принять участие в хорее. Оно, таким образом, уже, теперь состояло из обеих характерных для грека частей гимнастической и мусической. Девочки росли при матери, обучаемые ею женским работам; однообразие домашней жизни прерывалось для них частыми вечеринками с хороводами и пением (ср. Навсикаю
[4]). Вообще центром тяжести в общественной жизни нашего периода была семья. Главой семьи был, разумеется, отец; все же его власть имела свой предел и никогда не доходила до права над жизнью и смертью или свободой детей, не говоря уже о жене; в случае жестоких наказаний допускалось заступничество родственников матери. Вообще личность жены была для мужа неприкосновенна; пережитки более грубых нравов в этом отношении сохранились у Гомера, странным образом, в быту богов (см. ниже, с. 53).
Местом семейной жизни был дом. Для него характерны прежде всего двор (aule), где при теплом климате и обыкновенно ясной погоде юга охотнее всего пребывали люди, затем обе
хоромы (megara), мужская и женская. Строгой исключительности, впрочем, не было: в мужской хороме, служившей также столовой, хозяин с хозяйкой принимали гостей; в женской хозяйка управляла домашней работой рабынь. Особой кухни не было; это — в связи с тем, что пищей в нашу эпоху были преимущественно жареное мясо и хлеб («ломоть Деметры»). Животные закалывались и потрошились на дворе; здесь же находился алтарь (bomos), на котором приносились в жертву богам положенные им части. Назначенные для людей части туши жарились на очаге (hestia) в хороме, затем подавались сотрапезникам. Эти последние сидели на стульях (а не возлежали, как позднее); столы подавались к обеду, а затем убирались. Вино в особых больших сосудах (krateres) смешивалось с водой и затем разливалось в чаши (kylikes).
Дом был, однако, центром также и семейного
хозяйства, которое вообще в древности было много сложнее, чем ныне. Покоилось оно на следующих двух принципах: 1) дом должен быть по возможности экономически самодовлеющей единицей, то есть потребляемое домом должно им же и производиться; 2) хозяйственная работа делится между мужем и женой так, чтобы муж заведовал всей работой вне дома, жена — почти всей внутри него.
К
работам вне дома принадлежали: 1.
Скотоводство, очень развитое в преимущественно гористой Греции. Его предметами были: коровы (ради мяса и молока; быки служили также и для пахотьбы); овцы (ради шерсти, мяса и молока) и козы (тоже; сверх того пользовались и шкурами всех этих пород). Лошадей, требовавших особо тучных пастбищ, держали только очень богатые, да и то не везде; особенно славилась ими Фессалия. Более распространены были, как вьючные животные, мулы и ослы. Свиней уже тогда держали более для пищи.
2.
Земледелие. Здесь мы различаем
хлебопашество, известное с незапамятных времен, и
культуру деревьев, среди которых особую важность имела виноградная лоза и маслина (последняя, впрочем, только отчасти, так как самые ценные качества оливкого масла, сделавшие его и средством освещения и приправой к кушаньям, были открыты только в следующую эпоху).
3. Пчеловодство, особенно важное в древности потому, что мед заменял нынешний сахар (воск, как средство освещения, тоже был признан только в следующую эпоху; в нашу — комнаты освещались смолистыми лучинами на подставках, lampteres, а ночной путник брал с собой факел).
4.
Охота не была постоянным занятием; она предпринималась изредка для истребления быков с целью их приручения, и это было торжеством, на которое приглашали друзей и знакомых (ср. миф о Калидонской охоте). Человек, принужденный жить охотой, считался несчастным так же, как живший рыболовством. Обычный способ охоты заключался в том, что животное загоняли с помощью собак в нарочно расставленные сети. Рано возникло сознание, что следует щадить беременных самок; таковых охотники после поимки «отпускали Артемиде», богине-покровительнице не только охотников, но и лесной дичи. Скотоводство и охота требовали наличия большого числа собак, которые считались поэтому ценным достоянием. К ним, как и вообще к животным, относились очень хорошо; ср. описание смерти собаки Аргоса в «Одиссее» (XVII, 290 сл.).
Внутри дома происходили работы по выделке предметов потребления из приносимого сырья. Главными были следующие: 1. выделка хлеба. Для этого сначала молотили колосья на току (halos; это был устланный каменными плитами просторный круг под открытым небом, служивший в другое время местом для пляски), каковая работа производилась быками; затем его там же веяли с помощью веяла (liknon). Домой доставляли чистое зерно; просушив, его размалывали в ручных мельницах, что считалось особенно тяжелой работой мукомолок — далеко слышный лязг мельниц вместе с пением петухов возвещал о наступившем утре. Затем из добытой таким образом муки пекарки пекли хлеб — плоский, так что его надлежало ломать. 2. Выделка
тканей. Домой доставляли шерсть: здесь ее разминали и чесали (работа чесальщиц), превращая ее этим в паклю; из нее пряхи с помощью прялки и веретена выводили нити — эта работа считалась особенно приличествующей дочерям дома. Из нитей на ткацких кроснах (histos) выделывались ткани, что было почетной работой самой хозяйки; особенно искусные ткачихи (Андромаха
[5], например) умели при этом украшать ткани различными узорами. В позднейшее время работа этим почти что заканчивалась — платьем были те же куски материи. В нашу эпоху дело было сложнее, как доказали изображения мужчин и особенно женщин, главным образом, в критской и тиринфской стенописи: многоярусные воронкообразные юбки этих последних, крепко стянутые вокруг талии (едва ли без помощи корсета), требовали довольно высокого развития также и портняжной техники. Но подробности тут неизвестны.
Как видно из этого описания, хозяйство в самодовлеющем доме было немыслимо без многочисленной челяди. Таковая была большей частью несвободной. Наиболее почетным являлось положение дома рожденных рабов и рабынь; другие приобретались либо куплей, либо как военная добыча. Последней, впрочем, были только женщины, так как мужское население взятого города истреблялось. Отношение хозяев к рабам было гораздо более сносно, чем позднее, когда усложнившиеся условия производства потребовали массового рабства. Из числа рабынь выдвигались своей близостью к хозяйке ее бывшая няня, последовавшая за ней из родительского дома, и затем «почтенная» ключница. А впрочем, хозяин был полновластным господином своей челяди и имел над ней право жизни и смерти (ср. расправу Одиссея с неверными рабынями,
Од. XXII, 457 сл.).
Равным образом, большое хозяйство требовало разнообразной
утвари. Сравнительно мало было мебели, как и вообще в древности: нашим шкафам соответствовали низкие лари, которые могли служить также для сидения. Столы тоже не загромождали комнаты. Стулья были отчасти каменные, отчасти складные деревянные; для гостя стул покрывали мохнатой шкурой, и под ноги ему давалась скамейка. Разнообразна была столовая утварь, большей частью из глины; встречается, однако, серебряная и золотая, последняя преимущественно для возлияний богам. Особое место занимают медные котлы, в которых, главным образом, кипятилась вода для купания, с каковой целью их ставили на так называемые треножники (tripodes). О
рабочей утвари уже была речь мимоходом. Сюда же примыкают и многочисленные женские украшения — серьги, ожерелья, запястья, пряжки и т.д., — о которых мы имеем довольно полное представление, так как они сопровождали покойницу в могилу (так же как мужчин — оружие, о котором см. ниже, с.30). Особого внимания заслуживают
перстни с печатями — символ хозяина и хозяйки — с подчас очень интересными изображениями.
Вся эта семейная жизнь проникнута чувством живой и тесной солидарности всех членов, как свободных, так и рабов, и затем —
уважением к труду. Одиссей гордится своей выдержкой в полевых трудах не менее, чем своими воинскими подвигами (
Од. XVIII, 395 сл.); царевичи не гнушались пасти отцовские стада (Парис на горе Ида
[6]), царевны — не только прясть, но и стирать вместе с девушками-рабынями (Навсикая).
Смерть человека была обставлена торжественно; но эта торжественность была обусловлена верованиями о душе, почему мы и должны заняться ею ниже, в главе о религии (IV, § 10).
§ 3. Общественный быт. Описанный в предыдущем параграфе дом с его сложным, почти самодовлеющим хозяйством мог быть домом только крупного землевладельца, так называемого анакта (anax). Несколько таких семей, объединенных узами ближайшего сознаваемого родства, составляли род (genos) или фратрию (phratria) — отношение этих двух понятий друг к другу для нас неясно; так как этим родством обусловливалось наследование выморочного имущества, то каждый отец семейства должен был представлять сородичам (франторам) своих детей, чтобы этим обеспечить им права наследства. Но и в других случаях это родство было живой силой: сородичи съезжались и на свадьбу, и на похороны, и в видах помощи и заступничества, если благосостояние семьи пошатнулось; они же были ближайшей инстанцией для улаживания семейных неурядиц. Высшей единицей, вмещавшей в себе несколько родов или фратрий, было
колено или фила (phyle). Родство крови и здесь еще предполагалось, но уже не могло быть определено; предположение же находило себе опору в допущении общего родоначальника. Значение филы сказывалось особенно на войне, когда воины собирались по филам и фратриям (ср. совет Нестора,
Ил. II, 360 сл., которым поэт хочет освятить именно этот старинный обычай и дать отпор новшествам, направленным к его разрушению); но мы имеем право допустить, что и в мирное время «филеты» образовывали единое целое, отстаивающее свои интересы в общей родине.
Таковы основы родового строя в ахейский период. Далеко не все нам известно: мы не можем, например, дать ответ на вопрос, насколько родовой строй влиял на земельно-имущественные отношения. Была ли вся земля частной собственностью? Или же только пахотная, причем пастбища могли принадлежать фратрии или филе, или даже целой общине, или же — никому? Мы этого не знаем.
Переходя к вопросам чисто
хозяйственного характера, мы прежде всего должны установить, что то хозяйство, при котором дом (oikos — отсюда oikonomia) является вполне самодовлеющей единицей, будучи и производителем, и потребителем всех нужных ему материальных благ, — называется «
ойкосным», или домовым хозяйством. Ему противополагается хозяйство
городское, при котором обмен товаров происходит между различными домами, но все же внутри того же города, и как последовательно высшие понятия — хозяйство
государственное и
мировое.
Исключительно домовое хозяйство возможно только на первобытной ступени скотоводческой жизни; Гомер сохранил память о таковой в любопытном месте, где он описывает быт дикарей-циклопов (
Од. IX, 112 сл.). Все же в ахейском периоде мы имеем, согласно сказанному,
преимущественно домовое хозяйство со сравнительно небольшими зародышами хозяйства городского (которое в Греции совпадало с государственным) и еще меньшими — мирового.
Зародыши городского хозяйства мы должны признать в наличии таких
ремесел, которые не умещались в пределах домового хозяйства (подобно ткацкому, пекарному и т.д.), а существовали самобытно, обслуживая нужды целого народа — почему ремесленников и называли demio-ergoi (позднее demiurgoi), то есть работающими на народ. Это были ремесла следующие: 1)
гончара (kerameus), очень важное при роли глины в античном обиходе, заменявшей также и нынешний фарфор (с фаянсом) и хрусталь; в собственно ахейский период был уже давно известен гончарный круг, и глиняные изделия достигли со стороны формы значительного разнообразия и совершенства (об их художественной стороне будет речь ниже, с. 43); 2)
плотника (tekton; глава таковых — architekton; отсюда, неправильно, латинское — architectus и, еще неправильнее, русское — «архитектор»); впрочем, по условиям домостроительства нашей эпохи, плотник был в то же время и каменщиком и еще совмещал в себе столяра; 3)
кузнеца (chalkeus, от chalkos — «бронза»; железо тогда еще не употреблялось), совмещавшего в себе также и оружейника и ювелира; интересно тут сравнить у Гомера описание мастерской идеального кузнеца — бога Гефеста (
Ил. XVIII, 369 сл.); оно замечательно также и тем, что из него видно, какие смелые надежды уже тогда возлагались на это великое ремесло, родоначальника современной технологии; недаром оно было единственным, имевшим бога своим специальным представителем; 4)
кожевника (skytotomos). Правда, его ремесло отчасти укладывалось в рамки домового хозяйства, но были специалисты, подобно тому Тихию Гилейскому (в поздней Беотии), которому Аякс Теламонид заказал свой исполинский кожаный щит (
Ил. VII).
Наконец, зародыши
мирового хозяйства мы имеем в тех элементах морской
торговли и морского
разбоя, которые мы встречаем в нашу эпоху. Действительно, как это ни странно, а эти два понятия здесь должны быть сопоставлены; во-первых, потому, что и тем, и другим делом занимались одни и те же люди (prekteres — «добытчики»; ср.
Од. VIII, 161 сл.), а затем и потому, что в экономическом отношении оба сводились к одному и тому же, к привлечению заморских продуктов в круговорот домового и городского хозяйств. Разница между ними нравственная; но об этом пункте речь впереди.
Развитием разбоя была и
война, которая в нашу эпоху велась ради добычи, а не ради расширения земельных владений; от разбоя она отличалась своим всенародным характером, вследствие чего больше внимания обращалось на нравственный элемент (ниже, с.37 и сл.).
Путем морской торговли и разбоя с войной в Грецию проникали материалы и продукты, которых она сама не производила (золото, бронза, порфира); из народов, корабли которых доплывали до Греции, упоминаются финикийский (см. особенно
Од. XV, 403 сл.).
И городское хозяйство, и мировое в его нормальных проявлениях сводилось в своих отдельных актах к
продаже и
купле; а в таких случаях возникал вопрос,
за что продать и
за что купить. Тут мы различаем две ступени. На первобытной ступени полагалось, что продавец продает за то, что ему нужно; а покупатель покупает за то, что ему не нужно, и продажа и купля состояли в простой
мене. На второй — развитие промышленности и торговли повело к установлению особой меновой единицы или
денег в широком смысле; таковыми были в нашу эпоху, однако, не металлические деньги, а
головы скота, как крупного (коров), так и мелкого (овец). Ценность вещи определялась числом таких голов: медные доспехи Диомеда стоили девять, золотые же Главка — сто коров. (
Ил. VI, 326). Подобное же развитие мы имеем и у других народов, и латинское слово pecunia до позднейшего времени сохранило память о том, что первоначально и деньгами было pecus.
Сказанным до сих пор в значительной степени определяется и
классовое деление населения в нашу эпоху; не имея о нем исчерпывающих сведений, мы, тем не менее, на основании известного нам, а также и аналогий из позднейших времен, можем установить следующее. Первый класс составляли, несомненно, те крупнопоместные
анакты, семейный быт которых описан в § 2; и на войне, и в управлении государством, и в общественной жизни они были на первом плане. За ним следовали мелкопоместные
крестьяне, естественно зависящие от анактов, пастухи-собственники горных пастбищ,
рыболовы побережья. Затем
ремесленники и
торговцы, поскольку первые не совпадали с крестьянами; наконец, батраки или феты (thetes), не имевшие своего гнезда и работавшие за плату. Жизнь последних Ахилл называет самой жалкой из всех (
Ил. XXIV, 531 сл. и
Од. XI, 489 сл.); значит, лучше жилось даже
рабу. И действительно, первым условием сносной жизни греки считали оседлость; и мы легко представляем себе, что Евмей, даром что раб, очень свысока смотрел на какого-нибудь свободного бродягу-батрака, принимаемого сегодня за поденную плату (мерку хлеба) и не знающего, где он завтра приклонит голову.
Следует отметить полное отсутствие в этой картине
жрецов — в резком различии с восточными культурами. Но об этом речь впереди (см. ниже, с.55).
Общественная жизнь, поскольку она не совпадала с экономической и политической и не являлась придатком семейной, а также не вызывалась случайными и неуловимыми для нас происшествиями, сосредоточивалась в особенности на одном характерном для Греции явлении — на
агонах (состязаниях). Их расцвет относится к следующему периоду; в наш они еще не имели периодического характера, но были частью чрезвычайного торжества — чаще всего похоронного. Здесь первое место принадлежало состязанию колесниц, доступному только для анактов; затем следовали состязания в беге, борьбе, кулачном бою, стрельбе, метании диска и дротика. В наш период призы победителям представляли собой (как ныне) материальную ценность, а не чисто идеальную (лавровый венок и тому подобное), как в рыцарский эллинский период.
§ 4. Государственный быт. Община на древнейшей уловимой для нас ступени может быть определена как
наследственная по мужской линии аристократическая монархия, основанная на
родовом строе.
I. Царь (basileus) был в трояком отношении главой своей общины:
1) в
сакральном — как ее представитель перед богами, приносивший от ее имени установленные жертвы (см. ниже, с.54); в этом качестве он охотно производил себя от Зевса, царя богов (как diogenes basileus);
2) в
судебном — как высший судья, естественно приглашаемый решать спорные вопросы между анактами в тех случаях, когда обращения к совету сородичей было недостаточно;
Примечание. Здесь далеко не все для нас ясно. Судебное значение царя упоминается в «Одиссее», но не в более древней «Илиаде»: здесь не царь, а совет старейшин (то есть анактов) решает тяжбу, причем тот, к приговору которого присоединяются другие, получает награду, представленную, вероятно, тяжущимися. Следует ли допустить, что право суда, вначале принадлежавшее анактам, со временем перешло к царю? Мы охотно предположили бы обратное.
Следует отметить чисто светский характер этого ахейского суда. Клятва сторон (см. ниже, II, § 8) отсутствует, дело решается показаниями свидетелей и убеждением судей.
Основой суда всегда является право. Таковое в ахейский период еще не было предметом законодательства: мы имеем так называемое обычное, неписанное право, жившее в правовом сознании народа и особенно анактов. Оно должно было пережить известную эволюцию до той ступени, которую нам представляет ахейский период. Здесь в случае убийства гражданина убийца уплачивает так называемую виру (poine) по соглашению с родственниками, и только при их несогласии должен отправиться в изгнание. Это — поразительное обмирщение древнейшего права и долга кровавой мести, блюстительницей которого была Эриния.
3) в
военном — как призванный полководец общинной рати, которая под его предводительством ведет наступательную и оборонительную войну, собираясь по родам и коленам (выше, с.27).
Никакой другой власти царь над своими подданными не имел — в своем доме анакт властвовал неограниченно. Да и называл он их не подданными, а «товарищами» (hetairoi), такое наименование удерживалось и в исторической монархии у греков (ниже, ч. IV, отд. А, гл.1). В этом относительном равенстве заключается новая разница между Грецией и Востоком, где подданный был рабом царя, и последний мог с ним цоступать по своему усмотрению.
Знаком отличия царя был посох (skeptron) с птицей Зевса, орлом, на набалдашнике и более роскошное облачение, но только не пурпурного (как позднее), а зеленого цвета. Материальными преимуществами были: I) дворец в кремле и особый участок земли, даруемый царю, как таковому, от общины (зародыш доманиального землевладения); 2) поборы с тяжущихся и 3) отборная часть военной добычи. От царя требовалось, чтобы он оказывался достойным своего сана личным умом и храбростью (см.
Ил. XII, 310 сл.); убыль этих качеств послужила причиной падения царской власти.
Примечание. Посох, из которого, как показывает греческое слово, развился наш скипетр, был первоначально орудием, а затем символом карательной власти. Носил его каждый анакт, но царский был роскошнее и имел указанное украшение.
II. Вторым органом власти был
царский совет, bule, состоявший из старейшин (gerontes), то есть анактов. В его среде царь обсуждал все предложения, вносимые в народное собрание; он же принимал участие во всех актах, в которых царь выступал представителем своей общины, будучи сначала, надо полагать, нравственным, а затем и правовым ограничением его власти.
1. Так как за каждым жертвоприношением следовало угощение участников мясом жертвенного животного, то к участию в царском жертвоприношении за общину естественно было пригласить ее лучших людей, то есть членов совета.
2. Греческое правовое сознание никогда не признавало единоличного судьи, и царь-судья должен был окружить себя «заседателями», parhedroi, то есть опять-таки членами совета.
3. Равным образом, ведение войны требовало постоянного обсуждении каждого военного действия, то есть возможно частых заседаний так называемого военного совета; им же, естественнее всего, был все тот же царский совет старейшин или анактов.
С этой целью царь собирал свой совет в военное время в своей палатке, в мирное же — либо на площадке перед дворцом, либо в особом помещении дворца (ср. тронный зал в так называемом дворце царя Миноса в Кноссе).
III. Третьим органом власти было народное собрание или
вече (agora), собиравшееся на городской площади (тоже agora). Его состав нам точнее не известен; но аналогия заставляет думать, что оно обнимало всех оседлых людей. Неизвестны точнее и его полномочия; во всяком случае, его созыв был необходим не только для объявления войны, но и для более важных военных действий (в
Ил. II, например, для перехода от длительной осады к решающей битве). Говорить в вече могли не только царь и анакты, но и любой гражданин.
Народ созывался в вече «звучноголосыми» царскими глашатаями (kerykes); они же вручали говорящему царский посох как символ того, что он во время своей речи неприкосновенен и что его надлежит выслушать. Эти глашатаи были особо привилегированные лица, о которых еще будет речь; их богом был Гермес, небесный глашатай, и они носили его символ, жезл со змейками (ныне символ торговли), который их делал неприкосновенными. Их должность была наследственной.
§ 5. Международный быт. В принципе, вне границы общины для ее граждан начинается военное положение: «внешний» (echthros) — то же, что и «враг». На практике оно смягчается следующими обычаями, получившими под сенью религии правовой характер.
1. Особа
глашатая священна везде, где царствуют греческие нравы; в сопровождении такового всякий грек повсюду мог путешествовать безопасно.
2. Характерен для Греции институт
куначества (xenia), то есть союза гостеприимства, заключаемого между двумя гражданами различных общин и обеспечивающего им взаимный прием и покровительство. Эти куначества были наследственными (см.
Ил. VI, 119 сл.). Со временем из них развился институт
проксепии, то есть союз гостеприимства между гражданином общины А и всей общиной Б, в силу которого каждый гражданин общины Б в случае надобности мог найти прием и покровительство у означенного гражданина общины А, взамен чего этот последний пользовался разными почетными правами, вплоть до права переселения, в общине Б (нечто родственное нашему консульству).
3. Независимо от этого каждый пришелец мог обеспечить себе безопасность, ставя себя под покровительство «Зевса просителей», Zeus hikesios. Самым действенным обрядом такой «гикесии» было — припасть с зеленой веткой в руках к алтарю Зевса или другого бога; если же такого поблизости не было, то — коснуться рукой колена, руки или подбородка лица, к покровительству которого пришелец обращался.
4. Наконец, были возможны и
договоры между целыми общинами, обеспечивающие их гражданам безопасность, а по желанию и самим общинам взаимную военную помощь. Договор скреплялся взаимной подачей рук, торжественными возлияниями (spondai; отсюда и сам договор так назывался) и призывом Зевса-блюстителя договоров (см. описание
Ил. III, 245 сл.). Наличие договора имело видимым последствием то, что заключившие его общины сносились между собой без глашатаев.
Таковы были скромные зародыши позднейшего международного права. В прочем же действовало право
воины.
Примечание. В войне тех времен различаются следующие действия: А. Битвы. Здесь в передних рядах сражались анакты как единственные, владевшие лошадьми, но — и это характерно для нашей эпохи — не верхом, а на колесницах, запряженных парами, причем каждый боец имел рядом с собой возницу, тоже из благородных. В самом сражении они, однако, спешивались. Оборонительным оружием был шлем и огромный «микенский» щит, свешивавшийся на перевязи с шеи и защищавший все тело; наступательным — копье и меч (лук настоящими витязями употреблялся только для охоты). Прочие воины, пешие, своими массами поддерживали натиск анактов. Б. Засады, в которых участвовали только отборные люди. В. Набеги, производимые ради добычи, между прочим, для прокормления войска. Особенно опасными были морские набеги вследствие своей неожиданности и невозможности преследовать хищников. Так как им подвергались только побережья, то принято было большие города основывать на некотором расстоянии от моря (Микены, Троя, Афины и т.д.). Г. Осады укрепленных городов. Здесь все выгоды были на стороне осажденных, так как приспособлений к разрушению стен не было; при наличии съестных припасов и воды они могли продержаться очень долго. Правда, с другой стороны, вследствие недостатков строительной техники стены не могли быть отвесными (так это предполагает Гомер, и троянские раскопки подтвердили это), так что при неожиданном нападении можно было взойти на них. По легенде Троя осаждалась десять лет и была взята лишь путем хитрости.
Следует и здесь отметить светский характер ведения войны. Конечно, победу даровал Зевс, которому и молились о ней, но того боязливого испрашивания божьего согласия на каждое действие, которое так тормозило ведение войны в историческую эпоху, ахейский период не знал.
Произволу победителя не было положено никаких пределов; взятый город разрушался, мужское население истреблялось, женщины и все имущество побежденных поступали в добычу. Но все же обычай повелевал 1) щадить святыни богов и 2) не препятствовать похоронам павших в бою.
§ 6. Нравственное сознание. Вся рассмотренная в настоящей главе область жизни ахейского периода подчинена, согласно сказанному выше, идеалу
добра. Этот идеал на самой низкой ступени личного эгоизма проявляется в борьбе за существование и за власть: добро совпадает с личной
пользой, и высшим качеством человека считается то, посредством которого он может легче и полнее всего доставить себе эту пользу. Это и есть
arete в ее первоначальном значении; она вмещает в себе силу, мужество, ловкость и практический ум (не исключая хитрости), а также и красоту, обходительность и т.д., поскольку они выдвигают одного человека из среды других. Нравственности во всем этом пока еще нет.
Но это стремление к личной пользе уже на нашей ступени часто скрещивается с противоположным ему стремлением — жертвовать личной пользой ради пользы другого человека в силу нравственного долга. Спрашивается: что же является «санкцией» этого
нравственного долга — то есть тем, ради чего мы исполняем его?
Первоначально санкции не было никакой: человек поступал нравственно в силу бессознательно повелительного голоса в своей душе («категорического императива», как его называет Кант). Это объясняется отчасти тем, что человек на этой ступени чувствует себя еще не отщепленной особью («онтономическое сознание»), а одним целым со своим отцом и дедом, со своим сыном и внуком («филономическое сознание»). Категорический императив совпадает здесь с «долгом крови» — здесь, но не везде.
Но по мере пробуждения к сознательности человек обязательно задает себе вопрос: «ради чего жертвую я своей пользой?» — и обязательно отвечает: «ради высшей пользы, то есть счастья» (eudaimonia). Императивная нравственность переходит в нравственность
эвдемонистическую.
Это счастье человек представляет себе либо здесь, на земле, либо за пределами смерти; в первом случае мы имеем
биологический, во втором —
эсхатологический эвдемонизм. Последний по своей природе всегда религиозного характера; но не всякая религия имеет в числе своих догматов эсхатологический эвдемонизм — и именно религия ахейского периода, как мы увидим, его не имела (ниже, с.46). А впрочем, к одной награде за пределами смерти была чувствительна и гомеровская эпоха — именно к
посмертной славе, орудием которой тогда была песня. «Для того боги назначили горе данаям и Илиону и судили погибель людям, чтобы была песня для потомства», — говорит Алкиной Одиссею (
Од. VIII, 479). Это — характерная для всей античности черта: слава — высшая награда, забвение — самая тяжелая кара.
Напротив, биологический эвдемонизм может быть религиозного, но может быть и не религиозного характера.
Религиозный биологический эвдемонизм сводится к признанию догмата, что за нравственное поведение бог наградит человека счастьем на земле (точка зрения древнего Израиля). Для зарождения этого догмата требуется, чтобы сначала сам бог был признан нравственной силой, а этого признания мы в нашу эпоху еще не имеем. Бог награждает человека за оказываемое ему, богу, почтение (то есть за благочестие; см.
Ил. XXII, 168 сл.) и карает за нанесенные ему, богу, оскорбления (главным образом, за кощунство и клятвопреступление), но не за нравственное или безнравственное поведение вообще.
Нерелигиозный биологический эвдемонизм, в свою очередь, может иметь две санкции: самобытную и общественную.
Самобытная санкция сводится к убеждению, что нравственность есть здоровье души и сама по себе служит наградой нравственному человеку. Это — точка зрения
автономной нравственности; ее открытие — бессмертная заслуга Платона, нашей эпохе до нее еще очень далеко.
Общественная санкция гласит: поступай нравственно, чтобы тебя уважали твои ближние. Это именно та, которую мы встречаем в нашу эпоху (например,
Ил. IX, 257). Теоретически она недостаточна (надлежит сравнить блестящую критику ее, а заодно и других санкций, кроме самобытной, которую дал Платон в начале II книги его «Государства»), но практически сослужила человечеству немалую службу в деле его нравственного воспитания.
Итак, мы можем сказать: нравственность ахейского периода, поскольку она не была чисто императивной, сводится к нерелигиозному биологическому эвдемонизму с общественной санкцией.
Всякая санкция (и в данном случае — общественная) создает ряд
нравственных требований, исполнение которых ставится условием достижения соответственной эвдемонии (в данном случае — общественного уважения). Эти требования бывают неизбежно и положительного, и отрицательного характера, — смотря, однако, по преобладанию тех или других, мы различаем нравственность (преимущественно) положительную и (преимущественно) отрицательную. Этим двум направлениям нравственного поведения соответствуют два идеала, сообщающие более определенную окраску высшему идеалу добра. Идеал
положительной нравственности — arete, переходящая по мере развития нравственной культуры от понятия «доблести» к понятию «добродетели» (в буквальном смысле: «делания добра»), ее средство — деятельность, ее отдельное проявление — подвиг (katorthoma); это — идеал античный, общий всем эпохам. Идеал
отрицательной нравственности —
праведность; ее средство — воздержание, ее отдельное проявление — избежание проступка или греха (hamartoma); это — идеал фарисейский (в объективном смысле этого слова).
Принцип соревнования («агонистический»), столь характерный для античности, содействовал положительному направлению ее нравственности, побуждая каждого человека к совершению подвигов в смысле доблести или добродетели. Нравственные требования, сюда относящиеся, определяли
обязанности человека по отношению к богам, семье, челяди, согражданам и пришлым гостям — различные в различных случаях.
Всякое нравственное требование предполагает большую или меньшую способность человека исполнить его или не исполнить, то есть большую или меньшую
свободу его воли. Догмату свободы воли противополагается догмат ее
связанности, которая может быть либо внешней, либо внутренней. Учение о внешней связанности воли мы называем
фатализмом («делай что хочешь, но если тебе суждено убить твоего отца, то ты его убьешь». — Кем суждено? — Роком, fatum, Мойрой-Moira; см. ниже, с.53); учение о внутренней связанности —
детерминизмом («ты, собственно, ничего от себя не хочешь, так как твоя воля — необходимое следствие независимых от тебя причин»). Фатализм может быть либо безусловным (приведенный пример), либо обусловленным («если ты родишь сына, то он тебя убьет, — но ты можешь его и не родить»). Детерминизм тоже двух родов: он может быть религиозным («моя воля — действие вселившегося в меня доброго или злого духа»; на наивысшей ступени отсюда развивается христианское учение о благодати) или естественным («моя воля — продукт естественных задатков моего характера и внешней обстановки»).
Античность ахейской эпохи, в принципе, признает свободу человеческой воли и, следовательно, ответственность человека за его деяния; все же она недостаточно оценивает ее нравственное значение, ставя свой приговор о совершенном деянии в зависимость не от обнаруженной при его совершении злой воли, а от внешнего наличного факта. Так, совершенное убийство во всяком случае требовало возмездия, даже если оно было совершено нечаянно или бессознательно (
Ил. XXIII, 85 сл.).
Но наряду с этим прогрессирующим сознанием, которому принадлежало будущее, мы находим и элементы и пережитки других. Мы встречаем
фатализм — и, смутно, в его безусловном виде (
Ил. VI, 486 сл.) и, ясно и настойчиво, в обусловленном (
Од. I, 32 сл. — очень важное место). Последний особенно интересен, так как на нем основано столь характерное для античной культуры
ведовство (ниже, с.55), сводящееся к узнанию условий отвратимости злой судьбы. Мы встречаем затем и
детерминизм как факт, смягчающий человеческую ответственность, и притом в его религиозном виде. Человек замечал, что иногда «страсть» заставляла его поступать так, как он «не хотел» поступить и во вред ему же; в этой независимой от него силе он усматривал извне в него вселяющегося злого духа — олицетворенный грех,
Amy (Ate; см. интересную притчу о ней:
Ил. XIX, 90 сл.).
Но все эти посторонние элементы только ограничивали более или менее принцип свободы человеческой воли, но не упраздняли его; он остался в силе как главный устой самосовершенствуемости человека, а стало быть, и культурного прогресса.
Еще осталось ответить на вопрос о
ценности жизни для человека ахейского периода. Ответ вообще может быть двойной — положительный или отрицательный: первый мы называем
оптимистическим, второй —
пессимистическим. Пессимизм может быть либо абсолютным, либо относительным, причем последний сводится к низкой оценке земной жизни в сравнении с той, которая нас ждет за пределами смерти, и вполне совместим с абсолютно положительной оценкой первой. Для ахейской эпохи относительный пессимизм отпадает (см. ниже, с.46).
Как же отвечал ахеец на вопрос о ценности жизни? Странным образом — двояко: в теории он — пессимист, на практике — оптимист.
И все же это естественно. Теоретический ответ дается тогда, когда человек, до тех пор действующий, останавливается и озирается на свой жизненный путь. Он видит самое видимое — кругом невзгоды, впереди старость и смерть; он не видит силы собственного духа, данной ему для борьбы с невзгодами, сокровенной радости жизни, вступающей в сознание только при приближении насильственной смерти, и таинственных филономических уз, связывающих нас с нашими детьми и побеждающих этим старость и смерть; под влиянием этой иллюзии он решает, что жить не стоит (слова Зевса
Ил. XVII, 446 сл.; притча о двух чанах
Ил. XXIV, 525 сл.). Но на практике действуют именно эти несознаваемые силы, заставляя нас стремиться и творить, находить удовлетворение в этой деятельности и не отдавать жизни без крайней борьбы. И действительно, самоубийство у Гомера почти не встречается: гомеровский человек изредка решается кончить с собой под влиянием страшного греха (Эпикаста,
Од. XI, 277) или страшного горя (Ахилл,
Ил. XVIII, 32 сл.), но никогда — под влиянием «разочарования в жизни», то есть несознавания ее ценностей вследствие худосочности и расслабленности собственного организма.
Эти ценности с точки зрения ахейской эпохи суть следующие: само чувство жизни и созерцание «милого» света; здоровье, сила и красота; ум и сила воли; брак и дети (это — необходимое условие счастья для каждой здоровой эпохи и
мерило ее здоровья); уважение окружающих; достаток, прием гостей и веселое общение с ними, услаждаемое трапезой и песней (
Од. IX, 1 сл.); хороводы; рассказы о прошлом и о чужих краях и т.д. Все это — блага, тем выше стоящие в оценке человека, чем здоровее он сам; а люди были так здоровы, что их здоровья, сосредоточенного в гомеровских поэмах, хватило на много последующих веков.
Глава II. Наука
§ 7. Наука — отражение истины в человеческом уме. Поскольку обнаружение истины — единственная задача научной работы, мы имеем дело с
чистой наукой (episteme); поскольку эта задача подчинена другой — доставлению пользы, мы говорим о науке
прикладной (techne). Прикладными знаниями в большей или меньшей степени обладали многие народы древности; стремление к чистой науке мы находим только у греков, а затем у тех народов, которые переняли у них их культуру.
Примечание. Следует знать, что только наличие стремления к чистой науке может обеспечить прогресс также и науке прикладной: на почве чистой науки делаются те «открытия», за которыми следуют практические «изобретения» в разных областях науки прикладной. Так, наука об электричестве занимает ныне одно из первых мест в ряду прикладных наук; но, конечно, никто не мог этого ожидать от той игрушечной силы, которая действует в потертом куске янтаря (elektron); ее исследование было делом чистой науки, далекой от всяких утилитарных соображений. Это — пример поучительный. Наука — богатая невеста, очень заманчивая для практически настроенных женихов; но в то же время она — гордая красавица, требующая, чтобы ее любили ради нее самой, а не ради ее приданого.
I. В нашу эпоху
прикладное знание должно было быть довольно развито, как это доказывает наличие скотоводства, земледелия, разных ремесел, мореходства и т.д.; знаем мы о нем очень мало. Укажем несколько сюда относящихся фактов, интересных для позднейшего развития также и чистых наук.
1.
Скотоводчество вмещало в себе заботу о поиске полезных для кормления скота трав и растений. Таковые назывались по-гречески (от boton — «скотина») — botanai; посвященная им прикладная наука стала одним из двух корней слова «
ботаника» (о другом ниже, под пунктом 6).
2. Искусство
ведовства религии Зевса, поскольку оно основывалось на толковании полета и голосов птиц, заставляло людей внимательно следить за их жизнью (Эсх. Пром. 488 сл.); это дало толчок к развитию орнитологии, первой по времени отрасли
зоологии.
3. Равным образом, искусство ведовства по внутренностям жертвенных животных внушило людям интерес к
анатомии, ставшей позднее основой медицины.
4.
Земледелие, превращая землю в частную собственность, неизбежно повело к возникновению землемерия, то есть
геометрии; правда, есть основание предполагать, что слабые самостоятельные попытки в этом направлении в нашу эпоху были отодвинуты на задний план более совершенной техникой египтян, основанной на опыте тысячелетий. Но это случилось лишь в следующую эпоху.
То же земледелие, поскольку оно сводилось к культуре определенных овощей, злаков и деревьев, должно было содействовать и интересу к ботанике. Но, за ограниченностью предметов, это содействие в области систематической ботаники не могло быть значительным.
5.
Мореходство обратило взоры человека к небу. Пути солнца определили четыре главных направления. Ясное ночное небо научило отличать всегда занимающую (почти) то же место и не погружающуюся в море Медведицу от прочих созвездий; место, которое она занимала на небе, так и было названо (Arktos — «медведица» — «север», отсюда «арктический»); им руководствовались пловцы, направляя бег судна в открытом море. А впрочем, так как не всегда можно было поручиться за ясность неба, а его облачность при отсутствии компаса ставила кормчего в безвыходное положение (ср.
Гор. Оды. II, 16 нач.), то всегда предпочитали
плыть вдоль берегов — так дело обстояло в течение всех периодов античности. Было далее замечено, что восходы и закаты созвездий — вечерние и утренние — приходятся в одно и то же время года; этим воспользовалось земледелие для определения времени полевых работ и создания примитивного календаря (записанного позднее Гесиодом, ниже, II, § 16). И еще была замечена правильность лунных движений и фазисов, что повело к празднованию новолуний и обычаю считать по ним дни. Из планет обратили на себя внимание звезда вечерняя (Hesperos) и утренняя (Phosphoros); открытие их тождества было сделано лишь позднее.
То же мореходство, при беспримерно выгодных условиях греческих морей (выше, с.20), вызвало интерес к далеким странам, которого другие культурные народы древности были совершенно лишены, и положило, таким образом, начало
географии. Правда, в нашу эпоху результаты географической науки, сосредоточенные в путешествиях аргонавтов и Одиссея, были довольно фантастичны; тем не менее, и они сослужили свою службу науке, подзадоривая пытливость позднейших людей и заставляя их отыскивать сказочные страны певцов.
6. Самостоятельной с самого начала наукой была
медицина, то есть искусство врачевания; она — единственная, имевшая своих специальных ученых, «асклепиадов» — врачей, которые по сословному делению были причислены к «ремесленникам» (выше, с.28), что, впрочем, не мешало ставить врача очень высоко (ср. знаменитый среди врачей стих
Ил. XI, 514). Главным условием было знание целебных трав, без которых не обходилась и хирургия; так-то развилась фармакопея, второй главный корень ботаники (выше, под пунктом 1). Поразителен при этом чисто секулярный характер этой древнейшей греческой медицины, то есть отсутствие всякого магического элемента: на столько ран, упоминаемых в «Илиаде», ни одного заговора, исключительно рациональные средства лечения (ср. особенно
Ил. IV, 213 сл.); даже сыновья Асклепия (Эскулапа), ахейского бога-врачевателя, лечат только «ласковым зелием». Заговор встречается только в одном позднем месте «Одиссеи» (XIX, 457) — результат сакрализации, наступившей также и в области медицины в следующий период.
У нас преддверием ко всякому образованию считается усвоение «грамоты», то есть
письма (греч. grammata). Существовали ли таковые в ахейский период? Вопрос этот был спорным, пока на него приходилось отвечать на основании гомеровских свидетельств (главным образом,
Ил. VI, 168); теперь он окончательно решен в положительную сторону: во «дворце Миноса» в Кноссе найдено множество исписанных глиняных табличек. Внимательное их изучение показало, что мы имеем здесь даже две системы письма, более древнюю и более новую; но прочесть их пока не удалось.
[7] Повторение некоторых знаков наводит на мысль, что это были цифры; а если так, то вероятно, что эта «библиотека царя Миноса» содержала опись его кладовых. Но и это пока лишь догадка.
II.
О чистой науке в нашу эпоху мы еще менее можем сказать — гомеровская поэзия ею мало интересуется. Но все же она ее предполагает. Сирены соблазняют Одиссея — в соответствии с его характером, как было замечено уже древними, — обещанием рассказать ему о деяниях прошлого и обо всем, что происходит на кормилице-земле (
Од. XII, 184 сл.).
Главное — это
представление о мироздании. Солнце для грека восходит с моря и, заходя, погружается в море. Итак (правда, логика тут не очень выдержана), земля — это плоскость, отовсюду окруженная рекой Океаном, волны которого в круговороте возвращаются на прежнее место, почему он и назван «вспять текущим». За Океаном тоже есть земли, но они уже не освещаются солнцем. Там, где это солнце восходит и погружается, Океан, естественно, окрашен в багровый цвет; это — (сказочное) Чермное море. Прибрежные жители вследствие непосредственной близости солнца и сами соответственной окраски; это — эфиопы (Aithi-opes, «огнеликие»). Особую проблему заключало в себе явление, что солнце, погружаясь на западе, восходит на востоке; его пока объясняли тем, что бог-Солнце (Гелий), днем разъезжающий на сверкающей колеснице по небесной «тверди», ночью, омывшись в Океане, по нему же на челноке совершает невидимый для нас переезд с запада на восток. Сама твердь покоится на столбах, не дающих ей упасть в море; эти столбы на западе охраняет исполин Атлант (Atlas: отсюда позднее названия горы Атласа, Атлантического океана и наших звездных и земных «атласов»). Усеяна эта твердь созвездиями, между которыми Гелий отыскивает свой путь; из них только Медведица лишена возможности омываться в купели Океана, что подало повод к красивому мифу о Каллисто
[8]; остальные ею пользуются... Тут пытливый слушатель мог спросить, как это звезды, при наличии разделяющих столбов, тем не менее, вращаются и погружаются в море, и почему они, закатываясь на западе, восходят с востока; но нельзя же было все знать. А впрочем, вероятно, именно такого рода вопросы повели к оставлению только что развитой наивной гипотезы и к замене ее более рациональной, что случилось в следующем периоде.
Глава III. Искусство
Как в науке стремление к истине, так и в искусстве стремление к красоте на ранних ступенях отступает перед стремлением к пользе: как там прикладная наука, так здесь вначале
прикладное искусство стоит на первом плане. Это замечается в обеих главных категориях искусства.
§ 8. Изобразительные искусства. А. Архитектура. Так как храмов в нашу эпоху не было (ниже, с.54), то архитектура была чисто светским искусством; ее высшей задачей была постройка и украшение
царских дворцов. Раскопки последних десятилетий обнаружили богатые развалины таковых (особенно в Трое, Микенах и Тиринфе, Кноссе и Фесте) и дали нам этим драгоценные иллюстрации к гомеровским описаниям (особенно дворца Одиссея в последних песнях посвященной ему поэмы).
Во
дворце, строительным материалом которого были отчасти каменные квадры, отчасти сушеные на солнце кирпичи, главным предметом архитектуры была, разумеется, хорома (megaron, выше, с.24). Свет проникал в нее отчасти через вход, отчасти через выемку над очагом. Вход был со двора, на который выходили обе продольные стены хоромы своими передними концами. Эти концы для прочности были облицованы деревянными досками, чем была создана важная для древнего зодчества архитектурная форма — так называемая
анта. Пространство между обеими антами было открытым, так что появилась необходимость в подпорках для потолка и крыши. Так возникла (древняя)
колонна. Замечательно, однако, что эта ахейская колонна была
вверху шире и
суживалась книзу; это следует, вероятно, объяснить тем, что первоначальным образцом дома была пещера, в которой отверстия суживались вверху, вследствие чего простенки между ними (образцы позднейших колонн) вверху расширялись. На колоннах с антами и стенах покоился потолок благодаря системе скрещивающихся под прямым углом брусьев. Непосредственно лежащий на антах и колоннах поперечный брус (позднее так называемый
архитрав) поддерживал концы продольных брусьев, торцовые грани которых были облицованы и украшены в виде
триглифов; прямоугольные пространства между ними (так называемые
метопы) можно было оставить незаполненными, в этом случае они образовывали маленькие окна; если же их заполняли, то служившие для этого доски напрашивались на украшение. Нам сохранились образцы декорации этих метоп: две лежащие друг против друга горизонтальные пальметки.
Как суживающаяся книзу колонна, так и горизонтальная пальметка противоречат
структивной идее той и другой, доказывая нам этим, что в ахейский период греческая архитектура еще не пришла к сознанию самой себя.
Вторым архитектурным типом ахейского периода была
гробница, то есть тоже жилище, только не живых, а мертвых. Так как уход за покойниками был религиозным долгом, а религия консервативна, то гробница ахейского периода сохранила древнейшую форму
круглого дома, который в зданиях живых уступил место прямоугольной хороме. Засыпанная землей, она извне представлялась курганом; вел к ней, разрезая насыпь, каменный коридор (dromos); отсюда был вход в главное помещение, покрытое куполом. Этот купол был, однако, не настоящим (как в римскую эпоху), а ложным, то есть он был образован не вертикально-клинообразцым сечением камней, а постепенным суживанием колец при горизонтальной их кладке. Лучший пример — так называемая «сокровищница Атрея» в Микенах.
Б. Скульптура делится на
статуарную и
рельефную; из них первая сама себе служит целью, вторая украшает данный ей фон. Из сказанного во вступительных словах ясно, почему в наш период только вторая достигла некоторого развития.
Статуарная скульптура не имела достойного объекта уже потому, что наш период наравне с храмами не признавал и кумиров богов; крупных статуй не изготовляли вовсе, а только мелкие, так называемые
статуэтки, — обязательно женские фигурки, по-видимому, культового характера. Их мы можем проследить за долгий период времени от грубых глиняных идолов без обозначения рта, в которых огромные брови, окружающие совиные глаза, смыкаются под острым углом, образуя нечто вроде носа, — до изящных, кокетливо одетых и приосанившихся куколок.
Интереснее для нас
рельефная скульптура и примыкающая к ней
глиптика (то есть искусство врезывать изображения в печати, так что рельеф получался на восковом оттиске) — отрасль средняя между ваянием и живописью. Она достигла уже значительного совершенства в изображении целых бытовых сцен — процессий, осады города, охоты и т.д., с преобладанием также и здесь светского элемента. Особенно хорошо и почти безукоризненно изображение животных; в попытках передать человеческое тело и его движения нас поражает, кроме неизбежного несовершенства в очертаниях самих фигур, еще преувеличенная страстность, по-видимому, ненамеренная. Очень замечателен факт, что уже в то время любили изображать рельефные фигуры не только на гладком, но и на ландшафтном и архитектурном фоне; позднее от этого отказались. Так-то у нас теперь есть наглядные иллюстрации к гомеровским описаниям, особенно к классическому описанию щита Ахилла (Ял. XVIII, 478 сл.).
В. Живопись в сохраненных нам памятниках распадается на два крупных отдела: вазопись и стенопись.
Вазопись, то есть роспись, большей частью одноцветная, глиняных сосудов, вместе с изучением их форм и техники изготовления составляет содержание так называемой
керамики (от keramos — «глина»), памятники которой начинаются с древнейших времен культуры человечества. Первоначально плетеная круглая корзина из древесных веток обмазывалась глиной для плотности и непромокаемости; таково было примитивное ведро. Затем научились делать такие сосуды и из одной глины, руками, причем часто память о древесных ветках сохранилась в намалеванном изображении таковой (так называемый «художественный пережиток»); так возникло искусство орнаментики ваз. Затем изобрели гончарный круг, с помощью которого сумели придать вазе математическую правильность в очертаниях; узоры разнообразятся, причем особенно часто встречается спиральный орнамент, затем стилизованные растительные и животные формы (особенно популярный в нашу эпоху полип) и, наконец, человек. Правда, изображение последнего еще очень несовершенно (ср. микенскую «вазу воинов»): наивные контуры с непомерно длинными ногами, угловатые движения. Но все же была достигнута ступень много выше той, с которой пришлось начать культуре следующей эпохи.
Еще выше стоит
стенопись, образцы которой сохранились во дворцах Тиринфа и Крита, — какового преимущества мы для обеих следующих эпох лишены. На свежей известковой стене пишутся всякого рода изображения разбавленными водой красками, которые по мере высыхания, благодаря процессу кристаллизации извести, прочно скрепляются со стеной; это и есть стенопись al fresco (то есть по «свежей» стене). Сюжет «фресок» нашей эпохи — родственный тем, которые нам представляет рельефная скульптура; но благодаря ли большей свободе самой техники, или тому, что художники, приглашаемые царями для росписи их дворцов, стояли выше, а только в стенописи мы имеем наивысшую ступень в изображении человеческого тела, которая была достигнута в нашу эпоху. Особенно хорошо передаются очертания мускулов рук и ног. Правда, с одной условностью мы имеем дело и здесь: при изображении лица в профиль глаз представлен en face. Но от нее живопись вообще освободилась только в аттический период.
§ 9. Мусические искусства. В начале развития стоит, разумеется, та
хорея, о которой речь была выше (с.8). Мы находим ее в двух разновидностях, которые вместе образуют оба корня античной и вообще европейской поэзии: песни
обрядовой и песни
рабочей.
А.
Обрядовая песнь, соединенная с пляской, — один из актов, посредством которых человек стремится склонить бога к себе; ее первоначальная цель поэтому —
польза. Расчет при этом двоякий, смотря по тому, на какой ступени религиозной культуры стоят сами исполнители. Первоначально, вероятно, имелось в виду связывающее магическое действие облеченного в напев, слово и жест ритма, которое каждый мог испытать на себе; хорея была
заклинанием, посредством которого человек мнил подчинить бога своей воле. На более высокой ступени это представление должно было показаться несовместимым с признанной превосходящей силой бога; возникло желание снискать его милость усердным служением — хорея стала
молитвой. Чтобы снискать милость бога, старались его обрадовать хореей: радующий же ее элемент состоял в ее красоте. По мере усиления этого элемента религиозная хорея стала искусством. Таковым она и была в гомеровскую эпоху: певец подчеркивает (
Ил. I, 473), что молящиеся поют «прекрасный» пеан
[9] богу, и что он «наслаждался, внимая ему».
При этом замечательно религиозное освящение также и пляски; благодаря ему также и эта третья часть хореи в течение всей жизни античного мира стояла на такой культурной высоте, которой она потом никогда более не достигла.
Б.
Рабочая песня имеет в своей основе — разумеется, несознаваемое — облегчение физического труда путем внесения в него ритма; таким образом, и здесь первоначальный расчет — польза. И она была хореей; пляску в ней заменяли ритмические движения, требуемые самой работой — размеренное хождение марширующих воинов (как раз такой марш под песню изображен на одном рельефном сосуде), ткущей женщины у кросен, сеятелей и т.д., размеренное движение рук у мукомолки, пряхи и т.д. Содержание же песни могло быть самое различное — фантазии была предоставлена полная свобода.
Таково зарождение поэзии. Две силы призвали ее к жизни — молитва и работа; девизом ее детства было ora et labora.
Совместное развитие всей хореи может быть нами установлено только для следующей эпохи; нашей принадлежит только развитие двух ее частей, поэзии с музыкой, поведшее к возникновению
былевой поэзии. Так, Ахилл во время своего бездействия услаждает душу, воспевая «славу мужей» под аккомпанемент непритязательного струнного инструмента, так называемой форминги (
Ил. IX, 186 сл.); особого сословия певцов тогда еще не было.

Глава IV. Религия
Древнейшей великой религией Греции была
религия Зевса; ее расцветом был наш период. Ей предшествовала хронологически неопределимая религия примитивизма, состоявшая из двух частей:
анимизма (то есть признания человеческой души) и
аниматизма (то есть признания одушевленности природы). Так как они и в историческую эпоху были очень живучи, то мы должны заняться также и ими.
§ 10. Анимизм. А. Его
догмат гласит в самой общей форме так: в теле каждого человека обитает душа как принцип его физической жизни и носительница его разума, чувства и воли. Представления о ней могут быть следующие.
1.
Душа-гений (genius), то есть как принцип жизни тела, не представляемый под особой формой и гибнущий вместе с ним. Она предполагается обитающей в особо важных для жизни тела частях: сердце, печени, диафрагме (phrenes), почках, крови. Это представление получило особое развитие у римлян (ниже, ч. IV, отд. Б, гл. IV).
2.
Душа дух (psyche, anima), покидающая тело в минуту смерти, как облачко, в последнем дыхании.
3.
Душа-идол (eidolon), обитающая в теле в форме куколки, видной через зрачок (который поэтому называется kore, pupilla), и в той же форме его покидающая (так объясняли помутнение зрачка в минуту смерти).
4.
Душа-тень, живущая самобытно после смерти тела как его бесплотное подобие и в этом виде навещающая живых (чем объясняются явления сна и галлюцинации).
Из этих четырех представлений последние три образуют особую группу, противоположную первому, поскольку здесь душа предполагается живущей также отдельно от тела и, следовательно, имеющей свою особую форму. Такое представление мы называем
трансцендентным; первое же —
имманентным. Греки рано (в противоположность римлянам) перешли от имманентного представления к трансцендентному; примиряя между собой формы 2-4, получившиеся каждая из особой серии наблюдений, они полагали, что душа в минуту смерти покидает тело в его последнем дыхании в виде куколки, а затем, доросши до его натуральной величины, живет в виде его призрака. Итак, они уже тогда допускали
переживание (но еще не бессмертие) души.
Б. Дальнейшие представления о
жизни отделенной от тела души сотканы из последовательных развитий двух противоположных друг другу и все-таки одинаково живучих основных представлений: 1) о ее
беспомощности и 2) о ее — преимущественно вредоносной —
силе.
1. Душа
беспомощна, так как она, сохраняя те потребности, носительницей которых она была при жизни тела, вместе с этим последним лишалась средств к их удовлетворению. Поэтому это их удовлетворение должно быть заботой живых и прежде всего сына. Отсюда крайне строгое отношение общественного мнения к этому долгу благочестия сыновей по отношению к умершим родителям; отсюда также, при отсутствии родных сыновей, обычай усыновления. Этот долг благочестия состоял из следующих отдельных обязанностей:
а)
Обязанности похорон, то есть предания земле несожженного трупа. В ней три части:
выставление (prothesis) тела на катафалке, чтобы с ним можно было проститься, его
вынос (ekphora) на место погребения и, наконец, само
погребение (taphe). Все три акта сопровождались приношением даров (волос, тканей и т.д.) и особенно — заупокойным
плачем, который в нашу эпоху был очень исступленным (удары в грудь, царапание лица до крови и т.д.), но рассматривался, главным образом, как дань покойнику и мог поэтому совершаться равнодушно (плакальщицы) и даже враждебно (подневольные) настроенными людьми.
б)
Обязанности поминок. Душа предполагалась живущей там, где покоилось тело, вследствие чего гробнице и давали вид человеческого жилища (выше, с.43). Туда ей приносили предметы, которые она любила при жизни: мужчинам — оружие, женщинам — украшения (счастливое для нас обстоятельство); здесь же ее в поминальные дни кормили и поили. Дальнейшим развитием этого ухода был обычай поминальных игр, то есть состязаний — высшего удовольствия для живых и, значит, тоже для умерших. Это — обрядность нормальная, относящаяся к умершим естественной смертью. Если же покойник пал жертвой убийства, то первым долгом наследника был долг кровавой мести, смягченной, впрочем, в гомеровскую эпоху разрешением принимать виру (выше, с.31).
2. Но душа, в то же время, обладает таинственной силой, отчасти
благодетельной, отчасти, и главным образом,
вредоносной.
а) Ее
благодетельная сила состоит, во-первых, в том, что она, как приобщенная к подземным божествам, вместе с ними «
воссылает блага» из недр земли (урожай, клады и т.д.), и, во-вторых, в том, что она, как существо
вещее, может уделить своего знания живущим. Она делает это часто добровольно, навещая их ночью во сне сама или же посылая им вообще сновидения, так как и эти последние (oneiroi) представляются живущими под землей в общении с душами умерших. Отсюда очень распространенный вид ведовства —
толкование снов (онирокритика). Считалось, однако, возможным посредством магических заклятий
вызывать душу умершего из могилы для предложения ей вопросов, разрешение которых было доступно ее вещей силе (некромантия); сравнить внушительную сцену у Эсхила в «Персах» 623 сл. (вызов души царя Дария).
б) Ее
вредоносная сила сказывается в ее способности вызывать у людей путем незримого прикосновения загадочные болезни, помешательство и смерть. Особенно действенной предполагалась эта сила у безвременно и притом насильственно погибших (aoroi). Такая душа была не только сильной, но и злобной и мстительной; ее называли
Эринией (Erinys). Она и сама была страшна убийце и, сверх того, следила за тем, чтобы ближайший родственник ревностно исполнил лежащий на нем долг мести. В дальнейшем развитии Эриния обособилась от души убитого, оставаясь, однако, «его» Эринией, мстящей за его обиду; а затем и эта связь утерялась, и Эриния (или Эринии) стала просто грозным божеством, карающим людей за преступления против крови, и под конец — блюстительницей равновесия в нравственном и физическом мире (
Ил. XIX, 418).
§ 11. Аниматизм. А. Его
догмат гласит так: явления окружающей нас природы объясняются наличием в ней таких же душ, как и наша. Все
одушевлено: и животные, и деревья, и зреющая нива, и горный склон, и родники, реки, море и грозовые тучи — вплоть до камня, убившего человека, или секиры, послужившей орудием его убийства; есть души животные, растительные, стихийные (и т.п.) и предметные.
Эти души на начальной ступени предполагаются обитающими в одушевленной ими части природы и, стало быть, при ее уничтожении (поскольку таковое возможно) уничтожаемыми; это, согласно вышесказанному (выше, с.45),
имманентные природные души. На этой ступени они, не имея каждая своей особой формы, подлежат и дифференциации, и интеграции: я имею дело с душой отдельного дерева (дифференциация), если я благодарен именно ему (маслине, например) за его богатый урожай; но я могу одушевить и целую рощу, если я, ободренный ее прохладой, проникнусь к ней дружелюбным чувством, стремящимся вылиться в религиозную форму. Идя далее в том же направлении, то есть в направлении интеграции, человек одушевлял всю совокупность явлений земной природы и получал единую душу божественной
Земли (Gaia); поступая так же с небесными явлениями света, грозы и дождя, он получал единую душу неба —
Зевса (Zeus).
Дальше этого дуализма народная религия не пошла; когда же он был достигнут, получилась первая греческая религия высшего порядка —
религия Зевса (ниже, § 12).
Дальнейшее развитие чистого аниматизма состояло в том, что имманентное представление перешло в трансцендентное, то есть природные души стали представляться живущими и вне одушевляемой ими среды и, стало быть, не связанными с ней и обладающими каждая своей формой. Что же это была за форма? Мы различаем тут три ступени:
1.
Териоморфических (theriomorphos), то есть звереподобных божеств — поскольку известные животные служили самыми наглядными олицетворениями тех качеств, которые казались воплощенными в данных частях природы. Таковыми были: медведь (дикий лес: Артемида), лань (ласковая роща: тоже Артемида), конь (волнующееся море: Посейдон), кобыла (волнующаяся нива: Деметра), бык (стремительный поток) и т.д. На этой ступени и Земля представлялась — на то она и «кормилица» — как корова и, следовательно, и оплодотворяющий ее своим дождем и светом Зевс, как бык. Следует заметить, что эта ступень была повсюду в Греции преодолена; мы знаем ее только по пережиткам.
2.
Миксантпропических (mixanthropos), то есть смешанных божеств — переходная ступень. Некоторые божества низшего порядка на ней застыли; таковы Пан (полукозел: нагорная роща), сатиры (то же), кентавры (полукони: горные потоки), тритоны (полурыбы: морские волны). Характерно для Греции то, что на этой ступени голова и грудь представлялись человеческими и только нижняя часть тела — звериной (в Египте наоборот).
3.
Антропоморфических (anthropomorphos), то есть человекоподобных божеств. На этой ступени мы находим всех высших богов уже в гомеровскую эпоху; только некоторые пережиточные эпитеты («совоокая» Афина, «волоокая» Гера) напоминают о забытых эпохах териоморфизма и миксантропизма. С особой охотой грек населил всю ласковую природу чарующими образами своих нимф; дерево получило свою дриаду, родник — свою наяду, нагорная поляна — свою ореаду — все это были благодетельные и прекрасные существа, и главным образом благодаря им греческая религия стала настоящим откровением красоты.
Б.
Отношение человека к природным душам определяется в большинстве случаев той
пользой, которую он желает получить от них: чтобы нивы и горные пастбища были тучны и обильны, родники не иссякали, реки не затопляли полей, грозовая туча не убивала людей и т.д. Для обеспечения себе этой пользы человек прибегал на низменной ступени к
заклинанию, на высшей — к
молитве, приношениям и
обетам. Заклинания относятся к широкой области магии — древнейшей формы религиозной обрядности. Магию мы делим на две области — магию
уподобительную и магию
симпатическую. Приемы уподобительной магии в религии аниматизма сводятся к тому, чтобы принять самому вид соответствующего божества и в этом виде воздействовать на управляемую им часть природы; так, наряжались козлами или лошадьми для того, чтобы внушить плодородие пастбищам и нивам и т.д. Отсюда распространенные у всех народов обходы ряженых — обычай, очень богатый будущностью именно в Греции. Практики
симпатической магии имеют в своей основе убеждение, что целое испытывает то, что творится
над его частью (что, например, сжигая отрезанную у человека прядь волос, я причиняю мучения ему самому); к нашей области она прямого отношения не имеет.
Молитва состоит обыкновенно из трех частей: 1) призыва божества, обставленного по возможности пышно с нагромождением имен и эпитетов (так называемая theologia), так как полагали, что божество это любит; 2) выражения своего пожелания (euche) и 3) санкции, то есть указания того, ради чего божество должно исполнить молитву. Именно в этой санкции сказывается ступень религиозной культуры. На наивной ступени человек санкционирует свою молитву ссылкой на свои прежние заслуги перед божеством или обещанием таковых в будущем (в этом случае молитва сводится к обету); на более высокой — наоборот, ссылкой на раньше оказанную ему божеством милость или на его милость вообще. Образцы молитв: с наивной санкцией — Хриса (
Ил. I, 37 сл.), с более возвышенной — Диомеда (
Ил. V, 115 сл.).
Приношения могут быть различных родов, так как обо всем, что тешит человека, полагали, что оно тешит и божество; самым обычным было возлияние (sponde) масла, вина или меда на кору дерева, в углубление скалы, в родник или реку. Затруднение представляли неприступные небесные божества; оно было разрешено с изобретением
огненной жертвы, при которой дым уносил в небеса и чад тука жертвенного животного, и пар возлияний. Отсюда в дальнейшем строгое деление: небесным (олимпийским) божествам — огненные жертвы, земным (хтоническим) — приношения без огня. При огненной жертве, впрочем, вошло в обычай сжигать для божества только бедренные части с туком (meria), прочие же употреблять в пищу для людей, которые делались, таким образом, сотрапезниками божества; этой обычай имел важные культурно-исторические последствия.
Помимо сказанного, природные души представлялись также и
вещими; природный вещий дар человека поэтому объяснялся легче всего наитием природной души — особенно нимфы: про него говорили, что он «охвачен нимфой» (nympho-leptos). Это — «неискусственная» (atechnos) форма гадания, в противоположность искусственной (entechnos), о которой отчасти была (выше, с. 39), отчасти еще будет речь. А так как и поэтическое вдохновение представлялось чудесной вещей силой, то и его приписывали наитию горных нимф, а именно — олимпийских или (позднее) геликонских муз.
§ 12. Религия Зевса. А. Ее возникновение из религии аниматизма описано выше (§ 11 А.); ее догмат гласит: «Земля предвечна и вечна; Зевс, возникший во времени, со временем погибнет». В его основе лежит характерное для грека представление о
матери-Земле, а также развитие наблюдений возникновения света из тьмы и теплого, жизнетворного лета из недвижной зимы. Сам же догмат облекся в форму мифа о том, как Зевс, рожденный Землей (Реей), сразил ее и ее силы (титанов) и этим воздвиг царство свое и своих богов и как ему за это грозит в будущем гибель от нее же и ее сил (гигантов). В дальнейших мифах нашли себе выражение попытки — конечно, тщетные — Зевса избегнуть грозящей ему гибели созданием себе сына или потомка от смертной женщины (Геракла, Ахилла и других; имена у различных племен различные).
Но если Зевс, как происшедший от предвечной Земли (Реи), представляется ее сыном, то он по другой концепции, как оплодотворяющее начало в противоположность к оплодотворяемой земле, является ее супругом. Имя Земли, как супруги Зевса, было вначале Диона, позднее Гера. Итак, выходило, что Зевсу грозит гибель от его супруги (отсюда, в очеловеченной обстановке, миф об Агамемноне и Клитемнестре). В связи с этим последовало дальнейшее развитие олимпийской семьи; в дочерние отношения к Зевсу были поставлены Афина (первоначально аниматистическое божество грозовой тучи), Афродита, Артемида, в братские — бог морей Посейдон.
С возведением религии в нравственную силу было естественно сделать небесную семью образцом земной; но это удалось лишь отчасти вследствие неустранимых пережитков из эпохи физической религии. Так и возникли те три крупных нравственных изъяна религии Зевса, на которые не переставали ссылаться ее противники вплоть до христианских времен:
1. Над Зевсом тяготеет рок (Мойра, Moira), тождественный с вещей силой Земли: он и не всемогущий, и не всеведущий. 2. Он сверг титанов и среди них того, которого ему, как имеющему мать, пришлось дать в отцы, — Кроноса; этим он нарушил священнейшую нравственную заповедь — заповедь о почтении к отцу. Итак, он не всеблагой. 3. Прочнее всего держалось представление о Зевсе и Гере как об образцовой супружеской чете; их «священный брак» (hieros gamos) был первообразом человеческого. Но пережиточное мнение о грозящей Зевсу от Геры (Земли) гибели создало в мифе атмосферу ненависти между ней и им; эту ненависть объясняли ревностью жены-единобрачницы к мужу, создавшему себе сыновей от смертных жен (выше, с.53; позднее к этим незаконным бракам Зевса прибавились другие, о которых будет сказано ниже, ч. II, гл. IV). Эти изъяны не ощущались как таковые, пока религия Зевса была чисто физической; но они стали очень ощутительны, когда она стала нравственной силой. О попытках их устранить будет сказано ниже (ч. III, гл. IV).
Но зато, с другой стороны, погружаясь в созерцание своего небесного бога, греки раньше всех народов земли возвысились до понимания универсального (а не только национального и племенного) божества. Как небо простирает свой свод над всеми людьми, так и отец небесный Зевс с одинаковым участием взирает на все народы, везде милуя благочестивых и карая злых. Ему как своему высшему богу молились ахейцы под Троей; и все же, когда Ахилл гнал Гектора вокруг стен его родного города, Зевс с состраданием смотрел на троянского витязя (
Ил. XXII, 168):
Горе! Любезного мужа, гонимого около града,
Видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце!
Это — чрезвычайно важное откровение; этим своим религиозно-нравственным подвигом Греция доказала, что она призвана стать проповедницей
гуманности для всех народов.
Само собой разумеется, что такой бог мог быть представляем только в человеческом образе; все же, будучи создан религиозным чувством людей еще в эпоху имманентности, Зевс прошел последовательно через все стадии трансцендентного понимания, и териоморфический (отсюда его символ на Крите — бычья голова или пара бычих рогов, а также и критский миф о похищении им, в образе быка, критской родоначальницы Европы) и миксантропический (отсюда образ Минотавра). В человеческом же образе он представлялся восседающим на Олимпе (выше, с.20), как упирающейся в небо горе, со своим любимым атрибутом, Перуном, в деснице. Последний в раннюю эпоху изображался двулезвийным топором (labrys), позднее — как фантастическое метательное орудие о трех копьецах с обеих сторон.
Б.
Культ религии Зевса делил с культом аниматизма ту особенность, что и он — в резком отличии от религии следующих эпох — не признает ни храмов, ни кумиров, ни профессиональных жрецов. Жрецом был отец семейства за свой дом и царь за свою общину; жертва по изложенным выше (с.52) причинам полагалась огненная, и приносилась она под открытым небом: за дом — во дворе (так называемому «Зевсу ограды», Zeus herkeios, алтарь которому, как символ единства и святости дома, не отсутствовал нигде), а за общину — на высотах, где небо казалось ближе. Жертвоприношению предшествовала так называемая chernips, то есть окропление хозяином семьи, челяди и гостей водой, освященной погружением жертвенной головни; исключение человека из chernips было равносильно его отлучению от общины.
Но если жрец отсутствовал, то зато имелись
гадатели (manteis); их обязанностью было узнавать волю Зевса и по полету его вестниц-птиц (особенно орлов, полет которых самый высокий), и по огненным знакам (empyra), то есть по горению жертвенного огня, и по рисунку печени жертвенного животного. Это гадание принадлежало к так называемым «искусственным» (выше, с.53); изучение его метода было особой профессией, выделявшей своих адептов в особое сословие, подобно врачам и (позднее) певцам, принадлежавшее к ремесленникам (демиургам). Мифология сохранила ряд имен особенно славных гадателей — Тиресия, Мелампа, Амфиарая, Калханта и других.
Бескумирность религии Зевса не исключала, однако, священных изображений вообще; все же характерно, что обнаруженные раскопками изображения (статуэтки и рельефы) представляют исключительно женское божество, то есть Землю, между тем как Зевсу поклонялись только в его символах, коими были бычья голова (или пара рогов) и labrys (выше, с.54).
Примечание. Описанная картина быта ахейской Греции получилась из соединения древнейших известий Гомера с результатами раскопок так называемой эгейской культуры: в ее основе лежит убеждение, что древнейший, описанный Гомером, быт современен последней эпохе эгейской культуры и предшествует тому переселению племен, которое открывает собой эллинский период. Сами гомеровские поэмы (в их историческом виде) возникли уже после этого переселения.
Но даже и при этом предположении придется допустить, что описанному нами «ахейскому» периоду греческой культуры предшествовала очень долгая эпоха, известная нам только по немым вещественным памятникам; история материальной культуры начинается для нас много раньше истории культуры духовной.
Эту историю материальной культуры принято делить на следующие периоды:
I. Каменный век, еще незнакомый с обработкой металлов. Он делится на два периода:
1. Древний каменный век (палеолит), период пещерных жителей, употреблявших оружие и утварь из нетесаного камня, а также глиняную посуду без гончарного круга. В Греции следов не найдено.
2. Новый каменный век (неолит), от древнейших времен до III тысячелетия до Р.Х. Дома сначала круглые или овальные из тростника, смазанного глиной, затем и прямоугольные; оружие и утварь из тесаного камня, а также и глиняная, сначала без гончарного круга, а затем и с помощью такового (древнейшие раскопки на Крите, в Беотии, Фессалии).
II. На рубеже между этим веком и следующим, бронзовым, стоит переходный, характеризуемый спорадической наличностью бронзовых изделий; антропологи нарекли его поэтому (безграмотным) термином «энеолит» (следовало бы, по крайней мере, «аэнеолит», от лат. aeneus или aheneus и греч. lithos).
III. Бронзовый век, или эгейская культура (III и II тысячелетия до Р.Х.), характеризуемый встречаемостью бронзы, но не железа. Делится на эпохи: культуры островной (раскопки на Кикладах, но также на Крите и в древней Трое), минойской (главным образом на Крите) и микенской (Крит, Тиринф, Микены и другие). Последний приблизительно совпадает с описанным нами ахейским периодом, который мы ограничили 1000 годом до Р.Х.).
Часть вторая
Эллинский период
(1000-500 годы до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история Греции эллинского периода
§ 1. Переселение племен. На рубеже II и I тысячелетий до Р.Х. Греция стала театром политических событий, которые значительно изменили ее этнографический облик и имели своим последствием крушение ахейских держав. Эти события в своей совокупности носят название
переселения (северных)
племен или, а potiori,
переселения дорийцев.
Из не определимых точнее северных областей в силу равным образом неопределимых причин
[10] двинулось могучее племя дорийцев в составе своих трех колен (фил) — гиллейцев, диманцев и памфилийцев — сначала в северную Грецию, а затем через Фермопилы и в среднюю. Маленькая часть осталась у Фермопил, образуя известное в историческое время государство Дориду; остальные проследовали в центральный лабиринт среднегреческих гор, наложили отчасти свой племенной отпечаток на обитателей Фокиды и Локриды (причем последнюю они разбили пополам, оттесняя одну половину к Коринфскому, другую — к Мелийскому заливу) и, наконец, перешли в Пелопоннес. Здесь они заняли Арголиду, Лаконику и Мессению, разрушая старинные микенскую и амиклейскую державы; затем они проследовали на «стоградый» Крит, где на развалинах старых «минойских» государств основали ряд полудиких общин, далее — на остальные острова южного «моста» (главным образом Кос и Родос) и, наконец, в юго-западный угол Малой Азии, где ими были основаны Книдос и Галикарнасе. Но эти последние основания, расширяя исконные пределы греческой земли, относятся уже к «колониальному движению» (ниже, § 2).
Из других переселений, одновременных дорическому или последовавших за ним, нам обрисовываются более или менее ясно переселения позднейших этолийцев, беотийцев и фессалийцев. Первые, родственное дорийцам племя, двинулись параллельно им по западной линии и заняли Этолию, название которой они унаследовали, причем разрушили царства плевронское и калидонское и надолго погрузили в варварство долину Ахелея; оттуда они через Коринфский залив перешли в Пелопоннес и, заняв его западную область, долины Пенея (элидского) и Алфея, основали несколько государств, объединяемых под именем Элиды. Беотийцы заняли
плодородную страну, называемую отныне их именем, разрушая и минийский Орхомен, и Фиванское царство кадмейцев, уже обессилевшее от тяжких войн с пелопоннесцами («похода Семи» и «похода Эпигонов»). Им удалось объединить страну в прочный «беотийский союз» под главенством восстановленных Фив. Наконец, фессалийцы покорили роскошную долину северного Пенея, которой они дали свое название.
Разнообразные отношения переселенцев к побежденным исконным племенам, главным образом ахейским и ионийским, которые были отчасти оттеснены, отчасти приняты в сообщество, отчасти покорены, повели к ряду переворотов и внутреннего и внешнего характера. К последним относится особенно «
колонизационное движение», расширившее область эллинизма далеко за пределы исконной греческой страны и разбросавшее семена эллинской культуры по всему Средиземноморью от отрогов Кавказа до южного побережья Испании.
§ 2. Колонизационное движение в свою раннюю эпоху состоит из трех последовательных актов: 1) движения последних времен ахейского периода, обусловленного избытком населения;
2) движения оттесненных дорическим переселением племен и
3) движения в колониальные области самих победителей-дорийцев. Из этих трех актов первый был увековечен легендой под именем
троянского похода; но прочные и уловимые для нас этнографические результаты дали только второй и третий акты, причем второй сводится к эолийской и ионийской, третий — к дорической колонизации.
1. Из обоих главных оттесненных племен только ионийскому удалось сохранить свою племенную чистоту; ахейское, поскольку оно не осталось на местах, смешалось с другими, последствием чего было образование «эолийского», то есть «пестрого» племени. Ему принадлежат колонии в северо-западном углу Малой Азии (главным образом Смирна) и в особенности на противолежащем острове Лесбосе. Здесь они основали пять городов, главным из которых была «великая» Митилена (Mitylene), средоточие эолийской лирики в VI веке до Р.Х. (ниже, § 16).
2. Гораздо богаче была колонизационная деятельность
ионийского племени в лице его обоих главных городов, Афин и эвбейской Халкиды. Колониями Афин считали себя прежде всего ионийские города среднего малоазиатского побережья, из коих главными были Милет, Эфес, Фокея и Теос; то же придется допустить и об островных колониях среднего «моста» (выше, с.21), то есть Киклад с прибавлением к ним Самоса и Хиоса. Из них особенно расцвел
Милет у устья Меандра; он стал, в свою очередь, центром колонизации, охватившей, между прочим, северное Черноморье (ниже, § 3). Фокея лишь позднее, уступая напору соседей-варваров, отослала на чужбину значительную часть своих граждан, которые после многих приключений основали на дальнем западе
Массалию (у впадения Роны в Львиный залив; лат. Массилия, ныне Марсель), ставшую очень влиятельным центром эллинизма в западном Средиземноморье. При таких же обстоятельствах и Теос, разгромленный персами, основал на фракийском побережье
Абдеру.
Не менее деятельной оказалась и Халкида: она не только заселила тридцатью двумя городами трехпалый македонский полуостров, получивший от нее название Халкидики, но и перенесла свою колонизационную работу на запад, основав ряд ионийских городов в южной Италии и Сицилии, между прочим,
Кумы и
Неаполь в Кампании, этот важнейший мост между Грецией и Римом, затем Регий и Занклу (позднее Мессана, Мессина) по обе стороны Мессинского пролива и Катану у подножия Этны.
3.
Дорический колонизационный поток тоже направился отчасти в Малую Азию, но по южному «мосту» и к ее юго-западному углу; там были доризированы Крит, Кос, Родос и основаны города Книдос и Галикарнасе на малоазиатском берегу. В дальнейшем особенно выделились как колонизационные центры Коринф и Мегара, притом, соответственно их положению на двух морях, и на востоке и на западе. Правда, на востоке роль Коринфа была невелика и уступала роли
Мегары, основавшей у входа в Черное море, друг против друга, две колонии огромной важности —
Византию и
Халкедон. Зато запад был для
Коринфа богатым полем, на котором с ним трудно было соперничать; им были заселены острова Ионийского моря (особенно
Коркира) и основаны в Сицилии
Сиракузы, которые вместе с тоже дорическим
Акрагантом (Akragas, у римлян Agrigentum) стали главными городами этого важного острова.
Спартой была основана только одна колония, зато очень значительная —
Тарент в южной Италии. Дорическому же племени принадлежит и важнейшая греческая колония в северной Африке —
Кирена на Большом Сирте, ставшая, в свою очередь, метрополией так называемого киренского «Пятиградия» (Pentapolis) там же; к нему примыкал на узкой береговой полосе, отделяющей оба Сирта, последний греческий оплот против Карфагена, так называемое «Трехградие», сохранившее поныне свое греческое название — Триполи(с).
Все перечисленное — лишь малая, хотя и главная часть греческих колоний на берегах Средиземного моря; вместе взятые, они образовали, по выражению Цицерона, «эллинскую кайму, пришитую к варварским материкам». В отличие от финикийских, они стремились быть не только торговыми, но и земледельческими центрами; где только можно было, они расширяли свои владения в глубь материка, образуя настоящие области с группами подвластных городов — таковы колонии Черноморья, Халкидика, Сиракузы, Кирена, Массалия и почти все острова.
Само собой понятно, что такое систематическое заселение Средиземноморья было бы невозможно без общего и обязательного руководства; а при политической разобщенности греческих государств таким объединяющим началом могла быть только
духовная власть. Таковой был
дельфийский оракул Аполлона. Было принято перед основанием каждой новой колонии испрашивать благословения Аполлона Дельфийского; понятно, что новооснованная колония и в дальнейшем сохраняла связь с ним. Обладая; таким образом, многочисленными подворьями по всему Средиземноморью, дельфийский храм превратился в своего рода «переселенческое управление»; ему нетрудно было в каждом данном случае направлять колонизационный поток так, как этого требовали интересы и самих колонистов, и общеэллинского дела. Эта роль Аполлона как руководителя колонизационного движения была одним из самых могущественных факторов
сакрализации политики в наш эллинский период.
§ 3. Эллинство в Северном Причерноморье. Особый интерес представляют для нас колонии, основанные греками на юге нынешней России и прилежащей полосе ныне славянского Черноморья. Эти места населяли в нашу эпоху три главные народности. Во-первых,
геты, от Балкан до устья Дуная, храбрый кочевой народ фракийского происхождения, мало доступный цивилизации. Во-вторых, и главным образом,
скифы, от Дуная до Дона, иранского происхождения и родственные персам; они, наоборот, были восприимчивы к благам культуры, как доказала история их сношений с греческими колониями. От них, впрочем, следует отличать
тавров, давших свое название таврическому Херсонесу: они приобрели дурную славу среди эллинов своим негостеприимством и варварством. Наконец, в-третьих, от Дона до Волги — дикий народ
савроматов (позднее сарматов).
Казалось бы, первыми поселенцами этого края должны были стать
эолийцы, занявшие крайний северо-восток архипелага; на деле же они не двинулись далее Геллеспонта, на котором основали, с европейской стороны, город Сест. Черное море пугало их своими бурями и дикими нравами прибережных жителей. Изменение к лучшему наступило лишь тогда, когда колонизационная сила эолийцев пошла на убыль и их сменили
ионийцы и среди них особенно милесийцы. Идя по стопам своих предшественников, они прежде всего основали против их колонии Сеста на Геллеспонте с азиатской стороны
Абидос (Abidos, в 670 году до Р.Х.; соперничество обеих колоний подало позднее повод к поэтической легенде о Геро и Леандре) и приблизительно в то же время
Кизик (Kyzikos) на Пропонтиде, а затем дерзнули миновать «синий» утес Симплегад, замыкающий Босфор с черноморской стороны, и заселить своими колониями все Черноморье. В стране гетов основали они город
Истр, названный так по имени великой реки (ныне Дуная), у устья которой он стоял; за ним последовали там же города
Томы, (ныне Констанца) и
Одесс (ныне Варна). Далее, у впадения Днестра (древнее Tyras) в море, был заложен город, тоже названный по имени реки — Тирас. Но самой важной колонией милетцев стал город, пророчески названный
Ольвией (Olbia, «блаженная»), основанный в 644 году до Р.Х. в исключительно благоприятной местности — там, где лиман Буга (древнее Hypanis) сливается с лиманом Днепра (древнее Борисфен, Borysthenes). Западная Таврида пока была обойдена, вероятно, вследствие дикости своих жителей; зато в восточной, населенной скифами, мы находим ряд милетских городов —
Феодосию, Нимфей и в особенности
Пантикапей (ныне Керчь), будущую столицу Боспорского царства. Против него, на другом берегу керченского пролива («Босфора Киммерийского»), ионийцы из Теоса основали
Фанагорию; наконец, на Азовском (у древних Меотийском) море, там, где в него вливается Дон (Tanais), был основан город, тоже получивший свое название от реки —
Танаис.
Такова была колонизаторская деятельность ионийцев.
Дорийцы пока держались в стороне. Правда, мы видели, что предприимчивая Мегара обеспечила себе обладание Босфором, основав (675 год до Р.Х.)
Халкедон на его азиатском и (658 год до Р.Х.)
Византию на его европейском берегу, — и тщетно спрашиваем себя, как могли дальновидные милетцы оставить эти два ключа всего Понта в руках если не врагов, то соперников. Но отсюда деятельность колонизаторов направилась не на европейский, а на азиатский берег Черного моря: около 550 года до Р.Х. там была основана
Гераклея Понтийская, самый важный город этого побережья. Отсюда была выведена одна из главных южно-русских колоний — богатый своей будущностью Херсонес Таврический; но это случилось, по-видимому, лишь в следующую эпоху.
Так-то и наше Черноморье получило в VII веке до Р.Х. свою «эллинскую кайму»; благодаря ей семена гуманности и культуры проникли к его обитателям в такое раннее время, когда родные земли нынешних немцев, французов, англичан и испанцев были еще погружены в самое беспросветное варварство. Конечно, было бы самообольщением думать, что милетские гости ради этого пожаловали к нам; их соблазняли богатства страны, прежде всего рыбные, вследствие чего вяленая морская рыба (тунец и пеламида) стала главным предметом вывоза из новых колоний в собственно Грецию. Затем и соль легко добывалась в лиманах больших рек. Но главной приманкой были они сами, эти реки, как готовые пути сообщения с внутренними частями неведомой страны. Скифы, как уже сказано, были народом податливым, и завести с ними сношения было легко. И вот вместе с предметами торговли и вести о дальнем севере начинают проникать в Грецию — конечно, окутанные дымкой сказки. Прежде всего — о самих скифах с их кибитками, заменявшими им дома, и с их кобылицами, молоко которых они пьют; о северных белых ночах; о дивных золотых россыпях в стране одноглазых аримаспов, похищающих этот драгоценный металл у стерегущих его грифонов; о стране, где воздух до того наполнен «пухом», что из-за него ничего не видно; впрочем, сам Геродот, сообщающий нам это диво, догадывается, что под пухом следует разуметь снег.
И вот начинается, благодаря милетским колонистам, цивилизация, то есть эллинизация скифского Черноморья. Ее живым символом стала легендарная личность царственного скифа
Анахарсиса, современника Солона, отправившегося в Грецию для изучения на месте греческой мудрости и благозакония и поплатившегося жизнью за свою слишком крутую попытку ввести у своих земляков греческую религию; ее же результатом был постепенный переход соседних грекам скифов от кочевого образа жизни к оседлому и к
хлебопашеству.
Особенно благотворно было в этом отношении воздействие ольвиополитов. Когда нам говорят, что ближе всех к ним примыкают скифы-полуэллины, за ними идут скифы-земледельцы, и сеющие хлеб, и питающиеся им, еще севернее — скифы-пахари, тоже сеющие хлеб, но только для продажи, а еще севернее — скифы-«людоеды», то мы в этой постепенности легко узнаем ослабевающую по мере удаления от центра силу культурных лучей, исходящих от Ольвии. Земля не осталась в долгу: начиная уже с VI века до Р.Х.,
хлеб делается главным предметом вывоза из северного Черноморья, а оно само — главной житницей каменистой Греции.
Так-то на равнинах нашего Приднепровья заколыхались первые зеленые нивы — и притом в такое время, когда не только прочий скифский север, но и германцы, британцы, галлы питались желудями и мясной пищей. Благодарная Греция отразила этот подвиг в своем чудном мифе о богине земледелия Деметре и ее молодом посланце Триптолеме (см. ниже, § 8): вручив ему колосья пшеницы, богиня на крылатой колеснице отправила его на северное Черноморье и через него благословила эту дотоле дикую землю, чтобы она стала благодатной и хлебородной на все времена.
§ 4. Внешняя история эллинов в течение эллинского периода была результатом их колонизационного движения. На Грецию, страну сравнительно бедную и к тому же почти неприступную, никто не посягал, но основанным на побережьях колониям приходилось нередко вести длительные войны с обитателями материка. О них, однако, как о явлении хроническом, история умалчивает; только те столкновения ею отмечены, в которых участвовали целые колониальные союзы с одной стороны, и могущественные и культурные «варварские» народы — с другой.
Так эллины малоазиатского побережья могли беспрепятственно развиваться до тех пор, пока — вероятно, под их же влиянием — у их соседей
лидийцев не проснулся политический и воинственный дух; когда же это случилось, объединенному лидийскому народу, под главенством его способных царей (особенно Алиатта, около 600 года до Р.Х.), нетрудно было восторжествовать над греческими колониями. Все же лидийское правление было не особенно тяжелым: если оно и имело последствием некоторое политическое подчинение, формы которого нам не известны, то зато в культурном отношении победителями были эллины, и их язык, искусство и даже религия завоевывали Лидию, превращая ее столицу Сарды почти что в греческий город. Вот почему греческая традиция не относится враждебно к Лидии, а ее последний царь Крез, сын Алиатта, ревностный поклонник дельфийского Аполлона, стал даже бессмертной фигурой греческой легенды.
Но положение дел изменилось к худшему, когда Крез в 546 году до Р.Х. был разбит основателем персидского царства
Киром и греческие города должны были признать суровое владычество персов. Персидская держава унаследовала от своей предшественницы, ассиро-вавилонской, ее вселенские притязания: эллинские города были обложены тяжелой данью, их граждане должны были участвовать в совершенно чуждых для них далеких походах — сын Кира, Камбис, повел их против Египта, преемник последнего, Дарий, — против скифов. А для осуществления обеих задач — и финансовой, и военной — персидский царь назначал в греческие города своих наместников, так называемых
тиранов, которые во все времена были ненавистны свободолюбивым грекам. Все же в течение почти полувека пришлось терпеть непреоборимую власть персидского царя; но когда скифский поход Дария кончился неудачей, у малоазиатских греков мелькнула надежда стряхнуть невыносимое иго: вспыхнуло
ионийское восстание (500 год до Р.Х.), послужившее сигналом к великой греко-персидской войне (ниже, ч. III, § 1).
На западе эллинская колонизация встретила отпор со стороны двух могущественных государств, карфагенского и этрусского.
Карфаген, колония финикиян, владел обширной областью в Африке на Малом Сирте и, в свою очередь, основал ряд колоний в западной Сицилии, особенно Панорм (ныне Палермо) и Лилибей (ныне Марсала). Этрурия — по-гречески Тиррения — была самой сильной державой в Италии: она распространила свою власть и к северу — на долину По, и к югу — на долину Тибра (сам Рим подпал ей в VI веке до Р.Х. при Тарквиниях) и дала свое название всему западноиталийскому, «Тирренскому», морю. Смелые колонизационные предприятия фокейцев, основавших в 565 году до Р.Х. колонию Алалию на Корсике, заставили оба государства соединить свои морские силы против общего врага. В
битве при Алалии (545 год до Р.Х.) фокейцы были разбиты, Корсика (с Сардинией) потеряны для эллинизма и для культуры; на все дальнейшее время вплоть до наших дней эти два острова остались самыми дикими местностями Средиземноморья. После этого успеха Карфаген и Этрурия стали еще более опасными соседями западного эллинства: Этрурия угрожала италийским колониям, начиная с Кум и Неаполя, Карфаген — сицилийским. Моментом для решительного натиска они избрали — по-видимому, не без сговора с персами — самый страшный для собственно Греции 480 год до Р.Х. Спасителями явились оба «ока» Сицилии, Сиракузы и Акрагант; обеими победами — при
Гимере (480 год до Р.Х.) над Карфагеном и при
Кумах (477 год до Р.Х.) над этрусками — они надолго обеспечили культурное развитие всему эллинскому Западу.
А впрочем, в культурном отношении и здесь Греция была с самого начала побеждающей страной. Этрурия, хотя и сохранила свой язык, в отношении искусства и религии была в сильной степени эллинизована и, в свою очередь, стала, наравне с Кумами, очагом эллинизации для молодого Рима. Менее податливым оказался Карфаген, гордившийся своей старой финикийской культурой; все же и он должен был принять семена эллинизма, которые взошли к следующему периоду и дали особо богатые плоды в эллинистическую эпоху.
Примечание. Общее название греков в этот период — эллины. (Hellenes). Его происхождение загадочно: в ахейский период так назывался народ, живший в долине Сперхея, а Элладой (Hellas) — его область; что повело к распространению его имени на всю Грецию — мы не знаем. А впрочем, это название было в ходу только у самих греков. Восточные их соседи, персы, называли их «Iavamia», то есть ионийцами, по-видимому, по имени того племени, с которым именно они имели дело. По той же причине римляне называли их Grai, Graici, Graeci — по имени того маленького ионийского племени, которое заселило ближайший к ним город — Кумы. Так и поныне французы называют немцев «аллеманнами», южные славяне — «швабами», а финны — «саксами»: каждые по имени ближайшего к ним из многочисленных германских племен.
Глава I. Нравы
§ 5. Семейный быт. Главным изменением, внесенным нашей эпохой в семейный быт греков, было введение
приданого вместо вена ахейской эпохи (выше, с.23). Мы можем проследить постепенное возникновение этого обычая. Вначале все сводилось к вену (hedna), то есть к купле невесты женихом; затем, по мере смягчения нравов, стало соблюдаться правило, чтобы часть этого вена, под именем «ласки» (meilia), давалась тестем невесте, составляя ее частную собственность в доме ее мужа; при этом случалось, что особенно желательному жениху тесть и вовсе отпускал требуемое вено. Так-то под конец возобладало приданое (proix), как материальная помощь тестя молодым для их нового хозяйства.
Это приданое, составляя собственность жены, делало ее положение в доме мужа почетным (отсюда грустная поговорка: «жена-бесприданница не имеет свободы слова»). Поэтому одной из главных забот родителей подрастающей девушки, а за их смертью ближайших родственников, была забота о приданом для нее. Но с другой стороны, оно вносило новый элемент в оценку достоинств невесты — ее богатство, и этот элемент нанес некоторый урон построенной на принципе «евгении» ахейской семье; отсюда характерные жалобы, что из-за преимущества богатых невест перед «благородными» «граждан мельчает порода» (
Феогн. 183 сл.) — жалобы, значения которых, разумеется, не следует преувеличивать.
Затем, замена монархической формы правления аристократической повела к тому, что бывшая раньше в ходу «экзогамия» (то есть добывание невест на чужбине) уступила место «эндогамии» (то есть бракам внутри того же народа): берущий невесту из чужой страны аристократ навлекал на себя подозрение, что он ищет вне своей общины опоры для своего властолюбия. Все же примеры встречаются, и принцип эндогамии был строго проведен лишь в следующую, демократическую эпоху.
Эндогамия же, в свою очередь, повела к возникновению новых
свадебных обрядов, предполагающих близость обоих врачующихся домов. Из них главным был следующий: мать невесты зажигала факел у очага своего дома и с ним в торжественном шествии сопровождала свою дочь в дом ее жениха, где она тем же факелом возжигала новый огонь в новом очаге. В этом красивом обряде — вследствие которого факел стал символом брака — нашла себе наглядное выражение идея женской преемственности в домашнем хозяйстве. Другой составной частью свадебной обрядности была брачная песня, исполнявшаяся дружками жениха и подругами невесты, с величанием того и другой и с неизменным, загадочным для нас припевом «Hymenaie» или «Hymen o Hymenaie»; для объяснения придумали особого бога брака, Гименея, который изображался с факелом в руке. Затем, обязательным символом грядущего благочадия был сопровождавший невесту красивый мальчик; ради доброго знамения избирали такого, оба родителя которого были живы, вследствие чего он назывался «обоюдоцветущим», amphithales.
Подобно свадьбам и
похороны в нашу эпоху обогатились новыми обрядами; причиной был заимствованный из Малой Азии обычай
сжигания трупов. О его вероятном влиянии на представления о загробном мире речь будет ниже (§ 18); здесь следует заметить, что он не был в Греции повсеместным и что обычай погребения сохранился наряду с ним. Сжигался труп на костре, затем пепел собирался в урну, которая и ставилась в родовую или семейную гробницу. Повод к заимствованию этого обычая дали, вероятно, заморские войны: всякому было желательно покоиться в родной земле, а для павших на далекой чужбине иной возможности не было. Вот почему уже «Илиада» во всех своих наслоениях знает только обычай сжигания трупов.
Воспитание в нашу эпоху отличается от ахейского, главным образом, в двух пунктах: во-первых, оно становится
коллективным как для мальчиков, так и для девочек и, таким образом, не сосредоточивается более в семье; во-вторых, оно проникается сакральной идеей. И то, и другое было последствием религии Аполлона, которая старалась всячески заменить семью как основную ячейку общества сакрально-военным кружком. Но эта важнейшая культурная реформа нашей эпохи относится к области общественного быта.
§ 6. Общественный быт. Жизнь человека ахейской эпохи протекает в его семье; в эллинскую эпоху она протекает в
кружке, семья же доведена до минимума своего значения как биологической и хозяйственной единицы. Мы не знаем, скрывался ли зародыш этой реформы в доисторической жизни северных племен, наложивших свою печать на Грецию эллинского периода, или же она возникла всецело в новой религии Аполлона; во всяком случае, эта религия всячески укрепила и одухотворила означенную реформу. Не везде она была проведена одинаково строго; строже всего кружковой принцип был выдержан в Спарте.
Обособление полов и возрастов было первым условием этой новой реформы: были кружки мальчиков, юношей, зрелых мужей, старцев, и точно так же — девочек, девушек, матерей. Объединялись они богослужением; целью же было достижение наивысшего физического и умственного совершенства, чтобы мужчинам быть храбрыми защитниками и сильными правителями своей родины, а женщинам — быть в состоянии рождать таковых. Но органическое стремление эллина к красоте и радости окружило и эту кружковую жизнь всей прелестью искусства и одухотворенной общественности.
В детском возрасте кружок имел воспитательное значение; впрочем, только в Спарте он всецело вырывал ребенка из семьи; в более свободных государствах он лишь для самого учения созывал своих малолетних членов к учителю грамоты, гимнастики или игры на лире. Плотнее объединял он юношей и девушек, причем начальное образование продолжалось и завершалось в хорее и в палестре; женская молодежь могла иметь либо своего учителя, как Алкмана в Спарте (с. 103), либо свою учительницу, как Сафо на Лесбосе (с. 106). Соревнования — в силе, в ловкости, в мусических искусствах, в красоте — происходили и внутри каждого кружка, и между кружками; особенно на праздниках богов, которые они украшали своим участием. Вообще, истинно греческая
агонистика проникала и оживляла всю эту кружковую жизнь. Само собой разумеется, что упражнения в военном деле у мужской молодежи стояли на первом плане, особенно в
Спарте. Здесь и среди мужчин не ослабевали кружковые узы, так как обычай повелевал им сходиться для общих трапез (так называемых фидитий), чем сильно умалялось значение домашнего очага; но в других государствах семейная жизнь мужчины-отца семейства более успешно состязалась с кружковой. Естественно, более привязана к дому была хозяйка; но и ее отвлекали собрания и праздники в честь женских божеств (главным образом, Деметры), и только «старушка-домоседка» мирно доживала свой век под кровом сына или зятя, вся посвящая себя своим внучатам.
Понятно, что такая жизнь требовала известного, хотя бы частичного, досуга от работ по добыванию пропитания. Это — жизнь
аристократической Греции. Но именно в нашу эпоху вся Греция была аристократической, где более, где менее: более всего в Спарте, где мы поэтому встречаем полное освобождение полноправных граждан, так называемых спартиатов, от производительной работы. Они жили доходами со своих земельных наделов, которые обрабатывали для них закрепощенные потомки коренных жителей, так называемые «илоты». А так как спартанская государственность застыла в своей аристократической форме, то наделы и илоты стали необходимым ее устоем; когда в Лаконике таковых не хватило, пришлось перейти Таигет и завоевать братскую Мессению, земля которой была обращена в наделы, жители — в илотов. Зато вся воинская повинность лежала на спартиатах: жизнь их была сурова и полна лишений, но и выработала «атлетов войны» — лучшее во всей Греции пешее войско тяжеловооруженных (гоплитов), доставившее своей стране политическое предводительство (гегемонию) в Пелопоннесе, а затем и в прочей Элладе.
Есть аристократия труда и аристократия безделья; греческая аристократия принадлежала к первой разновидности. Своим же относительным досугом от государственных и военных трудов она воспользовалась для того, чтобы создать идеалы духовной культуры, которые без этого досуга не могли быть созданы, а раз созданные, стали достоянием всего народа. В этом — ее оправдание как переходного периода в истории греческой культуры.
§ 7. Хозяйственный быт. Колонизационное движение решающим образом подействовало на хозяйственный быт также и коренной Греции. Естественная связь между метрополиями и колониями повела к необходимости содержать коммерческий, а для его защиты — и военный
флот. Так-то государственные «триеры» (суда с тремя рядами гребцов, национальные корабли греков), с одной стороны, стеснили двусмысленную деятельность прежних вольных «добытчиков» (выше, с.28), с другой — вытеснили из Эгейского моря струги финикиян, превращая это море в чисто греческое.
Там, в Малой Азии, эллин познакомился впервые с тем металлом, который отныне занял первое место в его работе, — с
железом, металлом плуга и металлом меча. А впрочем, оно недолго оставалось предметом ввоза: открытие железных рудников в Беотии, на Эвбее и других гористых местностях позволило Греции обходиться собственными силами. Способ закалки
стали, перенятый от загадочного понтийского народа халибов (отсюда сталь по-гречески — chalybs), тоже скоро привился и стал работой кузнеца, который, однако, продолжал называться chalkeus, то есть «медником». Но другие предметы обязательно ввозились, особенно хлеб, которого гористая Греция не могла производить столько, сколько требовалось для ее растущего населения. Отсюда необходимость вывоза, которым бы уравновешивался ввоз; а так как сырья едва для своих нужд хватало, то пришлось налечь на
промышленность, стараясь завоевать рынки и прочностью, и изяществом работы. Среди же всех отраслей промышленности особенно по сердцу была грекам гончарная (о ее важности в древнем мире см. выше, с.28); колониальные государства, особенно Халкида, Коринф, а затем Афины стали поставщиками ее изделий для всего греческого Востока и Запада с соседними землями. О других отраслях нам менее известно.
Оживление торговли повело, в свою очередь, к крупной
денежной реформе — точнее, к двум последовательным. При заморских оборотах прежняя меновая единица — головы рогатого скота (выше, с. 29) — потеряла свою применимость; потребовалась новая, которая представляла бы возможно большую потребительную ценность при легчайшей переносимости и безусловной прочности. Это повело к изобретению
металлических денег — железных, медных, серебряных, золотых. Их стоимость определялась по весу; наименьшую единицу представляла железная «палочка» (obolos; шесть таких палочек составляли «пригоршню», drachme). Деньги из благородных металлов были заимствованы с Востока; крупнейшую единицу представлял «талант» золота (talanton), делившийся на шестьдесят «мин» (mna, лат. mina). При соединении этой вавилонской системы с местной мина была оценена в сто драхм.
Неудобство этой весовой оценки состояло в том, что при всякой продаже и купле требовался контроль денег весами, а для благородных металлов — и пробирным камнем; это повело к изобретению
чекана, посредством которого государство налагало свою печать на монету, гарантируя этим и доброкачественность монеты, и полноту ее веса. При этом железные палочки были заменены медными монетами; только консервативная Спарта осталась при старой системе «железных денег». Но они более употреблялись для внутренних оборотов; междуэллинское и международное значение имели драхмы и тетрадрахмы; и мы видим, как государства соперничают между собой не только в солидности, но и в красоте своих серебряных монет (золото в Греции не чеканилось), вследствие чего греческая «нумизматика» стала самой интересной областью этой науки.
Развитие промышленности и торговли повело к образованию
нового зажиточного сословия; прежняя родовитая знать, потомки старых завоевателей, увидела рядом с собой новую — с аристократией от булата заспорила аристократия от злата. Благодаря разнообразию эллинских государств создались очень различные отношения между той и другой. В Спарте родовитая аристократия чуждалась всякого участия в новых формах жизни: спартиат гордо занимался своим военным делом и предоставлял «периэку» торговать и богатеть. В Коринфе, напротив, родовитая аристократия, очень малоземельная, сама набросилась на торговлю и благодаря беспримерно выгодному положению своего города вывела его в ряд самых влиятельных и могущественных. В Афинах, наконец, сидящая на плодородной «равнине» (pediaia) родовитая знать косо смотрела на развивающуюся в «приморской полосе» (paralia) торгово-промышленную; но решающее слово сказало, все-таки, не та и не эта, а бедное суровое «междугорье» (diakria). Но об этом ниже (§ 9).
§ 8. Правовой быт. При переходе от монархического правления к аристократическому положение малоземельного крестьянства вследствие увеличения поборов значительно ухудшилось; ухудшению способствовало и судопроизводство, служившее в руках знати нередко средством к ее еще большему обогащению. Певец этого крестьянства, Гесиод (VIII век до Р.Х.), в гневных выражениях клеймит «царей-дароедов» (dorophagoi basilees, то есть аристократов), за мзду творящих «кривой суд» (
Гес. Тр. 220 сл.):
Вопли на площади слышу: то сирую Правду волочит
Сила мужей-дароедов, кривую расправу творящих.
Все же вернется она, горемычная, в город изгнавших,
В мгле выступая незримо, и взыщет обидчиков горем.
Изгнанная Правда вернется Эринией; поругание правосудия разольется отравой по всей жизни государства. Вот почему, начиная с VIII века до Р.Х., раздается все громче и громче требование
писаного законодательства в видах обеспечения равного для всех суда.
Возникновение той второй аристократии, о которой речь была выше, усилило положение тех, которые его требовали; и вот мы видим, как в VII веке до Р.Х. законодательная волна, поднявшись на греческом Западе, заливает всю Элладу. Под «законами» разумелись тогда одинаково постановления и государственного, и уголовного, и гражданского права вместе с судопроизводством. Почин был дан
Залевком в италийских Локрах; суровый аристократ, он ограничился записью обычного права, но и это было уже прогрессом в сравнении с царившим ранее произволом, и Залевк заслужил благодарность потомства как первый законодатель и укрепил славу «благозакония», eunomia, за своей локрийской родиной. Уступчивее к новым веяниям был его преемник,
Харонд из Катаны в Сицилии: считаясь с нуждами торгового класса, он включил в свое законодательство также и так называемое облигационное право, признавая действительность письменных обязательств, векселей и тому подобного. Затем движение перекинулось в собственно Грецию: около середины того же VII века, в самый разгар войны с Мессенией, поэт
Тиртей в Спарте, правда, не записал тамошнее обычное право, возводимое к мифическому Ликургу, но все же закрепил его тем, что дал ему стихотворную форму. Около того же времени выступил аргосским законодателем
Фидон — едва ли не самая могучая личность VII века. К концу его
Дракон дал афинянам их первое писаное законодательство, своей суровостью в уголовном праве увековечившее его имя; но так как он не уделил достаточного внимания нуждам как мелкого крестьянства, так и торгово-промышленного класса, то его попытку пришлось вскоре (в 594 году до Р.Х.) повторить
Солону, законы которого навсегда определили правовой быт Афин. Около того же времени и мудрый правитель Лесбоса на греческом Востоке, Питтак, дал законы своей родной стране. Всего мы перечислить не можем; но к VI веку до Р.Х. законодательная волна уже исполнила свое дело, разделив все греческие государства на «благозаконные» (eunomumenai) и беззаконные. Последнюю незавидную славу стяжала особенно рыцарская Фессалия с ее помещичьим самовластьем и крепостным правом.
Особенность этих греческих законодательств заключалась, во-первых, в том, что они, будучи даны законодателями, каждым для своего государства, тем не менее не были ограничены его пределами: если они оказывались целесообразными, то являлись из других государств уполномоченные с просьбой «уделить им законов», и так как отказа быть не могло, то законодательства, особенно Залевка и Харонда (как в новой Европе «магдебургское право»
[11]), распространялись повсюду, окружая новой славой имена законодателей и их родных городов. Вторая особенность заключалась в той выдающейся роли, которая была отведена
личности законодателей. Все эти Залевки, Харонды и т.д. были гражданами свободных республик; большей частью, они в трудную годину междоусобиц доверием сограждан были избираемы на временную должность умиротворителей — на красивом языке тех времен «помнящих о правде» (aisy-mnetes) — и, как третейские судьи над враждующими партиями, составляли свои обязательные для всех законы. Третьей особенностью, на этот раз невыгодной, была та, что законодатели, решив по совести затруднение настоящей минуты, не позаботились о постоянном органе, который мог бы и в будущем путем толкований, развитий, упразднений и дополнений приводить их законодательство в соответствие с новыми требованиями жизни, — каковым органом обладало позднее римское государство в лице претуры. Наконец, четвертой особенностью, тоже невыгодной, хотя по тем временам неизбежной, мы должны признать конкретный характер правовых норм, придающий им подобие рецептов: «если кто сделал то-то, то он должен претерпеть то-то»; одухотворение права, его возведение к нормам общего характера было заслугой римской юриспруденции, вдохновленной — как мы увидим — греческой философией. В силу обоих последних пунктов не греческое право, а римское было воспитателем новой Европы.
Вообще же в этом древнейшем праве, насколько мы его знаем, бросается особенно в глаза малочисленность как самих постановлений — они могли быть записаны на немногих досках, — так и указанных в них судебных органов, особенно если иметь в виду крайнюю разветвленность новейшего права. Происходило это оттого, что вследствие гораздо большей участливости античной общины, в которой каждый гражданин смотрел на себя как на посильного блюстителя законности, большинство гражданских и уголовных правонарушений разрешалось частным судом родственников, соседей, арбитров, не успев вырасти в настоящее «дело». К тому же законодатель, не считая себя в силах предусмотреть все возможные злодеяния, предоставлял суду судить также и непредусмотренные и определять в таких случаях взыскания по собственной совести — как это имело место, например, в процессе Сократа (399 год до Р.Х.); лишь римское право положило этому предел, вводя обязательную и для нас норму nullum crimen sine lege
[12]. Затем, чем древнее было законодательство, тем более внешним образом относилось оно к понятию преступления. Первоначально всякая пролитая кровь требовала возмездия (а именно — казни, по так называемому jus talionis, «око за око» и т.д.), независимо от того, как она пролита; но уже Дракон признает наряду с умышленным убийством, которое было подсудно ареопагу, и так называемое «справедливое» (то есть по праву самообороны) и «нечаянное» убийство. А впрочем, и там сказалось немало здравого смысла и заботливости об истинном благе народа; так, за преступление, совершенное в нетрезвом виде, Залевк положил двойную меру наказания — одну за преступление, другую за пьянство.
Судопроизводство во многом отличалось не только от нашего, но и от римского. Представительства сторон не допускалось; только потерпевший мог обвинять, только обвиняемый мог защищаться. По первому пункту, впрочем, необходимы две оговорки: 1) если совершено было убийство, то обвинял ближайший родственник, и это было не только его правом, но и его обязанностью, в которой ожил старинный долг кровавой мести; принимать виру было запрещено (ср. выше, с.31); 2) если потерпевшим было государство (в случаях государственной измены, растраты государственных сумм и т.д.) или беспомощное существо, то обвинял «всякий желающий». Это опасное, но за неимением государственной прокуратуры неизбежное постановление повело со временем в Афинах к возникновению так называемых
сикофантов (sykophantes, слово темное), то есть обвинителей-добровольцев, под видом соблюдения государственных или общечеловеческих интересов занимавшихся вымогательствами и ставших таким образом одной из язв общественной жизни Афин.
В соответствии со сказанным не допускалось судебных речей: все дело сводилось к представлению доказательств и допросу. Лучшим доказательством считалась
клятва, введенная именно в нашу эпоху, как последствие сакрализации культуры. Действительно, в эпоху живой и всеобщей веры эта «клятва сторон» была могучим средством установления истины; но в то же время она содержала соблазн к клятвопреступлению, почему ее и отвергло и римское законодательство, и наше. Клятву давали и свидетели, кроме рабов; эти последние допрашивались под пыткой. Это — несомненное пятно на греческом судопроизводстве. Все же следует признать: 1) что эта пытка, сводившаяся к причинению боли, но не увечья, была очень невинна в сравнении с тем, что практиковалось тогда на Востоке, а затем и в новой Европе, и 2) что ограничение пытки одними только рабами заключало в себе признание ее несовместимости со свободой — признание, принципиально драгоценное в виду будущих времен, когда свобода станет неотъемлемым достоянием человеческой личности.
Наказания осужденным были сравнительно суровые, учитывая недостаточность предварительного следствия, которое было всецело предоставлено обвинителю: так как преступникам нередко удавалось схоронить концы, то было желательно в видах устрашения, чтобы хоть уличенные платились построже (психологическую несостоятельность этой теории развивает в замечательном рассуждении Фукидид —
Фук. III, 45). Этими наказаниями были: 1) казнь; 2) продажа в рабство на чужбину (Солон, однако, ее упразднил); 3) изгнание; 4) тюрьма; 5) атимия (то есть лишение прав) различных степеней; 6) денежная пеня. Из них казнь совершалась безболезненно через принятие быстродействующего яда — омега (koneion, cicuta); так был казнен, между прочим, Сократ. Сравните незабвенное описание этой казни в последних главах Платонова «Федона», дающее вообще благоприятное представление о гуманности эллинов также и в этом отношении — правда, уже в следующий, аттический период.
§ 9. Государственный быт. На пороге нашего периода стоит
аристократизация Греции. Ее причины заключались, с одной стороны, в осложнении царских обязанностей, так как к прежним трем функциям (жреческой, полководческой и судебной) по мере перехода от сельской жизни к городской стали присоединяться и разные административные; с другой стороны, в вырождении царских родов. И вот начинается дробление власти царя: ему даются помощники в виде полководца (полемарха), администратора (архонта), «законоуложителей» (фесмофетов); только жреческие функции за ним оставляются как самые безобидные и к тому же по своему религиозному значению незыблемые. Эти помощники вначале, как и сами цари, пожизненны; затем вследствие соревнования вельмож определяется их срочность; эта срочность распространяется и на царя; в результате получается, как мы это видим в Афинах с VII века до Р.Х., взамен единоличного, наследственного царя — целая коллегия из девяти годичных «
архонтов» (в широком смысле), состоящая из царя, архонта (в узком смысле), полемарха и шести фесмофетов. Отслужившие свой срок архонты поступали в совет, собиравшийся на «Аресовом холме»
(Ареопаге) под Акрополем и носивший его название, — главный орган правления в аристократических Афинах, затмевавший значение народного собрания
(экклесии).
В других греческих общинах аристократизация вылилась в другие формы. Так, в
Коринфе власть присвоил себе один род — Вакхиады, и собрание его членов стало правящим органом этого могущественного города. Но особенно интересует нас
Спарта как первенствующая община нашего периода. Здесь удержалась царская власть в качестве не только пожизненной, но и наследственной; но царей было двое, из двух различных
домов, которые возводили себя к двум братьям-близнецам (Еврисфену и Проклу), потомкам Геракла в пятом поколении. Они были председателями совета старейшин (герусии), коих было, включая царей, тридцать. Эта герусия ведала всеми делами, в чем, и состоял аристократический характер спартанской конституции; изредка созываемое народное собрание могло принять или отвергнуть вносимое от имени герусии предложение, но ставить своих ораторов не могло и вообще законодательного почина не имело. Более демократический характер имела коллегия «эфоров» (то есть «блюстителей»), избиравшаяся уже с 755 года до Р.Х. в составе пяти из всего народа для надзора за законностью действий органов власти; но так как этот народ составляли одни спартиаты, то и деятельность этой коллегии была строго консервативна.
Так-то в VIII-VI веках до Р.Х. вся Греция была в руках аристократии. Религия дельфийского Аполлона, расцвет которой совпал с означенной эпохой, освятила повсеместно аристократическое правление, всячески укрепляя ту кружковую организацию, которая была и ее внешним оплотом и — равным образом, благодаря ее культу силы и красоты — ее спасением от вырождения. Наступила та радостная рыцарская пора, о которой свидетельствует и поэзия (особенно лирика), и художества тех веков.
Правда, если мы от управляющих обратимся к управляемым, к малоземельным и безземельным — о них нам говорят «Труды и дни» Гесиода, — то картина меняется. Вначале у них не было никаких средств бороться с организованной силой притеснителей; таковые явились только тогда, когда, благодаря усилению промышленности и торговли, с крупнопоместной и родовитой «аристократией от булата» стала соперничать новая «аристократия от злата». Важным результатом этой борьбы были, как мы видели, писаные законодательства и равные для всех суды; но улучшая в этом отношении положение крестьянства, новые законодательства ухудшили его в другом: признанное законодателями облигационное право дозволяло выдавать ссуды не только под залог земли, но и «под залог тела». В силу первого уложения несостоятельный крестьянин-должник терял свою землю и становился из собственника фермером, в силу второго он терял и свою личную свободу и либо продавался в рабство, либо делался крепостным. Спарта избежала этого кризиса тем, что своевременно удачной войной с Мессенией увеличила количество своих земельных наделов сообразно с ростом населения, соблюдая их равенство между собой; но в других государствах он был очень тяжел, и
борьба за землю стала в VI веке до Р.Х. таким же боевым кличем нарождающейся демократии, как в VII — «борьба за право». Точнее мы осведомлены об Афинах. Здесь некоторое успокоение было внесено мудрым законодательством Солона (594 год до Р.Х.), который отменил на все времена «ссуды под залог тела» и объявил недействительными все состоявшиеся во вред крестьянству сделки: закрепощенные стали вновь свободными, с их земель были удалены «позорные столбы», свидетельствовавшие о лежащих на них долгах. Но страсти разгорались, и Солону трудно было держаться среднего умеренного пути между упорством аристократов, не желавших никаких изменений в создавшемся положении, и вожделениями пролетариата, требовавшего конфискации и передела всей земли. Продолжая свое дело умиротворения партий, он разделил граждан на
четыре класса, в зависимости от имущественного и притом земельно-имущественного ценза (I — «пентакосиомедимны», богатейшие; II — «всадники», крупнопоместные; III — «зевгиты», мелкопоместные; IV — «феты», безземельные); оставляя неприкосновенными старинные четыре родовые филы, но применяя к ним введенный им земельный ценз, он из граждан первых трех классов набрал новый «
совет четырехсот» (по 100 на филу), которому поручил постоянное управление государством, оставляя за ареопагом преимущественно судебные дела. Благодаря этим законам Солон стал чиноначальником афинской демократии; но длительного успокоения он своей родине дать не мог, и она продолжала катиться далее по той наклонной плоскости, которая привела, наконец, и ее к
тирании.
В прочей Греции тирания еще в VII веке до Р.Х. являлась не раз исходом из партийных смут, притом и на Востоке (Фрасибул Милетский), и на Западе (Фаларид Акрагантский), и в собственно Греции (особенно Кипсел Коринфский, свергший династию Вакхиадов, с его сыном, прославленным легендой Периандром). Все эти тираны были одного типа: враги аристократии и ненавидимые ею, бни к народу относились хорошо, старались улучшить его материальное положение, отвлекая его одновременно от политики, и заботились о внешнем могуществе и внутреннем процветании своих родных городов. Теперь и Афины дождались своего тирана. Аристократы «педиэи» (выше, с.70) враждовали с торгово-промышленной знатью «паралии», вождями которой были изменившие своей партии очень родовитые Алкмеониды. Этой враждой воспользовалась пастушеская «диакрия», видевшая своего заступника в смелом и умном
Писистрате. Искусно пользуясь неумелостью своих врагов, Писистрат захватил высшую власть, которую он укрепил союзами с другими тиранами, особенно со славным Поликратом Самосским. Его правление было эрой благополучия для Афин, которые при нем окрепли материально, стали могущественны в Элладе и средоточием как изобразительных, так и мусических искусств; любовь к нему была так велика, что по его смерти его сыновья, Гиппий и Гиппарх, беспрепятственно унаследовали его власть. Но они не могли удержаться. Гиппарх пал жертвой частной мести от рук «тираноубийц» Гармодия и Аристогитна; ожесточенный его смертью Гиппий своими крутыми мерами восстановил против себя и педиэю, и паралию; вожди последней, Алкмеониды, через благоволение к ним Дельф заручились помощью Спарты, и дружным действием всех этих сил Гиппий был изгнан (510 год до Р.Х.).

Хозяевами положения стали после кратковременной смуты Алкмеониды; их главный представитель,
Клисфен, преобразовал государство на демократических началах, навсегда устраняя своими реформами значение и педиэи, и паралии, и диакрии, раздиравших Афины в течение столетия с лишком.
Так как его реформы определили государственный строй Афин в следующий, «аттический» период, то мы там ими и займемся.
§ 10. Междуэллинский быт. Описанный в предыдущем параграфе государственный быт эллинов мог быть представлен в отрывках, касающихся, главным образом, Спарты и Афин. Не для дополнения картины — таковое за скудостью источников невозможно, — а для восстановления пропорции следует помнить, что таких «городов-государств» (poleis) с отдельными конституциями было в Греции около полутораста и что все они по объему своих территорий удобно укладываются в одну нашу Новгородскую губернию.
Характерными признаками греческой polis были два. Первый —
автономия, то есть «самозаконие», независимость не только от внешнего властителя, но и от внутреннего, от всего, что мешало бы гражданину путем непосредственной подачи голоса влиять на судьбу своей родины. В силу этой автономии — причины как внутренней силы, так и внешней слабости Эллады как политического организма — эллин неудержимо стремился к демократии, но к демократии «плебисцитарной», а не «парламентской», так как последняя, ставя на место гражданина избранного им на определенное время представителя, этим самым устраняла его самого от пользования своим голосом. Этим пониманием автономии был положен предел расширению территорий общины: гражданин должен был иметь возможность являться самолично в народное собрание, что при слишком дальних расстояниях было бы неисполнимо. Вторым признаком была
автаркия, то есть «самодовление», способность собственными средствами удовлетворять свои материальные и прочие нужды. Где этих средств, вследствие незначительности территории, не давало земледелие, там приходилось обращаться к промышленности и торговле, как мы это видим в Коринфе, Мегаре, Эгине и других городах.
Оба эти требования были центробежными, навсегда исключавшими возможность образования единого греческого государства. Но они не исключали возможности
между эллинских политических группировок; таковые могли принимать одну из следующих форм:
1. Форму
синэкизма (synoikismos, «соселение»), при которой из двух или нескольких гражданских общин образовывалась одна. Синэкизм мог быть либо фактическим, либо правовым. В первом случае жители двух или нескольких сел оставляли свои дома и селились вместе: так возникли Мантинея, Элида и другие. При правовом синэкизме все оставались на своих местах и только общие органы правления переносились в одну центральную общину, гражданами которой становились все участники этого государственно-правового акта.
Так возникли Афины как государство. Вначале это была одна община Аттики наравне с Элевсином, Бравроном, Марафоном и другими; но вот однажды, как гласит местная легенда, Тесей, «упразднив отдельные пританеи, советы и властей, учредил один общий для всех пританей и совет, где ныне стоит город» (Плут. Tec. XXIV). Все элевсинцы, бравронцы и т.д. остались жить там, где жили до тех пор, но стали афинскими гражданами и членами общеафинского народного собрания с одинаковым активным и пассивным избирательным правом.
2. Форму
амфиктионии, то есть религиозно-правового союза «амфиктионов» (amphiktiones, «окрестных жителей») для защиты центральной святыни. Таких амфиктионий Греция знала несколько; самой знаменитой была
дельфийская, то есть союз двенадцати племен, главным образом, средней Греции для защиты дельфийского храма. Самым громким делом этой амфиктионии была так называемая (первая)
священная война в начале VI века до Р.Х. против Крисы фокидской, которая, злоупотребляя своим удобным положением как гавань Дельфов, облагала паломников произвольными поборами и вообще относилась враждебно к храму и посаду Аполлона. Результатом войны было разрушение Крисы и присуждение ее территории Дельфам, которые, таким образом, получили нечто вроде «церковной области», каковая победа ими отмечена учреждением
пифийских игр (586 год до Р.Х.). Но хотя в данном случае амфиктионам и пришлось поступить круто, все же, в общем, их влияние на военное право было благотворным (ниже, с.82). О роковой их роли в деле греческой свободы против Филиппа Македонского и о несчастной последней «священной войне» будет сказано ниже.

3. Форму
гегемонии (hegemonia), то есть предводительства одной общины в союзе других без потери последними своего самоуправления (этим гегемония отличается от синэкизма). Так, в мифическую старину Микены, столица Атридов, пользовались гегемонией во всей Греции, в силу чего Агамемнон и мог повести соединенную ахейскую рать против Трои. Эта гегемония Атридов была в историческую эпоху кормчей звездой для могучих и честолюбивых общин и царей вплоть до Александра Великого. К началу эллинского периода ее осуществил сосед и естественный наследник Микен, дорический
Аргос; но условием междуэллинской гегемонии была внутренняя гегемония в Арголиде, которую нелегко было сохранить при кантональной разрозненности страны и стремлении к автономии отдельных кантонов — Коринфа, Эпидавра, Трезена и других. Последним представителем аргосской, и внутренней, и междуэллинской, гегемонии был могучий
Фидон (вторая четверть VII века до Р.Х.); после его смерти Арголида распалась на свои кантоны, и Аргос оскудел навсегда. Что потерял он, то выиграла его грозная соседка,
Спарта, владычица обширной и единой долины Эврота и госпожа сопредельной Мессении, обладавшая, к тому же, в лице своих «гоплитов», лучшим войском во всей Элладе. Вначале ее стремление было направлено на расширение своей территории; за Мессенией должна была последовать Аркадия. Но серьезные затруднения, которые она встретила в этой гористой стране, а также и совет Дельфов заставили ее отказаться от дальнейших завоеваний и поставить себе целью объединение Пелопоннеса, а в дальнейшем — и прочей Эллады под своей гегемонией. Первая часть этой программы была исполнена без труда; все союзные государства сохранили свою самостоятельность, но обязались посылать в союзное войско отряды вооруженных в соответствии со своими силами. Дельфы вполне благоприятствовали этой идее, они стали как бы духовным мечом Спарты — так же, как Спарта — их светским мечом: VI век до Р.Х. был расцветом
спартано-дельфийской гегемонии в Элладе. Ее самым крупным делом было свержение тирании Писистратидов в Афинах (510 год до Р.Х., выше, с. 76), которым Спарта подтвердила свое право вмешательства во внутренние дела эллинских государств также и севернее Истма. Когда поэтому в начале V века до Р.Х. персидский царь стал грозить Элладе погромом, она объединилась под гегемонией Спарты, — правда, уже без участия Дельфов, которые тогда увлеклись новой несбыточной мечтой заменить свою междуэллинскую духовную гегемонию — мировой.

Кроме этой всеэллинской гегемонии мы имеем в нашу эпоху и в следующую ряд внутренних: союз беотийских городов под гегемонией Фив, халкидских — под гегемонией Олинфа, лесбосских — под гегемонией Митилены, а также и союзы с выборной на каждый раз гегемонией, как, например, союз ионийских городов Малой Азии, восстание которого против персидского царя послужило сигналом для греко-персидской войны (500 год до Р.Х.).
Вне этих союзов и заключаемых на время договоров положение эллинских государств было
положением военным. Условия войны сильно изменились со времени ахейских держав; царственные колесницы уступили свое место аристократической коннице, так как замена тяжелого «микенского» щита более легким дала воинам возможность сражаться верхом. Наряду с конницей, которой особенно славилась аристократическая Фессалия, выдвигается и пешее войско зажиточной буржуазии — так называемые гоплиты (hoplitai), или тяжеловооруженные. Лучшее и притом постоянное войско было у спартанцев как «атлетов войны», но и афиняне старались от них не отставать: обладая в своих первых двух классах (выше, с.76) отличными всадниками, они от своих зевгитов требовали службы в рядах гоплитов — в ожидании того времени, когда и феты, служившие во флоте, рядом блестящих морских побед заявят о своих правах.
Обороной городов служат по-прежнему городские стены, и эта оборона настолько надежна, что осада также и в наше время — дело затяжное и трудное. Известен даже подвиг Орлеанской девы древности, аргосской стихотворицы Телесиллы, которая после того, как аргосская рать полегла в битве против спартанцев, во главе вооруженных женщин с аргосской стены дала отпор победоносным спартанским гоплитам (510 год до Р.Х.). Вообще война была обычным делом в нашу эпоху, но ее условия значительно смягчаются в сравнении с ахейской. В этом нельзя не признать благотворного влияния дельфийского бога с его проповедью против
hybris («спеси»), в которую входит также неумеренность использования дарованного богами успеха. Неудивительно поэтому, что первые плоды этого влияния созревают в
дельфийской амфиктионии; среди ее законов мы находим и следующий: «государства-члены амфиктионии обязуются не разрушать города, входящего в состав амфиктионии, и не отрезывать его от текучей воды» (
Эсхин II, 115). Так-то в законах амфиктионии мы находим
первые в истории человечества зародыши международного права. Родственного характера были взаимные обязательства, принятые воюющими сторонами в
лелантской войне, самой крупной междуэллинскокй войне нашей эпохи (около 700 года до Р.Х.); она велась первоначально двумя эвбейскими городами, Халкидой и Эретрией, из-за лежавшей между ними плодородной «лелантской» равнины, но мало-помалу в ней приняли участие, в качестве союзников, большинство государств архипелага. Так вот в этой войне воюющие обязались не пользоваться метательным оружием, а только копьем и мечом.
Вообще наша эпоха — эпоха развития и укрепления междуэллинских сношений, чему значительно содействовал ее аристократический характер. Аристократические роды различных государств, озабоченные ростом демократии, вступали в естественный союз между собой; демократические массы им в этом подражать не могли, но могли подражать вожди таковых, а они же были будущими тиранами. Междуэллинская сеть тираний временами действительно была противопоставляема сети аристократической; тираны различных государств поддерживали друг друга и поощряли стремления честолюбцев в республиках ко введению тиранического управления. Но на стороне аристократии были Спарта и дельфийский бог, и тирании долго не просуществовали; когда в начале V века до Р.Х. персидский царь задумал свой поход против Греции, он нашел ее, если не считать демократических Афин, в руках аристократии.
§ 11. Нравственное сознание нашей эпохи развивается под знаком
религии; будучи и во многих других отношениях эпохой сакрализации культуры, она в особенности представляется нам эпохой сакрализации нравственности.
Эта сакрализация проявляется в двух областях, в зависимости от двойного характера новых религий — немистического (религии Аполлона) и мистического (религий Деметры и Диониса).
1. Для немистической религии Аполлона Дельфийского характерно именно приобщение нравственного элемента, объявление бога всеблагим. Но если так, то и в богоуправляемом мире следует ожидать торжества нравственности: санкцией нравственного долга становится чем далее, тем более
религиозный биологический эвдемонизм (выше, с.35). Ежедневный опыт — страдания добрых, благополучие злых — этой санкции не противоречил, так как в нашу эпоху более чем когда-либо господствовало
филономическое сознание (выше, с.34); догмат, что бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого колена, был для греков эллинского периода так же самопонятен, как и для древнего Израиля. Страждущий добрый смиренно преклонялся пред божьей волей в сознании, что он своими страданиями искупает вину — быть может, ему неизвестную — своего прародителя (Крез у Геродота —
Гер. I, 91; Тесей у Еврипида —
Евр. Ипп. 831 сл.); равным образом, умирающий в благополучии злодей терзался при мысли об участи, нависшей над его детьми; если же у него таковых не было, то это и было ему наказанием. Факт позднего возмездия богов никого не смущал:
Медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют, —
гласила на этот счет греческая пословица.
2. В мистических учениях Деметры и Диониса зарождается впервые для греков идея «
лучшей участи» после смерти, которую человек может себе обеспечить еще при жизни. Сначала это обеспечение предполагается чисто сакральным, не нравственным: средством признается посвящение в таинства, элевсинские и орфические. Но мало-помалу и в этой мистической области совершается морализация религии; условием к достижению «лучшей участи» ставится, кроме посвящения, и нравственная жизнь. Возникает идея загробного суда, рая для добрых, чистилища для «исцелимых» и ада (Тартара) для «неисцелимых» грешников. Правда, значения обязательных догматов эти идеи ни в нашу эпоху, ни вообще в античности вплоть до принятия христианства не получили; но все же круг их приверженцев расширяется, и эсхатологический эвдемонизм как санкция нравственного долга (выше, с.34), занимает место рядом с биологическим.
Идеалом нравственного поведения в нашу эпоху остается положительная
arete в смысле
доблести; она до такой степени родственна со славой, что часто отождествляется с ней. Добрым (agathos) признается тот, кто способен принести наибольшую пользу друзьям, причем прибавление «и наибольший вред врагам» допускается, но не обязательно: еще Питтак сказал, что «прощение сильнее возмездия». Нравственные преимущества считаются естественным придатком физических, идеальный муж — это «прекрасный и добрый», kalos kai agathos, полная arete совпадает с kalokagathia.
На вопрос, как добывается arete, всеобщая уверенность отвечает:
рождением. Воспитание необходимо, но оно только укрепляет и сохраняет врожденную arete — вера в «научимость добродетели» принадлежит лишь следующей эпохе. От добрых рождается добрый — отсюда важность «евгении» (благородства). Последовательно развитие этой идеи, вообще подтверждаемой опытом (сравните современное учение о наследственности), дает так называемый
биологический аристократизм; но пренебрежение различными факторами (отчасти уловимыми, отчасти нет), ведущими к вырождению, превращает этот научно правильный биологический аристократизм в научно несостоятельный сословный аристократизм — политическую сигнатуру нашей эпохи. Аристократы охотно называют agathoi себя, kakoi («худыми») — низкорожденных, независимо от того, оправдали ли породу те и другие; в этом и заключается иллюзия сословного аристократизма (сравните такое же развитие русского слова «благородный»).
А впрочем, наша эпоха с ее могучим колониальным движением, с ее частыми внутренними переворотами дает широкий простор для проявления arete в указанном смысле: для нее характерен такой размах жизни, которого мы в дальнейшем уже не находим вплоть до Александра Великого. Жизнь бьет ключом, и положительное к ней отношение чувствуется повсюду. Средоточием этой жизни представляется
агонистика и ее поле — «эллинские» игры в Олимпии, Дельфах («пифийские»), Немее Арголидской и под Коринфом («истмийские»). Здесь, под покровительством «эллинских» богов, создается тот культ победы, культ славы, культ arete, который навсегда сохранил за этой последней ее эллинский положительный смысл.
Что при этих условиях и отношение к жизни было положительным, разумеется само собой. Правда, это, опять-таки, была практика; теория пошла отчасти по другому пути. Нарождающийся эсхатологический эвдемонизм не мог не содействовать обесценению земной жизни; на почве таинств Диониса возникла грустная «мудрость Силена» (Plut. Consol. 27):
Лучше всего — не родиться тебе, земнородное племя;
Жребий второй — поскорее порог преступить преисподней.
На той же почве последователи орфизма, признававшие многократное воплощение души («круг рождений»), возносили к своему богу молитву:
Дай нам свободу от круга и отдых от мук неустанных.
Но и певцы Аполлона не скрывали от себя скоротечности человеческой жизни: «человек — сон о тени дыма». Только они прибавляли: «но если его краткую жизнь озарит слава, он становится равным богам». В этой возможности оправдание жизни — оправдание, сильное для тех сильных, которые тогда задавали тон. Условием славы была arete, условием же arete — «благородство»; оправдание жизни было для «добрых», согласно аристократическому духу нашей эпохи. Делом следующей, демократической эпохи было — расширить их круг и сделать общедоступными те ценности, которые наша добыла для немногих.
Глава II. Наука
§ 12. На пороге нашей эпохи стоит усвоение греками
финикийского алфавита, то есть того, которым с некоторыми изменениями пользуемся и мы. Они, однако, не ограничились простым его заимствованием, а внесли следующие важные улучшения:
1. Финикийский алфавит, как и все семитские, не имел особых знаков для гласных, но зато изобиловал знаками для придыханий; греки воспользовались этими последними для обозначения своих гласных. Завершением этого развития было обращение знака острого придыхания Н в знак для долгого
е (
у римлян, которые переняли греческий алфавит до этого обращения, Н сохранило значение острого придыхания).
2. Финикияне, как и все семиты, писали справа налево; греки после некоторого колебания (отметить как переходную ступень письмо «воловьими бороздами» — bustrophedon, причем одна строка пишется в одном направлении, следующая — в обратном) приняли свойственный индо-европейцам метод писания слева направо как более удобный: рука при этом методе не затемняет и не покрывает написанного. Поэтому и знаки греколатинского алфавита обращены направо, а не налево (В, а не

, и т.д.).
3. Финикийский алфавит дал грекам только знаки от А до Т; остальные они мало-помалу дополнили сами в соответствии со своими нуждами, исключая в то же время те, в которых они не нуждались (F = vav, Q = koppa; римляне их сохранили). Вся же система двадцати четырех знаков от альфы до омеги установилась только ко вселенской эпохе.
Примечание. Первоначальным способом письма был идеографический, то есть такой, при котором предмет, о котором пишут, непосредственно изображается: чтобы написать слово «мост», я рисую настоящий мост. Затруднение представляли предметы отвлеченные, а также и глаголы; для их передачи изображали наглядный предмет, состоящий из тех же согласных (как если бы кто по-русски стал изображать «мост» для передачи слов «месть», «мести»). А чтобы такая многозначительность не повела к недоразумениям, употребляли так называемые «детерминативы», то есть условные знаки, определявшие, к какой категории слов относится данное изображение. Система получилась очень сложная: таковы египетские иероглифы, состоящие из около трех тысяч знаков.
Огромным прогрессом был переход идеографического способа к акрофоническому, то есть такому, при котором изображенный предмет принимался во внимание не весь, а лишь как начальный звук обозначающего его слова. Так, изображался «дом» (финик, beth), но читалось только b, изображалась человеческая голова (финик, resch), но читалось только г. При этом число знаков в принципе не было ограничено, и каждый знак должен был быть подобием предмета, именем которого он назывался. Этот акрофонический способ наряду с идеографическим встречается в иероглифах, еще более осложняя их систему.
Но из акрофонического способа естественно развился алфавитный — тот, который от финикиян получили греки. При этом число знаков было сокращено до минимума, по одному на каждый звук, и вследствие схематического упрощения при письме потерялось сходство между знаком и предметом, который он первоначально изображал. Так, довольно трудно признать в знаке В (греч. beta, финик, beth) первоначальный двухэтажный дом, или в знаке R (греч. rho, финик, resch) — первоначальную человеческую голову.
Усвоение алфавита было, однако, только первым условием систематической научной работы; вторым была наличность удобного
писчего материала. Каменные стены и плиты годились только для монументальных записей (между прочим, летописного характера); деревянные доски (на таковых Солон вырезал свои законы) и воловьи шкуры — для необъемистых; глиняные черепки (ostraka) — для еще более кратких, вроде расписок, бюллетеней; навощенные дощечки и песок — для временных (ученических работ и тому подобного). Вполне удобным материалом с давних пор обладал Египет: это был
папирус, родоначальник нашей бумаги, изготовляемый из росшего только там растения того же названия; но Египет был для Греции замкнутой страной, пока во второй половине VII века до Р.Х. фараон Псамметих не разрешил ионийцам основать там колонию-факторию Навкратиду. Благодаря ей папирус достался и грекам, прежде всего ионийцам; в связи с этим стоит возникновение писаной прозы у ионийцев с VI века до Р.Х. и
признание ионийского диалекта как языка общеэллинской прозы, вплоть до его вытеснения аттическим в конце V века до Р.Х. В неионийских государствах еще долго наука должна была либо довольствоваться простым преподаванием, либо облекать свои произведения в стихотворную форму.
§ 13. Оставляя в стороне успехи
прикладного знания в других областях, слишком мало нам известные, — но все же отметив изобретение лампады, заменившей лучину ахейского периода (выше, с.25), — обратимся непосредственно к самой важной из них — к медицине.
Тут более всего нам бросается в глаза почти полная
сакрализация этой науки в нашу эпоху как последствие возникновения религии Аполлона. Медицину Аполлон взял под свое непосредственное покровительство; Асклепия, ахейского бога-врачевателя (выше, с.40), он объявил своим сыном. Отныне святилища Асклепия стали местами религиозного лечения — так называемой инкубации. Пациенты-паломники должны были провести в них ночь (для чего строились особые при храмах гостиницы); увиденный ими сон они сообщали жрецу, который на его основании указывал средства лечения — большей частью тоже религиозные (молитвы, жертвоприношения и т.д.). Кроме того, практиковалось и непосредственное лечение при помощи оракулов (ятромантика), а также у могил «героев» (ниже, § 17), которым среди прочих чудодейственных сил приписывалась и целебная. Особенно бедственными были при этих условиях эпидемии: полагали, что их посылал сам Аполлон, а потому и за их прекращением обращались к нему, а неизбежное при всенародных молитвах скопление людей еще увеличивало силу заразы.
Таким образом, придется признать, что наш период сакрализации медицины сильно затормозил ее поступательное движение, начало которого наблюдается в ахейский период; все же бесплодным его назвать нельзя. Во-первых, и при религиозном врачевании получались часто реальные исцеления, что должно было обратить внимание людей на целебную силу психического воздействия; а во-вторых, среди указываемых на основании инкубации лечебных средств встречаются, наряду с мистическими, и рациональные. А так как пациенты-паломники, получившие исцеление, в знак благодарности оставляли богу «скорбный лист» о своей болезни в виде записи на камне, то знаменитые храмы, вроде косского, превратились со временем в настоящие медицинские архивы, очень драгоценные для пытливого жреца-врачевателя. И действительно, здесь состоялось возрождение научной медицины: ее возродитель
Гиппократ был «асклепиадом» из Коса. Но это случилось уже в следующую эпоху.
§ 14. Интерес к
чистому знанию сосредоточивался в нашу эпоху на вопросе о
мироздании — точнее, о его возникновении и виде, или, что одно и то же, о природе. В центре научного движения стоит поэтому
философия природы.
Толчок к ней дала религия Зевса своим догматом о прародительнице Земле (выше, с.53), причем земля понималась не столько как стихия, сколько как божество; в этом смысле еще певец Гесиод (ниже, § 16) провозгласил ее исконность. Следуя по его стопам,
ионийская философия природы, приблизительно с 600 года до Р.Х., ставила вопрос об одушевленном и божественном правеществе, из которого возникли другие, — но уже не в наивном генеалогическом, а в научном эволюционном порядке: теогонию сменила космогония. Ее основоположником был
Фалес Милетский, один из многих «всечеловеков» тех времен — государственный муж, торговец-путешественник, техник, математик, астроном; математику он принес из Египта, астрономию из Вавилона, но обе эти науки проник духом эллинского научного рассуждения. Исходя из наблюдения, что влага — принцип питания и жизни, он решил, что вода и есть то правещество, из которого возникли остальные. Его преемник
Анаксимандр Милетский не решился точно определить это правещество: он назвал его просто «беспредельным» (apeiron). Зато он внес в проблему мирового становления нравственную идею: возникновение было первородным грехом возникшего, за него оно обречено разрушению как справедливой каре; только правещество, никогда не возникшее, — неразрушимо, и в него должно вновь обратиться все возникшее. Так-то впервые был провозглашен великий принцип
неразрушимости материи. Заслуга третьего милетского философа,
Анаксимена, состоит не столько в том, что он правеществом признал воздух, сколько в том, что он указал пути возникновения из него прочих веществ: путем
сплочения (он еще не сказал «атомов», но этот вывод был отныне неизбежен) воздух переходит в воду и затем в землю, путем
разрежения — в огонь. Этим были установлены четыре состояния вещества — твердое, жидкое, газообразное и лучистое. Все названные мыслители сходятся в том, что они вещество, по своей природе недвижное, признавали началом становления, то есть движения; избегая их ошибки,
Гераклит Эфесский (около 500 года до Р.Х.) установил изначальность движения и, следовательно, правеществом — вечно движущийся огонь: из него все произошло, в него все обратится.
Он — жизнь и разум; все живет, поскольку оно причастно огню. Периодические обогневения — незыблемые вехи мирового становления; и, подобно им, незыблем закон, ими управляющий. Само же оно бесцельно: «Эон
[13] — дитя, играющее в шашки». Этот пессимизм был навеян на угрюмого мыслителя острой демократизацией его родины, успевшей уже провозгласить принцип извращенной демократии: «среди нас не должно быть превосходного». Враждебно относясь к людям, он написал свою глубокомысленную книгу не для них: окончив ее, он посвятил ее своей родной богине, Артемиде, в ее знаменитый Эфесский храм.
Вопрос о
форме мироздания тоже был двинут вперед ионийской школой. Правда, от двух основных иллюзий, которыми мы обязаны непроверенному свидетельству наших глаз, — недвижности и плоскости земли — она еще не могла отделаться; исходя от них,
Анаксимандр учил, что земля представляет собой плоский цилиндр, реющий в центре шаровидного космоса, грани которого образует усеянное звездами небо. Он же составил и первую в истории человечества карту Земли — точнее, того круга ее мнимого цилиндра, на котором живем мы; особенностями этой карты были «средиземное» море и кругоземный океан. Все это было очень наивно — и все же большим прогрессом в сравнении с представлениями прежней эпохи (выше, с.41).
Но домыслы Анаксимандра были далеко превзойдены
Пифагором и его школой. Этот замечательный человек был родом из Самоса — значит, тоже иониец; покинув свою родину в тиранию Поликрата (выше, с. 76), он принял приглашение стать правителем южно-италийского города Кротона, сильно пострадавшего в войне с соседним Сибарисом. Он стал не только светским вождем этой общины, но и духовным главой
пифагорейского ордена (о нем ниже, с. 118) и достиг того, что Кротон стал образцом здорового города и восторжествовал в новой войне с изнеженными «сибаритами». Одним из его воспитательных средств была музыка — особенно аполлоновская, струнная; производя опыты над монохордом, он открыл главный закон акустики, — что относительная высота звука стоит в зависимости от соизмеримых и выраженных простыми числами размеров одинаково напряженной струны (1:2 = октава, 2:3 = квинта, 3:4 = кварта и т.д.), то есть, другими словами, — теорию музыкальных интервалов. Упоенный этим успехом в сведении качественного различия к количественному, он обобщил свое открытие и провозгласил — предваряя новейшую химию —
число корнем мироздания. Своей школе он завещал дальнейшее развитие как арифметики, скоро выродившейся в мистицизм «священных» чисел, и геометрии плоскости (вспомним «пифагорову теорему»), так и применение этих наук к объяснению мироздания. В нем Пифагор видел своего рода космическую лиру: в центре, как ее основа, Земля, вокруг нее — вращающиеся планетные сферы, на таком расстоянии друг от друга, чтобы их вращение издавало звуки диатонической гаммы. Это и есть «гармония сфер»; мы ее не слышим, потому что привыкли к ней.
Так-то Пифагор сблизил Землю с планетами; отрешившись от второй из вышеназванных иллюзий, он приписал ей шаровидность, приближая к ней по величине Солнце и прочие светила. Оставалась первая иллюзия; его школа отрешилась и от нее, допуская в средоточии мироздания так называемый «очаг», центральный огонь, вокруг которого вращаются как Земля, так и прочие светила, вплоть до небесной тверди. Впервые в истории человечества геоцентрическая система была покинута в пользу небесной хореи — Земля и Солнце и звезды плавно и величаво обходят святой «очаг» вселенной, как священнодействующие девы — пылающий алтарь своей богини, под таинственные звуки «гармонии сфер». Руководящая истина заставила нас впоследствии отвлечься от этой картины, но она не могла вырвать из нашего сердца воспоминания о ее красоте.
Глава III. Искусство
§ 15. Изобразительные искусства. А.
Архитектура. Сакральный характер нашего периода сказался и в том, что уже не дворец, как в ахейскую эпоху, а
храм стал главным предметом архитектуры.
Идея храма развилась из религии Аполлона, признававшей периодические epidemiai бога, то есть его приходы из его гиперборейского рая к людям. Чтобы его приютить, надлежало приготовить ему беседку в его лавровой роще, что достигалось сплетением ветвей (ср. Ил. I, 39). Желательность замены этого храма-беседки настоящим храмом наступила тогда, когда бог в лице своего кумира (ниже, с.94) стал постоянным сожителем своих поклонников. Пришлось ему выстроить жилище — для чего естественнее всего было воспользоваться готовой формой ахейской хоромы (выше, с.24) с ее двумя колоннами между ант. Итак, в рощу была вдвинута хорома — или, что сводилось к тому же,
хорома была окружена колоннадой, заменившей деревья живой рощи. Дерево суживается кверху; ту же форму получила и развившаяся из него колонна, и этому принципу новой эллинской колонны подчинилась и старая ахейская междуантная колонна. Так возник эллинский храм.
Если смотреть на него с фронта, то в нем различаем следующие части: 1. Три ступени, ведущие на
стилобат, то есть — устланную каменными квадратами прямоугольную площадь.
2.
Колонны, (обыкновенно шесть), состоящие каждая из ствола, капители и абака. Ствол непосредственно вырастает из стилобата, как дерево из почвы; он украшен продольными желобками («каннелюрами») с острыми гранями; кверху он заметно суживается. Капитель имеет форму подушки (echinos, собственно — «еж»), тем более выпуклой, чем древнее храм. Абак — квадратная плита над капителью. 3.
Антаблемент, состоящий из гладкого архитрава, фриза с чередующимися триглифами и метопами (по одному триглифу под каждой колонной и каждым пролетом) и нависающего карниза. 4.
Фронтон, то есть треугольная площадь между карнизом и плоской двускатной крышей. С боков, конечно, не было фронтонов, зато карниз украшался львиными головами, через которые стекала дождевая вода.
Строился храм вначале из дерева, позднее из известняка; к мрамору перешли лишь в конце нашей эпохи. Условиями деревянной архитектуры объясняются и особенности описанного храмового стиля, сохраненные как своего рода архитектурные пережитки и после перехода к камню.
Этот стиль мы называем
дорическим, но он встречается повсеместно в Греции. Ему противополагается стиль
ионический, развившийся в Малой Азии тоже из деревянной архитектуры, но при металлической ее облицовке. Отличается он от дорического в следующих частях: 1) колонна имеет под собой так называемый базис; 2) сама она стройнее, не очень заметно суживается и имеет каннелюры с тупыми гранями; 3)
ее капитель украшена так называемыми «волютами» (завитушками); 4) архитрав состоит из трех полос; 5) фриз — гладкий (то есть триглифы отсутствуют). Другие особенности относятся к орнаментике, которой мы не касаемся. В общем, дорические храмы производят более величавое, ионические — более изящное впечатление. И то и другое усиливалось привлечением к украшению храма также и скульптуры с живописью.
Скульптура украшала, однако, — и в этом сказывается глубокая осмысленность греческой архитектуры, — не рабочие, а нейтральные части здания, преимущественно метопы (а в ионических храмах — целый фриз) и фронтоны, причем первые — рельефными, а вторые — статуарными композициями.
Живопись привлекалась в виде так называемой полихромии как целых полей (триглифов, метоп, фронтонов), так и отдельных узоров.
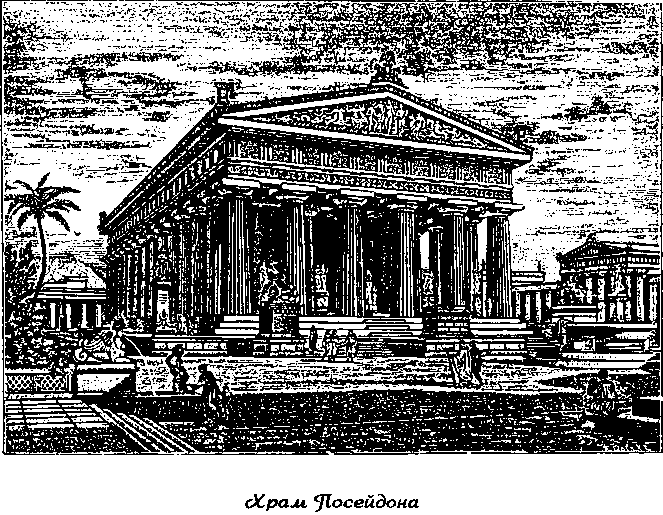
Первыми храмами, согласно сказанному, были храмы Аполлона; от него они распространились и на других богов. В VII веке до Р.Х. вся Греция покрылась храмами. Строили их преимущественно на акрополях, где они, соответственно последовательной аристократизации Греции, вытеснили прежние царские дворцы; затем на городских площадях (agorai), но также и в других частях города. Особенно дорогими греку были храмы на выдающихся в море мысах, издали приветствовавшие возвращающегося на родину пловца, — таковым был поныне незабвенный храм Посейдона на аттическом Сунии. Если бог был предметом всеэллинского почитания — как Зевс в Олимпии, Аполлон в Дельфах и на Делосе, Деметра в Элевсине, — то и обстановка была много роскошнее. Ему отводилась обширная ограда (peribolos); в ней господствовал его храм, но по соседству были и храмы родственных божеств; вдоль «священной дороги» стояли посвящения (статуи, колонны) государств и частных лиц, затем — так называемые «сокровищницы» (thesauroi) преданных богу государств, тоже имевшие форму храмиков, затем всевозможные портики, монументальные полукруглые скамьи, фонтаны и т.д. Священная дорога вела к большому алтарю бога перед его храмом, из таинственного полумрака которого внушительно смотрел его кумир; кругом была площадь, на которой собирался народ, чтобы присутствовать при гекатомбе и молитвенных хороводах.
Б.
Скульптура. После падения ахейского искусства начинается около 700 года до Р.Х. новое возрождение скульптуры, но уже на сакральной почве; свою главную задачу она видит в изображении
кумира бога и украшении его храма. И здесь вдохновительницей была религия Аполлона; первые сохраненные нам кумиры — кумиры Аполлона (в виде нагого юноши) и Артемиды. Их место было в храме, часть которого они составляли; отсюда на первых порах обязательное и для них требование строгой симметрии. Вначале она была полной; затем художники-«дедалиды» (то есть искусники) дерзнули выдвинуть вперед одну ногу; традиция, конечно, приписала это новшество их мифическому родоначальнику Дедалу, о котором поэтому говорили, что он создавал «убегающие изваяния»; но в течение всего нашего периода был в силе так называемый «
закон фронтальности», по которому одна и та же вертикальная линия разрезала и лицо, и торс на две равные половины. Иногда старались придать лицу некоторую оживленность, изображая на нем улыбку. Полной свободы статуарная скульптура за весь наш период достигнуть не могла; мы называем его периодом
архаическим.
Центрами искусства были тогда ионийские города Малой Азии, особенно Милет и Эфес; отсюда это
ионийское искусство перекинулось на Киклады, особенно на богатые мрамором Наксос и Парос, и на славные своей металлургической техникой Самос и Крит. Мрамор и бронза стали излюбленным материалом скульптуры, сменяя первоначальный материал — дерево; все же скульптуре не сразу удалось освободиться от условностей деревянной техники, и древнейшие кумиры еще сильно напоминают обрубки
деревянных стволов. К концу периода основываются школы также в Сикионе, Эгине, Афинах. Это имеет последствием обособление дорической и аттической скульптуры, противоположивших известную строгость и трезвость относительной мягкости ионических линий и форм и пышности ионической драпировки.
Скульптурное украшение храма имело своим полем, согласно сказанному (выше, с.92), фронтоны, дорические метопы и ионийские непрерывные фризы; каждая из этих трех частей ставила скульптору особую задачу. При заполнении статуями
фронтонного треугольника приходилось изображать, кроме стоячих, еще наклонные и лежачие фигуры, притом в полупрофиль и в профиль, что было несовместимо с сохранением закона фронтальности. Здесь поэтому гораздо раньше достигается свобода движения, и часто лишь отсутствие выразительности доказывает нам, что данная фронтонная группа принадлежит еще к архаическому периоду.
Метопы представляли собой квадрат; задача его заполнения рельефными фигурами повела к требованию попарности, — вот почему излюбленными сюжетами метопной скульптуры стали поединки, особенно греков с кентаврами или с амазонками, причем чередование мужских фигур с женскими и человеческих с полулошадиными доставляли глазу приятное разнообразие. Для
ионического фриза характерной была непрерывность; естественной темой были поэтому собрание или шествие. А так как пустые пространства между головами нарушали бы впечатление непрерывности, то возникло требование
исокефалии (то есть чтобы все головы были на одинаковой высоте), ради которого художники с легким сердцем жертвовали требованиями пропорции в тех случаях, когда среди стоячих фигур приходилось изображать сидячую или конную.
Вся эта скульптура была сакральной; изваяния людей-современников допускались только в тех случаях, когда их освятила либо победа — на всеэллинских играх, либо смерть. Но и тогда статуя должна была быть «аниконической», то есть не портретной, а идеализованной, и нам бывает трудно отличить человека от бога. Сюда же относятся и статуи обоих «тираноубийц» (выше, с.76), изваянные к концу нашего периода первым афинским скульптором, о котором мы знаем, —
Антенором.
В.
Живопись в нашу эпоху и в следующую изучается нами исключительно на керамических изделиях; но в то время как для следующей эпохи существование настоящей разноцветной живописи нам засвидетельствовано, и только ее памятники погибли, — для нашей даже существование живописи высокого стиля представляется сомнительным. Вместе с дворцами ахейской эпохи и их стенопись отошла в прошлое. Было ли принято украшать фресками внутренние стены храмов? Вряд ли — свидетельств и следов не сохранилось никаких. Итак, придется допустить, что керамика была единственным скромным полем для живописцев нашей эпохи.
И здесь, после крушения ахейской культуры, пришлось начинать сызнова. Этим началом был так называемый
геометрический стиль (приблизительно до 700 года до Р.Х.): на фоне, сохраняющем натуральный цвет глины, изображаются красновато-бурые узоры геометрического характера (зигзаги, меандры, круги, розетки и т.д., но не характерные для ахейской эпохи спирали и полипы); встречаются и человеческие, и животные фигуры, крайне тощие и скелетообразные. Так как сохраненные нам вазы найдены все в гробницах, то, естественно, преобладают сцены похорон — для нас драгоценный памятник быта того времени.
Затем (VII век до Р.Х.) дает себя чувствовать влияние азиатских колоний, естественных посредниц между греческим и восточным миром: появляются восточные узоры (пальметки, лотосы) и восточные фантастические фигуры (сфинксы, сирены, грифоны), это —
ионический стиль. Со временем торговый Коринф монополизирует производство ваз и создает более или менее однообразную технику; ваза делится на ряд полос, каждая украшается фризом из животных, реальных и Фантастических, причем пустые пространства заполняются розетками и тому подобными орнаментами
(коринфский стиль).
Затем победы и законы Солона ведут к расцвету керамики в
Аттике, самой природой наиболее облагодетельствованной в этом отношении: ваза окрашивается в красный цвет, и на этом фоне черным лаком выводятся силуэты животных и людей
(чернофигурный стиль), причем, ради ясности, лицо, руки и ноги женщины нередко покрываются белой краской. Фигуры еще условны, движения угловаты, но все же чувствуется большой прогресс в сравнении с предыдущим периодом. Преобладают сцены мифологического характера, иллюстрации к героическому эпосу, свидетельствующие о его популярности в Афинах; но встречаются и бытовые сцены. особенно пиршества мужчин и беседы девушек у фонтана. Сама форма сосуда получает невиданное раньше благородство: он точно вырастает из земли, причем бьющая снизу растительная сила округляет его сверху (ср. особенно амфору, кратер, гидрию). В соответствии с достигнутыми успехами растет и самосознание мастеров: лучшие увековечивают свои имена, такой-то (гончар) — epoiese, такой-то (живописец) — egrapse.
В той же Аттике, при Писистрате, вазопись испытывает еще одну решающую реформу: вся ваза покрывается черным лаком, только фигуры остаются красными, причем внутренние линии наводятся на эти красные силуэты черной — краской
(краснофигурный стиль). Сравнительно большее удобство этого метода дает художнику возможность достигнуть почти полного реализма в изображении человека: только известная симметрия в драпировке, а также упомянутая уже условность (выше, с.44) в изображении глаз показывают нам, что архаизм все еще не преодолен. К этому
строгому стилю краснофигурной росписи принадлежат наиболее прославленные мастера: Бриг (Brygos), Дурид (Duris), Евфроний; от них нам сохранено немало памятников (особенно плоских чаш) поразительной тонкости и красоты.
Так-то и это скромное гончарное ремесло в своем развитии указывает на предстоящее величие Афин.
§ 16. Мусические искусства. Их развитие мы можем проследить в четырех направлениях: 1) как развитие триединой
хореи, то есть соединения поэзии, музыки и пляски; 2) как развитие освободившейся от пляски, но удержавшей музыкальный элемент в напеве и аккомпанементе
песни; 3) как развитие обособившейся также и от слова чистой
музыки, и, наконец, 4) как зарождение и развитие чуждого всякой хорее неразмеренного слова — так называемой
прозы. Но отсутствие памятников для хореи вплоть до VII века до Р.Х. заставляет нас начать со второго направления — с окрыленной напевом песни, которая именно для того, чтобы не превратиться обратно в хорею, должна была быть объективной, то есть былевой. Другими словами — должна была быть
эпосом.
А. Время художественного развития наступило тогда, когда зародилось сословие носителей и былевого предания, и технических приемов его обработки; это были
певцы, аэды, «вещие» люди ранней античности вплоть до 600 года до Р.Х., когда их в этой роли сменили философы. Они состояли в цехе ремесленников и называли себя охотно
гомеридами, то есть сладителями (от homo-«co» и глагольного корня ar-«лад»); это наименование при естественной семейной преемственности ремесла должно было неизбежно вызвать представление о родоначальнике Гомере, так же как родственное наименование ваятелей-дедалидов (выше, с.94) — представление о мифическом родоначальнике Дедале. Предание, носителями которого были гомериды, обнимало, прежде всего, важнейшие для мыслящего человека вопросы — космогойический и эсхатологический. В первом темой певцов были религия Зевса и его попытка через созданного им богочеловека (в ахейском изводе — Ахилла) избежать гибели (выше, с.53); во втором — прохождение героя (Одиссея) через все царства многообразной смерти. Колониальное движение с его войнами и странствованиями повело к очеловечению обоих мифов и к их слиянию с событиями дня: из космогонического мифа возник эпос о троянской войне, из эсхатологического — эпос о возврате Одиссея; отпавшая религиозная идея была мало-помалу заменена нравственной, особенно сильной в первом эпосе, в
«Илиаде».
Оскорбленный верховным вождем Агамемноном, Ахилл пылает «гневом»; он отказывает своим соратникам в своей помощи, удаляется от общего дела — его желание исполняется, оставленные им ахейцы терпят поражение, но в происходящей без него битве гибнет его лучший и любимейший друг, Патрокл. Тогда его гнев от своих обращается против врагов: он мирится с Агамемноном и требует скорейшей битвы, в которой он мог бы сразиться с убийцей своего друга, Гектором, сыном троянского царя Приама. Вторично его желание исполняется: он мстит за Патрокла, убивает Гектора — и вторично познает тщету своего гнева, когда ночью в его палатку является сломленный горем старый Приам и, целуя его руку, умоляет его отдать ему для честных похорон тело его убитого сына. Такова наука «песни о гневе Ахилла»:
О, да погибнет вражда, от богов проклята и от смертных
(
Ил. XVIII, 107) — наука, до величия которой человечество все еще не смогло возвыситься.
Менее величава, но более пленительна разнообразием сменяющихся картин вторая поэма — «
Одиссея», эта трогательная «песнь о тоске по родине». И она примыкает к троянской войне: отплывший по взятии города, Одиссей бурей сбивается с правильного пути, ветры уносят его в сказочную даль: то страшные опасности, то ласка приветливых богинь преграждают ему путь домой, — но он остается верен своему страстному желанию
Видеть хоть дым, от родных берегов вдалеке восходящий
(
Од. I, 67). И вот он, наконец, на родине, приехав один, без товарищей, — но здесь он видит себя чужим в собственном доме, которым завладели в его отсутствие насильники-женихи его верной жены Пенелопы. Его месть женихам — вторая часть поэмы; она кончается его признанием женой и примирением с народом.
Но это только общее содержание; еще более пленяет нас гомеровский эпос отдельными сценами, изображенными с полным драматизмом и обрисовкой действующих лиц. В искусстве характеристики он достиг поразительного мастерства: с одинаковым совершенством изображает он и суровые, и мягкие натуры, и, что всего труднее, совмещающие суровость с нежностью, вроде Ахилла. В этом искусстве мы — как и в представленном быте — должны признать наследие ахейских времен; позднейшие (особенно драматурги) должны были ему учиться сызнова, так же как и изобразительным искусствам.
Стихом героического эпоса, благодаря гомеридам, установился гекзаметр; он остался таковым до самого конца античности. Произносился он нараспев, под несложный аккомпанемент «форминги»; обстановку, при которой певец «пел» внушенные ему музой отрывки, превосходно изображает «Одиссея» (особенно
Од. VIII): ею был царский двор и царская трапеза. Аристократизация Греции положила конец этой обстановке; поколение аэдов перевелось; его сменило поколение «рапсодов», помнивших своего «Гомера» наизусть и читавших его всенародно, на «рапсодических» состязаниях. Так обстояло дело и в Афинах, по крайней мере, со времени Солона, постановившего, чтобы на «панафинейском» агоне был исполняем весь Гомер.
А так как для этого требовался писаный текст, по которому можно бы было проверять рапсодов, то со времени Писистрата «Гомер» стал книгой, которую ничто не мешало ввести и в школьное употребление, — что Эллада и сделала, к благу для себя, повсеместно.
Вернемся, однако, к поэтам. Они перенесли гомеровское предание из ахейской Греции, его первоначальной родины, сначала в эолийские, а затем и в ионийские колонии Малой Азии; здесь, в Ионии, Гомер получил свою окончательную редакцию, спаявшую первичное ядро с последовательными наслоениями и объединившую все части общим языком — ионийским, но с многочисленными эолийскими «пережитками». По успешном окончании этой задачи они принялись за новые; было создано великое множество эпических поэм из различных циклов героической саги: о приключениях аргонавтов, о судьбе Эдипа и походе семи вождей против Фив, о подвигах и смерти Геракла и особенно — об отдельных эпизодах троянской войны, от свадьбы Пелея и Фетиды до смерти Одиссея. Этот «
эпический цикл» (не сохранился) был очень интересен по своему содержанию, но поэтического таланта его творцы-аэды проявили мало: идя по стопам Гомера, они ремесленно повторяли его приемы и формулы с усердием, которое часто напрашивалось на пародию и нашло ее, наконец, в лице сохранившейся довольно забавной «
Войны мышей и лягушек» (Batrachomyomachia).
Но вот, пока в азиатской Греции в вымирающих школах аэдов героический эпос затягивался тиной шаблонности, в европейской нашелся человек, указавший эпической поэзии новые пути. Это был
Гесиод из беотийской Аскры у подножия Геликона. Его отец был родом из Эолии и оттуда, надо полагать, перенес на свою новую родину язык и технику гомеридов; так-то Гесиод мог стать поэтом. Для нас это — первая уловимая личность в античной литературе (VIII век до Р.Х.). Своим поэтическим призванием он был обязан видению, в котором перед ним предстали воочию беспомощность и низменноматериальные интересы его сограждан, деревенского пролетариата, изнуренного тяжелым трудом и обижаемого «дароедами» из родовитой знати (выше, с.70). В противоположность аэдам-гомеридам, гостям царских трапез, он стал певцом крестьянской бедноты; для нее он создал свою главную поэму «Труды и дни», очень вольно скомпонованную (главные части — о «трудах» земледельца и судовщика и о счастливых и несчастных «днях», — сплетаются с мифами, притчами, личными воспоминаниями и нравоучительными изречениями, подчас удивительно глубокими и меткими). Для нее же он составил «Теогонию», поэму о происхождении богов, в которой он пытается противопоставить гомеровской фантастичности трезвую и сухую истину: эта поэма имела большое значение для установления мифолого-генеалогической сущности греческой религии. Так-то Гесиод стал родоначальником второй главной ветви эпического древа —
дидактической. Собственно дидактика — достояние научной прозы, к которой она и отошла впоследствии; но в те ранние времена условия, препятствовавшие возникновению этой прозы, естественно заставляли учителей-певцов придавать своим поучениям стихотворную форму.
Певцы гесиодовской школы отчасти продолжали его строго дидактическую линию, перелагая в стихи то ту, то другую область прикладного знания; отчасти они, подражая его «Теогонии» и подчиняясь соблазну аристократических дворов, воспевали мифические родословные своих покровителей. Из этих последних работ возник очень плодовитый
генеалогический эпос как разновидность дидактического; после героического это была уже вторая поэтическая обработка греческой мифологии. Генеалогический эпос важен также как один из двух корней позднейшей историографии (вторым была летопись).
Приблизительно через столетие после отщепления дидактического эпоса ионийское древо эпического песнопения дало новый, очень живучий побег в виде
элегии. У нас это слово прежде всего вызывает представление определенного настроения — тихой грусти и мирного отречения; в нашу эпоху оно было приурочено к определенной метрической форме — соединению гекзаметра с пентаметром, образцом которого может служить знаменитое надгробие фермопильских героев:
Странник, во Спарту пришедши, о нас возвести ты народу,
Что, исполняя закон, здесь мы костьми полегли.
Типы же элегических поэм были довольно разнообразны. Из двух поэтов-основателей один,
Каллин Эфесский, своими элегиями вдохновлял своих сограждан на сопротивление надвигавшимся с востока полчищам варваров («воинственная элегия»), другой, Архилох Паросский, между прочим, утешал своего друга по поводу смерти дорогого человека («траурная элегия», образец нашей). За ними, еще в том же VII веке до Р.Х., усыновленный Спартой, афинянин
Тиртей в элегической форме возвеличил закон своей новой родины (выше, с. 78, «гражданская элегия») — тот закон, который позднее освятили своей смертью фермопильские бойцы, — и он же, как «певец в стане воинов», следуя почину Каллина, побуждал своих сограждан к самоотвержению и стойкости в мессенской войне.
Поколением позже
Мимнерм Колофонский, представитель уже порабощенной Ионии, охваченный запоздалой любовью, в полных грустного раздумья песнях пел о своей страсти и о скоротечности молодости и красоты («эротическая элегия» — к слову сказать, первое вступление любви в поэзию). Еще позже его мужественный антипод,
Солон Афинский, в славной элегии звал своих сограждан в новый бой с Мегарой из-за «желанного» Саламина; и он же — и в этом подражая Тиртею — в ряде гражданских элегий объяснил им сущность и нравственные основы своего законодательства. От всех названных элегиков нам сохранились лишь более или менее крупные отрывки; нечто целое (одну книгу с небольшим) мы имеем только от последнего в их ряду,
Феогнида Мегарского, просвещавшего своего друга Кирна в духе аристократической морали. В его «нравоучительной элегии» уже слышатся удары победоносной демократии и раскаты надвигающегося персидского погрома.
Все эти типы, очень разнородные по содержанию, объединяются известной лиричностью, обусловленной равномерностью чередования полного и неполного стиха, и свойственным ей субъективизмом. Все же это, с античной точки зрения, еще не лирика: размер слишком близко стоит к эпическому, и настоящей хореи наша элегия не знала.
Б. Возрождению хореи должно было предшествовать развитие
инструментальной музыки; а оно имело своим необходимым условием замену наивной четырехструнной форминги гомеридов более совершенным инструментом. Таковыми были два —
кифара и
флейта (aulos, правильнее «кларнет», так как он был снабжен металлическим язычком); из них первая принадлежала к обрядности религии Аполлона, вторая — к обрядности религии Диониса; упрощенной кифарой была лира, играть на которой должен был уметь всякий образованный человек. Оба годились как для чисто инструментальной игры (кифаристики и авлетики), так и для вокально-инструментальной (кифародики и авлодики).
И та и другая музыка возникла сначала в малоазийских колониях благодаря ознакомлению эллинов с восточным миром; оттуда они были переданы в собственно Грецию, где их нормы были установлены рачением дельфийского оракула в Спарте путем двух последовательных «катастаз» (katastasis) в VII веке до Р.Х., из коих первая была связана с именем лесбосца
Терпандра (для струнной музыки), вторая — с именем
Клонаса (для духовой). Эти «установления» могут нас озадачить; к чему, спросят, стеснять свободу творчества? Но они стоят в связи с огромным нравственно-политическим значением, которое древние приписывали музыке (выше, с.90): «Никогда, — говаривал композитор Дамон, — не были изменены музыкальные нормы без величайших сотрясений политической жизни», — и Платон присоединяется к его мнению (
Плат. Гос. VI, 424с.).
Основой музыки у греков были три диатонические гаммы, из коих одна, дорическая, соответствовала нашему минору, обе другие, лидийская и фригийская, почти совпадали с нашим мажором; насколько, однако, их музыкальное чувство отличалось от нашего, видно из того, что они приписывали своей дорической тональности мужественный и строгий характер, обеим другим — либо изнеженный, либо страстный. Аккордов — а с ними и «гармонии» в нашем смысле — античная музыка не знала; зато мелодия была очень развита, допуская не только хроматизм (то есть полутоны), но и так называемые chroiai, то есть четвертные тона. Интервалы в напевах были небольшие, как ныне в восточной музыке, вследствие чего эти напевы производят на нас впечатление какого-то журчания. Вообще это — для нас самая чуждая область античной жизни; если бы нам были сохранены самые славные композиции древности, мы бы их не поняли.
Скажем несколько слов и об античной
пляске. Наших «пар» (кавалера с дамой) она не знала: пляска была либо хороводной (хорея в узком смысле), либо одиночной (орхестика в узком смысле). Она исполнялась не ногами только, но и руками и прочим телом, чем и исключалась попарность в нашем смысле. Она была либо лирической (подобно нашей), либо драматической, изображая какой-нибудь миф, но в обоих случаях содержательной, даже когда она была лишена сопровождающего слова. О ее освящении религией речь была выше (с.45). В силу всего сказанного пляска была в древности одним из самых могучих средств образования и стояла так высоко, как никогда впоследствии: помимо того, что она «раскрепощала тело», придавая его органам подвижность и выразительность, — она своим содержанием настраивала и обогащала душу пляшущего. Этим объясняется употребление у греков слова achoreutos в смысле нашего «необразованный», а также и замечательное слово Платона: «Он пляшет хорошо, прекрасно; но прибавим требование, чтобы он плясал лучше» (
Плат. Зак. II, 654с.).
В. Развитие музыки как части триединой хореи имело последствием и развитие соединенной с ней поэзии, то есть
хорической лирики. Она стала господствующей отраслью греческой поэзии в VII и VI веках до Р.Х. после упадка светского эпоса, а так как она была исключительно богослужебного характера, то ее торжество было завершением сакрализации также и поэзии в указанную эпоху — эпоху расцвета аристократии и дельфийской религии.
В центре интереса был богослужебный гимн с его разновидностями («пеан» — в честь Аполлона, «просодия» — прецессионный гимн в честь его же, «парфения» — гимн для исполнения девами, «дифирамб» — в честь Диониса и т.д.). Его композиция была либо монострофическая, либо эподическая. В первом случае одна и та же метрическая
строфа повторялась неопределенное число раз, при все новом и новом содержании; во втором — размер «строфы» повторялся в «антистрофе», после чего следовал «эпод» в другом, хотя и родственном размере, и вся эта триада повторялась неопределенное число раз при все новом и новом содержании. В обоих случаях размер строф (и эподов) изобретался поэтом для каждого гимна особо, — общепринятых строф не было; этим хорическая лирика отличается от мелической (см. ниже, с. 106) и от нашей. По содержанию гимн состоял из трех частей: мифологической, нравоучительной и личной. В мифологической обрабатывался один какой-нибудь миф, притом с точки зрения дельфийской религии (ниже, с. 110); после героического и генеалогического эпосов это было уже третье поэтическое претворение греческой мифологии. В нравоучительной развивались дельфийская общественная и политическая мораль; в личной, наконец, поэт говорил о себе и о том, что было близко его сердцу.
Началось развитие хореи в той же Спарте, которая, благодаря Терпандру, стала законодательницей и музыки; ее основоположником был
Алкман (VII век до Р.Х.), родом лидийский грек, так же усыновленный Спартой, как и Терпандр и Тиртей, заботой тех же Дельфов, которые всячески стремились окультурить свою могучую светскую союзницу. Он был преимущественно воспитателем женской молодежи и особенно прославился своими парфениями — очень грациозными, если судить по сохраненному образцу. В них, впрочем, преобладала личная часть: нравоучительная и особенно мифологическая давались ему туго. Этот последний пробел восполнил несколько позже сицилиец
Стесихор, первый крупный поэт греческого Запада. В его объемистых гимнах мифологическая часть до того преобладала над остальными, что они производили впечатление наших баллад. По стопам обоих пошел
Ивик (Ibykos) Регийский, герой известной легенды; его «отрочьи» гимны доставили ему такую же славу, какую Алкману его парфении. Конец VI и начало V века до Р.Х. принадлежат знаменитому триумвирату хорической лирики, членами которого были оба кеосца,
Симонид (Младший) и
Вакхилид, и фиванец
Пиндар; мы можем непосредственно судить только о двух последних, так как только их произведения нам отчасти сохранены. Они ввели в хорическую лирику также и
энкомии, то есть гимны в честь людей, — но людей освященных либо победой (epinikion), либо смертью (threnos). Религиозный характер от этого не пострадал, так как они исполнялись на — благодарственном или поминальном — молебствии; им объяснялось и оправдывалось то повышенное настроение, которое свойственно «пиндарическому» стилю. Пиндара можно оценить только в его родной стихии — в античной религиозной хорее; не его вина, что его величавые и глубокомысленные поэмы стали непонятыми образцами для напыщенно-льстивых «од» совсем не богослужебного характера.
А впрочем, из общего фона религиозной хореи рано выделились два рода лирической поэзии, имевшие свою собственную судьбу и слившиеся впоследствии в новую поэтическую единицу —
драму. Это были, во-первых, —
ямб, во-вторых —
дифирамб; родиной первого была религия Деметры, родиной второго религия Диониса.
Об обеих речь впереди; здесь будет достаточно заметить относительно ямба, что в хороводах Деметры было принято прерывать торжественность хореи шутливыми выпадами личного характера; узаконенным для них размером был ямбический, более всего приближающийся к разговорной речи. Легенда выразила это отношение ямба к культу Деметры тем, что сделала предполагаемую чиноначальницу Ямбу резвой служанкой элевсинской царицы Метаниры и рассказывала про нее, что ей одной удалось своей веселостью вызвать улыбку на лице ее гостьи, огорченной потерей дочери богини Деметры. Из рода жрецов паросской Деметры происходил
Архилох (VII век до Р.Х.), тот самый, которого мы назвали в числе первых элегических поэтов; он выделил ямб из хореи и, сделав его самостоятельным, воспользовался им для поэтического выражения всей горечи и злобы, которая накипела в его страстной и мятежной душе, — злобы против своих личных врагов, против всей беспокойной жизни колонистов-золотопромышленников на острове Фасосе, в числе которых находился и он, и особенно — против своего земляка Ликамба, обещавшего ему сначала свою дочь Необулу и затем нарушившего свое обещание; последних он, говорят, своими «ямбами» так опозорил, что они с отчаяния повесились. Их размером был, кроме ямбического триметра, еще и трохеический тетраметр, а также и так называемый эпод (отличный от хорического, выше, с. 103), то есть двустишие, состоящее из долгого и короткого стиха. Поколением позже жил
Симонид (Старший) из Аморгоса; он избрал ямб оружием уже не только личной, но и общей сатиры, образчиком которой может служить сохраненное нам его стихотворение «о женщинах». В нем он, следуя чисто ионическому обычаю «сравнения» (eikazein), производит различные типы женщин от различных животных или стихий: капризницу от моря, лентяйку от земли, неряху от свиньи, злюку от собаки, кокетку от лошади и т.д.; сатира кончается теплым описанием благонравной и приветливой женщины, произошедшей от пчелы. К манере Архилоха вернулся третий крупный ямбический поэт
Гиппонакт Эфесский (Hipponax, VI век до Р.Х.), но он пожертвовал благородством его языка и, вполне сроднившись с низменной обстановкой, в которую его толкнула судьба, стал настоящим представителем босяцкой поэзии. Ямбический триметр своего образца он слегка видоизменил, введя спондей в последнюю стопу, чем достиг очень эффектного и подходящего к характеру насмешки перебоя ритма. Вся эта ямбическая поэзия была рассчитана прежде всего на произношение и затем уже записывалась; на всенародных празднествах поэт-певец обращался к толпе и нараспев читал ей свои стихи, сопровождая их игрой на простом струнном инструменте, так называемом ямбике (iambyke). Связь с хореей, порванная Архилохом, была восстановлена в VI веке до Р.Х. включением ямба как диалогического размера в состав драмы; но для этого надо было предварительно развиться до надлежащей высоты ее второму составному элементу —
дифирамбу.
Этот
дифирамб был первоначально восторженной, экстатической песнью в честь Диониса. Особая роль была в нем предоставлена запевале, в силу чего этому роду хорической поэзии с самого начала был свойственен некоторый драматический элемент. Он был усилен тем, что участники хора стали наряжаться сатирами, — так назывались лесные духи, веселые товарищи Диониса; так как они представлялись полулюдьми-полукозлами, то их песнь называлась «песнью козлов»,
tragodia (от tragos — «козел»). Это нововведение приписывается дифирамбическому поэту при дворе Периандра Коринфского, легендарному Ариону. Его последователем был тот
Феспид (Thespis), которого Писистрат пригласил в 534 году до Р.Х. украсить своей «трагедией» учрежденный им праздник Великих Дионисий; здесь, на афинской почве, трагедия расширила свой кругозор, введя в него уже не только дионисический круг преданий, но и всю вообще греческую сагу и даже — в своей ранней, юношеской смелости — и современную историю. Так, после горестной для всей Греции неудачи ионийского восстания и взятия персами Милета в 494 году до Р.Х.
Фриних поставил в Афинах трагедию под заглавием «Взятие Милета» и тронул ею до слез собравшийся смотреть ее народ.
Впрочем, в этой ранней трагедии драматический элемент был слабо развит; это была скорее (дифирамбическая) кантата с вложенными (ямбическими) рассказами вестников. Превращение трагедии в настоящую драму состоялось лишь в следующую эпоху.
Но почин Архилоха, от которого ведет свое происхождение ямб и, косвенно, драма, призывал к жизни и другую отрасль поэзии — лирику в нашем смысле слова, или, как говорили греки,
мелику. Ее зародышем были те
эподы, о которых речь была выше — краткие двустишные строфы. Путем повторения их составных стихов нетрудно было превратить их в несколько более богатые, но все же очень простые трех- и четырехстишные; так возникла
мелическая строфа. От хорической она отличается — кроме этой своей простоты, а также и отсутствия хореи — еще своей всеобщностью. Она не была приурочена именно к данной поэме: раз изобретенная, она могла употребляться в самых различных стихотворениях и своего изобретателя, и, равным образом, других поэтов. Свой субъективный характер она унаследовала от ямба: делом каждого поэта было расширить или сузить шкалу чувств, носительницей которых он ее делал.
Еще близко к Архилоху стоит первый мелический поэт, лесбосец
Алкей (около 600 года до Р.Х.); проведя свою жизнь в борьбе с единоличными властителями своей родины — Меланхроем, Мирсилом и, к сожалению, также благородным Питтаком, — он именно ее сделал содержанием своих «песен борьбы» (stasiotika), самых знаменитых среди его стихотворений. Его имя носит одна из наиболее известных мелических строф, о которой даст представление сохраненное нам начало одной из его песен:
С причудой ветров сладить не в силах я.
Смотри, отсюда грозный нагрянул вал,
И вдруг — оттуда; мы ж несемся
Средней тропою на черном струге.
Нежнее настроена лира его землячки и младшей современницы, стихотворицы
Сафо — первой певицы женских чувств и женской доли. Ее поэтическая деятельность определялась тем, что она была руководительницей кружка девушек (выше, с.67): священнодействия в честь богинь-покровительниц, игры с подругами на цветистых лужайках, девичья дружба и девичья ревность, властная любовь, вырывающая девушку из кружка на поприще супруги-гражданки, свадьба вырванной подруги, постепенно умолкающие воспоминания о прежней дружбе и, наконец, горестное забвение — вот предметы песнопения Сафо. Легенда освятила ее имя поэтическим сказанием о ее несчастной любви к молодому Фаону, из-за которой она бросилась в море с Левкадской скалы; и мы поныне не знаем, кто этот Фаон — живой ли юноша или утренняя звезда. Очень возможно, что именно к этой несчастной любви относится ее задушевная молитва Афродите, начало которой мы приводим, как образец унаследовавшей ее имя «сафической строфы»:
Ты, царица нег на резном престоле,
Зевса дочь жестокая — о, внемли мне!
Дай душе моей от страданий горьких
Отдых, святая!
Это были оба лесбосских поэта, в песнях которых, поскольку они нам сохранены, нас поныне пленяет сила и нежность эолийского наречия. Иного закала был третий в числе мелических поэтов, иониец
Анакреонт. Когда его родной город Теос был взят персами, он был в числе тех мужественных его граждан, которые, предпочитая изгнание подчинению, основали в суровой Фракии колонию Абдеру; но затем он пресытился жизнью колониста, которая едва не сделала из него второго Архилоха, и принял приглашение быть другом и советником самосского тирана Поликрата. Затем, по его падении, мы встречаем его при дворе Писистратида Гиппарха в Афинах, затем у одного из князей беззаконной Фессалии, после чего его следы теряются. Блеск придворной жизни отразился на поэзии Анакреонта: много изящества, не много глубины, но надо всей этой игрой мимолетных страстей примиряющая улыбка искушенного жизнью и все же сохранившего к ней любовь поэта-мудреца.
Г. Остается бросить взгляд на первые шаги зарождающейся прозы. Причина ее позднего возникновения как прозы писаной объяснена выше (с.87); она не могла помешать ей существовать уже с давних пор в виде прозы устной. Художественность она могла приобрести — и, по-видимому, приобрела — в устах
рассказчиков-краснобаев обоего пола. Так, в Афинах на празднике Геракла (ниже, ч. III, § 15) назначенные государством балагуры тешили народ забавными рассказами; на празднике Осхофорий (там же) старушки-рассказчицы забавляли сказками мальчиков-победителей; но и помимо того в силу обычая, поныне сохранившегося на Востоке, особенно в зимнее время, в деревенских «лесхах» к греющимся у очага селянам охотно приходили краснобаи и развлекали их рассказами, в которых принято было обходиться очень вольно не только с истиной, но и с правдоподобием, что повело к возникновению поговорки:
Речи такие зимой за огнем мы послушаем лучше!
Понятно, что история не сохранила нам имен этих краснобаев — за одним, впрочем, исключением. Им был лидийский грек
Эзоп (Aisopos), живший в VI веке до Р.Х.; с его именем связано на все времена представление о
басне, специально — о басне животных. Он свои басни только рассказывал; впоследствии они были записаны как «Эзоповы басни» и стали предметом изучения в школах. Лидийское имя Эзопа не должно наводить на мысль о восточном происхождении самой басни: подобные сборники возникали и на других окраинах греческого мира — в Сибарисе, в Сицилии, в Ливии (то есть Кирене) и т.д. Вообще, народная традиция охотнее всего кристаллизуется на окраинах, так как здесь национальное самосознание бывает более сильным. Особенно славились, после эзоповских,
сибаритские басни; они отличались от первых тем, что выводили не животных, а людей (так, из басен Крылова «Квартет» принадлежит к типу эзоповских, «Демьянова уха» — к типу сибаритских басен).
Перейдем, однако, к прозе писаной. Из трех областей, на которые разделили впоследствии художественную прозу (выше, с.8), наша эпоха разработала только две, а именно
философию и
историографию. К обеим до их разделения принадлежит первый греческий прозаик
Ферекид (Старший) из Спроса (VI век до Р.Х.), автор странной «книги о пяти ущельях» (Pentemychos); это был опыт представить древнейшую судьбу земли и богов на канве старинных генеалогий. О философии, как о науке, сказано выше; здесь следует заметить, что сочинения оставили после себя только философы ионийской школы, начиная с Анаксимандра; учения же Пифагора и его школы были записаны лишь в следующую эпоху. Причины тоже объяснены выше (с.88). Литературным языком был ионийский, уже начиная с Ферекида. Стиль рассуждения и повествования был у всех названных, насколько мы можем судить, деловым и безыскусным; исключение составляет
Гераклит, один из самых замечательных писателей всемирной литературы. Не видя возможности облечь свою глубокомысленную философию в форму неразработанного еще философского языка, он всюду заменяет отвлеченность образом-символом; вся его проза — символическая, и в этом заключаются как ее прелесть, так и ее трудность, доставившая Гераклиту прозвище Темного.
Историография развилась из двух корней — поэтической генеалогии и монументальной летописной записи. Их соединение произошло лишь в следующую эпоху; историки нашего периода — их мы называем старшими
логографами — перерабатывают в прозаической форме, с большей или меньшей долей критики, генеалогии гесиодовской школы. Таков был главный из старших логографов,
Гекатей Милетский (конец VI века до Р.Х.), оставивший, впрочем, потомству, кроме своих «Генеалогий», еще и географическое сочинение под гордым заглавием «Обход земли» (ges periodos), с приложением географической карты (второй после Анаксимандра) — плод своих путешествий по Персии и Египту. Это был вообще деловитый, трезвый человек; он предостерегал своих сограждан не поднимать знамя мятежа против Персии, указывая им военные силы их врагов; когда же восстание, согласно его предсказанию, кончилось неудачей, он же был отправлен послом, чтобы исходатайствовать сносные условия подчинения для исстрадавшейся Ионии.
Глава IV. Религия
В сравнении как с предыдущим, так и со следующим периодом, настоящий, эллинский, был периодом особого религиозного подъема и той сакрализации культуры, о которой неоднократно была речь. Мы не можем теперь судить, насколько великие потрясения греческой жизни, сопровождавшие крушение ахейских держав, подготовили почву для этого подъема, и, равным образом, не можем учесть доли, внесенной в общегреческое настроение умов новоприобщенными северными племенами. Самый же факт подъема неоспорим; его выразительницами были, главным образом, три новые религии, расцветшие именно в нашу эпоху и наложившие на все свою печать. Из них только одна — религия Деметры — была исконно греческого происхождения; обе другие — религия Диониса и, в особенности, религия Аполлона — пришли и Грецию извне, в виде обратной волны, вызванной колонизационным движением.
Мы начинаем с последней, затронувшей наиболее разнообразные стороны греческой жизни.
§ 17. Религия Аполлона. Ее родиной была, насколько мы можем проследить, гомеровская Троя; еще для «Илиады» Аполлон Троянский — не ахейский бог! Здесь он, бог-стрелок, почитался как вещее божество света, и вместе с ним — его пророчица Сивилла (в Трое она именовалась Кассандрой). Колонизационное движение имело последствием перенесение его культа в европейскую Грецию. Состоялось оно по всем трем «мостам» самого колонизационного движения. При этом среднее, ионийское течение остановилось на острове
Делосе, который унаследовал легенду о рождении Аполлона и его сестры Артемиды Латоной и стал центром ионийского культа этого бога; северное и южное встретились на склоне Парнаса и создали здесь
дельфийский храм, ставший вскоре всеэллинским религиозным центром. В дальнейшем мы под Аполлоном вообще будем везде разуметь дельфийского Аполлона.
В Греции религия Аполлона стала лицом к лицу с более древней религией Зевса. Будучи, как и вообще греческие религии, чужда всякой исключительности и нетерпимости, она вступила в дружественные отношения с ней: Аполлон стал сыном Зевса и разрешителем великого антагонизма между ним и Землей. В символической форме эта идея была выражена в основном мифе дельфийского культа: сребролукий бог своими стрелами убивает великого змея Земли, Пифона, и овладевает ее прорицалищем: отныне знание Земли принадлежит ему и через него его отцу Зевсу, власти Миры над Зевсом положен конец. В догматической форме ее высказала его Сивилла в Додоне, древнем центре религии Зевса:
Есть Зевс, был он и будет; воистине молвлю, велик Зевс!
Зиждет плоды вам Земля; величайте же матерью Землю.
Итак: Зевс предвечен и вечен, не будет ему гибели от Земли, с ней он живет в мире; это — заслуга Аполлона, за это он «велик у престола Зевса» (Эсхил. Евм. 229). С признанием этого догмата вся греческая религия вступила в новый фазис: ее бог стал вечным, всеведущим, всемогущим — он должен был стать и всеблагим. В сравнении с этим пониманием наивные боги Гомера показались слишком человечными; отсюда вражда между Аполлоном и аэдами и его попытка реформировать греческую мифологию, которую он со значительным, хотя и не полным успехом, осуществлял через своих пророков, лирических поэтов (выше, с. 103).
Культ религии Аполлона характеризуется, прежде всего, наличием тех трёх элементов, которые в нашем представлении неразрывно связаны с греческой религией вообще, но были в нее внесены только теперь: храма, кумира и жреца.
О происхождении
храма сказано выше (с.92); здесь следует заметить, что он понимался только как жилище бога, а не как место собрания для поклоняющихся. Он мог быть поэтому очень небольших размеров; народ собирался на площади перед храмом, где находился жертвенник.
Кумир появился не сразу: вначале богу ставили престол (специально Аполлону — треножник), на котором он представлялся невидимо восседающим; затем уже предпочли его изображать воочию. Это новшество породило роковой для греческой религии соблазн, давший много пищи нападкам как вольнодумцам в самой Элладе, так, позднее, иудеев и христиан: соблазн признания богом самого кумира, в силу чего человек оказывался создателем бога. Это понимание, однако, неправильно: пока кумир был только творением человеческой руки, он не представлял никакой святости, и художник мог с ним делать, что хотел. Святость он получал только после посвящения (hydrysis) в храме — после того, как бог, снисходя к молитве людей, соглашался проникнуть его своим естеством.
Но, конечно, для наивных душ кумир был самим богом: это было неизбежно. Зато этот соблазн уравновешивался огромным преимуществом. Аполлоновское представление о совершенстве божества, при наличии кумира, было перенесено и на него: только совершенное, с точки зрения красоты, изображение было достойно чести служить видимым подобием бога. Отсюда истинно греческий догмат
об объявлении бога в красоте, в силу которого греческая религия — стала матерью греческого искусства.
Что касается, наконец,
жреца, то его появление было прямым следствием появления храма и кумира: и тот и другой требовали заботы о себе, и вот эта забота поручается жрецу. А так как было непристойно вверять мужчине заботу о кумире женского божества, то рядом со жрецом мы видим и жриц. Таким образом, область религии — первая, в которой женщина достигла равноправия: характерное для античного мира явление. Следует помнить, что античное жречество не было священством в нашем смысле слова (исключение составляли мистические культы, о которых см. ниже): жрец и жрица избирались на свои
должности народным голосованием. Все же как носители народного доверия они, естественно, от имени народа возносили молитвы к своему божеству и распоряжались жертвоприношениями. как общественными, так и частными. Вообще, некоторый отраженный свет падал от бога и на них; но никакого сословия они не составляли. Жрец был, прежде всего, гражданином, а затем уже жрецом; «клерикализма» греческая государственная жизнь не знала. За одним, впрочем, исключением: мы разумеем
дельфийскую сакральную коллегию.
Ее исключительное положение имело основанием исключительное значение дельфийского храма как главного в Греции
оракула. Пророческий дар признавался здесь за дельфийской Сивиллой —
Пифией, вещавшей в «недоступном покое» (adyton) храма с аполлоновского треножника в состоянии искусственного экстаза: ее бессвязные звуки и слова приводились присутствующим жрецом в связное, хотя и загадочное гекзаметрическое изречение, которое затем толковалось вопрошавшему «экзегетами». Широкое распространение и влияние дельфийских вещаний было делом выдающегося ума руководящей дельфийской коллегии; в эпоху наибольшего процветания дельфийского оракула, в VII и VI веках до Р.Х., было принято по всем важнейшим вопросам и государственной и личной жизни обращаться к нему за советом. В частности, заслуживают внимания следующие случаи: 1. Общественные несчастья (засухи, землетрясения, эпидемии, загадочные преступления) считались проявлением божьего гнева, о средствах прекращения которого надлежало вопросить оракула. Оракул указывал требуемые священнодействия; часто они сводились к так называемой героизации, то есть к учреждению культа какому-нибудь (действительному или мнимому) мужу старины — основателю города, воину под Троей и т.д., — душа которого предполагалась более могучей, чем души обыкновенных покойников. В нашу эпоху вся Греция по указаниям Дельфов покрылась могилами таких «героев», перенесение останков которых было важным событием в религиозной жизни общин.
2. Запятнавшие себя убийствами люди или общины искали в Дельфах
очищения от тяготевшей над ними крови; это религиозное очищение стало заменой наивной ахейской виры (выше, с.31), которая отныне прослыла безнравственной. Это повело к развитию сложной практики так называемой
кафартики, для применения которой оракул нередко снаряжал на место преступления особых богоугодных мужей (между прочим, легендарного Эпименида Критского около 600 года до Р.Х.).
3. Особо важным проявлением могущества Дельфов было их руководительство
колонизационным движением (о котором см. выше, с.59).
Духовное могущество дельфийского храма с течением времени сильно увеличило его богатство — которое, впрочем, состоя в драгоценных посвящениях, было материально непроизводительным музейным богатством — и этим самым сделало его соблазнительной приманкой для завистливых соседей. Для его охраны была создана
дельфийская амфиктиония (выше, с.78); но в ней Дельфы играли пассивную роль, которая с возрастанием их могущества уже не могла их удовлетворять.
Активная политика Дельфов сказалась в следующем: 1. В объединении по возможности всего культа Аполлона; это было достигнуто: а) посредством основания в различных греческих городах своего рода подворий, так называемых Pythia, и б) посредством принятия в подданство других, самостоятельно возникших храмов. Особенно важным было присоединение обоих крайних храмов на западе и на востоке греческого мира — куманского в италийской Кампании и дидимского близ Милета, — так как оно дало возможность Дельфам расширить свое влияние и за пределы эллинской нации, о чем тотчас. 2. В заключении тесного политического союза с ведущей греческой державой тех времен, со
Спартой, которая стала светским мечом Дельфов, взамен чего Дельфы духовными средствами усиливали ее обаяние и вместе с тем, как уже было показано (выше, с. 103), заботились о ее культуре. Только к концу нашей эпохи эти отношения временно испортились, когда в Дельфах соображения мировой политики взяли верх над политикой национальной. 3. Эта мировая политика имела своим первым объектом обоих соседей греческого мира на западе и на востоке.
На западе таковым был Рим, в первый период своего величия под главенством этрусской династии Тарквиниев. С ними сношения были завязаны через посредство куманского храма; правда, изгнание Тарквиниев (510 год до Р.Х.) было поражением этой политики, но Дельфы от него быстро оправились, приняв под свою опеку римскую республику. Результатом было перенесение оракулов куманской Сивиллы («сивиллиных» книг) в Рим и через них —
постепенная эллинизация римской религии. Менее удачны были такие же и в то же время предпринятые шаги на востоке. С Лидией дела пошли хорошо: ее царь Крез стал горячим поклонником дельфийского Аполлона. Но его поражение в войне с Киром было поражением также и Дельфов. Правда, и здесь они попытались оправиться, заключив союз с победителем: в греко-персидской войне они поддерживали персов, мечтая, по-видимому, после их победы стать религиозным центром всего персидского государства. Но тут они вторично ошиблись: Персия была разбита, а измена национальному делу сильно уронила обаяние Дельфов в V веке до Р.Х.
§ 18. Религия Деметры. Как видно из предыдущего, религия Аполлона пронизывала всю жизнь человека, как государственную, так и частную; но именно только жизнь. Великой тайны смерти она не касалась; правда, она не оставляла своими заботами и умерших (ср. сказанное о «героизации»), — но и в этих случаях она ограничивалась определением отношений к ним живых, не стараясь выяснить верующим судьбу человеческой души за пределами смерти. Аполлон и смерть так же несовместимы, как свет и мрак.
Так-то
эсхатология составляла великий пробел в религии Аполлона; он был заполнен двумя другими религиями, которые мы называем
мистическими, так как естественный страх перед царством смерти дозволял открывать его тайны только тем, которые подготовились к этим откровениям посредством особых религиозных обрядов, то есть посвященным (по-гречески «мистам», mystai, от глагола myein — «закрывать глаза» на окружающий мир ради внутреннего созерцания). Это были религии
Деметры и
Диониса.
Откровения обеих имели своим предположением реформу, состоявшуюся еще на пороге нашей эпохи в области старинного анимизма, а именно —
возникновение представления об общей обители душ взамен исконного — о могиле как жилище души. Очень вероятно, что это представление возникло под влиянием обычая сжигать трупы (выше, с.66): естественно было предположить, что вместе с дымом костра и душа улетала куда-то далеко, за пределы живого мира. Это царство душ и его властителя, «невидимого» бога (A-ides, позднее Hades, отсюда наше «ад») вначале представляли себе на западе, за Океаном, где солнце заходит (ср.
Од. XI); затем, при наличии подземной могилы усопшего, возникло посредствующее представление о
подземной обители Аида. Оно осталось господствующим: по смерти человека Гермес берет за руку его душу и ведет ее под землю, к мутной «реке вздохов» (Acheron); там угрюмый Харон переправляет ее на челноке на тот берег, где высятся «врата» Аида и Персефоны. Ласково встречает пришельца пес-привратник Кербер; отныне он живет призрачной жизнью на «асфоделовом лугу», продолжая свои земные занятия, но без смысла и цели. И эта жизнь равна для всех: даже Ахилл не составляет исключения. Именно его душе у Гомера влагается в уста грустная оценка этой жизни (
Од. XI, 488, пер. В.А. Жуковского):
О, Одиссей, утешения в смерти мне дать не надейся!
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый.
Вот это-то «утешение в смерти» и стало стремлением и обеих названных религий, и тех, которые позднее за ними последовали.
Из них
религия Деметры возникла на почве исконного аниматизма; Деметра (имя De-meter во второй своей части содержит, несомненно, слово meter — «мать», но первая загадочна) первоначально — душа созревшей нивы, которая, по мере ее сжинания, отступает все дальше и дальше и, наконец, с последним снопом достается жнецу, чем объясняется честь, воздаваемая на дожинках этой «матке» нивы. Ее возвышению способствовал символ, усмотренный в материнском отношении нивы нынешнего к ниве будущего года и в «
таинстве возрождения хлеба»: как опущенное в землю зерно не погибает в ней, а после краткого в ней пребывания дает новый колос, так и похороненный в той же земле усопший возродится к новой жизни. Отсюда аттический обычай обсевать житом могилы; отсюда и миф и обрядность
элевсинских таинств.
Миф гласит так. У Деметры есть дочь, так и именуемая — Корой (Kore — «дочь»); ее отец для символа не важен, но понятно, что им мог быть только царь небесный Зевс. Ее похищает царь преисподней Аид (вследствие чего ее пришлось отождествить с исконной его супругой Персефоной). Убитая горем мать ищет ее повсюду; узнав о ее похищении, она отказывается от общения с прочими богами и под видом старушки нанимается няней к элевсинскому царю Келею и его жене Метанире. Тронутый ее безутешным горем, Зевс убеждает Аида периодически отпускать Кору к матери, так, чтобы она зиму проводила с ним, а остальные месяцы — с ней. Тогда Деметра, чтобы наградить своих хозяев, учреждает у них свои таинства, жрецами которых она ставит именно их и, кроме того, избирает их сына Триптолема своим вестником к людям, чтобы научить их хлебопашеству.
Главным содержанием этих таинств, доступных только посвященным, было именно «возвращение Коры» (anodos Kores), ее победа над смертью, явившаяся залогом такой же победы и для людей; она представлялась мистам в виде священной драмы, содержание которой наполняло их уверенностью в бессмертии их души. Это была настоящая «драма» и в нашем смысле слова: отчаяние богини Деметры, опечаленной утратой дочери, внезапно переходило в ликующую радость при ее возвращении из подземной тьмы, и зрители переживали вместе с ней эту религиозную «перипетию». Но это было не все: целью посвящения было также обеспечить себе милостью Коры «лучшую участь» за пределами жизни. Учили, что из общего сонма теней в подземном мире посвященные выделены в особый класс, наслаждающийся вечным блаженством на цветистых лугах и под сенью зеленых рощ в беспрерывной (на то мы в Греции) хорее. В соответствии с изменившимися представлениями о Земле (выше, с.89) полагали, что их местопребывание — на обратной ее стороне, там, где солнце светит во время наших ночей.
Очень вероятно, что первоначально посвящение было единственным условием этой «лучшей участи»; но со временем, по мере вторжения нравственности в религию, к этому сакральному требованию было прибавлено и нравственное; «мы одни наслаждаемся солнцем и ясным светом — мы, которые дали себя посвятить и вели благочестивую жизнь по отношению к чужестранцам и к маленьким людям», — говорят мисты у Аристофана.
Элевсинские таинства были первоначально — в ахейскую эпоху — местным элевсинским культом; когда Элевсин был соединен с Афинами, они были приняты в число общеафинских культов; посвящения происходили весной в Афинах (Малые Мистерии), а осенью процессия мистов отправлялась из Афин по «священной дороге» в Элевсин (при этом происходили те обряды, из которых, между прочим, развилась ямбическая поэзия — выше, с. 105), проводили ночь в хороводах перед храмом на «озаренном светочами лугу», после чего следовала священная драма и возвращение в Афины. Еще позднее, но до V века до Р.Х., таинства, по определению дельфийского оракула, получили общеэллинское, а под конец и вселенское значение. Жречество, как основанное на откровении, было наследственным в роде Евмолпидов, потомков элевсинских царей; старший жрец назывался иерофантом, старшая жрица — иерофантрией. Были две степени посвящения — степень миста и степень эпопта; их разница нам не известна, так же как и многие частности этого учения, которое ведь было тайным. Само посвящение было доступно всем — и мужчинам, и женщинам, и свободным, и рабам, и гражданам, и чужестранцам. Таким образом, религия Деметры — в отличие от аристократической религии Аполлона — имела строго демократический характер, в соответствии с ее прикосновенностью к самой демократической из всех управляющих нами сил — смерти.
§ 19. Религия Диониса имела своей родиной Фракию; здесь и в соседней Македонии еще в историческое время его культ правился в старинной чистоте. По своему первоначальному значению «оргии», то есть священнодействия Диониса, были праздником плодородия земли, приходившимся к началу прилива ее сил, то есть около зимнего солнцеворота, на горных и лесных полянах («оргадах») под открытым небом; главным элементом праздника была восторженная, головокружительная пляска под оглушительную музыку тимпанов (тамбуринов), кимвалов (медных тарелок) и зычных флейт — пляска, доводившая до полного экстаза (ek-stasis, «исступление»), в силу которого человеку казалось, что его душа оставляет его тело и самобытно уносится в неведомые миры. В силу этого-то опыта религия Диониса и стала зародышем учения о бессмертии души.
В VIII — VII веках до Р.Х. религия Диониса в вихре безумной пляски пронеслась по Греции, которую она завоевала всю, увлекая мужчин-вакхантов и особенно женщин-вакханок на горные оргады для того, чтобы там в плющевых венках, с тирсами в руках и с «небридами» (оленьими шкурами) вокруг стана чествовать хороводами новообъявленного бога. Особенно деятельным было участие Фив, за которыми поэтому осталась честь слыть родиной Диониса: он стал сыном Зевса и фиванской царевны Семелы, дочери царя-основателя Кадма.
Затем, под влиянием умеряющей религии Аполлона, наступило постепенное преобразование дионисических таинств; оно связано с именами трех аполлоновских пророков, из коих двое — Меламп и Орфей — были мифическими личностями и только третий, Пифагор, — исторической.
1.
Реформа Мелампа состояла в том, что он
оргиастический культ Диониса, опасный для общественной нравственности, ограничил пределами времени и места: временем стали так называемые триетериды (trieterides, «трехлетия», то есть, по-нашему через год), местом — нагорные луга Парнаса; туда греческие государства посылали своих представительниц-вакханок, которые и должны были чествовать бога установленными ночными хороводами. От этого оргиастического культа следует отличать
гражданский, правившийся в отдельных греческих городах. Здесь праздники Диониса были приурочены к виноделию: так, в Афинах праздновались Осхофории (сбор винограда, в октябре), Сельские Дионисии (первый морс, в декабре), Ленеи (праздник точила, вследствие календарной путаницы перенесенный на январь), Анфестерии (праздник цветов и молодого вина) и Великие Дионисии (учрежденный Писистратом главный праздник). Только теперь Дионис стал богом вина, каким он первоначально вовсе не был. Впрочем, и эти гражданские праздники были еще достаточно шумными; их культурная важность заключалась в том, что они были средой зарождения и развития греческой драмы (выше, с. 113).
2.
Реформа Орфея превратила дионисизм в глубокомысленное религиозно философское учение. Его основатель представлялся аполлоновским певцом, увлекавшим за собой зверей, деревья и камни чарующими звуками своей лиры. Когда смерть отняла у него его невесту Евридику, он последовал за ней в преисподнюю и теми же чарами склонил Аида и Персефону вернуть ему ее; итак, и здесь мы имеем то же
торжество любви над смертью — как и в мифе о Деметре и Коре. А раз побывав в подземном мире, он приобщился его тайнам; их он и поведал посвященным в его
орфические таинства.
Тайное учение орфизма состоит из трех объединенных общей идеей частей — космогонической. этической и эсхатологической.
Космогоническая часть примыкает к первоначальной религии Зевса. Зевс замышляет отказаться от добытой преступлением власти в пользу сына, который был бы чист от этого преступления. Этого сына ему рождает царица подземной тьмы Персефона; это был «первый Дионис», Загрей. Мстительные титаны заманивают к себе отрока Загрея посредством зеркала, в котором он видит свое отражение (первый символ индивидуализации). Убедившись в их злокозненном намерении, Загрей бежит, превращаясь в различные тела (второй символ индивидуализации); в образе быка он настигнут титанами, они разрывают его на части (третий символ индивидуализации) и поглощают — только сердце спасает Афина. Зевс сражает титанов перуном; из их золы происходит человеческий род. Спасенное же сердце Загрея он поглощает сам и затем, сочетавшись с Семелой, делает ее матерью «второго Диониса».
Этическая часть вытекает из космогонической. Человек, происшедший от поглотивших первого Диониса титанов, состоит из двух элементов: дионисического и титанического. Дионисические элементы стремятся к воссоединению с новым Дионисом в первобытной великой сути; титанические противодействуют этому стремлению, стараясь удержать человека в узах индивидуальности. Нравственный долг понявшего свое назначение человека состоит в том, чтобы содействовать освобождению дионисического элемента своего естества путем подавления титанического. Средством для этого, указанным Дионисом через своего пророка Орфея, является «орфическая жизнь». В ней впервые Греция познала момент известного, хотя и очень умеренного, аскетизма; между прочим, требовалось воздержание от убоины.
Эсхатологическое учение возвещало верующим об ожидающей их за гробом участи. Душа бессмертна, но не свободна, а заключена в бесконечный «круг» рождений и смертей. Даже орфическая жизнь не сразу освобождает душу от «тягостного круга»; для этого жизнь должна быть повторена в нескольких последовательных перевоплощениях в посюстороннем мире, и, кроме того, умершие должны вести себя соответственным образом в потустороннем, для чего им давались в гроб особые наставления («книга мертвых» орфизма). За смертью следовал загробный суд — здесь впервые имеем мы эту богатую будущим идею; за ним — наказания для злых и награды для добрых, и те и другие впредь до нового воплощения (кроме «неисцелимых», наказания которых были вечны). Лишь пройдя ряд таких испытаний, душа имеет надежду на окончательное освобождение из «гробницы тела» (soma-sema, один из орфических афоризмов) и на вечное блаженство в Дионисе.
Орфические таинства, в отличие от элевсинских, не были прикреплены к определенному месту; их распространителями были странствующие проповедники. Многие из этих «орфеотелестов» пользовались дурной славой у серьезных людей, так как они уж слишком низменным образом старались использовать страх недалеких людей перед мучениями в преисподней. Но в устах истинных учителей эта тайная наука была важным двигателем религиозной и нравственной культуры, и под ее влиянием находилось немало выдающихся умов древности — между прочими и Платон.
3)
Реформа Пифагора (см. о нем выше, с.91) состояла, главным образом, в том, что он объединил существовавшие в его время (VI век до Р.Х.) в Кротоне, а затем и вообще в греческой Италии орфические секты в религиозно-политический пифагорейский орден затем в том, что он дал орфическому учению о душе философское обоснование, введя в него свои мистицизм чисел. Вследствие своей зависимости от Аполлона, на которую указывает само его имя («Пифийский вещатель»), он дал своему ордену строго аристократический характер; это сделало его ненавистным развивающейся демократии и стало причиной кровавой с ним расправы в конце VI века. Тем не менее, пифагорейский орден не погиб: он вновь расцвел в Таренте V и IV веков до Р.Х.
Так-то рядом с явными культами, обязательными для всех граждан, распространяется в течение нашего периода широкой струей мистическое течение, рассчитанное только на избранных людей. Мы описали только главнейшие из сюда относящихся религий; можно бы еще назвать культ Кабиров в Самофракии, культ Гермеса на Стимфальском озере, культ Харит в беотийском Орхомене, культ Трофония в Лебадее — того Трофония, о котором говорили, что человек, раз спустившийся в его могилу, уже терял способность смеяться. Все эти культы так или иначе стремились приподнять завесу, скрывающую от человека потусторонний мир; и само их множество свидетельствует о распространённости тех запросов, которые они по-своему старались удовлетворить.
Часть третья
Аттический период
(500-323 годы до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история Греции аттического периода
§ 1. Собственно Греция. На пороге нашего периода стоит великая
освободительная война греков против персидского царя, первое крупное столкновение Запада и Востока. Она разыгралась в четыре приема. Первым было
восстание ионийцев (499-494 годы до Р.Х.), предпринятое без надлежащего знания вражеских сил, оно окончилось разгромом Ионии войсками царя Дария и разрушением ее главного города Милета, который никогда более не оправился от этого удара. А так как восставшие ионийцы получили помощь от единоплеменных Афин, то последствием их поражения был
морской поход персов на Аттику. Здесь, однако, счастье изменило им: в героической битве при
Марафоне (490 год до Р.Х.) афиняне под начальством
Мильтиада отбили их напор. Тогда персы стали готовить с напряжением всех своих сил
новый поход, который состоялся уже при преемнике Дария, Ксерксе (480 год до Р.Х.); они нашли и в самой Греции союзников в лице, во-первых, дельфийского оракула (выше, с. 113), а во-вторых, и некоторых строго аристократических государств — главным образом, Фессалии и Фив, правительства которых более всего боялись внутреннего врага — демократии. Первенствующей державой в Греции была все еще Спарта; но второе место фактически принадлежало Афинам, которые незадолго перед тем, благодаря дальновидному почину Фемистокла, обзавелись самым сильным в Греции флотом. Идею встретить врага у ворот всей Греции, в темпейской долине (выше, с.20) пришлось оставить ввиду неблагонадежного настроения Фессалии; вторую позицию в Фермопилах, занятую спартанским царем-героем Леонидом, персам удалось обойти, что отдало в их руки всю среднюю Грецию с Аттикой включительно. Последовало опустошение покинутой своими жителями Аттики. Но прежде чем персы могли напасть на третью, самую сильную позицию греков, Истм, их флот был разбит союзным греческим флотом и его фактическим начальником Фемистоклом при
Соломине. Это был поворотный пункт войны; в следующем году (479 год до Р.Х.) также и сухопутное войско персов, разбитое греками при
Платеях, должно было оставить страну. Все же греки не забыли, что настоящей целью войны была свобода не только европейской Греции, но и «греческой каймы» Малой Азии. Этим, однако, центр тяжести был передвинут с армии на флот и, следовательно, с сухопутной Спарты на морскую державу Афины; новая победа греческого флота при Микале (близ Милета) доставила всей Ионии свободу, а Афинам — гегемонию над объединенными в так называемый
Делосский союз приморскими государствами Греции. И то, и другое было делом второго руководителя афинской политики, Аристида.
Так, в 478 году до Р.Х. только что освобожденная Греция распалась на два союза: морской с Афинами и сухопутный (преимущественно пелопоннесских государств) со Спартой во главе; отсюда вытекали для афинской политики две задачи: отстаивать и расширять свободу заморской Греции, с одной стороны, и бороться с захватами пелопоннесцев (особенно торгового Коринфа) — с другой. Первую задачу усердно исполнял
Кимон, достойный сын марафонского героя Мильтиада и поборник дружбы со Спартой, вплоть до своей доблестной смерти в победоносной битве при кипрском Саламине (449 год до Р.Х.); вторая выпала на долю его великого соперника
Перикла, с именем которого связана память о самой блестящей эпохе афинской и греческой культурной жизни (445-431 годы до Р.Х.).
Соперничество обоих союзов разразилось, наконец, великой
Пелопоннесской войной (431-404 годы до Р.Х.).
Ведомая вначале с переменным счастьем, она на время кончилась миром Никия (421 год до Р.Х.), продолжателя политики Кимона; но отчасти недовольство Коринфа, отчасти честолюбие
Алкивиада, племянника Перикла, привело к ее возобновлению. Поводом послужила не в меру смелая
сицилийская экспедиция афинян (414-412 годы до Р.Х.), пожелавших объединить ионийские колонии острова и ради этого осадивших крупнейший его город, дорические Сиракузы. Гибель афинского флота в сиракузской гавани обессилила город; он еще держался в течение нескольких лет («Декелейская война»), но в 404 году до Р.Х. возрожденный спартанский флот под начальством Лисандра одержал над ним решительную победу при
Эгоспотаме на Геллеспонте. Последствием было упразднение морского союза,
вторая гегемония Спарты и — правда, кратковременное — аристократическое правление Крития с его «тридцатью тиранами» в Афинах.
Четвертый век до Р.Х. во всем греческом мире был временем убыли народных сил. В Сицилии победоносные, но ослабленные Сиракузы уже не могли отстоять ни эллинских городов против наступления Карфагена, ни собственной свободы против тиранов (обоих Дионисиев). В собственно Греции гегемония Спарты не встретила симпатии со стороны прочих городов: потомкам Леонида пришлось опираться на персидскую дружбу, которую они купили позорным
Анталкидовым миром (387 год до Р.Х.), вновь отдавшим Ионию под персидскую власть. И все-таки они недолго сохранили гегемонию: ее потере содействовал не столько возникший под главенством Афин
второй морской союз (378-355 годы до Р.Х.), который был слабым подобием первого, сколько
возвышение Фив в 379 году до Р.Х. и одержанная их предводителем Эпаминондом над Спартой победа при Левктрах (371 год до Р.Х.), последствием которой было отторжение от Спарты ее вековой рабыни Мессении и объединение аркадских общин вокруг единой столицы — Мегалопола. Из этих мер особенно первая была искуплением старой неправды, но ею же спартанская сила была похоронена навсегда.
Сменившая спартанскую гегемонию
гегемония Фив была еще менее продолжительна; павший в 362 году до Р.Х. во второй победоносной битве против Спарты при Мантинее Эпаминонд не оставил после себя достойного преемника. Единственный его способный ученик был не фиванцем и даже не греком — это был
Филипп, царь Македонский.
Македония до тех пор мало заставляла греков говорить о себе. Были ли населявшие ее народы эллинскими или только эллинизованными — об этом и поныне спорят; во всяком случае, они говорили на греческом наречии и сохранили у себя вид правления, очень напоминающий монархию ахейской эпохи. Их вмешательству в греческие дела препятствовали как часто происходившие у них династические и другие смуты, так и их отдаленность от моря, от которого их отделяла знакомая нам «греческая кайма» — особенно полуостров Халкидика. Сближению их с Грецией особенно содействовали три государя: Александр Филеллин, современник персидских войн, затем Архелай, живший во время пелопоннесской войны, и, наконец, наш Филипп (359-336 годы до Р.Х.).
Как продолжатель дела своих предков и ученик Эпаминонда Филипп был в душе эллином; но необходимость для него ради величия Македонии овладеть приморской полосой вовлекла его в войну с наиболее крупным из морских государств Греции — с Афинами, которые первые, благодаря дальновидности своего руководителя
Демосфена, поняли опасность, грозившую эллинской автономии с севера. Все двадцатилетие 357-338 годов до Р.Х. было сплошной захватывающей трагедией, героем которой был Демосфен. Ему приходилось бороться не только против Филиппа; умному царю помогали, сознательно или бессознательно, и близорукие эллинские государства (распадение морского союза в 355 году до Р.Х.), и противники Демосфена в самих Афинах, как честные (Фокион), так и продажные (оратор Эсхин), и, наконец, дельфийский оракул, который теперь вторично перед лицом северной опасности изменил национальному делу. Эта измена была решающей; ее последствиями были (третья) священная война и
победа Филиппа над Афинами и Фивами при Херонее (338 год до Р.Х.), сделавшая его господином всей Греции.
Победитель, впрочем, воспользовался своей победой очень умеренно: созвав представителей эллинских государств в 337 году до Р.Х. на
коринфский конгресс, он удовольствовался провозглашением собственной гегемонии для общей войны с Персией за освобождение Ионии, которая в течение пятидесяти лет томилась под персидским игом.
Рука убийцы (336 год до Р.Х.) не дала Филиппу исполнить этот столь же умный, сколь и великодушный план; но он нашел достойного себе преемника в лице своего сына, воспитанного Аристотелем в любви к эллинской культуре
Александра Великого (336-323 годы до Р.Х.).
Быстро подавив восстание, поднявшееся в Греции после смерти Филиппа, он с 334 года до Р.Х. начал свой стремительный поход. За трагедией последовала волшебная сказка, занявшая целое десятилетие. Уже первый год войны отдал Александру всю Малую Азию; затем последовало завоевание Сирии и Египта, затем баснословный поход в глубь персидского царства за границы неведомой Индии. Он стал господином всей этой огромной земли от Адриатического моря до Инда и от Балкан до порогов Нила — «и умолкла земля перед ним» (
1 Макк. 1, 3).
Тогда начался новый период истории античной культуры —
вселенский.
§ 2. Эллинство в Северном Причерноморье. Его история в нашу эпоху в значительной степени определяется отношениями к нему новой греческой державы — Афин; это заставляет нас оглянуться несколько назад на возникновение этих отношений.
Будучи основаны выходцами из Ионии и, главным образом, Милета, южнорусские колонии в течение всего VII и отчасти VI века до Р.Х. находятся под ионийским влиянием, что доказывается, между прочим, и «ионийским» стилем ольвийской керамики за это время. Но хлебные богатства Северного Черноморья вряд ли где-либо были так нужны, как в каменистой и в то же время густонаселенной и промышленной Аттике. И вот уже с конца VII века до Р.Х. начинаются систематические усилия Афин вступить в коммерческие сношения с этой естественной их житницей. Почин принадлежит и тут
Солону, отвоевавшему у Мегары Саламин и этим открывшему Афинам доступ к морю. Второй шаг был сделан продолжателем его дальновидной политики
Писистратом, отбившим у лесбосцев город Сигей (близ разрушенной Трои) на Геллеспонте; вскоре затем Мильтиад Старший (брат деда марафонского героя) частными средствами основал царство в противолежащем Херсонесе Фракийском, последствием чего было завоевание также и соседнего острова Лемноса. Так весь Геллеспонт — один из обоих ключей Черноморья — оказался в афинских руках. Последствия не замедлили сказаться: в эпоху Писистратидов афинское влияние сменяет в Ольвии ионийское.
Два события, близкие одно к другому, лишили афинян на время плодов их побед. Одним был знаменитый
скифский поход персидского царя Дария (512 год до Р.Х.) через Фракию и Дунай, в котором проводниками были подвластные царю милетские тираны. Правда, он кончился неудачно: можно даже сомневаться, последовал ли Дарий со своими войсками дальше Днестра. Греческих колоний он, во всяком случае, не коснулся, и мы имеем полное основание быть благодарными судьбе за этот поход, так как он дал
Геродоту (ниже, § 13)
повод подробно описать Скифию в IV книге своей «Истории» и дать нам в этой книге древнейший свод известий о нашей родной земле. Но, отказываясь от Скифии, персы не пожелали отказаться также и от Фракии, и их поступательное движение временно оттеснило афинян от Геллеспонта.
Вторым событием было
изгнание Писистратидов в 510 году до Р.Х.; изгнанный Гиппий отправился в свою вотчину Сигей, которым он правил как вассал персидского царя; для Афин и эта колония была временно потеряна.
Результатом всего этого было временное прекращение афинского влияния на Северное Черноморье. Его постепенное восстановление было естественным последствием побед над персами и
основания морского союза под главенством Афин в 478 году до Р.Х.
Геллеспонт стал снова афинским, а с ним и первый ключ к Черноморью; второй ключ — Византия — своим поступлением в морской союз тоже отдался в афинские руки. Завершением этой политики был
понтский поход Перикла в 440 году до Р.Х., предпринятый им лично во главе внушительного флота. Целью этого похода было, с одной стороны, укрепить греческие колонии северного Черноморья в сознании их эллинской национальности и дать им нравственную, а где нужно было — и материальную силу для отстаивания своей самобытности, а с другой — связать их узами коммерческих и иных отношений с Афинами. Эти узы были в различных случаях различными: Нимфей, например, стал прямо подвластным Афинам городом; с другими Перикл удовольствовался заключением дружественных отношений. Для всего этого требовалось много и политического такта, и личного обаяния; Перикл обладал тем и другим в высокой степени, и нам приятно представлять себе этого великого человека гостем русской земли и ее благоустроенных приморских городов.
Разгром Афин в 404 году до Р.Х. уничтожил политические плоды этой политики, но оставил неприкосновенными культурные; Афины сохранили за собой и черноморские рынки, и значение духовной метрополии черноморского эллинизма также и в течение IV века до Р.Х.
В частности, наша «эллинская кайма» представляет собой в аттический период далеко не однородную картину. Мы в этой кайме различаем довольно четко
три части.
Первая часть — это ионийские колонии западного побережья и, главным образом,
Ольвия. Эта последняя в нашу эпоху оправдала свое название: чувствуя за собой могучее покровительство единоплеменных Афин, она расширяла свои сношения с туземными скифами и процветала в своей внутренней жизни при умеренно демократическом правлении. Этому мирному развитию положила конец осада ее Зопирионом, наместником Александра Великого; ольвиополитам удалось отстоять свою свободу, но путем больших жертв, и нанесенный их родине удар стал предвестником ее упадка в следующую эпоху.
Вторая часть — это
западная Таврида. Ее дикость вначале внушала страх поселенцам; но вот в V веке до Р.Х. — год точнее неизвестен — мегарская (и, стало быть, дорическая) Гераклея Понтийская (выше, с.61) решает основать колонию в том ее месте, где нынешняя Севастопольская бухта с севера и Балаклавская с юга образуют как бы маленький полуостров в большом. От этого полуострова новая колония и получила свое название; это был
Херсонес Таврический, неразрывно связавший свое имя с историей введения христианства в России. В нашу эпоху, однако, его роль была довольно скромной: без надежды на мирные торговые сношения с дикими таврами, живший исключительно своим земледельческим трудом дорический пришелец чувствовал себя довольно чуждым среди ионийских колоний и должен был вести борьбу за собственное существование. В ней ему помогали, во-первых, его собственное прекрасно укрепленное положение, а во-вторых, и его метрополия, царица южного Черноморья. Интересно, что своей главной богиней Херсонес почитал Деву, так и называя ее (Parthenos), — по-видимому, ту самую грозную таврическую Артемиду, которую раньше ублажали человеческими жертвоприношениями (ср. миф об Ифигении Таврической).
Наконец, третья часть — это восточная Таврида и побережье Меотийского (Азовского) моря. Первенствующая здесь ионийская колония
Пантикапей (или Боспор) пошла по иному пути политического развития, чем ее западные сестры: в 480 году до Р.Х. здесь захватывает царский сан греческий род
Археанактидов. Правда, он ограничивает свою власть своим городом, так что в принципе мы имеем здесь только запоздалую тиранию; но дела пошли иначе, когда в 438 году до Р.Х. последнего Археанактида сменил
Спарток, по-видимому, эллинизованный скиф, ставший родоначальником могучей и долговечной династии Спартокидов. Они распространили свою власть и на соседние греческие колонии (Феодосию, Пимфей, Фанагорию), и на прилежащую скифскую территорию и превратили Пантикапей в столицу обширного Боспорского царства. Уже раньше, благодаря влиянию эллинизма, местные скифы научились возделывать землю; по плодородию их область — степная Таврида и низовья Дона — могли поспорить с Приднепровьем. И вот Боспорское царство сосредоточивает у себя хлебный вывоз. В обмен оно получает изделия греческой, особенно афинской промышленности; эти изделия вызывают подражание. Боспор становится центром особого, грекоскифского искусства, в котором сцены из греческих мифов чередуются с изображениями скифской охоты и конной езды. Боспорские курганы сохранили нам памятники этого искусства; они и ныне своим богатством и изяществом поражают взоры посетителей нашего Эрмитажа.
Глава I. Нравы
§ 3. Семейный быт. Реформа семейного быта в Афинах — их мы здесь преимущественно будем иметь в виду — была прямым результатом их демократизации, завершенной Клисфеном на самом пороге нашего периода (ниже, § 7). Она состояла в последовательно проведенной
эндогамии. Еще отец Клисфена, Мегакл, мог жениться на дочери сикионского тирана, Клисфена Старшего; теперь обычай, а со времени Перикла и закон восстает против таких браков. Согласно закону, проведенному названным поборником демократии, только происшедшие от «гражданина и гражданки» дети считались законными; и ирония судьбы заключалась в том, что тому же Периклу после внезапной смерти (от чумы) его законных сыновей пришлось путем особого народного постановления узаконить своего младшего сына от своей второй жены, милетской уроженки Аспасии, Перикла Младшего.

Положение
женщины находилось в зависимости от социальных условий, которые устанавливали неизбежные различия там, где равный для всех демократический закон никаких исключений не желал. На низшей ступени гражданской иерархии мы находим торговок, трактирщиц и т.д., вполне самостоятельно занимающихся своим промыслом; зато они и бывали наделены таким решительным характером, который при случае мог обратить в бегство любого мужчину. На высшей ступени мы находим жрицу, также самостоятельную представительницу общины перед своей богиней, окруженную всем почетом, которого требовала религия; такова была та Феано, жрица Деметры, которая, когда афинский народ после измены Алкивиада приказал всем жрецам и жрицам проклясть его от имени богов, одна отказалась исполнить это постановление, сказав: «Я — жрица молитв, а не проклятий». Но на всех посредствующих ступенях достаточного крестьянства и городских сословий мы видим лишь жену-хозяйку, делящую труд и честь со своим мужем-хозяином согласно вышеустановленному (с.24) принципу. При сложности женской работы участие незамужних или овдовевших золовок было для хозяйки только желанным; «женского вопроса» в его экономической форме Афины поэтому не знали. В силу той же сложности хозяйке для ее работ было отведено особое помещение во внутренней части дома (gynaikonitis); на улице она показывалась только в сопровождении рабыни. Все же ее не держали взаперти: женские праздники давали повод к богатой общественной жизни, и те, кто ссылается на знаменитые слова Перикла: «великая честь той женщине, о которой менее всего идет слава среди мужчин в смысле похвалы или порицания» (
Фук. II, 45, 2), не должны забывать значения этой оговорки «среди мужчин». Кружковая жизнь аристократической эпохи, распространенная на весь состав граждан, создала для женщины особый мир, удовлетворявший ее религиозные, общественные и художественные запросы в широких размерах; но он держался на религии и со временем пал вместе с ней. А впрочем, жена-гражданка и в своей семейной жизни находилась под охраной закона: и ее особа, и ее приданое были неприкосновенны.
В
воспитании детей коллективное начало, заложенное еще в предыдущую эпоху, было распространено на все гражданское население; обучение было всеобщим, и в эпоху пелопоннесской войны неграмотных в Афинах не было. Мальчики под надзором своих «педагогов» (то есть дядек, почтенных рабов) шли в школу грамматиста, кифариста и в палестру. В первой они под благословением Музы, статуя которой стояла у стены, учились читать, писать и считать (на то у них были восковые таблички), но, главным образом, Гомеру; язык последнего был очень не похож на аттический тех времен, но для всех греков он имел значение как бы церковного языка, так как на нем и Дельфы издавали свои оракулы. Его учились понимать и крупными отрывками заучивали наизусть. За Гомером шли Гесиод и Феогнид ради их нравоучительных сентенций, и Солон ради его значения для Афин, а также и басни Эзопа. У кифариста учились играть на лире, незнакомство с которой считалось признаком необразованности, и исполнять под ее аккомпанемент как староафинские гимны в честь Паллады, так и поэмы Стесихора и Симонида. Палестра, наконец, обучала мальчика под надзором Гермеса бегу, прыжку, борьбе, метанию диска и т.д.; а так как она требовала для своих упражнений не скромной комнаты, а широкого двора с колоннадами, то туда охотно приходили и родители посмотреть на своих сыновей, да и другие лица. Там же охотнее всего и философы вроде Сократа находили свою аудиторию. К этим трем средствам воспитания следует прибавить и хорею, к которой они готовили все три; образованные люди, по Аристофану, — это те, которые «воспитаны в палестрах, в хороводах и в мусическом искусстве» (
Ар. Ляг. 729).
Девочки учились у матери, и эта наука была довольно сложна: кроме хозяйства в нее входила и вся домашняя медицина, так как уход не только за детьми, но и за челядью обоего пола лежал на обязанности хозяйки. Их второй воспитательницей была опять-таки хорея, которая и их наравне с отроками требовала к службе родным богам; красивый образ священнодействующей афинской девушки нам сохранил фриз Парфенона и «портик Кариатид» в храме Арехфея (ниже, § 12). Завершалось ее образование мужем, который по греческому обычаю был значительно старше своей жены.
Но к этому низшему образованию в нашу эпоху прибавляются уже элементы высшего. Сюда относится, во-первых, так называемая
эфебия — совместное обучение, физическое и духовное, юношей шестнадцати лет и старше под надзором постановленных государством по народному выбору «софронистов» и «косметов»; а затем и вольное прохождение курса высших наук (математических, естественных и особенно этико-политических) у философов (софистов, Платона, Антисфена, Аристотеля) и риторов (Исократа). Об этом будет сказано ниже (§ 11).
Переходя, затем, к
рабам, мы должны прежде всего заметить, что значение рабства
как устоя общества в нашу эпоху еще не велико: своей главной массой это общество держится еще на свободном труде, как крестьянском, так и городском. Рабов мы находим, во-первых, как
челядь в домах, как зажиточных, так и бедных, и тут их положение было очень сносным; в работе дома они участвовали наравне с хозяевами, составляя с ними как бы одну большую семью, объединенную узами преджертвенного окропления. Много и других обычаев свидетельствовало о гуманности отношений к рабам: новоприобщенных символически осыпали лакомствами; никто не запрещал им сидеть в присутствии господ; на празднике «Кроний» (ниже, § 15) их угощали, как равных. Радости и горести дома ближайшим образом затрагивали и их, и они по мере своей личной почтенности участвовали в воспитании своих «питомцев» (trophimoi), как они называли своих барчуков. Произвол же господ был обуздан и законом, и еще более — обычаем; ничего подобного ужасам крепостного права или американского рабовладения Афины нашей эпохи не представляли.
Во-вторых, существовала и категория
государственных рабов, или вернее, ряд категорий. Характерно для Афин, что не только палач, но и вся полиция была из рабов; специально в полицейские набирались рабы-скифы, доставляемые в избытке колониями северного Черноморья. Это была усердная компания, очень забавлявшая афинян своими заморскими шашками (sybinai) и своим коверканием греческих слов, но, видно, добросовестно относившаяся к своему делу, коль скоро она дала возникнуть легенде о безупречной справедливости скифов. Туго жилось, вероятно, лишь тем рабам (государственным и частным), которые работали в лаврийских серебряных рудниках; но их участь покрыта мраком еще более густым, чем тот подземный, в котором им приходилось проводить свою нерадостную жизнь.
§ 4. Общественный быт. Афины насчитывали от двадцати до тридцати тысяч взрослых граждан, что предполагает, если принять во внимание соответственное число женщин, детей, поселенцев и рабов, население в двести-триста тысяч человек, то есть, по нынешним понятиям, столицу средней руки. И в таком-то большом городе, тем не менее, все граждане знали друг друга в лицо, весь город был как бы одним большим домом. Достигалось это сближение и обширным гостеприимством, и связями внутри родов и фил, и общим воспитанием детей, и выборной системой государственной жизни, и праздниками с их развитой агонистикой и, пожалуй, более всего — страстью афинян к беседе, к тому, чтобы отразить в себе каждого встречного и себя отразить в нем. При малой распространенности книг и полном отсутствии газет беседа была единственным средством учиться и развивать себя; характерно, что нашему слову «любознательный» соответствует по-гречески в нашу эпоху philekoos, то есть «любитель слушать».
Казалось бы, что при этом знакомстве всех со всеми единообразный обычай должен был бы тяготеть надо всеми, укладывая каждую индивидуальность в определенные рамки, как это бывало в «обществах» новой Европы. В действительности же дело обстояло как раз наоборот. «Ту свободу, в которой мы видим печать нашей государственной жизни, мы проявляем также и в наших ежедневных общественных сношениях, чуждаясь в них всякой лишней подозрительности. Мы без злобы предоставляем нашему ближнему устраивать свою жизнь согласно своим наклонностям; мало того, мы не позволяем себе даже выражением лица выказывать ему свое неодобрение — способом, хотя и безобидным, но все же неприятным», — говорит Перикл в своей надгробной речи (
Фук. II, 37). Итак,
свобода не только политическая, но и общественная — вот характерная черта афинской демократии. Только благодаря ей она могла стать той умственной лабораторией, в которой вырабатывались духовные ценности не для одних только Афин и не для одной только Эллады, «школой» которой тот же Перикл называл свой родной город, но и для всего человечества.
Демократия унаследовала выставленные аристократией идеалы кружковой жизни и сделала их доступными всем гражданам; но имущественное неравенство было причиной различного их осуществления на различных ступенях социальной лестницы. Только богатые люди могли делать свои дома центрами общественной жизни; правда, снаружи и эти дома мало чем отличались от соседних — только в IV веке до Р.Х. обстоятельства в этом отношении изменились, на что с горечью указывает Демосфен; все же внутри они просторностью своих зал и окруженных колоннадами дворов («перистилей») давали хозяевам возможность принимать многих гостей. И вот вокруг особенно богатых или хлебосольных из них группируются компании друзей (так называемые гетерии). Политика в критические времена неминуемо налагала свою печать на их беседы, и не один политический переворот был задуман в лоне этих гетерий; и все же демократия не считала себя вправе их преследовать. Еще большим блеском окружали радушных хозяев гости из прочей Эллады; недаром гостеприимство было страстью грека.
Бедные люди не могли себе позволять этой роскоши; зато они любили образовывать
кружки («фиасы») с определенным уставом и членскими взносами и затем целым кружком снимать помещение для общих бесед и попоек. Но эти кружки далеко не поглощали афинянина всего; мы видели, весь город был для него как бы большим домом, а перистилем этого дома была окруженная колоннадами
агора (городская площадь). Это было настоящим местом для встреч и разговоров, настоящим центром общественной жизни. Другим была набережная Пирея, этой «самой гостеприимной гавани в мире», как ее называет Еврипид. Правда, «спуститься» туда по солнцепеку было не так легко — расстояние было в десять верст. И все же афиняне делали это очень охотно: попутно можно было освежиться кружкой вина в тени чинары под неугомонное пение кузнечиков, а там, в Пирее, было так интересно полюбоваться на свои «красивые триеры», купить что-нибудь из первых рук и в особенности — узнать от приезжих какую-нибудь новость, которую затем можно было рассказать друзьям на агоре или в кружке.
Все это были, впрочем, будни. Разгаром общественной жизни Афин были праздники; но о праздниках у нас речь впереди (§ 15).

Интересно окинуть взором, в сколь различных формах общественность в те времена налагала свою руку на гражданина. Прежде всего, его семья — не только жена и дети, воспитателем которых он был, но и челядь, общение с которой было гораздо живее и ближе, чем теперь между господами и прислугой. Затем родственники, которые привлекались по поводу всех семейных событий: рождался ребенок — на девятый день приглашалась родня на праздник «амфидромий», то есть торжественного обнесения новорожденного отцом вокруг домашнего алтаря, а в ближайшие Апатурии (§ 15) — и вся фратрия для еще более торжественного занесения его в гражданские списки; посвящался отрок в Элевсинские таинства — приглашение; наступало время избрания им поприща — приглашение; о свадьбе и похоронах и говорить нечего. Затем — члены дема и филы для всякого рода предвыборных и выборных дел, как сельских, так и государственных. Затем — товарищи по ремеслу: в древних Афинах, как и в средневековой Европе, а на Востоке и ныне, ремесленники одной профессии селились вместе и имели свои цеховые собрания и своего рода синдикаты. И наконец, и слово «согражданин» не было тогда еще пустым звуком, но налагало очень важные и подчас тяжелые обязательства. Скифские полицейские существовали буквально только для того, чтобы «тащить» (helkein) ослушников по приказанию властей; там, где требовался нравственный авторитет для пресечения обиды, гражданин взывал к согражданам — и никто не считал себя вправе проходить мимо. Когда старика Стрепсиада бьет его развращенный сын, он кричит не «караул», а «помогите, соседи, родственники, земляки!» (Ар. Обл. 1022). На каждой прогулке гражданина мог остановить обижаемый с требованием быть свидетелем или понятым, а если он был из числа почтенных — то и третейским судьей. Впрочем, почтенные имели достаточно судебных дел как представители своих клиентов, будь то опекаемые, или женщины, или поселенцы (метеки), и нечего говорить, что все эти услуги были даровые.
Но откуда же, можно спросить, брали афиняне время на все это? Объяснением служит их крайняя неприхотливость в отношении пищи, одежды и обстановки: пища была преимущественно растительная — хлеб и приправы (оливки, порей и т.д.); мясо предполагало жертвоприношение и, следовательно, угощение. Одежда, возбуждающая ныне зависть скульпторов, состояла из двух кусков шерстяной материи, хитона и гиматия. Обстановка подавно была несложна; вообще лозунгом афинян было приводимое Периклом дивное philokalumen met'euteleias («мы любим красоту, соединенную с дешевизной») — в противоположность тяжелой восточной пышности. Можно быть уверенным, что, знай мы в цифрах богатство людей, которые тогда считались наиболее состоятельными, — эти цифры своей скромностью вызвали бы у нас улыбку. А при этих условиях и работа была не особенно обременительна; нормальным был шестичасовой рабочий день. Грек остроумно вычитал это правило на своих солнечных часах: следующие за первыми шестью часами (от А до F) буквы давали слово ZHΘI. Отсюда красивая эпиграмма:
'´Eξ ωραι μóχϑoι ς ίκανωτατα αί δέ μετ αΰτά ς
γράμμαισ δεικνυμεναι ZHΘI λεγoυσι βρoτoις
То есть, жертвуя непереводимой игрой слов:
Шесть для работы часов приспособлены; те, что за ними,
Символом знаков своих смертному молвят; «живи».
А «живи» значило «общайся с людьми!» Ибо, согласно другой греческой поговорке: anthopos anthopo daimonion («человек человеку божество»).
§ 5. Хозяйственный быт. Оставаясь и здесь на почве Афин, будем различать
частное и государственное хозяйство.
В области
частного хозяйства нас будут интересовать экономические условия жизни гражданина
среднего достатка как носителя идеи демократических Афин. И тут придется прежде всего повторить, что роль рабства в его хозяйстве была невелика: основой хозяйства был свободный земледельческий, пастушеский, ремесленный, торговый труд — рабство имело лишь вспомогательное значение.
Земледелие в нашу эпоху еще сохранило свое естественное передовое значение: реформа Солона именно теперь дала свои благодетельные результаты, обеспечив Афинам большое число представителей того крепкого телом и душой и привязанного к родной земле мелкопоместного крестьянства, которое было условием их здоровья и силы. Эта земля сама по себе была не очень плодородной; надо было прийти ей на помощь, с одной стороны, целой системой искусственного орошения (так река Кефис в своем нижнем течении была вся разобрана на каналы, так что лишь очень незначительные ее струйки достигали моря), с другой — устройством террас на косогорах в предупреждение смыва зимними дождями тонкого слоя плодородной почвы. В одном ряду с
хлебопашеством стояли
виноделие и уход за
маслинами — занятия более прибыльные, но зато и гораздо более отдающие селянина в руки врага, так как опустошение нивы лишает собственника лишь урожая данного года, между тем как истребление виноградника или оливковой рощи разрушало источник его жизни на много лет. На склонах многочисленных гор процветало
скотоводство в своих трех разновидностях, подавших повод к возникновению особой пастушеской иерархии: почтеннее всех были волопасы (bukoloi), за ними шли овчары (poimenes), между тем как козопасы (aipoloi) представляли собой третий, пролетарский элемент. Свиньи и домашняя птица были придатком каждого сельского хозяйства. Верным другом человека во всех этих областях его труда была собака — ср. характерную пословицу: «какова хозяйка, такова и собака»; напротив, кошка была еще неизвестна в греческом мире, и полезное занятие мышеистребления был поручено не ей, а ласке (gale), которая была очень популярна в нашу эпоху, между прочим, и как обычная домашняя воровка. Не забудем, наконец, и
пчеловодства, очень важного и прибыльного в древнем хозяйстве вообще; поросшие тимьяном склоны Гиметта были богаты пасеками, прославившими «аттический мед» с его характерной приятной горечью.
Афинянин чувствовал естественную, здоровую тягу к своей родной Деметре, да и его правительство всячески старалось сохранить стране ее крестьянское население; но самые тщательные орошения и террасовки не могли увеличить площадь плодородной земли настолько, насколько это соответствовало бы приросту населения. Победоносные войны дали правительству возможность усилить крестьянский элемент путем особого рода переселенческой системы — так называемой
клерухии. У побежденного государства отнималась часть земли, и таковая разбивалась на наделы (kleroi), которые и раздавались бедным гражданам. От колонии клерухия отличалась тем, что ее члены сохраняли свое афинское гражданство, голосовали в афинском вече и занимали афинские должности наравне с прочими гражданами, между тем как колония была самостоятельным политическим организмом с собственным вечем и магистратурой. Так были отведены под клерухии один за другим: Херсонес Фракийский, Лемнос, Имброс, добрая часть Эвбеи и т.д.
Вообще же постоянные войны были для афинского крестьянства настоящим бичом. Походы отвлекали хозяев от полевых работ; сверх того, набеги врагов разоряли аттические наделы, а поражения вели к потере клерухий. Крестьянство было поэтому в Афинах миролюбивым элементом; если, тем не менее, всегда побеждала воинственная политика, то это одно доказывает нам, что не ему принадлежал в вече решающий голос, а другим частям населения, а именно — представителям промышленности, торговли и государственной службы. Аттического хлеба (с прибавлением всех клерухий) на афинян не хватало; отсюда необходимость ввозить заграничный — главным образом, как мы видели, черноморский (выше, с.12). А ввоз предполагал вывоз и работу для вывоза, то есть
промышленность, так как сырье потреблялось в самой стране. Главным афинским ремеслом, работавшим для вывоза, было гончарное; об обилии и красоте его изделий дают нам представление те многочисленные «краснофигурные» вазы, которые наполняют наши коллекции, а также и тот факт, что два самых людных квартала исторических Афин носили название Керамика (Kerameikos). Очень разветвлена была и прочая промышленность, но она удовлетворяла главным образом домашним потребностям.
Торговля была двух родов, заморская и внутренняя; насколько уважали купца-путешественника (emporos), рисковавшего жизнью для открытия новых рынков и способствовавшего распространению афинского кредита и афинской славы — его при случае даже освобождали от воинской повинности, — настолько малопочтенной казалась деятельность купца-домоседа (kapelos), весь смысл которой заключался в том, чтобы подороже продать потребителю подешевле купленное из первых рук. Но кроме этого неизбежного барышничества еще другое чужеродное растение присоседилось к смелой и широкой афинской торговле: это была деятельность
банкиров (trapezitai, как они назывались по тому «столу», на котором они производили свои расчеты). Купец-путешественник нуждался в деньгах на снаряжение судна и скупку товаров; он брал их у банкира. Если он благополучно вернется домой, то его прибыль будет велика; но если его судно с товарами погибнет, то погибнет с ним и доверенная ему банкиром сумма; процент (tokos, собственно «приплод») был поэтому очень высок. При склонности афинян к риску и банкирство было, особенно в IV веке до Р.Х., заманчивой деятельностью.
Сказанное о значении для Афин промышленности и торговли объясняет нам экономический смысл пелопоннесской и других войн. Они были в значительной степени войнами за рынки, отбитые Афинами у пелопоннесской морской державы — Коринфа.
Совершенной новостью было в нашу эпоху экономическое значение платной
государственной службы. Принцип этой платности был отчасти противоположен нашему; крупные и почетные должности по-прежнему оставались неоплачиваемыми, но зато была выставлена доктрина, что бедный гражданин, отрываемый исполнением своих гражданских обязанностей от своей работы, имеет право на известное вознаграждение со стороны государства. Началось применение доктрины с самого законного: с жалования матросам (таковыми были беднейшие граждане, так называемые феты, которые не могли служить в войске гоплитами за неимением вооружения). Затем, уже в эпоху пелопоннесской войны, Клеон ввел жалование судьям-присяжным (а таковых было шесть тысяч человек, преимущественно бедных и пожилых, для которых получаемое жалование в три обола за присутственный день было существенным подспорьем). Наконец, уже в IV веке до Р.Х. был сделан последний шаг введением жалования также и за участие в вече. Эта доктрина была развитием демократической идеи, но она же стала и одной из причин ее гибели: Афины вынесли на себе тяжесть этого урока и этим освободили позднейшее человечество от необходимости его повторения.
Переходя затем от частного хозяйства к
государственному, мы должны поставить вопрос о доходах и расходах афинского государства, различая при этом Афины как таковые и Афины как главу морского союза.
Доходы Афин как самостоятельного государства слагались, главным образом, из следующих статей:
1. Прибыли, получаемой с государственных домен. То были, во-первых, Лаврийские серебряные рудники, а во-вторых, пентеликонские мраморные каменоломни. Эксплуатировались они с помощью государственных рабов, причем жизнь этих рабов в подземельях рудников была единственным мрачным пятном на рабстве тех времен. Доходы же были сравнительно очень крупные.
2.
Пошлины, из коих главной была пошлина с кораблей, пользующихся пирейской гаванью, затем пошлина с отпускаемых на свободу рабов, с живших в Афинах и свободных от гражданских повинностей поселенцев (так называемых метеков) и т.д.
3. Прямая
подать с граждан (так называемых eisphora) взымалась только в исключительных случаях; зато существовала последовательная и постоянная система так называемых
литургий (leiturgia от leiton «народное» и ergon «дело»), касающихся исключительно богатых граждан. В ее основе лежит представление о том, что богатый гражданин, как таковой, состоит должником своей общины, которая благодаря своему «благозаконию» дала ему возможность стать богатым. Этот долг он уплачивает, исполняя какое-нибудь «народное дело», порученное ему государством. Таких «народных дел», или «литургий», были, главным образом, три категории: а)
гимнасиархия: получив от государства площадь и стены школы, гимнасиарх должен был позаботиться об учителях, обстановке и т.д., б)
триерархия: получив от государства корпус корабля с парусом, гражданин должен был его снарядить и набрать команду, и в)
хорегия: получив от архонта хор для состязания на празднике Диониса, «хорег» должен был его обучить, набрать актеров, позаботиться о постановке и т.д.; зато он разделял честь победы с автором поставленной пьесы. Особенно интересна и важна для нас эта последняя литургия, священная служба Дионису, и мы, конечно, не без участия читаем надпись, из которой узнаем, что именно Перикл был хорегом Эсхила на том достопамятном состязании 472 года до Р.Х., на котором он одержал победу своими «Персами».
4.
Доходы храмов, которыми они были обязаны благочестию отчасти государства, отчасти частных лиц, тоже могут быть рассматриваемы как государственный доход, поскольку государство разрешало себе делать из этих доходов займы — иногда под проценты, иногда беспроцентные, иногда возвращаемые, иногда нет. Различались «казна Афины» и «казна прочих богов».
К этим доходным статьям Афин как отдельного государства следует прибавить те, которыми Афины в эпоху существования
морских союзов пользовались как глава таковых.
Это были, главным образом, следующие:
5.
Денежные взносы союзников (phoroi), которыми они откупались от повинности ставить корабли в общий флот. Так как эту «повинность крови» за них несли афиняне, то они считали себя вправе распоряжаться этими взносами по своему усмотрению; на них, например, были воздвигнуты в эпоху Перикла святыни на Акрополе. Заведовали этими взносами особые казначеи (так называемые Hellenotamiai); хранилась казна вначале на Делосе, а с 454 года до Р.Х. — на Акрополе. В своей совокупности союзнические взносы составляли около половины государственного бюджета.
6.
Таможенная пошлина, взимаемая в гаванях морского союза в пользу союзной кассы.
7.
Судебные пошлины, уплачиваемые союзниками в тех процессах, которые разбирались в Афинах; а круг таковых Афины в видах централизации судебного дела старались чем далее, тем более расширить.
Таковы были сами доходы; что касается затем
способа их получения, то следует отметить характерный для всего античного мира факт, что государство, где это только можно было (то есть по отношению к ст. 1, 2 и 6), прибегало к системе
откупов, то есть заранее продавало данную пошлину тому лицу, которое за нее уплачивало наибольшую сумму, предоставляя ему взимать ее в собственную пользу так, чтобы и покрыть уплаченную государству сумму, и получить барыш. А так как богатые и соответственно уважаемые граждане, естественно, брезговали этим барышничеством, то приходилось поневоле, дробя пошлину, продавать ее мелким капиталистам. Так возник этот всеми ненавидимый и презираемый класс
мытарей (telonai), так хорошо нам известный из Нового Завета.
Что касается, затем,
государственных расходов, то они распределяются главным образом по следующим статьям:
1. На
жалование за государственную службу (об этом ср. выше, с. 136). К этим большей частью неутешительным статьям следует, однако, прибавить жалованье городским врачам (demosieuontes), между тем как народное просвещение, очень распространенное, было всецело предоставлено частной инициативе.
2. На
общественные работы, технического и художественного характера, производившиеся, однако, только при наличии излишков. Особенно слабо обстояло дело с общественными дорогами, но это объясняется национальной разобщенностью греческих племен; персидское государство с его большими военными дорогами и правильной почтой стояло в этом отношении выше, чем западный мир, вплоть до римских времен.
3. На
военные издержки — одна из самых важных статей. На первом плане тут стоял флот, хотя значительная часть относящихся сюда расходов покрывалась литургиями (выше, с. 137). Войско вначале, пока оно было
гражданским, не стоило государству особенно много: и гоплит о своем оружии, и всадник о своей лошади должны были заботиться сами. В случае похода они получали приказание вступить в строй, взяв с собой припасов на три дня, то есть до перехода отечественных пределов, после чего их кормили реквизициями. Но дело изменилось к худшему, когда значительную часть войска пришлось набирать из
наемников.
Примечание. Эта необходимость имела две причины: 1) при длительности войн, притом ведомых одновременно на разных концах греческого мира, «повинность крови» ложилась тяжелым бременем на граждан и легко могла повести к их истреблению — уже к концу пелопоннесской войны Афины были в значительной степени городом вдов, а 2) наемные дружины, постоянно находясь под оружием, в знании все развивающегося военного дела стояли выше гражданских ополчений. Правда, с другой стороны, что на их верность государство могло полагаться гораздо менее, чем на своих собственных сынов. Теперь мы знаем, что правильным путем было бы при постепенной централизации морского союза привлекать к военной службе граждан его составных общин, в видах образования великой, объединенной под главенством Афин Эллады. Но этого не случилось, и ход событий повел к тому, что V век до Р.Х. принадлежал главным образом гражданскому, IV век до Р.Х. — наемному войску, характер которого нам жизненно изобразил Ксенофонт в своем знаменитом «Анабасисе».
4. На
устройство празднеств — чисто эллинская статья. О них самих будет сказано ниже (§ 15); они неизбежно были соединены с большими жертвоприношениями, и это не было непроизводительным истреблением живности с религиозной целью, так как мясо жертвенного животного почти все шло на угощение бедноты. Помимо того, устройство многочисленных состязаний с их призами победителям требовало значительных издержек. Наконец — и это было наиболее характерно — часть денег выдавалась на руки бедным гражданам, чтобы дать им возможность принять участие в празднике. Почин принадлежит тут Периклу: желая сделать театральные представления, ввиду их образовательной задачи, доступными всем, он провел закон, чтобы бедным гражданам возмещалась та небольшая плата (два обола), которую они вносили за место в театре. Позднее этот так называемый theorikon разросся и был распространен на все крупные праздники.
Когда после крушения второго морского союза возникла «политика отречения», проводимая Евбулом, было постановлено, чтобы все излишки доходов поступали в эту «праздничную кассу» и чтобы никто, под страхом казни, не мог предложить в вече изменение этого постановления. Трубный глас Демосфена вырвал афинян из этого забытья: под грозой Филипповой войны он добился, чтобы излишки были препровождаемы не в праздничную, а в военную кассу, — и его заслугой было то, что на полях Херонеи была спасена если не эллинская свобода, то, по крайней мере, эллинская честь.
§ 6. Правовой быт. Демократизация Афин, начатая Солоном и завершенная Клисфеном, повела прежде всего к учреждению
народного суда, носящего темное для нас название гелиэи (heliaia). Судьями в ней были все старшие граждане, числом около шести тысяч; они делились на десять коллегий по шестьсот членов каждая. Численностью каждой коллегии предупреждалась возможность подкупа суда, — и действительно, эта цель была достигнута. Понятно, что не по каждому делу можно было пускать в ход такую громоздкую машину; при широком развитии частного судопроизводства (так называемых третейских судов, см. с. 133) только самые крупные как гражданские, так и уголовные дела достигали суда «гелиастов». Зато их приговор был окончательным и ни кассации, ни апелляции не подлежал.
Обыкновенно обвинителем был потерпевший; но Солон прекрасно сознавал, что преступная энергия, склоняющая человека к нарушению законов, — греки называли ее hybris, — была общественной опасностью, и поэтому в тех случаях, когда потерпевший не мог обвинять сам, обвинителем мог выступать и «всякий желающий». В основе этого постановления лежала мысль, что согражданам не должны быть чужды обиды сограждан; не Солон был виноват в том, что эта прекрасная мысль выродилась и дала в результате отвратительный класс
сикофантов-шантажистов (выше, с.73), досаждавших богатым гражданам под личиной заступничества за якобы попранные права других и заставлявших их платить им более или менее крупный выкуп за то, чтобы их оставили в покое.
А так как эти обвинители были или легко могли быть ловкими и в знании законов, и в красноречии людьми, то сама справедливость заставила суды внести известное ограничение в правило, чтобы обвиняемый защищался сам. Ограничение было двоякого рода. Во-первых, ему не возбранялось поручить другому составление за него защитительной речи, которую он затем выучивал и произносил. На этой почве развилась так называемая
логография, то есть сочинение опытным оратором письменных речей за других; так, в процессе Сократа Платон предложил своему учителю воспользоваться речью, которую он, Платон, взялся за него написать. Но, кроме того, в известных случаях обвиняемому позволялось приглашать на помощь себе второго оратора, так называемая синегора (synegoros); в этих случаях дело на практике сводилось к тому, что обвиняемый ограничивался несколькими фразами, а главная задача поручалась синегору. Таким образом, благодаря сикофантии с одной стороны и синегории с другой,
представительство сторон, исключенное строгим духом первоначального судопроизводства (выше, с.73), появилось само собой, а с ним неизбежно появилось и
судебное красноречие, возникновение которого относится именно к нашей эпохе.
Но лучшим плодом Солонова законодательства и его развития в демократическую эпоху было то, что атмосфера «благозакония» была разлита повсюду, и произвол больших и малых насильников был обуздан во всех областях жизни. И старый отец, и жена, и сироты, и рабы находились под защитой закона, и обидчик их имел в каждом случае очень действительное основание бояться привлечения к суду. Правда, что этот суд, будучи неподкупным, не был непогрешим: процесс Сократа, осужденного в 399 году до Р.Х. народным судом, ясно это нам доказывает. Но тот же Сократ, имея возможность безопасного побега, добровольно отказался от него, не желая своим примером содействовать нарушению законов, которые он во всех других отношениях горячо одобрял, — яркое доказательство того, как гордился афинянин нашей эпохи тем благозаконием, которое отличало его правовой быт от какой-нибудь Фессалии или варварских стран.
И мы, произнося свое суждение об этом правовом быте, должны основываться не на этих отдельных случаях неправосудия, а на всей идее нового суда, вручившей решение участи подсудимого гражданина не представителю власти, а его же согражданам как таковым. Только теперь жалобы Гесиода на неправду «царей-дароедов» (выше, с.70) замолкли окончательно; и хотя царство Правды и не было основано, но все же был намечен тот путь к его осуществлению, от которого уже нельзя было удаляться безнаказанно.
Правда, мы видим не в Афинах и вообще не в Греции, а в Риме нашего воспитателя в области правового быта; и среди правовых истин, неизвестных Греции и открытых лишь Римом, уже была (с.34) упомянута одна — а именно, что государство лишь в пределах существующих законов может распоряжаться жизнью, свободой и имуществом своих граждан. Афины этого еще не сознавали, они допускали суд по не предусмотренным законодателем преступлениям, предоставляя в этих случаях обвинителю предлагать, а гелиэе определять меру наказания, вразрез с римским и нашим правилом nulla poena sine lege; в таком процессе (dike timete) был осужден и Сократ. Но в особенности относится сюда знаменитый
остракизм, введенный Клисфеном и просуществовавший около столетия. Его суть состояла в следующем: если оказывалось, что присутствие влиятельного гражданина в общине было причиной смут, то разрешалось предложить народу путем голосования временно исключить его из состава общины. Делалось это так: гражданин писал (или царапал) имя исключаемого на глиняном черепке (ostrakon), затем бросал его в урну; если за исключение было подано значительное большинство голосов, то исключенный на время (пять или десять лет) должен был покинуть Афины. Немало великих людей испытало на себе действие этой меры — Фемистокл, Аристид, Кимон; оно не было собственно изгнанием — имущество потерпевшего не конфисковалось и его гражданская честь оставалась нетронутой. Но все же это была мера тираническая, несовместимая с более развитым правовым сознанием; и нам приятно было бы удостовериться, что именно это соображение повело к ее упразднению после 418 года до Р.Х.
§ 7. Государственный быт. Та форма государственного быта, при которой Афины прожили кратковременный период своего расцвета, была создана
демократической реформой Клисфена в 509 году до Р.Х. Главным содержанием этой реформы была новая организация гражданского населения Афин с целью «смешения граждан между собой» и устранения старинного порядка, согласно которому Аттика распадалась на три области: педиею, паралию и диакрию (выше, с. 76). Клисфен поступил так: прежде всего он разделил каждую из названных областей — скажем, А, В и С — на десять так называемых «третей» (trittyes): A
1, А
2, А
3, и т.д. до А
10, так же точно B
1, В
2 до В
10, и С
1, С
2 до С
10, — причем получилось тридцать таких «третей». Из этих тридцати третей он составил свои новые
десять фил, составляя каждую по жребию из трех лежащих в различных областях третей: например, филу I из А
4 + В
7 + С
2, филу II из А
5, В
4 и С
9, филу III из А
9, В
4 и С
5 и т.д. Этим десяти филам он дал с благословения Пифии имена древнеаттических героев, назвав их Эрехфеидой, Аякстидой и т.д., и сделал их основой преобразованного строя. Отныне жители, например, диакрии уже не могли совещаться между собой о государственных мерах, результатом чего была некогда тирания Писистрата: каждая из десяти частей, на которые она была разделена, была связана общностью интересов с теми участками двух прочих областей, с которыми ее соединил жребий.
На этом новом делении были основаны три органа государственной жизни демократических Афин —
совет, вече и
магистратура.
Что касается, прежде всего, совета (bule), то он состоял из пятисот членов, по пятьдесят на каждую филу, избираемых на год по жребию из граждан первых трех классов старше тридцати лет с тем ограничением, чтобы никто не мог быть членом совета чаще, чем два раза в жизни. Компетенция этого совета состояла 1) в предварительном решении (probuleuma) тех законопредложений, которые затем вносились на окончательное решение веча, и 2) в самостоятельном управлении, на основании существующих законов, финансами, флотом и конницей. Полностью совет собирался лишь от времени до времени; постоянно заседала только десятая его часть, так называемая
притания. Эта притания объединяла в себе пятьдесят членов одной и той же филы, причем каждая фила была «пританствующей» в течение 1/10 года. На каждый день притания избирала из своей среды особого председателя, так называемого
эпистата, который должен был дежурить с 1/3 своей притании не только днем, но и ночью, чтобы к нему во всякое время можно было обратиться по государственной надобности, — так что неугасимая «лампада в притании» была настоящим символом бдительного ока афинского благозакония.
В афинском
вече (ekklesia) могли участвовать все граждане старше двадцати лет; собиралось оно на скалистой террасе Пникса, под Акрополем (а с IV века до Р.Х. — в театре), вначалее по разу в пританию, потом несколько чаще, под председательством эпистата. Все вносимые предложения должны были раньше получить санкцию совета; но вече не было ею связано и могло не только принять и отвергнуть редакцию совета, но и внести существенные изменения по предложению народных
ораторов. Таковым мог выступать любой гражданин; в глашатайской формуле «кто из граждан старше сорока лет имеет сказать нечто полезное для народа?» афиняне видели истинное выражение демократической свободы. Отсюда значение политического красноречия; отсюда и злоупотребление им так называемыми
демагогами, которые стали такой же язвой в области политики, какой были сикофанты в области суда.
Наконец, в области
магистратуры[14], обязательно годичной, нас поражает прежде всего ее коллегиальность: каждая должность представлена несколькими, обыкновенно десятью гражданами, по одному на филу. Затем — то, что за исключением военачальников, а также и тех магистратов, которые имели дело с государственными суммами и поэтому должны были принадлежать к числу зажиточных граждан, остальные избирались не поднятием рук (хиротонией), а
жребием. В основе этого странного на наш взгляд порядка лежит, во-первых, религиозное представление: «Мы признаем счастье милостью бога и допускаем поэтому жеребьевку, считая вполне справедливым, чтобы вынувший счастливый жребий получил власть, а не вынувший не получил ее» (
Плат. Зак. III, 690с), а затем и демократическая вера или иллюзия, что каждый гражданин должен быть настолько политически образованным, чтобы в случае надобности успешно справиться с порученной ему должностью. А впрочем, магистрат находится под постоянным контролем; этот контроль сказывается 1) в его «докимасии» после выборов, то есть исследовании, соответствует ли его личная порядочность той чести, которая выпала на его долю; его устраняли, если оказывалось, что он, например, не относится с требуемым уважением к своим родителям или их могилам; 2) в возможности его «апохиротонии» (то есть отрешения от должности) во время его магистратского года; 3) в предстоящей ему по окончании магистратского года «эвтине» (euthyna), то есть отчете, неудовлетворительность которого могла повести за собой более или менее крупный штраф.

Главными магистратскими коллегиями были следующие:
1. Коллегия
архонтов; их было с давних пор девять, и Клисфен должен был прибавить к ним секретаря, чтобы привести их число в соответствие с числом фил; выбирались они по жребию. Эта возникшая из царской власти коллегия потеряла свое прежнее значение, сохранив главным образом инструкцию процессов и председательство при их разбирательстве в гелиэе, притом архонт-царь — в религиозных делах, архонт в тесном смысле, по имени которого назывался год, — в семейных, полемарх — в делах метеков, фесмофеты — в остальных.
2. Коллегия
стратегов, числом десять, избиралась путем хиротонии. Она унаследовала то значение, которое потеряла архонтская. Из десяти стратегов часть отправлялась в поход, другие оставались в Афинах, чтобы здесь делать необходимые для успешного хода войны распоряжения. Так как это понятие было очень растяжимо, то компетенция стратегов была очень велика. Конечно, фактически наиболее способный в коллегии управлял всем делом; Перикл, например, пятнадцать лет подряд избирался стратегом, и в этой должности управлял всем государством, «и была это на словах демократия, на деле же единовластие лучшего гражданина» (
Фук. II, 65). Таков был внешний облик той афинской демократии, которая, хотя и не без сотрясений, просуществовала в течение двух столетий.
Согласно сказанному выше (с.77), это была
демократия плебисцитарная; таковая, как мы тоже уже убедились, была возможна только при известной ограниченности территории. Для Афин она была естественна, так как и сунийский, и марафонский поселянин мог легко устроить свои дела так, чтобы быть в Афинах в сравнительно редкие вечевые дни. Некоторое неудобство представляли уже клерухии, но не непреоборимое: обыкновенно гражданин их навещал только изредка, оставляя на прочее время вместо себя управляющего. Но что случилось бы с демократической идеей, если бы Афинам удалось политически объединить значительную часть Греции? Такую возможность им открывал только знаменитый
морской союз, не столько второй, сколько первый (478-404 годы до Р.Х.), и поставленный вопрос переводит наше внимание с почвы государственного на почву междуэллинского быта.
§ 8. Междуэллинский быт. То новое, что принесла наша эпоха в области междуэллинских отношений, заключается, главным образом, в основании
Делосского союза как единственной серьезной попытке объединить не только внешним, но и внутренним образом значительную часть эллинских общин под главенством одной передовой державы, каковой были Афины эпохи Фемистокла и Аристида. Первоначальной целью союза была оборона побережных и островных эллинов против возможного возобновления персидского погрома. Так как самым надежным средством такой обороны был сильный и единый
флот, то первоначальные мероприятия творцов союза были направлены на создание такового из пропорциональных контингентов входящих в союз общин, причем деньги на оборудование и операции этого флота естественно составили союзную казну, которую предполагалось хранить в храме Аполлона на острове Делосе; отсюда и само название Делосского союза. Но при практическом осуществлении этой меры оказалось, что она была сопряжена со слишком большими неудобствами для тех общин, которые вследствие малочисленности своего населения могли поставить лишь незначительное число кораблей, а то и часть такового. Такие общины предпочли откупиться деньгами от постановки приходящегося на их долю контингента. Так с самого начала общины союза распались на такие, которые сами участвовали в деле совместной обороны, и такие, которые поручили оборону собственной территории другим, уплатив им соответственную сумму, и этим фактически стали денницами центральной общины. Первые стали называться автономными, вторые — подчиненными (hypekooi) союзниками.
Дальнейшее развитие союза неизбежно повело к тому, что последняя категория стала постепенно увеличиваться за счет первой. Прежде всего, при растущем благоденствии союзников им самим стало выгоднее откупиться данью от повинности крови, а затем, те, которые своими изменническими попытками выйти из союза доказали свое враждебное к нему отношение, были естественно лишаемы своего флота и насильственно переводимы в категорию подчиненных союзников. Таким образом, к эпохе Перикла в союзе были только три автономных члена — Самос, Лесбос и Хиос. А так как контингенты автономных союзников не были увеличиваемы в соответствии с убывающими подчиненных, то та повинность крови, от которой освобождались подчиненные, ложилась все сильнее и сильнее на центральную общину, то есть на Афины.
Параллельно с этим развитием шла все большая и большая централизация управления. Афины присвоили себе право самовольно распоряжаться операциями общего флота. Общая касса мало-помалу из союзной превратилась в афинскую, с ее перенесением из Делоса на афинский Акрополь в 454 году до Р.Х. по почину Перикла. Неблагонадежность отдельных общин часто вела к тому, что афиняне обеспечивали себе их преданность более или менее сильными гарнизонами или же отправляли к ним особых чиновников (episkopoi) с правом вмешательства в те их внутренние дела, которые так или иначе затрагивали интересы либо всего союза, либо руководящей общины. Независимо от этого афиняне всюду старались ввести демократическое правление, справедливо рассчитывая, что таковое, будучи им обязано своим возникновением, станет оплотом афинофильской политики данной общины. Наконец, было постановлено, чтобы крупные уголовные процессы, возникавшие в союзных общинах, разбирались в Афинах перед судом гелиастов, чем было завершено также и правовое объединение союза.
Никогда ни до, ни после не было создаваемо на греческой почве такой сплоченной междуэллинской организации. Все же параллельно с ее централизацией шло и недовольство составляющих ее общин, которые не могли примириться с потерей самого необходимого для греческой общины элемента — автономии. Эта потеря могла быть возмещена только предоставлением им участия во власти, то есть превращением Делосского союза в своего рода Великую Аттику с общим для всех центральным управляющим органом в Афинах; осуществление же этой идеи, при территориальной разрозненности составляющих общин, было возможно только под
условием перехода к представительной системе, то есть под условием замены плебисцитарной демократии — парламентарной.
История освободила Афины от необходимости разрешить этот неудоборазрешимый для античного человека вопрос: после поражения афинского флота при Эгоспотаме (405 год до Р.Х.) морской союз был окончательно распущен, и так велико было недовольство составляющих общин централизующей политикой Афин, что его разрушитель Лисандр был всюду приветствуем как освободитель.
Тем не менее, это продолжавшееся три четверти века объединение большинства культурных общин Эллады под главенством Афин принесло свои плоды если не в области политики, то, во всяком случае, в области культуры. До заключения союза аттический говор был одним из многих маловажных греческих диалектов, между тем как литературным языком был ионийский; ко времени его распущения аттический язык был общегреческим — отдельные области сохранили свои местные говоры, но только для внутреннего, а не для междуэллинского употребления. И когда царь Филипп обращался письменно к греческим общинам, он составлял свои грамоты на аттическом языке. Этим был предначертан также и дальнейший путь развития эллинизма. То войско, с помощью которого Александр Великий победил Восток, менее всего состояло из аттических элементов; но язык и культура, которые он распространил до Инда и до порогов Нила, были аттическими, и этот неотъемлемый аттический характер вселенского эллинизма был плодом многолетнего афинского главенства в той Элладе, которая объединилась в Делосский союз.
§ 9. Международный быт. Международные отношения в эллинском мире нашей эпохи имеют в своем основании антагонизм понятий «эллин» и «варвар», причем слово «варвар», обозначая всякого, говорящего на непонятном языке, то есть всякого неэллина, само по себе не имеет никакого презрительного оттенка. Политические расчеты могут повести к союзу эллинов с варварами против других эллинов: афиняне рассчитывали на дружбу фракийского государства в разгар пелопоннесской войны, и Спарта сочла позволительным для себя принять золото от персидского сатрапа в видах уничтожения афинского влияния на востоке. Но тем не менее культурная разница между эллинами и варварами сознавалась. В годы самого резкого взаимного отчуждения спартанцы имели своего «проксена» в Афинах так же, как и афиняне в Спарте; но персидскому сановнику, который бы забрел в Афины, пришлось бы обратиться к заступничеству пританов (выше, с.143), то есть к государственной власти. И когда афиняне справляли праздник своей богини-покровительницы, на него приглашались «феоры» из союзных, а в годы мира и из всех вообще эллинских государств, но, конечно, не из Персии, Фракии и Египта.
Тем не менее, отношения греков к «варварам» были лишены всякой принципиальной враждебности. Любознательный Геродот с интересом присматривается к нравам и памятникам варварских народов, которые он посещает, и скорее бывает склонен незаслуженно признать превосходство варварского обычая перед эллинским, чем отнестись к нему с незаслуженным пренебрежением. Импонирующая древность египетской и вавилонской культур естественно повела к тому, что эллин почувствовал себя учеником того и другого народа, даже в таких областях, в которых самобытность эллинской культуры для нас несомненна. Ни племенные, ни религиозные различия не вызывали его насмешки или высокомерия; что касается специально этих последних, то врожденная его терпимость и самопонятное для него требование, что гость чужой страны должен воздать честь ее богам, устраняли в зародыше всякую возможность для него изуверства.
Только в одной области эллин чувствовал себя неизмеримо выше варваров, причем, правда, под последними он, за полным почти незнакомством с иноплеменными народами Запада, разумел подданных персидского царя: это была оценка
личной свободы. Видя, с каким смирением восточный человек переносит иго царя, признавая в последнем уже не человека, а бога; знакомясь со столь чуждой для него организацией восточного общества, в котором всякий подчиненный считался рабом своего начальника; поражаясь, с одной стороны, унизительными формами поклонения подданных, с другой — бесчеловечным произволом правителей над личностью подчиненных, — он, естественно, приходил к убеждению, что для варвара рабство такая же природная форма общежития, как для эллина — свобода. Если поэтому Аристотель (
Арист. Пол. I, 1254в), вразрез со многими мыслителями и поэтами своего народа, оправдывает рабство ссылкой на то, что есть люди, рожденные для него и вне его рамок неспособные к полезной деятельности, то в этом следует признать лишь эмпирический вывод человека, не склонного к иллюзиям и одинаково трезвыми глазами взирающего на характерные особенности обоих миров, с которыми его познакомила жизнь.
Той принципиальной благожелательности, с которой эллины относились к варварам, соответствовала и восприимчивость варваров к благам греческой культуры. Если не считать египтян, замкнувшихся в своей культурной отчужденности, но при этом дружелюбно относившихся к грекам, то прочий варварский мир в нашу эпоху испытывает все возрастающее влияние и обаяние эллинизма. Ближайшие к Ионии области — Лидия, Фригия, Кария — становятся уже почти эллинскими. На Кипре древнефиникийская культура стушевалась перед эллинской, и сам остров под управлением эллинофильских царей стал своего рода эльдорадо для тех эллинов, которым на родине было тесно. Вообще перепроизводство культурных людей в собственно Греции ведет к тому, что они охотно ищут и находят сбыт своим способностям в варварском мире; это касается прежде всего медиков и художников, затем торговцев, класс которых в Греции обладал гораздо большей подвижностью и предприимчивостью, чем на Востоке, и, наконец, наемников, дружины которых охотнее сражались в варварских странах против варваров, чем у себя против своих. Так-то эллинская культура исподволь, но решительно подчиняла себе варварский мир в ожидании того момента, когда гений царя-завоевателя окончательно утвердит ее господство над ним.
§ 10. Нравственное сознание. В истории нравственного сознания человечества наш период отмечен, прежде всего, неизбежной по всему его общественному укладу
демократизацией морали путем введения в нее догмата о
научимости тому идеалу, который по-прежнему продолжает называться arete.
Действительно, нравственное учение эллинского периода признавало, как мы видели (выше, с.89), чисто аристократический догмат
наследственности этой arete: кто ее унаследовал от «добрых» отцов и предков, тот и сам «добр»; кто, напротив, происходит от «худых», тот и сам «худ» и никоим образом «добрым» стать не может, ибо «ни лев, ни бурая лисица не могут изменить врожденного нрава» (
Пиндар. Олимп. 10, 20). Афиняне долго находились под гнетом этого учения: оно, казалось, увековечивало привилегии аристократии, которая ведь была ничем иным, как совокупностью «добрых», но оно же, будучи изложено в гениальных творениях поэтов аполлоновской эпохи, которых даже демократические Афины не решались исключить из своих школ, с юных лет входило в плоть и кровь будущих граждан.
Общественное мнение не могло не искать выхода из этого мучительного разлада; понятна поэтому радость, с которой оно пошло навстречу той философии, которая, проповедуя научимость этой arete, этим самым открывала замкнутый круг «добрых» всем, желающим ей научиться.
Носителями этой философии были так называемые софисты. Это были люди очень различные по объему своих знаний и своему нравственному складу. Общими их чертами были следующие: 1) они все целью своей деятельности считали и называли приобретение и распространение мудрости (sophia), вследствие чего они и именовали себя софистами — это слово тогда еще не содержало того привкуса хулы, который мы в нем слышим теперь; 2) они, в видах большего распространения своей мудрости, разъезжали по всей Элладе, всюду вербуя учеников; 3) они, вынужденные жить плодами своей деятельности, брали плату за свое учение. Это последнее обстоятельство, безукоризненное с точки зрения наших обычаев, сильно роняло их тогда в глазах идеалистически настроенных людей. Главные из них —
Протагор из Абдеры,
Горгий из Леонтип,
Гиппий из Элиды и
Продик из Кеоса. В Афинах, куда они наезжали периодически, они все были чужими и пользовались гостеприимством богатых и любознательных граждан, перистили которых на время их пребывания превращались в настоящие университетские аудитории.
Но научимость arete была только одной стороной, и притом положительной, деятельности софистов; другой был
скептицизм. Развитие философии природы (выше, с.89 сл.) могло легко вселить в наблюдателя уверенность, что все теории мирового становления одинаково убедительны, то есть, другими словами, одинаково недоказуемы; и этот физический скептицизм, нашедший свое выражение в бессмертных словах Протагора: «Человек — мерило всему сущему, что оно есть, и не сущему, что оно не есть», — не мог не перекинуться и на религиозную, и на нравственную область. Возникла уверенность, что ни одного религиозного или нравственного положения доказать нельзя, а можно в нем только убедить силой и обаянием
речи. Так-то из софистического скептицизма естественно возник культ речи; ее учителями были те же софисты, и их учение нашло себе благодатную почву в демократических Афинах, в которых и суд, и вече предоставляли столь широкое поле искусному оратору. С возрастающей озабоченностью следили рассудительные граждане за этим опасным увлечением, грозившим потопить все идеалы религии и нравственности в туманном море убеждения. Но молодежь была в восторге от нового учения; и действительно, оно должно было перебродить в ее горячих головах для того, чтобы дать тот чистый и положительный религиозно-нравственный идеал, представление о котором мы связываем с именами Сократа и Платона.
Чтобы понять деятельность
Сократа (470-399 годы до Р.Х.), ее нужно рассматривать на двойном фоне: с одной стороны — обыденной гражданской морали, с другой — описанного только что софистического движения.
Гражданская мораль была богата положительными догматами и не затруднялась давать в каждом данном случае ответ на вопрос, что такое arete. «Arete гражданина, — говорила она, — состоит в том, чтобы быть способным ведать государственные дела и в этой деятельности приносить пользу друзьям и вредить врагам; arete гражданки — в том, чтобы хорошо управлять домашним хозяйством, сохраняя в целости то, что составляет достаток дома, и повинуясь мужу; иная arete малолетнего — мальчика и девочки, иная — старца, свободного или раба; есть и много других aretai» (
Плат. Мен. 71е). Сократа подобный ответ удовлетворить не мог. В силу своей глубокой сознательности он старался узнать, почему все названные проявления гражданской arete объединяются именно этим именем и что такое, следовательно, сама arete. И вот на этот-то вопрос ходячая мораль никакого ответа ему не давала.
Он обращался от нее к учению софистов, но здесь его еще более отталкивала пустота скептицизма и соблазн риторического убеждения. Сознательно обращаясь против последнего, он единственным путем к выходу из безнадежного и бесплодного скептицизма признавал такое пользование словом, при котором каждый довод говорящего мог тотчас найти подтверждение, ограничение или опровержение со стороны собеседника. Другими словами,
риторическому методу софистов он противопоставил метод
диалектический; в этом его бессмертная заслуга перед духовной культурой.
А впрочем, мы не можем сказать, прибавил ли он к теории научимости arete, которую он после некоторого колебания заимствовал у софистов, еще другие положительные догматы. Мы представляем себе его вечным искателем, своими вопросами и беседами будившим сознание своих сограждан; при этих беседах стали получаться те или иные положительные выводы, которые он, однако, считал плодами не собственной мысли, а мысли своего собеседника или, вернее, того logos'a, который в данную минуту воплощался в их беседе. И он более всего заботился о том, чтобы честное служение этому logos'y не нарушалось никаким недомыслием или пристрастием. Быть может, Сократ сам не добыл ни одного из тех догматов, которые впоследствии считались характерными для «сократических» школ, но он выковал тот меч, с помощью которого они были добыты все, и этим мечом был logos.
Обаяние сократовских бесед сделало учителя одной из популярнейших фигур послеперикловских Афин и собрало вокруг него кружок не очень многочисленных, но ревностных учеников. Из них одни позднее поведали потомкам о деятельности своего учителя; другие продолжали его дело, созидая положительные идеалы на расчищенной его диалектикой почве, — таковыми были
Антисфен, Аристипп и в особенности
Платон; третьи, наконец, после нескольких лет общения с ним вернулись к практической жизни.
Именно эти последние и стали причиной его гибели. Строгие демократы не могли забыть, что и Алкивиад, изменивший своей родине в решающую годину сицилийской экспедиции (414 год до Р.Х.), и Критий, принявший после ее разгрома из рук спартанцев тираническую власть над ней (404 год до Р.Х.), были учениками Сократа. Вскоре после восстановления демократии он был обвинен как развратитель молодежи и, не желая ни воздействовать на судей притворным смирением, ни воспользоваться одним из средств побега, которые ему были предоставлены его друзьями, умер смертью праведника в 399 году до Р.Х.
Из сократовской школы общая тема всех бесед, arete, вышла преображенной в двух отношениях. Во-первых, она мало-помалу потеряла то значение «доблести», которое ей было свойственно в предыдущие эпохи, и получила взамен его значение нашей нынешней «добродетели». Во-вторых, — и это было последствием глубокой сознательности самого учителя, — она была неразрывно соединена со знанием. У бессознательной добродетели ходячей морали была отнята всякая ценность; истинно добродетельный человек должен был быть в состоянии отдать отчет в своей добродетели; таковая несомненно была знанием. Спрашивалось только, знанием чего? Эта последняя примета наложила свою печать на всю античную послесократовскую мораль; она была моралью
интеллектуалистической, — и нужно было явиться гению блаженного Августина (V век по Р.Х.), чтобы противопоставить ей, как морали языческой, новую христианскую
волюнтаристическую мораль.
Развитие школы Сократа принадлежит IV веку до Р.Х. Из его творчески одаренных учеников один,
Аристипп Киренский, в своих рассуждениях о сущности добродетели увидел себя вынужденным отождествить ее с каждым в данном случае большим удовольствием, ради которого мы жертвуем меньшим, и стал, таким образом, творцом так называемой
гедонистической (от hedone — «удовольствие») морали. Она сама себя опровергла в лице его позднейших преемников: так как большим удовольствием пришлось признать более длительное, длительное же удовольствие превращается в простое безболие, то мало-помалу проповедь удовольствия превратилась в проповедь абсолютного безболия — то есть смерти.
В резком противоречии с Аристиппом
Антисфен старался освободить абсолютную добродетель от всех соблазнов чувственности, усматривая идеал мудреца в полной беспотребности; ее проповедовала пошедшая от него
киническая школа, как она была названа — скорее всего по тому месту, где учил Антисфен, гимназии в афинском предместье Киносарге. Слово Антисфена обратил в дело его знаменитый ученик
Диоген Синопский. Надев суму, символ нищенства, он пошел странствовать, поучая людей на всех перекрестках идеалам беспотребности и получая в качестве вознаграждения за свое учение ломоть хлеба или пригоршню жареных бобов. Число его последователей, прямых и косвенных, было очень велико, и школы киников можно не без основания сравнить с нищенствующей братией св. Франциска в позднейшее Средневековье.
Оба решения были скорее практически наглядными, чем философски продуманными. Из всех учеников Сократа один только
Платон сумел поднять вопрос о добродетели на ту высоту идеализма, которая соответствовала величию послеперикловских Афин. Его определение добродетели стоит в зависимости от взглядов на душу. Последнюю он — исходя из орфических учений (выше, с. 117) — представляет себе наподобие возницы, управляющего парой коней, из коих один влечет колесницу к высотам идеала, другой — к низинам чувственности. Долг возницы — поощрять пыл первого и укрощать второго. Так, наша душа состоит из трех элементов: руководящей мысли (logistikon), энергии (thymoeides) и вожделения (epithymetikon); им соответствуют три основных добродетели — мудрость (sophia), мужество (andreia) и воздержанность (sophrosyne). Все три растворяются в высшей добродетели — справедливости (dikaiosyne).
Установлением этого последнего идеала Платон не очень удалялся от гражданской морали, которая и сама ведь старалась воспитывать гражданина в правилах справедливости; но он резким образом разошелся с ней по вопросу о санкции (выше, с.34). Там отрока вели к справедливости указаниями на то, что только справедливый муж пользуется уважением людей и покровительством богов. Софистическое движение разбило обе эти санкции и, в сущности, отняло всякую опору у нравственности. Вразрез и с гражданской моралью, и с софистикой Платон учил, что добродетельность есть здоровое состояние души и, как таковое, одна только и может обеспечить ей хорошее самочувствие; что поэтому добродетельный муж этим самым и счастлив, порочный — этим самым и несчастен, если получит возмездие, чем если он останется безнаказанным, развивая до последних пределов болезненное состояние своей души. Этим открытием Платон стал творцом
автономной нравственности.
Трезвый ум его ученика
Аристотеля и в этом отношении не остался на высоте его идеализма. Внимательно исследуя проявления добродетельности в человеческой жизни, он пришел к убеждению, что добродетель в каждом данном случае есть средний путь между двумя порочными крайностями (virtus in medio): щедрость — между скупостью и расточительностью, мужество — между трусостью и опрометчивостью и т.д. Этим учением он стал проповедником той золотой середины (aurea mediocritas), которая могла послужить хорошей нормой для общегражданской добродетельности, но исключала великодушный подъем героических натур.
Как видно из всего сказанного, нравственное сознание нашего периода гораздо более отмечено индивидуальной печатью творческих личностей, чем оба предыдущих. Посредствующим звеном между этими личностями и народной массой служит
школа: благодаря ей и ее проповеди идеи творцов распространяются все более и более, определяя собой также и общественную мораль. Ее действие, конечно, неравномерно: гедоническая проповедь естественно ограничивается изящным обществом утопающих в роскоши царедворцев, киническая обращается преимущественно к грубым умам низших гражданских и даже рабских слоев, созидая своеобразную философию и нравственность пролетариата, аристотелевская неохотно покидает рамки школы и созерцательной жизни; платоническая, наконец, будучи более всех запечатлена печатью гения, притягивает родственно настроенные души, являясь среди всех наиболее богатой будущим.
Глава II. Наука
§ 11. Наука в течение нашего периода еще остается заключенной в рамки философии, продолжающей считаться совокупностью тех знаний, которые человек приобретает ради самого знания. Она охватывает даже и медицину, с тех пор как эта последняя перестала ограничиваться одними только целебными практиками и своим изучением человеческого тела и его функций дала возможность провести параллель между ним и мирозданием. Первым из этих врачей-философов был Гиппократ Косский. Выйдя сам из школы врачей-жрецов, он круто повернул медицину на путь естественного опыта и стал, таким образом, основателем медицины как науки. Правда, его познания в области анатомии и физиологии были еще очень несовершенны: обычай не дозволял резать трупы, и врачам приходилось довольствоваться часто обманчивой аналогией между человеческим и животным телом. Все же и ее было достаточно, чтобы навести Гиппократа на мысль о закономерности патологических явлений, а также о влиянии на них окружающей среды.
Чистая философия, как наука о мироздании, следует в нашу эпоху по двум путям. Первый был предначертан еще в конце предыдущего периода рапсодом
Ксенофаном Колофонским и особенно его учеником
Парменидом, главным представителем
элеатской школы, как она называется по имени того южноиталийского города — Элеи, где под конец своей жизни обосновался Ксенофан. Учение элеатов нашло разрешение тем противоречиям, в которых запуталась философия природы, в гипотезе двоемирия; согласно ей есть, во-первых, мир бытия, доступный только нашей мысли, но не нашим чувствам, о котором мы потому ничего не можем сказать кроме того, что он есть; и есть, во-вторых, мир кажущийся, к которому относится все то, что нам передают наши чувства. Божество — это и есть бытие, и оно поэтому для нас совершенно бессвойственно, и неразумно поступают те, которые представляют себе его под тем или иным образом. Эта гипотеза двоемирия получила особое значение вследствие того, что ею воспользовался для своей космологической спекуляции
Платон. Но он поставил оба мира элеатов в гораздо более тесную связь один с другим тем, что признал кажущийся мир отражением мыслимого. Там, в пределах вечного бытия, в единении с богами витают первообразы тех предметов, которые наши чувства воспринимают здесь, в пределах видимости. Эти первообразы Платон называет
идеями. Каждый предмет — несовершенное отражение соответственной идеи, и если мы, тем не менее, признаем его тем, что он так несовершенно отражает, то это происходит потому, что наши души некогда, в прабытии, тоже витали в пределах мыслимого мира и общались с идеями. Здесь наука граничит с религией; обе неразрывно связаны философией Платона.
Второй путь, по которому пошла философия нашего периода, противоположный «идеализму» Платона, был путь
материалистический. Его главными представителями являются для нас
Эмпедокл, Анаксагор и в особенности
Демокрит Абдерский. Из них первый подвел итоги ионийской философии природы, установляя одинаковую изначальность всех четырех стихий и объясняя мировое становление их попеременным стремлением друг к другу и друг от друга под влиянием двух сменяющих одна другую сил — «дружбы» и «раздора». Все же он совокупность стихий представлял себе одушевленной и божественной и вообще примешал много мистицизма к своей философии. Также и
Анаксагор не был чистым материалистом: допуская происхождение мироздания из бесконечного числа бесконечно малых частиц (так называемых семян — spermata), он нуждался в силе, которая бы привела их в движение, так как предвечного движения он представить себе не мог. Он эту силу назвал разумом (nus), но использовал ее только для первоначального толчка, в чем Платон не без основания усмотрел непоследовательность. Решительнее был
Демокрит; отказываясь от всякого спиритуализма, он объяснял происхождение мира только из двух изначальных элементов — атомов и пустоты. Падение (мы сказали бы: движение) атомов в пустоте ведет к их сцеплению и этим — при их первоначальной разнородности — к образованию еще более разнородных тел. Всю свою жизнь Демокрит посвятил изучению свойств тел; он изложил свои наблюдения в многочисленных сочинениях, которые еще древность поставила в параллель к сочинениям Платона, видя в обоих мыслителях равноценных представителей двух крайних мировоззрений — идеалистического и материалистического.
Судьба была неблагосклонна к нему, ничего не сохранив нам из его произведений; но его имя должно остаться в нашей памяти как имя основателя научной физики и специально той ее теории, которая и поныне, после многих превращений, не потеряла своей ценности — теории
атомистической.
Софистическое движение в Афинах и реакция против него в лице школы Сократа вызвали к жизни ряд новых наук формального характера, которые пока тоже остались в рамках философии. При той важности, которую софисты придавали слову как орудию убеждения, для них было естественно обратить свое внимание на него и на его свойства: научная
лингвистика ведет свое начало от софистов и, специально, от Протагрра, который первым открыл части речи и ряд других грамматических категорий. Здравый смысл подсказал софистам, что язык должен быть изучаем прежде всего на его древнейшем памятнике: научное изучение Гомера поэтому тоже ведет свое начало от них. Отсюда, с одной стороны, возникновение историко-литературного интереса, с другой — практика толкования (интерпретации) как Гомера, так и других древних поэтов — одним словом, то, что позднее стало ядром филологии как науки. А при пытливом характере греков вообще и софистов в особенности не мог не возникнуть и вопрос о самом происхождении языка — точнее, о том, произошел ли он природным путем (physei) или же путем особого рода договора или уложения (thesei). А впрочем, ближе к непосредственной цели софистов был вопрос о связной речи как средстве убеждения;
риторика равным образом ведет свое происхождение от них и, специально, от Горгия. Сочувствием Сократа и его школы эта риторика, понятно, пользоваться не могла; в противовес ей эта школа выдвинула
диалектики как искусство спора, точнее, искусство отличать доказательные соображения от недоказательных. Со временем из этого искусства развилась
логика, которая была приведена в научную систему Аристотелем. Одновременно процветала и
математика в школах пифагорейцев, которые из италийской Греции успели перекинуться обратно в собственную. Нам трудно, однако, проследить ее развитие в недрах этих школ. Знаем, что в эпоху Платона планиметрия имела уже приблизительно свой нынешний вид, разработка же стереометрии еще не была начата: «Ее еще нет, но она будет», — пророчески сказал о ней Платон (
Плат. Гос. VII, 528в).
Наука для нормального своего развития нуждается в
центрах, которые объединяют и ученых, и орудия научной работы. Такими центрами в предыдущий период были кружки, вызванные к жизни религией Аполлона. Но гораздо более совершенными стали те
школы, которые были основаны в нашу эпоху в определенных помещениях и с установлением особой системы научных занятий. Первой из них по времени была та, которую в 387 году до Р.Х. основал Платон в пригородной роще героя Академа — знаменитая на все времена
Академия. Здесь после его смерти продолжалось преподавание — наук в «академическом» духе при непрерывной преемственности руководителей (схолархов) вплоть до 529 года по Р.Х., когда император Юстиниан в религиозном рвении изгнал из Афин последних учителей языческой Академии и этим закрыл ее после более чем девятисотлетнего славного существования.
Недолго спустя основал в противовес Платону свою научную школу
Исократ — ритор, ученик Горгия. О его значении для истории красноречия и прозы вообще речь впереди (§ 13); здесь следует заметить, что он считал возможно всестороннее научное образование необходимым подспорьем для будущего оратора и что в его школе проходили, помимо теории и практики красноречия, и ряд других наук, которые можно было считать общеобразовательными. Курс учения был у него четырехлетний; его прошли многие, имена которых прославила позднейшая история Афин и Греции. Так уже с самого начала научной школе была противопоставлена школа общеобразовательная.
Завершителем научного развития нашего периода был в Афинах пришелец из македонской Стагиры —
Аристотель. Он был учеником Платона, но позднее разошелся с ним, хотя и навсегда сохранил о нем благодарную память. Известны его слова: «из двух друзей — Платона и Истины — долг велит предпочесть вторую». Эту истину он, как трезвый и наблюдательный ум, находил в пределах единого мира. В нем божество — первопричина движения и жизни. Ему противоположна материя как арена возможностей, оформляемая идеями, которые живут, таким образом, не вне предметов видимости, а в них самих. Душа человека лишь количественно возвышается над душой животного и растения, обладая также и мыслительной способностью в добавление к чувствительной и двигательной, свойственных и животному, и способности роста, свойственной всем живым существам, включая и растения.
Научная система Аристотеля, изложенная в его многочисленных нам сохраненных произведениях, обнимает всю вещественную и духовную природу. Вопросам о принципах мироздания посвящены его книги о «Физике» и «Метафизике» (причем последняя обязана своим именем только тому обстоятельству, что она, как продолжение физики, читалась после нее — metaphysika). Законы движения и его сил обработаны в «Механике», теория небесных явлений в «Метеорологии». Спускаясь на землю, он в своих зоологических сочинениях дал такую полную систематику и биологию животного мира, которые остались непревзойденными вплоть до XVIII века. В области ботаники дал то же самое его ученик и друг Теофраст. Переходя далее к человеку, Аристотель в своей «Политике» создал чрезвычайно глубокую и продуманную теорию человеческого общежития, с которой и ныне принято считаться; она имела своим основанием огромный (158 книг) сборник монографий о конституциях отдельных греческих и негреческих общин, из которого судьба нам недавно вернула книгу «О государстве афинском». Параллелью к «Политике» была его «Этика», сохраненная нам в трех вариантах. К области эстетики принадлежит его «Риторика», или теория прозы, и особенно знаменитая «Поэтика». Но все его сочинения превзошла своим влиянием его «логика», под каковым именем мы объединяем его отдельные сочинения о «Категориях», «О суждении» и «Об анализе» с прибавлением к ним «Топики», или учения о доказательствах. В этих книгах он впервые привел в научную систему разрозненные диалектические достижения сократовских школ, и можно сказать без преувеличения, ссылаясь на свидетельство истории, что ими он научил мыслить также и все новейшее человечество.
Столь разнообразной научной работе этого удивительного человека соответствовала не менее разнообразная учебная деятельность. Ради нее он основал свою школу в роще Аполлона Ликейского — так называемый Ликей, или Лицей. В ее тенистых аллеях (peripatoi — отсюда название «
перипатетической» школы) утром, В рабочие часы, происходило специальное (эзотерическое) обучение тесного круга учеников; там же вечером и широкой, жаждущей образования публике читались доступные ее пониманию общие (экзотерические) курсы. Ликей Аристотеля просуществовал так же долго, как и Академия Платона. В противоположность ей он насаждал специально научные знания, но все же ему, как философской школе, не удалось долго объединить в себе совокупность наук. Последние, развиваясь и специализируясь, не могли не прорвать со временем ставших узкими рамок философской школы. Но это случилось лишь в следующем, вселенском периоде.
Глава III. Искусство
§ 12. Изобразительные искусства. Когда наш аттический период называют «эпохой расцвета», то при этом выражении думают преимущественно, если не исключительно, об области искусств, как изобразительных, так и мусических. И здесь, и там время первых творческих напряжений, обусловленных естественным сопротивлением материала стремлению художника сделать его выразителем своих мыслей и чувств, уже лежит позади. С ним миновала и пора резкостей и чрезмерностей, вызванных этой борьбой; материал покорился художнику и стал способным выражать те тончайшие оттенки его идей, в умелом соблюдении которых заключается печать совершенства.
А.
Архитектура. Для развития архитектуры первые два поколения после освободительной войны были особенно благоприятным временем. С одной стороны, победа над врагами создавала естественное чувство благодарности богам-покровителям, а прилив богатства, обусловленный последовавшим периодом мира, давал и необходимые средства для выражения этого чувства в постройке новых храмов и других святынь; с другой стороны, возвышение и укрепление победоносной демократии поставило художникам ряд новых задач чисто светского характера. С обеих точек зрения первенство принадлежит Афинам. К тому же как город, разрушенный персидским погромом, они более прочих греческих общин нуждались в новых архитектурных памятниках. Оставляя поэтому в стороне архитектурную деятельность прочей Греции, — но все же упомянув о храме
Зевса в Олимпии, — мы сосредоточимся на Афинах.

Здесь естественным полем для
сакральной архитектуры была твердыня Афин, уже потерявшая своё военное значение и превратившаяся в обширную ограду родной богини, —
Акрополь. Его и решено было обратить в гигантский пьедестал для воздвижения ей неслыханного по величественности и красоте храма. Сорок лет работали над тем, чтобы привести его в это состояние. Наконец, при Перикле настало время воздвигнуть сам храм. Исполнение задачи было поручено архитекторам
Иктину и
Калликрату, но руководителем работ был тот, в руки которого было отдано все скульптурное украшение храма, — Фидий. Их совместными трудами был создан на вершине Акрополя тот
Парфенон — «храм Девы», — в котором мы видим в одно и то же время и высший расцвет греческой архитектуры, и живой символ величия Перикловых Афин. В нем соблюдена обычная схема дорических храмов, но благородный материал, из которого он был выстроен — пентеликонский мрамор, — дал возможность смягчить архаическую резкость прежних памятников дорической архитектуры: его колонны стройнее, их капители менее нависают над пролётами, всюду соблюдена удивительная гармония и пропорциональность. Конечно, своими размерами он не может соперничать с каменными громадами на берегах Нила и Евфрата. Все же он больше обыкновенного греческого храма — восемь колонн во фронте вместо принятых тести, и эти размеры дали художнику возможность несколько развить обычную храмовую схему, прибавляя к целле особое квадратное помещение, так называемый опистодом, ставший казнохранилищем богини, и вводя в самую целлу внутреннюю двухэтажную колоннаду. Все же он весь соблюден в строгом стиле, чуждающемся всяких излишних узоров. Его печать — величие, и ею он остался запечатлен и поныне, после всех разрушений, которые он испытал в последовавшие за падением античного мира мрачные столетия.
Когда Парфенон был окончен, явилось желание создать для него и для всего Акрополя достойное преддверие; и эту задачу удалось еще исполнить Периклу при помощи уже названного Калликрата. Схема этих «Пропилей», тоже воздвигнутых из пентеликонского мрамора, была не совсем проста: собственно патерные ворота были украшены снаружи и изнутри двумя параллельными дорическими колоннадами, которые, в свою очередь, были соединены между собой продольной колоннадой в ионийском стиле, и вся эта мраморная роща была снабжена справа и слева монументальными мраморными же пристройками. В них, впрочем, пришлось уклониться от строгой симметрии, так как в правую пристройку врезался бастион, издревле посвященный любимой прислужнице Афины —
Победе. На нем ей построили прелестный храмик в ионийском стиле; а так как место было головокружительно крутое, то храмик пришлось окружить мраморной балюстрадой, стенки которой тогдашняя скульптура украсила рядом своих самых восхитительных памятников.
Пелопоннесская война прервала на время строительную деятельность афинян на Акрополе; но в те годы передышки, которые последовали за миром Никия, она была возобновлена. Сакральные соображения потребовали восстановления, на этот раз уже в виде храма, старинного «дома» царя Эрехфея, который был в то же время, в бесхрамный период религии Зевса, и древнейшим приютом богини. Так возник в последний период пелопоннесской войны
храм Эрехфея[15] (Erechtheion), причудливая схема которого была обусловлена теми же сакральными соображениями. Будучи объемом много меньше Парфенона, он стал выражением архитектурного изящества, точно так же, как тот был выраженйем архитектурной величавости. Выдержан он был в ионийском стиле;) все его части были украшены узорами, но красивее всего был знаменитый так называемый «портик кариатид» — мраморный балдахин, несомый шестью мраморными же девами, в которых художник увековечил священнодействующих кошеносиц панафинейского шествия.
Храм Эрехфея стал надолго последним словом афинской сакральной архитектуры; потеря гегемонии лишила Афины средств для крупных архитектурных предприятий. Все же IV век до Р.Х. должен быть отмечен историей архитектуры как время если не возникновения, то распространения нового архитектурного ордера —
коринфского. Этот третий греческий ордер возник, в сущности, из ионийского; отличается он от него, главным образом, формой капители, которая в коринфском ордере напоминает собой корзинку, обвитую акантовыми листьями и завитушками. Вследствие своей грациозности коринфский ордер получил широкое распространение в ту эпоху, которая вообще отдавала предпочтение грациозности — в эпоху эллинистическую.
Остается поговорить о
светской архитектуре, которая в нашу эпоху уже начинает соперничать с сакральной. Правда, частные дома еще сохраняют старинную простоту: демократизм зажиточных членов общины не позволял им оскорблять чувства их бедных сограждан выставлением напоказ роскоши. Зато тот же демократизм позволял и требовал достойного убранства тех мест, где собирался державный демос. Это были, главным образом, стои и театры. Для
стои характерна стена с навесом и колоннадой; чаще всего такие стои окружают какой-нибудь внутренний двор, служащий, например, для упражнения молодежи; формы гимнасия и палестры были поэтому лишь развитием стои. В других случаях, например, на агоре, стена стои была пробита дверьми, которые служили входами в торговые помещения; тогда получалось подобие наших гостиных дворов. Но стоя могла быть и вообще наружной частью любого здания, служившего административным или торговым целям; такова была та роскошная стоя, которой еще Кимон украсил афинскую агору, поручив своему другу, живописцу Полигноту, расписать ее стену картинами из отечественных войн, вследствие чего она и называлась «пестрой стоей». В нашу эпоху она только этим и славилась — в ожидании того, уже недалекого времени, когда ей суждено было дать свое название самому влиятельному в древности философскому направлению — стоицизму.
Что касается, затем,
театра, то он получил в Афинах свою архитектурную форму лишь в IV веке до Р.Х.; до того времени народ собирался как кто мог, иногда на деревянных подмостках, на склоне скалы Афины, вокруг орхестры, на которой происходило действие. Архитектурный театр состоял из двух сооружений — театра в узком смысле и сцены. Театр в узком смысле — это были возвышающиеся друг над другом полукруглые ступени, окружающие — теперь уже тоже полукруглую — орхестру. Сцена состояла из узкого прямоугольника, за которым — возвышался фасад дворца с тремя дверьми. На ступенях собирался народ; перед фасадом на прямоугольнике происходило действие; орхестра служила для той хореи, которую обычай все еще не позволял отделять от драмы.

Б. Скульптура. Одновременно с архитектурой расцвела и скульптура и отчасти по тем же причинам. Крупные архитектурные предприятия всегда ставили заманчивые задачи также и скульптуре. С величавостью и красотой храма надлежало соразмерить и кумир обитающего в нем божества. Сверх того, оба фронтона представляли богатое поле для статуарной, фризы — для рельефной скульптуры, а пролеты между колоннами, ступени, да и вся окрестность храма напрашивались под украшения посвятительными статуями и рельефами, число которых увеличивалось с каждым годом. Залогом расцвета ваяния и достижения им той ступени, которую мы называем классической, было отчасти сужение тем: отказались от не разрешимых — или пока неразрешимых — задач (статуарная скульптура — от выражения аффекта, которое при недостатке средств выходило условным и вычурным, рельефная — от многофигурности и ландшафтного фона). Среди многих возможных форм человеческого лица остановились на одной — знаменитом «греческом профиле», в силу чего все греческие статуи классической эпохи представляются нам как бы изображающими членов одной и той же семьи. «Простота и тихое величие» (Винкельман) стали лозунгом если не всего греческого художества, то, во всяком случае, его классического периода.
В V веке до Р.Х. развитие скульптуры сосредоточивается на трех великих именах — афинян
Фидия и
Мирона и аргивянина
Поликлета. Из них Фидий был представителем идеалистического, Мирон — реалистического направления, Поликлет же совмещал в себе оба.
Фидию принадлежали прежде всего гигантские кумиры Зевса в Олимпии и Афины в Парфеноне, Поликлету — кумир Геры в ее аргосском храме; все три были сооружены из драгоценного материала — слоновой кости и золота, мы судим о них по весьма несовершенным и отчасти гадательным копиям; все же и они, в связи с известиями писателей, дают нам возможность установить, что названные художники в этих своих творениях определили навсегда типы этих преимущественно строгих и величавых божеств: дальше в изображении этого рода красоты идти было некуда — идеал был достигнут. В том же духе, хотя и несравненно более свободными, были прочие украшения Парфенона, возникшие если не под резцом самого Фидия, то под его наблюдением: обе живые фронтонные группы — рождение Афины и ее спор с Посейдоном из-за Аттики, затем попарные рельефные группы метоп (поединки богов с гигантами и греков с кентаврами и амазонками) и в особенности — непрерывный фриз целлы, изображающий отдельные моменты и группы панафинейского шествия под наблюдением чествуемых богов.
Темы для реалистической скульптуры давала особенно агонистика, преимущественно мужская. Никогда еще для развития изобразительных искусств не создавались столь благоприятные условия: борьба и бег юношей, бег и пляска девушек предоставляли художникам самым непринужденным образом целый ряд благодарных мотивов для изучения человеческого тела и в его движении, и в моменты покоя, а часто повторяющиеся заказы аниконических статуй победителей и победительниц для посвящения богам давали им возможность увековечить в мраморе и бронзе то, что они видели в действительности. Так возникли «Дискобол» и «Бегун» Мирона, «Дорифор», «Диадумен» и «Амазонка»
Поликлета и близкие им по происхождению «Мальчик с занозой» и ватиканская «Бегунья», — если назвать только наиболее знаменитые произведения. Из них «Дорифор» Поликлета получил на целое столетие значение «канона»; соблюденные в нем пропорции человеческого тела, на наш взгляд, несколько тяжелые, стали почти обязательными для последователей, пока
Лисипп не установил нового, более легкого канона.
В IV веке до Р.Х. скульптура сосредоточивается на четырех крупных именах: сначала
Кефисодота, затем обоих Диоскуров —
Праксителя и
Скопаса — и, наконец, только что названного
Лисиппа. Условия, в которых они работали, уже не были столь благоприятными: обедневшая родина в редких случаях могла поощрять заказами их таланты; им приходилось большей частью искать применения вне Эллады при пышных дворах эллинизованных династов.

О
Кефисодоте мы судим главным образом по его «Эйрене» (богине мира), известной нам по прекрасной копии. Она образует переход от строгости Фидия и Поликлета к мягкости и ласковости второй аттической школы. Отчасти этот переход достигнут внешним средством — наклоном головы богинй, придающим всей ее фигуре выражение участливости. Эта вторая аттическая школа представлена, главным образом, именами
Праксителя и
Скопаса, из которых первый был мастером этоса (спокойного аффекта), второй — мастером пафоса (аффекта возбужденного). Первый был продолжателем Фидия: как тот установил идеальные типы строгих божеств, так на долю Праксителя выпало дать юным, мягким и ласковым божествам тот образ, под которым мы их представляем себе ныне — Афродите, Дионису, Гермесу. В оригинале нам сохранен только последний — знаменитый Гермес Олимпийский, но и о других мы имеем благодаря древним копиям достаточно полное представление. И подобно тому, как Пракситель достиг своей цели, видоизменяя строгие лики Фидия до мягкости «Праксителевского овала», так точно и
Скопас сумел придать своим фигурам выражение патетичности отчасти внешним приемом; углубляя впадины глаз и усиливая этим их тень.
Особенно славилась в древности его страстно возбужденная «Вакханка»; ему же, по-видимому, принадлежит патетическая группа умирающих Ниобидов с ее незабвенной центральной фигурой, молящей о пощаде единственной, младшей дочери Ниобеи.
Лисипп, признанный портретист Александра Великого стоит уже на рубеже следующего, эллинистического периода, которому он дал вышеупомянутый легкий канон своим «Анаксиоменом». В сакральной скульптуре он прославился в особенности статуей Посейдона Истмийского, в которой он очень удачно выразил страстность морской стихии в противоположность к спокойному величию Зевса.

Говоря о скульптуре IV века до Р.Х., нельзя умолчать о тех ее безымянных памятниках, которые, возникнув под прямым или косвенным влиянием названных мастеров, производят на нас едва ли не самое глубокое и захватывающее впечатление. Это
надгробные памятники. Покойные здесь изображены в идеализованном виде; они представлены большей частью в своей семье; совершившаяся разлука разлила над участвующими выражение тихой грусти, незабвенное для каждого, кто хоть раз их видел.
В. Живопись этого периода изучается нами опять-таки исключительность
расписным вазам, а они могут нам дать представление, конечно, только о развитии рисунка и композиции, но не того, что в живописи важнее всего, — колорита. Вазопись аттического периода принадлежит всецело краснофигурному стилю. Великое множество памятников дает нам возможность проследить ее эволюцию полностью от
строгого стиля (около 500 года до Р.Х.) к
прекрасному и далее к
пышному, который представляется нам уже стилем упадка. И здесь расцвет обусловливается отказом от неудоборазрешимых задач — многофигурности и смелых ракурсов. Вначале техника росписи представляет еще некоторые условности, главным образом, изображение глаза en face при лице в профиль и симметричное расположение складок — они характеризуют строгий стиль. Но в то же время угловатости чернофигурной техники уже сглаживаются и рисунок достигает поразительной тонкости и благородства. В следующем, прекрасном, стиле и Те последние условности исчезают, наступает царство той невыразимой гармоничности, которая характерна для классического искусства. Пышный стиль характеризуется возвращением к многофигурности; ей сопутствует богатство обстановки и, с другой стороны, некоторая неряшливость рисунка, свидетельствующая о поспешности работы.
Все эти черты в связи со многими другими, о которых знают специалисты, не дают нам представления о развитии
высокой живописи в течение нашего периода, который для нее был таким же классическим, как и для других искусств. Мы знаем о ней от известий античных писателей, которые еще видели всю эту навеки исчезнувшую красоту. Следует, впрочем, заметить, что термин «аттический период» менее всего применим к современной ему живописи: все великие художники, которых мы к нему приурочиваем, были по происхождению не афинянами, и хотя и работали, между прочим, также и в Афинах, но не ограничивали своей деятельности этим городом.
Первым из них был
Полигнот Фасосский, друг Кимона, прославившийся своими работами главным образом в афинской «пестрой стое» (битвы афинян с амазонками, троянцами и персами) и в беседке книдосцев в Дельфах (взятие Трои, преисподняя). Своей любовью к многофигурности, равно как и наивностью своего колорита — в его распоряжении были только четыре краски (белая, черная, желтая и красная), которые он без теней и полутонов наводил для изображения драпировки на готовые уже контуры нагих фигур, — он был скорее завершителем прежнего периода, чем основоположником нового; но его зрителям нравилась бесхитростная строгость его рисунка, и им казалось, что они читают весь трагизм троянской войны в заплаканных глазах его Поликсены.
Как явствует из сказанного, живопись была наименее сакральным из всех искусств. В храме она не находила себе места; ее первое крупное творенье — фрески на стенах чисто светский стой. Ее дальнейшему развитию способствовало открытие новой техники — так называемой «темперы», при которой наносимые на доску краски приготовляются на яичном желтке. Ее изобретателем, был современник Перикла
Аполлодор. Важность этого изобретения не замедлила сказаться: Аполлодор первый ввел в свои картины воздушную перспективу, то есть искусство выражать оттенками тонов сравнительную отдаленность предметов. Это открытие было встречено неприязненно его современниками, которые в насмешку прозвали его «тенеписцем», но он стоял на своем, утверждая, что он «пробил дверь» для многих.
Расцвет живописи, предтечей которого был Аполлодор, наступил в эпоху пелопоннесской войны в лице триумвирата, членами которого были
Зевксид, Паррасий и
Тиманф. Не связанные религиозной традицией художники брались за самые вольные и отчасти причудливые темы, стремясь, с одной стороны, к возможному иллюзионизму (виноградная гроздь Зевксида и занавес Паррасия), с другой — к возможной выразительности (жертвоприношение Ифигении Тиманфа). И если принять на веру свидетельство древних, то они в обоих направлениях достигли идеала.
Четвертый век ознаменовался опять-таки техническим усовершенствованием — открытием так называемой
энкаустической живописи, то есть приготовления красок на воске причем они лопаточкой наводились на доску и благодаря нагреванию впитывались в фон. Нам говорят, что благодаря этой технике, секрет которой потерян, достигалась гораздо большая яркость колорита, чем при старой темпере. Ее мастером был
Павсий и руководимая им сикионская школа. Ей и принадлежит IV век до Р.Х. вплоть до появления того мастера, при котором античная живопись вообще достигла своего наивысшего совершенства. Но он —
Апеллес — принадлежит уже следующему периоду.
§ 13. Мусические искусства. В нашу эпоху триединая хорея достигает предельной точки своего развития в
аттической драме. Рядом с ней бледнеет то, что мы могли бы сказать о самобытной роли как музыки, так и орхестики; разве только про первую из них можно бы заметить, что она переживает эволюцию, аналогичную с современной нам, в смысле осложнения средств выражения и освобождения от старинных композиционных форм (реформы Фриниса и Тимофея), в чем ревнители строгой музыки видели, как и ныне, симптом упадка. Бледнеют также и прочие роды поэзии, кроме драмы.
Героический эпос умолк с тех пор, как перевелись аэды, рапсоды же на «рапсодических» состязаниях стали ограничиваться одним Гомером.
Дидактический эпос дал еще своих последышей в лице обоих первых элеатов — Ксенофана и Парменида, а также и Эмпедокла (выше, с.157 и сл.); но это было еще в начале V века до Р.Х., а затем он растворился в научной прозе.
Элегия, хорическая лирика, мелика, ямб имеют еще своих представителей, но все это были поэты второстепенные: творческие таланты ищут себе применения в новооткрытой области
драмы, и притом не в одной только Аттике: свет афинских Дионисий привлекает и зарубежных поэтов — хиосец Ион и эретриец Ахей увеличивают собой число драматургов нашей эпохи. Но тон задается Афинами; поэзия аттического периода — почти исключительно аттическая поэзия. Значит ли это, что другие государства не производили первостепенных поэтов? Или что они, затемненные афинскими, в своих произведениях не дожили до следующей эпохи? Мы на этот вопрос ответа дать не можем.
Драматические состязания происходили два раза в году; каждый раз допускалось к агону по двенадцать трагедий (включая «сатирическую драму») и от трех до пяти комедий. А так как повторение старой драмы разрешалось только в виде почетного исключения, то можно себе представить, какая огромная драматическая литература была создана в течение обоих столетий аттического периода; она несомненно превзошла своим объемом всю поэзию предыдущего времени. Далеко не вся она сохранилась к следующей эпохе, эпохе александрийских собирателей и издателей; нам же от нее осталось, не считая отрывков, только тридцать три трагедии и одиннадцать комедий.
Из
трагических поэтов Фриних (выше, с. 105) писал еще по-ионийски, но это было последней данью аттической музы своей старшей сестре; со времени его преемника аттический язык царствует на аттической сцене. Этим преемником был
Эсхил Элевсинский, законодатель аттической трагедии (525-456 годы до Р.Х.). Возникший до него спор из-за первенства между серьезной трагедией и веселой сатирической драмой (выше, с. 105) он решил в том смысле, чтобы каждый поэт ставил по три трагедии и, в виде заключения, по одной сатирической драме. Эти трагедии вначале и у него были лирико-эпическими кантатами, без драматической фабулы и без характеристик действующих лиц; но, ставя каждый раз по три таких кантаты, он получил возможность изображать в них три следующих друг за другом момента одной и той же фабулы («трилогический принцип»). Такова трилогия «Данаида»; в ее первой трагедии, «Просительницах» (сохранилась), представлен прием аргосцами бежавших от своих двоюродных братьев Данаид; во второй, «Строителях теремов» (не сохранилась), — после осады Аргоса этими братьями и революции в нем, доставившей власть Данаю, — насильственная свадьба Данаид, после которой Данай приказал им в брачную ночь умертвить своих мужей; наконец, в третьей, «Данаидах» (не сохранилась), — суд Даная над единственной из Данаид, не исполнившей этого приказа. Как видно отсюда, главные действия предполагаются происшедшими в промежутках между трагедиями, в самих же трагедиях изображены лишь отдельные моменты — прием, свадьба, суд. Дальнейшее развитие трилогии заключается в том, что действие чем далее, тем более из этих промежутков переносится в сами трагедии. Так, в последней трилогии Эсхила, «Орестее» (сохранилась вся), мы имеем уже обратное отношение: в первой трагедии, «Агамемнон», изображено возвращение героя из-под Трои и его убийство его женой Клитемнестрой, во второй, «Хоэфоры» (то есть «Приносительницы возлияний» на могилу убитого царя), — месть за него его подросшего сына Ореста и погоня за матереубийцей разгневанных Эриний, в третьей — «Эвменидах» — блуждания Ореста в Дельфы и Афины и его оправдание судом ареопага. Все действие сосредоточено в самих трагедиях, ни одно сколько-нибудь важное событие не предполагается происходящим в промежутки. Параллельно с развитием действий развивается и характеристика; в «Орестее» поэт достиг уже замечательного совершенства, но только в одной области: все его характеры суровы и в своей добродетели, как Орест, и в своей преступности, как Клитемнестра. Вообще Эсхил прежде всего — величавый поэт; эта величавость отразилась и на композиции его трагедий с их дивными хорическими песнями, глубокомысленными по содержанию и чарующими по форме, и на построении диалога с его обилием длинных речей, и на самом языке — могучем, образном и смелом в подборе и сложении слов. Располагая только двумя актерами, — причем второго он ввел сам, — Эсхил был лишен возможности выводить одновременно более двух действующих лиц. Зато выдающейся была роль корифея (то есть предводителя хора); обыкновенно появляющиеся действующие лица вступают в разговор с ним.
Что касается содержания драм Эсхила, то он вначале, пока его трагедия была лишь кантатой, допускал, подобно Фриниху (выше, с. 105), и исторические темы; к счастью, нам сохранились его «Персы», имеющие содержанием саламинскую победу 480 года до Р.Х., — поразительный образец эллинской гуманности, если вспомнить, что эта трагедия имеет целью вызвать сострадание к разбитому обидчику-врагу, что она была поставлена в 472 году до Р.Х. в виду разрушенных персами святынь Акрополя, и что она была увенчана первой наградой. Но позднее, по мере драматизации трагедии, Эсхил сосредоточился на мифологических темах, и его преемники последовали его примеру. Афинская трагедия V и VI веков до Р.Х. стала новым — четвертым — поэтическим претворением греческой героической саги.
Первым по времени из крупных преемников Эсхила был
Софокл (496-406 годы до Р.Х.), уроженец афинского предместья Колона. Изменяя трилогическому принципу своего предшественника и учителя, он обособил отдельные трагедии своих трилогий, давая каждой самостоятельную завязку и развязку; он же расширил шкалу характеристик, прибавив к унаследованным от Эсхила суровым характерам и нежные, и мягкие в различных оттенках. Добившись введения третьего актера, он получил возможность обогатить и осложнить диалог; правда, он воспользовался этой возможностью очень сдержанно, сведя диалог трех лиц к последовательным диалогам двух из них, так, чтобы непосредственно после беседы А + В следовали беседы А + С или В + С. Такая сдержанность (в отличие от оживленности комедии) считалась приличествующей трагической торжественности и была сохранена и преемником Софокла Еврипидом. Вместе с тем мы должны признать, что в лице Софокла трагедия как драма достигла своего апогея; средствами, которые нам кажутся очень простыми при небольшом числе действующих лиц и сравнительно незначительном объеме трагедий, он достигает потрясающего действия: героическая борьба с роком Эдипа («Царь Эдип»), самоотверженный подвиг Антигоны, демоническая жажда мести Электры и Ореста — все это незабвенные темы, навсегда обогатившие сокровищницу всемирной поэзии. Сам поэт был настоящим воплощением лучших сторон эллинства: прекрасный собой, сильный, здоровый, замечательно разносторонний в своих дарованиях и обаятельный в обращении, он во всеоружии своих духовных сил дожил до девяностолетнего возраста, написал около ста двадцати драм и имел счастье умереть накануне разгрома своего отечества.
Он пережил даже, хотя лишь на несколько месяцев, своего младшего современника
Еврипида, родившегося в самый год той саламинской битвы, в которой сражался Эсхил и после которой Софокл, как прекраснейший из эфебов, был удостоен чести исполнить благодарственный пеан. Тот еще в молодые годы и с полным участием пережил то софистическое движение, которому не удалось поколебать уже установившегося миросозерцания Софокла. Его трагедия — живой отголосок этого движения; к шкале цельных характеров, завершенной его предшественником, он прибавил характеры надломленные, нерешительные, томящиеся под гнетом неразрешимых проблем и собственной богоотчужденности. Он любил изображать нравственность в борьбе со страстью, особенно с греховной любовью; его современники были поражены преступными и все-таки непорочными образами его Федры, влюбленной в своего пасынка («Ипполит»), Макарея, влюбленного в родную сестру («Эол», не сохранилась). Они так убедительно отстаивали свою невиновность («софистика страсти»); рука не поднималась на них, — а, между тем, нравственность требовала их осуждения.
Особенно любил он изображать натиск страсти на женскую душу, будь то любовь, как у Федры, или ревность, как у Медеи. Современники за это называли его женоненавистником, но напрасно: он же дал нам трогательные образы самоотверженной жены (Алкеста, Евадна), сестры (Макария в «Гераклидах»), дочери (Ифигения Авлидская). Вообще современники к нему относились недоброжелательно; зато у потомков он прослыл «самым трагическим» из трагических поэтов, и именно этой своей популярности он обязан тем, что от него нам сохранилось не семь трагедий, как от Эсхила и Софокла, а целых восемнадцать, включая сатирическую драму «Киклоп». На нас они производят неравное впечатление, даже если учесть такие условности, как обращенный к публике пролог и пресловутого deus ex machina (то есть внезапное появление в выси божества, дающего неожиданную и подчас насильственную развязку действия). Но, оставляя в стороне все, что нам может не понравиться, созданных им положительных образов достаточно, чтобы также и ему обеспечить бессмертие.

Таков был V век до Р.Х. в развитии аттической трагедии. О IV веке мы ничего сказать не можем; поэтов было много, и некоторыми из них очень увлекались, но ни драм, ни наглядных известий о них нет. Быть может, в этом заключается крупная несправедливость по отношению к ним; мы ее исправить не в силах, для нас с годом разгрома Афин пелопоннесцами кончается и творческая эпоха аттической трагедии.
Несколько иначе отразился этот роковой год на другой крупной отрасли афинской драмы, на
комедии. Возникла она из двух корней — обличительных песен ряженых против своих обидчиков (это и есть komodia в первоначальном смысле, как песнь komos'a, то есть подгулявшей компании) и бытовой сценки, которая, однако, кроме человеческого быта могла задеть и божий, забавно пародируя соответствующие мифы. Эта бытовая сценка в своем самобытном виде встречается во многих местах — в Сиракузах она даже имела очень крупного поэта, современника Эсхила
Эпихарма, и под именем «мима» продолжала существовать во все эпохи Античности; но в Афинах она соединилась с упомянутой обличительной песнью и стала тем, чем ее знает V век до Р.Х., —
политической комедией. Ее главными представителями были: Кратин, современник и враг Перикла, и Евполид с
Аристофаном, современники пелопоннесской войны. Нам только от последнего сохранены комедии, числом одиннадцать, и это наследие — едва ли не самый оригинальный дар всей античной литературы. Никогда впоследствии свобода обличительного слова не была столь полной; поражаешься силой афинской государственности, что она могла сносить в течение целых двух поколений на всенародной сцене такую беспощадную критику. Аристофан — чтобы ограничиться им — забрасывает своими насмешками и могущественных демагогов, вроде Клеона, Гипербола, Клеофонта, и представителей несимпатичных ему духовных течений — Еврипида, Агафона, софистов... С болью в сердце находим мы среди последних и Сократа, но сам Сократ добродушно смеялся над карикатурой своей личности в комедии своего остроумного противника, и Платон представил обоих в приятельской беседе друг с другом и с Агафоном в своем «Пире». Это потому, что в политической комедии яд насмешки был обезврежен всеобщим дионисическим настроением; злопамятствовать не полагалось «высмеянному в унаследованных от отцов торжествах Диониса».
Но удар, ниспровергший гегемонию Афин, сломил также их выносливость в области политической насмешки; в IV веке до Р.Х. комедия присмирела. Лишившись своего обличительного задора, она занялась разработкой в более или менее шаржированном виде тогдашнего быта преимущественно золотой молодежи Афин с ее кутежами, мишурными страстями и мишурным горем. Плодовитость поэтов при этой легкой работе стала еще большей: Антифан, Алексид и другие оставили по несколько сот комедий каждый. Но в качественном отношении эта «
среднеаттическая комедия», как мы ее называем, так же свидетельствует об отливе творческих сил народа, как и вся прочая поэзия IV века до Р.Х. Ее историческое значение заключается в том, что она подготовила новый расцвет комедии — новоаттическую комедию
Менандра — в следующем периоде.
Переходя затем к области
прозы, мы должны и здесь отметить постепенный переход от ионийского языка к аттическому, обусловленный притягательной силой Афин также и для этой отрасли литературы.
Историографию эллинского периода мы закончили Гекатеем; среди младших логографов, живших уже после персидских войн, особенно замечателен лесбосец
Гелланик (Hellanikos, не сохранилось), открывший новые методы историографии; не довольствуясь генеалогиями, он использовал старинные, монументальные хронологические записи (между прочим, аргосских жриц Геры), а также составил на основании местных преданий первую историю Аттики под эолийским, позднее ставшим техническим, заглавием «Атфиды» (Atthis). А впрочем, он, хотя и эолиец, писал на общелитературном ионийском наречии, так же как и его славный современник, уроженец дорического Галикарнаса,
Геродот, «отец истории», как его называет Цицерон. Свое крупное историческое повествование, разделенное позднее на девять книг, он издал «для того, чтобы не изгладились из памяти потомства великие дела как эллинов, так и варваров, и в особенности, как они воевали друг с другом». Ведет он его издалека, переходя от истории Лидии к истории царей персидских и рассказывая, в связи с вселенскими походами этих последних, историю и быт тех народов, против которых эти походы были направлены (так, в связи с походом Дария против скифов дано описание древней Скифии, см. выше, с. 124). С V книги идет уже рассказ о грекоперсидской войне (V книга — ионийское восстание, VI — Марафон, VII — Фермопилы, VIII — Саламин, IX — Платея и Микале). Но он далеко не строго придерживается своей повествовательной нити, позволяя себе ежеминутные отступления; и эта вольность придает его рассказу неподражаемую прелесть. Историческая критика у него еще слаба: основывая свое повествование на устных сведениях, лично добытых им во время его долгих путешествий, он широкой струей вливает легенду в свою историю; себя он выгораживает добродушным заявлением, что «считает своим долгом все записать, что он слышал, но не считает своим долгом всему верить» (
Гер. VII, 152). Божий перст в истории он признает и к оракулам относится доверчиво, но настоящих чудес не допускает, стараясь их устранить рационалистическим толкованием. Вторую половину своей жизни Геродот провел уже в Афинах как приближенный Перикла. Здесь он имел счастье вдохновить своего великого ученика,
Фукидида, первого афинского историка. Фукидиду мы обязаны монументальным сочинением о пелопоннесской войне с обстоятельным введением, в котором между прочим вкратце рассказывается история Греции за «пятидесятилетие» между Микале и вторжением пелопоннесцев; позднее это сочинение было разделено на VIII книг (I — введение; II-IV — до мира Никия; V — худой мир; VI-VII — сицилийская экспедиция; VIII — декейская война до 409 года до Р.Х., на которой изложение обрывается — вероятно, за смертью автора). Строгая историческая критика и безусловное стремление к истине отличают это сочинение; в лице Фукидида историография возмужала. Легенда устранена, история секуляризована. Желание быть объективным не позволяет автору самому разрешать вопросы о правоте той или другой стороны: он предоставляет им самим отстаивать свою правду в обстоятельных речах, которые он влагает в уста их представителей, — прием, которому впоследствии многие подражали. Язык изложения труден, но читатель не раскается в усилиях, потраченных на его изучение, — до того богат мыслью пишущий им автор.
Продолжателем труда Фукидида был
Ксенофонт, доведший в VII книге своих «Hellenika» греческую историю до смерти Эпаминонда в 362 году до Р.Х., ему же принадлежит и знаменитый «Анабасис», описание похода Кира Младшего против Артаксеркса Персидского и смелого возвращения его греческого наемного войска под предводительством Ксенофонта из долины Евфрата к Эгейскому морю, и еще ряд других сочинений. Необыкновенно разносторонний в своих интересах — сельский хозяин, охотник, наездник, финансист, полководец и, в довершение всего, писатель, — он с ранних лет стал учеником Сократа, память о котором он увековечил в своих «Воспоминаниях», но стал им не ради философии, а ради жизни. Как стилист, он стоит чрезвычайно высоко; впервые под его пером аттическая речь пришла к сознанию своей природной легкости и гибкости. Его сочинения стали впоследствии школой греческого языка, вплоть до наших дней. Как историк он хранит заветы Фукидида, но ему недостает глубокомыслия и политической мудрости этого его образца.
Вторая отрасль прозы,
философия, вначале тоже пользуется ионийским языком; а вне Афин, в сочинениях Демокрита и Гиппократа с его школой, ионийский язык сохранился до конца V века до Р.Х. и далее, так же, как в сочинениях пифагорейцев — Филолая, Архита — дорический. Но софисты, часто наезжавшие в Афины, уже переходят с ионийского наречия на аттическое, и всецело ему принадлежит афинянин Сократ. Правда, от Сократа не осталось для потомства ни одной строчки прозы; и все-таки он занимает выдающееся место в истории греческой литературы, так как его неподражаемые по диалектической тонкости «сократические» беседы послужили образцами для литературного
диалога. Его художником стал гениальнейший ученик Сократа —
Платон. Всего непринужденнее диалогическая форма в тех его сочинениях, где какое-нибудь нравственное понятие, вроде благочестия («Евтифрон»), мужества («Лахет») или скромности («Хармид»), является предметом всестороннего обсуждения собеседников; но нас еще более пленяют его крупные диалоги, как «Федон» (о душе), «Пир» (о любви), «Горгий» (о нравственности) и в особенности «Государство», в которых глубокомысленное содержание сочетается с художественной формой и, кроме того, философский диалог вставлен в красивую бытовую рамку, наглядно знакомящую нас с его участниками, и прежде всего, конечно, с Сократом. И тут незабвеннее всех «Федон», описывающий со слов очевидца последние часы этого праведника, проведенные им среди его учеников в тюрьме. Более специальный интерес представляют философско-конструктивные диалоги, вроде «Теэтета» (о знании), «Филеба» (об удовольствии»), «Тимея» (о мироздании); здесь диалогическая форма чувствуется даже как некоторое стеснение самодовлеющей мысли писателя. Литературные критики древности верно уловили основную черту писательского таланта Платона, назвав ее «обилием». На читателей новой Европы (уже начиная с Декарта) это обилие подчас производит впечатление многословия, которое, однако, тотчас исчезает, если припомнить, что Платон писал для еще не вышколенных логикой читателей, которых нужно было приучать к отвлеченному мышлению.
Эту логику создал, как уже было сказано,
Аристотель. Его богатое литературное наследие, соответственно его двойной деятельности — экзотерической и эзотерической, состояло 1) из популярных диалогов, в которых сказывался, по отзыву Цицерона, «золотой поток его красноречия». Все же этот «перипатетический» диалог существенно отличался от «сократического»: в нем оба противника, каждый в связной речи, доказывали свое положение, после чего третье лицо развивало ten areskusan, то есть мнение самого автора. Нам диалоги Аристотеля не сохранены, а между тем именно они и относятся к литературе как искусству. Не относятся к ней 2) сохранившиеся многочисленные трактаты Аристотеля из разных областей философии, указанных выше, с. 160, очень глубокие и важные по содержанию, но сухие и небрежные по форме. Многие из них имели своим основанием 3) очень объемистые своды материалов, вроде того огромного сочинения о греческих «политиях», из которого нам недавно возвращена египетскими песками драгоценная книга «О государстве афинском»
[16].
Третья отрасль художественной прозы,
красноречие, возникает и расцветает именно в нашу эпоху. Древние очень толково делили всю область красноречия на красноречие: 1) судебное, 2) политическое и 3) торжественное. Выше (с. 141) было указано, как создались в Афинах условия для возникновения судебного красноречия; а раз судебные речи записывались (к чему естественно вела судебная логография), то их примеру вскоре последовали и политические, и торжественные.
История аттического красноречия делится на два периода. Вдохновителем первого был софист
Горгий, приведший в 427 году до Р.Х. в восторг афинскую публику своими искусными «антитезами» и (часто рифмованными) «изоколами»
[17]. Впрочем, практическое красноречие лишь умеренно могло воспользоваться этим прикрасами. Его чиноначальником был суровый аристократ
Антифонт, поплатившийся жизнью в 411 году до Р.Х. за участие в политическом перевороте. Его сохранившиеся речи подкупают своей трезвостью и деловитостью, но их композиция еще очень неумела. За ним следуют уже принадлежащие IV веку до Р.Х.
Лисии и
Исей. Первый — мастер судебного рассказа и психологии, второй — мастер судебных доказательств. Счастливее был все-таки первый; сравнивая обоих, древние говорили, что Лисий возбуждает доверие даже там, где он не прав, Исей — недоверие даже там, где он прав.

Вдохновителем второго периода был
Исократ, великий учитель всей интеллигенции IV века до Р.Х. Сам он издавал образцовые речи торжественного характера (между прочим, «Панегирик», то есть речь в праздничном собрании, заглавие которой поныне осталось нарицательным); в них он научил эллинов продуманной
композиции, плавной и звучной
периодизации речи и вообще создал
стиль греческой прозы, отныне обязательный для всех дорожащих литературной славой писателей. Сам он, безусловно, жертвовал содержанием ради формы, вследствие чего его речи, довольно многочисленные, более поучительны, чем интересны. Но на вспаханной им ниве выросли три ярких таланта, озарившие своим светом сумерки афинской свободы в эпоху Филиппа Македонского —
Демосфен, Эсхин и
Гиперид[18]. Речи последнего, постепенно воскресающие из египетских могил, все же недостаточно отражают его страстный, увлекающийся характер, странно сотканный из распутства (ср. историю с Фриной) и беззаветной преданности родине. При чтении речей
Эсхина к наслаждению, доставляемому их бесспорными формальными красотами, примешивается досада от сознания того, что это — речи предателя, под личиной законности служившего врагу его отечества. А впрочем, полезно будет помнить, что он, вынужденный наконец покинуть Афины, переселился на Родос, где стал учителем красноречия, и что от него ведет начало тот
родосский стиль, последним ярким представителем которого был, три века спустя, Цицерон. Самое чистое удовлетворение доставляет читающему
Демосфен, бесстрашный защитник Афин и Греции против захватов Филиппа, неукоснительно верный своим идеалам до своей героической смерти в 322 году до Р.Х. Особенно в его «Филипповских речах», кратких, но сильных, чувствуется веяние исторического духа: не часто встречается в истории человечества, чтобы момент огромной мировой важности нашел отражение в сочинениях перворазрядного писателя, как здесь. Правда, читатель, избалованный эффектностью и прикрасами новейшего красноречия, будет разочарован: Демосфен увлекает содержанием, мыслью, волей, в форме же он трезв, сжат и подчас даже сух, и древние, сравнивая его с его страшим современником, Платоном, охотно сопоставляли «силу» одного с «обилием» другого. Они заботливо сохранили нам его богатое наследие, обнимающее, кроме политических речей, и много судебных (среди них особенно интересна пространная речь «О венке», в которой он в связи с присуждением ему гражданского венка защищает свою деятельность против нападений Эсхина). Благодаря этому мы получаем редкостно полное впечатление от этого великого мужа, которого мы и по его речам представляем себе таковым, каким его изображает дивная ватиканская статуя — грустно опускающим изрытое морщинами чело и сложенные руки на могилу греческой свободы.
Глава IV. Религия
В нашу эпоху государственная греческая религия как духовный показатель греческой polis была уже вполне созревшим и сложившимся организмом, притом во всех трех своих частях — и мифологической, и обрядовой, и догматической. В них мы ее и рассматриваем, имея и здесь в виду преимущественно Афины.
§ 14. Мифологическая религия, или система греческого политеизма, возникла под воздействием целого ряда сил, отчасти центробежных, отчасти центростремительных. Центробежной силой была расщепленность греческих племен, вследствие которой одно и то же религиозное чувство выливалось хотя и в схожие, но все же в различно именуемые образы. Центростремительные были:
1. Странствования и соселения этих племен, поведшие к соединению культов, причем нередко, если почитаемые божества были различного пола, результатом соселения было представление о браке этих божеств. Поучительный пример — Лемнос. Исконным богом этого вулканического острова был, естественно, Гефест. Но вот на Лемнос переселяются минийцы из Орхомена, почитавшие Харит: супругой Гефеста становится Харита (
Ил. XVIII). Вторая волна выносит на тот же Лемнос кадмейцев из Фив с их божественной четой, Аресом и Афродитой: Харита забывается, Гефест получает в супруги Афродиту, но при этом память о ее отношениях к Аресу не стирается, и певцы сочиняют песнь «о любви Ареса и Афродиты» как непохвальный образец олимпийского прелюбодеяния (
Од. VIII). Так, вследствие этих странствий и соселений первоначально простые племенные религии были перемешаны между собой; системы при этом, конечно, получиться не могло.
2. Второй центростремительной силой были только что упомянутые
певцы (аэды, выше с.97). Повсюду странствуя и доверчиво относясь ко всему услышанному, они рассказывали своим слушателям, что тот же Зевс, которого Аргос знал как супруга строгой единобрачницы Геры, в Элевсине имеет женой Деметру и от нее дочь Кору, в Делосе — женой Латону и детьми Аполлона с Артемидой и т.д. Так получилось соблазнительное представление о многоженстве Зевса, вопреки духу исконных религий единобрачной Эллады. Систематизировал все эти мифосплетения Гесиод в своей «Теогонии» (выше, с.99); его книга стала очень влиятельной, но именно этим она укрепила соблазн.
3. Третьей центростремительной силой была роль
дельфийского оракула — и притом сознательной и последовательной в своих действиях. Все же, вследствие присущей греку терпимости, и он не поставил себе целью возвышение одной религии (Аполлона, например) за счет других, а удовольствовался более умеренной попыткой внести порядок в стихийный религиозный хаос. Таковой было выделение
двенадцати старших богов. Их подбор для эллинизованного Рима закрепил Энний в своем двустишии:
Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars,
Mercurius, Jovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo.
В Греции мужская половина этого пантеона не везде признается, и место одного из шатающихся членов — Ареса или Гефеста — чаще дается Дионису.
4. Наконец, четвертая и на этот раз решительная центростремительная сила всецело принадлежит нашей эпохе; это были
художники. Против них спорить было немыслимо; Фидий, Поликлет, Пракситель, Лисипп на все времена закрепили для античного мира образы его богов.
Постараемся же разобраться в этой олимпийской семье. В силу дельфийской религиозной реформы — правда, в противоречии с пережиточными представлениями, черпаемыми из более древней поэзии, — это были божества всемогущие, всеведущие, всеблагие и притом многие. Действительно, главный довод Мухаммеда против многобожия, что множественность всемогущих существ повела бы к анархии, грека бы не убедил; как поклонник «благозакония», он бы ответил: «человек, чем он совершеннее, тем полнее соблюдает закон; божество, как самое совершенное существо, самым полным образом его соблюдает. Добровольное самоограничение не противоречит всемогуществу; именно добровольным самоограничением и законопослушанием своих членов небесная polis богов — образец человеческой». Итак, добровольное самоограничение — вот «закон» греческого политеизма; в чём же оно сказывается?
1. Отдельные божества особо покровительствуют особым общинам: Афина — Афинам, Посейдон — Коринфу, Гера — Аргосу, но и Самосу, Асклепий — Эпидавру и т.д. Особенно красиво эта идея выражена в записях междуэллинских договоров: в заголовке мраморной доски — рельефное изображение Афины, подающей руку Гере, далее следует текст договора афинян с самосцами.
2. Отдельные божества особо покровительствуют особым сословиям и родам занятий: Афина (Органа) — ремесленникам, Посейдон — пловцам, Гермес — торговцам и глашатаям, Деметра — земледельцам, Артемида — охотникам и т.д.
3. Отдельные божества особо покровительствуют отдельным моментам в жизни одних и тех же людей: Аполлон — юношеству, Артемида — девичеству, Афродита — любви, Гера — браку, Гермес — коммерческой сделке и т.д.
Причина этих приурочений нам отчасти известна, отчасти — нет; распространяться о ней здесь не место. Во всяком случае, ими в значительной степени определялся характер греческой религиозности с ее биологическим эвдемонизмом: афинский крестьянин, продавший мегарцу негодный товар, чувствовал над собой гнев и Афины, и Деметры, и Гермеса.
Но что было делать с соблазнами гомеровской мифологии? Гневное слово рапсода Ксенофана (выше, с.157):
Все, что позорным слывет средь людей и хулу вызывает,
Все приписать олимпийцам Гомер с Гесиодом дерзнули:
Красть, и прелюбы творить, и друг друга обманывать гнусно, —
требовало отпора со стороны тех, кто одинаково любил и Гомера и религию, то есть со стороны защитников
(апологетов) Гомера. И вот на почве гомеровской апологетики возникает
аллегорическое толкование (уже начиная со Стесимброта Фасосского в 450 году до Р.Х.). Пример: гомеровский Зевс не стесняется вразумлять побоями свою божественную супругу Геру; акт, немыслимый в отношениях Гектора к Андромахе, Одиссея к Пенелопе и т.д., подавно немыслим в олимпийской семье; «Гомер кощунствует, если он не аллегоризирует». В чем же дело? Зевс здесь — бог неба; Гера, как доказывает (ошибочная) этимология, — воздух: греческое НРА — АНР. Итак, небо бичует (своими молниями) воздушное пространство; соблазн устраняется
физической аллегорией. Другой пример. Можно ли верить, что богиня Цирцея превратила товарищей Одиссея в свиней? Нет, конечно; но мы сами видим, как чувственность превращает человека в грязное животное. Итак, мы имеем здесь дело с
этической аллегорией. Эти два метода аллегорического толкования были очень богаты будущностью — ими пользовались впоследствии и иудейские (Филон), и христианские богословы (Ориген и другие). Но их значения для нашей эпохи не следует преувеличивать: они существовали лишь для «умников»; простой верующий оставлял соблазн в стороне и черпал откровение божества в красоте мифов, которые так увлекательно рассказывал его любимец Гомер.
§ 15. Обрядовая религия. В соблюдении ее предписаний и заключалась религиозная жизнь нашей эпохи; а так как это соблюдение было узаконено, то одно и то же слово — nomos — означало и закон, и веру. Обряд же ничьей совести не стеснял: самый крайний вольнодумец мог в Дионисии смотреть трагедию Софокла или посылать свою дочь кошеносицей на праздник девственной богини. Вот причина глубокого религиозного мира античных времен.
И еще заключалась она, в том, что обрядность греческой религии, сосредоточенная в греческих праздниках, подобно мифологии и религиозному искусству, была откровением божества в красоте. Проследим это на
праздниках города Афин.
Примечание. Сначала несколько слов о греческом календаре. Греческий год был лунным; то есть в его основе лежит месяц в 29-30 дней, соответствующий обороту луны вокруг земли; каждое первое число приходилось в новолуние (numenia), каждое пятнадцатое — в полнолуние (panselenos). Через двенадцать таких месяцев (всего в 355 дней) солнце приблизительно возвращалось к тому же знаку зодиака; но именно только приблизительно — до полного оборота солнца недоставало десяти дней; вот почему при лунном годе приходилось через два года на третий вставлять високосный месяц. Это делалось после зимнего солнцеворота; сам же год начинался после летнего. Названия месяцев в афинском календаре (у каждой общины был свой) были следующие: гекатомбеон (июль), метагитнион (август), боидромион (сентябрь), пианопсион (октябрь), мемактирион (ноябрь), посидеон (декабрь), гамилион (январь, в високосные годы удваивался), анфестирион (февраль), элафиболион (март), мунихион (апрель), фаргилион (май), скирофорион (июнь).
I.
Гекатомбеон (июль) начинался с торжественной гекатомбы (то есть принесения в жертву ста голов скота) в честь Аполлона. которая и дала месяцу название. Из его праздников главными были 12-е число —
Кронии, на которых господа угощали своих рабов в память о Кроносе и «золотом веке», не знавшем рабства (выше, с. 129); затем 16-е число —
Синэкии, в память о Тесее и афинском синэкизме (выше, с.78) с подобающим жертвоприношением Эйрене; но особенно 16-29-е числа —
Панафинеи, национальный праздник Афин. Первые дни этого многодневного торжества были заполнены всевозможными состязаниями — и мусическими (особенно рапсодическими), и гимнастическими, и конными. Главным днем был 28-ой; его канун, когда луны уже не было, праздновался эффектным факельным бегом по эстафетам с призом для победительницы-филы; затем шла веселая
«панихида», то есть ночные хороводы девушек, а с зарей следующего дня огромное шествие («помпа») красивейших юношей (верхом), мужей (с жертвенными животными), старцев (с оливковыми ветвями), дев (кошеносиц) и женщин сопровождало на Акрополь избранных четырех «аррефор» (девочек от семи до одиннадцати лет), долженствовавших передать богине сотканный для нее женщинами новый плащ (peplos). Это и есть то шествие, которое Фидий изобразил на фризе Парфенона — представление Афине цвета ее общины. Там же на Акрополе ей приносилась гекатомба. На следующий день состязание триер в Пирее завершало весь праздник.
II.
Метагитнион (август), как показывает название, был месяцем «добрососедства», но соответствующий праздник нам неизвестен. Знаем мы кое-что о празднике
Геракла, патрона рабов и незаконных сыновей, в предместье Киносарге под Ликабеттом, на котором угощались те и другие и шестьдесят балагуров тешили народ шутливыми рассказами (выше, с.107).
III.
Боидромион (сентябрь), названный так в честь Аполлона-Боидромия (то есть «заступника в бою»), был, естественно, месяцем памяти великих исторических побед — платейской (3-е число), марафонской (6-е число; это и были Боидромии) и саламинской (20-е число); но его главным праздником были (15-22-е числа)
Великие Мистерии Деметры в Элевсине, естественно развившиеся из праздника пахотьбы («Проэросии»). О нем см. выше, с.115.
IV.
Пианопсион (октябрь), тоже посвященный Аполлону, получил свое название от праздника (6-е число)
Пианопсий («бобовой каши»), имевшего характер завершения летних работ в области и земледелия, и мореходства, и особенно виноделия. Обрядность его была поэтому довольно сложная. «Обоюдоцветущий» мальчик (выше, с.66) приносил так называемую иресиону, обвитую шерстью масличную ветку, увешанную образчиками всех даров земли, причем исполнялась подобающая песня: эту иресиону прикрепляли как благословение земли к стене дома, где она (подобно нашей вербе) висела до следующих Пианопсий. В тот же день посвящали Аполлону названную бобовую кашу, вспоминая, что так поступил уже Тесей, когда он отвез домой спасенную из лабиринта двойную седмицу отроков и дев — это было концом торжества. Наконец, с Пианопсиямй совпадали и
Осхофории — «несение гроздьев» винограда из афинского Дионисия в фалерский храм Афины («Дионис дарит Афине виноград») с состязанием несущих отроков, которые награждались угощением и сказками старушек-рассказчиц. К Пианопсиям естественно примыкали четырехдневные
Тесеи, учрежденные в 468 году до Р.Х. Кимоном в честь афинского героя-основателя, с многочисленными агонами и жертвоприношениями. Затем вспоминали и о павших за отечество воинах на
Эпитафиях (неизвестного числа); их прославляли и песнями, и хвалебной речью из уст заслуженнейшего гражданина. В такой обстановке и Перикл произнес свою знаменитую надгробную речь (у Фукидида, книга II). Время около полнолуния занимали два важных праздника семейной жизни — пережиток той древней, наивной эпохи, когда Гамилион (январь) был всеобщим месяцем свадеб, и первый человеческий урожай естественно поспевал к Пианопсиону. До полнолуния (10-14-е числа) проходил женский праздник
Фесмофорий в честь Деметры-Фесмофоры, то есть «закононосицы», богини оседлой и семейной жизни. Память об ее скорби о похищенной Коре обходилась постом, после чего следовал веселый день Каллигении («прекраснорождения»): молодые матери показывали друг другу и остальным своих малюток, и за самого прекрасного полагалась награда. За полнолунием шел мужской праздник
Апатурий («соотцовства»): отцы приглашали своих «фраторов» (выше, с.27) и показывали им своих новорожденных для внесения в гражданские списки, что сопровождалось угощением и песнями — между прочим, и рапсодическими состязаниями мальчиков-школьников. Новолунию предшествовал праздник с песнями и факельным бегом в честь
Гефеста, дар которого — огонь — был особенно нужен в наступающее холодное время.
V.
Мемактирион (ноябрь), месяц «сотрясающего» Зевса, был лишен всенародных праздников. Время стояло ненастное; не до праздничных собраний было, когда Зевс «сотрясал» землю своими дождями.
VI.
Посидеон (декабрь), месяц зимнего затишья и «алкиониных дней» в царстве Посейдона. Из погребов добывался после, первого брожения винный морс; проходили
Сельские Дионисии со всевозможными народными увеселениями, причем девушки устраивали качели в честь Эригоны. В том же месяце женщины хороводами и песнями отмечали
Галой («праздник тока») в память ополовинивания плена Коры у Плутона.
VII.
Гамилион (январь), первоначальный «месяц свадеб» — вследствие чего и праздник
Феогамии, то есть свадьбы Зевса и Серы, отлмечался теперь. Но главным праздником были
Ленеи, первоначально «праздник точила», в историческое время праздник в память вознесения Дионисом его матери Семелы, отмечаемый, между прочим, драматическими агонами.
VIII.
Анфестирион (февраль), названный так по имени своего главного праздника (11-13-е числа)
Анфестпирии — праздника «цветов», душ и Диониса, владыки тех и других. В первый день (Pithoigia, «вскрытие чанов») добывалось новое вино, которым хозяин угощал свою челядь. Все храмы закрывались во избежание скверны от бродящих душ. Вечером почтенные Женщины сопровождали царицу (то есть жену архонта-царя) в так называемый буколий, где предполагалась ее мистическая свадьба с Дионисом (ср. миф об Ариадне). Следующий день был «праздником кружек» (Choes): в веселом шествии при участии ряженых царицу сопровождали обратно домой, все украшались цветами, и происходило «состязание кружек»: кто первый выпивал свою, получал в награду винный мех. Третий, и последний, день (Chytroi, «праздник горшков») был посвящен специально душам: их угощали (в горшках), тешили плясками, а к вечеру прогоняли обратно под землю при криках:
Ступайте, души! Анфестириям конец.
После полнолуния (19-21-е числа) праздновались
Малые Мистерии в память о возвращении Коры из царства теней. Тогда именно происходило посвящение новых мистов, обыкновенно в отроческом возрасте. Посвящаемый надевал новый хитон, который потом берег, чтобы со временем скроить из него пеленки для своих детей. К Малым Мистериям примыкали Диасии, старинный праздник Зевса в память о Девкалоновом потопе, с ярмаркой игрушек для детей.
IX.
Элафиболион (март) был посвящен весенней богине Артемиде-охотнице. (собственно, «поражающей ланей»), но его главным праздником были учрежденные Писистратом
Великие Дионисии, занимавшие все дни от первой четверти до полнолуния. Кумир Диониса переносился из его афинского храма в рощу Академа, там чествовался весь день песнями мальчиков и затем ночью при свете факелов в веселом шествии возвращался в Афины, в театр. Здесь происходили поэтические состязания следующих дней: сначала дифирамбические, затем комические, затем главным образом трагические. Жертвоприношением всем богам в полнолуние кончались Дионисии.
X.
Мунихион (апрель) был посвящен той же Артемиде, на этот раз как мунихийской по имени той приморской горы нал Пиреем, где находился ее главный храм. Все же праздник первой четверти (6-е число) принадлежал Аполлону: это были
Дельфинии, открывавшие собой мореходную пору, с памятью об отправлении Тесея с обеими седмицами на Крит. Главной богине месяца посвящался праздник полнолуния
Мунихии, причем ей подносились лепешки, обставленные восковыми свечками. К той же поре, после синэкизма Афин с Бравроном (выше, с.78), был приурочен и главный праздник этой последней общины,
Бравронии, в честь той же Артемиды. По смыслу они были родственны Фесмофориям; их особенностью была предсвадебная служба девушек-кошеносиц, которые в уподобление своей богине называли себя «медведицами» (arktoi, выше, с.51).
XI.
Фаргилион (май) опять был посвящен Аполлону, которому 7-го числа, в день его рождения, приносились первые дары земли, начатки урожая. Это и были «фаргилии», давшие название самому празднику. Но кроме этого безобидного обряда, соединенного с помпой и хороводами мальчиков, праздник
Фаргилий был ознаменован одним мрачным пережитком из азиатской эпохи религии Аполлона. Там, в Азии, существовало мнение: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11, 50), отсюда и обычай: перед жаркой летней порой, когда бог света становился грозным мучителем, карающим людей и солнечными ударами и поветриями, отвращать его гнев от народа принесением ему в жертву человека. Греческие общины различным образом справились с этим азиатским пережитком. В некоторых общинах до Фаргилий откладывалась казнь осужденных преступников; в других — и, по-видимому, в Афинах — человек заменялся куклой, которая торжественно сжигалась на костре из бревен дикой смоковницы (соответствовавшей нашей осине). Вообще Фаргилион был месяцем очищения, которое простиралось и на богиню общины: ее храм чистился (
Каллинтерии, 19-е число), ее кумир — старый, деревянный — раздевался и омывался женщинами в море (
Плинтерии). Все эти дни считались несчастными.
XII.
Скирофорион (июнь) и сам по себе и в своих немногочисленных праздниках для нас загадочен; оставляем его в стороне.
Окидывая взором афинские праздники, из которых поименованы только главные, мы первым делом должны установить, что они менее всего были «праздниками» в этимологическом смысле этого слова: при положительном характере его нравственности (выше, с.36) греку показалась бы совершенно непонятной мысль, будто можно чествовать бога бездельем. Его праздники были службой богу, долженствующей доставлять ему радость; а так как предполагалось, что все, радующее человека, радует и бога, то греческие праздники были настоящим средоточием радости. Как видно из перечисленных обрядов, — хотя частности пришлось поневоле пропустить, — ум афинян был поразительно изобретателен в этом проявлении радости. Недаром Перикл говорит в своей надгробной речи: «И мы в большей мере, чем какой бы то ни было другой народ, доставляем нашему духу облегчение от насущных трудов, учредив тянущиеся через весь год жертвоприношения и состязания... красота которых не дает возникнуть чувству грусти».
И все, что только можно было, пронизывает дух агонистики: все полно состязания, от самого низменного и шутливого состязания в скорости выпивания кружки до самого серьезного и возвышенного состязания в красоте созданных поэм и рожденных детей. Неудивительно, что для афинян в их праздниках заключался смысл и оправдание жизни; кто это уразумел, тот снисходительнее отнесется даже к тому расслабляющему закону, против которого выступил Демосфен (выше, с. 140), — о передаче в праздничную кассу («феорикон») излишка доходов. Тем более снисходительно, что этой веренице праздников, как проявлению одухотворенной радости, уже не суждено было повториться в истории человечества.
§ 16. Религиозная философия. Общий уровень тогдашней религиозности выражен у Платона в следующих словах почтенного старца Кефала, которыми он отвечает на вопрос, в чем он усматривает главную ценность для себя своего богатства: «Когда к человеку приближается смерть, он испытывает страх и заботу, которых раньше не знал. Рассказы об обители Аида, — что провинившиеся
здесь терпят наказание
там, — раньше вызывавшие его насмешки, теперь волнуют его душу: а что, если они истинны?.. И вот тогда нас утешает сознание, что мы никогда никого сознательно не обманули и не оболгали, что мы уходим отсюда, не будучи должниками ни богов, ни людей. А этому немало содействует наличие достатка» (
Плат. Гос. I 330d). Отсюда видно, что ни ценность «вдовьего гроша», ни
уверенность в загробном возмездии, ни исцеляющая сила раскаяния не вошли еще в религиозное сознание большинства эллинов.
Платон, конечно, этому обычному, хотя и не низменному, воззрению на богов и участь души противопоставляет свое, философское. Правда, над очищением народных представлений о богах работали и его предшественники, начиная уже с Ксенофана, который отказался даже от антропоморфического представления о божестве. И если мы затрудняемся назвать Ксенофана монотеистом, то потому только, что в его трансцендентном мире число вообще значения не имеет. То же самое относится и к
Платону. Позаимствовав у элеатов учение о двоемирии, он именно мыслимый и сущий мир представил обителью бога или богов. Там же живут и идеи, и Платон бывает склонен прямо отождествить божество с высшей идеей, с идеей добра. Во всяком случае, бог — существо благое и только благое; кощунствуют те, кто, подобно Гомеру, называют бога причиной также и зла (вопрос о происхождении зла оставлен в виде проблемы будущим мыслителям). И вот этот всеблагой бог, «желая, чтобы по возможности все было хорошим и ничто — дурным, приняв весь видимый мир не в состоянии покоя, а движущимся без правила и смысла, ввел его в порядок из беспорядка, считая первый лучше второго» (
Плат. Тим. 30а). Этим он стал «демиургом» мироздания, которым он и поныне управляет в силу своего божественного «промысла» (pronoia).
Учение Платона о душе изложено выше (с. 155); в религию он его возвел, сочетав его с орфическим догматом о «круге рождений» (выше, с.118). При этом та великая суть, воссоединения с которой жаждет всякая хорошо направленная душа, естественно совпала с сущим миром богов и идей. Отрешившись, однако, от дионисических символов орфизма, Платон установил, что наша душа в прабытии уже общалась с идеями в том сущем мире, но что она не удержалась в нем вследствие чувственной примеси своего естества, низвергшей ее в чувственный и видимый мир (грехопадение души), и что из-за этого ей определено на много столетий поочередное пребывание на земле и под землей вплоть до окончательного очищения и вознесения. Смутное воспоминание об идеях, которые мы созерцали в прабытии, дает нам возможность узнать их отражение и в окружающем нас видимом мире; более всего это относится к той идее, которая, будучи воспринимаема зрением, легче всего признается в видимости, — к идее
красоты. Вот почему именно созерцание красоты окрыляет душу и внушает ей ту тоску по своей небесной родине, которую мы называем
любовью (eros).
Итак, любовью спасется человек — таков основной догмат религиозной философии Платона. Правда, эта «платоническая любовь» еще не христианская. Платон был эллинским мыслителем и не мог заглушить в себе того, что было основой религиозного чувства эллина — откровения бога в красоте. Но все же христианство признало со временем свое родство с платонизмом, и последний стал в нем родником того «мистического» течения, которому оно обязано многими прекрасными страницами в истории своего развития.
Иначе подошел к религиозной проблеме
Аристотель: как мыслитель трезвый и холодный, он не допускал никакого влияния народной веры — орфической или какой-нибудь иной — на свою философскую спекуляцию. Двоемирия он, как мы знаем, не признавал; а если так, то и божество, коль скоро оно есть, должно принадлежать к нашему, материальному миру. Но есть ли оно? Аристотель исходит из проблемы движения. Все движимое предполагает движущее; итак, первопричина движения будет нечто движущее, но не движимое. Это и есть божество. Первопричина, но не первоначало: ибо движение препвечно. Не движимое, но не недвижное: ибо недвижное не Может быть причиной движения (выше, с.89). Наоборот: нечто самодвижущееся в самом совершенном смысле; божество есть энергия. Вмещая в себе все виды движения, оно вмещает также и те, которые в человеческой душе создают мысль и волю: божество есть разум. Как разумная энергичная субстанция, оно заключает в своем лоне мироздание, отовсюду с ним соприкасаясь и приводя его этим равномерным соприкосновением в равномерное движение; итак, божество есть небо, вернее, наднебесье. Но что же мыслит и волит эта высшая мысль и воля, заключенная в божественном разуме? Тут опять сказался эллин: она мыслит и волит
красоту, осуществляя ее этим в движимом ею мире. В этом вечном мышлении и волении красоты божество и вкушает вечное и совершенное блаженство.
В этической области идея красоты претворяется в идею
добра, ибо добро есть не что иное, как этически прекрасное. Итак, энергия божества есть осуществление добра. Но если так, то откуда же зло? Зло есть несовершенство; несовершенство же происходит от того, что зиждительная энергия божества встречает сопротивление со стороны того, в чем она стремится осуществить и красоту и добро, — со стороны
материи (hyle).
Ту субстанцию отдельного организма, в которой сосредоточиваются его формирующие и совершенствующие силы, мы называем его
душой. Об аристотелевской душе уже была речь выше (с. 159); к религиозной проблеме относится только человеческая душа в составе всех ее способностей — и растительной, общей ей со всеми живыми организмами, и чувственной, сближающей ее с животным миром, и мыслительной, свойственной ей только одной. Эта последняя — или
разум (mis) — исходит непосредственно от божества как высшего разума и с ним же впоследствии воссоединяется. Итак, бессмертна ли наша душа? Аристотель выражается об этом очень осторожно, как бы чувствуя, что здесь с областью религиозной философии соприкасается область чистой веры. Наши растительные и чувственные способности погибают вместе с телом; та божественная искорка, которая зовется нашим разумом, вознесется и будет вечно гореть в великом наднебесном пламени, именуемом божеством. Есть ли это бессмертие? Называйте, как хотите.
Так учил Аристотель в тенистой роще Ликея. А там, на Акрополе, по-прежнему пылало золотое копье в руках Афины-Воительницы, собирая весь афинский народ в жаркие дни Гекатомбеона на ее радостный панафинейский праздник.
Часть четвертая
Вселенский период
А. Эллинистический период
(Восток от 323 до 30 года до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история эллинизма
§ 1. Эллинистические монархии. Под ними принято понимать те более или менее крупные, единолично управляемые государства, на которые распалась держава Александра Великого после его смерти в 323 году до Р.Х. Эта держава обнимала главным образом бывшее персидское царство от малоазиатского побережья до границ Индии на востоке и Нубии на юге; относясь с восточной пассивностью к своим правителям, эти земли составляли одно целое при персах и продолжали бы составлять таковое и при преемниках Александра Великого, если бы ему удалось основать династию. Но он умер в цвете лет, не оставив взрослого сына-наследника; учрежденное регентство оказалось слабым, и умные и сильные полководцы умершего царя (его диадохи, то есть наследники) разделили между собой его наследие, приняв под конец титул царей. Первое двадцатилетие после смерти Александра тянутся сложные «войны диадохов» и против центрального регентства, и друг против друга; передышка наступила в 301 году до Р.Х. после
сражения при Ипсе. Тогда внешний облик бывшей Александровой монархии определился следующим образом: 1) царство
Птолемея, включавшее в себя главным образом Египет, но также и часть Сирии (включая Палестину) и греческих островов; 2) царство
Селевка, самое крупное, включавшее в себя переднюю Азию до Инда, исключая, однако, южную Сирию и северную Малую Азию; 3) царство
Лисимаха, включавшее в себя Фракию и северную Малую Азию; 4) позднейшее царство
Антигонидов (то есть потомков диадоха Антигона, павшего при Ипсе), включавшее в себя Македонию.

Через двадцать лет наступили новые смуты. Царство Лисимаха было разгромлено Селевком, но присоединить его ему не удалось: вскоре после его победы последовало вторжение дикого племени
галлов на фракофригийскую территорию, результатом чего был новый хаос. Когда он прояснился, около 240 году до Р.Х., определились следующие новые политические организмы: 1) самое важное для культурной истории царство Аттала в Мизии и Фригии с главным городом Пергамом (так называемое
Пергамское царство); 2)
Вифиния на Пропонтиде, медленно и туго поддававшаяся эллинизации; 3)
Галатия, то есть земли, куда были оттеснены вторгшиеся галльские племена после их разгрома Атталом, с главным городом Анкирой (ныне Анкара); 4)
Понт с Каппадокией в южном Черноморье, слабо эллинизованный и лишь в I веке прогремевший на весь мир благодаря знаменитому Митридату (о пограничном
Боспорском царстве см. § 3); 5) царство
парфян (приблизительно нынешняя Персия), около этого времени отщепившееся от царства Селевкидов и организовавшееся под собственной династией как возрождение древней Персии. Вследствие этого царство Селевкидов было ограничено Сирией и Месопотамией; а так как его главный город Антиохия лежал в первой из них, то его и принято называть Сирийским царством; 6)
Фракия, полудикая страна.
К этим эллинистическим монархиям следует, однако, еще причислить следующие две, сыгравшие крупную роль в истории Запада: 1)
Эпир, полудикая страна молоссов (выше, с.20), династия которого вела свое происхождение от Ахилла. Он просиял в начале III века до Р.Х. благодаря своему царю, гениальному авантюристу
Пирру, 2)
Сиракузское царство в Сицилии, уже с конца V века до Р.Х. подпавшее тиранам, из коих последний, умный
Иерон Второй (264-215 годы до Р.Х.), назвал себя царем и даровал своему государству последний период расцвета.
С III века до Р.Х. этот эллинистический мир начинает испытывать тяготение к Риму; первым подчинилось ему Сиракузское царство в 212 году до Р.Х., что было одним из эпизодов второй пунической войны. Во II веке до Р.Х. предметом интереса Рима становятся и страны по ту сторону Адриатического моря; начинается постепенное присоединение к нему эллинистических царств в следующем порядке: Македонии в 146 году до Р.Х., Пергама в 133 году до Р.Х., Вифинии в 74 году до Р.Х., Понта и Сирии в 63 году до Р.Х., Египта в 30 году до Р.Х. С этого времени одно только Парфянское царство оставалось непокоренным и грозным соседом Рима до самого конца его истории в античные времена.
§ 2. Собственно Греция. Как мы видели выше (с. 122), господство Македонии над собственно Грецией приняло форму
гегемонии; ее условия были определены на созванном царем Филиппом коринфском конгрессе в 338 году до Р.Х., незадолго до его смерти. Эта последняя вызвала в Греции восстание, быстро подавленное Александром Великим разрушением его соперника по гегемонии, Фив; но ни тогда, ни когда-либо после не удалось Македонии подчинить себе греческие города. Они продолжали пользоваться самоуправлением, где более, где менее стесненным вмешательством северной соседки, гегемония которой при Антигонидах была большей частью фиктивной. В частности, мы можем проследить историю следующих городов и союзов.
1.
Афины после херонейского погрома не только не пострадали, но достигли даже под управлением оратора Ликурга нового, хотя и краткого расцвета (338-327 годы до Р.Х.), так что эту Ликургову эпоху сравнивают даже с эпохой Перикла. Но время после смерти Александра было для них временем болезненных содроганий, причем борьба против македонской гегемонии осложнялась внутренней борьбой между демократией и аристократией. Особенно бедственным было восстание в 295 году до Р.Х.: оно истощило последние финансовые силы государства, пришлось даже расплавить золотую ризу Афины-Девы, творения Фидия. После него в течение целого столетия с лишком Афины только прозябают как одно из многих маловажных греческих государств.
Интересное преобразование происходит во II веке:
Афины начинают жить своим великим прошлым. Стремящийся к культуре Рим уважает в них главного творца этой культуры; он всячески им покровительствует, дарит им новые владения; даже покорение Греции в 146 году до Р.Х. не приносит им вреда, так как они сохраняют положение «свободного города» (civitas libera). Конституция окончательно реформируется в аристократическом духе, причем главным органом управления опять делается, как в досолоновскую эпоху, ареопаг (выше, с.74); благосостояние города растет, его охотно навещают римские вельможи и еще охотнее посылают они туда своих сыновей для посещения
афинского университета, образовавшегося из соединения различных философских школ (ниже, § 6).
Правда, неблагоразумное присоединение Афин к Митридату имеет последствием их жестокую осаду Суллой (83 год до Р.Х.) и новый разгром, оставивший на Сароническом заливе лишь «трупы городов»; все же они оправились и от него и к концу республики опять стали для Рима городом великого прошлого, как в наши дни Флоренция, или Венеция, или — сам Рим.
2.
Спарта уже после победы Эпаминонда и отнятия Мессении (выше, с. 122) должна была пережить тяжелый финансовый кризис, который не дал ей принимать сколько-нибудь деятельное участие в столкновении Греции с Македонией; события прошли мимо нее. Результатом кризиса было нарушение равенства земельных наделов, этого источника военной силы Спарты, и скопление богатств в руках немногочисленной многоземельной олигархии. Этому положению вещей попытались положить конец два один за другим правивших царя III века,
Агид и
Клеомен, поставивших себе задачу восстановить Ликурговы законы, равенство наделов и, следовательно, вернуть земле массу обезземеленного спартанского населения. Агид пал жертвой этой попытки, но Клеомен не только ее осуществил — он поднял значение Спарты и стал одним из могущественнейших царей своего времени. Но его политика вызвала конфликт со всесильным в Пелопоннесе Ахейским союзом (ниже, под пунктом 4); не будучи в состоянии сломить Клеомена силами самого союза, полководец ахейцев Арат призвал на помощь македонцев. Общими усилиями им удалось разгромить Спарту при Селласии (222 год до Р.Х.) и восстановить в ней, после бегства Клеомена, прежний непорядок. Последовал еще ряд содроганий вплоть до подчинения Греции Риму в 146 году до Р.Х. Рим, впрочем, отнесся и к Спарте романтически и дал ей управляться по Ликурговым законам, сохранить свои фидитии и всю прочую военно-гражданскую организацию, которая теперь, когда ее «атлеты войны» уже ничего не значили среди стотысячных армий владыки мира, отдавала горькой иронией. С ней она перешла в эпоху империи и медленно угасла как один из маловажных городков оскудевшего Пелопоннеса.
3.
Этолийский союз. То влияние на судьбы Греции, которое ускользнуло из рук передовых держав эпохи расцвета, естественно перешло к союзам государств средней руки, еще не использовавших свои силы. Первый из них образовался по почину полудикого племени
этолийцев (выше, с. 19); сначала оно само перешло от сельского быта к городскому и организовалось в союз этолийских городов, а затем привлекло ряд других государств, главным образом в средней Греции, но также и в Пелопоннесе (например, Элиду). Случилось это около 280 года до Р.Х. Высшая исполнительная власть находилась в руках ежегодно избираемого, но с правом переизбрания, стратега, высшая законодательная — в руках веча, собиравшегося в этолийском посаде Ферме (Thermon); так как правом голоса в нем пользовались все этолийцы, а этолийцами считались и все присоединившиеся к союзу народы, то мы и здесь имеем, в принципе, плебисцитарную демократию (выше, с.79). Особое значение получило присоединение, хотя и вынужденное, к союзу
Дельфов. Правда, они были сильно ослаблены — и материально фокидскими грабежами в середине IV века до Р.Х., и нравственно — вторичной изменой национальному делу (выше, с. 123), но все же это были Дельфы, и обладание ими позволило этолийцам занять место древней амфиктионии (выше, с.78) и окружить свое дело известным религиозным обаянием, особенно после того, как им удалось в 279 году до Р.Х. отразить от горы Аполлона натиск галльских полчищ (выше, с. 193). Вообще же их деятельность состояла в беспрестанных войнах с македонскими Антигонидами, что естественно повело к союзу с Римом. Но во II веке до Р.Х. этот союзник справедливо показался им опаснее самого врага, и они перешли на сторону сирийского царя Антиоха Великого; результатом было то, что Рим после победы над Антиохом при Магнесии в 189 году до Р.Х. распустил Этолийский союз и восстановил дельфийскую амфиктионию на прежних началах. Так-то он просуществовал всего около ста лет.
4.
Ахейский союз образовался по образцу этолийского и в противовес ему, тоже около 280 года до Р.Х., преимущественно из пелопоннесских государств под главенством пелопоннесской же Ахайи; но свое значение он получил лишь в 251 году до Р.Х., когда его стратегом стал Арат Сикионский, присоединивший к нему и свою родину, и ряд других городов, в том числе Коринф, который стал столицей союза. Все же без посторонней помощи он обходиться не мог; сначала его покровителем был птолемеевский Египет, затем, когда Клеомен спартанский стал его теснить, Арат заключил союз с Македонией; после поражения Македонии в 196 году до Р.Х. ахейцы обратились к протекторату Рима. Но рука Рима тяжело лежала на их свободе; под конец они восстали, и это восстание повело ко вторжению римских легионов, к осаде и разрушению Коринфа Муммием в 146 году до Р.Х. и к
обращению Греции (кроме нескольких свободных городов, главным образом Афин) в
провинцию, которая получила название Ахайи. Для нас Ахейский союз драгоценен главным образом тем, что он дал нам в лице
Полибия (см. ниже, § 10) самого крупного после Фукидида греческого историка.
Рим оставил греческим городам их общинное самоуправление, повсюду введя аристократический режим; высшая власть, как и вообще в провинциях, находилась в руках наместника (пропретора). В 46 году до Р.Х. Коринф был восстановлен, но уже как интернациональный и преимущественно римский город и столица провинции; он сыграл немалую роль в истории христианизации римского государства. Дань, уплачиваемая общинами Риму, была сносна; хуже было то, что богатые художественные сокровища страны возбуждали алчность наместников-любителей, что имело последствием бесконечные грабежи, доводившие до отчаяния хранителей наследия Фидиев и Зевксидов.
5.
Родос. Ни один из названных политических организмов не унаследовал торгового значения Афин, которое от них отошло после названных политико-экономических кризисов; унаследовал его Родос. Его рост начался еще с 407 года до Р.Х., когда его три главных общины — Линд, Иалис и Камир — путем синэкизма (с.78) соединились и образовали центральную общину, получившую название самого острова. В III веке до Р.Х. Родос становится морской державой и в качестве таковой — счастливым соперником самого могущественного на море эллинистического царства, птолемеевского Египта. Когда значение последнего с конца этого века пошло на убыль, Родос еще более расцвел, он расширил свои владения за счет прилежащих островов, с другими заключил союз и стал настоящей Венецией эллинистической эпохи. Его военный флот сдерживал пиратов и прикрывал его торговые сношения, которые охватывали весь архипелаг и доходили до нашего Черноморья, сменяя и здесь угасшее значение Афин. Это величие вызвало во II до Р.Х. веке ревность Рима, который всячески старался ослабить его и с этой целью после победы над Персеем македонским даровал Афинам Делос в виде порто-франко (166 год до Р.Х.). С этого времени начинается упадок Родоса и, как его последствие, возвышение могущества пиратов, имевших свои гнезда в неприступных бухтах гористой Киликии. Все же он и в I веке до Р.Х. был значительным культурным центром, пока его не разорил в 43 году до Р.Х. Кассий, убийца Цезаря. С тех пор он растворился в римском государстве.
§ 3. Эллинство в Северном Причерноморье. Из трех частей, на которые распадается его территория (выше, с. 125), наиболее бедственную судьбу испытала
Ольвия. Роковым для нее был тот самый сдвиг северных племен, одним из эпизодов которого было вторжение галлов (выше, с. 193) в царство Лисимаха. Вследствие него соседями ольвиополитов оказались не одни только миролюбивые скифы, но и дикие сарматы, давно успевшие перейти Дон, не менее дикие саи и те же галлы-галаты. Ольвия обеднела и от разорительных набегов, и от жестокой дани, которой она должна была откупаться от царей пришлых племен. Некоторое время щедрость самоотверженных граждан помогала ей выносить все эти испытания; но к концу III века до Р.Х. все средства истощились, и она подпала власти скифских царей. Так бесславно прошел для нее II век. В I веке до Р.Х. мы опять видим ее свободной, но ненадолго; около середины этого века ей был нанесен новый тяжелый удар, о котором придется сказать в отделе В (§ 2).
Все же наша эпоха, постепенно разрушая политическое и экономическое значение Ольвии, прославила ее на скрижалях словесности: в III веке до Р.Х. жил человек, в котором мы вправе видеть первого писателя русской земли —
Бион-Борисфенит. Как сын отпущенника, он был скорее всего скифского происхождения; его отец, будучи мытарем, обанкротился и был продан в рабство со всей семьей; Бион стал рабом богатого ритора, который оставил его наследником своего состояния. Он воспользовался им для того, чтобы посвятить себя в Афинах изучению философии; здесь могучая проповедь Кратета, ученика Диогена (выше, с. 155), сделала его киником: он надел сермягу и суму и пошел в народ. О его литературном значении см. § 10.
Вторая крупная колония Черноморья,
Херсонес, вначале благоденствовала; но со второй половины II века до Р.Х. и для нее наступили тяжелые времена. Притеснения со стороны таврических скифов усилились; ее верная метрополия, Гераклея Понтийская, не могла ей помогать, так как сама тогда составляла часть монархии — Вифинии. Одно время она нашла заступничество у естественных врагов своих врагов, сарматов, и историческая легенда отметила решительные действия в пользу херсонеситов сарматской царицы Амаги; но к концу столетия скифское засилие стало невыносимым, и Херсонес обратился за помощью к великому царю Понта, Митридату VI Евпатору. Тот, охотно выступавший в роли покровителя эллинства, послал Херсонесу на помощь войско под начальством энергичного Диофанта. Диофант оттеснил скифов и в видах укрепления эллинства в Тавриде основал к северо-западу от Херсонеса новую греческую колонию, которую он назвал в честь своего государя
Евпаторией; но вслед за тем он объявил подзащитный город собственностью Митридата. За ним и его домом он и остался, даже после разгрома Понта римлянами, вплоть до конца нашей эпохи.
Наконец, третий центр черноморского эллинства,
Пантикапей, ставший еще в V веке до Р.Х. столицей
Боспорского царства, продолжал некоторое время процветать под сильной властью Спартокидов и в III веке до Р.Х. был опасным соперником своего западного соседа Херсонеса. Правда, его экономическое значение должно было несколько пошатнуться с тех пор, как, благодаря воцарению Птолемеев, Египет перестал быть замкнутой страной и верный хлеб Нила сменил в междуэллинской торговле боспорский. Но критическая эпоха наступила для Боспора одновременно с Херсонесом лишь во второй половине II века до Р.Х. из-за тех же скифов. Не будучи в состоянии с ними сладить, последний Спартокид, Перисад III, передал власть
Митридату Евпатору, который вскоре затем присоединил к своим северным владениям, как мы видели, и Херсонес и, таким образом, впервые
объединил Тавриду. Своим наместником в Боспоре он сделал своего сына Фарнака, который, однако, отплатил ему гнусной изменой, когда он, разбитый Помпеем в 65 году до Р.Х. и лишенный отцовского царства, искал убежища у победителя. Купив этой изменой милость Рима, Фарнак остался царем Боспора; но когда он в 47 году до Р.Х. хотел воспользоваться римскими междоусобицами для завоевания своего отцовского царства, Цезарь разбил его наголову при малоазиатской Зеле. Эта легкая победа дала победителю повод к его знаменитому
veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил). Тут Фарнак испытал участь своего отца: против него восстал его боспорский наместник Асандр, который, в свою очередь, благодаря этой измене удержал за собой Боспорское царство. Так обстояли дела в Тавриде, когда начался для всего эллинистического Востока римский период его жизни.
§ 4. Колонизационное движение. Эпоха эллинизма, особенно ее начало, была эпохой нового колонизационного движения, рассеявшего семена эллинизма по всему пространству прежнего персидского государства. Пример подал сам Александр Великий, основавший в течение своей краткой жизни до семидесяти колоний, которые почти все получили его имя. Из них самая значительная та, которую мы поныне так называем, —
Александрия в Египте, ставшая столицей птолемеевского царства и наложившая свою печать на всю культуру эллинистического периода, который поэтому нередко называется александрийским.
Вообще основанные Александром города можно разделить на три части: 1)
Александрии-гавани; сюда относятся, кроме только что названной, еще главным образом Александрия в Сирии напротив Кипра (ныне Александретта) и Александрия у устья Тигра; 2)
Александрии торговые, долженствовавшие служить транзитными пунктами по великому караванному пути, ведшему через все персидское царство до границ Индии, и заодно оберегать и его; 3)
Александрии-крепости вдоль индийской границы по нынешнему Белуджистану, Афганистану вплоть до нашего Мерва. Из них последние сыграли огромную культурную роль: благодаря им эллинизм соприкоснулся с Индией, что повело к возникновению эллино-индийских государств, эллиноиндийского искусства и даже к передаче этой сказочной стране литературных зародышей (между прочим, вероятно, и зародышей драмы). А так как впоследствии началась культурная миссия буддизма на Дальнем Востоке, то вместе с ней и названные семена эллинизма попали в эту струю, — в какой мере и с какой долей живучести, это покажут исследования будущего. Отщепление парфянского государства в 247 году до Р.Х. нанесло серьезный урон этим дальним колониям, лишив их покровительства эллинской династии Селевкидов; все же они сослужили свою службу в деле частичной эллинизации Парфии, пока не заглохли сами под непреоборимым напором варварства. Но в этом варваризованном виде они существуют поныне (Кандагар, Герат), доказывая своим относительным значением дальновидность своего гениального царя-основателя.
Из диадохов более всего унаследовал колонизаторские наклонности умершего царя
Селевк, по стопам которого пошли его преемники, Селевкиды. Сам Селевк основал до семидесяти пяти колоний, между прочим, ту, которую он сделал столицей своего царства, назвав ее по имени своего отца
Антиохией («прекрасный город эллинов», как ее называли окружающие ее сирийцы) с ее гаванью
Селевкией; там же вблизи и города, получившие имена царственных жен, —
Лаодикею и
Апамею. В Месопотамии получили особую важность
Эдесса и Селевкия на Тигре, к которой с тех пор стало переходить культурное значение умирающего Вавилона. Страстный македонец и эллинофил, он свое царство хотел превратить как бы в новую Македонию; очень вероятно, что это крайнее эллинофильство, перешедшее и к его преемникам, повело к упомянутому отщеплению Парфии. Оно же вызвало конфликт Селевкидов с иудеями в Палестине, когда последние были ими отвоеваны у Птолемеев; а этот конфликт повел к отщеплению также и
Иудейского царства в 168 году до Р.Х., которое, однако, и само стало более или менее эллинистическим.
Примечание. История древнего Израиля стоит, подобно египетской, персидской и т.д., вне границ настоящего изложения. Возвращение Иудина колена из Вавилонского пленения и его тихая жизнь под властью персидского наместника (начало эпохи иудаизма, или «второго храма») не заинтересовала эллинов: Геродот, посетивший всю Персию, даже не упоминает иудеев. Впервые они соприкасаются с эллинизмом при Александре Великом, взявшем Иерусалим; при разделе царства Иудея досталась Птолемеям, что повело к стечению множества иудеев в Александрию, не столько, впрочем, из Иудеи, сколько из прочего Египта, где они жили уже давно. Эти александрийские евреи не понимали по древнееврейски, что повело к необходимости перевести для них Писание на греческий (уже с III века до Р.Х.; это — важный для истории христианства перевод «Семидесяти толковников»). Птолемеи относились терпимо и к александрийским евреям и к иудеям; но дела изменились, когда вследствие вырождения династии могущество Египта пало и его сирийские владения достались Селевкидам. Они окружили Иудею — следуя, впрочем, в этом отношении примеру Птолемеев — кольцом греческих колоний, и Антиох IV Эпифан сделал даже безумную попытку эллинизировать иерусалимский храм; хотя он сам от нее отказался, все же поднятое Маккавеями восстание не улеглось. Отчасти вследствие возникших вскоре междоусобиц в царстве Селевкидов, отчасти благодаря собственному геройству Маккавеям удалось отстоять самостоятельность Иудеи и присоединить к ней, кроме Заиорданья и единоверной, но схизматической Самарии, также и «Галилею язычников». Но сами они чем далее, тем более поддаются влиянию окружающих эллинских городов, близость которых создает течения протеста против строгой ортодоксальности не только в Галилее и Самарии, но и в самой Иудее, и ведет к образованию могучей партии «эллинствующих», что, в свою очередь, вызывает реакцию «фарисеев». Совсем эллинистическими правителями были сменившие потомков Маккавеев в 37 году до Р.Х. Ироды, особенно Ирод Великий (37 год до Р.Х. — 4 год по Р.Х.).
Из прочих эллинистических династий ни одна не могла по силе своей колонизаторской деятельности сравниться с Селевкидами.
Птолемеи в Египте ограничились, в сущности, одной Птолемаидой в Фиваиде; избыток своих подданных-эллинов они селили иначе, о чем речь впереди (с.209).
Лисимах основал во Фригии знаменитый впоследствии город, названный им в честь своей жены Никеей. Его преемники,
вифинские цари, в роде которых чередовались имена Никомед и Прусий, основали важные поныне города Никомедию (ныне Измид) и Прусу (ныне Брусса). Колонии
пергамских царей особой важности не имели; но
македонские основали в принадлежавших им областях хотя немногочисленные, но важные города. Пример подал еще царь Филипп, основавший город, названный им по его имени
Филиппами, — город, прославленный позднее последней битвой за римскую республику (42 год до Р.Х.), — а равно и
Филиппополь в верхней долине Гебра (Марицы). Он же в 352 году до Р.Х., обрадованный победой своих войск над фессалийцами, дал родившейся у него тогда дочери имя Фессалоники; она вышла впоследствии за Кассандра, кратковременного царя Македонии, который дал ее имя основанному им на Фермейском заливе городу. Эта
Фессалоника стала впоследствии столицей Македонии, каковой осталась поныне (Салоники).
Как видно из этого обзора, колонии этого второго
колонизационного периода уже по своим названиям отличаются от тех прежних, будучи большей частью названы в честь своих основателей или членов их семьи. Отличны были они и по своему характеру: те были земледельческими и торговыми поселениями, эти — военными, так как поселение в колонии было большей частью царской наградой отслужившим свой срок воинам. Все же, будучи выведены с большим знанием местности и дела, они со временем получили и торговое значение, каковое они большей частью сохранили и поныне.
Глава I. Нравы
§ 5. Семейный и общественный быт. С приобщением Востока к эллинской культуре прежнее сравнительное единство ее народа-носителя уступило место племенной и социальной пестроте, сильно затрудняющей задачи исследователя. Мы различаем, во-первых, эллинство на родине и в старых колониях; во-вторых, дворы и вообще культурные районы новых династий с македонской включительно; в-третьих, эллинство в новых колониях; в-четвертых, варварские народы. Следует, однако, принять во внимание, что в каждой из установленных категорий имелось множество оттенков.
Племенные различия внутри собственно Греции (со старыми колониями) к нашей эпохе еще не успели стереться, хотя они и гораздо менее дают о себе знать. Первенствующая роль, завоеванная
аттическим языком в предыдущий период, осталась за ним и в наш; он повсюду стал языком интеллигенции, между тем как остальные диалекты чем дальше, тем более получили значение простонародных говоров. Правда, такое расширение аттического диалекта не могло не повести к известным уклонениям от первоначальной чистоты; возник новый общий (koine), или эллинский язык, хотя и на основе аттического. Вот этот-то эллинский язык и был распространяем повсюду как в Греции, так и в эллинистических царствах. Очень важна была при этом роль новых колоний. Хотя они были не земледельческими, а военными, — а это значило, что народ переселялся в них не семьями, а в составе одних только мужчин, — все же солдаты-поселенцы, взяв себе местных жен, научили их говорить по-гречески и стали основателями чисто греческих поселений. Такова была победоносная сила эллинизма.
Семейный быт в Греции не претерпел сколько-нибудь важных изменений; что же касается эллинистических государств, то одно время могло показаться, что почин Александра Великого разрушит основу греческой семьи —
единобрачие. Желая связать своих старых македонских подданных с новыми, восточными, он и сам подчинился персидскому обычаю многоженства и потребовал того же от македонской знати. Но это нововведение не пережило его: по его смерти македонцы отпустили навязанных им варварских жен (эллинок полигамия не коснулась), и принцип единобрачия стал вновь отличительной особенностью эллинских островов в варварском море. Зато египетская династия Птолемеев не устояла против другой местной заразы: египетского обычая женитьбы брата на сестре. Почин был сделан Птолемеем II, который, уже имея детей от первой жены, сочетался браком со своей сестрой Арсиноей II, каковая уступка доставила обоим двусмысленное прозвище Филадельфов. Правда, этот кровосмесительный брак был бездетным, и престол унаследовал Птолемей III Эвергет, сын Филадельфа от первой жены. Но обычай был установлен, и карой природы за это поругание ее заветов было постепенное вырождение династии Птолемеев, которое началось уже при Птолемее IV Филопаторе и продолжалось до последней представительницы, демонически обаятельной, но и демонически извращенной Клеопатры (умерла в 30 году до Р.Х.).
Еще заслуживает внимания значительно большая свобода, которой пользовались
женщины в нашу эпоху в сравнении с предыдущей. Почин был дан македонской монархией, сохранившей через многие века особенности старинной ахейской. И Эвридика, мать Филиппа, и его жена Олимпиада, мать Александра, сыграли крупную роль в истории. И вот царица вновь отвоевывает для женщины положение, утерянное гражданкой; в птолемеевском Египте царская чета нередко упоминается вместе: Птолемей I и Береника, Птолемей II и Арсиноя, Птолемей V и Клеопатра (старшая) — и даже изображается на монетах. А пример двора, естественно, повлиял на знать, пример знати — на обыкновенных граждан.
Вообще
двор, группирующийся вокруг особы царя, становится образцом для нравов и вкуса. Александр Великий, одаренный аполлоновской красотой лица, не пожелал затемнять его черт ношением усов и бороды; его примеру последовали диадохи, за ними потянулся двор, за двором — вся Греция, за Грецией — весь культурный мир. Начинается первая бритая эпоха в истории человечества, от Александра до императора Адриана. Только философы, противники моды, продолжали «sapientem pascere barbam»
[19], — как насмешливо замечает Гораций (
Гор. Сат. II, 3, 35).
Впрочем, эллинистические цари одевались еще по-эллински; их отличием была белая тесьма вокруг волос, старинный символ победы (diadema), и «царская порфира». Подавно эллинского покроя были одежды двора, как мужские, так и женские; роскошь обнаруживалась лишь в качестве тканей. С шерстью и льном стал конкурировать азиатский хлопок («виссон»); остров Кос, любимец Птолемея II, открыл у себя производство местного шелка и распространил повсюду «прозрачные» косские материи; а со II века до Р.Х., благодаря развитию торговых путей, появились на европейских рынках и настоящие китайские шелковые ткани (Serica). Та же роскошь появилась и в обстановке дома (ниже, § 9), и в утвари, и везде. Принадлежностью дворца становится парк: Александрия славится своим Paneion (то есть «рощей Пана»), Антиохия — своей Дафной. Вельможи следуют данному примеру — и сад становится частью всякого зажиточного дома. Это само по себе — полезное нововведение, так как ведет к оздоровлению всего города; но, представляя себе общую картину богатства этой эпохи в сравнении с предыдущими, приходится признать, что если различия в достатке существовали всегда, то теперь эти различия выставляются напоказ: времена, когда «дом Перикла ничем не отличался от дома любого гражданина» (выше, с.131), отошли в прошлое навсегда.
И в дело
воспитания наша эпоха внесла немало нового. Для своей «македонской» знати цари завели особые пажеские корпуса, в которых сыновья вельмож воспитывались вместе с царевичами в постоянном соприкосновении с царским домом; это были питомники будущих военачальников и администраторов. Для прочих эти заведения были недоступны, но зато в каждом городе имелось, по примеру предыдущей эпохи, достаточное число
гимнасиев, дававших, однако, теперь кроме гимнастического, также и некоторое научное образование в продолжение к тому, которое было получено в школе грамотности. Так-то гимнасии в нашу эпоху становятся среднеобразовательными школами; кроме мужских заводятся и женские, а также и такие, в которых мальчики и девочки воспитывались совместно. Наконец, было и
высшее образование; таковое давала, с одной стороны, — в смысле образования общего —
эфебия (см. выше, с. 129), с другой, — в смысле специального образования — высшие школы философии в Афинах, красноречия (то есть права) в Родосе, Афинах и Пергаме, медицины в Косе и Александрии, филологии в Александрии и Пергаме, не считая других.
Все это было очень отрадно, но все же повело к установлению кроме имущественных, также и образовательных перегородок в гражданском обществе: в эллинистическую эпоху впервые появляется
интеллигенция как сословие. А с этим умственным расщеплением общества стал невозможным тот всенародный подъем, который под влиянием всеобъединяющей хореи одухотворял праздники предыдущих эпох. Сама
хорея не была упразднена — она погибла лишь вместе с античной религией, — но она перестала быть главным элементом образования. И
праздники продолжали существовать, но те старинные республиканские, о которых мы говорили выше (с. 183 и сл.), были затемнены новыми, царскими, гораздо более роскошными. А особенностью этих новых праздников было то, что на них народ был уже не участником, а только зрителем:
агонистика, как гимнастическая, так и мусическая, переходит от граждан к профессиональным атлетам и виртуозам. А результат таких переходов везде один и тот же: совершенство искусства выигрывает, его культурное значение идет на убыль.
Этот переход совпал с ослаблением или исчезновением политической жизни общин; граждане поэтому стали искать отдушину своим стремлениям, но в силу исторического развития нашли таковую не в ахейской семье, а в аполлоновском
кружке. Кружковая жизнь особенно расцветает в нашу эпоху, причем она, соответственно профессиональному расщеплению общества, и сама расщепляется: культовый элемент не теряется, но он сливается с профессиональным. Члены кружка строят или снимают определенное помещение, в котором и сходятся для общих бесед и угощений. При этом выборы председателей дают пищу честолюбию членов, благотворительность поощряется кружковыми почестями и наградами.
А так как при развитии промышленности и торговли, а также чиновничества и интеллигентных профессий сельская жизнь была оттеснена на задний план, а то деление хозяйственного труда, о котором речь была выше (с.24 сл.), имело основанием именно сельскую жизнь, то в значительной части тогдашнего общества хозяйственное значение семьи пошло на убыль. Это бы еще ничего; но с потерей священной связи с матерью-землей утратились и те мистические, филономические узы (выше, с.34), которые связывают человека с истоками и отпрысками его крови и представляют ему бездетность как самое страшное наказание. Наша эпоха — эпоха
замены филономического сознания онтономическим.
Человек сознает себя как биологическая особь; средства к жизни ему дает его профессия, поле общественной деятельности — кружок; на что же ему семья? Чем тратиться на нее, он соберет капиталец, свою старость прокормит своими сбережениями, а остатки завещает тому же кружку, который за то его с честью похоронит. И вот развивается немыслимое в здоровые эпохи стремление к бездетности и к безбрачию. Теперь действительно «порода граждан» стала «мельчать». В деревнях еще держалась прежняя сила и удержалась надолго, но в городах уже начинает вырабатываться та умственно изощренная и нравственно расслабленная раса, которой римляне дали презрительное наименование Graeculi.
§ 6. Хозяйственный быт. Едва ли не наибольший переворот был произведен победами Александра Великого в экономическом отношении. С одной стороны, в руки завоевателя попали неизмеримые, веками накопленные царские богатства, которые он щедро раздавал и своим приближенным, и вообще всем, кто ему оказывал услуги, создавая этим — прямо и еще более косвенно — класс богачей, в сравнении с которыми самые зажиточные люди собственно Греции казались бедняками. С другой стороны, те же завоевания предоставили в распоряжение греческой предприимчивости целую сеть прекрасных
царских дорог, покрывавшую все персидское государство до границ Индии и сказочных морей.
Примечание. Вопрос о больших дорогах был во все времена вплоть до новейшего больным местом греческой жизни: их было мало, они были узки и в смысле безопасности оставляли желать лучшего. Причины заключались: 1) в наличии удобных морских путей (грек говорил «плыть» там, где мы говорим «путешествовать»); 2) в гористости страны и 3) в ее кантональной раздробленности. Напротив, континентальный характер Персии заставлял ее царей прокладывать всюду военные дороги. Они были снабжены мильными столбами (по «парасангам»[20]) и в определенных промежутках станциями (stathmoi, angara). По этим дорогам шла царская почта. Действительно, зародыш этого ныне столь полезного учреждения кроется в Персии; от Персии его унаследовали эллинистические государства, от них — Рим, от Рима — новая Европа.
Из этих дорог главной в торговом отношении была та, которая, начинаясь у Эфеса, шла через всю Малую Азию, Месопотамию и Иран в Индию. Правда, ее значение пало с отщеплением Парфии, но тогда выдвинулись оба пути (отчасти водные, отчасти караванные), ведшие в Египет от Александрии к Черному морю. Драгоценные ткани, самоцветные камни, благовония, вкусные приправы (заметим мимоходом, что и гастрономия испытала в нашу эпоху коренную реформу) — все это потекло в греческие страны, увеличивая до безумных пределов богатства счастливых предпринимателей. Эти богатства дали, в свою очередь, толчок развитию
промышленности, особенно в смысле специализации: мода стала требовательна, появляются разновидности и оттенки вкуса, удовлетворить которые могли только большие города. Возникают и таковые: если в прежнее время Афины со своим стотысячным населением Могли считать себя большим городом, то теперь вырастают полумиллионные — Александрия, Антиохия и наследница Вавилона — Селевкия на Тигре; за ними следуют Сиракузы и Карфаген, а затем уже — Рим.
Процветает и
земледелие, но при значительно изменившихся экономических условиях. То многочисленное мелкоземельное крестьянство, через которое дух матери-земли своим оздоровляющим дуновением проникал все государство, уже потеряло свое руководящее значение. А впрочем, положение в различных странах было различное. В Египте искони хлебородная земля не составляла частной собственности: то ее деление на землю «жреческую» и землю «царскую», которое книга Бытия возводит к финансово-политической деятельности патриарха Иосифа (гл. 47, 20-22), удержалось и в птолемеевские времена, причем «царскую землю» обрабатывали полукрепостные «царские люди». Подавно царской была земля, не оплодотворяемая разливом Нила, но все же способная при искусственном орошении приносить плоды, и расчетливые цари охотно предоставляли ее во владение отслужившим свой срок наемникам, создавая таким образом вместо военных колоний (выше, с.201) военные поселения негородского типа. Напротив, в староколониальной и собственно Греции земля становилась жертвой спекуляции. Благодаря нахлынувшим богатствам нетрудно было собрать в немногих руках значительные земельные угодья; прежний крестьянин-собственник, продав свой клочок, уходил наемником на чужбину, а новый крупнопоместный землевладелец находил более выгодным пользоваться для полевых работ
рабским трудом. Теперь только начинается экономическая роль рабства в античной истории: Это уже не челядь прежних времен, делящая труды и радости хозяина, — многотысячные «громады» считались просто орудием производства подобно скоту, но более опасным вследствие своей склонности к мятежам. Их соответственно и содержали — при строгом делении на десятки и сотни с отдельными надзирателями, с урочными работами («плантационная система»), с ночевками в мрачных, часто подземных помещениях (ergastula). Особого совершенства достигла эта система в Сицилии, учителем которой был, вероятно, соседний Карфаген. Страна, действительно, расцвела, нс этот расцвет был внешним и таил страшную язву в своей глубине, то и дело прорывающуюся наружу в разрушительных «невольнических» восстаниях и войнах. Сицилия стала классической страной заговоров, каковой осталась и поныне, как доказывает ее «каморра»
[21] и «мафия».
Что касается, наконец, государственного хозяйства, то есть
бюджета, то мы здесь ограничимся эллинистическими царствами и из них изберем птолемеевский Египет как наилучше нам известный. Главную часть государственных доходов составляли, понятно, взимаемые натурой хлебные пошлины с пахарей царской земли; подушной подати не было, но зато Птолемеи унаследовали от фараонов такую искусную и сложную систему прямых и косвенных обложений, которой не устыдилось бы и любое современное государство. Тут и патентные пошлины с ремесленников, и гербовый сбор с торговых договоров (введенный еще Псамметихом I), и пошлины со скота, домашней птицы, рабов, зданий, наследств и т.д., и таможенные поборы, и рыночные; затем косвенные налоги на вино, пиво, полотно, рыбу, не считая всякого рода монополий (соль, елей, сода) и т.д. Взимание всех этих податей было при фараонах и персах делом наместников; Птолемеи, вообще старавшиеся ослабить наместническую систему (ниже, § 4), предпочитали отдавать их в откуп. Так-то целая армия большей частью мелких «мытарей» была выпущена на страну; купив пошлину, мытарь уплачивал условленную сумму в ближайший банк и затем взимал ее в свою пользу, получая впридачу ненависть плательщиков.
Подобно доходам и
расходы казны стали в нашу эпоху сложнее. Главными были по-прежнему расходы на военное дело, еще возросшие вследствие того, что прежнее гражданское ополчение было заменено постоянным наемным войском; но к ним прибавилось жалование чиновникам, тоже сменившим бесплатную магистратуру греческих республик. Затем расходы на флот и пути сообщения (особенно Нил), хотя тут натуральные повинности отчасти облегчали дело казны. Затем особенно двор и царские щедроты; к ним относились также и издержки на искусства и науку, о которых речь будет ниже, (§ 10), но не на народное просвещение вообще, которое было делом общин, а не государства.
Так-то администраторский талант первых Птолемеев, соединяя древнеегипетские, персидские и греческие традиции, создал в эллинистическом Египте образец великодержавного хозяйства, решающим образом подействовавший на Рим, особенно императорский, а через него и на новую Европу.
§ 7. Военный быт. Эллинистические царства были основаны мечом; мечом защищались они друг от друга; мечом держалось и македонское правительство среди местного населения. Присмотримся же к этому мечу.
Оплотом царской власти была
постоянная армия, каковой в прежние эпохи обладала лишь Спарта в лице своих гоплитов. Ядром этой армии была конница так называемых «гетеров», то есть македонской знати, и «гипаспистов» (hypaspistai) и затем македонская же «фаланга» тяжеловооруженных со своим национальным оружием — длинной пикой (sarissa). Для ведения войны привлекались, во-первых, греческие наемники, а затем и легковооруженные местные контингенты. В своей совокупности войско такой эллинистической державы состояло из нескольких десятков тысяч людей — много больше, чем в предыдущий период, хотя, конечно, много меньше, чем теперь.

В стратегическом отношении должно быть отмечено постепенное усовершенствование
походной техники, подготовленное еще в IV веке до Р.Х. Действительно, гражданские ополчения V века ее почти не знали: война состояла в битвах и длительных осадах. Битвы давались ради победы, чтобы иметь возможность поставить богам благодарственный «трофей» (tropaion, собственно — «приношение» за trope, то есть «обращение в бегство»). Когда эта истинно греческая потребность, внушенная агонистической идеей, была удовлетворена, полководец считал свое дело сделанным и даже не думал о преследовании разбитого врага; война же решалась истощением одной из воюющих сторон. Походная техника развивалась в наемных войсках; первый систематический поход, о котором мы узнаем, был поход Кира Младшего (вернее, его кондотьера Клеарха) в Персию в 401 году до Р.Х., описанный Ксенофонтом. С его же войском и спартанский царь Агесилай в 396 году до Р.Х. предпринял свой поход в ту же Персию, скоро прерванный после блестящих успехов. Крупнейшим стратегом середины IV века до Р.Х. был Эпаминонд (выше, с. 122), учитель Филиппа Македонского; и вот сын и ученик Филиппа в грандиознейшем походе осуществляет заветы Клеарха и Агесилая и в свою очередь воспитывает ряд стратегов, среди которых выдается Антигон, несчастный родоначальник будущей македонской династии.
Сын Антигона, гениальный
Деметрий, доводит до совершенства и
осадное дело. Он учреждает корпус военных инженеров; изобретаются подвижные башни с подъемными мостами, дающие возможность перебросить отряд вооруженных на стену осажденного города; заводится для этих башен артиллерия, так называемые катапульты и баллисты, относящиеся к луку так же, как пушка относится к ружью. Благодаря этим изобретениям, которые доставили Деметрию прозвище «Градоосаждателя» (Poliorketes), вековое преимущество осаждаемых перед осаждающими (выше, с.33) уступило место некоторому равновесию. Но, конечно, стоило среди осаждаемых явиться гениальному технику — и преимущество восстанавливалось. Таковым был тот
Архимед (ниже, § 10), который своими машинами похоронил в 214-212 годах до Р.Х. столько римлян под стенами осажденных Сиракуз.
§ 8. Правовой и государственный быт. В государственном праве эллинистических монархий мы различаем элементы: 1) унаследованные от прежних македонских царей, 2) заимствованные из Персии и 3) развившиеся самостоятельно.
Старинная македонская монархия, насколько мы ее знаем, немногим отличалась от ахейской (выше, с.30): власть царя была ограничена, во-первых, советом «гетеров» (hetairoi, то есть «товарищи»; см. с.31), каковыми были вельможи, и, во-вторых, народным собранием, которое, при всеобщей воинской повинности, было в то же время и собранием войска. Теперь, перенесенная на восточную почву, царская власть становится самодержавной. Возможность участия в народном собрании всех египтян или персов, этих вековых «рабов» своих царей, никому не приходила в голову и всего менее им самим; на восточной почве «народное собрание» сводилось к собранию македонского войска, но и оно созывалось только для признания нового царя да еще по старинному обычаю — постепенно, впрочем, угасавшему — для подтверждения смертного приговора македонцу.
Совет гетеров продолжал существовать, особенно при царском суде; но его решение не было обязательным для царя.
Из заимствованных с Востока элементов самым антипатичным для нас является
царский апофеоз; так как он относится к области религии, то о нем речь будет ниже (§ 14). Дальше пределов бывшего персидского государства этот кощунственный институт, впрочем, не заходил; македонские цари всегда сознавали себя людьми, а основателю новой династии, Антигону I, принадлежит прекрасное слово, часто потом повторявшееся, что царская власть есть лишь «славное служение» (endoxos duleia).
Нововведением эллинизма, и притом гениальным и богатым будущностью, был
переход от наместнической системы к ведомственной. При персидских царях все государство распадалось на наместничества (сатрапии), причем в руках каждого наместника находилось управление и «внутренними делами», и финансами, и военными силами вверенной ему провинции. Это совместительство — тем более при фактической пожизненности сатрапов — делало их своего рода удельными князьями, ведшими самостоятельную и нередко враждебную друг другу политику. Теперь не то. Прежнее деление на провинции было сохранено, но их правители стали простыми губернаторами, ведавшими одними только «внутренними делами»; стоявшие в провинциях полки были подчинены особым военачальникам, коими в свою очередь управлял «старший секретарь сил» (archigrammateus ton dynameon) — по-нашему, военный министр. Так точно финансовое дело было объединено в руках государственного «диэцета» (dioiketes), которому были подведомственны провинциальные диэцеты; общественные работы — непосредственно в руках царя, передававшего свои приказы провинциальным архитекторам; суды — тоже, о чем ниже. При такой сложности личной работы царь нуждался в ближайшем помощнике; таковым был его канцлер (archigrammateus); но как она и при этой помощи была утомительна, показывает характерное слово одного царя человеку, прославлявшему его царское счастье: «Если б ты знал, сколько мне приходится писать писем, ты не поднял бы диадемы, даже найдя ее у своих ног». Все означенные лица и их многочисленные подчиненные прямо или косвенно назначались царем; это были
чиновники, отличные от выборных городских
магистратов. Последние тоже были в старых греческих городах; также и городские советы и т.д. Об этих «органах местного самоуправления» мы после сказанного выше (с.143) распространяться не будем.
Следует, впрочем, заметить, что эту ведомственную систему удалось провести последовательно только в Египте — лучше нам известном и наиболее важном. В царстве Селевкидов наместническая система продолжала сосуществовать с ведомственной, особенно в отдаленных восточных провинциях, что и содействовало их отложению в 247 году до Р.Х. и образованию Парфянского государства.
От описанной государственной службы следует отличать
придворную, имевшую непосредственным предметом особу царя. Наибольшую важность имел тут начальник царских телохранителей, он же и начальник вышеназванного пажеского корпуса; затем мы имеем царских кравчего (archideatros), виночерпия (archioinochoos), ловчего (archikynegos), целый штат камергеров и т.д. Назначались они, конечно, из бывших пажей и преимущественно из того почетного выпуска, который некогда кончил курс вместе с царем (syntrophoi
[22]). Что и царица располагала не менее сложным придворным штатом, ясно само собой и доказывается, кроме того, той честью, которой пользовались и ее syntrophoi.
Для
судебного дела характерна в нашу эпоху двойственность: мы имеем двойное право и двойной суд. Местному населению было оставлено его старинное право и его судьи, так называемые лаокриты; в Египте, классической стране бумагопроизводства, процедура была письменной. Но для македонско-греческого населения и право, и суд (так называемые хрематисты) были греческими, и производство было устным с допущением представительства сторон. При этом параллелизме была неизбежна конкуренция, а при конкуренции — сознание превосходства греческих институтов и их постепенная победа.
§ 9. Нравственное сознание. Даже оставляя в стороне негреческую часть населения эллинистического мира, которая для нас (кроме иудеев) — молчаливая масса, и ограничиваясь одними эллинами, мы затрудняемся усмотреть в их пестром составе какое-нибудь единство нравственного сознания. Специализация жизни повела к невиданной еще пестроте характеров и настроений, дав полную волю индивидуальностям: верные своим царям «македонцы», блюстители древнеаристократической arete; удалые наемники, следующие девизу ubi bene, ibi patria
[23]; расчетливые переселенцы, променявшие на верноподданническую лояльность республиканское свободолюбие оставленной родины; донельзя разношерстное городское население крестьянских, мещанских, интеллигентных профессий — все это вместе взятое создает такой пестрый калейдоскоп, в котором трудно найти руководящие линии.
Одно чувство, впрочем, заметно у многих, если не у всех: чувство неуверенности в завтрашнем дне. Как будто старые боги, которым раньше молились об устойчивости жизни, оставили правление и поручили мир прихотливой богине случайности Тихе (Tyche); и вот эта богиня возносит одних, ниспровергает других, никому не будучи ответственна в своих деяниях. Ее имя на устах у всех: у каждого своя Тихе, не только человека, но и города; знаменитой стала статуя антиохийской Тихе, гения-хранителя гигантского города. Все от нее; что в сравнении с ней arete?
«Она — наследственна», — говорил эллинский период; «она — научима», — доказывал аттический; «она — дар Тихе», — чувствует наш. Филономические узы порваны (выше, с.205); человек привыкает измерять правду и счастье пределами своей личной жизни, а эта привычка, в свою очередь, усиленно устремляет его взоры в потусторонний мир. Но об этом речь впереди (глава IV).
Со всем тем нельзя отрицать, что человечество стало
добрее. При постоянных кровопролитных войнах, театром которых был (если не считать Египта) весь греческий Восток, — страшно подумать, во что обратился бы культурный мир, если бы их вели люди нашего современного закала. Здесь не то: везде свирепствуют войны, а города растут и в числе и в объеме, науки и искусства процветают, проповедь гуманности проникает все шире и все глубже. Александр разрушает дворец персидских царей в Персеполе, и современная ему история клеймит этот акт как акт бессмысленной жестокости (каким он, разумеется, и был), объяснимый только состоянием опьянения — до того он был единичным. История наших дней, напротив, оправдывает его политическими соображениями, характеризуя этим самое себя. Но важнее всего — полное отсутствие ненависти между воюющими сторонами.
Мы вряд ли ошибемся, приписывая это распространение доброты
философии, которая ведь в древности вообще была не столько предметом изучения, сколько руководительницей жизни; что Александр был учеником Аристотеля — это факт и вместе с тем символ. А потому и само нравственное сознание народа находится в зависимости от нравственной философии. Направления, созданные прошлым периодом, с социальной точки зрения могут быть разделены на две категории: философией для народных масс был кинизм, философией для избранных — остальные направления. Теперь между этими двумя социальными слоями появился третий —
интеллигенция, тоже масса, но прошедшая среднюю школу и поэтому слишком воспитанная для того, чтобы находить удовлетворение в грубоватой проповеди кинизма. Навстречу ее потребностям шли два новых направления нравственной философии, созданные именно в нашу эпоху —
эпикурейское и
стоическое. Оба имеют одну общую черту: они примыкают к старым природно-философским теориям (с.89 сл.) и на этом физическом основании строят свою этику.
Дело было рискованное: старая философия природы была затемнена могучим научным движением нашей эпохи, слишком разветвленным и сложным для единичного ума; и, действительно, наши философы-творцы этим движением не затронуты. Все же
Эпикур имел счастье примкнуть к теории хотя и старой, но живучей — к атомистике Демокрита (выше, с. 157); она ему была нужна для механического объяснения мироздания и для устранения божьего промысла также и из области этики. Человек должен следовать своей природе, а она его направляет к удовольствию. И это было старой идеей — мы узнаем в ней гедонизм Аристиппа, как раз к началу нашей эпохи покончивший самоубийством своей проповедью самоубийства из уст Гегесия Киренского, глашатая смерти (выше, с. 154). Но Эпикур навсегда избежал этой опасности тем, что, ставя духовные наслаждения выше чувственных, он при подведении баланса благам и злу получал избыток первых — конечно, для философски просветленной натуры. Высшим же среди этих наслаждений он объявлял дружбу, и действительно, кружок учеников, собиравшийся в Афинах в основанном им «саду», был образцом такой философской дружбы. Таковыми были и дальнейшие последователи этой влиятельной школы: немногого ожидая от жизни и ровно ничего — от смерти, они превращали свою arete — добродетель в бесстрастную доброту, услаждая скоротечную жизнь себе и своим близким и смотря с улыбкой сострадания на потуги других, которые к чему-то стремились, чего-то искали, чувствовали чью-то властную волю в своей груди...
Эти другие чуждались эпикуровского «сада» с его истомой и закаляли свою волю в колоннадах
Стои — той «Пестрой» Стои, которую некогда Кимон основал и Полигнот украсил своими героическими фресками (выше, с. 169). Здесь приблизительно с 300 года до Р.Х. учил
Зенон из кипрского Китиона, построивший свою мужественную этику на физике Гераклита, что теперь было действительным анахронизмом. Но это не чувствовалось; сама же этика стоицизма имела религиозную окраску. Божий промысел есть, и нравственный долг человека — следовать божьему голосу в своей груди. Кто это делает неукоснительно — тот мудрец; а таковой блажен, подобно Зевсу, во всяком положении своей жизни... Даже на пытке? Да, ибо физическая боль не есть зло в глазах мудреца, таковым он признает только порок. А кто не мудрец, тот глупец, и между глупцами различий нет, как нет различий между падением в пропасть того, кто на вершок, и того, кто на аршин оступится. При таких условиях мудрецов окажется очень немного, но много должно быть стремящихся к мудрости. Эти, имея перед собой недоступную им пока arete-добродетель, пусть пока избирают «предпочтительное» (proegmena) и избегают «непредпочтительного» (apoproegmena), оставаясь равнодушны к «безразличному» (adiaphora).
Так этажом ниже этики совершенства стоицизм развил и обставил свою практическую этику, учащую всякого стремящегося к совершенству человека, в чем его
нравственный долг (kathekon, лат. officium) в каждом положении его жизни. Для его определения нужно прислушаться к тому, куда нас зовет божий глас — или, что одно и то же, голос природы в нашей груди. Мы убедимся, что он зовет нас, во-первых, к общению с ближними, во-вторых, к исследованию внешнего и внутреннего мира, в-третьих, к первенству (мы узнаем здесь Элладу с ее агонистикой), в-четвертых, к развитию нашей индивидуальности. Из этих четырех влечений расцветают четыре кардинальные (платоновские) добродетели:
справедливость (dikaiosyne, justitia),
мудрость (sophia, sapientia),
мужество (andreia, fortitudo) и четвертая, для нас непереводимая (sophrosyne, temperantia). Из них первые три имеют своим идеалом
нравственное (to kalon, honestum), четвертая —
пристойное (to prepon, decorum). Но все побуждают нас к деятельности и представляют нам жизнь положительной ценностью. Счастье в жизни возможно, так как возможна добродетель, а
добродетель себе довлеет для счастливой жизни (virtue ad beate vivendum se ipsa contenta esta
[24]). Такова героическая тема стоицизма.
В сущности, это была платоновская автономная мораль о добродетели как здоровье души, только развитая и приноровленная к различным положениям жизни. Обработал это учение стоик II века до Р.Х., родосский уроженец
Панэций в своем сочинении «О нравственном долге». Он же переселился в Рим и стал там учителем кружка Сципиона Младшего, в который входили лучшие люди тогдашнего римского общества. Его проповедь нашла в нем живой отклик; благодаря ей
стоицизм стал национальной философией Рима.
Глава II. Наука
§ 10. Самой утешительной стороной тогдашней жизни в эллинистических государствах является, несомненно, научное движение, которое никогда ни до, ни после не было таким стремительным.
Содействовало ему в значительной степени создание новых
научных центров. Образцами послужили те, которые возникли в Афинах IV века до Р.Х.: Академия Платона и Лицей Аристотеля; к ним присоединились к концу этого века «сад» Эпикура и Стоя Зенона. Благодаря Деметрию Фалерскому (ученику Аристотеля), который в 317-308 годах до Р.Х. управлял Афинами в качестве наместника македонского царя Кассандра, Лицей получил значение так называемого «юридического лица», то есть право владения имуществом как учреждение; это право было затем присвоено и остальным из названных философских школ. Тот же Деметрий Фалерский, будучи в 308 году изгнан Деметрием Полиоркетом, принял приглашение Птолемея I Сотера поселиться у него в Александрии; он внушил ему мысль основать и у себя научное учреждение наподобие афинских. Так возник
александрийский Мусей (Museion, то есть «святыня муз»), совмещавший в себе наши академию, университет и библиотеку (но не музей в нашем смысле слова). Благодаря щедротам первых двух Птолемеев этот Мусей далеко оставил за собой афинские учреждения. Особенно славной была его библиотека, в которой насчитывалось уже при Птолемее II Филадельфе без малого пятьсот тысяч «книг»; в I веке при Клеопатре число книг достигло семисот тысяч. По примеру Птолемеев и Селевкиды основали библиотеку в
Антиохии и Атталиды в
Пергаме, причем второй по важности стала пергамская (около двухсот тысяч «книг»).
Примечание. Античная «книга» (biblion, liber) была объемом значительно меньше нашего тома; так, сочинение Геродота в девяти книгах у нас издается обыкновенно в двух небольших томах. В Египте с его папирусными зарослями материалом для книги служила папирусная бумага; таковая имела вид узких столбцов, которые приклеивались краями друг к другу и вместе образовали свиток (volumen). Несколько свитков того же сочинения или автора складывали вертикально в ведрообразный сосуд, scrinium; такими сосудами уставлялись полки книжных шкафов, что придавало им вид, очень непохожий на наши библиотеки. Так как вывоз папируса из Египта был затруднен, то пергамским царям пришлось позаботиться о другом материале для своих книг. Это повело к изобретению выделки тонкой бумаги из свиной кожи — той бумаги, которая поныне сохранила название своего города-изобретателя, — пергамента (лат. pergamena, дополнительно membrane). Из пергамента можно было тоже делать свитки, но можно было также, складывая его листы по четыре в «тетради» (от греч. tetradion, то есть «четверка», лат. quaternio), несколько таких тетрадей переплести в «том» (tomos, «обрез»; лат. codex). Такая книга совсем походила на нашу. Со временем научились и папирусные листы складывать в тетради, получились codices chartacei по образцу codices membranacei. Все же в течение всей древности формы свитка (volumen) и тома (codex) встречались рядом; лишь в Средние века том окончательно вытеснил свиток.
Рассмотрим в систематическом порядке развитие наук в нашу эпоху.
А.
Математика, зародившаяся в школе Пифагора и развитая еще в IV веке до Р.Х. Евдоксом Книдским, получила своего первого систематизатора в Александрии в лице
Евклида, члена Мусея еще при Птолемее I Сотере; его «Начала» (Stoicheia) в XIII книгах (I-VI — планиметрия, VII-Х — алгебра на геометрической основе, XI-XIII — стереометрия прямоугольных тел) стали для всей древности руководством элементарной математики, его «аксиомами» и «теоремами», его терминологией и методами доказательств мы пользуемся и поныне. Насколько он сам двинул науку, этого мы, за неимением сочинений его предшественников, определить не можем; во всяком случае, он был основателем александрийской математической школы, из которой вышли
Эратосфен, систематизатор теории чисел, и величайший математик древности —
Архимед Сиракузский Архимед изобрел цифровую систему, давшую ему возможность выразить какое угодно число («число песка морского», psammites, как он шутливо его назвал в сочинении того же названия); он же первый, определив отношение окружности к диаметру (число π), построил на его основании стереометрию круглых тел. Его младший соперник в пергамской школе,
Аполлоний Пергский, создал теорию конических сечений; за ними
Гиппарх (
около 150 года до Р.Х.) открыл сферическую, а Герои Александрийский (около 100 года до Р.Х.) — плоскую тригонометрию.
Примечание. Старинная греческая цифровая система была — подобно поныне употребляемой римской — довольно неуклюжа. Единицы до 4 выражались палочками; 5 обозначалось буквой П (ПЕNТЕ — «пять»), 6 = ПI и т.д. до ПIIII = 9, после чего Δ (ΔЕКА — «десять») означало 10, ΔΔ — 20 и т.д.; для 50 употреблялся знак, слитный из Δ и П. Далее Н = 100 (от HEKATON — «сто», причем Н еще удерживает значение придыхания, см. выше, с.86); X = 1000 (ХIΛIОI — «тысяча»), М = 10 000 (MYPIOI — «десять тысяч»), а для чисел 500, 5000, 50000 знаки, слитные из Н и П, X и П. М и П, так что далее числа 99999 эта сложная система не служила. При этих условиях имела огромное значение мысль воспользоваться всеми знаками алфавита для обозначения единиц, десятков и сотен; а так как для этого нужно было 27 знаков (1-9, 10-90, 100-900), а в греческом алфавите было их от альфы до омеги только 24, то его дополнили воскрешением вава (6) и коппы (90) и прибавлением нового знака для 900. Так-то можно было обозначить все числа от 1 до 999; для чисел от 1000 до 999999 брали те же знаки, прибавляя к ним черточку слева внизу; от 1000000 до 999999999 опять те же, прибавляли две черточки и т.д. Теперь действительно можно было выразить «число песка морского»; но главное то, что каждая единица (десяток, сотня) выражалась одним знаком, как у нас. Теперь оставалось сделать только одно усовершенствование — найти знак для нуля. Его сделали счастливые продолжатели математических открытий эллинов — средневековые арабы, заменившие греческую цифровую систему индийской, из которой развилась наша.
Б. Успехи математики не замедлили отразиться на пограничных дисциплинах
естественных наук, прежде всего
математической географии и
астрономии. Попытку, очень несовершенную, определить окружность земли сделал еще перипатетик
Дикеарх; ее возобновил с решающим успехом вышеназванный
Эратосфен, очень разносторонний человек, который за свои выдающиеся, но все же не первостепенные успехи в различных областях не только наук, но и поэзии получил полупочтительное, полунасмешливое прозвище ho beta — по
второй букве греческого алфавита.
Примечание. Эратосфену было сказано, что в городе Сиене (Syene, ныне Асуан, у первого порога Нила) в определенные дни солнце освещает дно самых глубоких колодцев (знаменитое на всю древность «сиенское диво», ради которого туристы ко времени летнего солнцеворота посещали Сиену так же, как они ныне к тому же времени посещают Авасаксу или Нордкап). Это значило, что Сиена лежит на тропике (Рака), где солнце к летнему солнцевороту стоит в полдень в зените, то есть в направлении радиуса земли. Эратосфен в тот же день и час измерил для Александрии угол уклона полуденного луча от вертикали, то есть угол между сиенским и александрийским радиусами (угол а); длина же дуги между Александрией и Сиеной (AS) была известна. Обозначая длину искомого меридиана через М, мы получаем пропорцию: «М : AS = 180 : а». При этом у него меридиан получился в 22 350 километров, на 10% больше действительного — маленькая неточность, объясняемая отчасти тем, что он еще не мог считаться с приплюснутостью земного шара у полюсов.
Что касается
космографии, то уже пифагорейцы, как мы видели, оставили геоцентрическую систему в пользу гипотезы центрального очага (выше, с.91); но так как эта гипотеза не имела научного основания, то Аристотель вернулся к геоцентризму как наиболее убедительному при состоянии астрономической науки в его время. Но уже его ученик
Гераклид Понтийский, открывший также вращение земли вокруг своей оси вследствие наблюдений над путями планет (особеннб над их кажущимися регрессиями), пришел к заключению, что Меркурий и Венера — спутники Солнца, а не Земли; путем более точных вычислений
Аристарх Самосский, современник Птолемея II Филадельфа, убедился, что и
Земля вращается вокруг Солнца, то есть он впервые сделал то открытие, которое через 1800 лет вторично сделал Коперник и подтвердил Галилей. Сходство состояло и в том, что и Аристарх был обвинен в безбожии, а именно стоиком Клеанфом, учеником Зенона. Но разница времен сказалась в том, что это обвинение не произвело никакого действия, и Аристарх продолжал свои гениальные работы в обсерватории александрийского Мусея. Там же столетием спустя
Гиппарх, величайший астроном Античности, путем наблюдений над фазами Луны и затмениями Солнца вычислил расстояние Земли от обоих светил и составил первый научный звездный атлас, в котором нашло
свое место до тысячи звезд.
Но одновременно с поступательным движением астрономии появляется на горизонте греческого мира и ее извращение —
астрология. Ввел ее халдеец
Берос[25], приглашенный читать лекции о своей науке на острове Косе, который стал в нашу эпоху аристократическим курортом. Все же при могучих успехах греческой науки астрология в нашу эпоху влачила довольно скромное существование; она стала умственной силой лишь в эпоху римской империи благодаря упадку наук. Тогда мы ею и займемся (ниже, отдел В, § 11).
Для
физической географии IV век был очень плодотворным: путешествия
Пифея Массалийского познакомили греков с северным побережьем Европы вплоть до «крайней Фулы» (ultima Thule) с ее полуночным солнцем; походы Александра и сопутствовавшие им ученые экспедиции и исследования его так называемых «бематистов» — со всей передней Азией и ее сказочными морями. Эти последние подтвердили гипотезу Анаксимандра (выше, с.90) о кругоземном океане; когда поэтому полководец Селевка, Патрокл, предпринял по его поручению путешествие по Каспийскому морю, он не достиг его северного берега, будучи заранее убежден, что это море — залив кругоземного океана. Результаты подвел для начала III века до Р.Х. вышеназванный
Дикеарх, автор первого научного сочинения о географии; его усовершенствовал позднее
Эратосфен, заключивший знакомый грекам мир в изобретенную им систему меридианов и параллелей — ту же, которой пользуемся и мы.
Третьим в числе великих географов был тоже уже знакомый нам
Гиппарх.
Придатками географии были, во-первых, геология, интерес к которой был создан особенно вулканическими явлениями. Их
Посидонии Родосский (I век до Р.Х.) объяснял сжатыми под земной корой газами. Затем
зоология и
ботаника: Птолемеи заводят в Александрии первый зоологический сад; Александр Великий интересуется флорой завоеванного им мира и посылает ее экземпляры в Лицей, где ими воспользовался Теофраст. Но в дальнейшем зоологическая система Аристотеля и ботаническая Теофраста не были превзойдены, если не считать успехов фармакопеи, нераздельной с
медициной.
Эта последняя вступила в новый фазис после призвания в Александрию главных представителей и косской школы —
Герофила, и книдской —
Эрасистрата. Им обоим принадлежит честь открытия анатомии и физиологии: мозг как центр нервной системы; различие сенсорных и моторных нервов; сердце, артерии и вены (Эрасистрат едва не открыл кровообращения, но ему помешало унаследованное от книдской школы предубеждение, что артерии наполнены исходящим от легких воздухом); пищеварение. Успеху обеих наук содействовал интерес к ним самого Птолемея Филадельфа: будучи слабого телосложения, он жаждал открытия «эликсира жизни» и с этой целью предоставлял своим медикам не только трупы для препарирования, но даже осужденных преступников для вивисекции. Эту школу позднее стали называть
догматической, так как она исходила из определенных положений о составе и функциях нашего организма, основывая на них свои теории происхождения болезней («этиологию») и из них выводя принципы лечения («терапию»).
Протестом против нее явилась эмпирическая школа, основанная около 250 года до Р.Х.
Филином Косским; пренебрегая этиологией, она выводила свои терапевтические принципы исключительно из опыта, наблюдая, какое средство в каких случаях приносило пользу. Независимо от своих крупных заслуг в области терапии, эта школа важна и для философии тем, что с большой тщательностью разработала эмпирический метод — тот самый, о котором несправедливо полагают, что он лишь в XVI веке был исследован Бэконом.
Все же своим пренебрежением к медицинской этиологии и она, в свою очередь, вызвала протест; в I веке до Р.Х. некто
Асклепиад в Риме основывает так называемую
методическую школу с целью примирить обе предыдущие. Но научный дух стал уже убывать, и сам Асклепиад не был свободен от некоторого кудесничества. Люди жаждут чудесных исцелений, бесконечного продления жизни, воскрешения мертвых; секулярный период истории медицины, начавшийся с Гиппократа, приходит к концу, надвигается период новой сакрализации, которая через империю передается Средневековью.
С математикой граничит и
физика в нашем смысле, для которой ученик Теофраста, последний всеобъемлющий перипатетик,
Стратон из Лампсака установил важность
эксперимента. Пограничную область мы называем
механикой. Основание ей положил еще Аристотель, открывший закон параллелограмма сил; но своего расцвета она достигла в лице гениального
Архимеда Сиракузского, открывшего центр тяжести и систему рычагов («Дай мне точку опоры, и я сдвину землю», — говаривал он), механическое значение наклонной плоскости («Архимедов винт»), гидростатику и удельный вес (венец Гиерона и знаменитое
heureka, «эврика»). Эти открытия и дали ему возможность изумлять осаждавших Сиракузы римлян все новыми и новыми «машинами». Открытую Архимедом гидростатику развил столетием спустя
Ктесибий, изобревший гидравлический орган (первообраз нашего духового), водяные часы и пожарный насос; его современник
Герон, прославившийся также своими автоматами, открыл давление воздуха и пара, что дало ему возможность изобрести сифон и паровую турбину... До локомотива уже было недалеко, и он был бы изобретен, если бы не упадок наук, начинающийся с I века до Р.Х.
Как видно из сказанного, бескорыстно преследуемое чистое знание дает богатые плоды также и в области прикладного. Земли Архимед не сдвинул, зато он сдвинул огромную обузу физического труда с многострадальной выи человека. Действительно, после его гидростатических открытий уже не трудно было сделать то изобретение, социальное значение которого превзошло значение всех остальных, — изобретение
водяной мельницы. Кем оно было сделано, мы не знаем; но его важность ясна из сказанного выше о работе мукомолок (с.25), а также из следующей замечательной эпиграммы, приветствовавшей его:
Дайте рукам отдохнуть, мукомолки; спокойно дремлите,
Хоть бы про близкий рассвет громко петух голосил.
Нимфам пучины речной ваш труд поручила Деметра:
Как зарезвились они, обод крутя колеса!
Видите? Ось завертелась, а оси могучие спицы
С рокотом движут глухим тяжесть двух пар жерновов.
Снова нам век засиял золотой: без труда и усилий
Начали снова вкушать дар мы Деметры святой.
Из прочих отраслей физики
акустика была основана, как мы видели, еще Пифагором (выше, с.90); коренной закон, что проводником звука является воздух, был открыт
Аристотелем.
В дальнейшем своем развитии акустика переходила в теорию музыки, которую особенно тщательно обработал ученик Аристотеля,
Аристоксен. Параллельная же
оптика только теперь была поставлена на научную высоту. Вопрос о происхождении зрения после наивных попыток предшественников (теории «незримых щупальцев» и унаследованной Эпикуром теории отделяющихся от предметов «подобий») был решен
Аристотелем («теория лучей»; проводник необходим, но им является не воздух — чем была подготовлена теория эфира). Из отделов оптики наиболее симпатичной грекам, вследствие своей математической ясности, была
катоптрика, то есть учение об отражении лучей; ее главный закон о равенстве углов падения и отражения известен уже
Евклиду, а
Архимед открыл теорию кривых зеркал — даже если считать легендой сообщаемое нам об его исполинских кривых зеркалах, посредством которых он зажигал римские корабли. Очень жаль, что параллельная
диоптрика (о преломлении лучей) не нашла себе такого же гениального исследователя; зажигательное стекло (лупа) было известно уже в V веке до Р.Х., но им пользовались для фокусов, между тем как научное исследование его явлений повело бы к изобретению микроскопа и телескопа.
Подавно в зародышевом состоянии были
магнетизм и
электричество; знали только основные явления, давшие название соответственным наукам — о «Магнитском» (то есть добываемом в лидийской Магнесии) железе и об «электре», то есть янтаре.
Химия существовала издавна в виде
металлургии, то есть чисто прикладного умения добывать чистые металлы из руд и сплавов. Свое название (chemia, по-египетски «чернокнижие») она получила, однако, не от этой техники, а от темной практики египтян, которые как раз в нашу эпоху бились над задачей подделывать золото. Наружу они всплывают лишь в эпоху империи; тогда мы и займемся этой наукой.
§ 11. Из гуманитарных наук
психология деятельно разрабатывается философами различных направлений, но не в том смысле, который мы ныне присваиваем этому слову: спорят не о душевных явлениях, а — по стопам Платона и Аристотеля — о душе как о таковой, духовное ли она существо или материальное, простое или сложное, или даже вовсе не существо, а лишь известная настроенность (harmonia) наших физических органов. Понятно, что в зависимости от этого вопроса решался и вопрос о ее бессмертии, которое стоики признавали, эпикурейцы — отрицали. Душевные же явления обсуждались только — но зато очень охотно — поскольку они затрагивали область этики. Относящихся сюда трактатов — о гневе, о дружбе, о старости, о печали, о согласии, о благородстве и т.д. — наша эпоха произвела массу, и они охотно читались и в Греции, и вне ее и много содействовали облагорожению нравов. Сюда же относится и литература о человеческих характерах, из которой нам сохранен любопытный образчик — сочинение о характерах
Теофраста.
Вопрос о
языке не переставал интересовать греков еще со времени софистического движения; спорили и о его составе, и о его возникновении. Это возникновение можно было представить себе либо природным путем, либо путем уложения (physei или thesei; см. выше, с.158); кто допускал первое, тот должен был мириться со всеми неправильностями (аномалиями) языка, кто — последнее, тот должен был стремиться к их искоренению как затемняющих мысль уложителя. Так-то лингвисты нашей эпохи распадаются на
аномалистов и
аналогистов: первых мы находим в пергамской, вторых — в александрийской школе. Правы были первые, но вторые своими исследованиями принесли более пользы науке. Итоги их работам подвел
Дионисий Фракиец, александрийский ученый II века до Р.Х., составитель первой греческой грамматики — только морфологии, впрочем — с частями речи, системами склонений, спряжений и т.д. Эта techne Дионисия — мать всех европейских грамматик с русской включительно. Независимо от этого, в Александрии производились тщательные лингвистические исследования по всем областям литературы, результаты которых попали в словари следующей эпохи; так,
Дидиму Александрийскому (I век до Р.Х.) принадлежал исполинский труд о языке трагических и комических поэтов.
Историю религии мы имеем пока в виде
мифологии, в которой главное место принадлежит огромному сочинению
Аполлодора «О богах» (сохраненная нам под его именем драгоценная, но сухая bibliotheke — более позднего происхождения).
Политическая история тоже разрабатывалась очень деятельно; прежде всего, конечно, история
современная, давшая для каждого поколения по несколько представителей, причём почин принадлежит самому Птолемею I Сотеру, описавшему трезво и достоверно поход своего царя Александра. Кроме того, и древняя история различных городов изучалась часто на основании архивного материала и вещественных памятников; особенно широка была деятельность
атфидографов, последователей Гелланика (выше, с. 176). Наконец, и варварские народы чувствуют потребность изложить для греков и по-гречески свою историю; так, историю Египта пишет жрец
Манефон, историю Вавилона — знакомый нам уже (выше, с.219)
Берос, историю Рима —
Фобий Пиктор (все в III веке до Р.Х.) — кратко, но толково и достоверно; даже знаменитый
Ганнибал счел нужным изложить по-гречески историю своих походов.
Но едва ли не самой важной стороной деятельности ученых нашего периода в области гуманитарных наук были их работы по
истории искусств, специально по
истории литературы. Главным образом ради литературных целей были основаны Птолемеями и Атталидами их огромные библиотеки; первой задачей их придворных ученых («грамматиков», как они себя называли, то есть по-нашему — филологов) было их
каталогизировать. Эту задачу исполнил для Александрии
Каллимах (он же и поэт, о чем на с.229) в своем гигантском «Каталоге просиявших во всех областях образованности и всех их сочинений» в ста тридцати двух книгах; это был не простой каталог, а подробный историко-литературный свод. Затем нужно было позаботиться о критически проверенных
изданиях важнейших авторов; таковые составил для Гомера —
Зенодот еще в III веке до Р.Х.; для драматургов и лириков —
Аристофан византийский; еще раз для Гомера, но с гораздо большим запасом эрудиции — знаменитый
Аристарх Самофракийский (следует отличать от Самосского, выше, с.219), критик II века до Р.Х., учитель вышеназванного Дионисия Фракийца и многих других. Критиком он был в том смысле, что он тщательно проверил текст Гомера по имевшимся у него старинным спискам; но так как он попутно, будучи очень чутким к поэтической красоте человеком, объявлял подложными те или другие стихи по эстетическим соображениям, то его имя стало нарицательным также и в смысле строгой литературной критики. Нарицательным стало также имя того критика, который был как бы карикатурой на него, — Зоила, приобретшего печальную известность своими иногда остроумными, но чаще нелепыми придирками к Гомеру, к которым давало немало поводов беспечное раздолье его эпического стиля. Независимо от сказанного производились — и названными учеными и массой других — кропотливые и объемистые исследования по самым различным сторонам изучаемых ими литературных произведений; их результаты отчасти нам сохранились в дошедших до нас из следующих эпох так называемых
схолиях, то есть античных комментариях на наиболее читаемых авторов.
Одним словом, кипучая деятельность во всех областях науки — вот умственная сигнатура нашей эпохи. Никогда ни до. ни после античный мир ничего подобного не видел; а новый увидел впервые нечто подобное в эпоху возрождения Античности в XV-XVI веках.
Глава III. Искусство
§ 12. Изобразительные искусства.
Архитектура. Секулярный элемент, внесенный в архитектуру аттического периода задачей стои, усугубляется в наш эллинистический: впервые после ахейских времен она посвящает свои художественные силы царскому дворцу. За царями потянулись сановники, за ними — зажиточная буржуазия: богатый частный дом и особенно вилла — тот же дворец, только в меньших размерах. Все же античный дворец не был похож ни на средневековые замки, ни на большинство наших дворцов; скорее о нем могут дать представление восточные «серали» и «киоски». Это был целый комплекс зданий, прихотливо разбросанных среди зелени парка и вдоль морского берега (где таковой был), отчасти даже — в самом море, на утесах или искусственных конструкциях. Конечно, из этих зданий одно было главным; но и его строили не столько ввысь, сколько вширь, составляя его из целой системы перистилей с окружающими их жилыми и парадными покоями, причем и здесь старались ввести природу в человеческое жилище, обращая внутренние части перистилей в цветники или скверы, часто с прудами и фонтанами. Для колоннад предпочитали роскошный коринфский ордер (выше с. 164): К украшению дворца приспосабливали и скульптуру (как статуарную, так и рельефную), и живопись — последнюю особенно для стен перистилей и покоев, но также и потолков и даже полов (так называемая мозаика, см. ниже, с.228). Получилось очень изящное и жизнерадостное целое.
Но не только дворцы и частные дома — также целые
города стали предметом строительного искусства. Семена рационализма, зароненные в этом отношении софистическим движением (особенно Гипподамом Милетским) и тогда высмеянные общественным мнением, теперь только дали богатый урожай. В старину города вырастали как-то сами собой, улицы внутри города были узкими и кривыми, и только предместные. развившиеся из постепенно застраиваемых дорог, были шире и прямее. Теперь производится предварительная распланировка города; улицы прокладываются прямые и скрещивающиеся под прямым углом, причем особенной широтой и роскошью отличаются оба главных, тоже скрещивающихся под прямым углом проспекта. Почин принадлежит тут строителю Александрии,
Динократу, одному из корифеев архитектуры всех времен.
Рядом с этой широко развивающейся светской архитектурой
сакральная отступает на задний план, но все же и она не отсутствует, хотя бы вследствие того, что новые города должны были иметь и свои
храмы. Особенно замечательными были новый храм Артемиды Эфесской, построенный вместо старого, сожженного Геростратом в ночь рождения Александра Великого, а равно и новый храм Аполлона в Дидимах близ Милета. Идеалом и здесь была пышность: огромные размеры, навеянные архитектурными гигантами Востока, целые леса высоких колонн и т.д. Интересно, что и
алтари становятся предметом архитектуры: их воздвигают на мраморных, богато украшенных террасах (ниже, с.227). Заманчивые задачи ставились художнику в тех случаях, когда культ бога, которому строился храм, был сочетанием восточной и греческой обрядности, как, например, греко-египетский культ Сараписа (ниже, § 14); к сожалению, мы слишком мало знаем об их исполнении. А впрочем, архитектура в строго восточных стилях продолжалась по старым образцам и в нашу эпоху (храмы птолемеевского Египта в Фивах и т.д.), довершая этим архитектурную пестроту нашей картины.
Б.
Скульптура. Для скульптуры эллинистической эпохи характерна виртуозная свобода в технике: владея ею с самого начала мастерски, она уже не развивается, а только применяет свое умение на все новых и новых задачах. Первоклассных мастеров после Лисиппа уже не было; все же те, которые творили теперь, сошли бы за таковых, если б жили в предыдущем периоде. А творится, благодаря большому спросу и не уступающему ему предложению, очень много — более, чем за оба предыдущих периода, вместе взятых.
Сакральная скульптура опять-таки отступает на задний план. Наша эпоха создала только один новый, действительно замечательный божественный тип — тип Сараписа, главного бога птолемеевского Египта. Греки видели в нем своего Аида, то есть «подземного Зевса»; художник Бриаксий изобразил его с чертами, родственными Зевсу, но в то же время с отпечатком ласковой грусти на лице, затененном ниспадающими на лоб волосами. Это было нечто новое: к этому богу скорее можно было обратиться скорбящему, чем к светлым владыкам Олимпа.
Но, впрочем скульптура даже и в религиозной области была по своему характеру светской. Преобладают изображения молодых божеств, в лики и образы которых можно было влить всю доступную художеству светскую, даже чувственную красоту. Немало чудных произведений возникло тогда: Аполлон Бельведерский, Венера Милосская, Капитолийская, Медичи, Ника Самофракийская, Тихе Антиохийская (выше, с.213) и т.д. Все же их мы еще можем представить себе в храмах; но это совсем невозможно по отношению к статуям и группам героического, то есть мифологического характера. В них художник мог предоставить себе полную свободу, и он воспользовался ею для выражения
пафоса в такой степени напряженности, которая далеко оставила за собой попытки Скопаса в предыдущем периоде (с. 167). Образцом может служить знаменитый Лаокоон.
В строгой скульптуре замечательна многофигурность — тоже признак пышности тех времен. Всех в этом отношении превзошел Аттал I Пергамский, посвятивший Афине два памятника в честь своей победы над галлами (выше, с. 193), один у себя в Пергаме, другой — в Афинах. Из обоих нам сохранены образчики в копиях; к первому относился «Умирающий галл», знаменитый своим сдержанным, но тем более потрясающим трагизмом в изображении наступающей смерти.
Нововведением эллинизма был статуарный
жанр, продукт излюбленного в те времена реализма. Художники охотно изображали какого-нибудь морщинистого рыболова, небрежно одетую крестьянку и даже отвратительную старуху, влюбленно ласкающую свою бутылку. Конечно, ни храмовые ограды, ни городские площади не имели места для таких статуй; для того, чтобы они могли возникнуть, требовалась прихоть вельможи и укромная тень его перистиля.
Портретные статуи и гермы уже в IV веке до Р.Х. перестали быть редкостью; все же тогда художники еще стремились к идеализации изображаемого. Полный реализм мы встречаем только ныне — и в то же время такую легкость техники, что портрет делается почти общедоступным и становится едва ли не главным предметом статуарного производства.
Со статуарной скульптурой соперничает
рельефная. И она посягает на религиозные сюжеты, и притом в невиданных дотоле размерах; такова знаменитая гигантомахия пергамского царя Евмена II (во II веке до Р.Х.), украшавшая террасу воздвигнутого им алтаря, по выражению пафоса не уступающая Лаокоону. Но гораздо более характерным для эллинистической эпохи является
жанровый и преимущественно идиллический рельеф — сцены из сельской жизни, в которых человеческие фигуры чередуются с коровами, козами и т.д. И здесь опять появляется старинный, но оттесненный в классическую эпоху (выше, с. 165) ландшафтный фон — это было вполне своевременно, так как при совершенстве эллинистической техники этот фон выходит вполне убедительным. Жанровый характер не страдал, если вместо бытового сюжета художник избирал мифологический — Андромеду, освобождаемую Персеем после сражения с морским чудовищем, или Селену, спускающуюся к сонному Эндимиону: богатый ландшафтный фон превращал и мифы в идиллию.
Одну серьезную утрату понесла рельефная скульптура в нашу эпоху: строгий закон Деметрия Фалерского (выше, с.216) о похоронах упразднил аттическую надгробную плиту с ее красивыми изображениями (выше, с. 179). Правда, ее сменяет рельефный
саркофаг; но при всех красотах особенно сидонских саркофагов с подвигами Александра и плакальщицами нельзя не пожалеть об элегической участливости афинской надгробной скульптуры IV века до Р.Х.
В.
Живопись нашей эпохи находится под влиянием триумвирата, представлявшего собой самый яркий расцвет греческой живописи вообще; его членами были представитель сикионской школы Апеллес, затем его соперник
Протоген в Родосе и
Антифил в Александрии. Из них первые два были идеалистами; Апеллес особенно прославился своей Афродитой (Косской), которую он изобразил в тот момент, когда она, выходя из моря, выжимает свои волосы; Протоген — своим Иалисом (героем-эпонимом одной из родосских общин). За первую Август впоследствии подарил косцам сто талантов; что касается Иалиса, то еще при жизни художника Деметрий Полиоркет (выше, с. 211), осаждавший Родос, не решился направить свои разрушительные машины против той части города, где он находился, и скорее пожертвовал своей победой. Напротив, Антифил был реалистом; его специальностью был
жанр и так называемая «мертвая природа». А так как из идиллического жанра естественно развивается
ландшафт, то александрийская живопись пошла по пути, параллельному рельефной скульптуре. Параллельными они были и по назначению: естественным местом для творений обеих были стены знатных домов. Мы судим об обеих по сделанным в Помпеях находкам; в связи с ними (ниже, отдел В, глава III) мы и вернемся к этому вопросу.
Апеллес, кроме того, был избранным портретистом Александра Великого и первых диадохов; и действительно, в эллинистическую эпоху живописный портрет соперничает со скульптурным. О нем мы, к счастью, можем судить: благодаря возникшему в нашу эпоху в Египте странному обычаю хоронить с мумией покойника и его портрет в естественную величину нам сохранен целый ряд таких ярких снимков с тогдашней действительности, найденных в гробницах Фаюмского оазиса.
Керамика приходит в упадок: зажиточные люди предпочитают металлические сосуды, что ведет к развитию
торевтики (то есть резьбы по металлу), а для бедноты не старались. Зато возникает, благодаря знакомству с разноцветными мраморами Азии и Африки, новая техника живописи, которой предстояла великая будущность, —
мозаика, то есть составление картин посредством сложения мелких разноцветных кусочков мрамора (мозаика из цветной стеклянной пасты, позднее гордость Венеции, встречалась лишь изредка). И она нам известна главным образом из помпейских находок; особенно славится мозаичное изображение битвы Александра с Дарием, занимавшее пол целой комнаты в так называемой casa del Fauno. Несомненно, что из всех родов живописи мозаика была самым долговечным; правда, чрезмерной тонкости от нее нельзя было требовать.
§ 13. Мусические искусства. Старинная хорея, мать всех мусических искусств в Греции, продолжает существовать и в нашу эпоху, но без особого блеска; наибольшей славой пользуются произведения отдельных, обособленных искусств. Любят обособленную и от поэзии и от пляски чисто инструментальную
музыку, ради которой каждый крупный город заводит наравне с театром свой «одеон»
[26]; а равно и обособленную если не от музыки, то от поэзии
пляску, процветающую в игривых и страстных «пантомимах». Об этих двух искусствах мы мало знаем; зато очень много об обособленной от обеих своих сестер
поэзии нашей эпохи, для которой создан особый термин —
александринизм.
Действительно, в области поэзии Александрия была главным умственным центром вселенной; умственным же центром Александрии была ее библиотека.
Книга задает тон; впервые в истории культуры поэзия пишется не столько для слушателей, сколько для читателей. А поэма-книга была несовместима с хореей. Зато она представляла то удобство, что в ней могли воскреснуть также и те роды поэзии, которые давно уже умерли, когда исчезла обстановка для их живого исполнения. Способствовало же их воскрешению своего рода
романтическое настроение эпохи, естественно вызываемое сравнением жалкого современного состояния собственно Греции с ее славным прошлым. Но возродились они не в прежнем виде, а в новом: времена стали требовательны к изяществу и строгости форм; это раз. Что же касается содержания, то религиозность старой поэзии тянула ее к хорее; для поэмы-книги требовалась другая приманка, и ею стала любовь. Книжность, романтизм, изысканность, эротика — вот характерные признаки «александрийской» поэзии.
Ее признанным главой был
Каллимах (при Птолемее II Филадельфе), ученый поэт, подобно многим, и автор вышеназванного каталога (с.224). Эпосом он, впрочем, пренебрегал, не желая тягаться с Гомером; его коньком были так называемые «
эпиллии» (то есть маленькие эпосы), вроде той «Гекалы», в которой он описывал угощение Тесея старой крестьянкой Гекалой перед его боем с марафонским быком; затем
элегии, в которых он воскресил эротизм Мимнерма (выше, с.99), приправив его, однако, изысканной ученостью. Его элегии носили заглавие «Aitia», то есть «Причины», так как их объединяло общее стремление выяснить причину того или другого имени, обычая, достопримечательности и т.д.; но что это стремление уживалось с эротическим характером, доказала недавно (отчасти) возвращенная нам «Кидиппа», повесть о счастливой любви Аконтия и Кидиппы, пользовавшаяся всю древность таким же непонятным для нас успехом, каким некогда у нас ее минорная вариация — «Бедная Лиза». Воскресил он затем и
ямб, примыкая, как он заявляет сам, к Гиппонакту (выше, с. 103), но все же очень осторожно: грубая откровенность клазоменского босяка не шла к изящному царедворцу, каким был Каллимах. И наконец, он воскресил и
эпиграмму, и в этой области нашел самых многочисленных подражателей; лучшие их произведения собрал к концу нашего периода
Мелеагр в своем «Венке», составляющем ядро сохранившейся нам так называемой «Палатинской антологии»
[27], поныне определяющей наше представление об «антологическом» стиле.
Как видно из этого обзора, поэты-специалисты, характерные для предыдущих эпох, в нашу уступают место поэтам-энциклопедистам; таким был, в сущности, и
Феокрит, современник Каллимаха, так как его «
идиллии», согласно значению слова (eidyllion — уменьшительное от eidos, «род» поэзии) обнимают и сценки из сельской и городской жизни, и эпиллии, и энкомии, и лирические стихотворения, и эпиграммы. Но так как в его сборнике на первом плане стоят сценки из сельской жизни, то сам термин остался за ними. Впрочем, пастушеская жизнь в них описывается не реалистически, а с сильным привкусом александрийского романтизма, но все же очень талантливо; мы охотно привлекаем, как иллюстрацию к ним, современный им идиллический жанр в живописи и рельефной скульптуре. Но еще более непосредственное наслаждение доставляют нам его городские сценки, или
мимы, среди которых имеются такие жемчужины, как «Ворожеи» и «Сиракузянки». Реалистом в области мима был недавно нам возвращенный Герод, подражатель Гиппонакта не только по форме, но и по духу.
Воскресителем
героического эпоса был
Аполлоний Родосский, ученик, враг и преемник Каллимаха, в своих «Argonautica», в которых он не без таланта дополнил объективность эпического повествования описанием любви обеих героинь, идиллической Инсипилы и трагической Медеи; воскресителем
дидактического — Арат Сольский, эпос которого о созвездиях («Phaenomena») был одной из любимых книг этой и следующей эпох.
Лирика (мелическая) имела многих представителей — Асклепиада, Гликона и других, но мы судим о ней по их гениальному подражателю Катуллу (ниже, отдел Б, § 14). Не отсутствовала и
трагедия; в ней подвизались семь поэтов, объединяемых под именем «трагической плеяды» (слово «плеяда» означает именно «седмицу», собственно «семизвездие»). Но о них мы ничего не знаем, кроме имен, да и те не очень твердо. Зато мы знаем, что классическая трагедия в нашу эпоху властвовала над умами; каждый город имел свой театр, и бродячие труппы так называемых «искусников Диониса» распространяли ее повсюду вплоть до далекой Парфии.
О
комедии придется поговорить особо, так как
ее центром были не Александрия и вообще не царские столицы, а те же Афины, которые произвели и комедию предыдущих эпох. В нашу эпоху здесь под влиянием изучения философии и Еврипида ряду дельных поэтов удалось побороть шарж и однообразие среднеаттического направления (выше, с.175) и создать ту серьезную
новоаттическую комедию нравов, которая через своих римских подражателей (ниже, отдел Б, § 14) стала родоначальницей нашей. Была она очень плодовита: древние насчитывали до шестидесяти четырех поэтов этого направления, писавших до ста пьес каждый. Главными были
Филемон и
Менандр, из которых первый славился эффектностью фабул, второй — психологической продуманностью характеров. Мы можем непосредственно судить только о втором, ряд комедий которого, правда, более или менее искалеченных, найден недавно в Египте. А впрочем, расцвет также и этой области поэзии прекращается к середине III века до Р.Х. В Александрии этой серьезной комедии соответствовал
мим, по содержанию схожий с современными кинематографическими ужасами и рассчитанный на такую же публику. Зато он был очень живуч, и его исполнители, скоморохи обоего пола, не только пережили крушение античного мира, но и перешли границы тогдашней «вселенной» и рассеяли семена драмы по дальневосточным землям.
Еще более обильной была проза эллинистической эпохи. Из ее трех классических отраслей
историография со времени деятельности «исократовцев» (выше, с.179) распадается на два параллельных направления:
прагматическое, продолжавшее трезвые традиции Фукидида, и
риторическое, стремившееся к эффектности в изложении событий и в обрисовке характеров. Такие личности, как Александр Великий, не могли не давать богатой пищи второму направлению; по почину его историка-ритора
Клитарха повесть о его деяниях украшается все новыми и новыми фантастическими узорами и вырождается под конец — правда, уже в следующую эпоху — в тот роман об Александре Великом (Псевдо-Каллисфена), который облетел весь мир и в значительной степени оплодотворил поэтические литературы новой Европы, включая славянские. Нам из огромного числа историков нашего периода сохранен только один —
Полибий из Мегалополя, сын стратега Ахейского союза (выше, с.196); он и сам служил союзу в разных должностях, пока подозрительность римского правительства не потребовала и его заложником в Рим. Здесь он познакомился с кружком Сципиона Младшего (ниже, отдел Б, § 14) и стал признанным историком войн Рима с Карфагеном и с греческим Востоком. Нам от его объемистого сочинения об этих войнах (от 220 до 144 года до Р.Х.) сохранилось до одной трети, и это — наш самый достоверный источник обо всем этом великом для Рима периоде. Особыми красотами стиля оно не отличается; в этом отношении его значительно превзошел его продолжатель
Посидоний (I век до Р.Х.), известный также как ученый и как философ; пропажа его крупного исторического сочинения — для нас незаменимая утрата.
С историографией по плодовитости соперничает
философия. Правда, в Академии водворяется поразительная воздержанность с тех пор, как влиятельный почин Аркесилая (ниже, § 15) повел ее по пути скепсиса; только в III веке до Р.Х. она в лице эллинизованного пунийца Аздрубала-
Клитомаха завоевывает книжный рынок, и притом очень успешно. Тем обильнее литературная деятельность других школ. Перипатетическая после Аристотеля дает крупных ученых-литераторов —
Теофраста и особенно
Стратона из Лампсака, последнего представителя древне-философского стремления удержать в рамках философии все более специализирующуюся науку.
Эпикуреизм в лице своего основателя и
Стоя в лице своих первых трех схолархов — Зенона, Клеанфа и особенно
Хрисиппа — наводняют библиотеки своих адептов ошеломляющей массой трактатов как общего, так и специального характера; к характеру изложения они все относятся пренебрежительно, и притом из принципиальных соображений. Все же с середины II века до Р.Х. в Стое замечается реакция против этого пренебрежения, и глава средней Стои, вышеупомянутый
Панэций (с. 198), не гнушается услуг риторики в видах лучшего воздействия на умы, в чем ему подражал его продолжатель
Посидоний, глава стоицизма при Цицероне. Но самыми оригинальными творцами в области литературы стали, как это ни странно, представители непотребного кинизма; из них один, вышеназванный (с.198) «первый писатель русской земли»,
Бион Борисфенит, пользовался для своей проповеди формой так называемой «диатрибы»; это было посредствующее звено между диалогом и трактатом, характерным признаком которого было то, что автор, беседуя с аудиторией, сам задавал себе от ее имени подобающие вопросы и сам на них отвечал. Другой,
Менипп Гадарский (II век до Р.Х.), идет еще дальше в области смешения стилей и изобретает так называемую «Мениппову сатиру», беспечную мешанину из прозы и стихов, своих и чужих, очень идущую к фантастической обстановке, в которую он укладывал свою нравственную проповедь. Серьезные философы к обоим относились неодобрительно: Биона обвиняли в том, что он «нарядил философию в цветной наряд» (anthina), Мениппа — в том, что он смастерил какого-то безобразного литературного «кентавра». Но их успех был крупным; Биону подражал Гораций в своих сатирах, Мениппу — еще раньше Варрон (отдел Б, § 14) и позднее — Лукиан (отдел В, глава III).
Красноречие теряет в нашу эпоху свою самую благодарную почву —
политическую: в эллинистических царствах живую вечевую речь заменяет канцелярская бумага, Афины политически оскудели, греческие же союзы не обладали достаточной культурностью, чтобы развить художественное красноречие. Только Родос составляет в этом отношении исключение; здесь поэтому и развивается — из брошенных Эсхином (выше, с. 179) семян — здоровый стиль, так называемый родосский, счастливо сочетавший деловитость содержания с красотой формы; но мы об отдельных его представителях слишком мало знаем. А так как
судебное красноречие обыкновенно меркнет там, где его представители не совмещают свою адвокатскую деятельность с политической, то из трех разновидностей риторической прозы остается на поверхности только одна —
парадное красноречие. Оно принимает в себя обе другие разновидности; появляются так называемые
декламации, распадающиеся на
суазории (вымышленные политические речи, например, «оратор убеждает афинян уничтожить свои трофеи над персами ввиду угрозы Ксеркса вернуться, если они этого не сделают») и на
контроверсии (мнимо-судебные речи по вымышленным делам, например: «храбрец убивает брата, захватившего тиранию, и затем попадает в плен к пиратам; гневный отец обещает за него двойной выкуп, если ему отрубят руки; возмущенный капитан пиратов отпускает его даром; спустя некоторое время впавший в нищету отец требует от него помощи, но он в ней отказывает»; отсюда суд и речи). Эти декламации свили гнездо в школах, особенно в греческой Малой Азии, почему выращенный в них ораторский стиль и называется
азианским. Он был двух родов. Первый, примыкая к Исократу, нагромождает напыщенные периоды; это стиль
пышный. Другой, наоборот (восходя к Гегесию Магнесийскому, около 250 года до Р.Х.), предпочитал коротенькие, неполные фразы, произносимые с большим аффектом; это стиль
страстный. Обоим, но особенно второму, принадлежит власть в красноречии нашей эпохи.
Как видно из приведенного образчика, красноречие, особенно контроверсий, сильно отдает беллетристикой; и действительно, риторические задачники, которые не замедлили появиться, походили на собрание уголовных романов и в своих позднейших латинских переделках имели значительное влияние на средневековую новеллу. Но, кроме того, наша эпоха знает уже настоящую беллетристику. Основоположником литературной
повести мы должны считать некоего
Аристида («Милетского», как его принято называть), автора сборника под заглавием «Милетские истории»; время точнее неизвестно. В сущности, он примыкает к тем балагурам, о которых была речь выше (с. 107); благодаря ему новелла, задорная и чувственная, стала книгой для чтения, нашла уже в I веке до Р.Х. латинского переводчика в лице историка Сизенны (ниже, отдел Б, § 14) и через него породила массу подражаний, перешедших в Средние века, до Боккаччо и дальше. Сложнее было происхождение
романа; он получился из соединения эротической повести, вроде «Кидиппы» Каллимаха (выше, с.232), с рассказами о путешествиях и приключениях, коих в нашу эпоху развилось множество. Основной формулой было: герой влюбляется в героиню, их разлучают, они в разлуке испытывают целые вереницы приключений и, наконец, находят друг друга. Первым автором такого романа был
Антоний Диоген с его «Чудесами за Фулой», содержание которых нам известно благодаря извлечению патриарха Фотия. Время его жизни в точности неопределимо, но многое говорит за то, что он писал при Антонии и Клеопатре — и что, таким образом, роман на троне призвал к жизни и литературный роман.
Глава IV. Религия
§ 11. Эллинистические религии. В религиозном отношении наш период отчасти представляется продолжением предыдущего, поскольку старые культы греческих государств по-прежнему в них правятся с тем благолепием, которое они могут себе позволить по мере имеющихся средств. Этой стороны дела мы касаться не будем, вкратце лишь отметим, что мы наблюдаем ее не только в исконных греческих городах, но и в тех, которые по их образцу были основаны в нашу эпоху (выше, с.201).
Но наряду со старыми религиозными формами теперь возникают и развиваются новые, обусловленные соприкосновением греческого и местного населения в эллинистических монархиях. Формула этого возникновения и развития следующая. Сначала данная восточная религия подвергается реформе с целью сближения ее с греческим религиозным сознанием
(«эллинизация восточной религии»); затем она в этом эллинизированном виде вводится среди смешанного населения греко-восточных городов данной монархии; наконец, она распространяется и по другим областям греко-восточного, греческого и греко-римского мира
(«ориентализация античной религии»). Характерна при этом сознательность: новые религиозные формы являются результатом обдуманной реформы, и народу они предлагаются свыше в силу принципа cujus regio ejus religio.
При этих условиях личность реформатора приобретает особый интерес. До сих пор таковые получали свою миссию в Дельфах; теперь авторитет Аполлона меркнет. Основателем эллинистических религий был выходец из Элевсина, жрец Деметры,
Тимофей из рода Евмолпидов. Мы сможем проследить его деятельность в двух центрах религиозной жизни эллинизма — во фригийском Пессинунте и в Александрии.

1. В Пессинунте он эллинизовал местную религию
Великой Матери богов (Megale Meter, она же, поместному, Кибела, а по-гречески — Рея Идейская, то есть лесная и горная). Это должно было случиться еще в правление Лисимаха, который, по-видимому, намеревался сделать новую религию официальной для своего царства, каковое намерение было осуществлено его преемниками, царями Пергама. Эта религия, очень экстатическая, имела в своем центре любовь Великой Матери к прекрасному пастуху Аттису — любовь страстную, поведшую любимого к безумию и самоизувечению, в котором ему подражали его исступленные жрецы-галлы (название темное, ничего общего не имеющее с племенем галлов, или кельтов). Из этого мрачного мифа Греция некогда, с устранением неприемлемого для эллина отвратительного мотива самоизувечения, извлекла свою прекрасную легенду о любви Афродиты и Анхиса
[28], важную для позднейшего Рима; теперь Тимофею пришлось сделать из него миф греко-фригийской религии. Самоизувечения он удалить не мог, так как на нем держался неискоренимый институт галлов; но он ослабил его значение, поставив рядом с ним мотив
смерти и
воскрешения Аттиса любовью Великой Матери. Это дало ему возможность внести в религию Матери религиозную драму религии Деметры. Победа над смертью стала лозунгом и здесь. Посвящаемые — действительно, мы имеем дело с «мистериями» — приобщались к приверженцам новой религии путем вкушения неизвестных нам яств, причем сосудами служили те самые кимвалы и тимпаны, которыми пользовались для оглушительной музыки в исступленных плясках в честь богини: «Я ел из тимпана, я пил из кимвала, я стал мистом Аттиса», — гласил символ
посвящаемых. Перед ними затем разыгрывалась религиозная драма любви, смерти и воскрешения Аттиса: в двойной перипетии радость сменялась горем, горе — радостью. Торжественным возвещением второй, окончательной радости было двустишие:
Рассейте страх ваш, мисты: бог спасен!
Залог спасенья дан и нам отныне.
Из победы над смертью Аттиса посвященные черпали уверенность в собственном бессмертии; мистическое утешение религии Деметры (выше, с. 114) было перенесено и в новую религию, которая после этого уже не могла быть чуждой сердцу эллина. Этим, однако, дело эллинизации не ограничилось. Великая Матерь искони почиталась в образе черного камня, находившегося в Пессинунте, своего рода древней Каабе; позднее он был перенесен в Пергам. Для греческой фантазии этого было мало — надлежало изваять человекоподобные кумиры как богини, так и бога. Мы не знаем имени художника, на долю которого выпала эта задача; он был не из первоклассных, и если образ Матери с ее башенным венцом (Mater turrita) и не лишен эффектности, то зато образ полуженственного Аттиса нам решительно не нравится. Но, во всяком случае, это были образы греческие, наглядные символы эллинизации самой религии.
2. Еще важнее была деятельность Тимофея в Александрии, где он исконно египетскую религию Осириса и Исиды превратил в эллинистическую религию
Исиды и
Сараписа. Египетский миф об этой чете гласил, вкратце, следующее. Осирис, бог-царь Египта, брат и муж Исиды, падает жертвой козней своего брата Сета, и его тело разрывается на части. Их отыскивает Исида и путем магических обрядов возвращает убитому жизнь. Так-то Осирис поборол смерть — и каждому предоставляется возможность путем тех же магических обрядов «стать Осирисом» и обеспечить себе вечную жизнь. Эта религия была сама по себе ближе к религии Деметры, с которой поэтому еще Геродот отождествляет Исиду; деятельность Тимофея состояла, надо полагать, главным образом в эллинизации службы богине, очень обстоятельной, а затем и самих божественных образов. Осирис, не знаем почему, перешел в Сараписа, который был отождествлен с Аидом; изваять соответственное изображение было поручено художнику Бриаксию (выше, с.228). С Исидой дело обстояло проще: она изображалась просто Деметрой по старинным типам этой богини. Но позднее эта эллинизация показалась слишком крутой, и был придуман особый грекоегипетский тип этой богини по образцу драпировки ее жриц.
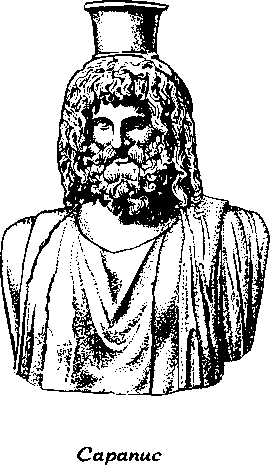
Все же, хотя и эллинизованные, эти две религии внесли немало чуждого в греческое религиозное сознание. Во-первых, изменился персонал религиозной драмы, и притом к худшему: в Элевсине мы имели чистую материнскую любовь Деметры к Коре, здесь же вдохновительницей представлена половая любовь Великой Матери и Исиды, что придало обеим религиям тот чувственный характер, которым вообще отличаются религии Востока. Со временем греко-римский мир снова выделил эту чувственную примесь, но вначале она очень даже давала о себе знать, и ревнители нравственности не без основания называли храмы обеих религий рассадниками разврата.
Во-вторых, обе религии требовали значительнаго штата жрецов; с их вторжением в западный мир туда же проникает и жречество, многочисленное по составу и с кастовой организацией.
3. В противоположность Лисимаху с Атталидами и Птолемеям властители третьего крупного восточного царства,
Селевкиды, ни в какие компромиссы с местными религиями не вступали. Правда, одна из этих религий — религия Астарты-Афродиты и Адониса, — будучи эллинизована на Кипре, проникла повсюду в греческий мир; но это случилось самопроизвольно и задолго до их воцарения. Правда, с другой стороны, что религии сирийских Ваалов, а также и отщепленной от сирийского царства Парфии («митриазм») не остались без влияния на западный мир, но это влияние относится к гораздо более позднему времени (отдел В, глава IV). Вообще же Селевкиды были ревнителями чистоты эллинских религий, особенно религии Аполлона, от которого они вели свой род; в их столице Антиохии главный храм принадлежал Аполлону.
Но среди их подданных — правда, кратковременных — находились такие, влияние которых на религиозную жизнь окружающего греческого (и греко-римского) мира было очень значительным; это были
иудеи. Для них эллинистический период был периодом рассеяния (diaspora); иудеи же рассеяния отличались от палестинских: 1) тем, что, будучи оторванными от земли, они занимались торговыми и особенно денежными делами, что повело к их скоплению в городах и особенно в столицах — Александрии, Пергаме, Фессалонике, Коринфе, а с шестидесятых годов до Р.Х. и в Риме; 2) тем, что вследствие запрета приносить жертвы где-либо, кроме Иерусалима, их богослужение было не храмовым, а синагогальным. Синагога же в те времена не отличалась исключительностью храма, а охотно вербовала «прозелитов» (pros-elytoi, собственно «подошедшие») преимущественно из эллинов. Три религиозно-житейские особенности характеризовали иудеев: 1) обрезание, 2) запрещение общей с неиудеями трапезы и 3) соблюдение суббот; из них первая была для эллина органически неприемлема, вторая — противоречила его взглядам на гостеприимство, третья — на праздники (выше, с. 188). В этом отношении синагога для прозелитов допускала некоторые послабления, строго требуя соблюдения других предписаний закона, особенно бескумирного богослужения. Обаяние Ветхого Завета, тогда уже переведенного на греческий (выше, с.203), довершало дело — и вот мы видим, что все синагоги рассеяния окружают себя кольцами таких прозелитов, да и независимо от синагог возникают общины «боящихся Бога», как они охотно себя называют. В самой Палестине ревнители старинной строгости неодобрительно относились к этой «проказе на теле Израиля», как они называли прозелитизм; напротив, «эллинствующие» охотно приветствовали постепенный рост стада Господня. Но ни те, ни другие, конечно, не подозревали, какое значение для религиозной жизни будущего будет иметь эта эллинизация ветхозаветной религии в общинах прозелитов.
4. Самой неутешительной стороной эллинистических религий является, бесспорно,
культ государей, возникший из персидских и особенно египетских представлений о божественной природе царя. Еще Александр, как наследник персидских царей, потребовал для себя такого культа с символической «проскинезой» (proskynesis, «падение ниц») — вследствие ли мании величия или по политическим соображениям, мы не знаем. Это требование вызвало справедливое возмущение его македонской свиты, и его преемники действовали осторожнее. Грекам был привычен институт «героизации» основателей и спасителей общин (выше, с. 111); поэтому Птолемей I мог смело учредить в Александрии культ Александру как ее основателю, а его сын Птолемей II — приобщить к этому культу своего отца как ее спасителя (soter) от бедствий войн диадохов. Тот же Птолемей II по смерти своей супруги-сестры Арсинои II счел себя вправе учредить культ и ей как «Филадельфе» и не очень протестовал, когда к ней незаметно присоединили и его. А затем с Птолемеем III и Береникой II — «богами-Эвергетами» (то есть «благодетелями») — дело пошло совсем гладко. Несколько иначе, но с тем же исходом, развивался культ государей в царстве Селевкидов; что касается Атталидов и Антигонидов, — не говоря уже об Иероне Сиракузском, — то они, имея своими подданными преимущественно эллинов, довольствовались своим царским венцом. Эллины вообще, если судить по литературе, не удостаивают особым вниманием божеских притязаний царей Сирии и Египта; для варваров же они ничего нового собой не представляли. Все же этот кощунственный нарост на теле античной религии принес свои вредные плоды; правда, это случилось уже в следующую эпоху.
§ 12. Религиозная философия. В области религиозной философии эллинистический период был эпохой долгой и яростной
борьбы между положительным и скептическим направлениями — той борьбы, которая повторилась без малого двадцать веков спустя в эпоху английского и французского так называемого «Просвещения» XVII и XVIII веков и повторилась как сознательное воскрешение той первой, при том же оружии, но со значительно большими силами. Ареной этой борьбы был афинский «университет», как мы называем совокупность его философских школ — Академии, Лицея, Стои, Эпикурова «сада» и Киносаргского гимнасия. Лицей, впрочем, с его строго научным характером, держался в стороне от борьбы; Киносарг, по причине противоположного характера, не шел в счет. Противниками были — Стоя и эпикуреизм как представители положительного направления и (новая) Академия как представительница скепсиса.
Характерное для эллинистического общества романтическое настроение выразилось, между прочим, и в любовном отношении к родным богам, свидетелям славного периода Эллады. Поэзия и искусства их прославляли; философия тоже пожелала им служить, изобретая
доказательства их существования. Особой славой пользовались два доказательства: 1)
ex consensu gentium: всеобщее распространение веры в богов доказывает, что представление о них является «врожденным понятием» (notio innata), которое в силу своей всеобщности не может быть ложным («Есть алтари — значит, есть и боги»); 2)
космологически-телеологическое: целесообразное устройство мироздания и земли доказывает, что оно было делом высшего разума, то есть божества.
1.
Эпикур, впрочем, допускал только первое доказательство, но его зато полностью. «Всенародное согласие» признает за богами два основных свойства, выраженных в эпитетах «бессмертные боги» и «блаженные боги». Если боги бессмертны, то они не могут быть частью миров, которые, возникнув из сцепления атомов, должны распасться на эти составные атомы и, таким образом, бренны; итак, боги обитают в «междумириях» (metakosmia, intermundia). Если боги блаженны, то они не могут заботиться о людях, так как забота и блаженство несовместимы; итак, божьего «промысла» (pronoia, providentia) нет. Не значит ли это, что мы не должны поклоняться богам? Вовсе не значит: мы должны им поклоняться как представителям совершенства, и это наше бескорыстное поклонение представляет большую нравственную ценность, чем то вымаливание наград на этом и на том свете, к которому сводится благочестие толпы. С отрицанием божьего промысла упраздняется и вышеупомянутое космологическое доказательство, которого Эпикур также и потому не мог допустить, что он объяснял происхождение мироздания чисто механическим путем. Оно же и было причиной того, что эпикурейцы, несмотря на свое положительное отношение к богам, тем не менее прослыли у толпы «атеистами».
2.
Стоицизм, напротив, признавал оба доказательства и даже особенно напирал на второе; божий промысел стоит в центре его религиозной философии. Примыкая к Гераклиту (выше, с.89), он объяснял божество как разумную огненную душу мира (пантеизм): от нее все исходит, в нее же, в периодически повторяющиеся обогневения, все возвращается. Как таковое, божество — едино; но его проявления — многочисленны, и вот такими проявлениями должны мы считать богов народной веры, признавая их, таким образом, вполне реальными. На божьем промысле основаны народные культы, которые поэтому вполне разумны; разумно и ведовство. Ибо, если бы божество не дало нам средств ведовства, то пришлось бы допустить одно из трех: 1) или что божество не могло нам их дать; 2) или что оно не пожелало нам их дать из нерасположения к нам; 3) или что оно не пожелало нам их дать, не считая ведовство полезным; из этих трех объяснений первое противоречит божьему всемогуществу, второе — божьей всеблагости, третье — здравому смыслу (знаменитая стоическая трилемма, воспроизведенная Лейбницем). Не довольствуясь этим априорным соображением, стоики подкрепили его эмпирическими доказательствами, собирая сбывшиеся пророчества; вообще тема о ведовстве (de divinatione) была ими разработана очень усердно, как и родственные темы о предопределении и свободе воли, которые стоики старались примирить красивой антитезой: «рок согласных ведет, а несогласных влечет» (ducunt volentem fata, nolentem trahunt). A когда подняла голову астрология, то и ее искусные методы ведовства нашли себе уготованное место в стоической системе; дал ей доступ к ней много раз уже названный
Посидоний (I век до Р.Х.), который своими учеными, остроумными и красноречивыми сочинениями обеспечил успех стоицизма в эпоху империи.
3. Противницей обоих положительных учений, и эпикуровского и стоического, была
Академия с тех пор, как схолархат в ней занял пылкий
Аркесилай (III век до Р.Х.). Уклоняясь от Платоновых путей, он отказался от его двоемирия, признавая действительным только мир видимости, о котором нам дают свидетельство наши чувства. А так как недостоверность опыта чувств была доказана самим Платоном, то в результате получался всеобщий скепсис: так как у нас нет средств, чтобы отличить правильное представление от неправильного, то мы должны следовать не истине, а правдоподобию, руководясь не знанием, а предположением (doxa, opinio). Всеобщий скепсис поглотил, разумеется, и учение о богах: Аркесилай и его приверженцы опровергали по пунктам догматы как эпикурейцев, так и стоиков, особенно последних. Атеистами они себя не считали, их полемика касалась не
веры в богов, а только
доказательств, которыми противники хотели подкрепить эту веру и в которых она не нуждалась. Дань вышеназванному романтическому настроению можно будет признать и в том, что ни Аркесилай, ни даровитый продолжатель его учения
Карнеад (II век до Р.Х.) не обнародовали своих рассуждений, довольствуясь устным преподаванием под чинарами Академии. Правда, его преемник
Клитомах писал более чем за троих; но он, будучи по происхождению карфагенянином и, собственно, Аздрубалом, и не был охвачен тем романтическим настроением. Его сочинениями, а также и учением его последователя Филона вдохновлялся
Цицерон, последний представитель новой Академии в области религиозной философии; его сочинения «De natura deorum» и «De divinatione» для нас — единственные, но тем более драгоценные памятники всей этой борьбы и в то же время — зародыши того ее возобновления, которое наступило в XVII веке. Для античности она с ним вместе канула в прошлое; победил Посидоний, и даже ближайший преемник Филона, Антиох, ввел учение Академии опять в старое платоновское русло. Человечество искало новых идеалов, искало спасения и успокоения в необуреваемой сомнением вере в Божий промысел и в надежде на «лучшую участь» за вратами смерти.
Таким образом «исполнилось время».
Б. Римская республика
(510-27 годы до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история Рима республиканского периода
§ 1. Внешний облик Италии и западного Средиземноморья в античную эпоху. Кривая линия, проходящая через Адриатическое и Ионийское моря и упирающаяся в так называемые «Алтари Филенов» у Большого Сирта, отделяет западное Средиземноморье от восточного. По обе стороны этой линии лежат Балканский и Апеннинский полуострова, «спиною друг к другу»: насколько первый своим разветвлением и своими лучшими гаванями обращен на восток, настолько второй смотрит на запад. Все же два крупных залива — Коринфский в Греции и Тарентипский в Италии — составляют исключение; благодаря им произошло сближение обоих полуостровов.
Сама Италия, подобно Греции, делится на три части, но только не морем, а направлением своего позвоночного столба — Апеннин. Начинаясь у Приморских Альп, он вначале тянется на восток к Адриатическому морю и этим отделяет от прочей Италии широкую плодородную равнину, орошаемую тихой рекой Пад (ныне По) с ее бесчисленными северными и южными притоками. Здесь когда-то жили этруски, но уже в V веке до Р.Х. их за Апеннины оттеснили галлы, заняв среднюю и большую часть равнины, вследствие чего она в историческое время называется
цизальпийской Галлией — точнее, циспаданской и транспаданской. Только на западе и на востоке ее населяли не галльские, загадочные для нас племена тавринцев, завещавших свое название Турину, и венетов, название которых много позднее воскресила Венеция. Этрусский элемент продолжал держаться в Мантуе севернее и в Бононии (ныне Болонья) южнее Пада; из галльских городов главными были Медиолан (ныне Милан), Бриксия (ныне Брешия), Верона и другие.
Лишь по ту сторону Апеннин начиналась собственно Италия, при этом
средняя часть полуострова занимает то место, где эта горная цепь, разветвляясь, тянется параллельно с побережьем, разделяя страну на преимущественно холмистую западную полосу и преимущественно гористую восточную. Интереснее первая; здесь бушевали некогда вулканические силы, оставившие следы своей деятельности и в виде красивых конусообразных гор, и в виде зеленых круглых озер, заливших прежние кратеры. Политически эта полоса распадается на три области. Первой с севера была
Этрурия с главной рекой Арном (на ней города Арреций, Фезулы и Пиза) вплоть до Тибра; другими ее городами были Волатерры (ныне Вольтерра), Перузия (ныне Перуджия), Клузий (ныне Кьюза), Веи и Цере. Здесь жил замечательный народ, щепетильно религиозный, с развитым в мнимонаучную систему гаданием (по печени жертвенных животных, haruspicina) и с очень внушительными представлениями о царстве мертвых. И то, и другое, как равно и его искусство, было результатом очень ранней эллинизации, не коснувшейся, впрочем, языка, все еще неразгаданного, несмотря на сравнительное обилие памятников.
Второй областью к югу от Тибра и на Лирисе был
Лациум, языку которой — латинскому — суждено было покорить и Италию и мир. Ее окаймляют с востока Сабинские горы, на отроге которых, там, где река Аниен (Anio), приток Тибра, прорывается на равнину, лежит живописный Тибур (ныне Тиволи), излюбленное дачное место римской знати. Далее к югу зеленеют вулканические Альбанские горы, на склоне которых лежала некогда прародительница латинских городов, Альба-Лонга. В историческое время здесь славились Тускул (ныне Фраскати), второе после Тибура дачное место римской знати, Ариция и Пренесте (ныне Палестрина). Другими латинскими городами были: Ардея в стране рутулов, Анций, Террацина и Арпин в стране вольсков. Наконец, третьей областью, самой благословенной в Италии, была
Кампания, то есть область города Капуи в долине Волтурна, вековой соперницы Рима. Здесь же были греческие колонии Кумы и Неаполь у подножия тогда еще зеленого и мирного вулкана Везувия, затем куманская колония Дикеархия, которую, однако, римляне переосновали под именем Путеолов (Puteoli), и впоследствии прославившиеся своей трагической гибелью Помпеи, Геркуланум (Herculaneum) и Стабии. В восточной, горной полосе Этрурии соответствует
Умбрия со множеством небольших городов, говорившая на родственном с латинским языке; ее приморскую кайму, впрочем, от Рубикона (границы Италии) до Эзиса, населяли галльские сеноны, а южнее Эзиса самнитские пицеи, пришедшие сюда некогда в качестве «священной весны» (ver sacrum) под предводительством родовой птицы, дятла (picus), по имени которого они назвали себя. В их области лежала Анкона (греч. Ankon, «локоть»), колония сиракузян. Против Лациума и Кампании лежала суровая область
Самний, родина самых воинственных в Италии племен — марсов, нелигнов и др. Их язык, осский, на котором, впрочем, говорили и кампанцы, — родственный умбрийскому и латинскому, был одно время самым распространенным в Италии и только в I веке до Р.Х. дал себя вытеснить латинскому. Из городов отметим Сульмон и особенно Корфиний.
Там, где кончается земля самнитов, Апеннины рядом цепей поворачивают к югу; они собираются на юге от Кампании и опять образуют, как на севере, магистральный хребет, который тянется к носку италийского сапога, оставляя на востоке плоскую и скучную область —
Апулию с ее продолжением Калабрией, «каблуком» означенного сапога (теперь наоборот,
Калабрией называется «носок», а «каблук» унаследовал название смежной области — Апулии). Апулию населяли родственные самнитам племена с соперничающими городами Капузием на Ауфиде (ныне Офанто) и Арпами; но Калабрию — чужеродное племя мессапийцев со знаменитой гаванью Брундизием (ныне Бриндизи) и греческими колониями Тарентом (ныне Таранто) и Гидрунтом (Hydrus, ныне Отранто). Гористая юго-западная область носит в своей северной части название
Лукании, в южной — Бруттия; обе населены племенами, родственными самнитам. Их собственные города — Петелия, Консенция — стушевываются перед многочисленными греческими колониями, которые тянутся до Тарента и дали всей области гиперболическое название Великой Греции: это были — Регий, Локры, Кротон, Фурии (на месте старого Сибариса; выше, с.90), Мета-понт, Посидония, Элея, Гиппоний и др. Из них, впрочем, некотовые успели уже принять луканскую национальность — Элея стала Велией, Гиппоний — Вибоном, Посидония — Пестом (Paestum); но в прочих эллинский элемент стойко держался.
К Италии непосредственно примыкает Сицилия; те же Апеннины продолжаются и по ту сторону внезапного провала, образовавшего Мессинский пролив, и под названием Пелорских (то есть «исполинских») гор окаймляют северную часть острова, оставляя на юге холмистую местность, в которой возвышается чудо Сицилии — высокая огнедышащая Этна. Остров издревле населяли два племени: на западе — варварские сиканцы, на востоке — италийские сикулы. Но его культуру определили не они, а два пришлых народа, разорвавшие его на две неравные части: восток заселили греки своими колониями, среди которых возвысились дорические Сиракузы; запад — карфагеняне с их тремя главными поселениями — Лилибеем (ныне Марсала), Панормом (ныне Палермо) и Солунтом. И насколько Сицилия, благодаря этому греческому элементу, стала важна для античной культуры, настолько незначительны были два других острова, замыкающие Тирренское (то есть этрусское) море, —
Сардиния и
Корсика. Эллинизм здесь потерпел крушение (выше, с.64), занявший же, особенно в Сардинии, его место пунический элемент был в культурном отношении неплодотворен. А впрочем, Сардиния вместе с Сицилией была хлебородна и долгое время кормила преимущественно скотоводческую Италию, но Корсика уже в древности была дикой страной бандитизма и кровавой мести.
Напротив Сицилии на африканском берегу еще в VIII веке до Р.Х. был основан финикийскими выходцами
Карфаген (лат. Carthago, греч. Karchedon, собственно, Kartada, то есть «Новгород»), вековой соперник сначала греческой, а затем и римской Италии. Вначале один из финикийских городов тех местностей (древнее была Утика, собственно Атика, то есть «Старгород»), он возвысился среди них и, в отличие от обычных финикийских колоний-факторий, подчинил себе все побережье Малого Сирта, пронизывая его своей культурой. На востоке они встретили отпор со стороны греческих колоний Триполиса, и «алтари Филенов» до позднейших времен обозначали место их — благодаря героизму братьев Филенов — победоносного для греков столкновения. Но на западе они поставили в культурную зависимость от себя кочевые племена так называемой
Нумидии (ныне Алжира; греч. Nomades, то есть «кочевники»), затем, в меньшей степени,
Мавритании (ныне Марокко) до так называемых Геркулесовых столбов по обе стороны Гибралтарского пролива, то есть столбов Мелькарта, финикийского бога-странника. По ту сторону пролива, в
Иберии (Испании), он имел опору в финикийском городе Гадесе и одно время мечтал о подчинении своей власти всего полуострова — таков был гениальный план Гамилькара после 1-й Пунической войны. Его туземные жители распадались на два главных племени — иберийцев и кельтиберийцев; последнее, очевидно, смешанного характера, Пиренеями отделено от собственно кельтской страны Галлии, содержавшей в себе деятельное гнездо эллинизма в виде
Массалии с прилежащей областью на низовьях Родана (ныне Роны; выше, с.59).
Все названные области в различные времена были покорены Римом, хотя и не все в полной мере; независимыми остались пока отделенные от Галлии Рейном —
Германия и каналом —
Британния. Последняя была неопасна, но Германия, еще в эпоху римской республики высылавшая за Альпы в Италию дикие полчища кимвров и тевтонов, была вечной угрозой для народов, сплотившихся в единую средиземноморскую семью под мирным владычеством Рима.
§ 2. Внешний рост Рима в республиканскую эпоху. Город Рим (Roma), возникший в неопределимое точно время (по возобладавшей традиции в 753 году до Р.Х.) на левом берегу Тибра из слияния двух общин, латинской (палатинской) и сабинской (квиринальской), еще в первый, царский период своего существования подчинил себе на правах гегемонии ближние города Лациума, вырвав эту честь у Альбы-Лонги, но затем подпал под власть этрусских царей соседнего города Тарквиниев — так и называвшихся по традиции. — которые сделали его главой этрусско-латинского союза. Изгнание династии Тарквиниев (по традиции в 510 году до Р.Х., одновременно с изгнанием Писистратидов) разрушило этот союз; начались бесконечные войны республиканского Рима с ближайшими этрусскими, сабинскими и вельскими (Кориолан) городами, пока взятие этрусских Вей Камиллом в 396 году до Р.Х. не дало Риму решающего перевеса. Но этот успех был скоро потерян вследствие
галльского погрома (поражение при Аллии в 390 году до Р.Х.), поведшего к взятию Рима. Пришлось начинать сызнова, причем, однако, дело пошло быстрее; уже в 348 году до Р.Х. Рим был настолько первенствующим городом среди окружающего этрусско-латинского мира, что Карфаген счел полезным заключить с ним договор.
Это же преобладающее положение повело в 343 году до Р.Х. к
столкновению с самнитами, с которого начинается второй фазис в римской истории. Дело осложнилось отложением латинских городов, покорение которых в 338 году до Р.Х. поставило их в более тесную зависимость от Рима, аналогичную с положением «подчиненных союзников» афинян в Делосском союзе (выше, с. 147). Но самниты оказали упорное сопротивление, и только победа при Сентине в 295 году до Р.Х. решила торжество Рима; из двух соперничающих италийских культур, латинской и осской, вторая была отныне обречена на исчезновение.
Началась новая борьба между латинской и греческой культурами, из которых вторая имела свой центр в
Таренте. К тому времени эллинизм, благодаря Александру и диадохам, успел подчинить себе Восток. Из основанных им царств самым близким к Италии был Эпир с его даровитым царем Пирром (выше, с.195). Пирр пожелал стать Александром Запада и пришел на помощь Таренту, но его «Пирровы победы» ненадолго отсрочили развязку: в 272 году до Р.Х. Рим восторжествовал над Тарентом в бою — и в то же время подчинился его превосходной эллинской культуре.
Так-то Италия — не считая северной — покорилась Риму; ближайшей добычей стала Сицилия. Ее греческий властитель, сиракузский царь Иерон II, заключил союз с северным соседом — борьба началась с западным и южным, с
Карфагеном. 1-я Пуническая война (264-243 годы до Р.Х.), победоносная для Рима, отдала ему Сицилию (кроме Сиракуз), за которой вскоре последовала Сардиния с Корсикой. Когда же Гамилькар основал новое карфагенское царство в Испании, и его гениальный сын
Ганнибал повел оттуда сильное войско в Италию, возбуждая против Рима и злопамятные самнитские племена, и Сиракузы, то окончательным результатом этой 2-й Пунической войны (219-202 годы до Р.Х.) было новое торжество Рима и переход к нему также Испании и Сиракуз; карфагенская область («Африка») была пока пощажена.
Второй век до Р.Х., эпоха расцвета римской республики, был в то же время и эпохой ее победоносного столкновения с эллинистическим Востоком. Первой была сражена Македония в трех последовательных войнах (в 200-196 годах до Р.Х. — Фламинином, в 171-168 годах до Р.Х. — Эмилием Павлом и в 148 году до Р.Х. — Метеллом), из которых третья имела последствием обращение Македонии в римскую провинцию; вскоре (в 146 году до Р.Х.) за ней последовала и Греция под именем Ахайи, а одновременно с ней и «Африка». Так-то Рим упрочился на Эгейском море; дальнейшим успехом был захват, впрочем, мирный, также и передней части Малой Азии, то есть пергамского и вифинского царств. Но этот захват сделал Рим соседом самого страшного врага, которого он имел со времени Ганнибала, —
Митридата VI Эвпатора, царя Понтского. Пользуясь ненавистью, которую вызвала повсеместно на Востоке алчность римских откупщиков, Митридат в 88 году до Р.Х. поднял против Рима не только Азию, но и Грецию, всюду приветствуемый как возродитель греческой свободы. Войны против него совпали с внутренними смутами в римском государстве, чем и объясняется их длительность и повторность: после частичных успехов Суллы (84 год до Р.Х.) и Лукулла (67 год до Р.Х.) ее кончил только Помпей (63 год до Р.Х.), причем необходимость завершить войну заставила Помпея присоединить к Риму также и разложившееся царство Селевкидов. Здесь, у Евфрата, римские орлы остановились: их соседкой стала грозная Парфия, и от нее полководец Красе в 53 году до Р.Х. потерпел решающее поражение, никогда не искупленное. Евфрат так и остался восточной границей римского государства.
Тот же второй век округлил римские владения также и на западе. В ряде войн были покорены сначала цизальпийская Галлия, а затем и часть трансальпийской — та, которую римляне называли просто «провинция»; такое название сохранилось за ней и поныне (Provence). Вызывающий образ действий нумидийского князя Югурты (111-106 годы до Р.Х.) заставил Рим в лице Мария присоединить к провинции Африка и Нумидию, что повело к распространению римского влияния также и на Мавританию. Наконец, военный гений Цезаря подчинил Риму всю Галлию (58-51 годы до Р.Х.), последствием чего было установление Рейна как границы между римским и германским миром.
Столь деятельно расширяемое государство уже с последней четверти II века до Р.Х. раздиралось внутренними смутами. Сигналом к их возникновению послужили аграрные реформы обоих Гракхов в 133 и 123-121 годах до Р.Х.; за аристократической реакцией Опимия и Скавра последовала (88-82 годы до Р.Х.) первая междоусобная война Мария (с Цинной) и Суллы, окончившаяся равным образом победой аристократии. Противоположный исход имела вторая междоусобная война Цезаря и Помпея (50-46 годы до Р.Х.); но в последовавших за убийством Цезаря (44 год до Р.Х.) неурядицах идейные лозунги утонули, дело все более и более стало сводиться к борьбе между личностями, из которых после гибели остальных продолжали борьбу Цезарь
Октавиан и
Антоний. Первый опирался на Запад, второй — на римский Восток и на свою союзницу и жену, египетскую царицу Клеопатру. Победа Октавиана над Антонием при Актии в 31 году до Р.Х. повела к подчинению также и последнего эллинистического царства
Египта, но не в качестве римской провинции, а в качестве личного царства Октавиана как наследника Птолемеев. Такое положение гражданина было несовместимо с республиканским равенством: в 27 году до Р.Х. сенат поднес Октавиану почетное имя
Августа. Республиканская эпоха кончилась, наступила империя.
Глава I. Нравы
§ 3. Семейный быт. Подобно греческой, и римская семья была основана на единобрачии; ее главой был супруг и отец,
pater familias, носивший, как символ своего римского гражданства, трехчленное имя, состоявшее из имен личного, родового и фамильного: Марк Туллий Цицерон.
Примечание. Личных имен у мужчин было очень немного, почему они обыкновенно и сокращались; наиболее употребительными были С. (Gaius), Cn. (Gnaeus), М. (Marcus), L. (Lucius), Р. (Publius), Т. (Titus), Ti. (Tiberius), Q, (Quintus), Sex. (Sextus). Еще беднее была ономатология женщин: единственная дочь называлась родовым именем своего отца (Cornelia); если их было две, то они различались как major и minor; остальные просто считались (Tertia, Quarta, Quinta). Родовые имена были прилагательными, почти всегда на -ius; они были наследственными, равно как и фамильные, которые обозначали ветвь внутри рода: различали Корнелиев Сципионов, Корнелиев Сулл, Корнелиев Лентулов и т.д. Очень часто они возникали из прозвищ, подчас насмешливых (Scaevola — «левша», Varus — «колченогий», Cicero — «шишка») и даже обидных (Asina, Bestia, Lamia).
К женщинам они переходили только в исключительных случаях (Caecilia Metella). Наличие родовых и фамильных имен значительно содействовало укреплению аристократического сознания: называться Корнелием Сципионом или Цецилием Метеллом само по себе было рекомендацией.
Брак в Риме был строго эндогамичен (выше, с.66); для его законности требовалось, чтобы брачащиеся обладали так называемым conubium
[29], которого до 445 года до Р.Х. не имели даже плебеи в отношении патрициев (ниже, § 4). Вторым условием было согласие отцов, а позднее и самих брачащихся, третьим — соблюдение известных обрядов, в своей совокупности составлявших свадьбу (nuptiae). Эти обряды были различны в зависимости от того, желательно ли было установить власть (menus) мужа над женой или нет. Первая форма была более древней; в патрицианскую эпоху она состояла в так называемой confarreatio, то есть совместном торжественном приношении пирожка из полбы (panis farreus) — символа обусловленной хлебопашеством оседлости. Когда в conubium были приняты плебеи, место недоступной для них религиозной confarreatio заняла coemptio, то есть (фиктивная) купля жены мужем. Но в позднереспубликанскую эпоху обе формы, как ведущие к manus, стали редкими, и их сменила такая, при которой жена оставалась во власти отца, который и мог в случае недовольства зятем расторгнуть брак. Отсюда обычность разводов в эту эпоху и особая хвала жене, пребывающей до конца жизни в том же браке (univira).
Положение
жены в доме мужа было очень почетным; она называлась matrona, mater familias, участвовала в званых обедах и могла свободно принимать гостей, не только женщин, но и мужчин. Знатные матроны могли иметь влияние на политику; ср. мимоходное, но тем более характерное упоминание в письме Цицерона проконсулу Цецилию Метеллу по поводу вражды к нему брата последнего, трибуна Метелла: «Узнав, что он всю силу своего трибуната направляет к моей гибели, я вступил в переговоры с твоей супругой Клавдией и с вашей двоюродной сестрой Муцией, расположение которой ко мне я испытал во многих делах, прося их внушить ему воздержаться от своих неправых действий». В Греции такая фраза была бы немыслима.
Воспитание было в старину строго домашним. «Тогда, — говорит Тацит (
Тац. Диал. 28), — мальчик воспитывался под надзором матери, главной славой которой была охрана дома и уход за детьми. Помощницей ей избирали какую-нибудь немолодую родственницу, чтобы вверить ее испытанной честности заботу о всех детях одной и той же семьи». В позднереспубликанскую эпоху конкуренткой семьи в деле воспитания стала школа, но школа греческая, в которой учителя-греки учили по методу Исократа (выше, с. 159) греческой риторике, вмещавшей в себя тогда и общее образование; но родным предметам — римской истории, словесности, праву, языку — дети по-прежнему учились у отца. Лишь в I веке до Р.Х. возникли также и школы «латинских риторов», к которым серьезные люди относились неодобрительно. Тогда же проникла к римской молодежи и греческая агонистика, между тем как в старину отрок получал физическое развитие в рано начинавшейся военной службе. Наконец, тогда же у римской знати вошло в обычай посылать молодых людей для высшего (философского) образования в Афины, которые стали к тому времени тихим университетским городом. Истинно римским обычаем была так называемая deductio: отец среднего общественного положения (всадник, например) поручал подрастающего сына опеке какого-нибудь покровителя-сенатора, чтобы он в общении с ним готовился к государственной деятельности. Так, молодой Цицерон был deductus к авгуру Кв. Муцию Сцеволе, а к нему самому впоследствии были deducti М. Целий, Г. Требаций и другие.
Власть (manus) отца над детьми была очень велика. Правда, те времена уже прошли, когда он мог продавать сына в рабство; но и в позднереспубликанскую эпоху право сына на личное имущество (peculium) было при жизни отца очень ограничено, и примеры домашнего уголовного суда отца над детьми встречаются нередко.
Дети составляли только одну часть семьи (familia) и притом свободную (отсюда liberi — «свободные» и «дети»); другой была челядь (тоже familia). Различали челядь городскую (familia urbana), подчас очень многочисленную, прислуживающую хозяевам в их доме, и челядь сельскую (familia rustica), употребляемую для производительных работ. Положение первой было очень сносно; о второй, страшно притесняемой, см. ниже, § 5.
В обеих областях pater familias был полновластным хозяином своей челяди; но под влиянием гуманной юриспруденции I века до Р.Х. начинаются ограничения его права над жизнью и имуществом (тоже peculium) своего раба, а в связи с этим и признание законности брака последнего (contubernium). Обычай тоже содействует этому очеловечиванию отношений между господином и рабами, поощряя отпущение на волю, в силу которого бывший раб становился отпущенником (libertus) и клиентом своего бывшего хозяина, ныне патрона.
Средоточием семейной жизни был дом. Италийский дом имел в своем центре так называемый atrium — обширный зал, освещаемый сверху прямоугольным отверстием в четырехскатной крыше, через которое дождевая вода стекала в прямоугольный бассейн посредине зала, так называемый impluvium; здесь же стоял и домашний очаг-алтарь. Против входа находилась спальня хозяев (tablinum); перед ней атрий расширялся двумя фигеями (alae), что придавало ему форму латинского креста; углы заполнялись спальнями для членов семьи и челяди. Но уже во II веке до Р.Х. эта древнейшая форма дома-особняка получила у сколько-нибудь зажиточных людей приращение: благодаря перекинувшейся из Пергама форме
греческого дома перистиль с окружающими его покоями был пристроен к италийскому дому, вследствие чего таблин стал проходной парадной комнатой. Интимная жизнь семьи перешла в перистиль и уютные покои вокруг него; атрий стал официальной приемной хозяина. Вслед за перистилем перешла к римлянам и прочая греко-восточная роскошь: стенопись, мозаичные полы, кассетированные потолки, узорная мебель, мраморные и бронзовые вазы и канделябры, скульптурные украшения и особенно — то соединение архитектуры с зеленью садов, которое составляло прелесть эллинистического дома (выше, с.226). Возник тот особый тип греко-римского дома, о котором мы судим по его помпейским образцам. Причем, однако, не следует забывать, что Помпеи были маленьким городком в сравнении с Римом. И все же городской дом далеко не удовлетворял потребностей римского вельможи: редко кто из них обходился без нескольких вилл, как пригородных (suburbanae) где-нибудь в Сабинских или Альбанских горах (Tusculanum), так и более отдаленных — в Баях или Неаполе, Таренте и т.д.
Все сказанное, впрочем, относится к людям зажиточным. Бедняк только в городках мог владеть домом-особняком, в Риме он снимал квартиру (cenacula) в каком-нибудь часто многоэтажном наемном доме (insula).
Римская
одежда была сложнее и торжественнее греческой. Гражданина характеризовала надетая поверх «туники» складчатая
тога, матрону — тоже складчатая палла. Обыкновенно представляют себе греков бородатыми, римлян — бритыми; но это — разница времен, а не народов. В старину и римляне носили бороды, и лишь следуя греческой моде, хотя и несколько позже, они стали их брить. Ко II веку до Р.Х. новая мода уже возобладала, и только «бородатые» изображения предков укоризненно смотрели со стен таблина на своих бритых потомков, напоминая им о gravitas
[30] добрых старых времен.
§ 4. Общественный быт. Рим, в противоположность Греции, характеризуется строго проведенным принципом
сословности. В старину различали
патрициев и
плебеев; первые были потомками тех patres (families), которые, по преданию, некогда с Ромулом по испрошении божьего благословения (auspicato) основали Рим; происхождение плебеев для нас неясно, но, во всяком случае, это были пришлые, непричастные тому благословению, поэтому патриции долгое время и отгораживали от них себя и государство. Двести лет длилась эта «сословная борьба». Добившись вскоре после изгнания царей посредством знаменитой «сецессии на Священную гору» своих особых магистратов (народных трибунов, tribuni plebis, вместе с их помощниками — aediles plebis), плебеи в 451 году до Р.Х. заставили патрициев издать письменные законы (децемвиральные законы XII таблиц), в 445 году до Р.Х. они завоевали conubium с патрициями (lex Canuleja), с 365 года до 355 года до Р.Х. — доступ к консульству (lex Licinia Sextria), за которым вскоре последовали прочие магистратуры, в 300 году до Р.Х. — доступ к главным жреческим должностям (lex Ogulnia), наконец, в 287 году до Р.Х. — признание за постановлениями их (трибутных) собраний общегосударственной обязательности (lex Hortensia, ut quod plebs tributim jussisset, populum teneret). C этих пор разница между патрициями и плебеями также и в общественной жизни стушевалась. Патрицианских родов к позднереспубликанской эпохе вообще оставалось мало (главным образом, Корнелии, Клавдии, Юлии), и выдвинувшиеся за триста лет совместной государственной жизни плебейские роды (Цецилии Метеллы, Лицинии, Кальпурнии Пизоны) ничуть не уступали им в аристократической гордости.
В эту позднереспубликанскую эпоху сословное деление было другое. Мы различаем три сословия: сенаторское, или
нобилитет, всадническое и третье, безымянное, которое тоже стали называть плебсом. Доступ к нобилитету давало достижение одной из трех «курульных» магистратур — (курульного) эдилитета, претуры или консулата. Юридически они были открыты всем, и свобода народных выборов ничем не была стеснена; но столь сильна была аристократическая закваска в сознании римского народа, что фактически только потомки нобилей избирались на эти должности, и только путем неимоверных усилий homo novus
[31] мог прорвать этот заколдованный круг — Катон Старший, Марий, Цицерон, который в течение всей своей жизни должен был бороться с недоверием и недоброжелательством нобилитета; зато для своих потомков он был auctor nobilitatis
[32], и его восковое изображение (imago), висевшее в таблине родового дома, служило живым символом принадлежности его рода к нобилитету.
Второе сословие,
всадническое (ordo equester), уже давно потеряло свою первоначальную связь с конницей: тот имущественный ценз, который вначале был условием содержания лошади, стал чисто сословным цензом и условием пользования его привилегиями. А эти привилегии были очень значительны, особенно с тех пор как Г. Гракх, желая внести раздор в правящие сословия, передал всадникам и уголовные суды, и откупы доходов с провинции Азия. Всадники стали главными капиталистами Рима, своего рода финансовой аристократией; их сословие совпадало почти с сословием крупных откупщиков (ordo publicanorum).
Были и внешние знаки отличия для обоих правящих сословий. Сенатора отличала широкая красная тесьма (latus clavus), вшитая в тунику на груди, где она не была покрыта тогой; если
он был сверх того и курульным магистратом, то он носил и тогу, окаймленную красной тесьмой (toga praetexta). Всадника украшала узкая красная тесьма в тунике (angustus clavus); у всех остальных граждан туники, как и тоги, были белые. На театральных представлениях сенаторам были отведены места в «орхестре» (хора в римской драме не было), всадникам — первые четырнадцать рядов на амфитеатрально возвышающихся ступенях.
Но и в
третьем, безымянном сословии были свои подразделения. Первое место занимали в нем своего рода «почетные граждане», выделяющиеся своим сравнительно высоким цензом, которым поэтому поручалась ответственная роль казначеев при общественных щедротах; это были tribuni aerarii. Второе принадлежало канцелярским чиновникам (scribae), а также и тем, которые в военной службе достигли высшего доступного для третьего сословия ранга — центурионата. Далее шли различные цеховые и другие корпорации (collegia), корпоративная жизнь которых была очень оживление и со своими собраниями, праздниками, городскими попойками и пикниками успешно конкурировала с семейной жизнью своих членов. Последнее место среди свободных занимали отпущенники (как сословие libertini); они уже своим именем отличались от свободнорожденных (ingenui), а именно тем, что они официально назывались не по отцу, а по патрону. Так, сын Цицерона называл себя М. Tullius М. f. Cicero (то есть Marci filius), но его отпущенник Тирон М. Tullius М. 1. Tiro (то есть Marci libertus). Как видно из этого примера, отпущенник получал родовое и большей частью личное имя своего патрона, но вместо фамильного удерживал свое бывшее рабское имя. А впрочем, при всей скромности своего общественного положения (modestissimus ordo) и отпущенники, благодаря своей сплоченности, могли постоять за себя и в обиду себя не давали.
Особенностью римской общественной жизни, тоже вытекающей из ее аристократического характера, был широко развившийся институт
клиентелы: мы представляем себе вельможу, окруженного целой свитой клиентов, тем больше, чем больше была его знатность (dignitas) и его влияние (gratia). Происхождение клиентелы очень разнообразно: и граждане покоренных общин делались клиентами полководца-завоевателя (deditio), причем эти отношения были наследственными, и поселенцы искали заступничества у какого-нибудь знатного гражданина и становились его клиентами (applicatio), и отпущенники оставались клиентами своего патрона (manumissio). Патрон был естественным покровителем своих клиентов: они наполняли его атрий в часы приема, он разбирал их тяжбы между собой и брал на себя их защиту в делах с посторонними. Вся эта помощь была со стороны патрона даровая — почему мы имеем право также и римскую аристократию (ср. выше, с.68) назвать аристократией труда. Зато клиенты были обязаны платить ему личными услугами (officia), из коих главной было — образовать его свиту, когда он в качестве кандидата на государственные должности выступал публично, так как длина этой свиты, будучи вещественным символом его могущества, увеличивала его шансы. Это повело к многочисленным злоупотреблениям, которые пришлось обуздывать посредством особых leges de ambitu
[33]; но сам институт остался неприкосновенным, и расширение клиентелы было для римлянина таким же предметом честолюбия, как для грека — победа в агонах.
Тот же аристократический характер римской общественной жизни повел к возникновению одной особенности в отношении людей друг к другу, которой мы в демократических Афинах не замечаем, а именно официальной учтивости, выражающейся в формулах и оборотах речи. Сенат, предписывая консулам их образ действий, делает это в следующей форме: uti consules, si eis videretur, operam darent
[34]...; оратор, называя какое-нибудь лицо, прибавляет хвалебную квалификацию: С. Pomptinus, vir fortissimus...; Caerellia, lectissima femina...; Q. Caepio, quem ego honoris causa nomino
[35]. При этом сенаторское сословие исправно называется ordo amplissimus
[36], всадническое — ordo honestissimus
[37], и соответственно обозначаются и принадлежащие к ним люди (зародыш титулатуры, между прочим, нашей табели о рангах). В эпоху империи эта официальная учтивость была еще более развита; в Средние века она породила из себя courtoisie, которой романские народы научили и прочую Европу.
§ 5. Хозяйственный быт. Знаменитый привет Вергилия Италии (
Верг. Георг. II, 173):
Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus!
[38] —
правильно, вплоть до наших дней, указывает главную хозяйственную силу Италии; таковой было
земледелие. Но его наиболее здоровую форму, основанную на мелкопоместном землевладении, мы встречаем только в старину; внушительный образ Цинцинната, от сохи призванного к диктатуре в эпоху самнитских войн, навеки остался памятен потомству. Развитие происходило в двух направлениях, одинаково вредных для благосостояния народа:
1. Победоносные войны с италийцами вели к отнятию у побежденных значительной (обыкновенно 1/3) части земли, которая, поскольку она не шла на выведение колоний, образовала так называемый
ager publicus[39]. Из него римская знать захватывала (occupabat) в свою пользу какие кому удавалось участки; они, правда, становились ее владением, а не собственностью, но это не изменяло хозяйственной стороны дела. С очень древних времен идет борьба римской демократии против этого неограниченного права захвата; особенно плодотворной была деятельность обоих трибунов Гракхов (133 и 123-121 годы до Р.Х.), направленная к восстановлению мелкопоместного крестьянства.
Но все эти успехи были лишь частичны; а так как в принципе земля была отчуждаема, то результатом многовекового развития было оскудение мелкой земельной собственности в Италии и скопление земли обширными поместьями (latifundia) в руках знати. А при латифундиарном землевладении и способ использования земли был иной: пришлось — вероятно, по образцу Карфагена — прибегнуть к плантационному методу, заставляя работать сотни и тысячи рабов (servitia) под управлением десятских и сотских. Держали их в особых, часто подземных тюрьмах (ergastula), в кандалах, эксплуатируя их просто как живую силу. Теперь только рабство стало действительным устоем экономической жизни древности и мрачным пятном на ее культуре (см. выше, с.210).
2. Второе направление развития римского земледелия состояло в следующем. Так как, благодаря латифундиям, земля из кормилицы своих собственников превратилась в источник их обогащения, то им пришлось считаться с тем обстоятельством, что со времени первых Пунических войн Сицилия, а со времени третьей — Африка, благодаря климатическим и другим условиям, могли поставлять более дешевый хлеб, чем Италия. Поэтому хлебопашество в Италии мало-помалу переводится и заменяется отчасти
скотоводством, отчасти
разведением плодоносных деревьев (особенно винограда и маслины). Относительно первого характерен ответ Катона Старшего (II век до Р.Х.) на вопрос, какое занятие самое прибыльное: «Хорошее скотоводство». — «А затем?» — «Посредственное скотоводство». — «А затем?» — «Плохое скотоводство». — «А затем?» — «Хлебопашество». (Анекдот продолжает: «А давать деньги в рост?» — На что строгий блюститель староримских нравов ответил: «А убивать людей?» Но это относится к дальнейшей статье.) Так-то значительная часть некогда плодородной Италии — между прочим, римская Кампания — была обращена в степь; «latifundia perdidere Italiam»
[40], — говорит Плиний Старший (XVIII, 35). Появился особый класс людей, рабы-пастухи, дикий и буйный, охотно занимающийся в качестве побочного ремесла разбоем; было положено начало пресловутому итальянскому brigantaggio
[41], процветавшему там до сравнительно недавних времен. Садоводство этих последствий не имело, но зато оно по указанной (с. 135) причине сделало Италию беззащитной: те же города, которые в III веке до Р.Х. героически затворяли ворота при приближении Ганнибала, в I веке до Р.Х. взапуски отворяли их Цезарю, когда он перешел Рубикон.
В сравнении с земледелием
промышленность в Италии отходит на задний план; большинство изделий привозится, на вывоз не работают. Все же число ремесленников было очень велико, особенно по выделке шерсти, в изобилии поставляемой итальянским скотоводством, и они вели очень живую цеховую жизнь.
Напротив,
торговля была обильным источником обогащения; римское правительство всеми средствами заботилось о ее выгодах, и похвальными, как проведение больших дорог, обыкновенно носивших имя проложивших их цензоров (via Appia из Рима через Капую в Брундузий, via Flaminia из того же Рима на север в Аримин, via Aemilia из Аримина в Медиолан, давшая свое название итальянской провинции Emilia), и истребление пиратства (пиратская война Помпея в 67 года до Р.Х.), так и непохвальными, как разрушение конкурирующих торговых городов Карфагена и Коринфа в 146 году до Р.Х. Следует помнить, что, объединив добрую часть мира, Рим нигде не заводил внутренних таможен; никогда после крушения античной культуры Европа не знала такой огромной площади свободной торговли. К сожалению, одним из главных предметов этой мировой торговли, в силу вышеозначенных условий, были
рабы, массами поставляемые постоянными войнами римских наместников с окраинными народами. Главной ярмаркой рабов был Делос, давно уже развенчанный святой остров Аполлона.
Но если торговля наряду с отрицательными сторонами представляет и положительные, то исключительно отрицательные должны мы признать за
банкирством, достигшим в Риме поразительного совершенства, с акционерством и двойной бухгалтерией включительно. Развилось, впрочем, это чужеродное растение не столько на торговле, сколько на откупном деле (см. ниже). Теперь впервые мы имеем и биржу — ею были ворота Януса в Риме; здесь происходили котировки акций, объявления несостоятельности и прочие явления этого узаконенного разбоя. О более мелких его видах — ростовщичестве, faenus
[42] — говорить не стоит.
Все же бедность была в Риме очень распространена, особенно в позднереспубликанскую эпоху, и
городской пролетариат (plebs urbana) представлял собой элемент, опасный для политического равновесия государства. Самое разумное средство для превращения его в здоровый и производительный класс населения — наделение его землей по примеру Гракхов — применялось туго: об использовании латифундий при аристократической форме правления и думать было нечего, свободной земли в Италии почти не было, основание же колоний в провинциях по указанной ниже причине (§ 10) встречало непреодолимое препятствие со стороны сената. Здоровые и сильные граждане со времени военной реформы Мария (ниже, § 7) находили себе место в постоянной армии, но что было делать с остальными? Мы встречали родственную задачу на афинской почве; но если там демократия признала правильным принцип платности исполнения гражданских обязанностей (выше, с. 136), то здесь аристократия не имела никакого основания его применять. Нет, зародилось еще более опасное убеждение, что
римский гражданин, как таковой, имеет право получатъ свою долю прибыли с завоеванного им мира. Первый Г. Гракх, чтобы обеспечить себе расположение народа, ввел хлебные раздачи (frumentationes) гражданской бедноте; его примеру последовали другие. Угощения граждан стали ходячей статьей в завещаниях вельмож, снискивая популярность щедрому наследнику; но хуже всего была тайная и преследуемая законом (leges de ambitu, выше, с.254), но все же великолепно организованная
купля голосов кандидатами на магистратские должности. Благодаря всему этому римское гражданство стало, помимо чести, довольно прибыльной статьей, но только в городе Риме. Последствием было ужасающее стечение гражданской бедноты в столицу — фермент всех волнений, ознаменовавших собой последнее столетие республики, и одна из причин ее гибели.
Обращаясь затем от частного хозяйства к
государственному, то есть к доходам и расходам государственной казны, мы отмечаем прежде всего полное освобождение римских граждан от прямой подати. Таковая не существовала никогда. Производившееся раньше на военные нужды поголовное обложение (tributum) возмещалось из контрибуции побежденного врага, так что оно было скорее внутренним беспроцентным займом; но после 168 года до Р.Х. и оно было упразднено.
Доходными статьями (vectigalia) были главным образом следующие: 1. Доходы с государственных
домен (сдаваемых в аренду земель, рыбных промыслов, рудников и т.д.). Сюда же относится соляной акциз и т.д. 2.
Таможенные пошлины с иноземных товаров. 3. Доходы с
провинций — либо в виде поголовного налога (stipendium), либо в виде десятины с урожая (decuma). Эта статья по мере расширения римского государства стала преобладающей.
Для взимания государственных доходов и в Риме существовала
откупная система (выше, с. 138); разница состояла, однако, в том, что здесь и крупные капиталисты, то есть всадники (выше, с.252), не брезговали этим средством обогащения, так что здесь мы вместо скромных мытарей греческого Востока имеем крупных откупщиков (publicani), которые, кроме того, для противодействия конкуренции соединялись в общества (societates). Откупу обыкновенно сопутствует ростовщичество: пользуясь затруднениями общин или частных лиц в уплате следуемой пошлины, ростовщики (почетно называемые negotia tores) ссужали им под высокие проценты требуемую сумму. «Публиканы» вместе с «негоциаторами» были главными пиявками провинций; наместники их редко могли сдерживать, так как это значило бы возбудить против себя влиятельное сословие всадников. Помогла провинциям лишь империя.
Из государственных
расходов главные были на управление провинциями и войско; затем следовали вышеназванные фрументации. Излишки шли на общественные здания, дороги и т.п., причем для их сооружения практиковалась система
подрядов. Очень часто, впрочем, храмы богам строились за счет военной добычи, особенно если полководец перед победой давал соответствующий обет. Нечто вроде греческих литургий существовало для всенародных
зрелищ (ludi in circo, in amphitheatro, in theatro
[43]): они входили в обязанности магистратов, а именно эдилов и городского претора. Правда, государство давало им с этой целью известную минимальную сумму, но магистрат испортил бы всю свою карьеру, если бы вздумал ею ограничиться. Наряду со всенародными угощениями и эти всенародные зрелища стали обычным средством снискать популярность (panem et circenses!
[44]), которая должна была пригодиться эдилицию на преторских выборах, претору — на консульских; обе эти должности давали право на управление провинцией, и здесь, наконец, вельможа мог поправить свое расшатанное кандидатскими щедротами состояние. Правда, в случае слишком откровенных вымогательств ему грозил в Риме, по обвинению провинциалов, суд
repetundarum[45], ради которого была учреждена в 149 году до Р.Х. Пизоном Честным первая уголовная комиссия (ниже, § 6). Таков был заколдованный круг римского государственного хозяйства.
§ 6. Правовой быт. Светлую сторону римской общественной и государственной жизни составляло знаменитое римское право. Его ядром были изданные в 451-449 годах до Р.Х. комиссией децемвиров
законы XII таблиц — такая же уступка демократическим веяниям, как и состоявшиеся много раньше кодификации греческого права. Залогом прогресса были не они, а то, что Рим создал с середины IV века до Р.Х. магистратуру, обязанностью которой было толковать и развивать кодифицированное право. Это была
претура — viva vox juris civilis
[46], как ее справедливо называют. Ежегодно претор в своем эдикте (edictum praetorium) объявлял, с какими ограничениями и добавлениями он намерен применять существующие законы. Он делал это очень осмотрительно, так как ненужные уклонения от эдикта предшественника, внося смуту в правовое сознание граждан, строго осуждались общественным мнением. Благодаря этой осмотрительности преторский эдикт, наряду с законами XII таблиц, стал вторым источником римского права — живым и подвижным, находящимся в постоянном общении с жизнью и поэтому развивающимся вместе с ней. Третьим источником были так называемые
responsa prudentium, резолюции опытных юристов, выносимые ими в затруднительных делах по просьбе сторон. Обязательности они не имели, их авторитет был чисто нравственный, но так как они исходили от специалистов, то претор, который в редких случаях сам был юристом, охотно ими руководствовался, видоизменяя соответственно свой эдикт. Эти юристы, набившие себе руку на консультациях, охотно издавали плоды своей деятельности в особых книгах. Таков был юрист М. Юний Брут, издавший в эпоху Гракхов сочинение «De jure civili» странным образом как книгу для чтения и поэтому в диалогической форме, или его современник П. Муций Сцевола (консул 133 года до Р.Х.), которому приписывают характерное изречение fiat justitia, pereat mundus
[47]. Расцвет римской юриспруденции начался тогда, когда с римским юридическим духом сочеталась систематизирующая стоическая философия; плодом этого сочетания было замечательное сочинение понтифика
Кв. Муция Сцеволы, сына Публия (консул 95 года до Р.Х.), в XVIII книгах — первая в истории человечества система гражданского права, состоявшего раньше из отдельных юридических практик. Оно нам не сохранено, но на нем покоится все позднейшее римское право, и благодаря внесенному в него Сцеволой философскому духу это право стало воспитателем нашего.
Тот же претор, который был в своем эдикте законодателем права, имел в своих руках и инструкцию
процесса. Тяжущиеся обращались к нему; если формальные условия позволяли дать делу ход, то претор actionem dabat
[48] — назначал судью (если сумма иска была ясна) или арбитра (если таковую следовало определить) и давал ему судебную «формулу», по которой он должен был творить суд. Судья (или арбитр) приглашал к себе «заседателями» нескольких почтенных граждан, по выслушании сторон (причем представительство, в отличие от греческого судопроизводства — выше, с. 73 — было разрешено) и проверке судебных доказательств объявлял свой приговор и передавал его претору, который приводил его в исполнение. Может показаться странным, что при массе римских граждан государство обходилось одним претором. Объясняется это распространенностью домашнего суда (к которому относится и суд патрона над клиентами, выше, с.255), а также и третейского (arbiter ex compromisso), вследствие чего мелкие дела не доходили до представителя государственной власти (minima non curat praetor
[49]).
Все сказанное относится, впрочем, к тяжбам римских граждан между собой; только они решались по
jus Quiritium, то есть законам XII таблиц с преторским эдиктом. Тяжбы неграждан решались по более упрощенному jus gentium, не связанному традицией и стремившемуся не столько к формальной справедливости (justum), сколько к реальной (aequum). Совмещение обоих прав в лице одного претора тоже было орудием прогресса, так как этот совместитель получал возможность переводить более свободные и современные постановления juris gentium
[50] в свой преторский эдикт. Правда, с конца 1-й Пунической войны накопление дел вынудило римлян назначить претору коллегу в лице так называемого praetor inter peregrinos, чем был довершен параллелизм с эллинистическими установлениями (выше, с.213); но фактически и впоследствии обе должности часто совмещались.
Римское право делилось на частное (privatum) и общественное (publicum). Такое деление не соответствует нашему делению на гражданское и уголовное: все-таки второе развилось из первого. И частное и общественное право могло быть деликтическим (там — кража, здесь — государственная измена) и неделиктическим (там — спор двух граждан об имуществе, здесь — такой же спор казны с гражданином); но важные преступления, требовавшие строгого («капитального») наказания, как убийство, поджог и т.д., рано были отнесены к разряду общественных. Подсудны они были первоначально высшему магистрату; но закон, который традиция относит к году основания республики, разрешил в случае осуждения так называемую provocatio ad populum
[51], в силу чего вошел в обычай, для уголовных преступлений, народный суд. Это была очень тяжеловесная машина; с середины II века до Р.Х. поэтому учреждаются для главных преступлений так называемые
quaestiones perpetuae (то есть уголовные комиссии) присяжных.
И состав преступления, и судопроизводство, и кара были предусмотрены в учредительном законе и видоизменению со стороны преторов не подлежали; в этом заключается причина неподвижности римского уголовного права в сравнении с гражданским. Присяжными были вначале сенаторы, затем, с Г. Гракха (123 год до Р.Х.), всадники, затем, с Суллы (82 год до Р.Х.), опять сенаторы; наконец в 70 году до Р.Х.
lex Aurelia judiciaria ввела всесословный суд присяжных, в который, каждое в размере одной трети, входили все три сословия — сенаторов, всадников и плебса (последнее в лице его tribuni aerarii, выше, с.253). А так как благодаря учредительным законам в правовое сознание римского общества внедрились, хотя и будучи формулированными, оба основных правила также и нашего судопроизводства — nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
[52], — то во всесословном суде присяжных 70 года до Р.Х. мы должны признать завершение римского правосудия — ту наивысшую ступень, которой новая Европа достигла лишь в XIX веке.
Еще следует заметить, что из возможных наказаний телесные по закону (leges Porciae de tergo civium
[53]), а казнь фактически к римским гражданам не применялись: последнюю осужденный мог заменить добровольным изгнанием, что он, разумеется, всегда и делал. А так как лишение свободы практиковалось только в виде предварительной (коэрциционной) меры, то фактически наказания граждан сводились к имущественным пеням различной высоты и к умалению гражданских прав (capitis deminutio). Другое дело — неграждане; по отношению к ним были в ходу и тюрьма, и бичевание, и казнь — между прочим, на кресте.
§ 7. Военный быт. Римские легионы покорили мир; римское военное дело поэтому заслуживает полного внимания историка культуры.
Вначале мы и здесь имеем дело с гражданским ополчением; центурии (сотни), на которые распадался народ, были действительно боевыми ротами, всадники действительно составляли конницу. В принципе не изменила дела и так называемая
реформа Камилла (около 380 года до Р.Х.), давшая легиону своеобразное деление на три строя (acies), восходящие по возрасту, а именно hastati, principes и triarii (отсюда поговорка —
res ad triarios venit, то есть «принимает серьезный оборот»). Каждый строй состоял из десяти «манипулов», каждый по две центурии (по шестьдесят человек; только у триариев манипулы совпадали с центурией); между манипулами были промежутки, через которые пробегали легковооруженные числом тысяча двести.
Таким образом, каждый легион состоял из четырех тысяч двухсот человек, к которым прикомандировывалось еще триста всадников.

Италийские войны и последовавшие за ними союзы с побежденными повели к соответствующему осложнению военного дела; стали набирать легионы также из «союзников» (socii) под началом особых префектов. Союзническая война 90 года до Р.Х., поведшая к дарованию италийским союзникам гражданских прав, упразднила эту чересполосицу; одновременно состоялась важная для всей дальнейшей истории Рима
реформа Мария, заменившая прежнее гражданское ополчение регулярной армией, правда, все еще гражданской, а не наемной, поэтому последствием было не ослабление, а усиление военной мощи Рима.
Прежде всего Марий упразднил всеобщую воинскую повинность: численность римской гражданской бедноты дала ему возможность заменить ее (мы сказали бы: английской) системой добровольческой службы. Гражданин поступал в армию солдатом за жалование (stipendium) и присягой обязывался служить в ней двадцать лет; таким образом, могла получиться такая военная выправка, которая при прежней системе ополчения была невозможна. Манипулы различных строев были соединены в когорты, которых, стало быть, было в легионе десять, каждая по шесть центурий в сто человек, — всего, значит, стояло в легионе шесть тысяч человек. Штабные офицеры (так называемые военные трибуны), по шесть на легион, чередовались в команде; они были из знати. Напротив, строевые (центурионы) выслуживались из простых солдат и путем сложной системы повышений могли дослужиться до почетного чина primipilus'a, принимавшего участие в военном совете. В названии этого офицера заключено указание на национальное оружие римского легионера: им было pilum, род копья. Вообще же вооружение римского тяжеловооруженного воина состояло из тех же частей, как и в Греции и Македонии. Также и прочие усовершенствования эллинистической эпохи нашли себе применение в римском войске.

И все это войско, доведенное, благодаря расширению государства, до огромных размеров, стояло в провинциях; Италия со времени Суллы была лишена вооруженной силы. Было, однако, ясно, что при множестве этих провинций римские граждане не могли одни нести становившуюся все более и более тяжелой «повинность крови»: пришлось привлекать вспомогательные отряды (auxilia) из провинциалов, причем римляне удачно использовали боевые особенности покоренных племен, набирая всадников из галлов, испанцев, нумидийцев, стрелков с Крита, пращников с Балеарских островов и т.д. Опасности пока в этом не было никакой: римские легионы все-таки преобладали и численностью, и выправкой, и их серебряные орлы, введенные Марием, обращали на себя глаза всех как внушительные символы непреоборимой силы римского воинства.
§ 8. Государственный быт. В римской конституции историк Полибий (выше, с.231) прославляет гармоническое сочетание трех государственных форм — монархической, аристократической и демократической: первая, — говорит он, — олицетворена в магистратуре, вторая — в сенате, третья — в народном собрании. Для своего времени — времени расцвета римской республики — он был прав; но дальнейшее развитие, завершенное реформой Суллы в 82 году до Р.Х., повело к последовательному подчинению магистратской власти сенату и к фактическому упразднению значения народного собрания. В позднереспубликанскую эпоху мы имеем поэтому преимущественно
аристократический режим.
I. Возникшая из царской власти
магистратура вначале была представлена двумя годичными
консулами (слово означает «коллеги»), называвшимися, впрочем, преторами («начальниками»); им принадлежала высшая власть, imperium, притом как в гражданском правлении (domi), так и в военном (militiae). Они были, таким образом, военачальниками, правителями, судьями. Их помощниками были
квесторы (собственно, «следователи»), их слугами — ликторы, носившие символы их карательной власти — пучки с розгами, так называемые fasces. Их совещательным органом был ими же набираемый сенат, в котором они председательствовали так же, как и в народном собрании. В начавшейся вскоре после провозглашения республики сословной борьбе плебеи быстро добились своих магистратов —
народных трибунов с их помощниками,
плебейскими эдилами (aediles, названные по имени aedes Cereris, — ниже, § 16, — где находился плебейский архив). Они были неприкосновенны (sacrosancti) в видах оказания помощи обижаемым плебеям (jus auxilii); они же председательствовали в собраниях плебса (concilia plebis), постановления которых (plebi scita) были пока обязательны только для плебса. Так-то в Риме тогда (то есть в V веке до Р.Х.) были две системы магистратур — патрицианская и плебейская, взаимно недоступные для другого сословия.
Стремление плебса к завоеванию консулата повело к дроблению патрициями консульской власти: в 443 году до Р.Х. была учреждена
цензура для периодического установления общины (census) и составления сената (lectio senatus) и всаднических центурий; в 367 году до Р.Х. — единоличная
претура для суда (praetor urbanus, в отличие от praetores consules, предводительствующих войском); тогда же — и
курульный эдилитет для надзора за торговлей. Эти новые должности учреждались в видах предоставления патрициям связанных с ними полномочий; но плебеи успокоились не раньше, чем добились доступа также и к ним. К началу III века цель была достигнута, и получилась единая народная магистратура, занимаемая избранными гражданами в следующем порядке: квестура — трибунат — эдилитет (курульный или плебейский) — претура — консулат — цензура. Запрещено было занимать одну должность непосредственно после другой (continuatio); право занимать одну и ту же дважды (iteratio) было ограничено. Напротив, продление власти (prorogatio imperii) консулам и преторам, в силу которого они становились проконсулами и пропреторами, допускалось, но исключительно для управления провинциями. С этих пор трибунат перестал быть угрозой для знати; напротив, он стал союзником сената в его стремлении держать в повиновении консулов.
Развитие римской магистратуры было завершено
Суллой. Он резко отделил магистратуру от промагистратуры (то есть проконсулата и пропретуры), предоставив последней военную власть (то есть управление провинциями), магистратуре же — исключительно гражданскую. С его времени и до конца республики мы имеем в Риме:
1. Двадцать
квесторов с главным образом казначейскими полномочиями в Риме и провинциях; каждый бывший квестор ipso jure
[54] делался сенатором, чем была упразднена цензорская lectio senatus
[55].
2. Десять
народных трибунов, полномочия которых, урезанные Суллой, были вскоре восстановлены в полном объеме. Из них главными были право проведения в concilia plebis обязательных (с 287 года до Р.Х.) для всего народа «плебисцитов», а также право «интерцедировать» консульские законы и мероприятия и делать их этим недействительными.
3. Два
курульных и два
плебейских эдила, надзиравших за торговлей и дававших народу игры.
4. Восемь
преторов (из них один praetor urbanus, один praetor inter peregrinos и шесть председателей уголовных комиссий, см. выше, с.261). По окончании годичного срока претор становился пропретором и получал в управление «преторскую» провинцию с ее войском, в принципе, на год; этот срок, однако, мог быть продлен.
5. Двух
консулов, сохранивших из своих некогда широких полномочий только право созывать сенат и народное собрание — последнее для выборов, но и для проведения в нем своих законов. По истечении годичного срока и консул получал как проконсул свою провинцию.
6. Двух
цензоров, избиравшихся периодически (по принципу — каждое пятилетие, lustrum) для проверки гражданского состава общины (census) и ее освящения (lustrum condere), причем предоставленное им право переводить гражданина из более привилегированной группы в менее привилегированную включало в себя косвенно надзор за общественной нравственностью (regimen morum, nota censoria). Они же отдавали подряды на общественные сооружения.
7. Вне магистратской табели стояла
диктатура. В старину единоличный диктатор, назначенный консулом в тревожную для государства минуту, воскрешал в своем лице царские полномочия; торжество сената во II веке до Р.Х. повело к фактическому упразднению диктатуры. В I веке до Р.Х. она была возобновлена дважды в лице Суллы и Цезаря, причем второе возобновление было сигналом гибели республики.
II.
Народное собрание в Риме отличалось от греческого веча своей организованностью: каждый подавал голос внутри той политической группы, к которой он принадлежал, и решающее значение имело большинство групп, а не общее большинство голосов. Подбором групп был обусловлен, как мы увидим тотчас, аристократический характер народных собраний. От афинского же веча римское народное собрание отличалось еще отсутствием инициативы: оно могло только принять или не принять вносимый председательствующим магистратом закон, избрать или провалить предлагаемого кандидата, но не изменить закон или избрать другого кандидата. Группировка была двойная. Одна имела основанием территориальное деление римского народа на тридцать пять триб, из которых тридцать одна была сельская и только четыре — городские. А так как весь городской пролетариат (со всеми отпущенниками) был причислен к городским, сельские же, включавшие помещиков, были малочисленны, то преобладание нобилитета было обеспечено. Собрания по трибам были либо всенародными
(comitia tributa), либо плебейскими
(concilia plebis); по составу они в позднереспубликанскую эпоху почти что совпадали, разница была лишь в том, что первые созывались консулом или претором, вторые — трибунами. Собирались они на городской площади (forum) главным образом для законодательных актов.
Вторая группировка была основана на комбинации территориального деления на трибы с имущественным на пять классов (последнее приписывалось царю Сервию Туллию) и с возрастным на два призыва, seniorum и juniorum: в принципе, каждая триба распадалась на десять «центурий», причем всадники составляли особые центурии. Эта группировка была еще более аристократической. Основанное на ней народное собрание называлось
comitia centuriata; собиралось оно — что было пережитком его некогда военного значения — на Марсовом поле под городом главным образом для выборов старших магистратов.
Все эти народные собрания были до тех пор действительно народными, пока весь народ имел возможность их посещать — то есть в ту древнюю эпоху, когда ager Romanus
[56] был невелик. Уже выведение колоний и дарование гражданства более отдаленным муниципиям (ниже, § 9) повело к нарушению их всенародности; когда же после союзнической войны в 89 году до Р.Х. вся Италия получила гражданские права, народные собрания стали простым звуком. Тогда римская республика оказалась на распутье: или перейти от плебисцитарной системы к неприемлемой для античного человека парламентской (выше, с. 77), или превратиться в сенатскую олигархию и затем в империю. Случилось, как известно, последнее.
III.
Сенат из первоначального совещательного органа царя и консулов сумел, окрепнув в борьбе сословий, стать настоящим правителем государства, держа в повиновении консулов и пользуясь народным собранием как простым орудием своей воли. Был он вначале чисто патрицианским (patres), но при учреждении республики принял в свой состав и «вместе записанных» (conscripti) представителей плебейских родов. Число сенаторов, строго ограниченное за время существования цензорской lectio, стало неограниченным с тех пор, как по закону диктатора Суллы ежегодно двадцать новых квесторов вступало в их состав; оно колебалось между пятьюстами и шестьюстами. Внутри сената существовало деление на ordines
[57], строго соблюдаемое при совещаниях: старшим ordo были «консулары» (то есть бывшие консулы), за ними шли «претории», далее «эдилиции» и «трибуниции», наконец, «квестории». Председательствующий консул, изложив суть дела, обращался к наиболее почтенному консулару с просьбой подать свое мнение («die, М. Tulli!»
[58]); тот делал это в более или менее пространной речи, кончая ее своим предложением (sententia). Следующие могли или, вставая, сделать свое предложение, или, сидя, согласиться с одним из сделанных уже («М. Tullio assentior»
[59]).
Сенатское правление наложило свой отпечаток на последний век республики; нам оно прекрасно известно благодаря речам и письмам Цицерона. Нельзя ему отказать в известной, истинно римской, величавости; но с задачей управления огромным государством оно совладать не могло. Его режим был временем постоянных смут — революция Гракхов, союзническая война, Марий и Сулла, невольническая война Спартака, заговор Катилины, анархия Клодия, Цезарь и Помпей, Октавиан и Антоний... Почти непрерывно одна гроза сменяла другую вплоть до последней, когда наступило длительное успокоение под эгидой империи. Как это случилось, об этом тотчас.
§ 9. Рим и Италия. Возвысившись среди прочих общин и племен Италии, Рим, тем не менее, оставался
государством городом; как таковой, он имел в своем распоряжении только те формы господства, которые нами рассмотрены выше (с.78), — амфиктионию, синэкизм и гегемонию. Первая — союз латинских городов вокруг горы Латинского Юпитера (Jupiter Latiaris) — только в старину играла известную роль; она слилась с гегемонией Рима над латинскими городами, которая в 338 году до Р.Х., после окончания латинской войны, повела к установлению «латинского гражданского права» (противопоставляемого римскому). Латинские общины сохранили самоуправление, их граждане получили право голосовать в римских комидиях (jus suffragii, довольно призрачное ввиду того, что их причисляли всех по жребию к одной из тридцати пяти триб), не получив права быть избираемыми на должности (jus honorum), но могли сделаться полноправными римскими гражданами, если занимали раньше магистратуру в своей общине. Это было, таким образом, полусинэкизмом, полугегемонией. При всем том и область римского гражданства расширялась: 1) путем дарования такового целым латинским общинам, в силу чего они превращались в
муниципии и 2) путем выведения римских
колоний в более отдаленные области Италии. Основание первой такой колонии (Остии у устья Тибра) приписывается еще царю Анку Марцию; из позднейших главными были Sena Callica в Умбрии (около 283 года до Р.Х., ныне Sinigaglia), Путеолы в Кампании (в 134 году до Р.Х., ныне Pozzuoli), Парма и Мутина (ныне Modena) в циспаданской Галлии (в 183 году до Р.Х.); всех же было свыше тридцати. Параллельно с ними основывались и колонии латинского права; главными были Венузия в Апулии (в 291 году до Р.Х.), Аримин в галльской области сенонов (в 268 году до Р.Х., ныне Rimini), Беневент в Самнии (тогда же), Брундизий в Калабрии (в 244 году до Р.Х., ныне Brindisi), Кремона и Плаценция (ныне Piacenza) в цизальпинской Галлии (в 220 году до Р.Х.) и Аквилея (в 181 году до Р.Х.) там же. А так как параллельно с выведением этих латинских колоний старые латинские города в Лациуме превращались в римские муниципии, то уже ко II веку до Р.Х. понятия «Лациум» и «латинские граждане» совсем перестали совпадать. Все эти колонии были первоначально военными поселениями, опорами римской власти в побежденной стране; но сами собой они стали — и в этом их культурноисторическая важность —
очагами романизации Италии.
Самоуправление как колоний, так и муниципиев было построено по образцу римского, только титулатура была другая.
Во главе общины стояли duoviri juri dicundo
[60], соответствующие консулам; они собирали городской совет декурионов, соответствующий сенату. Второй главной магистратурой были два эдила, объединяемые часто с первой под общим именем quatuorviri
[61]: ценз периодически производился квинквенналами, соответствующими римским цензорам. Наконец, происходили собрания и всего гражданского населения, организованного по старинным родовым куриям, — в Риме таковые (comitia curiata
[62]) тоже некогда были, но к эпохе расцвета они давно успели выйти из употребления.
Но организация римско-латинской Италии была только первой задачей; труднее была другая.
Победоносные войны с самнитами, этрусками и другими нелатинскими племенами Италии повели к гегемонии Рима также и над ними, то есть к заключению «союзов» с побежденными, в силу которых те были обязаны помогать Риму в его войнах своими войсками; война с Ганнибалом, например, была выиграна римлянами благодаря деятельной помощи союзнических контингентов. Последствием было то, что «союзники» почувствовали желание сами стать членами той общины, величие которой они окупили своей кровью. Эти надежды, не раз обманываемые, повели, наконец, в 90-89 годах до Р.Х. к великой
союзнической войне, в которой Риму еще раз пришлось сразиться с побежденными италийцами. Это была очень своеобразная война. Обыкновенно люди воюют, чтобы отстоять свою национальную самобытность; италийцы, напротив, воевали для того, чтобы растворить свою национальность в римсколатинской. Они достигли цели: в 89 году до Р.Х. вся Италия до Апеннин получила римское гражданство (а Галлия севернее Апеннин пока — латинское), и с этого времени осский, этрусский, умбрийский и другие языки в новых италийских «муниципиях» заменяются латинским.
Так состоялась
романизация Италии. Рим достиг ее именно тем, что не навязывал своей национальности побежденным, а, напротив, заставлял видеть в ней завидную награду, которую надлежало взять заслугами или с бою.
§ 10. Рим и провинции. Последствием 1-й Пунической войны было приобретение Римом (в 241 году до Р.Х.) его первой провинции (карфагенской) Сицилии. В течение двух следующих столетий за этой первой провинцией последовали: 2) Сардиния с Корсикой в 238 году до Р.Х.; 3) Ближняя Испания (главный город Картагена) и 4) Дальняя Испания (главный город Кордуба, ныне Кордова) в 206-197 годах до Р.Х.; 5) Цизальпийская Галлия (главный город Медиолан) в 191-188 годах до Р.Х.; 6) Иллирик (главный город Салоны) в 167 году до Р.Х.; 7) Македония (главный город Фессалоника) в 146 году до Р.Х. с Ахайей (главный город с 46 г. до Р.Х. — Коринф) в 144 году до Р.Х.; 8) Африка (главный город Карфаген) в 146 году до Р.Х.; 9) Азия (главный город Эфес) в 133 году до Р.Х.; 10) Нарбонская Галлия (главный город Нарбон) в 121 году до Р.Х.; 11) Киликия (главный город Таре) в 102-84 годах до Р.Х.; 12) Вифиния (главный город Никомедия) в 74 году до Р.Х. с Понтом (главный город Амасея) в 65 году до Р.Х.; 13) Киренаика в 74 году до Р.Х. с Критом; 14) Сирия (главный город Антиохия) в 64 году до Р.Х.

Свободное население этих областей распадалось на следующие три разряда:
1.
Римские граждане. Таковых следовало бы искать прежде всего в римских колониях, но в силу странной теории, которой держался римский сенат, понятие земельной собственности jure Quiritium
[63], юридически связанное с понятием римской колонии, было несовместимо с провинцией. Единственной римской колонией, основанной в эпоху Гракхов при отчаянном сопротивлении сената, был Нарбон в трансальпийской Галлии. Вообще же в провинциях существовали колонии римских граждан в нашем смысле (например, «французская колония в Петрограде»); они назывались
conventus civium Romanorum. Живя в провинциальных городах, они имели свою корпорационную организацию и пользовались особым покровительством наместника. Состояли они главным образом из купцов и «негоциаторов»; благодаря своей энергии они стали главным очагом романизации провинций, по крайней мере, на Западе; на Востоке они, понятно, не могли устоять против превосходящей греческой культуры.
2.
Автономные подданные (peregrini foederati et liberi). Таковыми были граждане некоторых провинциальных общин, которые подчинились Риму при особо благоприятных для них условиях. Главные из них: в Сицилии — Мессана, в
Нарбонской Галлии — Массилия, в Дальней Испании — Гадес (ныне Кадис), в Македонии — Диррахий (ныне Дураццо), в Ахайе — Афины, в Азии — Родос, в Сирии — Тир, в Африке — Утика. Положение их было в принципе то же, что и италийских «союзников».
3.
Неавтономные подданные (peregrini dediticii). Ими были все вообще провинциалы, кроме названных только что общин. Самоуправлением они пользовались в разрешенных наместником пределах. Этот наместник (со времен Суллы пропретор или проконсул) управлял ими через своих легатов или префектов, он же в важных случаях творил над ними суд. С этой целью он брал с собой в провинцию несколько «легатов» из числа сенаторов и многочисленную «когорту» (cohors) из римских граждан. Он же командовал и расположенными в провинции легионами, пользуясь ими не столько для подавления (редких) восстаний, сколько для войны с пограничными народами. Эти войны были для наместника очень заманчивы: они сулили ему богатую добычу (в худшем случае — рабами); после победы войско охотно провозглашало его imperator'ом, а по возвращении в Рим он мог отпраздновать так называемый
триумф, то есть совершить торжественный въезд на Капитолий для благодарственной жертвы Юпитеру Капитолийскому. Безопасность республики требовала, чтобы наместник оставался в провинции не долее года; но войны и смуты заставляли иногда уклоняться от этого правила, и последствия оказались для республики роковыми: ее погубил смелый проконсул трансальпийской Галлии, в восьмилетних боях (58-51 годы до Р.Х.) завоевавший эту провинцию, затем во главе своих победоносных и преданных легионов перешедший Рубикон.
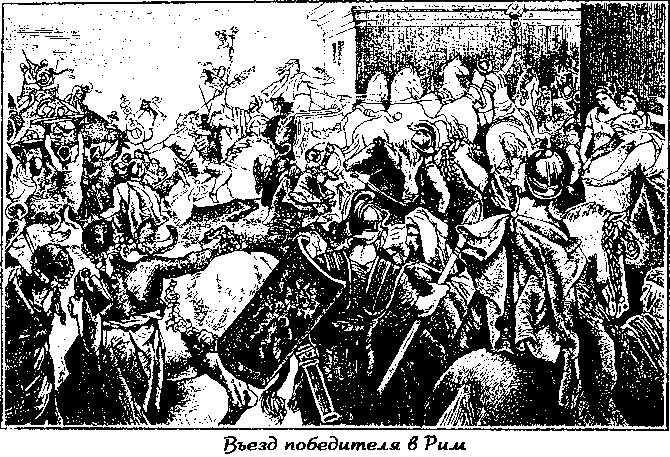
§ 11. Нравственное сознание. В противоположность эллину с его
агонистической душой, поведшей его вполне естественно и последовательно на путь
положительной морали, мы римлянину должны приписать душу
юридическую и в соответствии с ней стремление к
отрицательной морали праведности, а не добродетели (выше, с.36); именно эта юридическая основа его нравственного сознания сделала его творцом в области права, нравственного сознания сделала его творцом в области права. Римский идеал — vir bonus, то есть человек, во всех отношениях своей жизни, начиная с богов, продолжая отечеством, семьей, клиентами, челядью, видящий себя окруженным целой сетью правовых постановлений и прилагающий все усилия к тому, чтобы в ней не запутаться; это — идеал строгой корректности, за соблюдение которого человек награждается общественным уважением, доброй славой при жизни и после смерти. Боги, конечно, властны над жизнью человека, но лишь постольку, поскольку и они поставлены к нему в юридические отношения. Строго соблюдая установленные молитвы и жертвоприношения как договор наследственный, а также блюдя верность клятве и обету как договору личному, человек обеспечивает себе их благоволение. Если его постигает несчастье свыше, его первая мысль та, не нарушил ли он, хотя бы невольно и бессознательно, одного из этих договоров, в пределах которых он только и признает право богов над ним. Понятно, что такая юридическая основа нравственности легко ведет к формализму — к исполнению внешней буквы предполагаемой справедливости независимо от ее внутреннего содержания и духа.
И вот на эту исконно римскую нравственную подпочву начинает воздействовать, приблизительно с III века до Р.Х., греческая жизнь и греческая философская мысль, первая — снизу и со всех сторон, вторая — сверху. Результатом этого воздействия является
эллинизация также и
римской нравственности. Мы видели уже, как благодаря этой эллинизации был издан даже особый юридический кодекс, jus gentium, с новым идеалом справедливости, aequum, противоположным старинному идеалу формального права. При свете этого нового нравственноправового сознания римляне поняли, что строгое следование букве права может повести к полному извращению его духа (summum jus summa injuria
[64]). Но полнее всего была эллинизация нравственного сознания на высотах римского общества в той его струе, которая вела свое начало от Сципиона Старшего.

Уже сам основоположник этого направления, как эллинствующий, возбудил нарекания представителей староримской корректности в роде Фабия Кунктатора; они усилились при его преемниках Т. Квинктии Фламинине и М. Эмилии Павле, когда римская реакция обрела своего самого авторитетного представителя в лице строгого М. Порция Катона. Но победа была суждена эллинствующим: они одержали ее в лице родного сына Павла, Сципиона Младшего, кружок которого был средоточием эллинизации и гуманизации Рима. Его душой был родосский переселенец, стоик Панэций (выше, с.215); прекрасно понимая, в чем нуждались римляне, он написал для них первый кодекс нравственности, сочинение «Об обязанностях», позднее переделанное по-латыни Цицероном («De officiis»), но уже и в своей греческой форме достаточно понятное для образованных римлян. Здесь формально юридическая почва покидается сознательно и совершенно; даже клятва с ее обязательностью переносится с говорящих уст в мыслящую и волящую душу. Праведность, да и то в ее реальном, а не формальном виде, признается только одним из двух идеалов естественного стремления к справедливости; вторым объявляется благотворительность, улучшение доли ближнего в той мере, в какой это разумно (и, значит, в противоположность неосмысленной расточительности, плодящей дармоедов). И рядом с этим стремлением ставятся другие, столь же греческие по своему духу, сколь чуждые исконно римской природе: стремление к познанию, стремление к первенству — чисто агонистическая идея! — и, наконец, стремление к индивидуальному устроению своего характера и своей жизни, в духе замечательных слов Перикла (выше, с. 129) и вразрез с основным сознанием народа, точно так же прикрывавшего индивидуальные черты характера под обезличивающей корректностью идеального vir bonus
[65], как у него прихотливые очертания тела исчезали в складчатом покрове гражданской тоги.
Панэций был воспитателем римского общества — но только той его части, которой пришлась по душе стоическая основа его морали. Это была его лучшая часть; заветы Сципиона перешли к Кв. Лутацию Катулу, от него к Л. Крассу (оратору), от него к Цицерону, Катону Младшему и М. Бруту. Можно даже сказать, что в эллинизованном римском обществе стоический идеал достиг своего апогея, так как здесь греческая философская мысль сочеталась с исконно римской выдержкой характера. Цицерон не раз бывал слаб в жизни, но смерть он встретил мужественно; еще более освятили свое дело своей геройской смертью Катон и Брут. Только теперь взошли семена, зароненные некогда первыми учителями в души их впечатлительной аудитории под колоннадами Пестрой Стои. Староримский vir bonus вырос и преобразился; он стал тем исполином духа, про которого сказано:
si fractus illabatur orbis,
impavidum ferient ruinae.
[66]
Но, повторяем, это была лишь одна часть римского общества; другая избрала себе вождем Эпикура, этика которого вслед за стоической перекинулась в жаждущий образования Рим. Прославление удовольствия как цели жизни пришлось очень но сердцу богачам-сенаторам и всадникам, как раз теперь расширившим свои дома и виллы греческими перистилями и собравшим в них всю роскошь греческого Востока для изысканнейших наслаждений. Строгие последствия, которые сам Эпикур выводил из своих заманчивых предпосылок, замалчивались или отбрасывались; хотелось все изведать, все вкусить:
dum res et aetas et sororum
fila trium patiuntur atra
[67].
Ибо дальше была пустота; так учил Эпикур и так охотно верили... Спасибо и на том, что не было загробного суда и расплаты за чрезмерность наслаждения на земле.
Таковы были обе части эллинизованного римского общества, соперничавшие между собою в последние десятилетия римской республики.
Глава II. Наука
§ 12. Подобно всем народам древности, за единственным исключением греков, древние римляне знали первоначально только
прикладное знание. Сюда относилось, первым делом, умение обеспечить себе благоволение
богов правильными — именно правильными, отнюдь не задушевными — молитвами и жертвоприношениями, умение разгадывать их волю, сказывающуюся в поведении священных птиц, в рисунке печени жертвенного животного и других приметах; затем в умении правильно исполнять свои
магистратские функции, к чему примыкала вся область государственного и частного
права. Все это при случае записывалось в особых «памятках» (commentarii) в назидание нуждающимся.
Особым вниманием пользовалось у римлян
земледелие в широком смысле, то есть вообще вся жизнь помещика. Первое прозаическое сочинение римлян, дошедшее до нас, — книга
Катона Старшего «De agri culture». Оно приноровлено еще к староримским порядкам, при которых pater families с помощью своего vilicus (надзирателя) управлял своей familia rustica и обрабатывал свое поместье. Отношение к рабам предполагается здесь римски жесткое: «состарившихся рабов, болезненных рабов и все вообще ненужное хозяин должен продавать». Все же для новой плантационной системы (выше, с.255) это патриархальное сочинение не годилось: соответствующее руководство пришлось перевести, что довольно знаменательно, с карфагенского. Обоим сочинениям эллинизованное общество в лице
М. Теренция Варрона, ровесника и друга Цицерона, противопоставила свое; в нем рекомендуется гуманное обращение с рабами, но этим семенам предстояло взойти не скоро.
Интерес к
чистому знанию был вызван в римлянах, как и следовало ожидать, греками; при этом замечательно, что изумительные открытия эллинистической эпохи в области математических и естественных наук не нашли отклика в Риме. «Физика» интересовала их только как подкладка нравственной философии; как таковая, она обрабатывалась особенно в сочинениях эпикурейцев, из которых нам сохранилась величавая поэма Лукреция (ниже, § 14). Очень интересовались вопросом о
природе богов — особенно с тех пор, как Энний еще в начале II века до Р.Х. (ниже, § 14) перевел на латынь легковесное сочинение Евгемера, доказывавшего, что боги не что иное как обожествленные люди («евгемеризм»); итоги ему подвел Цицерон в своих трех книгах «De natura deorum». Вообще же науки, свившие себе гнездо в эллинизованном римском обществе, — преимущественно науки
гуманитарные.
Из них
история была призвана к жизни желанием заявить о себе в греческом пантеоне всемирной истории, почему древнейшие истории Рима (Фабия Пиктора и Цинция Алимента, обе конца III века до Р.Х.) написаны по-гречески (выше, с.223). Создателем латинской историографии был М. Порций Катон («Origines» в VII книгах, собственно, о «началах» Рима и италийских городов); с этих пор римская историография уже не обрывалась (ниже, § 14). За историей появляется в Риме и
филология: пергамский филолог Кратет (выше, с.223), отправленный в 168 году до Р.Х. послом в Рим, читает здесь лекции на филологические темы и просвещает римлян по лингвистическим вопросам в духе пергамской аномалистики. Поколением позже Рим имеет уже своего первого филолога в лице Л. Элия Стилона, приближенного Сципиона Младшего; он написал комментарий к законам XII таблиц, к старинным богослужебным гимнам, составил критическое издание комедий Плавта и т.д. Его самым славным учеником был вышеназванный М. Теренций Варрон, автор многочисленных сочинений грамматического и антикварного характера, из которых до нас дошло, хотя и не целиком, его «De lingua latina». В древности самой громкой славой пользовались его огромные «Antiquitates», свод древностей сакральных и государственных. С их помощью, говорил Цицерон, римляне познакомились со святынями своей родины; но из них же позднее христианские вероучители черпали материалы для своих нападок на языческий культ, что было тем легче, что сам Варрон странным образом был приверженцем евгемеристического взгляда на богов. Таково продолжение пергамской школы на римской почве; продолжателем александрийской должен считаться грамматик М. Антоний Гнифон, воспитывавшийся в Александрии; он был учителем Цицерона и Цезаря. А раз последователи обеих школ сошлись на римской почве, то и спор об аналогии и аномалии не мог не разгореться вновь. Сам Гнифон был, как александриец, аналогистом; к тому же лагерю принадлежал и его знаменитейший ученик Цезарь, который среди своих военных трудов нашел время написать филологическое сочинение «De analogia» в двух книгах, специально на почве латинского языка, которое он посвятил Цицерону. Он в нем выступал против Варрона, который, как отпрыск пергамской школы, был аномалистом, хотя и не очень строгим.
Напротив,
философия, мать наук в Греции, явилась в Рим сравнительно поздно. Годом ее появления был 155 год до Р.Х., когда три афинских посла — академик Карнеад, перипатетик Критолай и стоик Диоген Вавилонский, отправленные в Рим по государственным делам, стали читать понимающим по-гречески римлянам лекции на философские темы. Плодотворнее была поколением позже деятельность стоика Панэция (выше, с.276); как он был домашним философом Сципиона Младшего, так вообще в Риме вельможи стали приглашать к себе греческих философов-моралистов как руководителей совести и воспитателей молодежи. Понятно, что расцвела особенно этическая философия; в эпоху перехода от республики к монархии она пользовалась всеобщим вниманием, что тоже характеризует серьезность тех времен.
Красноречие было искусством, и мы займемся им ниже, но его теория — так называемая
риторика — относится к области наук. Деятельно разрабатываемая в эллинистических школах, она не могла не перейти и в Рим. Но это была риторика греческая; римская, как и вообще римская риторическая школа, не пользовалась расположением серьезных людей, и первое руководство по римской риторике — безымянного так называемого Auctor ad Herennium — еще носит на себе следы этой борьбы. Очень основательно занялся ею Цицерон (особенно в третьей книге «De oratore»), но не со школьной целью, а как вдумчивый оратор, желавший дать себе и другим отчет в средствах и силе своего искусства.
Вот то немногое, что мы можем сказать о римской науке республиканской эпохи.
Глава III. Искусство
§ 13. Изобразительные искусства. А.
Архитектура. Как искусство, во-первых, необходимое, а во-вторых, требующее не столько творческой фантазии, сколько трезвого расчета, архитектура была единственным из трех изобразительных искусств, в котором римляне проявили действительную самостоятельность. Без чужеземных влияний, конечно, дело не обошлось и здесь. Первым сказалось влияние эллинизованной
Этрурии; у нее Рим заимствовал: 1. новый архитектурный ордер, так называемый
тосканский; это, в сущности, видоизмененный дорический, но колонна имеет свою базу, ее ствол не имеет каннелюр (вообще, отсутствие каннелюр характерно для римской колонны) и капитель сведена до небольших размеров; 2. форму
этрусского храма, для которого характерно помещение рядом трех целл с общей для всех колоннадой; таков был храм Юпитера, Юноны и Минервы на Капитолии, сооруженный Тарквиниями; 3. в особенности
арку, важнейшее после греческой колоннады изобретение архитектуры, с ее развитием — сводом. Оба настолько характерны для римской архитектуры, что мы привыкли противопоставлять римскую арку греческой колоннаде. Вначале она (мы говорим о настоящей арке с клинообразным сечением камней) употребляется для технических сооружений вроде клоак, акведуков и т.д.; позднее она комбинируется с колоннадой (причем в пролет между двух колонн вставляется арка, ключевой камень которой, наравне с капителями колонн, поддерживает архитрав), из этой комбинации создаются формы римской
триумфальной арки и
римского фасада, ставшие позднее образцовыми для архитектуры Возрождения.
Но уже в V веке до Р.Х. этрусское влияние сменяется
греческим; важный в борьбе сословий храм Цереры был выстроен греческими зодчими по греческому образцу. Все же чистота греческого стиля была исключением: мало-помалу Рим выработал по греческому образцу свой храмовый стиль, для которого характерна, при прямоугольном плане целлы, глубокая передняя колоннада. Вырабатывается также и особый
римский архитектурный
ордер, представляющий собой, впрочем, не очень гармоническую комбинацию ионийского и коринфского стилей.
Особые потребности римской жизни вызывают и новые, более или менее счастливые комбинации архитектурных форм. Для гладиаторских игр (ниже, § 17) строятся
амфитеатры; это, в сущности, ряды для зрителей греческого театра, доведенные до полного эллипсиса. Особое внимание обращается на
термы (бани) с их помещениями для холодных, теплых и горячих купаний; они получают монументальный характер, что ведет к искусной комбинации различных архитектурных форм. Греческая стоя,
porticus, заимствуется для украшения городских площадей, особенно священного римского
форума, этого живого сердца державного города. Здесь же наряду с храмами строятся и
базилики наподобие афинской «царской стой» на агоре; это были здания отчасти коммерческого, отчасти судебного назначения, первообраз древнейших христианских храмов. О
частных домах речь была уже выше (с.251).
Б.
Скульптура нашла в Риме только любителей, но не творцов, и это обстоятельство было роковым для художественных сокровищ Греции. Первый Марцелл подал в 212 году до Р.Х. после взятия Сиракуз пример такого просвещенного грабительства: он перевез в Рим множество статуй из завоеванного города, чтобы украсить ими площади и храмы Рима — но все же не свои собственные дома и виллы, как потом замечали его защитники. Позднее и эта щепетильность была оставлена, и наместники греческих провинций взапуски их обирали, обогащаясь за счет их старинного скульптурного убранства. В своих речах против Верреса Цицерон оставил нам грустную картину такого грабежа (
Циц. Пр. Г. В. 132): «Изо всех несчастий и обид», — говорит он, — обрушившихся за последнее время на наших союзников, ничто так больно не ранило и не ранит греков, как этого рода ограбления храмов и городов». Впрочем, одна скульптурная форма ведет свое начало от римлян; это — портретный бюст, отличающийся от греческой портретной гермы тем, что нижний обрез груди — полукруглый, а не прямой. Причиной был обычай вставлять скульптурные портреты в эллиптические медальоны, которые служили рамками.
В.
Живопись тоже не была двинута вперед римлянами; все же она была более в пределах их способностей, чем скульптура, и нам называют даже живописцев из римской знати, вроде того Г. Фабия Пиктора (предка историка), который в 304 году до Р.Х. украсил своими фресками храм богини Salus. Любовь же к живописи была повсеместной, как видно из ее роскошного памятника — помпейской стенописи.
§ 14. Мусические искусства. Из них мы сразу должны выделить
пляску; отношение к ней римлян достаточно явствует из презрительного слова Цицерона: «Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit»
[68] (
Циц. В защ. Л.Л.М. 13). Правда, последствием эллинизации римской религии было включение в ее обрядность также и религиозной пляски, вследствие чего обучение пляске так же, как и обучение пению, вошло в программу образования благовоспитанных девиц; но к ней римляне относились с опаской, как к чужеродному и несвойственному им обычаю. Правда, с другой стороны, что римские вельможи с удовольствием смотрели на сладострастную пляску гадесянок и сириянок, но это было простым любительством, так же как и их интерес к скульптуре и живописи. А если так, то, значит, хореи Рим не знал — не имел он поэтому и своей самобытной поэзии.
Важнее была роль
музыки: флейтисты издревле составляли в Риме почтенную гильдию, и своя национальная музыка у римлян была. Но о ее характере мы ничего сказать не можем.
Обращаемся поэтому непосредственно к
литературе. Греческий
алфавит в его западной, халкидской ветви был рано заимствован римлянами — древнейший, недавно обнаруженный памятник на форуме относится к царской эпохе. Но он употреблялся только для монументальных записей; когда в Риме возникла филология (выше, с.278) и, в связи с ней, интерес к древнейшим литературным памятникам, то таковыми в области поэзии представились старинные богослужебные гимны, все еще, хотя и без понимания, исполнявшиеся в жреческих коллегиях, а в области прозы — законы XII таблиц.
К тому времени существовала уже
художественная литература, но она была греческого происхождения. Знали даже ее родоначальника: это был тарентинец Андроник, по римскому гражданству М.
Ливий Андроник, современник первых Пунических войн, переведший римлянам для школьного употребления
«Одиссею» очень неуклюжими, так называемыми сатурническими стихами:
Virum mihi, Camena, — insece versutum,
[69] —
а равно и несколько трагедий — тоже тяжелыми шестистопными ямбами. Его пример воодушевил даровитого кампанца
Гн. Невия дать в сатурнических же стихах описание 1-ой Пунической войны; но так как этот стих был позднее забыт, то законодателем римской эпической поэзии стал калабриец
Кв. Энний (начало II века до Р.Х.) как автор римского национального эпоса «Annales» в XVIII книгах, содержавшего римскую историю от древнейших времен до современной поэту эпохи. Эллинизация римской религии повела к перенесению также и драмы на римскую почву; но так как она стала только украшением праздников, не будучи сама богослужением, то постоянный хор греческих драм был отброшен (вследствие чего орхестра была отведена под места для зрителей-сенаторов — выше, с.252); предметом переделки римских драматургов был диалог, последствием чего явилось обыкновение делить драму на пять актов, по-нашему, даже с занавесом, хотя и без перемены декораций. Музыкальный элемент нашел себе применение в многочисленных так называемых cantica — ариях, дуэтах, а также и хорах в нашем смысле слова, превративших трагедию в мелодраму и комедию в водевиль. И та, и другая отрасль драмы воплотилась в классическом триумвирате каждая: классиками трагедии стали
Энний, Пакувий и
Акций, классиками комедии —
Плавт, Цецилий и
Теренций; их деятельность занимала главным образом II век до Р.Х. — до эпохи Сципиона Младшего включительно. Это время было первым расцветом римской поэзии; нам от него сохранились только двадцать комедий Плавта и шесть — Теренция. Оба они — как и вообще римские комики — черпают из сокровищницы новаттической комедии, причем грубоватый и безудержный в своем юморе Плавт предпочитает бойкие сюжеты, не стесняясь довольно внешним образом перемежать одну переделанную им комедию сценами из другой (contaminare); чинный и тонкий Теренций, напротив, стремился к заботливой характеристике и стройному развитию действия, а если и «контаминировал», то осторожно и незаметно. Мало известно нам о попытках писать комедии на сюжеты из римской жизни (fabulae togatae, как они назывались в отличие от переделанных с греческого fabulae palliatae), еще менее о трагедиях на сюжеты из римской истории (fabulae praetextatae), ставившихся изредка, вероятно, на триумфальных играх.
Лирика пока еще отсутствует, если не считать ямбографии, возродившейся в римской
сатире (вероятно, от lanx satura — «сытное блюдо», то есть винегрет). В ней подвизался уже Энний, но только
Луцилий, друг Сципиона Младшего, сделал из нее то, что мы ныне под ней разумеем.
А впрочем, все названные поэты писали языком хотя богатым, но небрежным, а в стихосложении не чувствовали или не избегали жесткостей, поэтому этот первый расцвет римской поэзии сто лет спустя перестал удовлетворять вкусу тонких ценителей. Но все же не раньше; эпоха Цицерона еще живет воспоминаниями о минувшей славе, трагедии и комедии II века до Р.Х. не сходят с ее репертуара. К римской поэзии были поставлены очень скромные требования — перенести на римскую почву, что было лучшего в классической Греции. Казалось, что она эти требования исполнила — на чем и можно было успокоиться.
Более насущные задачи преследовала
проза. Римская
историография зародилась, как мы видели, на греческом языке. Первым латинским сочинением по римской истории были вышеназванные (с.278) «Origines» Катона Старшего. Насколько он в этом не сохраненном сочинении зависит от ненавидимых им греков, мы сказать не можем; но после него оба историографических метода, выработанных греками, —
прагматический Фукидида и
риторический исократовцев, — нашли себе представителей и в Риме, и рядом с ними продолжал свое скромное существование и
анналистический, то есть летописный. Но из всех исторических произведений II века и первой половины I века до Р.Х. ни одно не возвышалось над посредственностью, и еще Цицерон имел право заявить, что abest historia litteris nostris
[70].
Нельзя было сказать того же про
красноречие, которому и сенатские заседания, и народные собрания, и, особенно со времени учреждения уголовных комиссий, публичные суды давали много пищи. В сущности, каждый видный государственный деятель был более или менее хорошим оратором, но не принято было издавать произнесенных речей, пока и в этом отношении не дал примера все тот же
Катон Старший. Так как он за отделкой изложения не гонялся, — rem tene, verba sequentur
[71], — то его деловое, хотя подчас не лишенное язвительного юмора красноречие нельзя было причислить к какому-нибудь стилю; когда же явилась потребность в таковом, то к услугам римлян оказался на первых порах только азианский стиль (выше, с.233), который и был перенесен в Рим, между прочим, страстным народным трибуном
Г. Гракхом. Это было его освящением: в первый и последний раз азианский пафос послужил орудием истинному чувству.
Последовавшая за Гракхами реакционная эпоха Скавра и Суллы была во всей области литературы эпохой застоя, если не считать того, что при Сулле
Сизенна, один из сравнительно лучших историков, подарил римлянам их первую книгу для легкого чтения, переделав по-латыни вольные «милетские» повести Аристида (выше, с.234). Новый подъем связан с именем
М. Туллия Цицерона (106-43 годы до Р.Х.), центральной личности в культурном обществе Рима в последние десятилетия республики.
Воскресает, прежде всего,
поэзия — правда, под знаменем не классицизма, который казался исчерпанным, а александрийского романтизма. В подражание новому героическому эпосу Аполлония Родосского пишет свои «Аргонавтики» П. Теренций
Варрон (Старший); возрожденный дидактический эпос находит себе могучего представителя в лице
Лукреция, шесть книг которого «О природе» в духе атомистики Эпикура нам, к счастью, сохранены. Наконец, александрийская лирика в форме «безделушки» (paignion, nugae), элегии и эпиграммы занимает целый кружок поэтов, из которых самым гениальным был рано умерший
Катулл, оставивший нам в своей книжке песен душевные излияния редкой искренности как в радости, так и в горе, как в любви, так и в ненависти.
Но главное все-таки проза, и на первых порах проза
красноречия. Как в Афинах Демосфен, так в Риме
Цицерон был оратором предзакатных часов свободы. Будучи в душе поклонником аристократической республики, он по происхождению был homo novus и должен был начать свою деятельность с борьбы против тех, к кругу которых он желал принадлежать; правда, это случилось еще в правление Суллы, то есть недопустимых и вредных захватов со стороны аристократии. Его смелое выступление против алчного сулланца Берреса в защиту ограбленной им Сицилии (70 год до Р.Х.) проложило ему дорогу к эдилитету (69 год) и претуре (66 год), в которой он поддерживал Помпея в его стремлении стать полководцем extra ordinem
[72] для войны с Митридатом; но в должности консула (63 год) ему пришлось разоблачить заговор Катилины и нарушить закон о провокации (выше, с.261) сенатским судом над пятью заговорщиками и их казнью. Это повело к его падению; вождь демократии Цезарь после тщетных попыток привлечь его на свою сторону выдал его злейшему его врагу Клодию, который в 58 году до Р.Х. в качестве трибуна провел закон о его изгнании. Правда, он скоро был вызван обратно, но прежнего блеска он вернуть себе не мог. Не пользуясь доверием аристократического сената и сам не доверяя триумвирам, он лавировал между партиями, пока разгоревшаяся гражданская война не заставила его открыто стать на сторону примкнувшего к сенату Помпея. Поражение Помпея под Фарсалом (48 год до Р.Х.) положило быстрый предел его участию в войне; во время правления Цезаря он редко поднимал свой голос и лишь по его смерти (44 год), воскресившей надежды республиканцев, смело бросил вызов его преемнику Антонию, отстаивая против его тиранических притязаний дело республики в речах, получивших знаменательное название «Philippicae»
[73]. В этой борьбе он погиб, пав жертвой проскрипций второго триумвирата (43 год до Р.Х.) — и республика погибла вместе с ним.

В этом кратком очерке жизни Цицерона намечены те моменты, которым посвящены его главные речи; всех же нам от него осталось более пятидесяти. Их стиль — тот средний между аттической трезвостью и азианской патетичностью, который характеризовал
родосское красноречие (выше, с.233); и действительно, Цицерон был учеником родосского оратора Молона. Он счастливо соединил вынесенное из этого учения искусство с естественной величавостью римской речи и этим создал римский национальный стиль, признанный таковым если не при его жизни, то, во всяком случае, с конца I века по Р.Х. В жизни же он чувствовал себя довольно одиноким и должен был в защиту своих идеалов издавать сочинения по теории и истории красноречия, из которых главные — «De oratore» в трех книгах (мастерский диалог систематического характера), «Orator» (синтетический портрет идеального оратора) и «Brutus sive de Claris oratoribus» (история красноречия в Риме).
Еще более интересным и исторически важным наследием Цицерона являются для нас его
письма, которых сохранилось довольно много (к другу Аттику шестнадцать книг, к брату Квинту три книги и к Бруту две книги); они тем более драгоценны, что не были подготовлены к изданию самим автором. На них с XIV в., когда они вновь были найдены, между прочим, Петраркой, вся интеллигентная Европа училась искусству писать familiariter — просто и в то же время интересно.
Историография лишь к концу периода нашла себе в Риме достойных представителей; это были
Цезарь («Записки о галльской войне» в семи книгах и «Записки о гражданской войне» в трех книгах) и
Саллюстий (две монографии о Югуртинской войне и о заговоре Катилины и еще история поступательного движения римской демократии от смерти Суллы в 78 году до торжества Помпея в 67 году до Р.Х. в пяти книгах, из которых нам сохранены только речи и письма). Первый пишет с подкупающей ясностью и простотой, стараясь как можно более заставлять события говорить за себя; второй успешно подражает Фукидиду, в его слоге много продуманности и изысканности, он мастер сжатых характеристик и эффектной недоговоренности. Рядом с этими двумя совершенно исчезает как писатель добрый друг своих друзей
Корнелий Непот; своей известностью он обязан школе, которая любовно сохранила его маленькие биографии греческих и других полководцев как книгу для младшего возраста.
Третья отрасль прозы,
философия, опять приводит нас к Цицерону. Творцом он не был и не считал себя таковым; но он был человеком ясного ума и чуткого сердца и понимал поэтому, что метафизический скептицизм, вынесенный им из лекций новой Академии (выше, с.241), хорош для борьбы с предрассудками, особенно на почве ведовства (ср. «De divinatione» в двух книгах), и как протест против метафизического построения учения о богах («De nature deorum» в трех книгах) и о высшем благе («De finibus bonorum et malorum» в пяти книгах), но он неуместен в вопросах положительной морали. В этих последних он предпочитает следовать смягченному стоицизму Панэция (выше, с.279) и Посидония, что он и делает, особенно в своем славном трактате об обязанностях («De officiis» в трех книгах), но также в своих обаятельных «тускуланских беседах» («Tusculanae disputationes» в пяти книгах о смерти, физической и душевной боли, о прочих аффектах и о самодовлении добродетели) и в монографиях о дружбе и о старости. Спасенные от забвения благодарностью потомства, эти сочинения были настоящей отрадой для вдумчивых душ новой Европы, которые они и приучили к занятиям серьезной философией.
Глава IV. Религия
§ 15. Исконная римская религия. На древнейшей ступени римской религии мы находим ту же
имманентность в представлениях о сверхъестественных силах естества, которую мы признали также и в зародыше греческой религии (выше, с.46), но так как у римлян переход к более совершенным религиозным формам был обусловлен эллинизацией их религии, а эта последняя чувствовалась как нечто чуждое, то первоначальная имманентность сознается везде там, где под оболочкой греческого налета ощутима римская подпочва.
В области
анимизма имманентность сказывается в культе
души-гения, сохранившемся до последних времен. Гений — это naturae deus humanae
mortalis[74], как его называет еще Гораций (
Гор. Посл. II, 2, 187), соединяя в этом определении несовместимые для грека понятия deus и mortalis
[75]. Последствием культа гения явилось празднование дня рождения (natalis), клятва гением своим, а также (для челяди) гением домохозяина. Были ли у римлян первоначально особые заупокойные обряды, мы не знаем; те, которые существовали в историческое время, самими римлянами чувствовались как принесенные из Греции.
В области
аниматизма религиозное сознание древнейших римлян было еще более своеобразным. Они чувствовали себя окруженными не только бесформенными, но и чисто временными силами (numina); так, божеством казалась им не зреющая нива, а само ее созревание — это и была их первоначальная Церера. Конечно, на почве этого
обожествления актов характерные для имманентных религий дифференциация и интеграция применялись в самой широкой мере; наука понтификов состояла в том, чтобы знать малейшие расщепления каждого божественного акта.
В культе гениев дифференциация находила себе предел в индивидуализации, но интеграция была возможна бесконечная: могли быть гении семей, гении родов, гении коллегий, гении общины. Когда состоялся синэкизм той латинской и сабинской общины, из которых составился Рим, то с гением латинской общины Марсом был сопоставлен гений сабинской Квирин и к обоим был присоединен бог той клятвы, которая их соединила, — Юпитер (собственно, бог, карающий за клятвопреступление молнией). Эта древнейшая троица отразилась на древнейшем римском жречестве, фламинате: были учреждены три старших фламина, flamen Martialis, Quirinalis и Dialis. Но ни храмов, ни кумиров не было; это противоречило бы имманентности этих богов.
§ 16. Эллинизация римской религии. Подчинение Рима и Лациума эллинизованной этрусской династии Тарквиниев имело последствием создание новой латинско-этрусской троицы Юпитера (Optimus Maximus
[76]), Юноны и Минервы и постройку ей знаменитого храма на Капитолии, который принял глиняные кумиры названных божеств. Это был первый шаг к эллинизации римской религии: кумир предполагал
трансцендентность, а не имманентность божества. Она вскоре охватила и других римских богов; но живучая исконно римская религиозность нашла себе отдушину 1) в признании «гениев богов», вполне последовательном, раз было признано их человекоподобие и 2) в дроблении божеств на их эпитеты — Jupiter Fidius, Jupiter Victor
[77], из которых были затем извлечены обожествленные качества — Fides, Victoria
[78] — как новые божества, неопределенные и поэтому допускающие какую угодно дифференциацию и интеграцию.
Второй шаг к эллинизации состоял в принятии Римом
Сивиллиных книг из куманского храма Аполлона, которое традиция относит к той же эпохе Тарквиниев. Они были написаны греческими гекзаметрами: для их толкования была избрана пожизненная
сакральная коллегия (duoviri, позднее decemviri, еще позднее quindecimviri sacrorum), ставшая соперницей исконно римской коллегии понтификов. В тревожные минуты сенат поручал ей справиться в Сивиллиных книгах; там находили указания на необходимость совершить такое-то молебствие, обязательно греческое, такому-то, обязательно греческому, божеству. Последнее часто можно было отождествить с каким-нибудь римским, иногда же приходилось ввести как новое. Так, путем отождествления получились уравнения: Юпитер — Зевс, Юнона — Гера, Минерва — Афина, Марс — Арес, Церера — Деметра, Венера — Афродита, Диана — Артемида, Меркурий — Гермес, Вулкан — Гефест; заново введен был главным образом сам Аполлон, вдохновитель Сивиллы. Еще в первые годы республики был по требованию Сивиллиных книг построен храм элевсинской троице — Деметре, Коре и Иакху (отождествляемому с Вакхом-Дионисом) под римскими именами Cereri, Libero, Liberae; он стал религиозным центром плебеев в сословной борьбе, подобно тому как капитолийский храм был религиозным средоточием патрициев. Вторым результатом перенесения Сивиллиных книг было довершение мифа о странствиях троянца Энея его прибытием в Лациум и создание также и для Рима известной мифологии, которой он первоначально, при имманетном характере его богов, не имел. Сознание троянского происхождения Рима мало-помалу укрепилось и сыграло некоторую историческую роль.
Эллинизация религии не могла не перекинуться и на область
анимизма. Культ гениев остался в силе, но он получил дополнение в культе переживающих душ, скрытых в «сокровищнице Орка» (thesaurus Orci), отождествленного с греческим Аидом. Это были «добрые боги» (di Manes), как их евфемистически называли. В честь их был учрежден в феврале праздник Фералий и «родительских дней» (parentales dies) наподобие греческих анфестирий (выше, с.186). Этим был уготован путь для проникновения в Рим также и греческой эсхатологии как в ее поэтической, так и в ее философской форме. Идея общего для всех Аида была противна аристократическому мировоззрению римлян: аполлоновский обычай героизации (выше, с. 111) повел в Риме к принятию догмата omnium animos immortales esse, bonorum fortiumque divinos
[79], очень важного для религиозности следующей эпохи.
Таким образом, развитие римской религии повело к установлению двойной серии богов: богов-«старожилов» (indigetes) и богов-«новоседов» (novensides), из которых первые были, так сказать, подведомственны понтификам, вторые — сакральной коллегии. Это было поразительной параллелью к двойному праву (jus Quiritium и jus gentium; выше, с.267) и красноречивым доказательством юридического характера также и римской религии. Особенно сильно было значение сакральной коллегии в первые времена республики под влиянием борьбы сословий; затем, в эпоху италийских войн, оно стало слабее, но возродилось с новой силой в Пунические войны, когда вообще эллинизация римской жизни приняла особо острый характер. Дело дошло даже до отправления государственного посольства в Дельфы. Но к концу 2-й Пунической войны произошло событие, надолго уронившее обаяние Сивиллы. Ее книги были вопрошены в связи с изгнанием из Италии Ганнибала; был найден совет перенести в Рим
культ Матери богов. Под ним Сивилла разумела, конечно, культ греческой Матери-Земли; но так как к тому времени (204 год до Р.Х.) в силу реформы Тимофея (выше, с.235) с ней была отождествлена фригийская Кибела, оргиастический культ которой стал официальной религией Пергамского царства, то именно ее черный камень со всем жреческим персоналом был перенесен в Рим. При виде всего этого восточного оргиазма, особенно же противных римлянам жрецов-евнухов, произошло всеобщее отрезвление: жрецы-галлы были заключены в своего рода монастырь на Палатине, откуда им было разрешено выходить только раз в год для собирания подаяния (stipem colligere) в пользу своей богини, и вообще состоялась националистическая
реакция против чужеземных влияний, душой которой был Катон Старший. Наплыву иноземных культов надолго был положен предел; «patrios ritus servanto»
[80] стало лозунгом римского патриотизма.
Но дело было сделано: под личиной греческой богини проскользнуло в Рим одно из главных божеств Востока, которое нельзя было отождествить ни с одним из римских numina, потому что оно вмещало их все. Этим была подготовлена почва для
ориентализации римской религии.
§ 17. Римская религиозная жизнь. Как в Греции, так и в Риме мы имеем и частный культ, лежащий на обязанности домохозяина и домохозяйки, и государственный, ради которого существуют жрецы.
Главным предметом
частного культа были, во-первых, «гении» домохозяина и, в более слабой степени, других членов семьи; отсюда ряд семейных праздников, к которым принадлежали также годовщины спасения от опасности, затем — поминальные дни и т.д. Во-вторых, имманентные силы дома как биологической и хозяйственной единицы, так называемые
Лары (Lares familiares) и родственные им
Пенаты (Penates, собственно, «духи кладовой», penus, наши «домовые»). Их культ отличался особой интимностью и представлял наиболее задушевную сторону римской религии: «Pater families ubi ad villain venit, ubi larem familiarem salutavit...»
[81], — говорит старый Катон (
Кат. О земл. II); еще много красивее — Гораций в оде III, 23, характерной для римской религиозности в ее лучших проявлениях, с признанием ценности «вдовьего гроша» (ср. выше, с.189) — результатом работы греческой религиозной мысли за четыре столетия.
В
государственном культе домохозяину первоначально соответствовал царь; но хотя его должность и была оставлена после учреждения республики как чисто сакральная (rex sacrorum, ср. афинского архонта-царя, выше, с. 74), все же религиозно-административное значение перешло от него к коллегии
понтификов (pontifices, слово неразгаданное), коих было первоначально три, затем шесть, девять и в позднереспубликанскую эпоху — пятнадцать. Их главой был pontifex maximus; ему были подчинены шесть
дев-весталок (virgines Vestales), охранявших неугасимый огонь Весты, богини государственного очага на римском форуме, а также и пятнадцать
фламинов (три старших и двенадцать младших), приуроченных к особым божествам каждый. (О
сакральной коллегии см. выше, с.289).
Главной заботой этих коллегий было, чтобы община как таковая и в составе своих членов по уставу, rite, исполняла свои обязанности по отношению к богам в виде молитв и жертвоприношений, а в случае упущения — чтобы таковое надлежащим образом было искуплено. Это было чрезвычайно сложное дело: боги и люди предполагались связанными строго формальным договором на почве summi
juris
[82], малейшее упущение в формуле молитвы или ритуале жертвоприношения могло освободить и богов от принятых ими на себя обязательств, и всякое общественное злоключение объяснялось именно таким неискупленным упущением. Так глубоко проникало юридическое сознание в религию.
Но милость богов к людям сказывается также и в ниспослании знамений, путем толкования которых человек может раскрыть завесу будущего; относящаяся сюда государственная забота была вверена коллегии авгуров (augures), которых было во все времена столько же, сколько и понтификов. Гадали они вначале по полету птиц, потом главным образом по еде священных кур. Перед важными делами надлежало вопросить путем гадания волю богов (auspicia impetrativa); но боги могли и по собственному почину объявить таковую (auspicia oblativa), и с этим следовало считаться. Отсюда политическая важность коллегии авгуров. Они могли распустить народное собрание (alio die!), усмотрев неблагоприятное знамение, которое при желании можно было усмотреть всегда; и особенно позднереспубликанская эпоха богата примерами таких злоупотреблений. В тревожных случаях прибегали, кроме того, и к помощи
гаруспиков (haruspices), гадавших по рисунку на печени жертвенного животного. Но это была чужеземная, этрусская коллегия, и знаменитое «удивление» строгого националиста Катона Ставшего, «quod non rideret haruspex, haruspicem cum videret»
[83], относится именно к ней (а не к почтенной староримской коллегии авгуров).
Из прочих многочисленных жреческих коллегий стоит выделить коллегию
фециалов, блюстителей международного права; их делом было определить каждый раз, имелся ли законный повод к войне, и предписать обряды ее объявления, чтобы обеспечить общине покровительство богов; а при щепетильности римлян в религиозных делах неудивительны их похвальбы, что они никогда не вели других войн, кроме bella justa
[84]. Конечно, и здесь действовало summurn jus, и история никогда не признает «справедливой» в высшем смысле, например, 3-ю Пуническую войну; но все же было драгоценно сознание, что одного желания и фактического превосходства сил недостаточно для объявления войны.
Таковы
органы религиозной жизни римского государства; сама она состояла главным образом в
периодических праздниках, отчасти переходящих (feriae conceptivae) и чрезвычайных (feriae imperativae, например, по случаю победы), отчасти же навсегда установленных в
римском календаре (feriae stativae).
Примечание. Римский год был первоначально лунным, как и греческий; каждое первое число (Kalendae) было новолунием и сопровождалось жертвой Юноне, каждое среднее (во избежание четного числа — 13-е или 15-е, idus) было полнолунием и посвящено Юпитеру. Так как лунный год охватывает 354 дня (с дробью), то было естественно установить приблизительно по ровному числу месяцев по 29 и по 30 дней; но боязнь перед четными числами повела к тому, что было установлено семь по 29, четыре по 31 и только «феральному» февралю было дано 28. Порядок месяцев был таков: Januarius, 29 дней; Februarius, 28 дней; Martius, 31 день; Aprilis, 29 дней; Majus, 31 день; Junius, 29 дней; Quintilis, 31 день; Sextilis, 29 дней (эти два были переименованы лишь на рубеже этой и следующей эпохи, когда они получили имена Юлия Цезаря и Августа); September, 29 дней; October, 31 день; November, 29 дней; December, 29 дней (названия января и марта произведены от богов Януса и Марса, февраль происходит от очистительных веток, februa; следующие три не разгаданы, остальные происходят от чисел). В счете месяцев мы замечаем две системы, восходящие, быть может, одна к латинскому, другая к сабинскому элементу Рима; первая система начиналась мартом и кончалась февралем (чем объясняются происшедшие от чисел месяцы), вторая начиналась январем (от Janus, бога двери, janua, и всякого начала) и кончалась декабрем. Возобладала последняя, и 1 января стало днем Нового года. Реформа в смысле приближения к солнечному году принадлежит децемвирам; но только Цезарь устранил хронологическую путаницу, увеличив число дней неполных месяцев и доведя этим год до 365 дней с правильной системой интеркаляции дня в конце февраля (заключительный характер которого здесь сказался в последний раз) «високосных» годов.
Римские
праздники по своему разнообразию не могут идти в сравнение с греческими; в особенности заметно отсутствие народной агонистики. В большинстве случаев ограничивались торжественным жертвоприношением соответствующему божеству. Все же некоторые так или иначе затрагивали и светское общество; из них заслуживают особого внимания следующие.
I. В
январе: праздник
Нового года (Kalendae Januariae), совпадавший в позднереспубликанскую эпоху со вступлением в должность новых консулов. В этот день римляне дарили друг другу символические подарки — медь и сладкие плоды (смоквы и финики), а также медные монеты, чтобы год был сладок и прибылен. Ради доброго предзнаменования полагалось также каждому заняться своей работой, чтобы год был богат деятельностью. По той же причине и консулы созывали в этот день сенат, причем первый по выборам произносил в нем своего рода тронную речь de summa republica
[85].
II. В
феврале: заупокойный праздник
Фералий 21 числа, завершавший собой ряд «родительских дней» (dies parentales). У гробниц, окаймлявших большие дороги, приносили покойникам скромные дары (размягченный в вине хлеб, фиалки, смесь полбы с солью). А так как в эти дни души представлялись бродящими, то люди суеверные пользовались их присутствием, чтобы с помощью магических обрядов «связать язык» своим врагам. К Фералиям непосредственно примыкали
Харистии, посвященные радости живых в кругу близких родственников.
III. В
марте: праздник матрон 1 числа
(Matronalia) в честь Юноны за счастье супружества, причем мужья им делали подарки, они же угощали свою челядь. Затем 15 числа веселый праздник Анны Перенны (ut annare perennareque commode liceat
[86]), справляемый в зеленых рощах кружками с пением и попойками. Далее 19-23 числа —
Quinquatrus, праздник Минервы, празднуемый всеми ремеслами, но также и учащейся молодежью.
IV. В
апреле: 4-10 числа
Megalesia в честь Великой Матери богов (Megale Meter, выше, с.290) с разнообразными играми, о которых будет сказано ниже. Затем 21 числа
Parilia в честь пастушеской богини Pales; этот день прослыл позднее днем основания Рима (natalis Urbis).
V. В
мае: 9, 11 и 13 числа (во избежание четных дней) — мрачный праздник
Лемуралий (отчасти соответствовавший греческим Фаргелиям, выше, с. 187) в ублажение злых духов (Лемуров), от которых хозяин выкупал себя и свой дом бросанием им бобков по одному за голову. Храмы в эти дни затворялись, свадеб не праздновали.
VI. В
июне: 11 числа
Matralia в честь Mater matuta, которой в этот день матроны приносили пирожки; рабыни к ее чествованию не допускались.
VII. В
квинтиле (с 44 года до Р.Х. — июле): 7 числа так называемые Nonae Caprotinae, праздник рабынь, которые в этот день наряжались к «столу» своих госпожей и веселились под дикой смоковницей (caprificus) в память о римской Юдифи, рабыне Филотиде.
VIII. В
секстиле (с 8 года до Р.Х. — августе): 13 числа праздник
Дианы на Авентине, празднуемый главным образом рабами в память о том, что основатель храма Дианы, царь Сервий Туллий, и сам был рабского происхождения. Затем 23 числа
Вулканалии, на которых народ зажигал костры и жертвами животных выкупал себя от пожаров.
IX. В
сентябре важных праздников не было (кроме ludi Romani, о которых ниже).
X. В
октябре — 13 числа праздник
Фонтиналий в честь источников и колодцев: в первые бросали венки, вторые увенчивали.
XI. В
ноябре важных праздников не было (кроме ludi plebeji, о которых ниже).
XII. В
декабре праздновался самый шумный римский праздник,
Сатурналии — 17-23 числа, праздник зимнего солнцеворота, введенный на основании Сивиллиных книг. Так как Сатурн был отождествлен с греческим Кроносом, то на его празднике, как на греческих Крониях (выше, с. 183), чествовалась память золотого века: рабы угощались и пользовались свободой слова (libertas Decembris); сенаторы и всадники снимали тоги и надевали греческую synthesis; люди дарили друг другу восковые свечки (на помощь новому солнцу), а детям — куклы и другие игрушки; веселились на улицах и площадях, оглашая их криком «Io Saturnalia!» Но мнение об особой якобы безнравственности этого optimus dierum
[87] основано на недоразумении.
Среди праздников особое место занимают игры (ludi), коих было в позднереспубликанскую эпоху семь серий, а именно:
1) ludi Romani (4-19 сентября); 2) 1. plebeji (4-17 ноября); 3) 1. Cereales (12-19 апреля); 4) 1. Apollinares (6-13 квинтиля); 5) 1. Megalenses (4-10 апреля); 6) 1. Florales (28 апреля-3 мая); 7) 1. Victoriae Sullanae (26 октября-1 ноября, с 82 года до Р.Х.). Происходили они — не считая частностей — отчасти в цирке, отчасти в театре, отчасти в амфитеатре.
1) Игры в
цирке (circenses) были подражанием греческим конным ристаниям, причем, однако, наездников-граждан заменили специально обученные возницы, так что агонистический интерес был заменен спортивным. Партийного характера эти игры в республиканскую эпоху еще не приобрели (см. ниже, отдел В, гл. IV).
2) Игры в
театре, то есть представления трагедий и комедий. К ним интерес ввиду их серьезности был значительно меньше — в этом разница между Грецией и Римом. Политическое значение эти игры приобрели благодаря тому, что собравшийся народ позволял себе выражать свою симпатию и антипатию вельможам при их появлении на орхестре для занятия своих мест.
3) Игры в
амфитеатре. Они наиболее знаменательны для Рима вследствие своего кровавого характера, которого не знала гуманная греческая агонистика. Мы различаем в них: а)
venationes, то есть борьбу диких зверей с людьми, и б)
гладиаторские игры, поединки вооруженных людей. Последние были рабами, содержавшимися с этой целью в гладиаторских казармах (ludi gladiatorii). Воспитанные во владении оружием и в презрении к физической боли и смерти, они могли стать страшными врагами общества, если им удавалось освободиться. В войске Спартака они составляли самые опасные отряды. О безнравственности этого института не может быть двух мнений; все же не следует забывать и его — правда, недостаточных для его оправдания — положительных сторон. Для зрителей они состояли в закалении характера видом этого беззаветного мужества и этих прекрасных смертей; для самих гладиаторов — в опьяняющем сочувствии публики, любимцами которой они были. Ради этого сочувствия и выслужившие срок гладиаторы добровольно возвращались на арену, да и свободные люди нанимались в гладиаторы и произносили страшные слова гладиаторской присяги (auctoramentum), которой они предоставляли свое тело uri flammis, virgis secari, ferro necari
[88].
Такова культура республиканского Рима. Ее монументальную характеристику дают знаменитые стихи Вергилия в видении Энея (
Верг. Эн. VI, 847 сл.):
Excudent alii spirantia mollius aera,
credo equidem, vivos ducent de marmore vultus;
orabunt causas melius coelique meatus
describent radio et surgentia sidera dicent.
Tu regere imperio populos, Romane, memento;
hae tibi erunt artes — pacisque imponere morem,
parcere subjectis et debellare superbos.
[89]
В. Языческая империя
(27 год до Р.Х. — 313 год по Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история языческой империи
§ 1. Римские императоры. Основатель римской империи — точнее, принципата —
Август (27 год до Р.Х. — 14 год по Р.Х.) установил те границы государства, за которыми его преемники уже не делали особенно крупных приобретений; оно охватило все Средиземноморье с рейнско-дунайской линией на северо-востоке и евфратской на юго-востоке. Сам Август правил кротко и мудро, сохраняя по возможности республиканские формы. Роковым для его империи — как и для монархии Александра Великого — обстоятельством было отсутствие у основателя мужского потомства; это повело к неопределенности престолонаследия, вследствие чего наследники были вынуждены опираться на войска, особенно на могучую в Риме гвардию, так называемых преторианцев (ниже, § 6). После Августа успешно правил его пасынок из рода Клавдиев, мрачный и недоверчивый, но энергичный
Тиберий (14-37 годы); затем начинается упадок династии. Наследником Тиберия был сын его племянника, боготворимого народом Германика, безумный
Калигула (37-41 годы); после его убийства преторианцы поставили императором брата Германика, слабоумного
Клавдия (41-54 годы), предоставлявшего власть своим женам Мессалине (41-48 годы) и Агриппине (48-54 годы), дочери Германика, и отпущенникам; все же при нем началось покорение Британии. Последним представителем династии был сын Агриппины от первого брака, усыновленный Клавдием Нерон (54-68 годы); при нем империя вначале процветала, пока он ею управлял через своего воспитателя, мудрого Сенеку. Но его собственное безумное правление в последние годы повело к восстанию провинциальных легионов, в котором он погиб, а с ним и эта первая
династия Юлиев и
Клавдиев.
Междоусобная война легионов повела в 68-69 годах к быстрой смене императоров
Гальбы, Отона и
Вителлия, пока, наконец, Веспасиан (69-79 годы), основатель династии Флавиев, не упорядочил империи. При нем наступило отрезвление всего общества от нероновского угара. Из его войн замечательны: подавление восстания батавов и взятие Иерусалима его сыном Титом (67 год), положившее конец так называемой эпохе второго храма. Последовавшее по его смерти правление этого его сына
Тита (79-81 годы) — романтика, великодушного до расточительности — было непродолжительным; его брат и наследник
Домициан (81-96 годы) был хорошим хозяином, но своей жестокостью против сената, особенно своей организованной системой доносов (delatores), он возбудил недовольство знати, поведшее к его убийству и к прекращению династии Флавиев.
Ее сменила долговечная
династия Антонинов (96-192 годы), как мы ее называем по имени ее последних представителей, с переходом императорской власти каждый раз (кроме последнего случая) в руки не родного, а усыновленного сына. Основатель династии, престарелый
Нерва (96-98 годы) немного успел сделать. Его наследник
Траян (98-117 годы), храбрый воин и умный и кроткий правитель, прибавил к империи задунайскую провинцию Дакию и три евфратских — последние, впрочем, ненадолго. За ним правил
Адриан (117-138 годы), миролюбивый и рассудительный в государственной жизни, эллинофил и романтик в частной, прославившийся своими неутомимыми путешествиями по империи. Не менее счастливым было правление его наследника
Антонина Благочестивого (138-161 годы), при котором было завершено покорение Британии до Каледонских гор. Но самая полная мера народной любви досталась на долю его преемника
Марка Аврелия Антонина (161-188 годы), философа на престоле, благословенное имя которого дошло даже до далекого Китая и читается в его летописях (Анту, то есть «Антонин»). Правда, вся эта любовь была быстро растрачена его сыном и наследником
Коммодом (180-192 годы), убитым за многие бесчинства, жестокости и разврат, которыми ознаменовалось его правление.
Четвертой династией, занявшей престол после кратковременной смуты, была династия
Северов (193-235 годы), тоже, впрочем, принявших освященное народной любовью имя Антонинов. С нее начинается варваризация Рима; ее основатель, энергичный
Септимий Север (193-211 годы), распустил римскогражданскую гвардию преторианцев и набрал новую из провинциальных легионов; он же сделал центурионат всаднической должностью и этим подготовил проникновение людей с чисто военным образованием в высшие слои общества. Его сын, братоубийца
Каракалла (211-217 годы), окончательно сравнял провинции с Италией (constitutio Antoniniana 212 года). Он был убит, но вскоре престол был опозорен его двоюродным братом
Элагабалом (218-222 годы), превратившим Рим в очаг сирийского изуверства и разврата, после чего наступило кратковременное успокоение благодаря
Александру Северу (222-235 годы), человеку гуманному, благонамеренному, но слишком слабому, чтобы выдержать натиск двух новых врагов Рима: на востоке — Ардешира (Артаксеркса), основавшего вместо ослабевшей Парфии сильное новоперсидское царство Сасанидов, а на севере — готов.
После его насильственной смерти наступил пятидесятилетний
смутный период. Рим отчаянно отбивается от своих врагов; императоры сменяются с ужасающей быстротой. Перед нами мелькают могучие личности
Деция (249-251 годы),
Валериана (253-260 годы) — все напрасно, в 260 году империя разлагается, провинции объявляют своих полководцев императорами, так что таковых империя насчитывает тридцать («тридцать тиранов», как их насмешливо прозвали). Воссоединителями явились Клавдий Готический (268-270 годы), разбивший готов под Наиссом (ныне Ниш), а в особенности
Аврелиан (270-275 годы) — причем, правда, этот последний довершил начатую Септимием Севером варваризацию империи приобщением восточного церемониала. После еще двух энергичных правлений
Проба (276-282 годы) и
Кара (282-284 годы) империя могла считаться упорядоченной; ей была дана та форма восточно-монархической конституции, при которой она прожила на Западе свои два последних столетия.
Дал ее
Диоклетиан (285-305 годы) — основатель
пятой династии. В ней престолонаследие было урегулировано очень шаткой системой соправлений: по мысли Диоклетиана, должны были быть одновременно два правителя (Augusti) и по их назначению два наследника (Caesares), которым они после двадцатилетнего правления передают власть. Но уже после ухода Диоклетиана эта система была безнадежно запутана, возникла новая смута, давшая империи одновременно шесть «августов». Они долго воевали друг с другом, пока среди них не выдвинулась могучая личность
Константина Великого. Еще до своей окончательной победы (324 год) он издал в 313 году в Милане знаменитый эдикт, превративший империю из языческой в христианскую.
§ 2. Эллинство в Северном Причерноморье. Как мы видели выше (с. 199), три главных части эллино-скифской территории северного Черноморья к концу эллинистического периода были сведены к двум; произошло это вследствие объединения Херсонеса с Боспорским царством под властью Митридата Эвпатора и его дома.
Ольвия осталась самостоятельной, но это, по-видимому, и стало причиной страшного удара, постигшего ее в последние десятилетия эллинистического периода. Странствования и столкновения диких племен не прекращались в южнорусских степях; как ни старалась Ольвия лавировать в этих постоянных ураганах — около 50 года до Р.Х. на нее нагрянул шквал в лице гетов (выше, с.60) и их царя Бурбисты и разорил ее дотла. Дома были разрушены, жители разбежались, вероятнее всего, в греческие города Тавриды. Ольвии не стало.
Но вскоре сами события потребовали ее восстановления. Гетский ураган пронесся мимо; земледельческие скифы убедились, что без греческого торгового города им некуда сбывать свой хлеб и прочие товары. По их приглашению бывшие ольвиополиты вернулись на свое пепелище и вновь отстроили свой город при их же участии. Начинается новый
грекоскифский период ольвийской истории, совпавший приблизительно с периодом языческой империи.
Новая Ольвия, однако, была много беднее той прежней; храмы Аполлона и Ахилла-Понтарха удалось отстроить, а также и один или несколько гимнасиев; но образование не шло дальше Гомера, новых писателей Ольвия не производила, да и ее язык — как свидетельствует посетивший ее в конце I века по Р.Х. Дион Златоуст (ниже, § 13) — уже не отличался чистотой. Жизнь была преимущественно военная: теснили перекочевавшие на запад дикие сарматы, да и на скифов не всегда можно было положиться. Когда же около середины II века по Р.Х. к старым врагам прибавились новые, вышедшие из Тавриды тавроскифы, Ольвии стало невмоготу, и она обратилась за помощью к римскому императору Антонину Благочестивому, который, как властелин придунайских земель, был ее соседом. Ее просьба была услышана, тавроскифы были оттеснены и выдали заложников. Отсюда отношения пиетета между Ольвией и Римом, перешедшие при Септимии Севере в признание Ольвией его верховной власти. Она была включена в придунайскую провинцию Нижнюю Мезию, сохраняя, впрочем, свое городское самоуправление. Римской она оставалась до конца правления Северов; затем она была сметена новым ураганом — готами. Они нагрянули с севера, по Висле и Бугу; Ольвия должна была оказаться одной из их первых жертв.
В сравнении с хиреющей Ольвийской республикой положение
Боспорского царства, включавшего в себя в первые два столетия нашего периода также и Херсонес, было очень сносным. Мы видим его вначале под властью дочери Фарнака и внучки великого Митридата — Динамии, своего рода боспорской Клеопатры. Споры претендентов на ее завидную руку потребовали вмешательства Рима в лице Агриппы, зятя Августа; результатом вмешательства было переименование счастливым соперником Пантикапея в Кесарию и Фанагории в Агриппию; оно не удержалось, но римский протекторат был отныне закреплен, и боспорский царь, хотя он и называл себя гордо, по парфянскому образцу, «царем над царями», был на деле ставленником Рима. Со временем эти вассальные узы стали еще крепче: с эпохи Флавиев боспорские цари называют себя Тиб. Юлиями и чеканят монеты с изображением императора; их главная обязанность — выдерживать натиск северо-восточных варваров и охранять порядок на Черном море, взамен чего Рим уплачивал им ежегодное вспомоществование. Со своей задачей они, по-видимому, справлялись недурно; мы можем проследить династию Эвпаторидов до конца нашего периода. Их имена — Рескупориды, Реметалки, Савроматы, Котии — свидетельствуют о сильной примеси варварской крови, но это не мешало им считать себя греками, признавать своим богом Аполлона и вести свой род от Геракла.
На деле же Боспор при Эвпаторидах еще более, чем при Спартокидах делается греко-варварским царством. Придворные должности создаются по парфянскому образцу; искусство подчиняется иранскому влиянию и, в свою очередь, подготовляет расцвет иранского искусства при Сасанидах; в религиозную обрядность проникает тайный культ фракийского Савазия с его родственным орфизму учением о загробном мире. Этот Савазий в силу созвучия с «Саваоф» отождествляется с Богом Израиля, чем обозначается еще один путь, подготовивший умы к восприятию христианства.
Херсонес с принадлежащей ему областью западной Тавриды лишь временно связал свою участь с участью Боспора: еще в I веке по Р.Х. он был то подвластен ему, то самостоятелен, а во II веке при Антонине Благочестивом окончательно от него отделился и вновь превратился в «свободную» республику. Все же этой свободой он был обязан Риму, и ее размеры зависели от того же Рима; когда поэтому повелителю мира угодно было облагодетельствовать территорию республики гарнизоном на нынешней Ай-Тодоре, пришлось покориться. И тогда повторилась всегдашняя история неравной борьбы между крепостным комендантом и гражданскими властями, и нас ничуть не удивляют надписи, свидетельствующия о вмешательстве римских центурионов в управление городом. Но при всем том Херсонес оставался последним оплотом эллинства на Северном Причерноморье, не только в эту эпоху, но, как мы увидим, и в следующую.
Глава I. Нравы
§ 3. Семейный быт. Семья в императорскую эпоху, вообще говоря, не изменилась в сравнении с предыдущими — эллинистической на Востоке, римско-республиканской на Западе. Правда, нам много говорится о все более и более распространяющемся безбрачии и бездетности, против которых еще император Август тщетно боролся законодательными мерами (между прочим, учреждением jus trium liberorum, то есть особых служебных привилегий для отцов не менее трех детей). В связи с этим печальным последствием утраты филономического сознания (выше, с.34) возникает интересная фигура старого богатого холостяка, за которым взапуски ухаживают охотники за наследство — тема постоянных насмешек сатирических писателей. Все же это явление ограничивается высшими сословиями в Риме и в некоторых других зараженных столичной распущенностью городах; прочая Италия, не говоря о провинциях, сохраняет прежнюю здоровую семейную жизнь.
Воспитание в нашу эпоху растет и вглубь, и вширь. Средняя школа устанавливается в своих семи классах с преобладанием в каждой определенного предмета: I — грамматики, II — диалектики, III — риторики, IV — музыки, V — арифметики, VI — геометрии, VII — астрономии. Этот тип «законченного» образования остается каноническим не только для следующей эпохи, но и для всего Средневековья; языком преподавания становится греческий на Востоке и латинский на Западе — «наши языки», как говорит Марк Аврелий, — в зависимости от общественного спроса и без всякого давления свыше. Такую среднюю школу, или несколько, заводит каждый городок. Центры высшего образования на Востоке тоже умножаются, и к ним присоединяются такие же на Западе, с казенным вознаграждением для «профессоров», как их начинают называть. В Риме такой университет основывает Веспасиан (с Квинтилианом как professor eloquentiae, ниже, § 13), за ним следуют университеты в Медиолане для северной Италии, в Августодуне (Autun) и Бурдигале (Бордо) для Галлии, в Augusta Treverorum (Трир) для римской Германии, в возрожденном Карфагене для Африки и, кажется, в Цезаравгусте (Сарагосе) для Испании. Апогеем этого развития был бурный III век, на территории тогдашней римской империи образование стояло на такой высокой ступени развития, какой оно лишь в XIX веке достигло вновь.
В
одежде сохраняется прежний обычай — хитон и плащ на греческом Востоке, туника и тога в Риме и всюду, куда проникает римское гражданство. Но именно как символ римского гражданства тога становится чем-то вроде формы; ее с гордостью носят простолюдины, чтобы их сразу отличили от Перегринов и рабов, но люди верхних слоев общества ограничивают ее ношение парадными случаями, а в домашнем обиходе предпочитают ей более легкую одежду греческого покроя, так называемую synthesis.
В III — IV веках происходит коренная реформа в римской одежде, устранившая ее античный характер и подготовившая средневековый (dalmatica вместо тоги). Мимоходом заметим, что со времени императора Адриана вновь возникает обычай отпускать бороду.

В
похоронах тоже произошла важная реформа. Из двух конкурирующих форм, сжигания и погребения, во II-III веках вторая в зажиточных классах берет верх над первой. В связи с этой реформой воскресает забытый
саркофаг — прямоугольный, большей частью мраморный гроб с такой же крышкой; он часто покрывается рельефами либо со всех сторон (греческая форма), либо только спереди (римская форма), изображающими мифологические или бытовые сцены — для нас это, поэтому, очень интересные и важные памятники. Для бедноты, напротив, заводятся коллективные гробницы, часто, в видах дешевизны, подземные, причем каждый получает маленькое помещение для урны, заделываемое дощечкой с надписью и круглым отверстием для поминальных даров; эти отверстия рядами друг над другом давали гробнице сходство с голубятней, почему она и называлась
columbarium. В особом положении были христианские общины тех времен; для них, конечно, был обязателен пример гроба Господня, чем исключалось сожжение трупа: «Veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus»
[90], — говорит Минуций Феликс (34, 11; ниже, § 13). А впрочем, они, соображаясь с местными условиями, хоронили своих покойников либо sub divo
[91], либо в подземных, соединенных ходами, пещерах. Это и есть сохраненные нам, особенно под Римом,
катакомбы.
Примечание. Слова «саркофаг» и «катакомбы» одинаково загадочны. Sarkophagos («плотоядным») назывался особого рода известняк, которому приписывалось свойство быстро разрушать человеческую плоть и иссушать труп; но от него ли получил свое название гроб, или от предполагаемого пожирающего плоть демона смерти, мы сказать не можем. Название «катакомбы» первоначально относилось только к могилам апостолов у базилики св. Себастьяна ad catacumbas под Римом; но почему эта местность была так названа, мы не знаем.
§ 4. Общественный быт. Говоря об обществе нашей эпохи, полезно различать Рим, Италию и провинции. Рим находился под влиянием
императора и его
двора. В придворной жизни мы различаем два элемента: во-первых, наследие республиканской эпохи, во-вторых, новые наслоения, заимствованные с Востока, главным образом из Египта. Первый элемент преобладал; помня, как враждебно народ отнесся к попытке Антония предложить диктатору Цезарю царский венец (то есть диадему, выше, с. 203), Август в своем внешнем выступлении держал себя civiliter
[92], и прочие императоры до смутного времени, за исключением деспотов, следовали его примеру. Императорский двор был в увеличенном масштабе домом вельможи республиканских времен; личный штат императора, который он подчинял своим отпущенникам — управляющим его личным имуществом (a rationibus), отделом прошений (a libellis), отделом письмоводства (ab epistulis), штатом прислуги (a cubiculis), — развился из соответственных учреждений в богатых республиканских домах. Но фактическое положение дел повело к тому, что эти должности получили государственное значение; это в I веке имело последствием возмутительное хозяйничание отпущенников — при Клавдии отпущенники Нарцисс и Паллант были могущественнее всех проконсулов и префектов вместе взятых, — а во II веке подсказало разумным императорам решение назначить на эти придворные должности лиц всаднического сословия. Подобно придворному штату и придворные приемы (обязательно в два первых утренних часа), и обеды были развитием соответственных республиканских обычаев.
В сравнении с этим республиканским наследием заимствования с Востока были не особенно ощутимы (если не считать культа, о котором — в главе IV). Сюда относятся: учреждение «друзей» (amici) и «спутников» (comites) императора — окружавшая императора сфера близких сенаторов и всадников, которых он приглашал в свой государственный совет, а также и к обеду; отдельно, хотя подчас еще ближе к его особе, стояли придворные философы, воспитатель наследника, медик, астролог (ниже, § II) и — шут. Затем — знак отличия, которым император дарил этих своих друзей, — поцелуй. А затем и обычай воспитывать детей этих друзей в особой придворной школе — знакомом нам уже (выше, с.204) пажеском корпусе. О более полной ориентализации придворной жизни, наступающей с III века, будет сказано в следующем отделе.
Вторым главным элементом в общественной жизни Рима был нобилитет, или
сенаторское сословие, включавшее в себя, кроме действительных сенаторов, еще потомков таковых до третьего поколения. Независимо от политического влияния сената как такового, часто урезываемого императорами, и личного влияния и богатства отдельных членов, в котором их нередко превосходили всадники и даже отпущенники, древность рода и та величавость и изящество обращения, которых ни за какие деньги купить нельзя, содействовали обаянию нобилитета, которому охотно подчинялись впечатлительные в этом отношении умы римлян. Число знатных домов с таким же, хотя и количественно меньшим штатом, как и императорский, было довольно велико, и они на приемах, праздниках, выездах развивали, каждый в размере своих средств, очень значительный блеск. Конечно, эта столичная жизнь способствовала распространению праздной хлопотливости и поддерживала характерный для Рима класс людей, которых сатирики и моралисты называют «арделионами», — людей, бегавших с одного приема на другой, боявшихся упустить какую-нибудь великосветскую свадьбу или похороны, вечно занятых и, в сущности, ничего не делающих.
Чем для Рима были члены сенаторского сословия, тем для прочей Италии и провинций были
всадники, второе из римских сословий. Оно не было замкнутым: доступ в нему был открыт всем свободнорожденным гражданам, имеющим соответственный ценз (четыреста тысяч сестерций) и прослужившим некоторое время в войске офицерами. Все же и в этом сословии имелся более тесный круг родовитых всадников, и Овидий не без гордости называет себя, в отличие от баловней Фортуны, vetus ordinis heres
[93]. Вторую группу образовали всадники императорской службы, префекты и прокураторы (ниже, § 8); третью — тузы промышленности и торговли, то есть тех родов деятельности, которые были сенаторам запрещены.
Очень разнообразным был состав
третьего сословия, охватывавшего, кроме свободнорожденных граждан, также и отпущенников, и в обеих категориях — представителей всевозможных земледельческих, промышленных, торговых, научных и художественных профессий вплоть до нищих, которых, особенно в Риме, было очень много. Они жили цеховой жизнью, очень деятельной и подчас шумной; каждое такое collegium объединялось культом какого-нибудь божества, имело свои праздники, свои членские взносы, уставы, своих председателей, патронов и патронесс и обеспечивало своим членам, кроме ряда развлечений при жизни, еще и соответствующие почетные похороны. В особом положении находились
отпущенники, которым никакой ценз не открывал доступа во всадники. Их честолюбию была дана отдушина в учреждении ордена
августалов, то есть почитателей обоготворенного Августа (ниже, § 15). Они играли немалую роль в общественной жизни муниципиев и провинций, и быть «севиром» (то есть членом управы) местной коллегии августалов стало высшей целью жизни разбогатевших отпущенников вроде того Трималхиона, которого так мастерски описал Петроний (ниже, § 13).
Еще должно быть упомянуто, что императором Марком Аврелием был издан первый
табель о рангах для обоих привилегированных сословий; согласно ей членам сенаторского сословия был присвоен титул vir clarissimus, из всаднического: префектам преторианцев — vir eminentissimus, прочим префектам — vir perfectissimus, прокураторам — vir egregius, из остальной массы выделены были viri splendidi и illustres.
§ 5. Хозяйственный быт. В экономическом отношении ранняя империя может быть названа эпохой расцвета античного мира. Повсюду установленная pax Romana дала возможность богатой природе Средиземноморья и предприимчивости его жителей выказать всю свою силу. Очень разветвленная система больших торговых дорог соединила между собой все концы вселенной; не менее оживленными были морские сообщения после того, как первым императорам удалось сломить пиратство, вновь поднявшее голову во время смут третьей междоусобной войны. И вся эта огромная область была областью
свободной торговли, не стесненной таможенными заставами.
Торговля велась не только между отдельными частями этой области, но и с пограничными странами и, через них, с более отдаленными — особенно со сказочным Востоком, с Эфиопией, Аравией, Парфией и через нее — с Индией и Китаем. При таких расстояниях сосредоточивать все торговое дело в руках единоличных предприимчивых emporoi
[94] (выше, с.136) было немыслимо: необходимо было образовать передаточные пункты, куда бы свозились товары из одной области, чтобы развозиться по остальным. Такими emporia
[95] были: Александрия для Нубии и Аравии, отчасти и для Индии, Антиохия (у китайцев Анти; это название они перенесли на всю Римскую империю) для Парфии, Индии и Китая, Карфаген для западной Африки и другие. Италийскими гаванями были Аквилея, Путеолы, Остия; отсюда все направлялось в Рим, в гигантские торговые ряды под Авентином, где со временем выросла целая гора из черепков глиняных амфор, служивших для перевозки жидкостей — нынешний Monte Testaccio. Свободная конкуренция объединенных империей наций повела к тому, что над италийцами восторжествовали греки и над обоими народами — сирийцы, что вызвало в III веке даже религиозно-культурное подчинение Рима Сирии (ниже, § 15).
Заметим мимоходом, что те же разветвление и безопасность путей сообщения повели и к развитию
туризма как такового, то есть путешествий частных лиц из любознательности и жажды разнообразных ощущений. К сожалению, эти туристы двигались, как и ныне, по проторенным тропам; их целью были главные образовательные достопримечательности Греции, Малой Азии и Египта. Настоящие путешествия ради открытия новых земель по примеру Пифея массалийского (выше, с.219) вследствие убыли научного духа в нашу эпоху делались редко и в небольших размерах, и замечательному пророчеству Сенеки о новых аргонавтах, которые откроют новую землю по ту сторону океана:
Venient annis saecula seris, quibus
Oceanus vincula rerum
laxet et ingens patent tellus,
[96]
(
Сен. Мед. 375) — суждено было исполниться только через полтора тысячелетия.
Ввоз восточных товаров — слоновой кости, порфиры, китайского шелка, благовоний, драгоценных камней, а также и рабов и диких зверей для игр в амфитеатре — был очень оживленным; вывоз с ним сравняться не мог, так как Восток при замкнутости своей культуры не нуждался в чужеземных изделиях. Неизбежным последствием был отток за границу римского серебра и золота, — оно в эпоху империи тоже уже чеканилось, — а это также неизбежно повело к ухудшению сплава уже начиная со II в.
О
промышленности можно к сказанному выше (с.69) прибавить лишь то, что она сильно специализируется в зависимости от возросшей изысканности жизни; в самой технике мы прогресса не замечаем, убыль научного духа в сравнении с эллинистической эпохой (выше, с.221) затормозила начавшееся было проникновение технологии в дело производства.
В
земледелии обозначается, под давлением разумных императоров, некоторое ослабление ужасов рабского труда и плантационной системы. Мелкопоместного землевладения, впрочем, тоже не создается; но чем-то средним между этим и той был развивающийся также и на Западе — отчасти под влиянием эллинистического Востока, отчасти самостоятельно —
институт наследственной аренды, благодаря которой мелкие земельные наделы фактически переходили если не в собственность, то во владение свободных крестьян. Это не было еще закрепощением — арендный договор мог быть расторгнут, — но так как фермеры были обязаны и к оброку, и к барщине, то до полного закрепощения было уже недалеко.
Таков был производительный труд. Обращаясь к остальной части населения и оставляя в стороне тружеников свободных профессий, мы переходим к тем, кто
состоял на
жаловании либо у императора, либо у частных лиц. Первые — это либо чиновники и военные, либо вспомоществуемые; действительно, императоры если не прекратили расточительных фрументаций республиканской эпохи (выше, с.257), то все же ограничили их нуждающимися, число которых было определено. Особенно симпатичен был институт дарового воспитания (алиментаций) как для мальчиков, так и для девочек, введенный Нервой в его кратковременное правление и развитый его преемниками, причем мальчики были на попечении императора, девочки — императрицы (puellae alimentariae Faustinianae
[97] в честь императрицы Фаустины, жены Антонина Благочестивого), — тем более, что богатые вельможи последовали примеру главы государства. Вторые, то есть состоящие на жаловании у частных лиц, распадались на таких, которые служили дому своей работой (домашние философы, врачи, воспитатели и т.д.), и на таких клиентов, которые просто составляли свиту вельможи, будучи обязаны являться к нему на приемы (часто с женами), сопровождать его на выходах и путешествиях, обязательно в чистой тоге, взамен чего они получали от вельможи регулярное пропитание (sportula). Типичным представителем тунеядцев этой категории был остроумный Марциал (ниже, § 13).
Переходя от частного хозяйства к
государственному, следует прежде всего указать на огромного значения реформу, состоявшуюся в связи с делением провинций на сенатские и императорские (ниже, § 8), — а именно, на основание рядом с унаследованным от республики
сенатским казначейством (aerarium Saturni, так называемым по месту хранения) еще
казначейства императорского (fiscus, точнее fisci, так как эта казна состояла из ряда отдельных касс), от которого опять отличается частная касса императора (res private Caesaris). Доходы императорской казны взимались не через откупщиков, а через финансовых чиновников (procurators), служивших за жалование; это были лица всаднического сословия. Взимание доходов сенатской казны было, в принципе, оставлено откупщикам, но все же под контролем императорских чиновников, так что золотые времена откупщической, как и наместнической, эксплуатации отошли в прошлое, и провинции вздохнули свободнее. Кроме доходов с императорских провинций в фиск поступают также и доходы с основанных императором косвенных пошлин, особенно с 5%-ной от наследств (vicesima hereditatium) и с 5%-ной от отпущения на волю. А затем, дальнейшее развитие финансового дела при Клавдии, Веспасиане, Адриане и Септимии Севере состояло в последовательном укреплении фиска за счет эрария; после реформы последнего из названных фиск стал единственным государственным казначейством, и эрарий был низведен до значения городской казны города Рима. Параллельно с этим развитием шло постепенное ограничение республиканского принципа необложимости римских граждан (выше, с.258); при Северах Италия в податном отношении была приравнена к провинциям.
§ 6. Военный быт. Важнейшим нововведением императорской эпохи было образование, в отличие от стоявшей в провинциях армии, особой императорской
гвардии, имевшей свой лагерь под Римом у Коллинских ворот. Это были знаменитые
преторианцы — десять когорт по тысяче человек, каждая под командой двух (редко одного) praefecti praetorio; они набирались обязательно из римских граждан и получали жалованье более чем в три раза большее против легионеров. Дурная слава, которой они пользуются поныне, несправедлива: они хранили безусловную верность императору и его дому, — сравните ответ их префекта, когда Нерон пожелал воспользоваться их услугами для устранения своей матери Агриппины: «Никогда преторианцы не дадут в обиду правнучки Августа!» — и злоупотребляли своей фактической властью только тогда, когда основы воинской дисциплины были потрясены убийством императора, как это случилось после Калигулы и Коммода. Последняя катастрофа имела последствием их роспуск Септимием Севером и набор новой гвардии из легионов с преимущественно негражданским составом; в этом виде они продержались до Константина.
Легионы стояли в провинциях, особенно в пограничных; они все были подвластны императорским легатам и через них императору, бюст которого в легионских значках присоединяется к традиционным орлам (выше, с.265). Стояли они в укрепленных лагерях, занимаясь в мирное время, кроме военных упражнений, еще саперными работами не обязательно фортификационного характера. Доступ посторонним в лагеря был запрещен; зато вблизи их обыкновенно возникали торговые посады (cannabae), со
временем превращавшиеся в города. Срок службы был двадцатилетний, но и по его прошествии ветеран мог оставаться в войске в особых vexilla
[98]; в противном случае он получал денежный дар или земельный надел. Римское гражданство было вначале условием для поступления в легион, но уже в I веке допускаются уклонения, пока Антонин Благочестивый не упразднил самого условия. В этом не было большого зла, пока набор производился из преданных римской власти провинциалов. Зародышем гибели был возникающий в III веке обычай образовывать военные границы из варварских, преимущественно германских племен; об этом в следующем отделе.
§ 7. Правовой быт в нашу эпоху представляет двойной аспект в зависимости от того, обращаем ли мы внимание на развитие самих правовых норм или на их осуществление в судопроизводстве.
Право в узком смысле переживает в первые столетия империи эпоху своего самого пышного расцвета. Преторский эдикт находит свое продолжение в разъяснениях как самих императоров (constitutiones), так и тех юридически сведущих лиц, авторитет которых император признал обязательным (responsa prudentium); из них еще при Августе прославились ученик Цицерона
Требаций и особенно его ученик, умный и честный
Лабеон. В нагроможденные таким образом отдельные постановления вносит порядок, развивая систему Сцеволы (выше, С.262), первый крупный юрист-систематизатор империи,
Сальвий Юлиан, в составленном им по поручению императора Адриана «Edictum perpetuum». При Антонине Благочестивом пишет свои «институты» («Institutiones») полубезымянный для нас юрист Гай; его книга, будучи найдена в 1816 году Нибуром в веронском палимпсесте, сделала возможным изучение
истории римского права. По своему назначению это было руководство, а не свод обязательного характера. Дело Юлиана продолжали при Септимии Севере
Папиниан, величайший римский юрист, а при Александре Севере —
Ульпиан и
Павел. В этих именах сосредоточено лучшее, что удалось создать Риму в той области права, в которой он был учителем мира. Из многочисленных завоеваний юридической мысли Рима в нашу эпоху отметим в области деликтического (выше, с.261) права установление и обоснование понятия
culpa[99] между понятиями dolus malus и casus
[100] — то есть, по определению Ульпиана, nimia neglegentia
[101], состоящая в non intellegere quod omnes intellegunt
[102]. (Например: некто, живя на людной улице, днем без умысла выбрасывает через окно кирпич, которым убивает прохожего). В области неделиктического права следует отметить законодательство в обеспечение личности и имущества рабов, которые в нашу эпоху все более и более из res
[103] превращаются в personae
[104].
Иной аспект, как уже сказано, представляет осуществление права в
суде и
каре. Суд присяжных в уголовных комиссиях, правда, продолжает свое существование в городе Риме до Марка Аврелия, после которого он глохнет и в эпоху великой смуты гибнет окончательно. Но и в указанные первые два столетия его затмевает так называемая
cognitio (то есть единоличный суд с заседателем как совещательным органом), которую производил сам император либо лично, либо через своих префектов, городского и преторианских. Эта cognitio возникла из наместнического суда в провинциях, и там, понятно, была оставлена в силе. Только в одном роде процессов был оставлен суд присяжных — в так называемых центумвиральных судах, игравших в республиканскую эпоху довольно скромную роль, так как их компетенцией были почти исключительно дела о наследствах. Теперь они стали главной ареной судебного красноречия, пока оно не заглохло совсем.
Кроме исчезновения суда присяжных наша эпоха в области судопроизводства принесла с собой еще увеличение шкалы
наказаний. Таковыми стали для высших сословий простая казнь (причем в виде милости император часто разрешал самоубийство), deportatio (позорящая ссылка с конфискацией имущества), relegatio (непозорящая ссылка без конфискации); для низших — каторга в рудниках (ad metalla), растерзание дикими зверями в амфитеатре (ad bestias) и бичевание. Наконец, возникает и
пытка. Республиканский Рим считал ее несовместимой со свободой не только граждан, но и неграждан; это правило, «которое справедливо может быть названо подвигом римской цивилизации» (Т. Моммзен
[105]), теперь нарушается — впервые при Тиберии — сначала по отношению к подсудимому, а затем и по отношению к свидетелям. Марк Аврелий, издавая свой табель о рангах (выше, с.307), по крайней мере, людей высших сословий освободил от пытки, но при Северах и это ограничение было упразднено.
Характерной чертой правового быта нашей эпохи были процессы об
оскорблении величества (laesae majestatis). В республиканскую эпоху они тоже существовали, но тогда под majestas разумелось величие народа и под понятие laesa majestas подпадали государственная измена и превышение магистратами власти. Теперь значение термина изменяется; он распространяется на все деяния, направленные против особы императора, и обещанные обвинителям награды ведут к возникновению особого класса людей, так называемых
delatores (доносчиков), которые при склонных к подозрениям императорах, вроде Домициана, наводят ужас на Рим.

§ 8. Государственный быт. Основным характером государственного строя в раннюю империю является, по крайней мере, юридически, последовательно проведенное
двоевластие, то есть такое правление, при котором во главе государства оказываются два правящих органа, а именно — с одной стороны,
государь (princeps), с другой —
сенат. Это принципиальное двоевластие выводится юридически из конститутивной формулы, согласно которой власть императора представляется составленной из двух пожизненно ему врученных полномочий, а именно проконсульского imperium и трибунской potestas — и проявляется поэтому и в горизонтальном и в вертикальном делении власти между императором и сенатом.
Горизонтальное деление заключается в том, что император в силу своей
проконсульской власти является верховным начальником всех легионов римской армии и всех провинций, где таковые стоят, — то есть провинций пограничных; ими он управляет через своих legati pro praetore сенаторского звания. Особняком стоит Египет, который Август по его завоевании не присоединил к прочим провинциям империи, а оставил себе как наследнику Птолемеев; им император управляет через особого префекта всаднического звания, и сенаторам доступ в эту страну был запрещен. Напротив, Италия и мирные провинции должны были оставаться в ведении сената, который управлял ими через своих магистратов и промагистратов.
Вертикальное деление заключается в том, что император в силу своей
трибунской власти пользуется правом контроля деятельности сенатских магистратов также и в предоставленной сенату в силу горизонтального деления территории; это право он осуществляет особенно в области финансовой через своих прокураторов и в области судебной через своих префектов, городского и преторианских, — эти должности поручались исключительно лицам всаднического сословия. Таким образом, мы имеем в нашу эпоху две категории должностных лиц,
сенатскую, в которую входили прежние республиканские магистраты и промагистраты, и
императорскую, в которую входили прокураторы и префекты; первая принадлежала сенаторскому, вторая — всадническому сословию. Промежуточное место занимали легаты pro praetore, которые, будучи сенаторами, все, же управляли императорскими провинциями.
Народное собрание, существовавшее еще при Августе, было упразднено Тиберием; чисто пассивное отношение народа к его упразднению лучше всего доказывает, до какой степени оно стало фикцией после того, как дарование гражданских прав италийцам сделало его плебисцитарный характер несовместимым с изменившимися условиями (выше, с.268). Его функции перешли к сенату, пополнявшемуся по-прежнему ежегодными квесторами.
Развитие государственной власти при созданных этим двоевластием условиях не было последовательным, находясь в зависимости от индивидуальных наклонностей каждого данного императора; все же все фактические преимущества были на стороне единоличной императорской власти, рядом с которой власть сената была лишь терпима. Императоры-деспоты вроде Тиберия, Домициана и особенно Септимия Севера с его сыном сводили ее к нулю; а после великой смуты III века двоевластие и фактически и юридически прекратилось и его заменило монархическое правление императора, причем сенат превратился в простую городскую думу Рима. Таковым перешел он в следующий период.
§ 9. Италия и провинции. Как в республиканскую эпоху Рим относился к Италии, так ныне Италия относится к империи; романизация этой империи точно так же является делом нашей эпохи, как романизация Италии — предыдущей. Венцом обоих стремлений было распространение римского гражданства — там на италийцев после союзнической войны (89 год до Р.Х.), здесь — на провинциалов в constitutio Antoniniana 212 года. Одну оговорку, впрочем, придется сделать тотчас же: в восточной половине империи латинский язык стал только языком армии и конвентов (выше, с.271), в администрации и в частной жизни он стушевался перед языком греческим, носителем гораздо более полной греческой культуры.
Но и в жизни отдельных провинций наблюдаются довольно существенные особенности, и было бы глубоким заблуждением представлять себе их романизацию как культурную нивелировку.
Испания, населенная иберийцами (и кельтиберийцами) с сильной примесью на юге финикийского элемента, как первая римская провинция на материке еще в республиканскую эпоху сильно романизировалась. Особенно много сделал в этом отношении Серторий, вождь римской эмиграции в семидесятых годах, своими латинскими школами, охотно посещавшимися иберийской молодежью. Много городов с римским населением возникло здесь в последующее время, особенно в долине Бетиса (Гвадалкивира); финикийский Гадес уступил свою цивилизаторскую роль римскому Hispalis (ныне Севилья). Третьим фактором романизации стали на севере римские легионы, необходимые против свободолюбивых астурийцев и кантабров; они стояли в городе, который поныне сохранил название «легион» — Leon. Параллельно с романизацией шел переход от племенного быта к городскому; уже Веспасиан мог дать множеству испанских общин латинское право. Иберийский язык был оттеснен в Пиренейские горы, где он сохранился поныне в качестве своеобразного языка басков. Уже с первого века империи испанцы — оба Сенеки, Лукан, Квинтилиан — играют роль в римской литературе, и романский язык полуострова в своих трех главных разветвлениях — португальском, кастильском и каталанском — своей сравнительной близостью к итальянскому доказывает, что романизация здесь состоялась и раньше и полнее, чем где-либо. Точно так же и местные религии исчезли здесь раньше и бесследнее, чем где-либо.
Не так легко поддалась
Галлия. Правда, так называемая «
провинция» (выше, с.247) не отстала от Испании, и разница между ней и прочей Галлией отразилась на делении также и позднейшего французского языка на langue d'oc и langue d'oui. Крупнейшим изменением было здесь включение Цезарем в «провинцию» также и массалийского государства; Массалия осталась центром галльского эллинизма на все три столетия нашей эпохи, но ее торговое значение унаследовал город Arelate (ныне Арль) на нижней Роне, сохранивший его и в раннее Средневековье. Но в покоренной Цезарем Галлии местный элемент еще долго боролся с римским. Силы к борьбе он находил в своей религии, мрачной и мистической, и в ее представителях — друидах, организованном и объединенном жречестве с многолетним курсом учения и периодическими собраниями в Антрике (ныне Chartres). Рим при всей своей терпимости в религиозных делах счел нужным выступить против друидизма ввиду безнравственного характера его культа, требовавшего, между прочим, человеческих жертвоприношений; Антрику он противопоставил
Лугудун (ныне Лион) как новый политикорелигиозный центр всех галльских провинций, скоро ставший самым населенным и цветущим городом Галлии. Впрочем, и здесь романизационные меры были мягкие и разумные, и цель была достигнута вполне. Галлия уже в I веке до Р.Х. срослась с империей; даже когда в последние дни Нерона здесь возникло восстание — его вождь Юлий Виндекс свое право на эту роль выводил из того (быть может, вымышленного) факта, что он происходил от побочного сына Цезаря. Все же литературное значение Галлии относится уже к следующей эпохе.
Необходимость укрепления римского владычества в Галлии повела со временем к завоеванию также и
Британии, очага галльского друидизма, поскольку она была населена родственным с галлами народом бриттов. Каледонии, где жили пикты, а также острова Ивернии (Ирландии), который населяли скотты, Рим не тронул. Скоро и здесь началась романизация и переход к городскому быту; религиозно-административным центром новой провинции стал Camalodunum (Кольчестер), торговым — Londinium (Лондон), военным — Eburacum (Йорк). Очень развитая система больших дорог довершила умиротворение страны, которая только теперь, благодаря Риму, познала пользу хлебопашества и оседлой жизни. Она отплатила ему безупречной верностью и лишь очень неохотно дала себя отторгнуть от империи в начале V века после безуспешной просьбы о защите.
План Августа и его храброго пасынка Друза создать также и римскую
Германию до Эльбы погиб вместе с легионами Вара в Тевтобургском лесу (9 год по Р.Х.); название Germania осталось за двумя небольшими провинциями на левом берегу Рейна и по эту сторону укрепленного вала (limes), соединяющего Рейн с Дунаем. Здесь названная в честь зятя Августа Colonia Agrippina (ныне Кельн) была сакрально-административным, Moguntiacum (ныне Майнц) — военным центром, и вся жизнь имела военный характер. Правда, херуски, от вождя которых Арминия погиб Вар, вскоре после этого потеряли гегемонию среди германских племен, и сменившие их хатты были довольно миролюбивы; но в последние времена Антонинов появляется на рейнской границе беспокойное племя (или союз племен) аламанов, а в эпоху смуты к ним присоединяются франки («свободные» — тоже, вероятно, союз племен). С этих пор начинаются непрерывные германские войны, в которых истощилась империя.
Августу же принадлежит и план организации дунайских провинций, коих он образовал пять: 1)
Рецию с центром в Augusta Vindelicorum (ныне Аугсбург), к которому позднее Марк Аврелий прибавил Castra Regina (ныне Регенсбург). Она туго поддавалась романизации; напротив, очень легко и успешно 2)
Норик со многими городами, особенно Emona (ныне Люблин) и Juvavum (ныне Зальцбург), 3)
Иллирик (верхний), населенный народом, от которого происходят нынешние албанцы. Его завоевание началось еще в республиканскую эпоху, но организация и романизация была делом империи. Ее упадок в III веке был странным образом эпохой расцвета для Иллирика, главный город которого, Salonae, стал одним из самых людных городов римского государства. Здесь Диоклетиан построил себе свой огромный дворец, стены которого поныне окружают город, унаследовавший название дворца — Spalato. 4)
Паннония (или нижний Иллирик) с ее соседними главными городами Carnuntum (ныне Петронелль) и Виндобона (ныне Вена), была чисто военной провинцией, занятой многочисленными войсками; как германские легионы вели войну с аламанами и франками, так паннонские в то же время — с маркоманнами. 5)
Мезия (Moesia) с городами Singidunum (ныне Белград) и Viminacium (Костолац) была предметом двойной цивилизационной работы — римской с Паннонии и греческой с Македонии, причем и та и другая пользовались одинаковым покровительством римской власти. К этим пяти провинциям, организованным Августом и его ближайшими преемниками, Траян прибавил еще одну задунайскую,
Дакию (ныне Румыния). Хотя эта провинция позже прочих была присоединена к империи и ранее прочих была от нее отторгнута — уже в смутный период III века, — все же ее романизация была настолько прочна, что восторжествовала над всеми веками и вторжениями варваров, и нынешние румыны справедливо признают императора Траяна создателем своего народа.
А впрочем, история всех этих окраин ничего не дает нам, кроме имен и голых фактов; пульс действительной жизни мы чувствуем, только спускаясь от них к
греческому Востоку. Балканский полуостров, кроме Мезии и Фракии, был разделен на две провинции, Македонию и Ахайю, из коих первая обнимала также и северную Грецию (выше, с.20). Для обеих сакральным центром были Дельфы, амфиктионию которых (выше, с. 196) Рим реорганизовал, включая в нее почти все греческие племена с Македонией и Эпиром. Независимо от этого собственно Греция имела своими главными городами Коринф, вновь основанный Цезарем как римская колония, и Аргос: там жил римский наместник, здесь собирался провинциальный сейм. Не входили в состав провинции Афины и Спарта, сохранившие и при империи свою свободу. Вообще Рим всячески проявлял свой филэллинизм, особенно по отношению к Афинам — никто в такой мере, как Адриан, украсивший Афины многими величественными зданиями, пристроивший к ним новый квартал и подаривший им водопровод, из которого афиняне пьют воду поныне. И все-таки Эллада угасает; исчезновение филономического сознания повело к усиливающемуся безбрачию и к уменьшению населения. Старая религия еще была сильна, но более как предмет любви, чем веры. Промышленность и торговля оскудели; Пирей, некогда «гостеприимнейшая гавань в мире», теперь редко видел в своих водах заезжее судно. Мирное, предзакатное настроение царит повсюду; его лучший представитель —
Плутарх Херонейский (I-II века), один из симпатичнейших людей того времени, прекрасный семьянин и любящий гражданин своей маленькой родины, довольствующийся при скромном достатке скромными почестями со стороны своих сограждан и мирно доживающий свой век под лучами заходящего солнца Аполлоновой горы.
Малая Азия состояла из нескольких провинций, из коих главной была «Азия» в узком смысле, бывшее Пергамское царство, «провинция пятисот городов», как ее называли. О ее процветании в нашу эпоху свидетельствуют, кроме литературы, и многочисленные развалины, обнаруженные путешествиями последних десятилетий: «Где только исследованию открывается уголок этой земли, нетронутой опустошениями того полутора-тысячелетия, которое нас отделяет от тех времен, там наше первое и сильнейшее чувство — чувство ужаса и почти стыда вследствие контраста между жалким и бедственным настоящим и счастьем и блеском истекшей римской эпохи» (Т. Моммзен). Земледелие, промышленность, торговля находились на одинаковой, очень значительной высоте; о просвещении города заботились взапуски, и в литературе — конечно, греческой — нашего периода Малая Азия играет первостепенную роль. Религиозность жителей была сильна и чутка с наклоном к мечтательности и мистицизму; для чудодеев, вроде знаменитого Аполлония Тианского, здесь была благодатная почва, но и христианство нашло здесь свои первые и самые верные общины.
Подобно Малой Азии и
Сирия ждет своих избавителей для возвращения ей того благосостояния, которым она пользовалась в эпоху империи. Но, впрочем, характер ее был другой: там — множество одинаково цветущих, соперничающих друг с другом городов, здесь — бесспорное первенство греческой столицы, роскошной и распущенной Антиохии, которой не могла затмить основанная Римом латинская столица Берит (Berytos, ныне Бейрут), хотя и она прославилась своими высшими школами, филологической и юридической; там — мирная жизнь разоруженных провинций под мягкой властью римского сената, здесь — ферула
[106] императорского наместника и воинский шум легионов у беспокойной евфратской границы. Но культура почвы, промышленность и торговля были здесь еще значительнее, чем там.
Особого внимания заслуживает
Палестина. За Хасмонеями (то есть основанной Маккавеями династии, выше, с.201) последовал Ирод Великий, в сорокалетнее правление которого иудейское царство достигло своего апогея в смысле внешнего блеска и могущества; но при его преемниках начались смуты. Иудея была то подпровинцией с римским прокуратором во главе, то полусамостоятельной под протекторатом Рима; рознь партий между собой и с Римом росла и росла и повела, наконец, к восстанию 61-69 годов, после которого Иерусалим и его храм были разрушены. Но и этим сопротивление иудейского народа не было сломлено: он восставал и при Траяне, и при Адриане, и при Антонине Благочестивом, каждый раз неудачно; взаимное отчуждение и взаимная ненависть от этого только усиливались. Внешним результатом было включение Иудеи с ее столицей Aelia Capitolina — под таким названием Адриан вновь выстроил Иерусалим, запретив, однако, иудеям в нем селиться, — в провинцию Сирию; внутренним — прекращение прозелитизма (выше, с.238) и полная замкнутость еврейства в этот новый, чисто синагогальный период его жизни.
Оставляем в стороне римскую (северо-западную)
Аравию, пустынную страну, в которой, однако, транзитная торговля с Индией повела к возникновению сказочно богатых и прекрасных городов вроде Петры; переходим к
Египту с его столицей Александрией. В отличие от прочих провинций правление здесь было чисто бюрократическим: даже греческие города не имели ни советов, ни выборных властей. Превосходя плодородием все прочие провинции, Египет был житницей Италии в эпоху империи; вот почему императоры особенно дорожили этой провинцией, обладание которой им обеспечивало подчинение Италии. Второй силой страны была промышленность, главным образом, производство тканей, стекла и папируса; третьей — торговля с Индией (по Нилу до Копта, оттуда по большим дорогам до чермноморских гаваней
[107] Myoshormos или Вереники, оттуда, огибая Аравию, к Малабарскому побережью), особенно с тех пор как мореход Гиппал открыл постоянство муссонов и возможность прямого морского пути из Аданы (ныне Аден) к Малабару. Александрийский Мусей с его кафедрами был оставлен императорами, и ученые продолжали с гордостью называть себя аро tu Museiu (как в Париже de l'Institut), но его придворное происхождение оказалось для него роковым: он захирел с тех пор, как в Александрии не было двора, между там как в Афинах высшие школы и под римской эгидой продолжали процветать. Впрочем, это касалось греков; местное население, умственно и нравственно обессиленное многовековыми кровосмесительными браками, в тупом повиновении исполняло свою тяжелую работу, равнодушное ко всему, что не касалось его священных крокодилов и кошек.
Оставляя в стороне малозаметное в нашу эпоху
Киренское пятиградие на Большом Сирте, мы переходим к
африканскому Западу между Средиземным морем и пустыней, состоящему из греко-финикийского трехградия (Триполиса), провинции Африки с Нумидией и Мавритании. После того как Цезарь восстановил разрушенный столетием раньше Карфаген, для этих провинций наступил период поразительного расцвета, о котором поныне свидетельствуют развалины заложенных тогда городов. Очень сложным был национальный вопрос. Местный (берберский) язык держался с замечательной стойкостью через всю античность, как и ныне; на него легло уже с давних пор финикийское наслоение вследствие карфагенского владычества; на финикийское — греческое, благодаря непреодолимой притягательной силе действующей с Сицилии и Кирены греческой образованности. Теперь на всю ту подпочву ложится латинское наслоение, и оно побеждает: к концу нашей эпохи мы имеем уже латинскую Африку, давшую также и литературе своеобразную «африканскую латынь», страстную и подчас дикую, но всегда сильную — латынь Апулея среди язычников, Тертуллиана и бл. Августина среди христиан. Экономическое значение этих провинций было неодинаково. Африка в узком смысле по плодородию мало уступала Египту, и Нумидия к ней в этом отношении приближалась; Мавритания была менее обильна, и ее оккупация Римом при Калигуле преследовала, главным образом, военные цели — обезопасить Испанию от набегов с юга.
Таким образом, все культурное развитие империи повело неизбежно к роковому дуализму: греческий Восток, римский Запад; внутренняя политика Рима держалась последовательно системы двух «наших» языков, эллинизируя Восток и романизируя Запад. Там она продолжала дело эллинистической эпохи, здесь делала свое, и успех был на ее стороне. Орудиями романизации были: 1) колонии и конвенты римских граждан, 2) свободная латинская школа, 3) армия при последовательно проведенной системе местного набора. Но главным средством было терпение, старательное избегание крутых мер, которые бы приправили очевидную пользу усвоения римской культуры изъянами нравственного характера. И поразительна была сплоченность этой двойной империи: и сириец Лукиан и испанец Сенека одинаково чувствовали себя гражданами единого римского государства. Его временные расщепления были делом армий, требовавших престола каждая своему полководцу; народы же провинций льнули друг к другу и к общему центру — Риму.
§ 10. Нравственное сознание. Многовековая работа греческой
философии в греческой и латинской оболочке принесла в нашу эпоху свои самые обильные плоды, спаивая различные части римской империи также и единством нравственной культуры. Она обнимала далеко не одни только верхи общества: возродившаяся в нашу эпоху с новой силой киническая проповедь проникала в самые низшие слои, ставя всех лицом к лицу с коренными вопросами морали. Эти вопросы считаются везде самыми интересными; в деревенской усадьбе Горация его крестьяне-соседи за скромной трапезой охотнее всего рассуждают о том:
divitiis homines an sint virtute beati;
quidve ad amicitias, usus rectumne, trahat nos,
et quae sit natura boni summumque quid ejus
[108]
(
Гор. Сат. II, 6, 73). Богатые люди приглашают к себе домашних философов в качестве руководителей совести и воспитателей своих детей; бедные довольствуются посещением публичных лекций и собственными беседами, беднейшие жадно прислушиваются к уличным проповедникам или составляют благодарную аудиторию какого-нибудь смышленого раба из хорошего дома, пересказывающего им то, что он подслушал на уроках своих барчуков. Сама философия, идя навстречу потребностям общества, оставляет в стороне физические и даже логические вопросы и сосредоточивается на этике; она учит людей, как им оправдаться.
Перед кем? Вот здесь начиналось разногласие. Заветы автономной этики Платона не были забыты; высокая философия и в нашу эпоху склонна была ответить: перед самим собой — в видах достижения того уравновешенного душевного состояния, в котором все ее направления под различными аспектами видели цель нашего поведения и залог нашего счастья. Но в то же время, где более, где менее, и мистический эвдемонизм дает себя чувствовать; стоическая философия, признавая божий промысел (providentia), открывала дверь признанию также и богозависимости наших поступков. Наша эпоха — эпоха
сакрализации морали. Усиливается прежде всего мистический
биологический эвдемонизм — убеждение в необходимости оправдания перед божеством в видах предотвращения его гнева и заслуживания его милости на
земле: innocui vivite — numen adest!
[109] Но по отношению к этому убеждению наша эпоха находилась далеко не в столь выгодных условиях, как эллинский период, вследствие утраты филономического сознания. Сосредоточивая все внимание на единичной жизни, человек неизбежно сталкивался с мучительным вопросом: почему так часто дурным живется хорошо, а добрым — худо? Высокая философия отвечала на него, отвергая его содержание: никогда добрым не живется худо, так как нет блага, кроме добродетели, а добродетель неотъемлема. Но эта героическая мораль была доступна лишь немногим; остальные требовали восстановления нарушенного нравственного равновесия и, не находя его здесь, искали его
там.
При таком настроении неудивительно, что мир становился добрее: подготовленное эллинистической эпохой (выше, с.213) нравственное облагорожение человечества переносится и на Запад, и Траян не без гордости говорит о гуманности «своих» времен. Правда, перенесенная на Запад, эта греческая доброта столкнулась с жестокостью гладиаторских игр, которые, в свою очередь, как своего рода символ Рима, были перенесены на греческий Восток
[110]. Но это было только периодическое опьянение жестокостью, не упраздняющее основного гуманного настроения, сказывавшегося в усиленной благотворительности, в смягчении участи рабов, в мягкости и кротости общественных нравов. Позднее варваризация Рима, подготовленная эпохой Северов и усиленная смутным временем, произвела и в этом отношении перелом в римском обществе.

Та мягкость и кротость нравов, о которой мы говорим, была своеобразно окрашена все усиливающейся
верой в предопределение, явившейся последствием победоносного шествия астрологии (ниже, § 11). Незыблемый и неумолимый Рок — настоящее божество нашей эпохи, сменившее в этой роли прихотливую Фортуну (Tyche) эллинизма; ее лозунг:
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
[111]
Кто мудр, тот будет покорен Року. Такого мудреца изобразил Вергилий в лице героя своей «Энеиды», этой книги воспитательницы римской молодежи, в самом начале нашей эпохи; такого же мы видим и на римском престоле к концу ее расцвета — в лице императора-философа Марка Аврелия.
Но и непокорных было много; они тяготились сознанием своей беспомощности против неумолимой силы, предопределяющей и нашу судьбу, и нашу волю таинственными излияниями планет в минуту нашего рождения — и внимательно прислушивались к призыву тех, которые им говорили, что «купель Крещения смывает планетную печать».
Глава II. Наука
§ 11. Тот подъем научного духа, который имел своим результатом великие открытия эллинистического периода, уже в I веке до Р.Х. пошел на убыль, чему причиной был в значительной степени упадок эллинистических дворов. После их исчезновения в нашу эпоху дела не могли пойти лучше; и действительно, в большинстве наук обозначился застой и даже регресс. Содействовало этому также и настроение времени, обращение людей от внешнего мира к внутреннему, а также и торжество той лженауки, о которой речь была только что.
Правда,
математика, осененная великим именем Платона, пользовалась большим почетом; она и в нашу эпоху дала первоклассного представителя —
Диофанта Александрийского (III век), отца алгебры, которую он впервые эмансипировал от геометрии (завещавшей ей термины
квадрат, куб и т.д.) и превратил из пространственной науки в отвлеченную. В области
астрономии и
географии знаменитый Клавдий
Птолемей (II век) значительно развил локализацию городов в меридианной сетке Эратосфена, но он же, пренебрегши открытиями Аристарха Самосского и вернувшись к геоцентрической системе Аристотеля, закрепил ее на без малого полтора тысячелетия под именем «птолемеевской системы». В
зоологии застой был полным; людей интересовали лишь чудеса и анекдотические рассказы про животный мир, и научную систему Аристотеля затмили «истории»
Элиана, а также во II веке в Александрии безымянный «
Физиолог», прославленный также и в ранних литературах новой Европы и, между прочим, у нас. С
ботаникой случилось бы то же самое, если бы не аптеки, поддерживавшие интерес к materia medica
[112]; ее замечательным представителем в эпоху Нерона был Педаний
Диоскурид, обстоятельное фармакологическое сочинение которого (с иллюстрациями) нам сохранено и принесло много пользы в раннюю эпоху нашей науки. Все названные ученые писали по-гречески; в латинской литературе должны быть названы «Naturales quaestiones»
Сенеки (главным образом по метеорологии) и «Historia naturalis»
Плиния Старшего, «opus diffusum, eruditum пес minus varium quam nature ipsa» — по отзыву его племянника, Плиния Младшего (
Пл. Мл. III, 5, 6). Обе книги заслуживают нашей благодарности как полезные посредницы между античной и новой наукой; все же они более отмечены даром изложения (первая) и прилежанием (вторая), чем оригинальностью. По содержанию они относятся еще к предыдущей эпохе, будучи почерпнуты из греческих источников до Посидония включительно.
Выше уже была названа та мнимая наука, которая в нашу эпоху захватила власть над остальными; это была
астрология. Как раньше было сказано (с.219), она еще в III веке до Р.Х. халдейским жрецом Беросом была занесена в эллинистический мир со своей родины, Вавилона, где она существовала с незапамятных времен в качестве ведовской науки, извлекавшей из положения семи планет в двенадцати знаках зодиака примеры и советы для царя. Именно для царя: планетные божества, которым были присвоены имена вавилонских богов, могли, конечно, вступать в сношения только с царем, который считался таким же богом, как и они. На греческой почве астрология подверглась немаловажным изменениям. Во-первых, она была демократизована: «констелляции» пророчат судьбу не одним только царям, а всем вообще людям, и притом двояко: и в момент их рождения как судьбу всей их жизни («генитура»), и в каждый данный момент как судьбу предпринятого в этот момент дела («инициатива»). Во-вторых, — и этот второй прогресс был прямым результатом первого, — она неимоверно осложнила свою систему для того, чтобы приспособить ее к извлечению обстоятельных генитур и инициатив. Все это было результатом работы эллинистического периода, во время которого к этой новой науке относились одинаково презрительно и научная астрономия, и философия, особенно новоакадемическая. Но к концу этого периода произошел перелом: стоик Посидоний (выше, с.232) в числе других ведовских наук принял под свою защиту и астрологию. Это могучее заступничество подготовило ее торжество, которое наступило именно теперь. Теория инициатив повела к тому, что все дни были распределены в установленном порядке между планетами — другими словами, к возникновению
астрологической недели, значение которой именно теперь распространяется в римском обществе
[113]. Заготовляются особые таблички с указаниями, какие дни и часы для какого дела полезны и вредны, — чем воскрешается в значительно усложненном виде наивное гесиодовское учение о счастливых и несчастных днях (выше, с.99). Размножаются по всей империи астрологи («халдеи и математики»), к которым обращаются за консультацией — занятие очень прибыльное, но и очень опасное ввиду соблазна для честолюбцев узнавать тайны императорской генитуры; «придворный астролог» становится непременным членом императорского штата наравне с придворным врачом (выше, с.306). Наконец, астрология подчиняет себе и другие науки, выставляя теорию о таинственной связи между знаками зодиака и отдельными землями (астрогеография), животными (астрозоология), растениями (астроботаника), минералами (астроминералогия; из нее потекло живучее поныне суеверие относительно «счастливых камней на каждый месяц»), частями человеческого тела (астромедицина) и т.д. Вот эти-то фантастические системы, распространяемые в особых руководствах, отняли мало-помалу почву у соответствующих здравых, но гораздо менее действующих на воображение наук.
Относительно
медицины, впрочем, нужна оговорка: она и в нашу эпоху, наравне с кудесниками, производит и серьезных ученых, со славой поддерживающих заветы Гиппократа. Таков был в особенности пергамский врач-философ
Гален (II век), прилежный практик и неутомимый писатель, многочисленные сочинения которого пользовались, наравне с сочинениями Гиппократа, огромным авторитетом в новой Европе вплоть до XVI века (а в мусульманском мире и поныне). Правда, препарирование трупов, а тем более вивисекция были в нашу эпоху запрещены; но их с успехом заменили гладиаторские бои, и для врача-исследователя не было более завидного положения, чем положение гладиаторского врача.
Положительно полезной была протекция астрологии для одной, возникающей именно в нашу эпоху науки; это была
химия (выше, с.222). Таинственные и чудесные превращения веществ наводили на признание их мистической связи с планетными божествами; по понятным причинам золото было сроднено с солнцем, серебро — с луной, сверкающий электр (сплав золота и серебра, принимаемый первоначально за отдельный металл) — с Юпитером, вялый свинец — с Сатурном, добываемая на Кипре медь (cuprum) — с Кипридой-Венерой, воинственное железо — с Марсом, плавкое олово — с Меркурием (позднее, когда характер электра как сплава был установлен и была открыта ртуть, этот подвижный металл отошел к Меркурию, и олово стало, что было довольно бессмысленно, металлом Юпитера). Соединения веществ рассматривались как браки, то по склонности, то насильственные, над каждым актом витал соответственный дух, ублажение которого было необходимо для успеха опыта: химия соприкасается с демонологией, с которой она соединяется в (еврейской) каббалистике. При этом с замечательной силой интуиции высказывается уверенность в высшем единстве всех природных веществ (εν τo παν — девиз химиков); ищут возможности превращения каждого из них в это всерастворяющее сверхвещество — правда, отчасти с практической целью: чтобы из этого раствора получить его обратно в виде золота. Так-то в этом «философском камне», завещанном Античностью Средним векам, воскресает давно забытое одушевленное правещество древнеионийской философии природы (выше, с.89).
Из
гуманитарных наук старая всенаука
философия выдвигает на передний план, согласно настроению времени, этику, что ведет к сглажению различий между школами и к процветанию эклектицизма, особенно на римской почве. В остальных областях профессора довольствуются университетским толкованием сочинений классических философов, что вызывает гневный возглас Сенеки (
Сен. II. CVIII, 108, 23): «Philologia facta est, quae philosophia fuit!»
[114] Результатом этой деятельности являются, с одной стороны, объемистые, но ценные комментарии на философов, особенно Платона и Аристотеля, с другой — сборники их биографий и доксографий (то есть кратких характеристик их учений), из коих нам сохранился чрезвычайно ценный, ввиду утраты стольких оригинальных сочинений, сборник
Диогена Лаэртского (III век).
Историография распадается на описание римской придворной жизни и описание окраинных войн, минуя свою самую живую тему — описание администрации и экономического развития империи. Процветание красноречия, хотя и преимущественно парадного, поддерживает интерес к
риторике, давшей в нашу эпоху своего самого крупного представителя
Квинтилиана (конец I века); его прекрасная «Institutio oratoria» в двенадцати книгах содержит в себе и руководство по педагогике (I книга), краткую историю античной словесности и, особенно в той первой своей части, должна быть названа с благодарностью как вдохновительница гуманной педагогики новых времен, вытеснившей варварскую педагогику устрашения Средних веков. Вообще в области гуманитарных наук наша эпоха важна не как эпоха созидания, а как эпоха распространения знания. Благодаря богатой сети низших, средних и высших школ наука становится достоянием всего общества, проникая в него и вширь, и вглубь. Это всеобщее стремление к образованию имеет естественным последствием расцвет
филологии в обеих половинах империи: составляются издания лучших писателей с объяснительными комментариями (так называемыми «схолиями»), обстоятельные словари, всякого рода пособия; устанавливаются законы языка, причем к старой, классической этимологии Дионисия Фракийца (выше, с.223) Аполлоний Дискол («Сердитый») прибавляет синтаксис, а его сын Геродиан — обстоятельную теорию и систему ударений греческого языка — ту самую, которой пользуемся и мы.
«Довольно создано теми, что были до нас; пора разобраться в созданном и насладиться им» — таков лозунг науки нашего периода. Не все мирились с ним; строгий моралист Сенека видит в жажде удовольствий своей эпохи, эпохи Нерона, главное препятствие прогрессу наук. «Нужно, чтобы человечество опустилось до дна, — говорит он; а затем: — Настанет время, когда день и работа более долгого века озарят своим светом то, что ныне от нас скрыто» (Сен. Е.В. VII, 25).
Глава III. Искусство
§ 12. Изобразительные искусства. В 79 году лежавшие у подножия Везувия города Геркуланум и Помпеи были покрыты извержениями этого, до тех пор считавшегося потухшим, вулкана. Последние, засыпанные сравнительно легким слоем пемзы, были наполовину раскопаны в течение XVIII и XIX веков, благодаря чему перед нами предстали воочию памятники изобразительных искусств первого столетия империи; первый, залитый толстым слоем лавы, еще почти не тронут заступом и бережет еще более чудесные откровения для наших потомков.

Главное, чему нас научили Помпеи, — это устройство и убранство греко-римского дома нашей эпохи, дома-особняка, так пленительно соединявшего в себе римский атрий с греческим перистилем (выше, с.251) и украшавшего свои стены не нашими шаблонными обоями, а живой красочной
росписью, вначале подражающей облицовке из разноцветного мрамора (I стиль, «инкрустационный»), затем — воспроизводящей солидные симметрические фасады (II стиль, «архитектурный»), далее — окружающей старательными цветными узорами центральную и боковые картины (III стиль, «орнаментальный») и наконец — дающей те же картины, но в фантастических рамках тоненьких колонн и канделябров с игривыми проспектами и кулисами (IV стиль, «иллюзионный»). Конечно, следует помнить, что Помпеи — маленький городок; в Риме все было грандиознее — огромные конструкции, величественные сводчатые залы поражали посетителей дворцов Палатина, название которого стало отныне нарицательным, а также и пригородных вилл (вроде хорошо нам известной виллы Адриана под Тибуром) и построенных для развлечения народа терм (особенно терм Каракаллы). Так же относились и игрушечные помпейские храмики к римским храмам, из которых один — круглый Пантеон Адриана — нам сохранен и вызвал многочисленные подражания в новейшей архитектуре, а равно и красивые в своей простоте гробницы за помпейскими воротами к мавзолеям императоров, вроде воздвигнутого для Адриана, который преодолел напор столетий и живет поныне — правда, в виде тюрьмы (castel S. Angelo). Очень значительной была также, благодаря растущему благосостоянию, строительная деятельность в провинциях, отчасти благодаря частному почину городов и их богатых граждан, отчасти же и благодаря
императорским щедротам; и тут приходится с почетом назвать имя Адриана, облагодетельствовавшего Афины и, между прочим, достроившего начатый Писистратом и с тех пор запущенный храм Зевса Олимпийского.
Архитектура — единственное из изобразительных искусств, которое продолжало развиваться в течение всей нашей эпохи, разнообразя и совершенствуя свои элементы. К известным уже в республиканскую эпоху арке и коробовому своду при Веспасиане прибавляется крестовый свод (впервые в его амфитеатре, так называемом Колизее), а при Адриане — купол (впервые в Пантеоне). В конструкции и декорации фасадов тоже проявляется неслыханное до тех пор разнообразие и пышность). Если Августу ставится в заслугу, что он, «унаследовав Рим кирпичным, оставил его мраморным», то к концу нашей эпохи можно было эту похвалу распространить на всю империю.

В значительно худшем положении находились оба других художества. Что касается
ваяния, то мы замечаем вначале искусственное возвращение к архаической простоте (Паситель, Менелай), но затем пышность эллинистического искусства царит невозбранно. В области идеального ваяния наша эпоха подарила нам, строго говоря, только один ценный тип; это — тип
Антиноя, любимца императора Адриана, который принял добровольную смерть за своего государя, чтобы этим магическим актом продлить ему жизнь. После Адриана начинается упадок идеалистического ваяния; в реалистической области прежняя сила еще держится некоторое время и до своего оскудения в III веке создает еще одно замечательное произведение — сатанинский лик императора-братоубийцы, Каракаллы.
Но главная ценность нашей эпохи в области ваяния вообще заключается не в созидании новых образов, а — согласно со всем характером тогдашней культуры — в размножении старых; ваятель-копиист вытесняет ваятеля-творца. Спрос был очень велик, статуи Праксителя находили такой же сбыт, как и трагедии Еврипида: каждому мало-мальски зажиточному человеку хотелось их иметь. Для нас это — большое счастье: благодаря этой усиленной деятельности нашей эпохи и нам сохранилось много порой очень хороших «римских» копий с греческих оригиналов; они-то и наполняют, главным образом, наши музеи. Характерно стремление возместить отсутствие оригинальности колоссальностью размеров или драгоценностью материала — разноцветного мрамора, порфира, базальта; в этом сказывается нездоровое влияние Востока.
То же самое приходится сказать и о
живописи. Мы не можем назвать ни одного крупного живописца за весь данный период; зато техника копирования, как доказывает помпейская стенопись, стоит очень высоко. Даже там, где работа вследствие видимой спешности вышла довольно небрежной, поражаешься верности и смелости кисти копииста. Вместе с ваянием, однако, и живопись клонится к упадку; к следующей эпохе от нее останется, строго говоря, только одна разновидность, самая выносливая, но и самая связанная изо всех — мозаика.
§ 13. Мусические искусства. Отметив вкратце процветание танца в виде пантомимы, а равно и
музыки, как инструментальной, так и вокальной (к обстановке богатого дома принадлежала и symphonia, то есть певческая капелла), сосредоточимся на
литературе, так как только о ней мы можем судить по связному ряду памятников.
Что касается, прежде всего,
поэзии, то нас поражает ее почти полное исчезновение с
греческой почвы. Объясняется оно пресыщением творчества: саму поэзию продолжали любить, но находили праздными мечты о том, чтобы превзойти Гомера, Еврипида, Менандра. Только в области
эпиграммы бьет прежний творческий ключ; в продолжение эллинистического периода (выше, с.229) создается то множество пленительных по своей меткости и изяществу дистихических стихотвореньиц, которые наполняют нашу многоименную «
Антологию». Родственного характера и сборник «
анакреонтических» безделушек в честь весны, вина и любви — собственно, студенческий песенник, который нам сохранен и долго сходил за сборник стихов самого Анакреонта (выше, с. 107), создавая неправильное представление о теосском певце.
Зато — по обратной причине — процветает поэзия
римская. Правда, и здесь вначале не было недостатка в таких, которые считали все дело сделанным классическими поэтами II века до Р.Х.; но между этими «архаистами» и поклонниками александрийских шалостей (cacozeli) нашли правильный путь поэты века Августа, имена которых соединены с представлением о расцвете римской поэзии. Это были, главным образом, в хронологическом порядке: драматург
Варий (75 год до Р.Х. — 14 год до Р.Х.), эпик
Вергилий (70 год до Р.Х. — 19 год до Р.Х.) и лирик
Гораций (65 год до Р.Х. — 8 год до Р.Х.), знаменитый триумвират, обессмертивший имя своего покровителя Мецената. Правда, о Варии и его некогда славной трагедии «Фиест» мы судить не можем; зато поэмы обоих других нам сохранены полностью. Из них
П. Вергилий Марон, ласковая, но пассивная натура, охотно подчинял свое творчество указаниям извне: его первый покровитель, Азиний Поллион, приохотил его написать, отчасти в подражание Феокриту (выше, с.230), свои десять «эклог» и среди них — таинственную четвертую, которая в Средние века была понята как пророчество о Спасителе и доставила своему автору славу и пророка, и чародея. Затем второй покровитель, Меценат, внушил ему мысль возобновить дело Гесиода (выше, с.99) и дать римлянам на более широком основании поэму о земледелии («Georgica» в четырех книгах), которая бы посодействовала желанию государя воскресить эту столь нужную деятельность в загубленной латифундиями Италии; наконец, сам Август потребовал от поэта национального эпоса, и Виргилий, соединяя «Илиаду» и «Одиссею», написал свою поэму о странствиях и войнах Энея, косвенного основателя Рима (выше, с.289) и родоначальника Юлиев Цезарей. Эта «Энеида» стала венцом римской поэзии: никогда ни до, ни после не услышали такого звучного и сильного стиха, чарующего еще до проникновения в его смысл. Самостоятельнее и разнообразнее была деятельность
Кв. Горация Флакка; приобретя славу своими юношескими стихотворениями — «Эподами» в духе Архилоха (выше, с. 104) и «сатирами» (две книги), в которых он облек в форму луцилиевского стиха (выше, с.284) игривую диатрибу Биона (с.232), давая ей, однако, содержание из окружающей его жизни, — он обратился к тому, в чем он видел свою главную поэтическую заслугу, — к лирической поэзии в духе лесбосца Алкея (выше, с. 106). Его «Оды» составляют четыре книги, из которых, однако, первые три, изданные одновременно в 23 году, составляют одно целое. Его лирика объективнее, чем лирика Катулла, и в то же время разнообразнее: гражданские оды чередуются с философскими, застольными, любовными; дивный язык, выражающий наибольшую полноту содержания при наименьшем количестве слов, приправлен неподражаемой мелодичностью стиха. В преклонном возрасте поэт вернулся к гекзаметру и написал свои «Послания» («Epistulae», две книги) на моральные и литературные темы; последнее из них — его знаменитая «Ars poetica»
[115].
Рядом с этим триумвиратом ново-классической поэзии мы видим ряд даровитых поэтов, продолжающих творить в духе александринизма; из них выдаются
Тибулл, Проперций и особенно
Овидий. Первые два — исключительно элегические поэты; содержание их элегий — преимущественно любовь. Первый проще и задушевнее, у него элегия сочетается с идиллией; второй — ученее и страстнее, у него элегия иногда переходит в балладу. Но известнее обоих
П. Овидий Назон (43 год до Р.Х. — 17 год по Р.Х.), всеобщий любимец благодаря легкости своего стиха, который кажется восковым в сравнении с мраморным стихом Вергилия. И он вначале был элегическим поэтом; посвятив некоей Коринне свои «Песни любви» («Amores», три книги) и влюбленным мифической старины свои балладические «Послания» («Epistulae s. heroides»), он возымел дерзкую мысль оставить в назидание потомству саму «Науку любви» — легкомысленной и сладострастной. Этим он навлек на себя немилость Августа; тщетны были его попытки восстановить свое доброе имя более серьезными поэмами: эпическими «Метаморфозами» в пятнадцати книгах, в которых он нанизывает миф на миф, прослеживая мотив превращения (героя или героини в зверя, птицу, растение, скалу и т.д.) чуть ли не через всю греческую мифологию, и элегическим «Месяцесловом» («Fasti», в шести книгах), в котором он дает поэтическое описание римских праздников и памятных дней. Август не забыл ему его игривой поэмы, противодействовавшей его стремлениям оздоровить римскую семью (с.303), и по загадочному для нас поводу сослал его в Томы у устья Дуная (ныне Констанца; выше, с.61). Там он провел свои последние годы в постоянных жалобах, увековеченных им в своих элегических «Скорбях» («Tristia», пять книг) и «Посланиях с Понта» (четыре книги).
Таково было поэтическое наследие века Августа; но и позднее поэзия не иссякала. В правление Нерона философ
Сенека написал свои трагедии, более риторические, чем поэтические, но все же сильные и стремительные и написанные тем же метким и эффектным языком, который отличает и его философские произведения. Тогда же его смелый и несчастный племянник
Лукан дал Риму в своей «Pharsalia»
[116] второй после «Энеиды» эпос, на этот раз исторический, в котором он не убоялся разгневать деспота-правителя своими республиканскими симпатиями и сказать про непримиримого противника Цезаря чудное слово:
Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni.
[117]
Другой деспот, Домициан, нашел достойного поэта в лице
Марциала, превзошедшего в лести все слышанное до тех пор; и все же нельзя отказать этому вечно заискивающему клиенту в сильном поэтическом таланте, благодаря которому его «эпиграммы» — одна из самых интересных книг, завещанных нам древностью, поныне непревзойденный образец этой трудной и взыскательной отрасли поэзии. Последним крупным римским поэтом нашей эпохи был
Ювенал, писавший при Траяне свои сатиры, содержание которых, однако, навеяно пережитым им тяжелым домициановским гнетом. Сатира Ювенала много резче и беспощаднее, чем добродушный юмор Горация; ее значения как бытовой картины не следует преувеличивать — поэт, несомненно, сгущает краски, но в литературном отношении она так же превосходна, как и эпиграмма Марциала.
Значительно богаче развитие
прозы, и притом на обоих языках. В
греческой половине следует отметить прежде всего возвращение к признанному образцовым староаттическому языку, параллельное отмеченному выше явлению в области скульптуры; этот
аттицизм вступил в борьбу с царствовавшим до него азианизмом (выше, с.233) и оттеснил его в сферу школьных декламаций, давших в литературе так называемую «вторую софистику»; сам же он занял высокую прозу, и прежде всего
историографию. Правда, в этой области по вышеуказанной причине (с.325) латинский язык был в более выигрышном положении; Греции оставалось либо писать древнюю римскую историю для греков (
Дионисий Галикарнасский при Августе; при Веспасиане ту же службу сослужил еврейской истории
Иосиф Флавий, деятель иудейского восстания, которое он эффектно описал во втором своем капитальном сочинении), либо писать всемирную историю, как это сделал со средним успехом
Диодор Сицилийский при Августе, либо погружаться в греческую старину и описывать, например, походы Александра Великого (
Арриан при Адриане), либо, наконец, отыскивать оригинальные точки зрения, чтобы придать прелесть новизны известному уже, и писать историю в географическом (Аппиан при Адриане) или биографическом порядке (
Плутарх при Флавиях). Только после новой эллинизации Рима при Адриане могла появиться и актуальная римская история на греческом языке, лучшим представителем которой был Полибий эпохи Северов, Кассий Дион
[118]. В течение же первых двух веков гегемония в историографии, как уже было сказано, перешла к Риму. «Золотой век» римской прозы, начавшийся при Цицероне, продолжается при Августе и дает своего последнего представителя в лице
Тита Ливия (59 год до Р.Х. — 17 год по Р.Х.), автора первой художественной истории Рима ab urbe condita
[119] до его эпохи в ста сорока двух книгах (сохранились 1-10 и 21-45). Видя главную свою силу в изложении, Ливий все же и к научной части своей задачи отнесся добросовестно, строго держась исторической правды и умело выбирая свои источники; но, конечно, более того, что он находил в них, и он дать не мог, а архивные и т.п. исследования не входили в его задачу. После смерти Августа начинается «серебряный век» римской прозы, отмеченный красочностью и эффектностью стиля; его лучшим представителем был при Траяне гениальный стилист и психолог Корнелий
Тацит (55-120 годы). Из его сочинений самыми крупными были «Annales» (то есть история прошлого, шестнадцать книг) и «Historiae» (то есть история современности, около четырнадцати книг); нам от первого сохранено около двух третей, от второго — около одной трети. Из «Историй» мы черпаем обстоятельное описание смут 69 года; оно очень интересно, но еще много интереснее описание правления Тиберия, Клавдия и Нерона (посвященные Калигуле книги, к сожалению, погибли) в «Анналах». Правда, сказанное об историографии этой эпохи вообще (выше, с.328) относится также и к Тациту, он дает преимущественно историю императоров и окраинных войн; но при изложении первой он обнаруживает столько проникновенности и знания человеческого сердца, что мы забываем об остальном. Мы поныне смотрим на историю ранней империи его глазами, а глаза у него были зоркие, проницательные и, что бы ни говорили его критики, беспристрастные (sine ira et studio
[120]). В нем возродился Саллюстий, но с еще большей силой и красотой. Его стиль — прямая противоположность цицероновскому: сжатый, намеренно несимметричный, богатый пленительными недоговоренностями и красноречивыми умолчаниями; его создал гнет домициановской эпохи, так же как стиль Цицерона — республиканское свободоречие. Кроме этих двух крупных сочинений, мы имеем от Тацита еще три более мелких — «Germania», «Agricola» (биография его тестя, покорителя Британии) и «Dialogue de oratoribus»
[121]. Последний посвящен спору между классицизмом и модернизмом (то есть возрожденным азианизмом) в красноречии; интерес первых двух — этнологический с моралистическим уклоном. Впрочем, этот моралистический уклон заметен повсюду; в этом сказывается чуткость эпохи в вопросах нравственности, не в пример макиавеллизму нашей. После Тацита историография быстро падает. С Адриана начинается как возрождение эллинизма, так и «бронзовый век» в римской литературе. На его пороге стоит еще
Светоний с его биографиями двенадцати императоров до Домициана; все же он обнаруживает более интереса к скандальной хронике двора, чем к серьезной истории. Следующие императоры (с Адриана до конца смуты) представлены в еще более жалких биографиях так называемых «Scriptores historiae Augustae»
[122].
Философская проза, как это естественно, еще более истории запечатлена морализмом; особую деятельность проявляют школы стоическая и академическая. Там мы имеем так называемый новый стоицизм исключительно этического характера, представленный очень крупными писателями —
Сенекой, Эпиктетом и
Марком Аврелием; из них первый писал по-латыни и был в своих философских трактатах и письмах самым блестящим представителем тропической ароматичности ее серебряного периода; оба других — по-гречески. Эпиктет, собственно, сам ничего не писал; раб по происхождению и новый Сократ по деятельности, он ограничивался устным поучением, но его ученик Арриан (выше, с.336), новый Ксенофонт, записал его курс этики и его этические беседы. От Марка Аврелия мы имеем его размышления «Наедине с собой», величавый памятник этой величавой души, строгой к себе и ласковой к другим, всецело проникнутой самоотвержением истинно царского служения долгу. Академическая школа, хотя и не афинская, дала нам
Плутарха Херонейского, многочисленные трактаты которого, дышащие духом гуманности, дают нам прекрасное отражение и благородной души своего автора, и всей его мягкой и участливой эпохи. Моралист по призванию, Плутарх остается моралистом и в роли историка; его вышеназванные биографии, числом пятьдесят, разбирают в попарном сопоставлении деятелей греческой и римской старины (Тесея и Ромула, Фемистокла и Кориолана, Александра и Цезаря, Демосфена и Цицерона и т.д.), освещая должным светом их и добрые и злые деяния. Одиноко стоит в последнем столетии нашей эпохи скептик
Секст Эмпирик, врач эмпирической школы (выше, с.220) по призванию, воскресивший среди ищущего положительного знания человечества учение старого Пиррона (современника первых диадохов) о невозможности такового.

Выше были названы письма Сенеки; относясь по содержанию к философской прозе, они по форме представляют ту ее область, которая носит специальное название
эпистолографии. Ее классик республиканской эпохи,
Цицерон (выше, с.287), был автором настоящих живых писем; у Сенеки мы имеем письмо-трактат. Третью разновидность — письмо-анекдот — обработал современник Тацита,
Плиний Младший, племянник натуралиста — натура неглубокая, но ласковая и гуманная, любящая все заслуживающее любви и умеющая находить в каждом человеке то, что в нем есть хорошего. Впрочем, есть у него и настоящие письма; это главным образом его переписка как легата Вифинии с императором Траяном с драгоценными сведениями о христианах.
К философии примыкает и
христианская литература нашей эпохи, начинающаяся как литература (то есть за вычетом посланий апостолов и апостольских мужей) во II веке; ее темы — преимущественно апология и богословский трактат. Из греков особенно замечательна александрийская школа, старающаяся примирить христианство с философией; ее главные представители —
Климент и особенно
Ориген (начало III века). Из римлян должны быть названы изящный
Минуций Феликс и страстный
Тертуллиан (II век), строгий
Арнобий и гуманный
Лактанций (III век), «христианский Цицерон», как его справедливо называют.
Третья отрасль художественной прозы,
красноречие, мало дает о себе знать в суде и еще менее в политике; оно живет парниковой жизнью, как парадное красноречие, в так называемой «второй софистике», вновь поднявшей значение этого заклейменного Платоном имени. Явление это — очень интересное в бытовом отношении, но малоутешительное в литературном, и мы бываем склонны проклинать извращенный вкус последующих эпох, которые, дав погибнуть стольким сокровищам греческой поэзии, бережно сохранили нам бессодержательные речи
Элия Аристида (III век), главного представителя этого направления. Интересуют нас те риторы, которые совмещают свои занятия с философией; таковы особенно
Дион Златоуст и
Лукиан. Первый (I век) нас подкупает разносторонностью своих интересов, благородством своей души и известным величием в сознании своей миссии как учителя человечества; сверх того, мы благодарны ему, что он навестил нашу Ольвию в годину ее упадка и оставил нам картину ее тяжелой жизни. Второй (II век), родом сириец, был его прямой противоположностью: вечно беспокойная, мятущаяся натура, переходящая от риторики к академии, от академии к кинизму, от кинизма к Эпикуру, ничем не удовлетворенная и нашедшая себе, наконец, успокоение в облюбованном уголке практической жизни как императорский чиновник в Александрии. Но в своих многочисленных и необъемистых сочинениях он обнаруживает блестящий, хотя и легковесный юмор и по праву может быть назван отцом новейшего фельетона. Не был причастен к философии ритор северовской эпохи
Филострат; нам он интересен отчасти как биограф живших до него «софистов», но главным образом как автор обстоятельного жизнеописания знаменитого чудодея флавиевских времен Аполлония Тианского.
Близко к софистическим декламациям, которые ведь и сами были нередко уголовными романами в лицах (выше, с.230), были настоящие
роман и
повесть. Их появление в литературе описано выше; сентиментально-идеалистический роман, сотканный по формуле: 1) возникновение любви, 2) разлука и приключения, 3) воссоединение и счастье — тянется через всю нашу эпоху, но нас эти авантюры без авантюризма, в которых жаждущие воссоединения герои играют довольно пассивную роль, мало пленяют. Лучше прочих роман-идиллия
Лонга «О Дафнисе и Хлое»; он один остался на поверхности. Рим дал в указанной области два выдающихся романа, но не идеалистического, а реалистического характера; это «Satyricon» (gen. pl., дополняется: libri
[123] Петрония Арбитра (эпоха Нерона) и «Метаморфозы»
Апулея (эпоха Антонинов). Первый, отчасти только сохраненный, дает ряд ярких бытовых картин Нероновой эпохи, очень вольных по содержанию, но вполне убедительных; особую прелесть сообщают ему вплетенные в него новеллы, между прочим знаменитая — об «эфесской матроне». Второй и сам — растянутая новелла о превращении магическими средствами юноши в осла и его избавлении. Этой легкомысленной новелле, однако, автор дал неожиданно торжественное заключение: избавленный юноша посвящается в мистерии Исиды, оставляя нас под впечатлением благоговейной картины из религиозной жизни этих жаждущих спасения времен.
Глава IV. Религия
§ 14. Греко-римский Олим. Первый век до Р.Х. был временем упадка для старинной греко-римской религии. Постоянные междоусобицы и их последствия, оскудение государственной и городских касс повели к запущению храмов, жречества и праздников; с другой стороны, умы интеллигенции, даже той ее части, которая в нравственном отношении исповедовала стоические принципы, в религиозном охотно отдавала себя во власть ново-академического скепсиса или эпикурейского эстетизма.
Теперь наступает переворот. Правление Августа было временем реставрации старинной религии. Сам правитель в своей мировой столице, которую он «получил кирпичной, оставил мраморной», усердно отстраивал обвалившиеся храмы и воздвигал новые, особенно в честь своего бога-покровителя Аполлона Актийского, милости которого он приписывал свою победу над Антонием и Клеопатрой; построенный им этому богу храм на Палатине по соседству с его дворцом стал соперником храма Юпитеру Капитолийскому. Он же всячески поощрял покорную ему знать занимать стеснительные староримские жреческие должности и посвящать своих дочерей в весталки. Пример государя был, конечно, указом для подданных; теперь, вздохнув свободнее благодаря вожделенной Pax Augusta, римлянин опять с гордостью почувствовал себя римлянином, — а быть римлянином значило поклоняться древнеримским богам, покровителям и символам римской мировой власти. «Dis te minorem quod geris, imperas»
[124], — сказал Гораций (Гор. Оды, III, 6, 5) со свойственным ему неподражаемым умением сосредоточивать в краткой формуле волнующие многих мысли и чувства. И когда тот же поэт мечтает о бессмертии своей поэзии (Гор. Оды, III, 30, 8), ему это бессмертие кажется обеспеченным вечностью того времени,
...dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex.
[125]
И мы не имеем никакого права ни считать лицемерными заботы императора о возвеличении родных культов, ни клеймить сюда же направленное возрастающее благочестие граждан именем внешнего и бессодержательного формализма. Тогдашняя кружковая жизнь, цеховые собрания и символы, посвятительные надписи и т.п. достаточно свидетельствуют как о распространенности, так и об искренности этого религиозного чувства. Следующие императоры последовали примеру основателя империи; преемственность этой заботы была обусловлена преемственностью титула pontifex maximus
[126], который они носили все.
И все же новая религиозность новой эпохи не могла удовлетвориться одним только воскрешением прежнего. Она требовала, прежде всего, более интимного соприкосновения с божеством; возникло, хотя и сотканное из старых элементов, все же по духу новое религиозное представление — представление о
гениях, или
демонах. Древнеримский гений был «смертным богом человеческой природы», принципом физической жизни; признание бессмертия души повело к признанию бессмертия также и гения. С другой стороны, греческий демон еще со времени Гесиода считался духом-хранителем человека; но это поэтическое представление не было повсеместным и не имело опоры в культе, в то время как римский гений таковую имел, будучи чествуем ежегодно в день рождения (natalis) данного человека и призываем в клятвах. Теперь — между прочим, и под влиянием академической философии — демон-гений получает выдающееся место в народной религиозности. Это — существо, среднее между богом и человеком; он дается каждому спутником в момент его рождения и неустанно за ним следит, будучи свидетелем как его добрых, так и злых деяний; в минуту смерти он берет его душу и ведет ее к престолу вечного судьи, дабы дать там свидетельство о ее жизни и этим решить ее участь на том свете.
§ 15. Культ императоров. Но кроме того, мировой характер римской державы требовал такой религии, которая бы объединяла все ее части, будучи одинаково близка сердцу испанца и сирийца. Пробел был очень чувствителен; заполнил его, впредь до лучшего решения, культ императоров.
В этом для нас столь малопонятном и отталкивающем явлении следует различать две стороны: культ живого и культ
почившего императора. Вторую мы скорее склонны извинить; и действительно, Августу без труда удалось провести обоготворение своего покойного отца Цезаря как divus
[127] (но все же не deus
[128]) Julius и посвятить ему храм и жрецов. Она вытекает довольно естественно из признанного еще в республиканскую эпоху (выше, с.290) догмата «omnium animos immortales esse, fortium bonorumque divinos» (Циц. О зак. II, 27). Внешним средством для этого обоготворения была так называемая консекрация в торжественном заседании сената; это нужно понимать не в том смысле, будто сенат своим постановлением вводит душу человека в сонм небожителей, а только в том, что он определяет ей почести со стороны живых. Понятно, что после своей смерти и Август удостоился такого же культа под именем divus Augustus; кощунственной комедией была консекрация слабоумного Клавдия вследствие тщеславия Нерона, желавшего называться divi filius
[129]. Продолжалась консекрация и при Флавиях, и при Антонинах, и при Северах; число divorum
[130] росло и росло, но среди всех двое преимущественно пользовались любовью потомков — Август и Марк Аврелий.
Другое дело — культ
живого государя. Положим, на Востоке и он не встречал затруднения, так как был подготовлен культом эллинистических царей (выше, с.238); но то был Восток. В Риме он в этой форме был немыслим; зато тут сам собой напрашивался культ
гения правящего императора. Таковой издавна существовал в каждом доме; гений домохозяина был священен для familia (выше, с.288), ему приносились жертвы и им клялись. Так и гений императора занял место рядом с обоими государственными Ларами (выше, с.291); этим дело пока ограничилось. Конечно, если поэтам было угодно называть императора прямо богом, то за это их не карали; но никаких божеских почестей разумные императоры в первые два столетия для себя не требовали. Смута и здесь ускорила развитие; государь стал dominus
[131], постоянными эпитетами всего, к нему относящегося, стали sacer и sanctus
[132]; наконец, Диоклетиан потребовал, чтобы перед ним падали ниц. Этим ориентализация римской императорской власти была завершена.
Как бы то ни было, а в лице императора и divorum Римская империя получила единый для всех ее народов объект почитания. Важность этого нововведения сказалась с особой силой в
римской армии: для нее объединяющий культ был необходим, а другого в наличности не имелось. И вот бюст императора занял место под орлами легионов, и у его алтаря приводили воинов к присяге. Но этот исход, устраняя одно затруднение, создавал другое: в этой армии находились люди — и чем далее, тем их становилось более, — которым их совесть запрещала признавать божественность императора и вообще какого-либо иного бога, кроме Того, которому они поклонялись. Но об этом речь впереди.
§ 16. Восточные культы и синкретизм. Третьей чертой новой религиозности была
жажда очищения от грехов и
спасения. Вполне новой ее назвать нельзя: она соответствовала старинному мистическому течению, вызвавшему в свое время таинства элевсинской Деметры и орфико-пифагорейские. Но мы видели (с.232), что уже к началу эллинистической эпохи элевсинская Деметра возродилась в
Великой Матери богов и в
Исиде; пифагореизм возрождается ныне, но о нем будет сказано в связи с религиозной философией. Здесь речь идет о восточных культах — как только что названных, так и других.
Первые времена империи были для них неблагоприятны, особенно для
Исиды, богини-покровительницы враждебной императору Клеопатры; все попытки открыть ей Рим кончились неудачей. Тиберий продолжал действовать в духе своего отца, но при Калигуле наступило послабление, и Исиде был воздвигнут храм под самым Римом, на Марсовом поле (Isis Campensis). Дальнейшие успехи Исида сделала в Риме благодаря Домициану и особенно Каракалле, который выстроил ей новый храм, на этот раз уже в самом городе, на Квиринале, и всячески выказывал свою преданность ей.
Еще выгоднее было положение Великой Матери — выгоднее уже тем, что она с 204 года до Р.Х. (выше, с.290) пользовалась неотъемлемым правом гражданства в Риме, ограниченным лишь запретом ее жрецам покидать палатинскую ограду. Этот запрет был снят императором Клавдием, род которого был издревле связан с ее мистериями. А во II веке культ Матери обогатился новым эффектным обрядом очищения, так называемым taurobolium. Очищаемый сходил в яму, поверх которой настилали доски; на этой настилке закалывали быка, так, чтобы его кровь обильной струей стекала в яму и орошала находящегося в ней. Тогда он был in aeternum renatus
[133].

Но особенно важными были новые
всенародные праздники обеих богинь, нашедшие себе место и в римском календаре. Великой Матери были посвящен весенний праздник, длившийся две недели (15-27 марта). Вся судьба Аттиса изображалась публично в священной драме при множестве участвующих лиц: его нахождение в тростнике реки Сангарии (15 числа, canna intrat), его исступление под роковой сосной (22 числа, arbor intrat), кончившееся его самоизувечением и смертью (24 числа, sanguen, день горя и отчаяния), наконец, его радостное воскрешение любовью Матери (25 числа, hilaria; 26, requetio; 27, lavatio). Исида имела даже два больших праздника, один весенний, посвященный ей как богине мореплавания (5 марта — Navigium Isidis; тут Исида приняла в свой культ carrus navalis дионисической помпы — выше, с. 187, — чтобы затем передать его средневековому «карнавалу»), другой осенний (28 октября — 3 ноября), во всем параллельный весеннему празднику Матери. Расширение значения и действия обоих культов имело последствием и их собственное очищение от чувственных элементов: запросы неофитов — отпущение грехов, «возрождение навеки» и победа над смертью — были серьезны и требовали серьезного к ним отношения. Достаточно прочесть у Апулея вышеупомянутое (с.339) описание весеннего праздника Navigium Isidis (Метаморфозы XI гл. 7 сл.), чтобы убедиться, что эта Исида — уже не та, тайные культы которой полтора века назад давали обильную пищу скандальной хронике великосветского Рима.
Гражданское положение Матери повело к тому, что к ее культу старались присоседиться другие, которые при иных условиях не могли рассчитывать на снисхождение Рима. Их носителями были большей частью солдаты: в силу античной терпимости они, воюя на восточных окраинах, приобщались к тамошним обрядам и впоследствии старались их удержать. Так, войны с Митридатом повели к проникновению в Рим дикого культа каппадокийской богини, названной у римлян
Беллоной: ее жрецы в черных плащах и папахах бегали в исступлении по своему храму и мечами наносили друг другу раны, кровью которых они очищения ради окропляли толпу. Этих дервишей римляне, впрочем, не признавали жрецами: они называли их «храмовниками», fanatici (от fanum — «храм»); это слово получило впоследствии значение всякого религиозного исступления и изуверства. Еще важнее было приобщение во II веке парфянского культа
Митры (Mithra), развившегося из древнеперсидской дуалистической религии маздаизма (Ahura-Mazda, Ормузд, бог добра, и Angramanju, Ариман, бог зла). Митра был посредником, mesitis, ведшим человечество к высшему богу добра; средством была постоянная война с силами бога зла. Ради этого он организовал своих верных в настоящее воинство с развитой иерархией. Культ совершался в подземных храмах (spelaea) при свете факелов; правился он — в силу отождествления Митры с богом-Солнцем (Mithra Sol Invictus) — в те дни астрологической недели (выше, с.319), которые были посвящены этому светилу — то есть в dies Solis. Неофитов водили через целый ряд ужасов, чтобы испытать их храбрость. Это была настоящая солдатская религия, деятельная и мужественная; она прекрасно дополняла преимущественно женскую религию Матери, и сплошь и рядом в одной и той же семье муж посещал священнодействия Митры, жена — службу Великой Матери.
Признание Митры уготовило путь и сирийским солнечным божествам (Ваалам) — последним, получившим гражданство в Риме до принятия им христианства. Правда, безумная попытка Элагабала подчинить Рим и империю своему эмесскому Ваалу, которого он перевел в столицу мира во всей неопрятной чистоте его сирийской обрядности, вызвала взрыв негодования, который стоил ему жизни
[134]; осмотрительнее действовал собиратель империи
Аврелиан. Он тоже перевел в Рим Ваала, а именно пальмирского, но дал его культу приемлемые для Рима формы. Так как новый бог был Солнцем, то его главным праздником был день зимнего солнцеворота, 25 декабря (Natalis Solis Invicti); в качестве такового он стал естественным продолжением старых Сатурналий (выше, с.295) и был приобщен к их веселой обрядности.
Все названные божества в одном пункте сходились и в нем же резко отличались от греко-римских: те, подобно республиканским магистратам, имели свои определенные, так сказать, ведомства, — эти, подобно императору, были всеобъемлющи. В Исиде сливались и Гера, и Афродита, и Деметра, и прочие с Великой Матерью включительно; это была просто богиня, к которой одинаково обращались люди всех возрастов и всех профессий. Это повело в III веке к так называемому
синкретизму, то есть к смешению божественных естеств; в конце концов на поверхности религиозного мышления остались только два общих божества, те, которые в теологии Юлиана Отступника занимают первое место, — бог-Солнце и богиня-Земля. А так как первый был совокупностью небесных сил, то можно сказать, что в эпоху синкретизма
античная религия вернулась к своему изначальному дуализму (выше, с.53). И все же это было не то же: элемент природы еще чувствовался, но был оттеснен на задний план этическим и эсхатологическим элементами.
Вместе с религиозностью развивалось и крепло
суеверие, и притом не в одних только народных массах. Исида привела с собой множество
магических практик, в которых ее родной народ был всегда очень силен; от иудеев эпохи прозелитизма (выше, с.238) античное человечество унаследовало их разветвленную ангелологию и демонологию с Велиаром (сатаной) во главе, из которой со временем развилась могучая в Средние века каббалистика (с «печатью Соломона»); сюда же была примешана и греческая демонология, и некромантия, и астрология. Получилось нечто щемящее и внушительное, обнимающее все народное сознание от философских верхов до простонародных талисманов и амулетов, Исида как «Дева Мира» (Kore Kosmu), управляющая демонами в подлунном пространстве, получившая от первого надлунного планетного духа Гермеса (Меркурия) за свою любовь в дар магию или химию, которой она учит посвященных... Страшно становилось в этом кругу, и все же это было еще сравнительно невинное начало: из этой отравленной чаши человечество пило в течение всего Средневековья, пока лучи Возрождения не рассеяли этого кошмара.
§ 17. Религиозная философия. Философия эпохи империи была либо этической, либо религиозной; вначале преобладает первая, затем перевес получает вторая. О той речь была выше (с.322); здесь будет сказано об этой.
На пороге нашего периода стоит спекуляция александрийского иудея
Филона с его замечательной попыткой слить стоическую и платоническую философию с ветхозаветной религией; его метод при этом — аллегорическое толкование, издавна применявшееся к Гомеру (выше, с.183). В результате Филон получает представление о мире как о совокупности наслоенных друг на друга стихий с эфиром поверх всех. Над эфирными сферами царит божество, создавшее идеи как первообраз видимого мира и как свое первотворение — Логоса, посредника между божеством и человечеством. Отвергнутая правоверными иудеями по миновании эпохи прозелитизма, философия Филона оказала сильное влияние и на христианскую, и на позднейшую античную философию.
Одновременно начинается и возрождение философии полулегендарного Пифагора, которая вследствие своей характерной астрономической примеси шла навстречу астрологическим симпатиям времени. Этот
неопифагореизм имеет своим самым славным представителем чудодея I века
Аполлония Тианского. Бог есть единица; от него вечная часть нашей души. Под ним планетные божества вплоть до Луны, владычицы демонов подлунного пространства. Они — посредники между богом и людьми; с ними возможно общение, отсюда ведовство, очищения и особенно магия. В ней сила этого направления; совершенный человек — это тот, который умеет творить чудеса. Возникнув в I веке, неопифагореизм расцветает во II и особенно в III веках при Северах; затем он продолжается отчасти в тайных масонских ложах, перешедших и в Средневековье, отчасти же в последней крупной философии античности —
неоплатонизме. Его творцом был
Аммоний Александрийский (начало III века); сам он ничего не писал, но имел двух великих учеников, христианина
Оригена (выше, с.338) и язычника
Плотина. Последний для нас в своих многочисленных, хотя и необъемистых трактатах, соединенных в «эннеады» (девятки), — самый чистый источник неоплатоновского учения, в котором старая платоническая основа проникнута мистическим духом северовской эпохи.
Луч света, постепенно тонущий во мраке — вот символ неоплатонизма. Его источник — бог, он же и высшее благо. От него исходит путем эманации (но не субстанциальной, а каузальной) —
разум, мыслящий и бога и самого себя как мыслимый мир с имманентными в нем идеями. От него, в свою очередь, исходит душа в качестве и мировой, и индивидуальных душ. Душа стоит на рубеже между мыслимым и чувственным миром, создавая этот последний из образуемой ею
материи согласно имманентным в разуме идеям. Будучи отторгнута от своей небесной родины и погружена в материю, душа познавшего себя человека стремится вернуться к предвечному разуму; это
вознесение души осуществится вполне после смерти. Для своего воплощения она должна была пройти через все семь планетных сфер, причем каждая наделила ее греховной склонностью: Сатурн — ленью, Юпитер — гордостью, Марс — гневом, Венера — любострастней, Меркурий — алчностью, Солнце — обжорством, Луна — завистью; благо ей, если она, возносясь, сможет возвратить каждый из этих смертных грехов «неиспользованным» его дарователю! Тогда она, вознесенная, вступит в пределы «огдоады» (восьмого неба) и найдет свой покой в предвечном разуме. Но уже при жизни она может подготовить себя к этому окончательному вознесению путем отрешения от чувственности (аскеза) и напряжения всех своих помыслов к предварению вечного блаженства в единении с творцом, то есть путем экстаза. Неоплатонизм — настоящая школа
экстаза. Его не достигнешь спором и речью — тут неоплатонизм изменил своему источнику; не logos, как у Платона, а проникновенное
молчание (sige noera) — богиня неоплатоников.
§ 18. Христианство рассматривается здесь исключительно в своих отношениях к язычеству. Зародившись в самом начале нашего периода в далекой Галилее и перекинувшись, благодаря апостолам, в прозелитские общины рассеяния (выше, с.238), оно в течение первых трех веков отчасти укрепляло свое положение и как учение в борьбе с ересями (особенно гностическими
[135]), и административно как церковь, отчасти же отстаивало и расширяло круг своих приверженцев среди окружающего его со всех сторон языческого моря. Эта борьба с язычеством была отмечена с христианской стороны литературной самозащитой (так называемой апологетикой, о которой см. выше, с.338), с языческой — отчасти литературными же нападками, но главным образом административными воздействиями. Первые три века в истории христианства представляют собой
эру гонений.
На первый взгляд может показаться странным, что Рим при своей терпимости к другим религиям, не изменившей ему даже по отношению к каппадокийской Беллоне с ее «фанатиками», тем не менее мог начать гонение именно на христианство. Следующие факты могут до некоторой степени объяснить — хотя, конечно, не оправдать — эту несправедливость.
1. В христианских общинах, особенно первого века, были очень живы эсхатологические чаяния предстоящего
светопреставления. Правда, имелись они и у язычников; но в то время как те его боялись, христиане его желали, так как с ним были связаны надежды на второе пришествие и царствие Божие. Это навлекло на них упреки в odium generis humani
[136]. По-видимому, этим обстоятельством и воспользовался Нерон для того, чтобы после большого пожара в Риме в 64 году, уничтожившего десять из его четырнадцати частей, обратить гнев бездомного населения на христиан как на виновников этого бедствия, — что и было «первым гонением». Мы должны тут выражаться осторожно, так как рассказ нашего главного свидетеля Тацита (
Тац. Ан. XV, 44) и слишком краток и недостаточно ясен.
2. Христианство было несовместимо с поклонением другим богам, а следовательно, и с
культом императоров. Положим, то же самое относится и к иудейству; но иудейство было ограничено небольшим народом, которому Рим вследствие его неисправимого упорства оказывал снисхождение, между тем как христианство вербовало себе приверженцев среди всего населения империи. Особенно строгим в проведении культа императоров
был
Домициан; при нем поэтому дело дошло до столкновения, и принадлежность к христианской общине была объявлена преступлением, которое можно было понимать и как sacrilegium
[137], и как crimen (laesae) majestatis
[138]. На этой почве и происходили отныне гонения, как при самом Домициане, так и при его преемниках, особенно Траяне и Марке Аврелии. Все же это были гонения против отдельных личностей.
3. Положение дел изменилось при императоре
Деции (249-251 годы). К его времени успела развиться и окрепнуть христианская церковь как своего рода государство в государстве с собственной магистратурой, администрацией, судом и т.д.; когда поэтому в 248 году при императоре Филиппе Аравитянине было отпраздновано тысячелетие Рима, разница между обоими государствами стала особенно очевидна; это повело сначала к погрому, а в следующем году и к систематическому гонению по указу императора. Но это гонение, в отличие от прежних, было обращено против христианской церкви как таковой, главным образом, против ее «магистратуры», то есть клира. Скорая смерть императора положила ему конец; оно возобновилось, однако, в той же форме при Валериане, Аврелиане и с особой силой — при
Диоклетиане. Это испытание было, однако, последним.
В смутах, разыгравшихся после отречения этого императора, невозможность дальнейшего продолжения вражды стала еще более очевидна. Слишком велико было число последователей Христа, слишком глубоко проникла их религия во все органы империи; ее искоренение было равносильно ампутации сердца у живого человека. Не одним только символом, а реальной действительностью было видение Константина — «сим победиши!» — поведшее к тому, что мировое государство, объединенное физически под властью императора, объединилось и духовно под сенью креста
[139].
Г. Христианская империя
(313-529 годы)
Глава вводная. Внешняя история христианской империи
§ 1. Императоры Запада и Востока.
Константину Великому после издания миланского эдикта в 313 году пришлось бороться еще десять лет, пока он в 324 году не объединил всей империи в своих руках. Его второй решающей мерой было создание новой столицы для восточной половины империи на месте древней Византии, которой он дал название
Константинополя; ее освящение состоялось в 330 году. Он умер в 337 году, но императорская власть осталась при его роде
(вторая династия Флавиев). Из его сыновей, поделивших между собой империю, второй,
Констанций, пережил остальных и в 351-361 годах правил единовластно; он имел благоразумие назначить «цезарем» своего двоюродного брата
Юлиана, благодаря чему его правление увенчалось рядом успехов против германских племен на рейнской границе; но когда тот же Юлиан, унаследовав его власть (361-363 годы), пожелал обезопасить и восточную границу походом против персов, счастье ему изменило: он был убит, и его преемнику
Иовиану (363-364 годы) пришлось откупиться от врагов позорным миром.
Основателем новой, хотя и недолговечной династии, стал
Валентиниан I (363-375 годы), который, впрочем, тотчас назначил своего брата
Валента императором Востока (364-378 годы). Первый стойко защищал границы своей империи, но Валент был вынужден отдать
готам свои придунайские провинции. Это было первым актом крошения империи под натиском «переселения народов». Из последовавших за Валентинианом его сыновей старший,
Грациан (375-383 годы; младший, малолетний Валентиниан II правил лишь номинально), на место павшего в 378 году Валента назначил императором Востока испанца
Феодосия Великого (378-395 годы); он временно отвратил от империи готскую опасность, но тем, что принял готов в свое подданство, предоставив им придунайские провинции, а равно и в свое войско. Он же прекратил на Западе смуту, возникшую после смерти Грациана, и в 394 году еще раз — в последний раз — объединил империю. Из его сыновей
Гонорий после его смерти унаследовал Запад (395-423 годы),
Аркадий — Восток (395-408 годы); этот раздел был окончательным.
При Гонории, который, впрочем, перевел столицу из Рима в Милан, началось крошение также и западной империи; некоторое время ему противодействовал опекун императора, романизованный германец Стилихон, но после его предательского убийства в 408 году падение пошло быстрыми шагами. В Италии свирепствовали готы с Аларихом во главе; в 409 году последовало отторжение Испании вандалами, в 415 году отторжение Галлии готами; еще раньше (в 407 году) римские войска покинули Британию. Распадение продолжалось при преемнике Гонория,
Валентиниане III (425-455 годы), вместо которого вначале, вследствие его малолетства, управляла его мать Плацидия и временщик Аэций, тоже романизованный германец. В его правление от Рима отошла его последняя западная провинция, Африка (429 год); тогда же саксонцы заняли Британию (449 год); Рим был ограничен Италией. И ее стали тревожить гунны с Аттилой во главе; правда, они были разбиты в 451 году Аэцием на Каталаунской равнине, после чего их полчища рассеялись; но зато новой опасностью для Рима стали его защитники, романизованные германцы, начальники наемных войск. В течение двадцати с лишним лет римский престол был игралищем в их руках (особенно Рицимера), и за это время сменилось девять императоров; наконец, в 476 году населявшие военную границу германские племена добыли своему начальнику
Одоакру непосредственную власть. Этот год принято считать годом падения Западной империи, и в нашей русской терминологии его предельный характер подчеркивается еще тем, что мы Одоакра и его преемников называем не императорами и не царями, а
королями. Но в сущности ничего не изменилось, и сам Одоакр считал себя римлянином, а не германцем. Император Востока Зинон (см. ниже) вначале признавал его если не императором, то регентом, но в 489 году, поссорившись с ним, натравил на него надвинувшиеся с востока новые полчища готов, которых мы называем, в отличие от прежних,
восточными готами, с Теодорихом во главе. Италия стала готским королевством, пока ему не положил предела император Востока Юстиниан и его полководцы Велизарий и Нарсес в долгой войне против преемников Теодориха в 535-554 годах. Но это соединение Италии с Восточной империей было непродолжительным; в 568 году ее северная часть была отторгнута германским племенем лангобардов. Этот разрыв уничтожил последние следы античной организации.
В Восточной империи правление
Аркадия — вернее, его временщиков Руфина и Евтропия и его жены Евдоксии — было таким же жалким, как и правление его брата Гонория на Западе; лучше пошли дела при его сыне
Феодосии II («Малом», 408-450 годы), главным образом благодаря энергии его сестры, правительницы Пульхерии, которая и после его смерти продолжала управлять, посадив на престол своего мужа, начальника войск
Маркиана (450-457 годы). Затем прекратилась династия Феодосия Великого; последовала династия
Льва Великого, правившего в 457-474 годах и заслужившего это прозвище тем, что он навсегда освободил Восточную империю от германской опеки и этим от судьбы ее западной сестры. Его преемником был его зять, вышеназванный
Зинон (474-491 годы), в правление которого государство стало жертвой и династических и религиозных смут; некоторое облегчение принес
Анастасий I (451-518 годы), второй муж вдовы Зинона, императрицы Ариадны.
После смерти Анастасия солдаты гвардии провозгласили императором своего начальника
Юстина I (518-527 годы), который еще при жизни назначил соправителем своего племянника
Юстиниана; он же и унаследовал его престол (527-565 годы). В его блестящее, но изнурительное для государства правление Восточная империя достигла своего наибольшего расцвета; он вновь соединил с ней Африку, отбив ее у вандалов (532-533 годы), Италию, победив восточных готов (535-554 годы) и даже часть Испании; он же прославился и великолепными постройками (особенно св. Софии в Константинополе) и окончательной кодификацией римского права. Но он же уничтожил в своей империи последние остатки языческой Античности, закрыв в 529 году афинский университет и заставив последних его профессоров-академиков переселиться в соседнее Персидское царство, где ими были брошены семена новоперсидской культуры, оплодотворившей в VII веке ислам.
§ 2. Эллинство в Северном Причерноморье. Та картина, которую представляло северное Черноморье к исходу языческой империи, была последствием вторжения в его область
готов еще в III веке по Р.Х. Как мы видели,
Ольвия была ими сметена окончательно: жители отчасти были перебиты, отчасти разбежались, и соединенные воды Днепра и Буга заволокли своими осадками развалины домов и храмов некогда «счастливого» города. А затем и разорители ушли, теснимые новыми врагами, гуннами, в поисках новых земель; степная область южного Приднепровья не давала пришельцам возможности долго обороняться, и они быстро сменяли друг друга в ту смутную эпоху, которую мы называем эпохой «переселения народов». Прочнее засел тот
готский клин, который был вбит в Тавриду, отделяя отныне Херсонес от Боспора. Таким образом, история знает здесь три епархии — Херсон (так отныне называют Херсонес), Боспор и «готские климаты».
При разделе империи греческая Таврида, как это и естественно, стала частью той ее половины, которая имела своей столицей Константинополь. Все же зависимость от него этих двух греческих городов была неодинакова. Сравнительно отдаленный
Боспор то признавал власть восточного императора, то имел своих царей — не без удивления читаем мы тут в VI веке имя «Тиберия Юлия Диуптуна», свидетельствующее о прочности старой эвпаторидской традиции (выше, с.301). В то же время он отбивался, как мог, от все новых и новых потоков варваров, которыми Азия заливала юг нашего отечества: авары его миновали, тюрки им временно владели, но окончательно он растворился лишь в непреоборимой хазарской волне (VII век).
Теснее были отношения с Константинополем более близкого Херсона: он не только, как окраинный город, служил для столицы местом ссылки опальных вельмож, но и принимал подчас видное участие в решении династических споров. О рвении его жителей в христианской вере свидетельствовали многочисленные храмы и пещерные монастыри, легко возникавшие у склонов его известковых гор; о нем же нам говорит и благочестивая легенда, созданная не позже VIII века — легенда о посещении Херсона апостолом Андреем. А когда с первой половины IX века стал пробиваться к Черноморью новый северный пришелец — «дикий народ Русь», как его назвали испуганные константинопольцы, — то прекрасный греческий город Херсон (или, по-русски, Корсунь) стал, естественно, заманчивой точкой на его горизонте. Разбойничьи набеги чередовались с мирными отношениями; развязка наступила в 988 году, когда великий князь Владимир завоевал всю херсонскую область и под конец осадил и взял сам город. Но тут еще раз оправдалось умение Эллады побеждать своих победителей: завоеватель Корсуня стал христианином, и когда он, женившись на греческой царевне, вернулся в свой стольный град, то херсонский епископ и херсонские иереи последовали за ним, чтобы просвещать его подданных в духе Христовой веры.
Таким образом, благодаря посредничеству этого славного внука давно заглохшей Мегары состоялся первый союз эллинства со славянством — первообраз и залог еще более тесного сближения в будущем.
Глава I. Нравы
§ 3. Тот государственный и общественный строй, с которым Античность перешла в Средневековье, был подготовлен Диоклетианом и завершен Константином Великим.
Введенное Августом двоевластие (выше, с.313) еще в предыдущую эпоху нередко, в зависимости от правящих императоров, было заменяемо более или менее откровенным единодержавием. Теперь это последнее водворяется окончательно. Личность
императора окружается сверхчеловеческим почетом, мало идущим к его христианскому характеру; все к нему относящееся получает эпитет sacer (sacra domus, sucrum cubiculum
[140]), обращаются к нему по формуле aeternitas tua
[141], приветствуют преклонением; сам он выступает в восточной парче и в золотом венце с драгоценными камнями (влияние соседней Персии); его двор состоит из огромного числа военных и гражданских чинов. Вся власть исходит от него; лишь совещательное значение имеет созываемый им немногочисленный государственный совет (consistorium). Империя разделена на четыре «префектуры», во главе каждой стоит praefectus praetorio (не имеющий более никакого отношения к упраздненным преторианцам); каждая префектура разделена на «диэцезы», эти — на «провинции». Гражданское управление строго отделено от военного (ведомственная система, выше, с.211): во главе диэцезы стоит vicarius, во главе провинции — praeses, но войсками в них управляют особые лица, именуемые comites или duces (позднее из этих наименований возникли титулы западноевропейской высшей аристократии: comtes, dues) и подчиненные военному министру, magister militum. Рим и Константинополь подчинены особому praefectus urbis. Сенат превратился в государственную аристократию; второй ранг занимала муниципальная аристократия, curiales. Они, со включением высших чинов обоих ведомств, обнимали вообще «благородных» людей, honestiores; все прочие были humiliores. Войско делилось на три части: гвардию дворца (palatini; отсюда «паладины»), армию полевую (comitatenses) и армию окраинную (riparienses); особенно важную часть последней составляли так называемые numeri, то есть германские варвары, поселенные на окраинах и наделенные землей. Через них германизация охватывает и прочее войско, благодаря чему и могли возникнуть такие германцы-временщики, как Стилихон, Аэций, Рицимер.
Общественный строй характеризуется последовательно проведенным принципом
наследственности: не только знать (сенаторская и куриальная) наследственна — также и в ремеслах (collegiati), в торговле, в солдатчине (солдатам еще Септимий Север разрешил брачную жизнь) сын должен был избрать карьеру отца. Встречается нередко и клеймение человека (конечно, из humiliores) символом его социальной принадлежности в ознаменование ее пожизненности.
Тот же принцип наследственности, перенесенный на аграрную почву, повел к возникновению самого знаменитого и богатого последствиями института нашей эпохи —
колоната. Мы видели (выше, с.309), что уже в предыдущую эпоху прежняя обработка латифундий рабским трудом вследствие удорожания рабов уступила место мелкому фермерству, причем, однако, это фермерство было вольным и фермерский контракт мог быть расторгнут той или другой из договаривающихся сторон. Теперь обязательная пожизненность и наследственность была распространена и на фермера; другими словами, фермеры были
прикреплены к земле и превращены в класс, средний между свободными и рабами. Особой разновидностью колоната были так называемые inquilini — варварские племена, допускаемые в пределы империи с тем, чтобы они обрабатывали данную им землю на правах колонов и привлекались к военной службе в так называемых numeri. Еще Марк Аврелий принял в империю первую партию таких варваров; в нашу эпоху желающих — вследствие плодовитости германцев и недостаточного плодородия их территорий — стало так много, что им приходилось отказывать; это давало повод к войнам.
Как уже было замечено, проникновение германцев в римскую армию усилило варваризацию этой последней и недовольство коренного населения, которое и повиновалось своим стилихонам как защитникам и ненавидело их как варваров. Но чем объяснить убыль коренного, особенно италийского населения в войсках? И обилие пустырей на территории империи, позволявшее заселение их варварами? И повальную неохоту к производительной работе, поведшую к прикреплению humiliores к своим профессиям? К сожалению, мы должны тут ограничиться догадками; литература того времени, как мы увидим, слишком скудна, чтобы нам ответить на эти основные вопросы.
Прогрессирующая варваризация дает о себе знать также и в
правовом быте. То поступательное движение гуманизма, лучшими представителями которого были юристы эпохи Северов, теперь останавливается, и его сменяет быстрый поворот к крутости и жестокости. Деление населения на honestiores и humiliores проходит повсюду к невыгоде этих последних. Пытка подсудимых и свидетелей становится все распространеннее, наказания все бесчеловечнее.
Правда, казнь на кресте христианскими императорами по понятной причине упраздняется, но зато вводится сжигание осужденного живым, вливание ему в рот расплавленного свинца и другие восточные ужасы, перешедшие затем в Средние века. Интересны, впрочем, начала государственной прокуратуры, введенные Константином с целью упразднения «проклятой породы общественных доносчиков». Всем известна кодификационная работа
Юстиниана (вернее, его юриста Трибониана) в области права; ее результатом было, во-первых, хорошее руководство права на философской подкладке («justitia est constans et perpetua voluntas jus suurn cuique tribuens»
[142]) — так называемая «Institutions» в четырех книгах; затем, эксцерпты из классических юристов по разным отраслям права — так называемые «Digesta» или «Pandectae» в пятидесяти книгах (для нас самая драгоценная часть свода); затем, «конституции» императоров — так называемый «Codex Justinianus» в двенадцати книгах; наконец, правовое законодательство самого Юстиниана — так называемые «Justiniani Novellae». Этот свод («Corpus juris civilis», как он позднее был назван) принадлежит к самому драгоценному наследию античности; его «принятие» (receptio) государствами новой Европы было везде равносильно философскому осмыслению и гуманизации права.
Как видно из сказанного о правовом быте нашей эпохи, та кротость нравов, которой была отмечена предыдущая эпоха, в нашу уже не наблюдается; наступает
реварваризация человечества, реакция против которой началась лишь с XIV века в Италии и далеко еще не кончилась. Мир стал груб и жесток; при таком своем основном настроении он перестал интересоваться нравственными вопросами. Из двух частей тогдашнего общества — убывающей языческой и растущей христианской — первая грустно доживала свой век, безнадежно устремив свои взоры на заходящее солнце античной религии, вторая деятельно разрабатывала богословские и организационные вопросы, мало уделяя внимания нравственности! Высокая этика Стои удовлетворяла самым строгим требованиям новой религии, и св. Амвросий Медиоланский не затруднился перевести в свое сочинение «Об обязанностях» те ее принципы, которые были изложены в одноименном трактате Цицерона (выше, с.287). Не возражал по существу и его ученик, великий Августин; но он нашел, что мораль новой религии, не отличаясь от стоической вещественно, отличается от нее коренным образом в своем настроении, поскольку она требует от верующих сознания
богоотносимости своего поведения. Этим была закреплена сакрализация морали; благодаря Августину над нравственностью вдумчивого христианина воссиял новый принцип — принцип
благодати. С ним и перешел он в Средние века.
Глава II. Наука
§ 4. Если под наукой понимать научное образование, то можно будет сказать, что наш период не уступает предыдущему. Школа в ее делении на элементарную, среднюю (7 artes) и высшую процветала, и императоры содействовали ее процветанию освобождением учителей от налогов и повинностей, назначением им окладов из aerarium sacrum
[143] или же включением таковых в обязательный бюджет городов. Так, бл. Августин, например, прошел низшую школу в своем родном городе Thagaste (в Африке), среднюю в ближайшем окружном городе Мадавре и высшую в Карфагене. Такие же высшие школы продолжали существовать и в прочей империи (выше, с.303). А в 425 году Феодосий II основал университет также и в Константинополе при тридцати одном члене профессорской коллегии, состав которой нас, впрочем, поражает своей странностью: он насчитывает трех латинских риторов, десять латинских «грамматиков», одного философа и двух юристов. Поражает отсутствие математических и естественных наук; правда, они входили в «общее» образование и, следовательно, в так называемую «грамматику» (чем и объясняется большое число представителей этой сборной науки), но все же они играли в ней служебную роль.
Христианство отнеслось терпимо к античной школе и приняло ее в свое обновленное общество; этим оно спасло и некоторую часть античной литературы. Средством ее спасения было — так как античное книжное дело, так прочно поставленное в предыдущем периоде, не пережило нашего — установление так называемой ars clericalis, то есть вменение монахам в обязанность усердного переписывания книг для основания и пополнения монастырских библиотек. Это — заслуга одного из благороднейших людей нашего периода, последнего римлянина
Кассиодория Сенатора. Как всемогущий министр короля Теодориха он стоит на рубеже Античности и Средневековья; в правление его дочери Амаласвинты он оставил политику и поселился навсегда в основанном им же в Скиллации монастыре. От своих монахов он требовал — согласно уставу св. Бенедикта — работы, самой же полезной он объявил работу так называемых antiquarii, то есть переписчиков старинных рукописей. Почти все, что нам сохранено из обеих античных литератур, сохранено благодаря их скромной и усердной деятельности.
Действительно, богатые
библиотеки, основанные эллинистическими и римскими государями, не пережили нашей эпохи. Не все нам тут известно; только о мартирологе
[144] александрийской сохранено несколько данных. Она горела при Цезаре, при Коммоде, при Аврелиане; а когда в 390 г. александрийская чернь под предводительством патриарха Феофила разгромила храм Сараписа, то вместе с ним погибли и остатки некогда всемирной библиотеки.
Таково положение науки как научного образования. Если же иметь в виду специально
научную работу, то картина получится гораздо менее благоприятная. Здесь, впрочем, греческий Восток сильно отличается от латинского Запада. На Востоке все-таки заметно некоторое движение, по крайней мере, в области математики и медицины, а также и филологии: математика была освящена заветами Платона, медицина была связана с жизнью, филология — со школой. Научная же деятельность Запада производит впечатление, точно люди предчувствовали приближение грозы и старались привести науку в такое состояние, чтобы она могла служить пищей людям невысокого уровня культуры. Безотчетная целесообразность повсюду очевидна; мы можем разобрать всю научную деятельность нашего периода, исходя из вопроса, что было наиболее нужным для следующего, средневекового, периода, дабы образованность в нем не совсем отсутствовала.
Нужно было первым делом позаботиться о
языке, будущем носителе этой образованности: Данат, grammaticus urbis Romae (IV в.), пишет свою коротенькую «Ars», которая стала матерью всех позднейших латинских грамматик. Нужно было издать
комментарии к наиболее читаемым поэтам, чтобы облегчить их понимание в те времена, когда латинский язык перестанет быть родным для учащихся: создаются комментарии Сервия к Вергилию, Порфириона к Горацию, Доната к Теренцию. Нужно было, раз средняя школа с ее семью artes должна была перейти в новую Европу, составить руководство по всем семи: Марциан Капелла пишет свою странную энциклопедию «De nuptiis Philologiae et Mercurii» (Меркурий празднует свою свадьбу с Филологией и по этому случаю дарит ей своих прислужниц, семь artes, которые, переходя в собственность Филологии, сами себя излагают каждая в одной книге), которая именно своей странностью понравилась и сделала своего автора родоначальником средневековой аллегории. Нужно было, в виду предстоящего исчезновения на Западе
греческой литературы, позаботиться о том, чтобы хоть некоторые ее крохи в латинской переделке остались в сознании его образованных людей: самозванцы Дарет и Диктис дают Средневековью описание троянской войны, бл.Августин переводит отрывок из Платоновой книги откровений, «Тимея», приближенный Теодориха Боэций переводит введение Порфирия в логику Аристотеля, а также и ее саму, Юлий Валерий переделывает по-латыни роман псевдо-Каллисфена об Александре Великом (выше, с.231). Нужно было, наконец, в виду предстоящего исчезновения из сознания людей также и
серьезной науки, создать необъемистые своды тех ее результатов, которые могли заинтересовать грубоватый ум средневекового читателя: Солин пишет свои наивные «Mirabilia» из области географии, вышеназванный Кассиодорий и особенно севильский епископ Исидор — свои энциклопедии. Ко всей этой деятельности нужно относиться не с нашей точки зрения и не с точки зрения предыдущих периодов, а именно со средневековой; тогда она покажется очень почтенной и заслуживающей полной благодарности человечества. Это — деятельность экипажа перед крушением корабля: всякий старается спасти то, что для него самое необходимое и вместе с тем занимает наименее места.
Особую роль в этом христианском обществе играют три отверженные науки: во-первых,
астрология; во-вторых, тесно связанная с ней почитанием тех же планетных божеств
химия; наконец, связанная с обеими, но особенно с последней, демонология, или
магия — по тем временам тоже наука. Для христианства отношение последней к царству дьявола было очевидно, а значит, и отнесение туда же и химии; что же касается астрологии, то ее планетные божества призывали людей к идолопоклонству, а ее рок был неприемлем для осененного благодатью сына церкви. Изгнанные владыками мира, наши науки отчасти находят себе приют в тоже отверженных и угрюмо замкнутых общинах евреев, порождая здесь, благодаря развитой демонологии тогдашнего еврейства, пресловутую каббалистику (выше, с.346); а затем, когда в арабском мире был возжжен светоч науки, они переселились туда — с тем, чтобы со временем с ним вместе вернуться в средневековую Европу.
Глава III. Искусство
§ 5. В области искусств более чем где-либо наша эпоха была эпохой упадка — но все же не одинаково стремительного. Что касается, прежде всего, изобразительных искусств и среди них
архитектуры, то здесь даже наряду с элементами упадка наблюдается проявление новых творческих сил, которые не только подготовили средневековое зодчество, но и дали угасающему античному возможность еще раз вспыхнуть ослепительным пламенем — храмом
святой Софии в Константинополе.
Это отчасти объясняется тем, что архитектура — искусство практическое, необходимое; к тому же постройка новой столицы поддерживала в состоянии непрерывной деятельности хорошие традиции и не давала им умереть. Правда, сознание конструктивной идеи — то, что мы называем «архитектурной честностью» — в нашу эпоху теряется. Колонна, это наглядное выражение вертикали, украшается кручеными или ломаными канеллюрами, затемняющими вертикальную идею; сама она нередко вырастает, вместо стилобата или стены, из приложенной к стене консоли. Красивый упругий контур ее коринфской капители съеживается и хиреет; чувствуется близость романской и византийской. Ее органическое родство с прямым антаблементом теряется; она неорганически комбинируется с аркой тем, что из единой и нераздельной капители вырастают две арки в противоположных направлениях.
Но эти изъяны в планиметрической архитектуре уравновешиваются победами в стереометрической. Уже предыдущая эпоха изобрела комбинацию крестового свода с прямоугольным зданием и купола — с круглым; теперь мы имеем и комбинацию прямоугольного здания с куполом. Решения задачи различны, но всех превосходнее следующее. Угловые столбы квадратной площади соединяются друг с другом арками, так называемыми архивольтами; четыре ключевых камня этих архивольт поддерживают огромный горизонтальный круг, причем между архивольтами и кругом образуются сферические треугольники, так называемые паруса; круг, наконец, является естественным основанием для купола, венчающего все здание. Это и есть то решение задачи, которое осуществили зодчие
Исидор Милетский и Анфемий Тралльский, начавшие в 532 году по поручению императора Юстиниана постройку
св.Софии в Константинополе, ставшей таким же бессмертным символом христианской античности, каким был Парфенон для языческой.
План св.Софии — квадратный и, следовательно, центральный; таковой стал характерным для восточного церковного зодчества. Так как пристройки к этому центральному квадрату, естественно, были одинаковой глубины, то в основании получилась фигура равнораменного так называемого
«греческого креста».
Напротив, на Западе церковная архитектура исходила из плана так называемой базилики, продольного здания с тремя или пятью «нефами», отделенными друг от друга аркадами, причем в задней стене, за архивольтой среднего нефа, находилась «апсиа» (полукруглая ниша) для алтаря. Место перед архивольтой естественно напрашивалось на пристройки справа и слева (поперечный неф); получилась фигура продольного «
латинского креста». Развитием этой фигуры был средневековый — романский и готический — собор.
Скульптура, напротив, уже после Северов переживает эпоху стремительного упадка. Угасание хореи, прекращение игр в палестре, распространение по империи восточного отвращения к нагому телу лишило ваятелей всякой связи с живой природой. Начинается эпоха второго детства в европейской скульптуре, кончившейся лишь в XIII в. под непосредственным воздействием сохранившихся античных образцов.
Менее безнадежным было положение
живописи, которую мы изучаем главным образом по сохраненным нам мозаикам. Она стала столь же естественным украшением христианского храма, каким в античном была скульптура; стены над аркадами, апсиды, паруса куполов и сами купола так и напрашивались на фресковую или мозаичную роспись. Конечно, потеря связи с природой и здесь повела к упадку в смысле жизненной красоты; зато сравнительная легкость живописной техники позволила художникам приблизиться к другому идеалу — аскетической святости. Лики вытягиваются, движение застывает; исхудалое тело, призрачно длинные пальцы и носы, большие, глубокие глаза. Изображаются предметы священные, или же благочестивые императоры с их двором при исполнении священных обязанностей.
Переходя, затем, к мусическим искусствам, мы и здесь должны отметить убыль одного из них, некогда равноправной части триединой хореи:
танец с мимикой не был принят в христианскую культуру. Здесь поэтому античная традиция обрывается — если только она не продолжалась неуловимым для нас образом в деятельности отверженных церковью, но любимых народом скоморохов обоего пола (giullari, jongleurs), этих наследников старинного мима.
Напротив,
музыка была принята в христианское богослужение, притом не только в виде псалмодического пения, но — благодаря реформе св. Амвросия Медиоланского — и в виде народного. Правда, это не касается инструментальной музыки; она не была запрещена, но все же считалась светской и допускалась в цирки, но не в храмы. Впервые при Карле Великом усовершенствованный орган Ктесибия (выше, с.221), дар византийского императора Константина V, был введен в западную церковь.
Много больше нам, как это понятно, известно о
литературе, так как она сама о себе свидетельствует; но утешительного и здесь мало.
Поэзия на греческом Востоке продолжает молчать; лишь в V веке мы имеем странное возрождение эпоса благодаря школе
Нонна Панополитанского, автора длинного и вычурного, но талантливого эпоса о деяниях Диониса; кроме этой школы мы можем назвать лишь апокрифические произведения, дошедшие до нас под именами Орфея и Сивиллы, да еще новое эпиграмматическое наслоение в «Палатинской антологии» (выше, с.234). Деятельнее латинская муза, притом и в языческом, и в христианском лагере. Там должен быть назван
Авзоний с его стихотворениями смешанного характера (IV век) и еще более талантливый
Клавдиан, певец Стилихона, последний поэт языческого Рима; здесь — в особенности
Пруденций, современник Феодосия Великого, автора христианского дидактического эпоса о происхождении греха («hamartigenia») и, что еще важнее, о подвигах и смерти мучеников («peri stephanon»).
Зато
проза насчитывает многих представителей. В Греции благодаря строго проведенному аттицизму (выше, с.335) и язык остается на должной высоте. Из отделов художественной прозы
историография поддерживалась практической необходимостью описывать совершающиеся события; из многих ее посредственных представителей можно выделить современника императора Анастасия — Зосима, автора толковой истории императоров, главным образом, IV века. Талантливее, впрочем, был
Евсевий Кесарийский, автор незаменимой для нас «Церковной истории».
Красноречие, как и следовало ожидать, процветает, притом как в виде языческой парадной речи, так и в виде христианской проповеди; там назовем
Юлиана Отступника и его современников, Имерия Фемистия и особенно
Ливания; здесь — так называемых каппадокийцев, то есть Григория Чудотворца, Григория Нисского и Василия Великого, но в особенности св.
Иоанна Златоуста (при императоре Аркадии). В философии мы различаем, во-первых, продолжателей Плотина и его неоплатонизма — Порфирия Тирского, Ямвлиха, Прокла, — к которым принадлежат и христианские писатели, подобно Синезию, епископу Киренскому; а во-вторых, христианских богословов, среди которых выделяется замечательный обличитель ариан
Афанасий (IV век), он же и биограф отшельника св. Антония. Напротив, в латинской половине империи царствует «железный век», который для нас, впрочем, и со стилистической точки зрения не лишен интереса. Среди историков выдается
Аммиан Марцеллин, которому мы особенно благодарны за его описание жизни романтика среди цезарей — Юлиана Отступника; среди ораторов-язычников —
Симмах, давший христианам последнее — конечно, безуспешное — сражение по делу об удалении алтаря Победы из римского сената.
Но будущее принадлежит христианам; св.Амвросий, бл. Иероним и в особенности
бл. Августин прославили христианство также и в области литературы и положили основание средневековому богословию западной церкви. Вне рубрик стоит литературная деятельность
Сидония Аполлинария, в письмах которого тускло отражается тусклая жизнь последних эфемерных императоров Рима; после него следует назвать еще двух благородных современников короля Теодориха, вышеупомянутых
Боэция и
Кассиодория, из которых в особенности первый своей «Consolatio philosophiae»
[145], написанной в тюрьме, оставил прекрасную книгу утешения для многих, которым, подобно ему, суждено было томиться в заключении в наступавшие жестокие времена Средневековья.
Глава IV. Религия
§ 6. Развитие христианской религии, для которого наша эпоха имела решающее значение, не входит в рамки нашего изложения. Здесь будет речь только о постепенном исчезновении язычества.
Миланский эдикт
Константина Великого в 313 году не упразднил язычества, а только признал равноправие всех религий империи. Сам император, хотя и был христианином, но одинаково защищал религиозные интересы всех своих подданных; он сохранил звание верховного понтифика, чтобы оставить в своих руках влияние на религиозную администрацию язычников, и принял титул «всеобщего епископа», чтобы приобрести таковое и внутри христианской церкви. Разрушение языческих кумиров и храмов, поскольку оно происходило в его правление, имело местный характер как проявление религиозной вражды христиан данного города; сам он закрыл только те храмы, в которых нашел себе приют развратный культ восточных божеств. После своей смерти и он, подобно многим своим предшественникам, был причислен к сонму divorum (выше, с.342).

При его сыне
Констанции начались первые стеснения языческого культа: было запрещено ведовство, этот всегдашний предмет страха для императоров, и как одно из его условий — кровавая жертва. Этим, без сомнения, был упразднен один из самых характерных элементов язычества; но все же храмы остались неприкосновенны (поскольку их не тронул местный фанатизм), с ними — и жречество, и игры, и многое другое. Особенно старая столица с ее сенатом сочувствовала старой религии — как равно и собственно Греция и еще многие области империи.
Это обстоятельство подало преемнику Констанция,
Юлиану Отступнику, надежду на возможность воскрешения язычества как государственной религии; все же воскрешенное им язычество было чем-то новым в сравнении с прежним. То не имело официального богословия; Юлиан привнес таковое в виде неоплатонизма (выше, с.347). Он ввел также и заимствованное у христиан литургическое пение; у них же он заимствовал и важный в его религиозной реформе элемент аскезы. Синкретизм тоже не прошел для него бесследно: его высшими божествами были бог-Солнце и Великая Матерь, то есть небо и земля — этим античная религия вернулась к своему исконному дуализму (выше, с.346). Гонителем христиан он не был, и не он был виною, что его правление ознаменовалось христианскими погромами. Христиане не остались в долгу; именно теперь был истреблен огнем один из центров эллинистического язычества, великолепный храм Аполлона в антиохийской Дафне (выше, с.237). Суду истории попытка этого «романтика на престоле цезарей» не подлежит; он умер от стрелы перса в самом начале ее осуществления, после полуторагодового правления, и предсмертный возглас, который легенда влагает ему в уста, — «Vicisti, Galilaee!» — хорошо передает смысл этой ранней смерти.
Юлиан был последним, вопросившим также и дельфийский оракул. Последняя Пифия оправдала славу своих предшественниц; данный ею оракул гласил:
Весть отнесите царю: уж в развалинах храм величавый;
Феб не владеет двором, не владеет пророческим лавром;
Ключ вдохновенья иссяк, касталийские струи умолкли.
Действительно, преемник Юлиана,
Валентиниан I, вернулся к запрету Констанция, оставляя в прочем язычество нетронутым. При его сыне
Грациане, впервые сложившем с себя звание верховного понтифика, было постановлено удалить из римской курии кумир и алтарь Победы, из-за которых произошел последний спор язычества и христианства в лице их благороднейших представителей Симмаха и св. Амвросия. Запрещение языческого культа вообще состоялось при соправителе и преемнике Грациана,
Феодосии Великом. Много храмов было тогда разрушено; все же желанием императора было, чтобы были пощажены те из них, которые были скорее памятниками искусства, чем центрами культа: «aedem, in qua simulacra feruntur posita, artis pretio quam divinitate metienda, jugiter patere publici consilii auctoritate decernimus»
[146] (Cod. Theod. XVI 10, 8). Нарушением императорской воли был поэтому устроенный александрийским епископом Феофилом в 391 году погром, жертвой которого пал храм Сараписа с его кумиром, творением Бриаксида (выше, с.226), и с его мировой библиотекой. Но Феодосий вырос в эллинских традициях; разрушение также и художественных сокровищ язычества было делом христианина и варвара Алариха, когда его полчища прорвались через затвор Фермопил и наводнили Элладу. Элевсин пал от его руки; храм Деметры заполнил своими развалинами «светозарный луг», на котором столько поколений искало утешения и «лучшей участи» за вратами смерти. Афин варвар, к счастью, не коснулся, Парфенон уцелел; лишенный своей жилицы, фидиевой Афины-Девы, он был превращен в церковь Девы Марии и в виде таковой перешел в Средние века.
Вещественные памятники язычества были уничтожены: почти все храмы были разрушены, их драгоценные мраморные колонны были взяты для сооружения христианских церквей. Оставались языческие
праздники; их судьба была различна. Конечно, под своими языческими именами они продолжаться не могли; но, без сомнения, многие святители следовали примеру Григория Чудотворца, который позволил своей пастве приурочить привычную ей обрядность родных праздников, насколько это было возможно, к дням памяти святых мучеников. Но к праздникам принадлежали и игры — в театре, в амфитеатре, в цирке (выше, с. 294). К первым христианство отнеслось вполне отрицательно; еще Тертуллиан в своем трактате «De spectaculis»
[147] объявил театр недопустимым для христианина по религиозным и нравственным причинам. Игры в амфитеатрах — то есть venationes
[148] и гладиаторские бои — держались еще до V века, но затем они мало-помалу исчезли. Остались сравнительно безобидные ристания в цирке, значение которых даже усилилось; изгнанная с государственной арены партийная жизнь здесь нашла себе убежище, и партии «зеленых» и «синих»
[149] играли в христианской империи такую же роль, какую в недавнем прошлом Англии — партии «вигов» и «тори». Попытка Юстиниана сломить их силу повела в 532 году к знаменитому восстанию «Ника», которое едва не стоило ему престола и жизни.
И еще один элемент язычества остался — его философия,
неоплатонизм. Он имел многих друзей среди христиан; именно наиболее просвещенные среди них — например, Синезий, епископ киренский — считали его вполне совместимым с христианством. Тем ожесточеннее была вражда других; их жертвой пала в 415 году прекрасная женщина-философ Ипатия, растерзанная александрийской чернью при попустительстве епископа Кирилла. Но Александрия была лишь колонией греческой философии; ее метрополией были Афины, где все еще учили последователи Платона в основанной им восемь веков назад Академии. Еще столетие ей было разрешено прожить, собирая у себя последние лучи гаснущего язычества. При Юстиниане (529 год) наступил и ее конец.
Начался новый период в истории мира; но не погибло то, что было достигнуто старым для осуществления вечных идеалов истины, добра и красоты. Многое было спасено христианством; много другого осталось пока, забытое и запущенное, в старых хартиях или под охраняющей оболочкой земли в ожидании того времени, когда новое человечество, преодолев свои детские годы, созреет для его понимания. Усвоение этих непреложных и незыблемых ценностей античной культуры, их сочетание с национальными задатками каждого из народов, борющихся за умственную гегемонию в новой Европе, в видах достижения все высших и высших ступеней в развитии собственной культуры — такова задача всех тех «Возрождений», которые переживало новое человечество, и всех тех, которые ему еще предстоят.
Примечания
В 1913 г. была опубликована новая школьная программа Министерства Народного Просвещения, в «объяснительной записке» к которой учителям рекомендовалось переходить от жесткой дидактической формы преподавания к более гибкой, имеющей
«коллоквиальный характер, в виде живых бесед». Это открывало возможность создания различных руководств и пособий, тематически выходящих за строгие рамки учебных программ. Ею и воспользовался Ф.Ф. Зелинский, в то время заслуженный профессор Императорского Петроградского университета, предприняв первый не только в России, но и в Европе опыт «приспособления истории античной культуры к потребностям школы». Первое издание его «Истории античной культуры» вышло в московском издательстве товарищества И.Д. Сытина в 1915 г. Настоящее издание — второе.
При его подготовке к новой публикации редакцией был внесен ряд изменений, преследующих целью приближение текста, созданного в начале века, к современным нормам русского языка и, шире, — к нынешнему состоянию науки об античной культуре. Орфография и пунктуация по возможности исправлены; имена собственные, этнонимы и топонимы даны в принятой ныне транскрипции. Ф.Ф. Зелинский, будучи, несомненно, блестящим филологом-классиком, не отличался, однако, строгостью в изложении своих мыслей на родном языке, что в ряде случаев потребовало стилистической правки текста, которую оговаривать в примечаниях было бы излишне — она никак не искажает сути того, о чем идет речь у автора. В постраничных примечаниях даны переводы фраз и слов на латыни и древнегреческом, выполненные Ю.Г. Горбачевой.
В настоящем издании не воспроизводится «Предисловие» автора, содержащее в основном рекомендации по использованию его «руководства» в учебном процессе; снят и подзаголовок «Истории...» — «Курс VIII класса мужских гимназий». Причиной тому послужило согласие редакции с мнением рецензента книги Ф.Ф. Зелинского, изложенным в небольшой газетной заметке начала века. Эта заметка была вырезана и подклеена к титулу экземпляра книги, хранящегося в Российской Национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, очевидно, кем-то из библиографов. Приводим полный ее текст: «Профессор Ф.Ф. Зелинский — не только большой знаток античного мира, но и писатель, тонко его чувствующий. Вышедший из-под его пера учебник поэтому удовлетворяет в полной мере некоторым очень важным требованиям, предъявляемым к школьным пособиям. Он вполне на уровне современной науки. Он дает в небольших размерах все, что нужно. Но мы очень боимся, что он совсем не удовлетворяет еще одному из требований, которые школа предъявляет к учебнику. Он чрезвычайно труден. На обложке начертано: “Курс VIII класса мужских гимназий”. Думается, что эта надпись далеко не соответствует действительности. Усвоить учебник проф. Зелинского VIII классу не по плечу. Весь насыщенный материалом, являющимся плодом научных обобщений, своеобразно расчлененный по формальным признакам, опирающимся на особую классификацию наук (она изложена во “Введении” и отнюдь не облегчает усвоения учебника), непосильный уже по одним своим размерам — учебник проф. Зелинского, если попробовать применить его в классе, измучает и ученика и учителя. Для студентов он годится. Совсем хорош он как книга для чтения в руках подготовленного читателя, способного оценить и огромный материал, в нем переработанный, и умение автора сживаться с античным миром и истолковывать его современному, и чудесный, строгий, на этот раз, стиль книги. Именно такому читателю “История античной культуры” скажет больше всего, хотя у него будет острое искушение — спорить с автором на общефилософские темы, затронутые во “Введении”. —
А. Дживелегов».
По мнению редакции, «руководство» Ф.Ф. Зелинского, несомненно, может быть использовано в учебном процессе и в средней школе при умелом руководстве преподавателя (об этом пишет сам автор в «Предисловии»), но в целом оно ориентировано на более подготовленную и более широкую аудиторию.
В «Предисловии» Ф.Ф. Зелинский высказывает сожаление по поводу того, что его «История...» выходит без иллюстраций и рекомендует использовать на занятиях ряд пособий, компенсирующих этот недостаток книги, в частности — «Культурно-исторические альбомы» Г. Ламера, вышедшие в 1914 г. Первым намерением редакции было издать подборку иллюстраций Ганса Ламера в качестве приложения к «Истории античной культуры», однако при ближайшем ознакомлении с ней выяснилось, что, во-первых, она по своему содержанию, в общем-то, малоинтересна, во-вторых, состоит из полутоновых фотографий, которые невозможно воспроизвести сколько-нибудь прилично полиграфическим способом. По этой причине редакция предлагает читателям «Истории античной культуры» собственную подборку иллюстраций.
СОКРАЩЕНИЯ,
используемые в тексте книги и примечаниях
Ар. Ляг. — Аристофан. Лягушки. Арабская цифра означает номер стиха.
Ар. Обл. — Аристофан. Облака. Арабская цифра означает номер стиха.
Арист. Пол. — Аристотель. Политика. Римская цифра означает номер книги, арабская цифра и латинская буква — фрагмент книги.
Верг. Георг. — Вергилий. Георгики. Римская цифра означает номер книги, арабская — стиха.
Верг. Эн. — Вергилий. Энеада. Римская цифра означает номер книги, арабская — номер стиха.
Гес. Теог. — Гесиод. Теогония. Арабская цифра означает номер стиха.
Гес. Тр. — Гесиод. Труды и дни. Арабская цифра означает номер стиха.
Гер. — Геродот. История в девяти книгах. Римская цифра означает номер книги, арабская — номер главы.
Гор. Оды. — Гораций. Оды. Римская цифра означает номер книги, первая арабская — порядковый номер оды в книге, вторая — номер стиха.
Гор. Посл. — Гораций. Послания. Римская цифра означает номер книги, первая арабская — номер послания, вторая — номер стиха.
Гор. Сат. — Гораций. Сатиры. Римская цифра означает номер книги, первая арабская — номер сатиры, вторая — номер стиха.
Евр. Ипп. — Еврипид. Ипполит. Арабская цифра означает номер стиха.
Ил. — Гомер. Илиада. Римская цифра означает номер песни, арабская — стиха.
Ин. — От Иоанна святое благовестие. Первая арабская цифра означает номер главы, вторая — стиха.
Кат. О земл. — Катон, О земледелии. Римская цифра означает книгу.
Од. — Гомер. Одиссея. Римская цифра означает номер песни, арабская — стиха.
Пиндар. Олимп. — Пиндар. Олимпийские песни. Первая арабская цифра означает номер песни, вторая — номер стиха.
Пл. Мл. — Письма Плиния Младшего. Римская цифра означает номер книги, первая арабская — номер письма, вторая арабская — номер параграфа.
Плат. Гос. — Платон. Государство. Римская цифра означает номер книги, арабская цифра и латинская буква — фрагмент текста.
Плат. Зак. — Платон. Законы. Римская цифра означает номер книги, арабская с латинской буквой — фрагмент текста.
Плат. Мен. — Платон. Менон. Арабская цифра и латинская буква означают фрагмент текста.
Плат. Тим. — Платон. Тимей. Арабская цифра и латинская буква означают фрагмент текста.
Плут
. Тес. — Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Тесей. Римская цифра означает номер главы.
Сен. Е.В. — Сенека. Естественнонаучные вопросы. Римская цифра означает номер книги, арабская — параграфа.
Сен. Мед. — Сенека. Медея. Арабская цифра означает номер стиха.
Сен. П. — Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Римская цифра означает номер письма, арабская — параграфа.
Тац. Диал. — Тацит. Диалог об ораторах. Арабская цифра означает номер главы.
Тац. Анн. — Тацит. Анналы. Римская цифра означает номер книги, арабская ~ номер параграфа.
Феогн. — Феогнид. Элегии. Арабская цифра означает номер стиха.
Фук. — Фукидид. История. Римская цифра означает номер книги, первая арабская — номер главы, вторая — номер параграфа.
Циц. В защ. Л.Л.М. — Цицерон. Речь в защиту Луций Лициния Мурены. Арабская цифра означает номер параграфа.
Циц. О зак. — Цицерон. О законах. Римская цифра означает номер диалога, арабская — номер параграфа.
Циц. Пр. Г. В. — Цицерон. Речи против Гая Верреса. «О предметах искусства». Арабская цифра означает номер параграфа.
Эсх. Пром. — Эсхил. Прометей. Арабская цифра означает номер стиха.
Эсхин II — Эсхин. Против Ктесиофонта о венке. Арабская цифра означает номер параграфа.
1 Мак. — Первая книга Макавейская. Первая арабская цифра означает номер главы, вторая — номер стиха.
Примечания
1
Тэн, Ипполит (1828-1893) — французский историк, искусствовед, философ. Особенности искусства различных эпох и народов он объяснял с помощью популярной в XVIII-XIX вв. теории факторов: раса (наследственные свойства), среда (географическая, социальная, политическая) и исторический момент формируют так называемый «основной характер», т.е. господствующий тип человека, который и воспроизводится в различных формах искусства.
(обратно)
2
Руссо, Жан Жак (1712-1778) — французский писатель, философ, реформатор педагогики. Во всех своих многочисленных сочинениях проводил мысль, что успехи в хозяйственной деятельности, науке, искусстве неразрывно связаны с регрессом в этике и политике, поскольку прогресс цивилизации отдаляет человека от его изначального природного, свободного и счастливого, состояния; проповедовал возврат к естественной жизни.
(обратно)
3
Согласно современным представлениям, до начала II тыс. до н.э. на Балканском полуострове доминировала народность, традиционно называемая, вслед за первыми древнегреческими историками, пеласгами. По всей видимости, этносы пеласгов и греков восходят к единой этнической праобщности; во всяком случае, родство их языков не вызывает сомнений. Активное освоение Балканского полуострова «многими племенами» греков (в спец, литературе можно также встретить этноним «праионийцы» — т.е. предки ионян) началось с рубежа III-II тыс. до н.э. Подробнее: Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. М., 1976. Гл. II. От Пеласгии к Элладе.
(обратно)
4
Навсикая — в «Одиссее» дочь царя феаков Алкиноя, нашедшая потерпевшего кораблекрушение главного героя эпоса на берегу моря. В Од. VI в связи с образом Навсикаи живо воспроизведен образ жизни и характер занятий молодых девушек «ахейского», по терминологии Ф.Ф. Зелинского, периода.
(обратно)
5
Андромаха — супруга Гектора в «Илиаде»; о ней как об искусной ткачихе см.: Ил. XXII, 440 сл.
(обратно)
6
Парис — сын царя Трои Приама и Гекубы. Ребенком его бросили на горе Ида, чтобы отвести опасность от города, который, по предсказанию, должен был погибнуть по его вине. Однако он был найден пастухом и воспитан в его семье.
(обратно)
7
Ф.Ф. Зелинский имеет в виду исключительной важности для исследования минойской культуры археологические открытия английского археолога сэра Артура Эванса. Позднейший анализ найденных текстов подтвердил, что во II тыс. до н.э. греки действительно пользовались двумя последовательно сменившими одна другую системами письма, так называемым линейным письмом А и линейным письмом Б. Итог многолетним попыткам дешифровки линейного письма Б был подведен в 1953 г. работами М. Вентриса и Дж. Чадвика. Обобщающий очерк на эту тему см.: Блаватская Т.В. Греческое общество... С. 113-124.
(обратно)
8
Каллисто — нимфа, спутница Артемиды. Нимфы должны были хранить девственность подобно своей хозяйке, богине. Заметив, что соблазненная Зевсом Каллисто беременна, Артемида изгнала ее из своей свиты, а ревнивая супруга Зевса Гера превратила ее в медведицу в надежде, что она станет добычей охотников. Зевс, однако, пожалел нимфу и превратил в не сходящее с ночного небосвода созвездие Большой Медведицы, приблизив ее таким образом к сонму бессмертных богов. Исчезновение за горизонтом, в пучине Океана, ассоциировалось у греков, как и у древних египтян, с забвением, смертью.
(обратно)
9
Пеан — гимн, обращенный поначалу (как у Гомера) к Аполлону; само название гимна происходит от прозвища Пеана (т.е. «помощника в беде»). Пелся он в качестве благодарственной песни, в битве, при праздновании победы и т.п.
(обратно)
10
«Северной» прародиной дорийцев являлись, по-видимому, Эпир и западная Македония. Относительно мотивов переселения, или, точнее, вторжения дорийцев в ахейскую Грецию (и особенно Пелопоннес, центр ахейской культуры) сохранившееся к классической эпохе предание говорит о том, что Геракл, происходивший из микенского рода Персеидов, не получил своей доли при дележе трофеев Троянской войны и отправился за помощью в страну своих предков, на север Балкан. Не исключено, что в основе этого полумифологического сюжета лежат какие-то реальные события и действительно потомки Геракла — Гераклиды — вместе с дорийцами (см.: Фук. Ист. I, 12, 2) сделали своим трофеем все достояние Микенского царства.
(обратно)
11
Магдебургское право — сложившаяся в XIII в. в немецком городе Магдебурге система феодального городского права, закрепившая свободы горожан и основы городского самоуправления.
(обратно)
12
Нет преступления без закона (Лат.)
(обратно)
13
Эон (греч. aion) — век время, эпоха.
(обратно)
14
Магистратура — выборная административная должность, от лат. magistratus — должностное лицо, начальник.
(обратно)
15
Эрехфей — мифологический царь Афин. По преданию, ему покровительствовала богиня Афина, и он ввел ее почитание в городе Афинах. Эрехтейон — замечательный храм афинского акрополя, сооруженный в 421-415 и 409-406 гг. до н.э., о котором идет речь у Ф.Ф. Зелинского, — в переводе означает, собственно, «сделанный Эрехфеем».
(обратно)
16
Ф.Ф. Зелинский имеет в виду «Афинскую политию», греческий текст которой был открыт в самом конце XIX в. В то время, когда создавалась «История античной культуры», русского перевода этого сочинения Аристотеля еще не существовало, отсюда и несколько непривычное его наименование. Перевод С. И. Радцига: Аристотель. Афинская полития. М., 1936 (первое издание; последнее — 1977).
(обратно)
17
Изокола — одна из «горгианских риторических фигур», разработанных Горгием с целью повышения выразительности ораторской речи. К изоколам относятся фразы, аналогичные по форме и содержанию, точно соответствующие друг Другу по объему, параллельные члены предложения. Подробнее см.: Index Gorgianus confecit Sophia Melikova, 1915.
(обратно)
18
Гиперид (390-322 до н.э.) — оратор, входивший в антимакедонскую партию Демосфена. Обладая разносторонним талантом, прекрасно воссоздавал в речах и бытовые, и политические реалии своего времени; считался вторым оратором после Демосфена. Из его литературного наследия сохранились лишь шесть фрагментов, написанных на папирусе. О том, как они были открыты в конце XIX в., см.: Дойелъ А. Завещанное временем. М. 1980. С. 159-179.
История с Фриной изложена у Псевдо-Лонгина в трактате «О возвышенном». Суть дела в следующем: Гиперид, ведя дело Фрины в суде, испугался, что присяжные недостаточно благосклонно отнесутся к его клиентке, и научил ее, как эффектнее продемонстрировать свое обаяние, благодаря чему и выиграл процесс.
(обратно)
19
Отращивать мудрую бороду. — Лат.
(обратно)
20
Парсанг — древнеперсидская мера длины, вероятно, около 5-6 км.
(обратно)
21
Каморра — тайная бандитская организация в Италии, просуществовавшая до начала XX века.
(обратно)
22
Домашние, приближенные; первоначальный смысл — сотрапезники. — Греч.
(обратно)
23
Где хорошо, там и родина. — Лат.
(обратно)
24
Добродетель при праведной жизни самодостаточна. — Лат.
(обратно)
25
Берос (III в. до н.э.) — вавилонский жрец. Знаменит, помимо популяризации астрологии в Европе, еще и тем, что написал по требованию царя из династии Селевкидов Антиоха I Сотера историю Вавилонии на греч. языке, от которой сохранилось, к сожалению, лишь несколько отрывков.
(обратно)
26
Одеон — крытый театр для музыкальных представлений. Действительно, наиболее распространены одеоны были в период эллинизма, но строить их начали с середины V в. до н.э., со времен Перикла.
(обратно)
27
Около 980 г. в Константинополе был составлен сборник «эпиграмм» как христианских, так и античных авторов, получивший название «Палатинской антологии». Основу его составила чуть более ранняя (грань IX-X вв.) подборка стихов придворного священнослужителя Константина Кефалы. Именно в нее, в ряду прочих, вошел «Венок» Мелеагра из Гадары.
(обратно)
28
Анхис — троянец, родственник царя Трои Приама, возлюбленный Афродиты. За то, что он разгласил тайну о любви к нему богини, был поражен ударом молнии и парализован. Значение этого мифологического сюжета для «позднейшего Рима» состоит в том, что плодом любви Анхиса и Афродиты был Эней — легендарный родоначальник римлян, которых в этой связи иногда называли энеадами. Подробнее — у Вергилия в «Энеаде»; в «Илиаде» он — второстепенный персонаж, как и его отец Анхис.
(обратно)
29
Право на брак — Лат.
(обратно)
30
Суровость, серьезность, солидность; первое значение — тяжеловесность. — Лат
(обратно)
31
Новый человек, в смысле «выскочка» незнатного рода, волею обстоятельств поднятый в высшие сословия римского общества. —Лат.
(обратно)
32
Представитель нобилитета. — Лат.
(обратно)
33
Законы противзлоупотреблений. —Лат.
(обратно)
34
Поскольку консулы на виду, им следует заниматься делом. — Лат
(обратно)
35
К. Помптинус, доблестнейший муж...; Кареллия, благороднейшая женшина...; Кв. Капий, которого я называю по причине его благородства. — Лат.
(обратно)
36
Сенатское сословие, сенат — Лат.
(обратно)
37
Почетнейшее сословие. — Лат.
(обратно)
38
Здравствуй, Сатурна земля, великая мать урожаев (Пер. с лат. С. Шервинского.)
(обратно)
39
Государственный (общественный, публичный) земельный фонд. — Лат.
(обратно)
40
Италию погубили латифундии. — Лат.
(обратно)
41
Разбой. —Лат.
(обратно)
42
Процент на ссуду. — Лат.
(обратно)
43
Публичные зрелища в цирке, в амфитеарте, в театре. — Лат.
(обратно)
44
Хлеба и зрелищ! — Лат.
(обратно)
45
Суд по обратному взысканию денег, полученных должностными лицами в виде взяток или путем вымогательства. —Лат.
(обратно)
46
Живой голос гражданского права. — Лат.
(обратно)
47
Пусть мир погибнет, но закон должен торжествовать. — Лат.
(обратно)
48
Дозволял возбудить уголовное дело. — Лат.
(обратно)
49
Претор не занимается мелочами. — Лат.
(обратно)
50
Международное частное право. — Лат.
(обратно)
51
Апелляция к народу. —Лат.
(обратно)
52
Нет преступления без закона, нет наказания без закона. — Лат.
(обратно)
53
Законы Порция о телесных наказаниях. — Лат.
(обратно)
54
В силу закона, по закону. — Лат.
(обратно)
55
Зачитывание списка сенаторов. — Лат.
(обратно)
56
Владения Рима. — Лат.
(обратно)
57
Сословия. — Лат.
(обратно)
58
Говори, М. Туллий — Лат.
(обратно)
59
Я согласен с М. Туллием. — Лат
(обратно)
60
Дуумвиры — Лат.
(обратно)
61
Комиссия (коллегия) четырех. — Лат.
(обратно)
62
Народное куриальное собрание. — Лат.
(обратно)
63
По римскому закону. — Лат.
(обратно)
64
Абсолютная законность — абсолютное беззаконие. — Лат.
(обратно)
65
Порядочный, честный человек — Лат.
(обратно)
66
Пусть свод небес, распавшись, рухнет —
Чуждого страха сразят обломки.
(Пер. с лат. Н. Гинцбург).
67
Букв: Пока добро, и развлеченья, и нити трех сестер <Парок> есть в доме. —Лат.
(обратно)
68
Никто из благоразумных людей не пляшет неистово, разве что те, кто вдруг потерял, рассудок — Лат.
(обратно)
69
Возвести мне, Камена, человека ловкого. — Лат.
(обратно)
70
История чужда нашей литературе. — Лат.
(обратно)
71
Придерживайся сути дела — слова сами придут,. — Лат.
(обратно)
72
В чрезвычайном порядке, вопреки обыкновению! — Лат.
(обратно)
73
«Филиппики» — Лат.
(обратно)
74
Смертный бог человеческой природы. — Лат.
(обратно)
75
Бог и смертный. — Лат.
(обратно)
76
Лучший Величайший. — Лат.
(обратно)
77
Юпитер фидеус (гарант верности клятве), Юпитер победитель. — Лат.
(обратно)
78
Верность, Победа. — Лат.
(обратно)
79
Души всех людей бессмертны, а души храбрых и доблестных божественны. — Лат.
(обратно)
80
Обычай охраняет основы. — Лат.
(обратно)
81
Отец семейства тогда в дом. заходит, когда лара почтит — Лат.
(обратно)
82
Высшего, верховного закона. — Лат.
(обратно)
83
Как может не смеяться один гаруспик, глядя на другого. — Лат.
(обратно)
84
Справедливые войны. — Лат.
(обратно)
85
О государственном благе. — Лат.
(обратно)
86
Лишь бы плыть и держаться на поверхности. — Лат.
(обратно)
87
Лучишй из дней. — Лат.
(обратно)
88
Жечь огню, быть избиваемым розгами, быть заколотым мечом —Лат.
(обратно)
89
Смогут другие создать изваянья живые из бронзы,
Или обличье мужей повторить во мраморе лучше,
Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней
Вычислить иль назовут восходящие звезды, — не спорю:
Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! — Налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!
(Пер. с лат. С. Ошерова)
90
По древнему и лучшему обычаю погребения мы собираемся вместе. — Лат.
(обратно)
91
Под открытым небом. — Лат.
(обратно)
92
Как подобает гражданину. — Лат.
(обратно)
93
Выходцем из славного сословия всадников. — Лат.
(обратно)
94
Купцы, торговцы. — Лат.
(обратно)
95
Торговый город. — Лат.
(обратно)
96
Промчатся года, и чрез много веков
Океан разрешит оковы вещей,
И огромная явится взорам земля.
(Пер. с лат. С.М. Соловьева)
97
Подопечные девочки Фаустины. — Лат.
(обратно)
98
Отряды, имеющие свое знамя. — Лат.
(обратно)
99
Вина. — Лат.
(обратно)
100
Злой умысел и случайность. — Лат.
(обратно)
101
Беспечность. — Лат.
(обратно)
102
Непонимании того, что для всех очевидно. — Лат.
(обратно)
103
Вещь — Лат.
(обратно)
104
Личность. —Лат.
(обратно)
105
Моммзен, Теодор (1817-1903) — крупнейший немецкий историк Античности, автор капитальных работ «История Рима», «Римское государственное право», «Римское уголовное право» и др.
(обратно)
106
Ферула (лат. ferula) — прут, розга.
(обратно)
107
Т.е. гаваней на Красном море; Ф.Ф. Зелинский идет от библейского наименования Красного моря («Чермное море»).
(обратно)
108
...богатство ли делает счастливым иль добродетель, —
Выгоды или наклонности к дружбе вернее приводят,
Или в чем свойство добра и в чем высочайшее благо?
(Пер. с лат. М. Дмитриева)
109
Живите праведными — так предписано! — Лат.
(обратно)
110
Случилось это не без сопротивления со стороны кроткой Греции. Когда афиняне совещались о том, чтобы и им, из соревнования с (римским) Коринфом, учредить амфитеатр и гладиаторские игры, философ Демонакт сказал им, указывая на стоящий на площади алтарь Милосердия (Eleu bomos): «Вы раньше должны упразднить этот алтарь».
(обратно)
111
Покорного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит. — Лат.
(обратно)
112
Медицинское сырье. — Лат.
(обратно)
113
Она поныне живет в обозначении дней на Западе (не у нас). Дело в том, что греки заменили вавилонские имена планетных богов своими, которые, в свою очередь, были латинизированы римлянами; германцы позднее перевели римские имена по-своему. Так получились имена дней недели: 1) Solis dies, немецкое Sonntag; 2) Lunae dies, французское lundi, немецкое Montag; 3) Martis dies, французское mardi, немецкое Dienstag (от бога Tio = Mars); 4) Mercurii dies, французское mercredi, английское Wednesday (от бога Wodan = Mercurius); 5) Jovis dies, французское jeudi, немецкое Donnerstag, английское thursday (Donar = Thor = Jupiter); 6) Veneris dies, французское vendredi, немецкое Freitag (Freia = Venus); 7) Saturni dies, английское Saturday. Как видно отсюда, астрологическая неделя возникла независимо от еврейской.
(обратно)
114
То, что является философией, становится филологией! — Лат.
(обратно)
115
«Искусство поэзии». — Лат.
(обратно)
116
«Фарсалия». — Лат.
(обратно)
117
Боги отстаивали дело победителей, Катон же — побежденных. — Лат.
(обратно)
118
Ф.Ф. Зелинский имеет в виду, последовательно: «Римские древности» Дионисия Галикарнасского, «Иудейскую войну» Иосифа Флавия, «Историческую библиотеку» Диодора Сицилийского, «Поход Александра» Арриана, «Историю Рима» Аппиана, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха и «Римскую историю» Кассия Диона Коккеяна.
(обратно)
119
От основания города. — Лат.
(обратно)
120
Без гнева и без пристрастия. — Лат.
(обратно)
121
«Германия», «Агрикола» (точнее — «De vita et moribus Julii Agricolae»), диалог об ораторах». —Лат.
(обратно)
122
Это название для сборника исторических сочинений разных авторов времен Диоклетиана и Константина ввел в научный оборот в 1603 г. франц, филолог И. Кобозон. Однако вопрос и о количестве авторов и о времени написания различных его частей вызывает споры, и поэтому ныне эти сочинения принято называть «Historia Augusta» — «История императоров». Первый перевод на русский язык (1775) именовался «Шесть писателей истории об Августах», последний — «Властелины Рима» (М. 1992).
(обратно)
123
«Сатирикон» (обычно во множественном числе, дополняется — «книги») — Лат.
(обратно)
124
Пред властью вышних, помни, бессилен ты. (Пер. с лат. Н.C. Гинцбурга).
(обратно)
125
До тех пор, пока жрец с девой безмолвною
Входит по ступеням в храм Капитолия.
(Пер. с лат. А.П. Семенова — Тян-Шанского).
126
Верховный понтифик. — Лат.
(обратно)
127
Божественный — Лат.
(обратно)
128
Бог — Лат.
(обратно)
129
Сын бога — Лат.
(обратно)
130
Божественных — Лат.
(обратно)
131
Повелитель — Лат.
(обратно)
132
Священный и святой — Лат.
(обратно)
133
Навеки возрожденный — Лат.
(обратно)
134
Элагабол, или Гелиогабал — прозвище Марка Аврелия Антонина (204-222 гг. н.э.), ставшего с 218 г. римским императором. Пытался ввести культ сирийского бога солнца Элагабала в качестве официального общеримского. Священный метеорит, привезенный из Азии, — фетиш своей религии — он установил в построенном для него храме на Палатине. Будучи, несомненно, святотатцем по отношению к почитаемым в Риме богам, он, однако, убит был преторианцами скорее за донельзя распущенный нрав, чем за религиозные преступления.
(обратно)
135
Гностицизм — религиозно-философское течение I-III вв. н.э., во II в. ставшее главным соперником христианства. Гностики стремились синтезировать в своем учении и культовой практике многие элементы различных восточных верований (иудаизма, зороастризма, особенно египетской религии), греческой философии и христианства.
(обратно)
136
Ненависть к роду человеческому — Лат.
(обратно)
137
Святотатство — Лат.
(обратно)
138
Оскорбление величества — Лат.
(обратно)
139
Согласно христианскому преданию, во время сражения под Римом в 312 г. н.э. между войсками Максенция и Константина — одного из ключевых эпизодов борьбы последнего за единоличную власть в империи — над воинским значком константиновского легиона появились крест и надпись, которую упоминает Ф.Ф. Зелинский, — «Этим победишь».
(обратно)
140
Священное жилище, священный покой — Лат.
(обратно)
141
Твое бессмертие — Лат.
(обратно)
142
Правосудие есть постоянная и неизменная воля закона, воздающего каждому должное — Лат.
(обратно)
143
Императорская казна — Лат.
(обратно)
144
Мартиролог (греч. martiros свидетель, мученик +logos слово) — первоначально — сборник повествований о христианских мучениках первых веков; ныне слово гораздо чаще употребляется в переносном значении — как перечень пострадавших, замученных, а также перечень пережитых кем-либо страданий, преследований. Использование его у Ф.Ф. Зелинского в связи с судьбой Александрийской библиотеки придает ему дополнительный горько-иронический подтекст.
(обратно)
145
«Утешение философией» — Лат.
(обратно)
146
Сейчас же решением государственного совета мы постановляем разрешить, что тот храм, в котором находятся воздвигнутые изображения, надлежит считать совершенным памятником искусства — Лат.
(обратно)
147
«О зрелищах». — Лат.
(обратно)
148
Бои диких зверей — Лат.
(обратно)
149
«Зеленые» и «синие» — традиционные партии болельщиков на конных состязаниях в христианском Константинополе, названные так по используемой ими цветовой символике. В периоды социальных обострений эти партии спортивных болельщиков превращались в мощную политическую силу.
(обратно)
Оглавление
Введение
Часть первая
Ахейский период
(От древнейших времен до приблизительно 1000 года до Р.Х.)
Глава вводная. Внешний облик греческой земли
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
Часть вторая
Эллинский период
(1000-500 годы до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история Греции эллинского периода
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
Часть третья
Аттический период
(500-323 годы до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история Греции аттического периода
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
Часть четвертая
Вселенский период
А. Эллинистический период
(Восток от 323 до 30 года до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история эллинизма
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
Б. Римская республика
(510-27 годы до Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история Рима республиканского периода
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
В. Языческая империя
(27 год до Р.Х. — 313 год по Р.Х.)
Глава вводная. Внешняя история языческой империи
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
Г. Христианская империя
(313-529 годы)
Глава вводная. Внешняя история христианской империи
Глава I. Нравы
Глава II. Наука
Глава III. Искусство
Глава IV. Религия
Примечания
*** Примечания ***

Эта схема относится к той эпохе, когда последняя отрасль прозы (красноречие) стала художественной, то есть к IV веку до Р.Х. Первоначально муза (или музы) была покровительницей всей области хореи. Гомер безразлично употребляет единственное или множественное число; Гесиод определяет число муз девятью и называет их имена, но разницы между ними и он не делает.

 Хозяевами положения стали после кратковременной смуты Алкмеониды; их главный представитель,
Клисфен, преобразовал государство на демократических началах, навсегда устраняя своими реформами значение и педиэи, и паралии, и диакрии, раздиравших Афины в течение столетия с лишком.
Так как его реформы определили государственный строй Афин в следующий, «аттический» период, то мы там ими и займемся.
§ 10. Междуэллинский быт. Описанный в предыдущем параграфе государственный быт эллинов мог быть представлен в отрывках, касающихся, главным образом, Спарты и Афин. Не для дополнения картины — таковое за скудостью источников невозможно, — а для восстановления пропорции следует помнить, что таких «городов-государств» (poleis) с отдельными конституциями было в Греции около полутораста и что все они по объему своих территорий удобно укладываются в одну нашу Новгородскую губернию.
Характерными признаками греческой polis были два. Первый — автономия, то есть «самозаконие», независимость не только от внешнего властителя, но и от внутреннего, от всего, что мешало бы гражданину путем непосредственной подачи голоса влиять на судьбу своей родины. В силу этой автономии — причины как внутренней силы, так и внешней слабости Эллады как политического организма — эллин неудержимо стремился к демократии, но к демократии «плебисцитарной», а не «парламентской», так как последняя, ставя на место гражданина избранного им на определенное время представителя, этим самым устраняла его самого от пользования своим голосом. Этим пониманием автономии был положен предел расширению территорий общины: гражданин должен был иметь возможность являться самолично в народное собрание, что при слишком дальних расстояниях было бы неисполнимо. Вторым признаком была автаркия, то есть «самодовление», способность собственными средствами удовлетворять свои материальные и прочие нужды. Где этих средств, вследствие незначительности территории, не давало земледелие, там приходилось обращаться к промышленности и торговле, как мы это видим в Коринфе, Мегаре, Эгине и других городах.
Оба эти требования были центробежными, навсегда исключавшими возможность образования единого греческого государства. Но они не исключали возможности между эллинских политических группировок; таковые могли принимать одну из следующих форм:
1. Форму синэкизма (synoikismos, «соселение»), при которой из двух или нескольких гражданских общин образовывалась одна. Синэкизм мог быть либо фактическим, либо правовым. В первом случае жители двух или нескольких сел оставляли свои дома и селились вместе: так возникли Мантинея, Элида и другие. При правовом синэкизме все оставались на своих местах и только общие органы правления переносились в одну центральную общину, гражданами которой становились все участники этого государственно-правового акта. Так возникли Афины как государство. Вначале это была одна община Аттики наравне с Элевсином, Бравроном, Марафоном и другими; но вот однажды, как гласит местная легенда, Тесей, «упразднив отдельные пританеи, советы и властей, учредил один общий для всех пританей и совет, где ныне стоит город» (Плут. Tec. XXIV). Все элевсинцы, бравронцы и т.д. остались жить там, где жили до тех пор, но стали афинскими гражданами и членами общеафинского народного собрания с одинаковым активным и пассивным избирательным правом.
2. Форму амфиктионии, то есть религиозно-правового союза «амфиктионов» (amphiktiones, «окрестных жителей») для защиты центральной святыни. Таких амфиктионий Греция знала несколько; самой знаменитой была дельфийская, то есть союз двенадцати племен, главным образом, средней Греции для защиты дельфийского храма. Самым громким делом этой амфиктионии была так называемая (первая) священная война в начале VI века до Р.Х. против Крисы фокидской, которая, злоупотребляя своим удобным положением как гавань Дельфов, облагала паломников произвольными поборами и вообще относилась враждебно к храму и посаду Аполлона. Результатом войны было разрушение Крисы и присуждение ее территории Дельфам, которые, таким образом, получили нечто вроде «церковной области», каковая победа ими отмечена учреждением пифийских игр (586 год до Р.Х.). Но хотя в данном случае амфиктионам и пришлось поступить круто, все же, в общем, их влияние на военное право было благотворным (ниже, с.82). О роковой их роли в деле греческой свободы против Филиппа Македонского и о несчастной последней «священной войне» будет сказано ниже.
Хозяевами положения стали после кратковременной смуты Алкмеониды; их главный представитель,
Клисфен, преобразовал государство на демократических началах, навсегда устраняя своими реформами значение и педиэи, и паралии, и диакрии, раздиравших Афины в течение столетия с лишком.
Так как его реформы определили государственный строй Афин в следующий, «аттический» период, то мы там ими и займемся.
§ 10. Междуэллинский быт. Описанный в предыдущем параграфе государственный быт эллинов мог быть представлен в отрывках, касающихся, главным образом, Спарты и Афин. Не для дополнения картины — таковое за скудостью источников невозможно, — а для восстановления пропорции следует помнить, что таких «городов-государств» (poleis) с отдельными конституциями было в Греции около полутораста и что все они по объему своих территорий удобно укладываются в одну нашу Новгородскую губернию.
Характерными признаками греческой polis были два. Первый — автономия, то есть «самозаконие», независимость не только от внешнего властителя, но и от внутреннего, от всего, что мешало бы гражданину путем непосредственной подачи голоса влиять на судьбу своей родины. В силу этой автономии — причины как внутренней силы, так и внешней слабости Эллады как политического организма — эллин неудержимо стремился к демократии, но к демократии «плебисцитарной», а не «парламентской», так как последняя, ставя на место гражданина избранного им на определенное время представителя, этим самым устраняла его самого от пользования своим голосом. Этим пониманием автономии был положен предел расширению территорий общины: гражданин должен был иметь возможность являться самолично в народное собрание, что при слишком дальних расстояниях было бы неисполнимо. Вторым признаком была автаркия, то есть «самодовление», способность собственными средствами удовлетворять свои материальные и прочие нужды. Где этих средств, вследствие незначительности территории, не давало земледелие, там приходилось обращаться к промышленности и торговле, как мы это видим в Коринфе, Мегаре, Эгине и других городах.
Оба эти требования были центробежными, навсегда исключавшими возможность образования единого греческого государства. Но они не исключали возможности между эллинских политических группировок; таковые могли принимать одну из следующих форм:
1. Форму синэкизма (synoikismos, «соселение»), при которой из двух или нескольких гражданских общин образовывалась одна. Синэкизм мог быть либо фактическим, либо правовым. В первом случае жители двух или нескольких сел оставляли свои дома и селились вместе: так возникли Мантинея, Элида и другие. При правовом синэкизме все оставались на своих местах и только общие органы правления переносились в одну центральную общину, гражданами которой становились все участники этого государственно-правового акта. Так возникли Афины как государство. Вначале это была одна община Аттики наравне с Элевсином, Бравроном, Марафоном и другими; но вот однажды, как гласит местная легенда, Тесей, «упразднив отдельные пританеи, советы и властей, учредил один общий для всех пританей и совет, где ныне стоит город» (Плут. Tec. XXIV). Все элевсинцы, бравронцы и т.д. остались жить там, где жили до тех пор, но стали афинскими гражданами и членами общеафинского народного собрания с одинаковым активным и пассивным избирательным правом.
2. Форму амфиктионии, то есть религиозно-правового союза «амфиктионов» (amphiktiones, «окрестных жителей») для защиты центральной святыни. Таких амфиктионий Греция знала несколько; самой знаменитой была дельфийская, то есть союз двенадцати племен, главным образом, средней Греции для защиты дельфийского храма. Самым громким делом этой амфиктионии была так называемая (первая) священная война в начале VI века до Р.Х. против Крисы фокидской, которая, злоупотребляя своим удобным положением как гавань Дельфов, облагала паломников произвольными поборами и вообще относилась враждебно к храму и посаду Аполлона. Результатом войны было разрушение Крисы и присуждение ее территории Дельфам, которые, таким образом, получили нечто вроде «церковной области», каковая победа ими отмечена учреждением пифийских игр (586 год до Р.Х.). Но хотя в данном случае амфиктионам и пришлось поступить круто, все же, в общем, их влияние на военное право было благотворным (ниже, с.82). О роковой их роли в деле греческой свободы против Филиппа Македонского и о несчастной последней «священной войне» будет сказано ниже.
 3. Форму гегемонии (hegemonia), то есть предводительства одной общины в союзе других без потери последними своего самоуправления (этим гегемония отличается от синэкизма). Так, в мифическую старину Микены, столица Атридов, пользовались гегемонией во всей Греции, в силу чего Агамемнон и мог повести соединенную ахейскую рать против Трои. Эта гегемония Атридов была в историческую эпоху кормчей звездой для могучих и честолюбивых общин и царей вплоть до Александра Великого. К началу эллинского периода ее осуществил сосед и естественный наследник Микен, дорический Аргос; но условием междуэллинской гегемонии была внутренняя гегемония в Арголиде, которую нелегко было сохранить при кантональной разрозненности страны и стремлении к автономии отдельных кантонов — Коринфа, Эпидавра, Трезена и других. Последним представителем аргосской, и внутренней, и междуэллинской, гегемонии был могучий Фидон (вторая четверть VII века до Р.Х.); после его смерти Арголида распалась на свои кантоны, и Аргос оскудел навсегда. Что потерял он, то выиграла его грозная соседка, Спарта, владычица обширной и единой долины Эврота и госпожа сопредельной Мессении, обладавшая, к тому же, в лице своих «гоплитов», лучшим войском во всей Элладе. Вначале ее стремление было направлено на расширение своей территории; за Мессенией должна была последовать Аркадия. Но серьезные затруднения, которые она встретила в этой гористой стране, а также и совет Дельфов заставили ее отказаться от дальнейших завоеваний и поставить себе целью объединение Пелопоннеса, а в дальнейшем — и прочей Эллады под своей гегемонией. Первая часть этой программы была исполнена без труда; все союзные государства сохранили свою самостоятельность, но обязались посылать в союзное войско отряды вооруженных в соответствии со своими силами. Дельфы вполне благоприятствовали этой идее, они стали как бы духовным мечом Спарты — так же, как Спарта — их светским мечом: VI век до Р.Х. был расцветом спартано-дельфийской гегемонии в Элладе. Ее самым крупным делом было свержение тирании Писистратидов в Афинах (510 год до Р.Х., выше, с. 76), которым Спарта подтвердила свое право вмешательства во внутренние дела эллинских государств также и севернее Истма. Когда поэтому в начале V века до Р.Х. персидский царь стал грозить Элладе погромом, она объединилась под гегемонией Спарты, — правда, уже без участия Дельфов, которые тогда увлеклись новой несбыточной мечтой заменить свою междуэллинскую духовную гегемонию — мировой.
3. Форму гегемонии (hegemonia), то есть предводительства одной общины в союзе других без потери последними своего самоуправления (этим гегемония отличается от синэкизма). Так, в мифическую старину Микены, столица Атридов, пользовались гегемонией во всей Греции, в силу чего Агамемнон и мог повести соединенную ахейскую рать против Трои. Эта гегемония Атридов была в историческую эпоху кормчей звездой для могучих и честолюбивых общин и царей вплоть до Александра Великого. К началу эллинского периода ее осуществил сосед и естественный наследник Микен, дорический Аргос; но условием междуэллинской гегемонии была внутренняя гегемония в Арголиде, которую нелегко было сохранить при кантональной разрозненности страны и стремлении к автономии отдельных кантонов — Коринфа, Эпидавра, Трезена и других. Последним представителем аргосской, и внутренней, и междуэллинской, гегемонии был могучий Фидон (вторая четверть VII века до Р.Х.); после его смерти Арголида распалась на свои кантоны, и Аргос оскудел навсегда. Что потерял он, то выиграла его грозная соседка, Спарта, владычица обширной и единой долины Эврота и госпожа сопредельной Мессении, обладавшая, к тому же, в лице своих «гоплитов», лучшим войском во всей Элладе. Вначале ее стремление было направлено на расширение своей территории; за Мессенией должна была последовать Аркадия. Но серьезные затруднения, которые она встретила в этой гористой стране, а также и совет Дельфов заставили ее отказаться от дальнейших завоеваний и поставить себе целью объединение Пелопоннеса, а в дальнейшем — и прочей Эллады под своей гегемонией. Первая часть этой программы была исполнена без труда; все союзные государства сохранили свою самостоятельность, но обязались посылать в союзное войско отряды вооруженных в соответствии со своими силами. Дельфы вполне благоприятствовали этой идее, они стали как бы духовным мечом Спарты — так же, как Спарта — их светским мечом: VI век до Р.Х. был расцветом спартано-дельфийской гегемонии в Элладе. Ее самым крупным делом было свержение тирании Писистратидов в Афинах (510 год до Р.Х., выше, с. 76), которым Спарта подтвердила свое право вмешательства во внутренние дела эллинских государств также и севернее Истма. Когда поэтому в начале V века до Р.Х. персидский царь стал грозить Элладе погромом, она объединилась под гегемонией Спарты, — правда, уже без участия Дельфов, которые тогда увлеклись новой несбыточной мечтой заменить свою междуэллинскую духовную гегемонию — мировой.
 Кроме этой всеэллинской гегемонии мы имеем в нашу эпоху и в следующую ряд внутренних: союз беотийских городов под гегемонией Фив, халкидских — под гегемонией Олинфа, лесбосских — под гегемонией Митилены, а также и союзы с выборной на каждый раз гегемонией, как, например, союз ионийских городов Малой Азии, восстание которого против персидского царя послужило сигналом для греко-персидской войны (500 год до Р.Х.).
Вне этих союзов и заключаемых на время договоров положение эллинских государств было положением военным. Условия войны сильно изменились со времени ахейских держав; царственные колесницы уступили свое место аристократической коннице, так как замена тяжелого «микенского» щита более легким дала воинам возможность сражаться верхом. Наряду с конницей, которой особенно славилась аристократическая Фессалия, выдвигается и пешее войско зажиточной буржуазии — так называемые гоплиты (hoplitai), или тяжеловооруженные. Лучшее и притом постоянное войско было у спартанцев как «атлетов войны», но и афиняне старались от них не отставать: обладая в своих первых двух классах (выше, с.76) отличными всадниками, они от своих зевгитов требовали службы в рядах гоплитов — в ожидании того времени, когда и феты, служившие во флоте, рядом блестящих морских побед заявят о своих правах.
Обороной городов служат по-прежнему городские стены, и эта оборона настолько надежна, что осада также и в наше время — дело затяжное и трудное. Известен даже подвиг Орлеанской девы древности, аргосской стихотворицы Телесиллы, которая после того, как аргосская рать полегла в битве против спартанцев, во главе вооруженных женщин с аргосской стены дала отпор победоносным спартанским гоплитам (510 год до Р.Х.). Вообще война была обычным делом в нашу эпоху, но ее условия значительно смягчаются в сравнении с ахейской. В этом нельзя не признать благотворного влияния дельфийского бога с его проповедью против hybris («спеси»), в которую входит также неумеренность использования дарованного богами успеха. Неудивительно поэтому, что первые плоды этого влияния созревают в дельфийской амфиктионии; среди ее законов мы находим и следующий: «государства-члены амфиктионии обязуются не разрушать города, входящего в состав амфиктионии, и не отрезывать его от текучей воды» (Эсхин II, 115). Так-то в законах амфиктионии мы находим первые в истории человечества зародыши международного права. Родственного характера были взаимные обязательства, принятые воюющими сторонами в лелантской войне, самой крупной междуэллинскокй войне нашей эпохи (около 700 года до Р.Х.); она велась первоначально двумя эвбейскими городами, Халкидой и Эретрией, из-за лежавшей между ними плодородной «лелантской» равнины, но мало-помалу в ней приняли участие, в качестве союзников, большинство государств архипелага. Так вот в этой войне воюющие обязались не пользоваться метательным оружием, а только копьем и мечом.
Вообще наша эпоха — эпоха развития и укрепления междуэллинских сношений, чему значительно содействовал ее аристократический характер. Аристократические роды различных государств, озабоченные ростом демократии, вступали в естественный союз между собой; демократические массы им в этом подражать не могли, но могли подражать вожди таковых, а они же были будущими тиранами. Междуэллинская сеть тираний временами действительно была противопоставляема сети аристократической; тираны различных государств поддерживали друг друга и поощряли стремления честолюбцев в республиках ко введению тиранического управления. Но на стороне аристократии были Спарта и дельфийский бог, и тирании долго не просуществовали; когда в начале V века до Р.Х. персидский царь задумал свой поход против Греции, он нашел ее, если не считать демократических Афин, в руках аристократии.
§ 11. Нравственное сознание нашей эпохи развивается под знаком религии; будучи и во многих других отношениях эпохой сакрализации культуры, она в особенности представляется нам эпохой сакрализации нравственности.
Эта сакрализация проявляется в двух областях, в зависимости от двойного характера новых религий — немистического (религии Аполлона) и мистического (религий Деметры и Диониса).
1. Для немистической религии Аполлона Дельфийского характерно именно приобщение нравственного элемента, объявление бога всеблагим. Но если так, то и в богоуправляемом мире следует ожидать торжества нравственности: санкцией нравственного долга становится чем далее, тем более религиозный биологический эвдемонизм (выше, с.35). Ежедневный опыт — страдания добрых, благополучие злых — этой санкции не противоречил, так как в нашу эпоху более чем когда-либо господствовало филономическое сознание (выше, с.34); догмат, что бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого колена, был для греков эллинского периода так же самопонятен, как и для древнего Израиля. Страждущий добрый смиренно преклонялся пред божьей волей в сознании, что он своими страданиями искупает вину — быть может, ему неизвестную — своего прародителя (Крез у Геродота — Гер. I, 91; Тесей у Еврипида — Евр. Ипп. 831 сл.); равным образом, умирающий в благополучии злодей терзался при мысли об участи, нависшей над его детьми; если же у него таковых не было, то это и было ему наказанием. Факт позднего возмездия богов никого не смущал:
Кроме этой всеэллинской гегемонии мы имеем в нашу эпоху и в следующую ряд внутренних: союз беотийских городов под гегемонией Фив, халкидских — под гегемонией Олинфа, лесбосских — под гегемонией Митилены, а также и союзы с выборной на каждый раз гегемонией, как, например, союз ионийских городов Малой Азии, восстание которого против персидского царя послужило сигналом для греко-персидской войны (500 год до Р.Х.).
Вне этих союзов и заключаемых на время договоров положение эллинских государств было положением военным. Условия войны сильно изменились со времени ахейских держав; царственные колесницы уступили свое место аристократической коннице, так как замена тяжелого «микенского» щита более легким дала воинам возможность сражаться верхом. Наряду с конницей, которой особенно славилась аристократическая Фессалия, выдвигается и пешее войско зажиточной буржуазии — так называемые гоплиты (hoplitai), или тяжеловооруженные. Лучшее и притом постоянное войско было у спартанцев как «атлетов войны», но и афиняне старались от них не отставать: обладая в своих первых двух классах (выше, с.76) отличными всадниками, они от своих зевгитов требовали службы в рядах гоплитов — в ожидании того времени, когда и феты, служившие во флоте, рядом блестящих морских побед заявят о своих правах.
Обороной городов служат по-прежнему городские стены, и эта оборона настолько надежна, что осада также и в наше время — дело затяжное и трудное. Известен даже подвиг Орлеанской девы древности, аргосской стихотворицы Телесиллы, которая после того, как аргосская рать полегла в битве против спартанцев, во главе вооруженных женщин с аргосской стены дала отпор победоносным спартанским гоплитам (510 год до Р.Х.). Вообще война была обычным делом в нашу эпоху, но ее условия значительно смягчаются в сравнении с ахейской. В этом нельзя не признать благотворного влияния дельфийского бога с его проповедью против hybris («спеси»), в которую входит также неумеренность использования дарованного богами успеха. Неудивительно поэтому, что первые плоды этого влияния созревают в дельфийской амфиктионии; среди ее законов мы находим и следующий: «государства-члены амфиктионии обязуются не разрушать города, входящего в состав амфиктионии, и не отрезывать его от текучей воды» (Эсхин II, 115). Так-то в законах амфиктионии мы находим первые в истории человечества зародыши международного права. Родственного характера были взаимные обязательства, принятые воюющими сторонами в лелантской войне, самой крупной междуэллинскокй войне нашей эпохи (около 700 года до Р.Х.); она велась первоначально двумя эвбейскими городами, Халкидой и Эретрией, из-за лежавшей между ними плодородной «лелантской» равнины, но мало-помалу в ней приняли участие, в качестве союзников, большинство государств архипелага. Так вот в этой войне воюющие обязались не пользоваться метательным оружием, а только копьем и мечом.
Вообще наша эпоха — эпоха развития и укрепления междуэллинских сношений, чему значительно содействовал ее аристократический характер. Аристократические роды различных государств, озабоченные ростом демократии, вступали в естественный союз между собой; демократические массы им в этом подражать не могли, но могли подражать вожди таковых, а они же были будущими тиранами. Междуэллинская сеть тираний временами действительно была противопоставляема сети аристократической; тираны различных государств поддерживали друг друга и поощряли стремления честолюбцев в республиках ко введению тиранического управления. Но на стороне аристократии были Спарта и дельфийский бог, и тирании долго не просуществовали; когда в начале V века до Р.Х. персидский царь задумал свой поход против Греции, он нашел ее, если не считать демократических Афин, в руках аристократии.
§ 11. Нравственное сознание нашей эпохи развивается под знаком религии; будучи и во многих других отношениях эпохой сакрализации культуры, она в особенности представляется нам эпохой сакрализации нравственности.
Эта сакрализация проявляется в двух областях, в зависимости от двойного характера новых религий — немистического (религии Аполлона) и мистического (религий Деметры и Диониса).
1. Для немистической религии Аполлона Дельфийского характерно именно приобщение нравственного элемента, объявление бога всеблагим. Но если так, то и в богоуправляемом мире следует ожидать торжества нравственности: санкцией нравственного долга становится чем далее, тем более религиозный биологический эвдемонизм (выше, с.35). Ежедневный опыт — страдания добрых, благополучие злых — этой санкции не противоречил, так как в нашу эпоху более чем когда-либо господствовало филономическое сознание (выше, с.34); догмат, что бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого колена, был для греков эллинского периода так же самопонятен, как и для древнего Израиля. Страждущий добрый смиренно преклонялся пред божьей волей в сознании, что он своими страданиями искупает вину — быть может, ему неизвестную — своего прародителя (Крез у Геродота — Гер. I, 91; Тесей у Еврипида — Евр. Ипп. 831 сл.); равным образом, умирающий в благополучии злодей терзался при мысли об участи, нависшей над его детьми; если же у него таковых не было, то это и было ему наказанием. Факт позднего возмездия богов никого не смущал:
 , и т.д.).
3. Финикийский алфавит дал грекам только знаки от А до Т; остальные они мало-помалу дополнили сами в соответствии со своими нуждами, исключая в то же время те, в которых они не нуждались (F = vav, Q = koppa; римляне их сохранили). Вся же система двадцати четырех знаков от альфы до омеги установилась только ко вселенской эпохе.
, и т.д.).
3. Финикийский алфавит дал грекам только знаки от А до Т; остальные они мало-помалу дополнили сами в соответствии со своими нуждами, исключая в то же время те, в которых они не нуждались (F = vav, Q = koppa; римляне их сохранили). Вся же система двадцати четырех знаков от альфы до омеги установилась только ко вселенской эпохе.
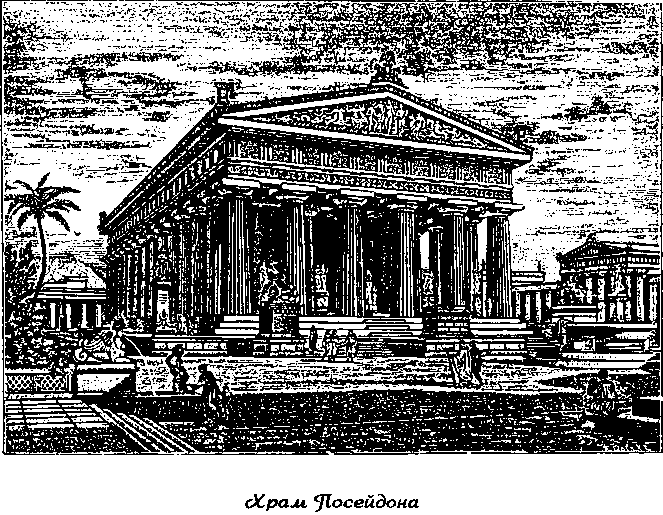 Первыми храмами, согласно сказанному, были храмы Аполлона; от него они распространились и на других богов. В VII веке до Р.Х. вся Греция покрылась храмами. Строили их преимущественно на акрополях, где они, соответственно последовательной аристократизации Греции, вытеснили прежние царские дворцы; затем на городских площадях (agorai), но также и в других частях города. Особенно дорогими греку были храмы на выдающихся в море мысах, издали приветствовавшие возвращающегося на родину пловца, — таковым был поныне незабвенный храм Посейдона на аттическом Сунии. Если бог был предметом всеэллинского почитания — как Зевс в Олимпии, Аполлон в Дельфах и на Делосе, Деметра в Элевсине, — то и обстановка была много роскошнее. Ему отводилась обширная ограда (peribolos); в ней господствовал его храм, но по соседству были и храмы родственных божеств; вдоль «священной дороги» стояли посвящения (статуи, колонны) государств и частных лиц, затем — так называемые «сокровищницы» (thesauroi) преданных богу государств, тоже имевшие форму храмиков, затем всевозможные портики, монументальные полукруглые скамьи, фонтаны и т.д. Священная дорога вела к большому алтарю бога перед его храмом, из таинственного полумрака которого внушительно смотрел его кумир; кругом была площадь, на которой собирался народ, чтобы присутствовать при гекатомбе и молитвенных хороводах.
Б. Скульптура. После падения ахейского искусства начинается около 700 года до Р.Х. новое возрождение скульптуры, но уже на сакральной почве; свою главную задачу она видит в изображении кумира бога и украшении его храма. И здесь вдохновительницей была религия Аполлона; первые сохраненные нам кумиры — кумиры Аполлона (в виде нагого юноши) и Артемиды. Их место было в храме, часть которого они составляли; отсюда на первых порах обязательное и для них требование строгой симметрии. Вначале она была полной; затем художники-«дедалиды» (то есть искусники) дерзнули выдвинуть вперед одну ногу; традиция, конечно, приписала это новшество их мифическому родоначальнику Дедалу, о котором поэтому говорили, что он создавал «убегающие изваяния»; но в течение всего нашего периода был в силе так называемый «закон фронтальности», по которому одна и та же вертикальная линия разрезала и лицо, и торс на две равные половины. Иногда старались придать лицу некоторую оживленность, изображая на нем улыбку. Полной свободы статуарная скульптура за весь наш период достигнуть не могла; мы называем его периодом архаическим.
Центрами искусства были тогда ионийские города Малой Азии, особенно Милет и Эфес; отсюда это ионийское искусство перекинулось на Киклады, особенно на богатые мрамором Наксос и Парос, и на славные своей металлургической техникой Самос и Крит. Мрамор и бронза стали излюбленным материалом скульптуры, сменяя первоначальный материал — дерево; все же скульптуре не сразу удалось освободиться от условностей деревянной техники, и древнейшие кумиры еще сильно напоминают обрубкидеревянных стволов. К концу периода основываются школы также в Сикионе, Эгине, Афинах. Это имеет последствием обособление дорической и аттической скульптуры, противоположивших известную строгость и трезвость относительной мягкости ионических линий и форм и пышности ионической драпировки.
Скульптурное украшение храма имело своим полем, согласно сказанному (выше, с.92), фронтоны, дорические метопы и ионийские непрерывные фризы; каждая из этих трех частей ставила скульптору особую задачу. При заполнении статуями фронтонного треугольника приходилось изображать, кроме стоячих, еще наклонные и лежачие фигуры, притом в полупрофиль и в профиль, что было несовместимо с сохранением закона фронтальности. Здесь поэтому гораздо раньше достигается свобода движения, и часто лишь отсутствие выразительности доказывает нам, что данная фронтонная группа принадлежит еще к архаическому периоду. Метопы представляли собой квадрат; задача его заполнения рельефными фигурами повела к требованию попарности, — вот почему излюбленными сюжетами метопной скульптуры стали поединки, особенно греков с кентаврами или с амазонками, причем чередование мужских фигур с женскими и человеческих с полулошадиными доставляли глазу приятное разнообразие. Для ионического фриза характерной была непрерывность; естественной темой были поэтому собрание или шествие. А так как пустые пространства между головами нарушали бы впечатление непрерывности, то возникло требование исокефалии (то есть чтобы все головы были на одинаковой высоте), ради которого художники с легким сердцем жертвовали требованиями пропорции в тех случаях, когда среди стоячих фигур приходилось изображать сидячую или конную.
Вся эта скульптура была сакральной; изваяния людей-современников допускались только в тех случаях, когда их освятила либо победа — на всеэллинских играх, либо смерть. Но и тогда статуя должна была быть «аниконической», то есть не портретной, а идеализованной, и нам бывает трудно отличить человека от бога. Сюда же относятся и статуи обоих «тираноубийц» (выше, с.76), изваянные к концу нашего периода первым афинским скульптором, о котором мы знаем, — Антенором.
В. Живопись в нашу эпоху и в следующую изучается нами исключительно на керамических изделиях; но в то время как для следующей эпохи существование настоящей разноцветной живописи нам засвидетельствовано, и только ее памятники погибли, — для нашей даже существование живописи высокого стиля представляется сомнительным. Вместе с дворцами ахейской эпохи и их стенопись отошла в прошлое. Было ли принято украшать фресками внутренние стены храмов? Вряд ли — свидетельств и следов не сохранилось никаких. Итак, придется допустить, что керамика была единственным скромным полем для живописцев нашей эпохи.
И здесь, после крушения ахейской культуры, пришлось начинать сызнова. Этим началом был так называемый геометрический стиль (приблизительно до 700 года до Р.Х.): на фоне, сохраняющем натуральный цвет глины, изображаются красновато-бурые узоры геометрического характера (зигзаги, меандры, круги, розетки и т.д., но не характерные для ахейской эпохи спирали и полипы); встречаются и человеческие, и животные фигуры, крайне тощие и скелетообразные. Так как сохраненные нам вазы найдены все в гробницах, то, естественно, преобладают сцены похорон — для нас драгоценный памятник быта того времени.
Затем (VII век до Р.Х.) дает себя чувствовать влияние азиатских колоний, естественных посредниц между греческим и восточным миром: появляются восточные узоры (пальметки, лотосы) и восточные фантастические фигуры (сфинксы, сирены, грифоны), это — ионический стиль. Со временем торговый Коринф монополизирует производство ваз и создает более или менее однообразную технику; ваза делится на ряд полос, каждая украшается фризом из животных, реальных и Фантастических, причем пустые пространства заполняются розетками и тому подобными орнаментами (коринфский стиль).
Затем победы и законы Солона ведут к расцвету керамики в Аттике, самой природой наиболее облагодетельствованной в этом отношении: ваза окрашивается в красный цвет, и на этом фоне черным лаком выводятся силуэты животных и людей (чернофигурный стиль), причем, ради ясности, лицо, руки и ноги женщины нередко покрываются белой краской. Фигуры еще условны, движения угловаты, но все же чувствуется большой прогресс в сравнении с предыдущим периодом. Преобладают сцены мифологического характера, иллюстрации к героическому эпосу, свидетельствующие о его популярности в Афинах; но встречаются и бытовые сцены. особенно пиршества мужчин и беседы девушек у фонтана. Сама форма сосуда получает невиданное раньше благородство: он точно вырастает из земли, причем бьющая снизу растительная сила округляет его сверху (ср. особенно амфору, кратер, гидрию). В соответствии с достигнутыми успехами растет и самосознание мастеров: лучшие увековечивают свои имена, такой-то (гончар) — epoiese, такой-то (живописец) — egrapse.
В той же Аттике, при Писистрате, вазопись испытывает еще одну решающую реформу: вся ваза покрывается черным лаком, только фигуры остаются красными, причем внутренние линии наводятся на эти красные силуэты черной — краской (краснофигурный стиль). Сравнительно большее удобство этого метода дает художнику возможность достигнуть почти полного реализма в изображении человека: только известная симметрия в драпировке, а также упомянутая уже условность (выше, с.44) в изображении глаз показывают нам, что архаизм все еще не преодолен. К этому строгому стилю краснофигурной росписи принадлежат наиболее прославленные мастера: Бриг (Brygos), Дурид (Duris), Евфроний; от них нам сохранено немало памятников (особенно плоских чаш) поразительной тонкости и красоты.
Так-то и это скромное гончарное ремесло в своем развитии указывает на предстоящее величие Афин.
§ 16. Мусические искусства. Их развитие мы можем проследить в четырех направлениях: 1) как развитие триединой хореи, то есть соединения поэзии, музыки и пляски; 2) как развитие освободившейся от пляски, но удержавшей музыкальный элемент в напеве и аккомпанементе песни; 3) как развитие обособившейся также и от слова чистой музыки, и, наконец, 4) как зарождение и развитие чуждого всякой хорее неразмеренного слова — так называемой прозы. Но отсутствие памятников для хореи вплоть до VII века до Р.Х. заставляет нас начать со второго направления — с окрыленной напевом песни, которая именно для того, чтобы не превратиться обратно в хорею, должна была быть объективной, то есть былевой. Другими словами — должна была быть эпосом.
А. Время художественного развития наступило тогда, когда зародилось сословие носителей и былевого предания, и технических приемов его обработки; это были певцы, аэды, «вещие» люди ранней античности вплоть до 600 года до Р.Х., когда их в этой роли сменили философы. Они состояли в цехе ремесленников и называли себя охотно гомеридами, то есть сладителями (от homo-«co» и глагольного корня ar-«лад»); это наименование при естественной семейной преемственности ремесла должно было неизбежно вызвать представление о родоначальнике Гомере, так же как родственное наименование ваятелей-дедалидов (выше, с.94) — представление о мифическом родоначальнике Дедале. Предание, носителями которого были гомериды, обнимало, прежде всего, важнейшие для мыслящего человека вопросы — космогойический и эсхатологический. В первом темой певцов были религия Зевса и его попытка через созданного им богочеловека (в ахейском изводе — Ахилла) избежать гибели (выше, с.53); во втором — прохождение героя (Одиссея) через все царства многообразной смерти. Колониальное движение с его войнами и странствованиями повело к очеловечению обоих мифов и к их слиянию с событиями дня: из космогонического мифа возник эпос о троянской войне, из эсхатологического — эпос о возврате Одиссея; отпавшая религиозная идея была мало-помалу заменена нравственной, особенно сильной в первом эпосе, в «Илиаде».
Оскорбленный верховным вождем Агамемноном, Ахилл пылает «гневом»; он отказывает своим соратникам в своей помощи, удаляется от общего дела — его желание исполняется, оставленные им ахейцы терпят поражение, но в происходящей без него битве гибнет его лучший и любимейший друг, Патрокл. Тогда его гнев от своих обращается против врагов: он мирится с Агамемноном и требует скорейшей битвы, в которой он мог бы сразиться с убийцей своего друга, Гектором, сыном троянского царя Приама. Вторично его желание исполняется: он мстит за Патрокла, убивает Гектора — и вторично познает тщету своего гнева, когда ночью в его палатку является сломленный горем старый Приам и, целуя его руку, умоляет его отдать ему для честных похорон тело его убитого сына. Такова наука «песни о гневе Ахилла»:
Первыми храмами, согласно сказанному, были храмы Аполлона; от него они распространились и на других богов. В VII веке до Р.Х. вся Греция покрылась храмами. Строили их преимущественно на акрополях, где они, соответственно последовательной аристократизации Греции, вытеснили прежние царские дворцы; затем на городских площадях (agorai), но также и в других частях города. Особенно дорогими греку были храмы на выдающихся в море мысах, издали приветствовавшие возвращающегося на родину пловца, — таковым был поныне незабвенный храм Посейдона на аттическом Сунии. Если бог был предметом всеэллинского почитания — как Зевс в Олимпии, Аполлон в Дельфах и на Делосе, Деметра в Элевсине, — то и обстановка была много роскошнее. Ему отводилась обширная ограда (peribolos); в ней господствовал его храм, но по соседству были и храмы родственных божеств; вдоль «священной дороги» стояли посвящения (статуи, колонны) государств и частных лиц, затем — так называемые «сокровищницы» (thesauroi) преданных богу государств, тоже имевшие форму храмиков, затем всевозможные портики, монументальные полукруглые скамьи, фонтаны и т.д. Священная дорога вела к большому алтарю бога перед его храмом, из таинственного полумрака которого внушительно смотрел его кумир; кругом была площадь, на которой собирался народ, чтобы присутствовать при гекатомбе и молитвенных хороводах.
Б. Скульптура. После падения ахейского искусства начинается около 700 года до Р.Х. новое возрождение скульптуры, но уже на сакральной почве; свою главную задачу она видит в изображении кумира бога и украшении его храма. И здесь вдохновительницей была религия Аполлона; первые сохраненные нам кумиры — кумиры Аполлона (в виде нагого юноши) и Артемиды. Их место было в храме, часть которого они составляли; отсюда на первых порах обязательное и для них требование строгой симметрии. Вначале она была полной; затем художники-«дедалиды» (то есть искусники) дерзнули выдвинуть вперед одну ногу; традиция, конечно, приписала это новшество их мифическому родоначальнику Дедалу, о котором поэтому говорили, что он создавал «убегающие изваяния»; но в течение всего нашего периода был в силе так называемый «закон фронтальности», по которому одна и та же вертикальная линия разрезала и лицо, и торс на две равные половины. Иногда старались придать лицу некоторую оживленность, изображая на нем улыбку. Полной свободы статуарная скульптура за весь наш период достигнуть не могла; мы называем его периодом архаическим.
Центрами искусства были тогда ионийские города Малой Азии, особенно Милет и Эфес; отсюда это ионийское искусство перекинулось на Киклады, особенно на богатые мрамором Наксос и Парос, и на славные своей металлургической техникой Самос и Крит. Мрамор и бронза стали излюбленным материалом скульптуры, сменяя первоначальный материал — дерево; все же скульптуре не сразу удалось освободиться от условностей деревянной техники, и древнейшие кумиры еще сильно напоминают обрубкидеревянных стволов. К концу периода основываются школы также в Сикионе, Эгине, Афинах. Это имеет последствием обособление дорической и аттической скульптуры, противоположивших известную строгость и трезвость относительной мягкости ионических линий и форм и пышности ионической драпировки.
Скульптурное украшение храма имело своим полем, согласно сказанному (выше, с.92), фронтоны, дорические метопы и ионийские непрерывные фризы; каждая из этих трех частей ставила скульптору особую задачу. При заполнении статуями фронтонного треугольника приходилось изображать, кроме стоячих, еще наклонные и лежачие фигуры, притом в полупрофиль и в профиль, что было несовместимо с сохранением закона фронтальности. Здесь поэтому гораздо раньше достигается свобода движения, и часто лишь отсутствие выразительности доказывает нам, что данная фронтонная группа принадлежит еще к архаическому периоду. Метопы представляли собой квадрат; задача его заполнения рельефными фигурами повела к требованию попарности, — вот почему излюбленными сюжетами метопной скульптуры стали поединки, особенно греков с кентаврами или с амазонками, причем чередование мужских фигур с женскими и человеческих с полулошадиными доставляли глазу приятное разнообразие. Для ионического фриза характерной была непрерывность; естественной темой были поэтому собрание или шествие. А так как пустые пространства между головами нарушали бы впечатление непрерывности, то возникло требование исокефалии (то есть чтобы все головы были на одинаковой высоте), ради которого художники с легким сердцем жертвовали требованиями пропорции в тех случаях, когда среди стоячих фигур приходилось изображать сидячую или конную.
Вся эта скульптура была сакральной; изваяния людей-современников допускались только в тех случаях, когда их освятила либо победа — на всеэллинских играх, либо смерть. Но и тогда статуя должна была быть «аниконической», то есть не портретной, а идеализованной, и нам бывает трудно отличить человека от бога. Сюда же относятся и статуи обоих «тираноубийц» (выше, с.76), изваянные к концу нашего периода первым афинским скульптором, о котором мы знаем, — Антенором.
В. Живопись в нашу эпоху и в следующую изучается нами исключительно на керамических изделиях; но в то время как для следующей эпохи существование настоящей разноцветной живописи нам засвидетельствовано, и только ее памятники погибли, — для нашей даже существование живописи высокого стиля представляется сомнительным. Вместе с дворцами ахейской эпохи и их стенопись отошла в прошлое. Было ли принято украшать фресками внутренние стены храмов? Вряд ли — свидетельств и следов не сохранилось никаких. Итак, придется допустить, что керамика была единственным скромным полем для живописцев нашей эпохи.
И здесь, после крушения ахейской культуры, пришлось начинать сызнова. Этим началом был так называемый геометрический стиль (приблизительно до 700 года до Р.Х.): на фоне, сохраняющем натуральный цвет глины, изображаются красновато-бурые узоры геометрического характера (зигзаги, меандры, круги, розетки и т.д., но не характерные для ахейской эпохи спирали и полипы); встречаются и человеческие, и животные фигуры, крайне тощие и скелетообразные. Так как сохраненные нам вазы найдены все в гробницах, то, естественно, преобладают сцены похорон — для нас драгоценный памятник быта того времени.
Затем (VII век до Р.Х.) дает себя чувствовать влияние азиатских колоний, естественных посредниц между греческим и восточным миром: появляются восточные узоры (пальметки, лотосы) и восточные фантастические фигуры (сфинксы, сирены, грифоны), это — ионический стиль. Со временем торговый Коринф монополизирует производство ваз и создает более или менее однообразную технику; ваза делится на ряд полос, каждая украшается фризом из животных, реальных и Фантастических, причем пустые пространства заполняются розетками и тому подобными орнаментами (коринфский стиль).
Затем победы и законы Солона ведут к расцвету керамики в Аттике, самой природой наиболее облагодетельствованной в этом отношении: ваза окрашивается в красный цвет, и на этом фоне черным лаком выводятся силуэты животных и людей (чернофигурный стиль), причем, ради ясности, лицо, руки и ноги женщины нередко покрываются белой краской. Фигуры еще условны, движения угловаты, но все же чувствуется большой прогресс в сравнении с предыдущим периодом. Преобладают сцены мифологического характера, иллюстрации к героическому эпосу, свидетельствующие о его популярности в Афинах; но встречаются и бытовые сцены. особенно пиршества мужчин и беседы девушек у фонтана. Сама форма сосуда получает невиданное раньше благородство: он точно вырастает из земли, причем бьющая снизу растительная сила округляет его сверху (ср. особенно амфору, кратер, гидрию). В соответствии с достигнутыми успехами растет и самосознание мастеров: лучшие увековечивают свои имена, такой-то (гончар) — epoiese, такой-то (живописец) — egrapse.
В той же Аттике, при Писистрате, вазопись испытывает еще одну решающую реформу: вся ваза покрывается черным лаком, только фигуры остаются красными, причем внутренние линии наводятся на эти красные силуэты черной — краской (краснофигурный стиль). Сравнительно большее удобство этого метода дает художнику возможность достигнуть почти полного реализма в изображении человека: только известная симметрия в драпировке, а также упомянутая уже условность (выше, с.44) в изображении глаз показывают нам, что архаизм все еще не преодолен. К этому строгому стилю краснофигурной росписи принадлежат наиболее прославленные мастера: Бриг (Brygos), Дурид (Duris), Евфроний; от них нам сохранено немало памятников (особенно плоских чаш) поразительной тонкости и красоты.
Так-то и это скромное гончарное ремесло в своем развитии указывает на предстоящее величие Афин.
§ 16. Мусические искусства. Их развитие мы можем проследить в четырех направлениях: 1) как развитие триединой хореи, то есть соединения поэзии, музыки и пляски; 2) как развитие освободившейся от пляски, но удержавшей музыкальный элемент в напеве и аккомпанементе песни; 3) как развитие обособившейся также и от слова чистой музыки, и, наконец, 4) как зарождение и развитие чуждого всякой хорее неразмеренного слова — так называемой прозы. Но отсутствие памятников для хореи вплоть до VII века до Р.Х. заставляет нас начать со второго направления — с окрыленной напевом песни, которая именно для того, чтобы не превратиться обратно в хорею, должна была быть объективной, то есть былевой. Другими словами — должна была быть эпосом.
А. Время художественного развития наступило тогда, когда зародилось сословие носителей и былевого предания, и технических приемов его обработки; это были певцы, аэды, «вещие» люди ранней античности вплоть до 600 года до Р.Х., когда их в этой роли сменили философы. Они состояли в цехе ремесленников и называли себя охотно гомеридами, то есть сладителями (от homo-«co» и глагольного корня ar-«лад»); это наименование при естественной семейной преемственности ремесла должно было неизбежно вызвать представление о родоначальнике Гомере, так же как родственное наименование ваятелей-дедалидов (выше, с.94) — представление о мифическом родоначальнике Дедале. Предание, носителями которого были гомериды, обнимало, прежде всего, важнейшие для мыслящего человека вопросы — космогойический и эсхатологический. В первом темой певцов были религия Зевса и его попытка через созданного им богочеловека (в ахейском изводе — Ахилла) избежать гибели (выше, с.53); во втором — прохождение героя (Одиссея) через все царства многообразной смерти. Колониальное движение с его войнами и странствованиями повело к очеловечению обоих мифов и к их слиянию с событиями дня: из космогонического мифа возник эпос о троянской войне, из эсхатологического — эпос о возврате Одиссея; отпавшая религиозная идея была мало-помалу заменена нравственной, особенно сильной в первом эпосе, в «Илиаде».
Оскорбленный верховным вождем Агамемноном, Ахилл пылает «гневом»; он отказывает своим соратникам в своей помощи, удаляется от общего дела — его желание исполняется, оставленные им ахейцы терпят поражение, но в происходящей без него битве гибнет его лучший и любимейший друг, Патрокл. Тогда его гнев от своих обращается против врагов: он мирится с Агамемноном и требует скорейшей битвы, в которой он мог бы сразиться с убийцей своего друга, Гектором, сыном троянского царя Приама. Вторично его желание исполняется: он мстит за Патрокла, убивает Гектора — и вторично познает тщету своего гнева, когда ночью в его палатку является сломленный горем старый Приам и, целуя его руку, умоляет его отдать ему для честных похорон тело его убитого сына. Такова наука «песни о гневе Ахилла»:
 Положение женщины находилось в зависимости от социальных условий, которые устанавливали неизбежные различия там, где равный для всех демократический закон никаких исключений не желал. На низшей ступени гражданской иерархии мы находим торговок, трактирщиц и т.д., вполне самостоятельно занимающихся своим промыслом; зато они и бывали наделены таким решительным характером, который при случае мог обратить в бегство любого мужчину. На высшей ступени мы находим жрицу, также самостоятельную представительницу общины перед своей богиней, окруженную всем почетом, которого требовала религия; такова была та Феано, жрица Деметры, которая, когда афинский народ после измены Алкивиада приказал всем жрецам и жрицам проклясть его от имени богов, одна отказалась исполнить это постановление, сказав: «Я — жрица молитв, а не проклятий». Но на всех посредствующих ступенях достаточного крестьянства и городских сословий мы видим лишь жену-хозяйку, делящую труд и честь со своим мужем-хозяином согласно вышеустановленному (с.24) принципу. При сложности женской работы участие незамужних или овдовевших золовок было для хозяйки только желанным; «женского вопроса» в его экономической форме Афины поэтому не знали. В силу той же сложности хозяйке для ее работ было отведено особое помещение во внутренней части дома (gynaikonitis); на улице она показывалась только в сопровождении рабыни. Все же ее не держали взаперти: женские праздники давали повод к богатой общественной жизни, и те, кто ссылается на знаменитые слова Перикла: «великая честь той женщине, о которой менее всего идет слава среди мужчин в смысле похвалы или порицания» (Фук. II, 45, 2), не должны забывать значения этой оговорки «среди мужчин». Кружковая жизнь аристократической эпохи, распространенная на весь состав граждан, создала для женщины особый мир, удовлетворявший ее религиозные, общественные и художественные запросы в широких размерах; но он держался на религии и со временем пал вместе с ней. А впрочем, жена-гражданка и в своей семейной жизни находилась под охраной закона: и ее особа, и ее приданое были неприкосновенны.
В воспитании детей коллективное начало, заложенное еще в предыдущую эпоху, было распространено на все гражданское население; обучение было всеобщим, и в эпоху пелопоннесской войны неграмотных в Афинах не было. Мальчики под надзором своих «педагогов» (то есть дядек, почтенных рабов) шли в школу грамматиста, кифариста и в палестру. В первой они под благословением Музы, статуя которой стояла у стены, учились читать, писать и считать (на то у них были восковые таблички), но, главным образом, Гомеру; язык последнего был очень не похож на аттический тех времен, но для всех греков он имел значение как бы церковного языка, так как на нем и Дельфы издавали свои оракулы. Его учились понимать и крупными отрывками заучивали наизусть. За Гомером шли Гесиод и Феогнид ради их нравоучительных сентенций, и Солон ради его значения для Афин, а также и басни Эзопа. У кифариста учились играть на лире, незнакомство с которой считалось признаком необразованности, и исполнять под ее аккомпанемент как староафинские гимны в честь Паллады, так и поэмы Стесихора и Симонида. Палестра, наконец, обучала мальчика под надзором Гермеса бегу, прыжку, борьбе, метанию диска и т.д.; а так как она требовала для своих упражнений не скромной комнаты, а широкого двора с колоннадами, то туда охотно приходили и родители посмотреть на своих сыновей, да и другие лица. Там же охотнее всего и философы вроде Сократа находили свою аудиторию. К этим трем средствам воспитания следует прибавить и хорею, к которой они готовили все три; образованные люди, по Аристофану, — это те, которые «воспитаны в палестрах, в хороводах и в мусическом искусстве» (Ар. Ляг. 729).
Девочки учились у матери, и эта наука была довольно сложна: кроме хозяйства в нее входила и вся домашняя медицина, так как уход не только за детьми, но и за челядью обоего пола лежал на обязанности хозяйки. Их второй воспитательницей была опять-таки хорея, которая и их наравне с отроками требовала к службе родным богам; красивый образ священнодействующей афинской девушки нам сохранил фриз Парфенона и «портик Кариатид» в храме Арехфея (ниже, § 12). Завершалось ее образование мужем, который по греческому обычаю был значительно старше своей жены.
Но к этому низшему образованию в нашу эпоху прибавляются уже элементы высшего. Сюда относится, во-первых, так называемая эфебия — совместное обучение, физическое и духовное, юношей шестнадцати лет и старше под надзором постановленных государством по народному выбору «софронистов» и «косметов»; а затем и вольное прохождение курса высших наук (математических, естественных и особенно этико-политических) у философов (софистов, Платона, Антисфена, Аристотеля) и риторов (Исократа). Об этом будет сказано ниже (§ 11).
Переходя, затем, к рабам, мы должны прежде всего заметить, что значение рабствакак устоя общества в нашу эпоху еще не велико: своей главной массой это общество держится еще на свободном труде, как крестьянском, так и городском. Рабов мы находим, во-первых, как челядь в домах, как зажиточных, так и бедных, и тут их положение было очень сносным; в работе дома они участвовали наравне с хозяевами, составляя с ними как бы одну большую семью, объединенную узами преджертвенного окропления. Много и других обычаев свидетельствовало о гуманности отношений к рабам: новоприобщенных символически осыпали лакомствами; никто не запрещал им сидеть в присутствии господ; на празднике «Кроний» (ниже, § 15) их угощали, как равных. Радости и горести дома ближайшим образом затрагивали и их, и они по мере своей личной почтенности участвовали в воспитании своих «питомцев» (trophimoi), как они называли своих барчуков. Произвол же господ был обуздан и законом, и еще более — обычаем; ничего подобного ужасам крепостного права или американского рабовладения Афины нашей эпохи не представляли.
Во-вторых, существовала и категория государственных рабов, или вернее, ряд категорий. Характерно для Афин, что не только палач, но и вся полиция была из рабов; специально в полицейские набирались рабы-скифы, доставляемые в избытке колониями северного Черноморья. Это была усердная компания, очень забавлявшая афинян своими заморскими шашками (sybinai) и своим коверканием греческих слов, но, видно, добросовестно относившаяся к своему делу, коль скоро она дала возникнуть легенде о безупречной справедливости скифов. Туго жилось, вероятно, лишь тем рабам (государственным и частным), которые работали в лаврийских серебряных рудниках; но их участь покрыта мраком еще более густым, чем тот подземный, в котором им приходилось проводить свою нерадостную жизнь.
§ 4. Общественный быт. Афины насчитывали от двадцати до тридцати тысяч взрослых граждан, что предполагает, если принять во внимание соответственное число женщин, детей, поселенцев и рабов, население в двести-триста тысяч человек, то есть, по нынешним понятиям, столицу средней руки. И в таком-то большом городе, тем не менее, все граждане знали друг друга в лицо, весь город был как бы одним большим домом. Достигалось это сближение и обширным гостеприимством, и связями внутри родов и фил, и общим воспитанием детей, и выборной системой государственной жизни, и праздниками с их развитой агонистикой и, пожалуй, более всего — страстью афинян к беседе, к тому, чтобы отразить в себе каждого встречного и себя отразить в нем. При малой распространенности книг и полном отсутствии газет беседа была единственным средством учиться и развивать себя; характерно, что нашему слову «любознательный» соответствует по-гречески в нашу эпоху philekoos, то есть «любитель слушать».
Казалось бы, что при этом знакомстве всех со всеми единообразный обычай должен был бы тяготеть надо всеми, укладывая каждую индивидуальность в определенные рамки, как это бывало в «обществах» новой Европы. В действительности же дело обстояло как раз наоборот. «Ту свободу, в которой мы видим печать нашей государственной жизни, мы проявляем также и в наших ежедневных общественных сношениях, чуждаясь в них всякой лишней подозрительности. Мы без злобы предоставляем нашему ближнему устраивать свою жизнь согласно своим наклонностям; мало того, мы не позволяем себе даже выражением лица выказывать ему свое неодобрение — способом, хотя и безобидным, но все же неприятным», — говорит Перикл в своей надгробной речи (Фук. II, 37). Итак, свобода не только политическая, но и общественная — вот характерная черта афинской демократии. Только благодаря ей она могла стать той умственной лабораторией, в которой вырабатывались духовные ценности не для одних только Афин и не для одной только Эллады, «школой» которой тот же Перикл называл свой родной город, но и для всего человечества.
Демократия унаследовала выставленные аристократией идеалы кружковой жизни и сделала их доступными всем гражданам; но имущественное неравенство было причиной различного их осуществления на различных ступенях социальной лестницы. Только богатые люди могли делать свои дома центрами общественной жизни; правда, снаружи и эти дома мало чем отличались от соседних — только в IV веке до Р.Х. обстоятельства в этом отношении изменились, на что с горечью указывает Демосфен; все же внутри они просторностью своих зал и окруженных колоннадами дворов («перистилей») давали хозяевам возможность принимать многих гостей. И вот вокруг особенно богатых или хлебосольных из них группируются компании друзей (так называемые гетерии). Политика в критические времена неминуемо налагала свою печать на их беседы, и не один политический переворот был задуман в лоне этих гетерий; и все же демократия не считала себя вправе их преследовать. Еще большим блеском окружали радушных хозяев гости из прочей Эллады; недаром гостеприимство было страстью грека.
Бедные люди не могли себе позволять этой роскоши; зато они любили образовывать кружки («фиасы») с определенным уставом и членскими взносами и затем целым кружком снимать помещение для общих бесед и попоек. Но эти кружки далеко не поглощали афинянина всего; мы видели, весь город был для него как бы большим домом, а перистилем этого дома была окруженная колоннадами агора (городская площадь). Это было настоящим местом для встреч и разговоров, настоящим центром общественной жизни. Другим была набережная Пирея, этой «самой гостеприимной гавани в мире», как ее называет Еврипид. Правда, «спуститься» туда по солнцепеку было не так легко — расстояние было в десять верст. И все же афиняне делали это очень охотно: попутно можно было освежиться кружкой вина в тени чинары под неугомонное пение кузнечиков, а там, в Пирее, было так интересно полюбоваться на свои «красивые триеры», купить что-нибудь из первых рук и в особенности — узнать от приезжих какую-нибудь новость, которую затем можно было рассказать друзьям на агоре или в кружке.
Все это были, впрочем, будни. Разгаром общественной жизни Афин были праздники; но о праздниках у нас речь впереди (§ 15).
Положение женщины находилось в зависимости от социальных условий, которые устанавливали неизбежные различия там, где равный для всех демократический закон никаких исключений не желал. На низшей ступени гражданской иерархии мы находим торговок, трактирщиц и т.д., вполне самостоятельно занимающихся своим промыслом; зато они и бывали наделены таким решительным характером, который при случае мог обратить в бегство любого мужчину. На высшей ступени мы находим жрицу, также самостоятельную представительницу общины перед своей богиней, окруженную всем почетом, которого требовала религия; такова была та Феано, жрица Деметры, которая, когда афинский народ после измены Алкивиада приказал всем жрецам и жрицам проклясть его от имени богов, одна отказалась исполнить это постановление, сказав: «Я — жрица молитв, а не проклятий». Но на всех посредствующих ступенях достаточного крестьянства и городских сословий мы видим лишь жену-хозяйку, делящую труд и честь со своим мужем-хозяином согласно вышеустановленному (с.24) принципу. При сложности женской работы участие незамужних или овдовевших золовок было для хозяйки только желанным; «женского вопроса» в его экономической форме Афины поэтому не знали. В силу той же сложности хозяйке для ее работ было отведено особое помещение во внутренней части дома (gynaikonitis); на улице она показывалась только в сопровождении рабыни. Все же ее не держали взаперти: женские праздники давали повод к богатой общественной жизни, и те, кто ссылается на знаменитые слова Перикла: «великая честь той женщине, о которой менее всего идет слава среди мужчин в смысле похвалы или порицания» (Фук. II, 45, 2), не должны забывать значения этой оговорки «среди мужчин». Кружковая жизнь аристократической эпохи, распространенная на весь состав граждан, создала для женщины особый мир, удовлетворявший ее религиозные, общественные и художественные запросы в широких размерах; но он держался на религии и со временем пал вместе с ней. А впрочем, жена-гражданка и в своей семейной жизни находилась под охраной закона: и ее особа, и ее приданое были неприкосновенны.
В воспитании детей коллективное начало, заложенное еще в предыдущую эпоху, было распространено на все гражданское население; обучение было всеобщим, и в эпоху пелопоннесской войны неграмотных в Афинах не было. Мальчики под надзором своих «педагогов» (то есть дядек, почтенных рабов) шли в школу грамматиста, кифариста и в палестру. В первой они под благословением Музы, статуя которой стояла у стены, учились читать, писать и считать (на то у них были восковые таблички), но, главным образом, Гомеру; язык последнего был очень не похож на аттический тех времен, но для всех греков он имел значение как бы церковного языка, так как на нем и Дельфы издавали свои оракулы. Его учились понимать и крупными отрывками заучивали наизусть. За Гомером шли Гесиод и Феогнид ради их нравоучительных сентенций, и Солон ради его значения для Афин, а также и басни Эзопа. У кифариста учились играть на лире, незнакомство с которой считалось признаком необразованности, и исполнять под ее аккомпанемент как староафинские гимны в честь Паллады, так и поэмы Стесихора и Симонида. Палестра, наконец, обучала мальчика под надзором Гермеса бегу, прыжку, борьбе, метанию диска и т.д.; а так как она требовала для своих упражнений не скромной комнаты, а широкого двора с колоннадами, то туда охотно приходили и родители посмотреть на своих сыновей, да и другие лица. Там же охотнее всего и философы вроде Сократа находили свою аудиторию. К этим трем средствам воспитания следует прибавить и хорею, к которой они готовили все три; образованные люди, по Аристофану, — это те, которые «воспитаны в палестрах, в хороводах и в мусическом искусстве» (Ар. Ляг. 729).
Девочки учились у матери, и эта наука была довольно сложна: кроме хозяйства в нее входила и вся домашняя медицина, так как уход не только за детьми, но и за челядью обоего пола лежал на обязанности хозяйки. Их второй воспитательницей была опять-таки хорея, которая и их наравне с отроками требовала к службе родным богам; красивый образ священнодействующей афинской девушки нам сохранил фриз Парфенона и «портик Кариатид» в храме Арехфея (ниже, § 12). Завершалось ее образование мужем, который по греческому обычаю был значительно старше своей жены.
Но к этому низшему образованию в нашу эпоху прибавляются уже элементы высшего. Сюда относится, во-первых, так называемая эфебия — совместное обучение, физическое и духовное, юношей шестнадцати лет и старше под надзором постановленных государством по народному выбору «софронистов» и «косметов»; а затем и вольное прохождение курса высших наук (математических, естественных и особенно этико-политических) у философов (софистов, Платона, Антисфена, Аристотеля) и риторов (Исократа). Об этом будет сказано ниже (§ 11).
Переходя, затем, к рабам, мы должны прежде всего заметить, что значение рабствакак устоя общества в нашу эпоху еще не велико: своей главной массой это общество держится еще на свободном труде, как крестьянском, так и городском. Рабов мы находим, во-первых, как челядь в домах, как зажиточных, так и бедных, и тут их положение было очень сносным; в работе дома они участвовали наравне с хозяевами, составляя с ними как бы одну большую семью, объединенную узами преджертвенного окропления. Много и других обычаев свидетельствовало о гуманности отношений к рабам: новоприобщенных символически осыпали лакомствами; никто не запрещал им сидеть в присутствии господ; на празднике «Кроний» (ниже, § 15) их угощали, как равных. Радости и горести дома ближайшим образом затрагивали и их, и они по мере своей личной почтенности участвовали в воспитании своих «питомцев» (trophimoi), как они называли своих барчуков. Произвол же господ был обуздан и законом, и еще более — обычаем; ничего подобного ужасам крепостного права или американского рабовладения Афины нашей эпохи не представляли.
Во-вторых, существовала и категория государственных рабов, или вернее, ряд категорий. Характерно для Афин, что не только палач, но и вся полиция была из рабов; специально в полицейские набирались рабы-скифы, доставляемые в избытке колониями северного Черноморья. Это была усердная компания, очень забавлявшая афинян своими заморскими шашками (sybinai) и своим коверканием греческих слов, но, видно, добросовестно относившаяся к своему делу, коль скоро она дала возникнуть легенде о безупречной справедливости скифов. Туго жилось, вероятно, лишь тем рабам (государственным и частным), которые работали в лаврийских серебряных рудниках; но их участь покрыта мраком еще более густым, чем тот подземный, в котором им приходилось проводить свою нерадостную жизнь.
§ 4. Общественный быт. Афины насчитывали от двадцати до тридцати тысяч взрослых граждан, что предполагает, если принять во внимание соответственное число женщин, детей, поселенцев и рабов, население в двести-триста тысяч человек, то есть, по нынешним понятиям, столицу средней руки. И в таком-то большом городе, тем не менее, все граждане знали друг друга в лицо, весь город был как бы одним большим домом. Достигалось это сближение и обширным гостеприимством, и связями внутри родов и фил, и общим воспитанием детей, и выборной системой государственной жизни, и праздниками с их развитой агонистикой и, пожалуй, более всего — страстью афинян к беседе, к тому, чтобы отразить в себе каждого встречного и себя отразить в нем. При малой распространенности книг и полном отсутствии газет беседа была единственным средством учиться и развивать себя; характерно, что нашему слову «любознательный» соответствует по-гречески в нашу эпоху philekoos, то есть «любитель слушать».
Казалось бы, что при этом знакомстве всех со всеми единообразный обычай должен был бы тяготеть надо всеми, укладывая каждую индивидуальность в определенные рамки, как это бывало в «обществах» новой Европы. В действительности же дело обстояло как раз наоборот. «Ту свободу, в которой мы видим печать нашей государственной жизни, мы проявляем также и в наших ежедневных общественных сношениях, чуждаясь в них всякой лишней подозрительности. Мы без злобы предоставляем нашему ближнему устраивать свою жизнь согласно своим наклонностям; мало того, мы не позволяем себе даже выражением лица выказывать ему свое неодобрение — способом, хотя и безобидным, но все же неприятным», — говорит Перикл в своей надгробной речи (Фук. II, 37). Итак, свобода не только политическая, но и общественная — вот характерная черта афинской демократии. Только благодаря ей она могла стать той умственной лабораторией, в которой вырабатывались духовные ценности не для одних только Афин и не для одной только Эллады, «школой» которой тот же Перикл называл свой родной город, но и для всего человечества.
Демократия унаследовала выставленные аристократией идеалы кружковой жизни и сделала их доступными всем гражданам; но имущественное неравенство было причиной различного их осуществления на различных ступенях социальной лестницы. Только богатые люди могли делать свои дома центрами общественной жизни; правда, снаружи и эти дома мало чем отличались от соседних — только в IV веке до Р.Х. обстоятельства в этом отношении изменились, на что с горечью указывает Демосфен; все же внутри они просторностью своих зал и окруженных колоннадами дворов («перистилей») давали хозяевам возможность принимать многих гостей. И вот вокруг особенно богатых или хлебосольных из них группируются компании друзей (так называемые гетерии). Политика в критические времена неминуемо налагала свою печать на их беседы, и не один политический переворот был задуман в лоне этих гетерий; и все же демократия не считала себя вправе их преследовать. Еще большим блеском окружали радушных хозяев гости из прочей Эллады; недаром гостеприимство было страстью грека.
Бедные люди не могли себе позволять этой роскоши; зато они любили образовывать кружки («фиасы») с определенным уставом и членскими взносами и затем целым кружком снимать помещение для общих бесед и попоек. Но эти кружки далеко не поглощали афинянина всего; мы видели, весь город был для него как бы большим домом, а перистилем этого дома была окруженная колоннадами агора (городская площадь). Это было настоящим местом для встреч и разговоров, настоящим центром общественной жизни. Другим была набережная Пирея, этой «самой гостеприимной гавани в мире», как ее называет Еврипид. Правда, «спуститься» туда по солнцепеку было не так легко — расстояние было в десять верст. И все же афиняне делали это очень охотно: попутно можно было освежиться кружкой вина в тени чинары под неугомонное пение кузнечиков, а там, в Пирее, было так интересно полюбоваться на свои «красивые триеры», купить что-нибудь из первых рук и в особенности — узнать от приезжих какую-нибудь новость, которую затем можно было рассказать друзьям на агоре или в кружке.
Все это были, впрочем, будни. Разгаром общественной жизни Афин были праздники; но о праздниках у нас речь впереди (§ 15).
 Интересно окинуть взором, в сколь различных формах общественность в те времена налагала свою руку на гражданина. Прежде всего, его семья — не только жена и дети, воспитателем которых он был, но и челядь, общение с которой было гораздо живее и ближе, чем теперь между господами и прислугой. Затем родственники, которые привлекались по поводу всех семейных событий: рождался ребенок — на девятый день приглашалась родня на праздник «амфидромий», то есть торжественного обнесения новорожденного отцом вокруг домашнего алтаря, а в ближайшие Апатурии (§ 15) — и вся фратрия для еще более торжественного занесения его в гражданские списки; посвящался отрок в Элевсинские таинства — приглашение; наступало время избрания им поприща — приглашение; о свадьбе и похоронах и говорить нечего. Затем — члены дема и филы для всякого рода предвыборных и выборных дел, как сельских, так и государственных. Затем — товарищи по ремеслу: в древних Афинах, как и в средневековой Европе, а на Востоке и ныне, ремесленники одной профессии селились вместе и имели свои цеховые собрания и своего рода синдикаты. И наконец, и слово «согражданин» не было тогда еще пустым звуком, но налагало очень важные и подчас тяжелые обязательства. Скифские полицейские существовали буквально только для того, чтобы «тащить» (helkein) ослушников по приказанию властей; там, где требовался нравственный авторитет для пресечения обиды, гражданин взывал к согражданам — и никто не считал себя вправе проходить мимо. Когда старика Стрепсиада бьет его развращенный сын, он кричит не «караул», а «помогите, соседи, родственники, земляки!» (Ар. Обл. 1022). На каждой прогулке гражданина мог остановить обижаемый с требованием быть свидетелем или понятым, а если он был из числа почтенных — то и третейским судьей. Впрочем, почтенные имели достаточно судебных дел как представители своих клиентов, будь то опекаемые, или женщины, или поселенцы (метеки), и нечего говорить, что все эти услуги были даровые.
Но откуда же, можно спросить, брали афиняне время на все это? Объяснением служит их крайняя неприхотливость в отношении пищи, одежды и обстановки: пища была преимущественно растительная — хлеб и приправы (оливки, порей и т.д.); мясо предполагало жертвоприношение и, следовательно, угощение. Одежда, возбуждающая ныне зависть скульпторов, состояла из двух кусков шерстяной материи, хитона и гиматия. Обстановка подавно была несложна; вообще лозунгом афинян было приводимое Периклом дивное philokalumen met'euteleias («мы любим красоту, соединенную с дешевизной») — в противоположность тяжелой восточной пышности. Можно быть уверенным, что, знай мы в цифрах богатство людей, которые тогда считались наиболее состоятельными, — эти цифры своей скромностью вызвали бы у нас улыбку. А при этих условиях и работа была не особенно обременительна; нормальным был шестичасовой рабочий день. Грек остроумно вычитал это правило на своих солнечных часах: следующие за первыми шестью часами (от А до F) буквы давали слово ZHΘI. Отсюда красивая эпиграмма:
Интересно окинуть взором, в сколь различных формах общественность в те времена налагала свою руку на гражданина. Прежде всего, его семья — не только жена и дети, воспитателем которых он был, но и челядь, общение с которой было гораздо живее и ближе, чем теперь между господами и прислугой. Затем родственники, которые привлекались по поводу всех семейных событий: рождался ребенок — на девятый день приглашалась родня на праздник «амфидромий», то есть торжественного обнесения новорожденного отцом вокруг домашнего алтаря, а в ближайшие Апатурии (§ 15) — и вся фратрия для еще более торжественного занесения его в гражданские списки; посвящался отрок в Элевсинские таинства — приглашение; наступало время избрания им поприща — приглашение; о свадьбе и похоронах и говорить нечего. Затем — члены дема и филы для всякого рода предвыборных и выборных дел, как сельских, так и государственных. Затем — товарищи по ремеслу: в древних Афинах, как и в средневековой Европе, а на Востоке и ныне, ремесленники одной профессии селились вместе и имели свои цеховые собрания и своего рода синдикаты. И наконец, и слово «согражданин» не было тогда еще пустым звуком, но налагало очень важные и подчас тяжелые обязательства. Скифские полицейские существовали буквально только для того, чтобы «тащить» (helkein) ослушников по приказанию властей; там, где требовался нравственный авторитет для пресечения обиды, гражданин взывал к согражданам — и никто не считал себя вправе проходить мимо. Когда старика Стрепсиада бьет его развращенный сын, он кричит не «караул», а «помогите, соседи, родственники, земляки!» (Ар. Обл. 1022). На каждой прогулке гражданина мог остановить обижаемый с требованием быть свидетелем или понятым, а если он был из числа почтенных — то и третейским судьей. Впрочем, почтенные имели достаточно судебных дел как представители своих клиентов, будь то опекаемые, или женщины, или поселенцы (метеки), и нечего говорить, что все эти услуги были даровые.
Но откуда же, можно спросить, брали афиняне время на все это? Объяснением служит их крайняя неприхотливость в отношении пищи, одежды и обстановки: пища была преимущественно растительная — хлеб и приправы (оливки, порей и т.д.); мясо предполагало жертвоприношение и, следовательно, угощение. Одежда, возбуждающая ныне зависть скульпторов, состояла из двух кусков шерстяной материи, хитона и гиматия. Обстановка подавно была несложна; вообще лозунгом афинян было приводимое Периклом дивное philokalumen met'euteleias («мы любим красоту, соединенную с дешевизной») — в противоположность тяжелой восточной пышности. Можно быть уверенным, что, знай мы в цифрах богатство людей, которые тогда считались наиболее состоятельными, — эти цифры своей скромностью вызвали бы у нас улыбку. А при этих условиях и работа была не особенно обременительна; нормальным был шестичасовой рабочий день. Грек остроумно вычитал это правило на своих солнечных часах: следующие за первыми шестью часами (от А до F) буквы давали слово ZHΘI. Отсюда красивая эпиграмма:
 Главными магистратскими коллегиями были следующие:
1. Коллегия архонтов; их было с давних пор девять, и Клисфен должен был прибавить к ним секретаря, чтобы привести их число в соответствие с числом фил; выбирались они по жребию. Эта возникшая из царской власти коллегия потеряла свое прежнее значение, сохранив главным образом инструкцию процессов и председательство при их разбирательстве в гелиэе, притом архонт-царь — в религиозных делах, архонт в тесном смысле, по имени которого назывался год, — в семейных, полемарх — в делах метеков, фесмофеты — в остальных.
2. Коллегия стратегов, числом десять, избиралась путем хиротонии. Она унаследовала то значение, которое потеряла архонтская. Из десяти стратегов часть отправлялась в поход, другие оставались в Афинах, чтобы здесь делать необходимые для успешного хода войны распоряжения. Так как это понятие было очень растяжимо, то компетенция стратегов была очень велика. Конечно, фактически наиболее способный в коллегии управлял всем делом; Перикл, например, пятнадцать лет подряд избирался стратегом, и в этой должности управлял всем государством, «и была это на словах демократия, на деле же единовластие лучшего гражданина» (Фук. II, 65). Таков был внешний облик той афинской демократии, которая, хотя и не без сотрясений, просуществовала в течение двух столетий.
Согласно сказанному выше (с.77), это была демократия плебисцитарная; таковая, как мы тоже уже убедились, была возможна только при известной ограниченности территории. Для Афин она была естественна, так как и сунийский, и марафонский поселянин мог легко устроить свои дела так, чтобы быть в Афинах в сравнительно редкие вечевые дни. Некоторое неудобство представляли уже клерухии, но не непреоборимое: обыкновенно гражданин их навещал только изредка, оставляя на прочее время вместо себя управляющего. Но что случилось бы с демократической идеей, если бы Афинам удалось политически объединить значительную часть Греции? Такую возможность им открывал только знаменитый морской союз, не столько второй, сколько первый (478-404 годы до Р.Х.), и поставленный вопрос переводит наше внимание с почвы государственного на почву междуэллинского быта.
§ 8. Междуэллинский быт. То новое, что принесла наша эпоха в области междуэллинских отношений, заключается, главным образом, в основании Делосского союза как единственной серьезной попытке объединить не только внешним, но и внутренним образом значительную часть эллинских общин под главенством одной передовой державы, каковой были Афины эпохи Фемистокла и Аристида. Первоначальной целью союза была оборона побережных и островных эллинов против возможного возобновления персидского погрома. Так как самым надежным средством такой обороны был сильный и единый флот, то первоначальные мероприятия творцов союза были направлены на создание такового из пропорциональных контингентов входящих в союз общин, причем деньги на оборудование и операции этого флота естественно составили союзную казну, которую предполагалось хранить в храме Аполлона на острове Делосе; отсюда и само название Делосского союза. Но при практическом осуществлении этой меры оказалось, что она была сопряжена со слишком большими неудобствами для тех общин, которые вследствие малочисленности своего населения могли поставить лишь незначительное число кораблей, а то и часть такового. Такие общины предпочли откупиться деньгами от постановки приходящегося на их долю контингента. Так с самого начала общины союза распались на такие, которые сами участвовали в деле совместной обороны, и такие, которые поручили оборону собственной территории другим, уплатив им соответственную сумму, и этим фактически стали денницами центральной общины. Первые стали называться автономными, вторые — подчиненными (hypekooi) союзниками.
Дальнейшее развитие союза неизбежно повело к тому, что последняя категория стала постепенно увеличиваться за счет первой. Прежде всего, при растущем благоденствии союзников им самим стало выгоднее откупиться данью от повинности крови, а затем, те, которые своими изменническими попытками выйти из союза доказали свое враждебное к нему отношение, были естественно лишаемы своего флота и насильственно переводимы в категорию подчиненных союзников. Таким образом, к эпохе Перикла в союзе были только три автономных члена — Самос, Лесбос и Хиос. А так как контингенты автономных союзников не были увеличиваемы в соответствии с убывающими подчиненных, то та повинность крови, от которой освобождались подчиненные, ложилась все сильнее и сильнее на центральную общину, то есть на Афины.
Параллельно с этим развитием шла все большая и большая централизация управления. Афины присвоили себе право самовольно распоряжаться операциями общего флота. Общая касса мало-помалу из союзной превратилась в афинскую, с ее перенесением из Делоса на афинский Акрополь в 454 году до Р.Х. по почину Перикла. Неблагонадежность отдельных общин часто вела к тому, что афиняне обеспечивали себе их преданность более или менее сильными гарнизонами или же отправляли к ним особых чиновников (episkopoi) с правом вмешательства в те их внутренние дела, которые так или иначе затрагивали интересы либо всего союза, либо руководящей общины. Независимо от этого афиняне всюду старались ввести демократическое правление, справедливо рассчитывая, что таковое, будучи им обязано своим возникновением, станет оплотом афинофильской политики данной общины. Наконец, было постановлено, чтобы крупные уголовные процессы, возникавшие в союзных общинах, разбирались в Афинах перед судом гелиастов, чем было завершено также и правовое объединение союза.
Никогда ни до, ни после не было создаваемо на греческой почве такой сплоченной междуэллинской организации. Все же параллельно с ее централизацией шло и недовольство составляющих ее общин, которые не могли примириться с потерей самого необходимого для греческой общины элемента — автономии. Эта потеря могла быть возмещена только предоставлением им участия во власти, то есть превращением Делосского союза в своего рода Великую Аттику с общим для всех центральным управляющим органом в Афинах; осуществление же этой идеи, при территориальной разрозненности составляющих общин, было возможно только подусловием перехода к представительной системе, то есть под условием замены плебисцитарной демократии — парламентарной.
История освободила Афины от необходимости разрешить этот неудоборазрешимый для античного человека вопрос: после поражения афинского флота при Эгоспотаме (405 год до Р.Х.) морской союз был окончательно распущен, и так велико было недовольство составляющих общин централизующей политикой Афин, что его разрушитель Лисандр был всюду приветствуем как освободитель.
Тем не менее, это продолжавшееся три четверти века объединение большинства культурных общин Эллады под главенством Афин принесло свои плоды если не в области политики, то, во всяком случае, в области культуры. До заключения союза аттический говор был одним из многих маловажных греческих диалектов, между тем как литературным языком был ионийский; ко времени его распущения аттический язык был общегреческим — отдельные области сохранили свои местные говоры, но только для внутреннего, а не для междуэллинского употребления. И когда царь Филипп обращался письменно к греческим общинам, он составлял свои грамоты на аттическом языке. Этим был предначертан также и дальнейший путь развития эллинизма. То войско, с помощью которого Александр Великий победил Восток, менее всего состояло из аттических элементов; но язык и культура, которые он распространил до Инда и до порогов Нила, были аттическими, и этот неотъемлемый аттический характер вселенского эллинизма был плодом многолетнего афинского главенства в той Элладе, которая объединилась в Делосский союз.
§ 9. Международный быт. Международные отношения в эллинском мире нашей эпохи имеют в своем основании антагонизм понятий «эллин» и «варвар», причем слово «варвар», обозначая всякого, говорящего на непонятном языке, то есть всякого неэллина, само по себе не имеет никакого презрительного оттенка. Политические расчеты могут повести к союзу эллинов с варварами против других эллинов: афиняне рассчитывали на дружбу фракийского государства в разгар пелопоннесской войны, и Спарта сочла позволительным для себя принять золото от персидского сатрапа в видах уничтожения афинского влияния на востоке. Но тем не менее культурная разница между эллинами и варварами сознавалась. В годы самого резкого взаимного отчуждения спартанцы имели своего «проксена» в Афинах так же, как и афиняне в Спарте; но персидскому сановнику, который бы забрел в Афины, пришлось бы обратиться к заступничеству пританов (выше, с.143), то есть к государственной власти. И когда афиняне справляли праздник своей богини-покровительницы, на него приглашались «феоры» из союзных, а в годы мира и из всех вообще эллинских государств, но, конечно, не из Персии, Фракии и Египта.
Тем не менее, отношения греков к «варварам» были лишены всякой принципиальной враждебности. Любознательный Геродот с интересом присматривается к нравам и памятникам варварских народов, которые он посещает, и скорее бывает склонен незаслуженно признать превосходство варварского обычая перед эллинским, чем отнестись к нему с незаслуженным пренебрежением. Импонирующая древность египетской и вавилонской культур естественно повела к тому, что эллин почувствовал себя учеником того и другого народа, даже в таких областях, в которых самобытность эллинской культуры для нас несомненна. Ни племенные, ни религиозные различия не вызывали его насмешки или высокомерия; что касается специально этих последних, то врожденная его терпимость и самопонятное для него требование, что гость чужой страны должен воздать честь ее богам, устраняли в зародыше всякую возможность для него изуверства.
Только в одной области эллин чувствовал себя неизмеримо выше варваров, причем, правда, под последними он, за полным почти незнакомством с иноплеменными народами Запада, разумел подданных персидского царя: это была оценка личной свободы. Видя, с каким смирением восточный человек переносит иго царя, признавая в последнем уже не человека, а бога; знакомясь со столь чуждой для него организацией восточного общества, в котором всякий подчиненный считался рабом своего начальника; поражаясь, с одной стороны, унизительными формами поклонения подданных, с другой — бесчеловечным произволом правителей над личностью подчиненных, — он, естественно, приходил к убеждению, что для варвара рабство такая же природная форма общежития, как для эллина — свобода. Если поэтому Аристотель (Арист. Пол. I, 1254в), вразрез со многими мыслителями и поэтами своего народа, оправдывает рабство ссылкой на то, что есть люди, рожденные для него и вне его рамок неспособные к полезной деятельности, то в этом следует признать лишь эмпирический вывод человека, не склонного к иллюзиям и одинаково трезвыми глазами взирающего на характерные особенности обоих миров, с которыми его познакомила жизнь.
Той принципиальной благожелательности, с которой эллины относились к варварам, соответствовала и восприимчивость варваров к благам греческой культуры. Если не считать египтян, замкнувшихся в своей культурной отчужденности, но при этом дружелюбно относившихся к грекам, то прочий варварский мир в нашу эпоху испытывает все возрастающее влияние и обаяние эллинизма. Ближайшие к Ионии области — Лидия, Фригия, Кария — становятся уже почти эллинскими. На Кипре древнефиникийская культура стушевалась перед эллинской, и сам остров под управлением эллинофильских царей стал своего рода эльдорадо для тех эллинов, которым на родине было тесно. Вообще перепроизводство культурных людей в собственно Греции ведет к тому, что они охотно ищут и находят сбыт своим способностям в варварском мире; это касается прежде всего медиков и художников, затем торговцев, класс которых в Греции обладал гораздо большей подвижностью и предприимчивостью, чем на Востоке, и, наконец, наемников, дружины которых охотнее сражались в варварских странах против варваров, чем у себя против своих. Так-то эллинская культура исподволь, но решительно подчиняла себе варварский мир в ожидании того момента, когда гений царя-завоевателя окончательно утвердит ее господство над ним.
§ 10. Нравственное сознание. В истории нравственного сознания человечества наш период отмечен, прежде всего, неизбежной по всему его общественному укладу демократизацией морали путем введения в нее догмата о научимости тому идеалу, который по-прежнему продолжает называться arete.
Действительно, нравственное учение эллинского периода признавало, как мы видели (выше, с.89), чисто аристократический догмат наследственности этой arete: кто ее унаследовал от «добрых» отцов и предков, тот и сам «добр»; кто, напротив, происходит от «худых», тот и сам «худ» и никоим образом «добрым» стать не может, ибо «ни лев, ни бурая лисица не могут изменить врожденного нрава» (Пиндар. Олимп. 10, 20). Афиняне долго находились под гнетом этого учения: оно, казалось, увековечивало привилегии аристократии, которая ведь была ничем иным, как совокупностью «добрых», но оно же, будучи изложено в гениальных творениях поэтов аполлоновской эпохи, которых даже демократические Афины не решались исключить из своих школ, с юных лет входило в плоть и кровь будущих граждан.
Общественное мнение не могло не искать выхода из этого мучительного разлада; понятна поэтому радость, с которой оно пошло навстречу той философии, которая, проповедуя научимость этой arete, этим самым открывала замкнутый круг «добрых» всем, желающим ей научиться.
Носителями этой философии были так называемые софисты. Это были люди очень различные по объему своих знаний и своему нравственному складу. Общими их чертами были следующие: 1) они все целью своей деятельности считали и называли приобретение и распространение мудрости (sophia), вследствие чего они и именовали себя софистами — это слово тогда еще не содержало того привкуса хулы, который мы в нем слышим теперь; 2) они, в видах большего распространения своей мудрости, разъезжали по всей Элладе, всюду вербуя учеников; 3) они, вынужденные жить плодами своей деятельности, брали плату за свое учение. Это последнее обстоятельство, безукоризненное с точки зрения наших обычаев, сильно роняло их тогда в глазах идеалистически настроенных людей. Главные из них — Протагор из Абдеры, Горгий из Леонтип, Гиппий из Элиды и Продик из Кеоса. В Афинах, куда они наезжали периодически, они все были чужими и пользовались гостеприимством богатых и любознательных граждан, перистили которых на время их пребывания превращались в настоящие университетские аудитории.
Но научимость arete была только одной стороной, и притом положительной, деятельности софистов; другой был скептицизм. Развитие философии природы (выше, с.89 сл.) могло легко вселить в наблюдателя уверенность, что все теории мирового становления одинаково убедительны, то есть, другими словами, одинаково недоказуемы; и этот физический скептицизм, нашедший свое выражение в бессмертных словах Протагора: «Человек — мерило всему сущему, что оно есть, и не сущему, что оно не есть», — не мог не перекинуться и на религиозную, и на нравственную область. Возникла уверенность, что ни одного религиозного или нравственного положения доказать нельзя, а можно в нем только убедить силой и обаянием речи. Так-то из софистического скептицизма естественно возник культ речи; ее учителями были те же софисты, и их учение нашло себе благодатную почву в демократических Афинах, в которых и суд, и вече предоставляли столь широкое поле искусному оратору. С возрастающей озабоченностью следили рассудительные граждане за этим опасным увлечением, грозившим потопить все идеалы религии и нравственности в туманном море убеждения. Но молодежь была в восторге от нового учения; и действительно, оно должно было перебродить в ее горячих головах для того, чтобы дать тот чистый и положительный религиозно-нравственный идеал, представление о котором мы связываем с именами Сократа и Платона.
Чтобы понять деятельность Сократа (470-399 годы до Р.Х.), ее нужно рассматривать на двойном фоне: с одной стороны — обыденной гражданской морали, с другой — описанного только что софистического движения.
Гражданская мораль была богата положительными догматами и не затруднялась давать в каждом данном случае ответ на вопрос, что такое arete. «Arete гражданина, — говорила она, — состоит в том, чтобы быть способным ведать государственные дела и в этой деятельности приносить пользу друзьям и вредить врагам; arete гражданки — в том, чтобы хорошо управлять домашним хозяйством, сохраняя в целости то, что составляет достаток дома, и повинуясь мужу; иная arete малолетнего — мальчика и девочки, иная — старца, свободного или раба; есть и много других aretai» (Плат. Мен. 71е). Сократа подобный ответ удовлетворить не мог. В силу своей глубокой сознательности он старался узнать, почему все названные проявления гражданской arete объединяются именно этим именем и что такое, следовательно, сама arete. И вот на этот-то вопрос ходячая мораль никакого ответа ему не давала.
Он обращался от нее к учению софистов, но здесь его еще более отталкивала пустота скептицизма и соблазн риторического убеждения. Сознательно обращаясь против последнего, он единственным путем к выходу из безнадежного и бесплодного скептицизма признавал такое пользование словом, при котором каждый довод говорящего мог тотчас найти подтверждение, ограничение или опровержение со стороны собеседника. Другими словами, риторическому методу софистов он противопоставил метод диалектический; в этом его бессмертная заслуга перед духовной культурой.
А впрочем, мы не можем сказать, прибавил ли он к теории научимости arete, которую он после некоторого колебания заимствовал у софистов, еще другие положительные догматы. Мы представляем себе его вечным искателем, своими вопросами и беседами будившим сознание своих сограждан; при этих беседах стали получаться те или иные положительные выводы, которые он, однако, считал плодами не собственной мысли, а мысли своего собеседника или, вернее, того logos'a, который в данную минуту воплощался в их беседе. И он более всего заботился о том, чтобы честное служение этому logos'y не нарушалось никаким недомыслием или пристрастием. Быть может, Сократ сам не добыл ни одного из тех догматов, которые впоследствии считались характерными для «сократических» школ, но он выковал тот меч, с помощью которого они были добыты все, и этим мечом был logos.
Обаяние сократовских бесед сделало учителя одной из популярнейших фигур послеперикловских Афин и собрало вокруг него кружок не очень многочисленных, но ревностных учеников. Из них одни позднее поведали потомкам о деятельности своего учителя; другие продолжали его дело, созидая положительные идеалы на расчищенной его диалектикой почве, — таковыми были Антисфен, Аристипп и в особенности Платон; третьи, наконец, после нескольких лет общения с ним вернулись к практической жизни.
Именно эти последние и стали причиной его гибели. Строгие демократы не могли забыть, что и Алкивиад, изменивший своей родине в решающую годину сицилийской экспедиции (414 год до Р.Х.), и Критий, принявший после ее разгрома из рук спартанцев тираническую власть над ней (404 год до Р.Х.), были учениками Сократа. Вскоре после восстановления демократии он был обвинен как развратитель молодежи и, не желая ни воздействовать на судей притворным смирением, ни воспользоваться одним из средств побега, которые ему были предоставлены его друзьями, умер смертью праведника в 399 году до Р.Х.
Из сократовской школы общая тема всех бесед, arete, вышла преображенной в двух отношениях. Во-первых, она мало-помалу потеряла то значение «доблести», которое ей было свойственно в предыдущие эпохи, и получила взамен его значение нашей нынешней «добродетели». Во-вторых, — и это было последствием глубокой сознательности самого учителя, — она была неразрывно соединена со знанием. У бессознательной добродетели ходячей морали была отнята всякая ценность; истинно добродетельный человек должен был быть в состоянии отдать отчет в своей добродетели; таковая несомненно была знанием. Спрашивалось только, знанием чего? Эта последняя примета наложила свою печать на всю античную послесократовскую мораль; она была моралью интеллектуалистической, — и нужно было явиться гению блаженного Августина (V век по Р.Х.), чтобы противопоставить ей, как морали языческой, новую христианскую волюнтаристическую мораль.
Развитие школы Сократа принадлежит IV веку до Р.Х. Из его творчески одаренных учеников один, Аристипп Киренский, в своих рассуждениях о сущности добродетели увидел себя вынужденным отождествить ее с каждым в данном случае большим удовольствием, ради которого мы жертвуем меньшим, и стал, таким образом, творцом так называемой гедонистической (от hedone — «удовольствие») морали. Она сама себя опровергла в лице его позднейших преемников: так как большим удовольствием пришлось признать более длительное, длительное же удовольствие превращается в простое безболие, то мало-помалу проповедь удовольствия превратилась в проповедь абсолютного безболия — то есть смерти.
В резком противоречии с Аристиппом Антисфен старался освободить абсолютную добродетель от всех соблазнов чувственности, усматривая идеал мудреца в полной беспотребности; ее проповедовала пошедшая от него киническая школа, как она была названа — скорее всего по тому месту, где учил Антисфен, гимназии в афинском предместье Киносарге. Слово Антисфена обратил в дело его знаменитый ученик Диоген Синопский. Надев суму, символ нищенства, он пошел странствовать, поучая людей на всех перекрестках идеалам беспотребности и получая в качестве вознаграждения за свое учение ломоть хлеба или пригоршню жареных бобов. Число его последователей, прямых и косвенных, было очень велико, и школы киников можно не без основания сравнить с нищенствующей братией св. Франциска в позднейшее Средневековье.
Оба решения были скорее практически наглядными, чем философски продуманными. Из всех учеников Сократа один только Платон сумел поднять вопрос о добродетели на ту высоту идеализма, которая соответствовала величию послеперикловских Афин. Его определение добродетели стоит в зависимости от взглядов на душу. Последнюю он — исходя из орфических учений (выше, с. 117) — представляет себе наподобие возницы, управляющего парой коней, из коих один влечет колесницу к высотам идеала, другой — к низинам чувственности. Долг возницы — поощрять пыл первого и укрощать второго. Так, наша душа состоит из трех элементов: руководящей мысли (logistikon), энергии (thymoeides) и вожделения (epithymetikon); им соответствуют три основных добродетели — мудрость (sophia), мужество (andreia) и воздержанность (sophrosyne). Все три растворяются в высшей добродетели — справедливости (dikaiosyne).
Установлением этого последнего идеала Платон не очень удалялся от гражданской морали, которая и сама ведь старалась воспитывать гражданина в правилах справедливости; но он резким образом разошелся с ней по вопросу о санкции (выше, с.34). Там отрока вели к справедливости указаниями на то, что только справедливый муж пользуется уважением людей и покровительством богов. Софистическое движение разбило обе эти санкции и, в сущности, отняло всякую опору у нравственности. Вразрез и с гражданской моралью, и с софистикой Платон учил, что добродетельность есть здоровое состояние души и, как таковое, одна только и может обеспечить ей хорошее самочувствие; что поэтому добродетельный муж этим самым и счастлив, порочный — этим самым и несчастен, если получит возмездие, чем если он останется безнаказанным, развивая до последних пределов болезненное состояние своей души. Этим открытием Платон стал творцом автономной нравственности.
Трезвый ум его ученика Аристотеля и в этом отношении не остался на высоте его идеализма. Внимательно исследуя проявления добродетельности в человеческой жизни, он пришел к убеждению, что добродетель в каждом данном случае есть средний путь между двумя порочными крайностями (virtus in medio): щедрость — между скупостью и расточительностью, мужество — между трусостью и опрометчивостью и т.д. Этим учением он стал проповедником той золотой середины (aurea mediocritas), которая могла послужить хорошей нормой для общегражданской добродетельности, но исключала великодушный подъем героических натур.
Как видно из всего сказанного, нравственное сознание нашего периода гораздо более отмечено индивидуальной печатью творческих личностей, чем оба предыдущих. Посредствующим звеном между этими личностями и народной массой служит школа: благодаря ей и ее проповеди идеи творцов распространяются все более и более, определяя собой также и общественную мораль. Ее действие, конечно, неравномерно: гедоническая проповедь естественно ограничивается изящным обществом утопающих в роскоши царедворцев, киническая обращается преимущественно к грубым умам низших гражданских и даже рабских слоев, созидая своеобразную философию и нравственность пролетариата, аристотелевская неохотно покидает рамки школы и созерцательной жизни; платоническая, наконец, будучи более всех запечатлена печатью гения, притягивает родственно настроенные души, являясь среди всех наиболее богатой будущим.
Главными магистратскими коллегиями были следующие:
1. Коллегия архонтов; их было с давних пор девять, и Клисфен должен был прибавить к ним секретаря, чтобы привести их число в соответствие с числом фил; выбирались они по жребию. Эта возникшая из царской власти коллегия потеряла свое прежнее значение, сохранив главным образом инструкцию процессов и председательство при их разбирательстве в гелиэе, притом архонт-царь — в религиозных делах, архонт в тесном смысле, по имени которого назывался год, — в семейных, полемарх — в делах метеков, фесмофеты — в остальных.
2. Коллегия стратегов, числом десять, избиралась путем хиротонии. Она унаследовала то значение, которое потеряла архонтская. Из десяти стратегов часть отправлялась в поход, другие оставались в Афинах, чтобы здесь делать необходимые для успешного хода войны распоряжения. Так как это понятие было очень растяжимо, то компетенция стратегов была очень велика. Конечно, фактически наиболее способный в коллегии управлял всем делом; Перикл, например, пятнадцать лет подряд избирался стратегом, и в этой должности управлял всем государством, «и была это на словах демократия, на деле же единовластие лучшего гражданина» (Фук. II, 65). Таков был внешний облик той афинской демократии, которая, хотя и не без сотрясений, просуществовала в течение двух столетий.
Согласно сказанному выше (с.77), это была демократия плебисцитарная; таковая, как мы тоже уже убедились, была возможна только при известной ограниченности территории. Для Афин она была естественна, так как и сунийский, и марафонский поселянин мог легко устроить свои дела так, чтобы быть в Афинах в сравнительно редкие вечевые дни. Некоторое неудобство представляли уже клерухии, но не непреоборимое: обыкновенно гражданин их навещал только изредка, оставляя на прочее время вместо себя управляющего. Но что случилось бы с демократической идеей, если бы Афинам удалось политически объединить значительную часть Греции? Такую возможность им открывал только знаменитый морской союз, не столько второй, сколько первый (478-404 годы до Р.Х.), и поставленный вопрос переводит наше внимание с почвы государственного на почву междуэллинского быта.
§ 8. Междуэллинский быт. То новое, что принесла наша эпоха в области междуэллинских отношений, заключается, главным образом, в основании Делосского союза как единственной серьезной попытке объединить не только внешним, но и внутренним образом значительную часть эллинских общин под главенством одной передовой державы, каковой были Афины эпохи Фемистокла и Аристида. Первоначальной целью союза была оборона побережных и островных эллинов против возможного возобновления персидского погрома. Так как самым надежным средством такой обороны был сильный и единый флот, то первоначальные мероприятия творцов союза были направлены на создание такового из пропорциональных контингентов входящих в союз общин, причем деньги на оборудование и операции этого флота естественно составили союзную казну, которую предполагалось хранить в храме Аполлона на острове Делосе; отсюда и само название Делосского союза. Но при практическом осуществлении этой меры оказалось, что она была сопряжена со слишком большими неудобствами для тех общин, которые вследствие малочисленности своего населения могли поставить лишь незначительное число кораблей, а то и часть такового. Такие общины предпочли откупиться деньгами от постановки приходящегося на их долю контингента. Так с самого начала общины союза распались на такие, которые сами участвовали в деле совместной обороны, и такие, которые поручили оборону собственной территории другим, уплатив им соответственную сумму, и этим фактически стали денницами центральной общины. Первые стали называться автономными, вторые — подчиненными (hypekooi) союзниками.
Дальнейшее развитие союза неизбежно повело к тому, что последняя категория стала постепенно увеличиваться за счет первой. Прежде всего, при растущем благоденствии союзников им самим стало выгоднее откупиться данью от повинности крови, а затем, те, которые своими изменническими попытками выйти из союза доказали свое враждебное к нему отношение, были естественно лишаемы своего флота и насильственно переводимы в категорию подчиненных союзников. Таким образом, к эпохе Перикла в союзе были только три автономных члена — Самос, Лесбос и Хиос. А так как контингенты автономных союзников не были увеличиваемы в соответствии с убывающими подчиненных, то та повинность крови, от которой освобождались подчиненные, ложилась все сильнее и сильнее на центральную общину, то есть на Афины.
Параллельно с этим развитием шла все большая и большая централизация управления. Афины присвоили себе право самовольно распоряжаться операциями общего флота. Общая касса мало-помалу из союзной превратилась в афинскую, с ее перенесением из Делоса на афинский Акрополь в 454 году до Р.Х. по почину Перикла. Неблагонадежность отдельных общин часто вела к тому, что афиняне обеспечивали себе их преданность более или менее сильными гарнизонами или же отправляли к ним особых чиновников (episkopoi) с правом вмешательства в те их внутренние дела, которые так или иначе затрагивали интересы либо всего союза, либо руководящей общины. Независимо от этого афиняне всюду старались ввести демократическое правление, справедливо рассчитывая, что таковое, будучи им обязано своим возникновением, станет оплотом афинофильской политики данной общины. Наконец, было постановлено, чтобы крупные уголовные процессы, возникавшие в союзных общинах, разбирались в Афинах перед судом гелиастов, чем было завершено также и правовое объединение союза.
Никогда ни до, ни после не было создаваемо на греческой почве такой сплоченной междуэллинской организации. Все же параллельно с ее централизацией шло и недовольство составляющих ее общин, которые не могли примириться с потерей самого необходимого для греческой общины элемента — автономии. Эта потеря могла быть возмещена только предоставлением им участия во власти, то есть превращением Делосского союза в своего рода Великую Аттику с общим для всех центральным управляющим органом в Афинах; осуществление же этой идеи, при территориальной разрозненности составляющих общин, было возможно только подусловием перехода к представительной системе, то есть под условием замены плебисцитарной демократии — парламентарной.
История освободила Афины от необходимости разрешить этот неудоборазрешимый для античного человека вопрос: после поражения афинского флота при Эгоспотаме (405 год до Р.Х.) морской союз был окончательно распущен, и так велико было недовольство составляющих общин централизующей политикой Афин, что его разрушитель Лисандр был всюду приветствуем как освободитель.
Тем не менее, это продолжавшееся три четверти века объединение большинства культурных общин Эллады под главенством Афин принесло свои плоды если не в области политики, то, во всяком случае, в области культуры. До заключения союза аттический говор был одним из многих маловажных греческих диалектов, между тем как литературным языком был ионийский; ко времени его распущения аттический язык был общегреческим — отдельные области сохранили свои местные говоры, но только для внутреннего, а не для междуэллинского употребления. И когда царь Филипп обращался письменно к греческим общинам, он составлял свои грамоты на аттическом языке. Этим был предначертан также и дальнейший путь развития эллинизма. То войско, с помощью которого Александр Великий победил Восток, менее всего состояло из аттических элементов; но язык и культура, которые он распространил до Инда и до порогов Нила, были аттическими, и этот неотъемлемый аттический характер вселенского эллинизма был плодом многолетнего афинского главенства в той Элладе, которая объединилась в Делосский союз.
§ 9. Международный быт. Международные отношения в эллинском мире нашей эпохи имеют в своем основании антагонизм понятий «эллин» и «варвар», причем слово «варвар», обозначая всякого, говорящего на непонятном языке, то есть всякого неэллина, само по себе не имеет никакого презрительного оттенка. Политические расчеты могут повести к союзу эллинов с варварами против других эллинов: афиняне рассчитывали на дружбу фракийского государства в разгар пелопоннесской войны, и Спарта сочла позволительным для себя принять золото от персидского сатрапа в видах уничтожения афинского влияния на востоке. Но тем не менее культурная разница между эллинами и варварами сознавалась. В годы самого резкого взаимного отчуждения спартанцы имели своего «проксена» в Афинах так же, как и афиняне в Спарте; но персидскому сановнику, который бы забрел в Афины, пришлось бы обратиться к заступничеству пританов (выше, с.143), то есть к государственной власти. И когда афиняне справляли праздник своей богини-покровительницы, на него приглашались «феоры» из союзных, а в годы мира и из всех вообще эллинских государств, но, конечно, не из Персии, Фракии и Египта.
Тем не менее, отношения греков к «варварам» были лишены всякой принципиальной враждебности. Любознательный Геродот с интересом присматривается к нравам и памятникам варварских народов, которые он посещает, и скорее бывает склонен незаслуженно признать превосходство варварского обычая перед эллинским, чем отнестись к нему с незаслуженным пренебрежением. Импонирующая древность египетской и вавилонской культур естественно повела к тому, что эллин почувствовал себя учеником того и другого народа, даже в таких областях, в которых самобытность эллинской культуры для нас несомненна. Ни племенные, ни религиозные различия не вызывали его насмешки или высокомерия; что касается специально этих последних, то врожденная его терпимость и самопонятное для него требование, что гость чужой страны должен воздать честь ее богам, устраняли в зародыше всякую возможность для него изуверства.
Только в одной области эллин чувствовал себя неизмеримо выше варваров, причем, правда, под последними он, за полным почти незнакомством с иноплеменными народами Запада, разумел подданных персидского царя: это была оценка личной свободы. Видя, с каким смирением восточный человек переносит иго царя, признавая в последнем уже не человека, а бога; знакомясь со столь чуждой для него организацией восточного общества, в котором всякий подчиненный считался рабом своего начальника; поражаясь, с одной стороны, унизительными формами поклонения подданных, с другой — бесчеловечным произволом правителей над личностью подчиненных, — он, естественно, приходил к убеждению, что для варвара рабство такая же природная форма общежития, как для эллина — свобода. Если поэтому Аристотель (Арист. Пол. I, 1254в), вразрез со многими мыслителями и поэтами своего народа, оправдывает рабство ссылкой на то, что есть люди, рожденные для него и вне его рамок неспособные к полезной деятельности, то в этом следует признать лишь эмпирический вывод человека, не склонного к иллюзиям и одинаково трезвыми глазами взирающего на характерные особенности обоих миров, с которыми его познакомила жизнь.
Той принципиальной благожелательности, с которой эллины относились к варварам, соответствовала и восприимчивость варваров к благам греческой культуры. Если не считать египтян, замкнувшихся в своей культурной отчужденности, но при этом дружелюбно относившихся к грекам, то прочий варварский мир в нашу эпоху испытывает все возрастающее влияние и обаяние эллинизма. Ближайшие к Ионии области — Лидия, Фригия, Кария — становятся уже почти эллинскими. На Кипре древнефиникийская культура стушевалась перед эллинской, и сам остров под управлением эллинофильских царей стал своего рода эльдорадо для тех эллинов, которым на родине было тесно. Вообще перепроизводство культурных людей в собственно Греции ведет к тому, что они охотно ищут и находят сбыт своим способностям в варварском мире; это касается прежде всего медиков и художников, затем торговцев, класс которых в Греции обладал гораздо большей подвижностью и предприимчивостью, чем на Востоке, и, наконец, наемников, дружины которых охотнее сражались в варварских странах против варваров, чем у себя против своих. Так-то эллинская культура исподволь, но решительно подчиняла себе варварский мир в ожидании того момента, когда гений царя-завоевателя окончательно утвердит ее господство над ним.
§ 10. Нравственное сознание. В истории нравственного сознания человечества наш период отмечен, прежде всего, неизбежной по всему его общественному укладу демократизацией морали путем введения в нее догмата о научимости тому идеалу, который по-прежнему продолжает называться arete.
Действительно, нравственное учение эллинского периода признавало, как мы видели (выше, с.89), чисто аристократический догмат наследственности этой arete: кто ее унаследовал от «добрых» отцов и предков, тот и сам «добр»; кто, напротив, происходит от «худых», тот и сам «худ» и никоим образом «добрым» стать не может, ибо «ни лев, ни бурая лисица не могут изменить врожденного нрава» (Пиндар. Олимп. 10, 20). Афиняне долго находились под гнетом этого учения: оно, казалось, увековечивало привилегии аристократии, которая ведь была ничем иным, как совокупностью «добрых», но оно же, будучи изложено в гениальных творениях поэтов аполлоновской эпохи, которых даже демократические Афины не решались исключить из своих школ, с юных лет входило в плоть и кровь будущих граждан.
Общественное мнение не могло не искать выхода из этого мучительного разлада; понятна поэтому радость, с которой оно пошло навстречу той философии, которая, проповедуя научимость этой arete, этим самым открывала замкнутый круг «добрых» всем, желающим ей научиться.
Носителями этой философии были так называемые софисты. Это были люди очень различные по объему своих знаний и своему нравственному складу. Общими их чертами были следующие: 1) они все целью своей деятельности считали и называли приобретение и распространение мудрости (sophia), вследствие чего они и именовали себя софистами — это слово тогда еще не содержало того привкуса хулы, который мы в нем слышим теперь; 2) они, в видах большего распространения своей мудрости, разъезжали по всей Элладе, всюду вербуя учеников; 3) они, вынужденные жить плодами своей деятельности, брали плату за свое учение. Это последнее обстоятельство, безукоризненное с точки зрения наших обычаев, сильно роняло их тогда в глазах идеалистически настроенных людей. Главные из них — Протагор из Абдеры, Горгий из Леонтип, Гиппий из Элиды и Продик из Кеоса. В Афинах, куда они наезжали периодически, они все были чужими и пользовались гостеприимством богатых и любознательных граждан, перистили которых на время их пребывания превращались в настоящие университетские аудитории.
Но научимость arete была только одной стороной, и притом положительной, деятельности софистов; другой был скептицизм. Развитие философии природы (выше, с.89 сл.) могло легко вселить в наблюдателя уверенность, что все теории мирового становления одинаково убедительны, то есть, другими словами, одинаково недоказуемы; и этот физический скептицизм, нашедший свое выражение в бессмертных словах Протагора: «Человек — мерило всему сущему, что оно есть, и не сущему, что оно не есть», — не мог не перекинуться и на религиозную, и на нравственную область. Возникла уверенность, что ни одного религиозного или нравственного положения доказать нельзя, а можно в нем только убедить силой и обаянием речи. Так-то из софистического скептицизма естественно возник культ речи; ее учителями были те же софисты, и их учение нашло себе благодатную почву в демократических Афинах, в которых и суд, и вече предоставляли столь широкое поле искусному оратору. С возрастающей озабоченностью следили рассудительные граждане за этим опасным увлечением, грозившим потопить все идеалы религии и нравственности в туманном море убеждения. Но молодежь была в восторге от нового учения; и действительно, оно должно было перебродить в ее горячих головах для того, чтобы дать тот чистый и положительный религиозно-нравственный идеал, представление о котором мы связываем с именами Сократа и Платона.
Чтобы понять деятельность Сократа (470-399 годы до Р.Х.), ее нужно рассматривать на двойном фоне: с одной стороны — обыденной гражданской морали, с другой — описанного только что софистического движения.
Гражданская мораль была богата положительными догматами и не затруднялась давать в каждом данном случае ответ на вопрос, что такое arete. «Arete гражданина, — говорила она, — состоит в том, чтобы быть способным ведать государственные дела и в этой деятельности приносить пользу друзьям и вредить врагам; arete гражданки — в том, чтобы хорошо управлять домашним хозяйством, сохраняя в целости то, что составляет достаток дома, и повинуясь мужу; иная arete малолетнего — мальчика и девочки, иная — старца, свободного или раба; есть и много других aretai» (Плат. Мен. 71е). Сократа подобный ответ удовлетворить не мог. В силу своей глубокой сознательности он старался узнать, почему все названные проявления гражданской arete объединяются именно этим именем и что такое, следовательно, сама arete. И вот на этот-то вопрос ходячая мораль никакого ответа ему не давала.
Он обращался от нее к учению софистов, но здесь его еще более отталкивала пустота скептицизма и соблазн риторического убеждения. Сознательно обращаясь против последнего, он единственным путем к выходу из безнадежного и бесплодного скептицизма признавал такое пользование словом, при котором каждый довод говорящего мог тотчас найти подтверждение, ограничение или опровержение со стороны собеседника. Другими словами, риторическому методу софистов он противопоставил метод диалектический; в этом его бессмертная заслуга перед духовной культурой.
А впрочем, мы не можем сказать, прибавил ли он к теории научимости arete, которую он после некоторого колебания заимствовал у софистов, еще другие положительные догматы. Мы представляем себе его вечным искателем, своими вопросами и беседами будившим сознание своих сограждан; при этих беседах стали получаться те или иные положительные выводы, которые он, однако, считал плодами не собственной мысли, а мысли своего собеседника или, вернее, того logos'a, который в данную минуту воплощался в их беседе. И он более всего заботился о том, чтобы честное служение этому logos'y не нарушалось никаким недомыслием или пристрастием. Быть может, Сократ сам не добыл ни одного из тех догматов, которые впоследствии считались характерными для «сократических» школ, но он выковал тот меч, с помощью которого они были добыты все, и этим мечом был logos.
Обаяние сократовских бесед сделало учителя одной из популярнейших фигур послеперикловских Афин и собрало вокруг него кружок не очень многочисленных, но ревностных учеников. Из них одни позднее поведали потомкам о деятельности своего учителя; другие продолжали его дело, созидая положительные идеалы на расчищенной его диалектикой почве, — таковыми были Антисфен, Аристипп и в особенности Платон; третьи, наконец, после нескольких лет общения с ним вернулись к практической жизни.
Именно эти последние и стали причиной его гибели. Строгие демократы не могли забыть, что и Алкивиад, изменивший своей родине в решающую годину сицилийской экспедиции (414 год до Р.Х.), и Критий, принявший после ее разгрома из рук спартанцев тираническую власть над ней (404 год до Р.Х.), были учениками Сократа. Вскоре после восстановления демократии он был обвинен как развратитель молодежи и, не желая ни воздействовать на судей притворным смирением, ни воспользоваться одним из средств побега, которые ему были предоставлены его друзьями, умер смертью праведника в 399 году до Р.Х.
Из сократовской школы общая тема всех бесед, arete, вышла преображенной в двух отношениях. Во-первых, она мало-помалу потеряла то значение «доблести», которое ей было свойственно в предыдущие эпохи, и получила взамен его значение нашей нынешней «добродетели». Во-вторых, — и это было последствием глубокой сознательности самого учителя, — она была неразрывно соединена со знанием. У бессознательной добродетели ходячей морали была отнята всякая ценность; истинно добродетельный человек должен был быть в состоянии отдать отчет в своей добродетели; таковая несомненно была знанием. Спрашивалось только, знанием чего? Эта последняя примета наложила свою печать на всю античную послесократовскую мораль; она была моралью интеллектуалистической, — и нужно было явиться гению блаженного Августина (V век по Р.Х.), чтобы противопоставить ей, как морали языческой, новую христианскую волюнтаристическую мораль.
Развитие школы Сократа принадлежит IV веку до Р.Х. Из его творчески одаренных учеников один, Аристипп Киренский, в своих рассуждениях о сущности добродетели увидел себя вынужденным отождествить ее с каждым в данном случае большим удовольствием, ради которого мы жертвуем меньшим, и стал, таким образом, творцом так называемой гедонистической (от hedone — «удовольствие») морали. Она сама себя опровергла в лице его позднейших преемников: так как большим удовольствием пришлось признать более длительное, длительное же удовольствие превращается в простое безболие, то мало-помалу проповедь удовольствия превратилась в проповедь абсолютного безболия — то есть смерти.
В резком противоречии с Аристиппом Антисфен старался освободить абсолютную добродетель от всех соблазнов чувственности, усматривая идеал мудреца в полной беспотребности; ее проповедовала пошедшая от него киническая школа, как она была названа — скорее всего по тому месту, где учил Антисфен, гимназии в афинском предместье Киносарге. Слово Антисфена обратил в дело его знаменитый ученик Диоген Синопский. Надев суму, символ нищенства, он пошел странствовать, поучая людей на всех перекрестках идеалам беспотребности и получая в качестве вознаграждения за свое учение ломоть хлеба или пригоршню жареных бобов. Число его последователей, прямых и косвенных, было очень велико, и школы киников можно не без основания сравнить с нищенствующей братией св. Франциска в позднейшее Средневековье.
Оба решения были скорее практически наглядными, чем философски продуманными. Из всех учеников Сократа один только Платон сумел поднять вопрос о добродетели на ту высоту идеализма, которая соответствовала величию послеперикловских Афин. Его определение добродетели стоит в зависимости от взглядов на душу. Последнюю он — исходя из орфических учений (выше, с. 117) — представляет себе наподобие возницы, управляющего парой коней, из коих один влечет колесницу к высотам идеала, другой — к низинам чувственности. Долг возницы — поощрять пыл первого и укрощать второго. Так, наша душа состоит из трех элементов: руководящей мысли (logistikon), энергии (thymoeides) и вожделения (epithymetikon); им соответствуют три основных добродетели — мудрость (sophia), мужество (andreia) и воздержанность (sophrosyne). Все три растворяются в высшей добродетели — справедливости (dikaiosyne).
Установлением этого последнего идеала Платон не очень удалялся от гражданской морали, которая и сама ведь старалась воспитывать гражданина в правилах справедливости; но он резким образом разошелся с ней по вопросу о санкции (выше, с.34). Там отрока вели к справедливости указаниями на то, что только справедливый муж пользуется уважением людей и покровительством богов. Софистическое движение разбило обе эти санкции и, в сущности, отняло всякую опору у нравственности. Вразрез и с гражданской моралью, и с софистикой Платон учил, что добродетельность есть здоровое состояние души и, как таковое, одна только и может обеспечить ей хорошее самочувствие; что поэтому добродетельный муж этим самым и счастлив, порочный — этим самым и несчастен, если получит возмездие, чем если он останется безнаказанным, развивая до последних пределов болезненное состояние своей души. Этим открытием Платон стал творцом автономной нравственности.
Трезвый ум его ученика Аристотеля и в этом отношении не остался на высоте его идеализма. Внимательно исследуя проявления добродетельности в человеческой жизни, он пришел к убеждению, что добродетель в каждом данном случае есть средний путь между двумя порочными крайностями (virtus in medio): щедрость — между скупостью и расточительностью, мужество — между трусостью и опрометчивостью и т.д. Этим учением он стал проповедником той золотой середины (aurea mediocritas), которая могла послужить хорошей нормой для общегражданской добродетельности, но исключала великодушный подъем героических натур.
Как видно из всего сказанного, нравственное сознание нашего периода гораздо более отмечено индивидуальной печатью творческих личностей, чем оба предыдущих. Посредствующим звеном между этими личностями и народной массой служит школа: благодаря ей и ее проповеди идеи творцов распространяются все более и более, определяя собой также и общественную мораль. Ее действие, конечно, неравномерно: гедоническая проповедь естественно ограничивается изящным обществом утопающих в роскоши царедворцев, киническая обращается преимущественно к грубым умам низших гражданских и даже рабских слоев, созидая своеобразную философию и нравственность пролетариата, аристотелевская неохотно покидает рамки школы и созерцательной жизни; платоническая, наконец, будучи более всех запечатлена печатью гения, притягивает родственно настроенные души, являясь среди всех наиболее богатой будущим.
 Здесь естественным полем для сакральной архитектуры была твердыня Афин, уже потерявшая своё военное значение и превратившаяся в обширную ограду родной богини, — Акрополь. Его и решено было обратить в гигантский пьедестал для воздвижения ей неслыханного по величественности и красоте храма. Сорок лет работали над тем, чтобы привести его в это состояние. Наконец, при Перикле настало время воздвигнуть сам храм. Исполнение задачи было поручено архитекторам Иктину и Калликрату, но руководителем работ был тот, в руки которого было отдано все скульптурное украшение храма, — Фидий. Их совместными трудами был создан на вершине Акрополя тот Парфенон — «храм Девы», — в котором мы видим в одно и то же время и высший расцвет греческой архитектуры, и живой символ величия Перикловых Афин. В нем соблюдена обычная схема дорических храмов, но благородный материал, из которого он был выстроен — пентеликонский мрамор, — дал возможность смягчить архаическую резкость прежних памятников дорической архитектуры: его колонны стройнее, их капители менее нависают над пролётами, всюду соблюдена удивительная гармония и пропорциональность. Конечно, своими размерами он не может соперничать с каменными громадами на берегах Нила и Евфрата. Все же он больше обыкновенного греческого храма — восемь колонн во фронте вместо принятых тести, и эти размеры дали художнику возможность несколько развить обычную храмовую схему, прибавляя к целле особое квадратное помещение, так называемый опистодом, ставший казнохранилищем богини, и вводя в самую целлу внутреннюю двухэтажную колоннаду. Все же он весь соблюден в строгом стиле, чуждающемся всяких излишних узоров. Его печать — величие, и ею он остался запечатлен и поныне, после всех разрушений, которые он испытал в последовавшие за падением античного мира мрачные столетия.
Когда Парфенон был окончен, явилось желание создать для него и для всего Акрополя достойное преддверие; и эту задачу удалось еще исполнить Периклу при помощи уже названного Калликрата. Схема этих «Пропилей», тоже воздвигнутых из пентеликонского мрамора, была не совсем проста: собственно патерные ворота были украшены снаружи и изнутри двумя параллельными дорическими колоннадами, которые, в свою очередь, были соединены между собой продольной колоннадой в ионийском стиле, и вся эта мраморная роща была снабжена справа и слева монументальными мраморными же пристройками. В них, впрочем, пришлось уклониться от строгой симметрии, так как в правую пристройку врезался бастион, издревле посвященный любимой прислужнице Афины — Победе. На нем ей построили прелестный храмик в ионийском стиле; а так как место было головокружительно крутое, то храмик пришлось окружить мраморной балюстрадой, стенки которой тогдашняя скульптура украсила рядом своих самых восхитительных памятников.
Пелопоннесская война прервала на время строительную деятельность афинян на Акрополе; но в те годы передышки, которые последовали за миром Никия, она была возобновлена. Сакральные соображения потребовали восстановления, на этот раз уже в виде храма, старинного «дома» царя Эрехфея, который был в то же время, в бесхрамный период религии Зевса, и древнейшим приютом богини. Так возник в последний период пелопоннесской войны храм Эрехфея[15] (Erechtheion), причудливая схема которого была обусловлена теми же сакральными соображениями. Будучи объемом много меньше Парфенона, он стал выражением архитектурного изящества, точно так же, как тот был выраженйем архитектурной величавости. Выдержан он был в ионийском стиле;) все его части были украшены узорами, но красивее всего был знаменитый так называемый «портик кариатид» — мраморный балдахин, несомый шестью мраморными же девами, в которых художник увековечил священнодействующих кошеносиц панафинейского шествия.
Храм Эрехфея стал надолго последним словом афинской сакральной архитектуры; потеря гегемонии лишила Афины средств для крупных архитектурных предприятий. Все же IV век до Р.Х. должен быть отмечен историей архитектуры как время если не возникновения, то распространения нового архитектурного ордера — коринфского. Этот третий греческий ордер возник, в сущности, из ионийского; отличается он от него, главным образом, формой капители, которая в коринфском ордере напоминает собой корзинку, обвитую акантовыми листьями и завитушками. Вследствие своей грациозности коринфский ордер получил широкое распространение в ту эпоху, которая вообще отдавала предпочтение грациозности — в эпоху эллинистическую.
Остается поговорить о светской архитектуре, которая в нашу эпоху уже начинает соперничать с сакральной. Правда, частные дома еще сохраняют старинную простоту: демократизм зажиточных членов общины не позволял им оскорблять чувства их бедных сограждан выставлением напоказ роскоши. Зато тот же демократизм позволял и требовал достойного убранства тех мест, где собирался державный демос. Это были, главным образом, стои и театры. Для стои характерна стена с навесом и колоннадой; чаще всего такие стои окружают какой-нибудь внутренний двор, служащий, например, для упражнения молодежи; формы гимнасия и палестры были поэтому лишь развитием стои. В других случаях, например, на агоре, стена стои была пробита дверьми, которые служили входами в торговые помещения; тогда получалось подобие наших гостиных дворов. Но стоя могла быть и вообще наружной частью любого здания, служившего административным или торговым целям; такова была та роскошная стоя, которой еще Кимон украсил афинскую агору, поручив своему другу, живописцу Полигноту, расписать ее стену картинами из отечественных войн, вследствие чего она и называлась «пестрой стоей». В нашу эпоху она только этим и славилась — в ожидании того, уже недалекого времени, когда ей суждено было дать свое название самому влиятельному в древности философскому направлению — стоицизму.
Что касается, затем, театра, то он получил в Афинах свою архитектурную форму лишь в IV веке до Р.Х.; до того времени народ собирался как кто мог, иногда на деревянных подмостках, на склоне скалы Афины, вокруг орхестры, на которой происходило действие. Архитектурный театр состоял из двух сооружений — театра в узком смысле и сцены. Театр в узком смысле — это были возвышающиеся друг над другом полукруглые ступени, окружающие — теперь уже тоже полукруглую — орхестру. Сцена состояла из узкого прямоугольника, за которым — возвышался фасад дворца с тремя дверьми. На ступенях собирался народ; перед фасадом на прямоугольнике происходило действие; орхестра служила для той хореи, которую обычай все еще не позволял отделять от драмы.
Здесь естественным полем для сакральной архитектуры была твердыня Афин, уже потерявшая своё военное значение и превратившаяся в обширную ограду родной богини, — Акрополь. Его и решено было обратить в гигантский пьедестал для воздвижения ей неслыханного по величественности и красоте храма. Сорок лет работали над тем, чтобы привести его в это состояние. Наконец, при Перикле настало время воздвигнуть сам храм. Исполнение задачи было поручено архитекторам Иктину и Калликрату, но руководителем работ был тот, в руки которого было отдано все скульптурное украшение храма, — Фидий. Их совместными трудами был создан на вершине Акрополя тот Парфенон — «храм Девы», — в котором мы видим в одно и то же время и высший расцвет греческой архитектуры, и живой символ величия Перикловых Афин. В нем соблюдена обычная схема дорических храмов, но благородный материал, из которого он был выстроен — пентеликонский мрамор, — дал возможность смягчить архаическую резкость прежних памятников дорической архитектуры: его колонны стройнее, их капители менее нависают над пролётами, всюду соблюдена удивительная гармония и пропорциональность. Конечно, своими размерами он не может соперничать с каменными громадами на берегах Нила и Евфрата. Все же он больше обыкновенного греческого храма — восемь колонн во фронте вместо принятых тести, и эти размеры дали художнику возможность несколько развить обычную храмовую схему, прибавляя к целле особое квадратное помещение, так называемый опистодом, ставший казнохранилищем богини, и вводя в самую целлу внутреннюю двухэтажную колоннаду. Все же он весь соблюден в строгом стиле, чуждающемся всяких излишних узоров. Его печать — величие, и ею он остался запечатлен и поныне, после всех разрушений, которые он испытал в последовавшие за падением античного мира мрачные столетия.
Когда Парфенон был окончен, явилось желание создать для него и для всего Акрополя достойное преддверие; и эту задачу удалось еще исполнить Периклу при помощи уже названного Калликрата. Схема этих «Пропилей», тоже воздвигнутых из пентеликонского мрамора, была не совсем проста: собственно патерные ворота были украшены снаружи и изнутри двумя параллельными дорическими колоннадами, которые, в свою очередь, были соединены между собой продольной колоннадой в ионийском стиле, и вся эта мраморная роща была снабжена справа и слева монументальными мраморными же пристройками. В них, впрочем, пришлось уклониться от строгой симметрии, так как в правую пристройку врезался бастион, издревле посвященный любимой прислужнице Афины — Победе. На нем ей построили прелестный храмик в ионийском стиле; а так как место было головокружительно крутое, то храмик пришлось окружить мраморной балюстрадой, стенки которой тогдашняя скульптура украсила рядом своих самых восхитительных памятников.
Пелопоннесская война прервала на время строительную деятельность афинян на Акрополе; но в те годы передышки, которые последовали за миром Никия, она была возобновлена. Сакральные соображения потребовали восстановления, на этот раз уже в виде храма, старинного «дома» царя Эрехфея, который был в то же время, в бесхрамный период религии Зевса, и древнейшим приютом богини. Так возник в последний период пелопоннесской войны храм Эрехфея[15] (Erechtheion), причудливая схема которого была обусловлена теми же сакральными соображениями. Будучи объемом много меньше Парфенона, он стал выражением архитектурного изящества, точно так же, как тот был выраженйем архитектурной величавости. Выдержан он был в ионийском стиле;) все его части были украшены узорами, но красивее всего был знаменитый так называемый «портик кариатид» — мраморный балдахин, несомый шестью мраморными же девами, в которых художник увековечил священнодействующих кошеносиц панафинейского шествия.
Храм Эрехфея стал надолго последним словом афинской сакральной архитектуры; потеря гегемонии лишила Афины средств для крупных архитектурных предприятий. Все же IV век до Р.Х. должен быть отмечен историей архитектуры как время если не возникновения, то распространения нового архитектурного ордера — коринфского. Этот третий греческий ордер возник, в сущности, из ионийского; отличается он от него, главным образом, формой капители, которая в коринфском ордере напоминает собой корзинку, обвитую акантовыми листьями и завитушками. Вследствие своей грациозности коринфский ордер получил широкое распространение в ту эпоху, которая вообще отдавала предпочтение грациозности — в эпоху эллинистическую.
Остается поговорить о светской архитектуре, которая в нашу эпоху уже начинает соперничать с сакральной. Правда, частные дома еще сохраняют старинную простоту: демократизм зажиточных членов общины не позволял им оскорблять чувства их бедных сограждан выставлением напоказ роскоши. Зато тот же демократизм позволял и требовал достойного убранства тех мест, где собирался державный демос. Это были, главным образом, стои и театры. Для стои характерна стена с навесом и колоннадой; чаще всего такие стои окружают какой-нибудь внутренний двор, служащий, например, для упражнения молодежи; формы гимнасия и палестры были поэтому лишь развитием стои. В других случаях, например, на агоре, стена стои была пробита дверьми, которые служили входами в торговые помещения; тогда получалось подобие наших гостиных дворов. Но стоя могла быть и вообще наружной частью любого здания, служившего административным или торговым целям; такова была та роскошная стоя, которой еще Кимон украсил афинскую агору, поручив своему другу, живописцу Полигноту, расписать ее стену картинами из отечественных войн, вследствие чего она и называлась «пестрой стоей». В нашу эпоху она только этим и славилась — в ожидании того, уже недалекого времени, когда ей суждено было дать свое название самому влиятельному в древности философскому направлению — стоицизму.
Что касается, затем, театра, то он получил в Афинах свою архитектурную форму лишь в IV веке до Р.Х.; до того времени народ собирался как кто мог, иногда на деревянных подмостках, на склоне скалы Афины, вокруг орхестры, на которой происходило действие. Архитектурный театр состоял из двух сооружений — театра в узком смысле и сцены. Театр в узком смысле — это были возвышающиеся друг над другом полукруглые ступени, окружающие — теперь уже тоже полукруглую — орхестру. Сцена состояла из узкого прямоугольника, за которым — возвышался фасад дворца с тремя дверьми. На ступенях собирался народ; перед фасадом на прямоугольнике происходило действие; орхестра служила для той хореи, которую обычай все еще не позволял отделять от драмы.
 Б. Скульптура. Одновременно с архитектурой расцвела и скульптура и отчасти по тем же причинам. Крупные архитектурные предприятия всегда ставили заманчивые задачи также и скульптуре. С величавостью и красотой храма надлежало соразмерить и кумир обитающего в нем божества. Сверх того, оба фронтона представляли богатое поле для статуарной, фризы — для рельефной скульптуры, а пролеты между колоннами, ступени, да и вся окрестность храма напрашивались под украшения посвятительными статуями и рельефами, число которых увеличивалось с каждым годом. Залогом расцвета ваяния и достижения им той ступени, которую мы называем классической, было отчасти сужение тем: отказались от не разрешимых — или пока неразрешимых — задач (статуарная скульптура — от выражения аффекта, которое при недостатке средств выходило условным и вычурным, рельефная — от многофигурности и ландшафтного фона). Среди многих возможных форм человеческого лица остановились на одной — знаменитом «греческом профиле», в силу чего все греческие статуи классической эпохи представляются нам как бы изображающими членов одной и той же семьи. «Простота и тихое величие» (Винкельман) стали лозунгом если не всего греческого художества, то, во всяком случае, его классического периода.
В V веке до Р.Х. развитие скульптуры сосредоточивается на трех великих именах — афинян Фидия и Мирона и аргивянина Поликлета. Из них Фидий был представителем идеалистического, Мирон — реалистического направления, Поликлет же совмещал в себе оба.
Фидию принадлежали прежде всего гигантские кумиры Зевса в Олимпии и Афины в Парфеноне, Поликлету — кумир Геры в ее аргосском храме; все три были сооружены из драгоценного материала — слоновой кости и золота, мы судим о них по весьма несовершенным и отчасти гадательным копиям; все же и они, в связи с известиями писателей, дают нам возможность установить, что названные художники в этих своих творениях определили навсегда типы этих преимущественно строгих и величавых божеств: дальше в изображении этого рода красоты идти было некуда — идеал был достигнут. В том же духе, хотя и несравненно более свободными, были прочие украшения Парфенона, возникшие если не под резцом самого Фидия, то под его наблюдением: обе живые фронтонные группы — рождение Афины и ее спор с Посейдоном из-за Аттики, затем попарные рельефные группы метоп (поединки богов с гигантами и греков с кентаврами и амазонками) и в особенности — непрерывный фриз целлы, изображающий отдельные моменты и группы панафинейского шествия под наблюдением чествуемых богов.
Темы для реалистической скульптуры давала особенно агонистика, преимущественно мужская. Никогда еще для развития изобразительных искусств не создавались столь благоприятные условия: борьба и бег юношей, бег и пляска девушек предоставляли художникам самым непринужденным образом целый ряд благодарных мотивов для изучения человеческого тела и в его движении, и в моменты покоя, а часто повторяющиеся заказы аниконических статуй победителей и победительниц для посвящения богам давали им возможность увековечить в мраморе и бронзе то, что они видели в действительности. Так возникли «Дискобол» и «Бегун» Мирона, «Дорифор», «Диадумен» и «Амазонка»Поликлета и близкие им по происхождению «Мальчик с занозой» и ватиканская «Бегунья», — если назвать только наиболее знаменитые произведения. Из них «Дорифор» Поликлета получил на целое столетие значение «канона»; соблюденные в нем пропорции человеческого тела, на наш взгляд, несколько тяжелые, стали почти обязательными для последователей, пока Лисипп не установил нового, более легкого канона.
В IV веке до Р.Х. скульптура сосредоточивается на четырех крупных именах: сначала Кефисодота, затем обоих Диоскуров — Праксителя и Скопаса — и, наконец, только что названного Лисиппа. Условия, в которых они работали, уже не были столь благоприятными: обедневшая родина в редких случаях могла поощрять заказами их таланты; им приходилось большей частью искать применения вне Эллады при пышных дворах эллинизованных династов.
Б. Скульптура. Одновременно с архитектурой расцвела и скульптура и отчасти по тем же причинам. Крупные архитектурные предприятия всегда ставили заманчивые задачи также и скульптуре. С величавостью и красотой храма надлежало соразмерить и кумир обитающего в нем божества. Сверх того, оба фронтона представляли богатое поле для статуарной, фризы — для рельефной скульптуры, а пролеты между колоннами, ступени, да и вся окрестность храма напрашивались под украшения посвятительными статуями и рельефами, число которых увеличивалось с каждым годом. Залогом расцвета ваяния и достижения им той ступени, которую мы называем классической, было отчасти сужение тем: отказались от не разрешимых — или пока неразрешимых — задач (статуарная скульптура — от выражения аффекта, которое при недостатке средств выходило условным и вычурным, рельефная — от многофигурности и ландшафтного фона). Среди многих возможных форм человеческого лица остановились на одной — знаменитом «греческом профиле», в силу чего все греческие статуи классической эпохи представляются нам как бы изображающими членов одной и той же семьи. «Простота и тихое величие» (Винкельман) стали лозунгом если не всего греческого художества, то, во всяком случае, его классического периода.
В V веке до Р.Х. развитие скульптуры сосредоточивается на трех великих именах — афинян Фидия и Мирона и аргивянина Поликлета. Из них Фидий был представителем идеалистического, Мирон — реалистического направления, Поликлет же совмещал в себе оба.
Фидию принадлежали прежде всего гигантские кумиры Зевса в Олимпии и Афины в Парфеноне, Поликлету — кумир Геры в ее аргосском храме; все три были сооружены из драгоценного материала — слоновой кости и золота, мы судим о них по весьма несовершенным и отчасти гадательным копиям; все же и они, в связи с известиями писателей, дают нам возможность установить, что названные художники в этих своих творениях определили навсегда типы этих преимущественно строгих и величавых божеств: дальше в изображении этого рода красоты идти было некуда — идеал был достигнут. В том же духе, хотя и несравненно более свободными, были прочие украшения Парфенона, возникшие если не под резцом самого Фидия, то под его наблюдением: обе живые фронтонные группы — рождение Афины и ее спор с Посейдоном из-за Аттики, затем попарные рельефные группы метоп (поединки богов с гигантами и греков с кентаврами и амазонками) и в особенности — непрерывный фриз целлы, изображающий отдельные моменты и группы панафинейского шествия под наблюдением чествуемых богов.
Темы для реалистической скульптуры давала особенно агонистика, преимущественно мужская. Никогда еще для развития изобразительных искусств не создавались столь благоприятные условия: борьба и бег юношей, бег и пляска девушек предоставляли художникам самым непринужденным образом целый ряд благодарных мотивов для изучения человеческого тела и в его движении, и в моменты покоя, а часто повторяющиеся заказы аниконических статуй победителей и победительниц для посвящения богам давали им возможность увековечить в мраморе и бронзе то, что они видели в действительности. Так возникли «Дискобол» и «Бегун» Мирона, «Дорифор», «Диадумен» и «Амазонка»Поликлета и близкие им по происхождению «Мальчик с занозой» и ватиканская «Бегунья», — если назвать только наиболее знаменитые произведения. Из них «Дорифор» Поликлета получил на целое столетие значение «канона»; соблюденные в нем пропорции человеческого тела, на наш взгляд, несколько тяжелые, стали почти обязательными для последователей, пока Лисипп не установил нового, более легкого канона.
В IV веке до Р.Х. скульптура сосредоточивается на четырех крупных именах: сначала Кефисодота, затем обоих Диоскуров — Праксителя и Скопаса — и, наконец, только что названного Лисиппа. Условия, в которых они работали, уже не были столь благоприятными: обедневшая родина в редких случаях могла поощрять заказами их таланты; им приходилось большей частью искать применения вне Эллады при пышных дворах эллинизованных династов.
 О Кефисодоте мы судим главным образом по его «Эйрене» (богине мира), известной нам по прекрасной копии. Она образует переход от строгости Фидия и Поликлета к мягкости и ласковости второй аттической школы. Отчасти этот переход достигнут внешним средством — наклоном головы богинй, придающим всей ее фигуре выражение участливости. Эта вторая аттическая школа представлена, главным образом, именами Праксителя и Скопаса, из которых первый был мастером этоса (спокойного аффекта), второй — мастером пафоса (аффекта возбужденного). Первый был продолжателем Фидия: как тот установил идеальные типы строгих божеств, так на долю Праксителя выпало дать юным, мягким и ласковым божествам тот образ, под которым мы их представляем себе ныне — Афродите, Дионису, Гермесу. В оригинале нам сохранен только последний — знаменитый Гермес Олимпийский, но и о других мы имеем благодаря древним копиям достаточно полное представление. И подобно тому, как Пракситель достиг своей цели, видоизменяя строгие лики Фидия до мягкости «Праксителевского овала», так точно и Скопас сумел придать своим фигурам выражение патетичности отчасти внешним приемом; углубляя впадины глаз и усиливая этим их тень.
Особенно славилась в древности его страстно возбужденная «Вакханка»; ему же, по-видимому, принадлежит патетическая группа умирающих Ниобидов с ее незабвенной центральной фигурой, молящей о пощаде единственной, младшей дочери Ниобеи.
Лисипп, признанный портретист Александра Великого стоит уже на рубеже следующего, эллинистического периода, которому он дал вышеупомянутый легкий канон своим «Анаксиоменом». В сакральной скульптуре он прославился в особенности статуей Посейдона Истмийского, в которой он очень удачно выразил страстность морской стихии в противоположность к спокойному величию Зевса.
О Кефисодоте мы судим главным образом по его «Эйрене» (богине мира), известной нам по прекрасной копии. Она образует переход от строгости Фидия и Поликлета к мягкости и ласковости второй аттической школы. Отчасти этот переход достигнут внешним средством — наклоном головы богинй, придающим всей ее фигуре выражение участливости. Эта вторая аттическая школа представлена, главным образом, именами Праксителя и Скопаса, из которых первый был мастером этоса (спокойного аффекта), второй — мастером пафоса (аффекта возбужденного). Первый был продолжателем Фидия: как тот установил идеальные типы строгих божеств, так на долю Праксителя выпало дать юным, мягким и ласковым божествам тот образ, под которым мы их представляем себе ныне — Афродите, Дионису, Гермесу. В оригинале нам сохранен только последний — знаменитый Гермес Олимпийский, но и о других мы имеем благодаря древним копиям достаточно полное представление. И подобно тому, как Пракситель достиг своей цели, видоизменяя строгие лики Фидия до мягкости «Праксителевского овала», так точно и Скопас сумел придать своим фигурам выражение патетичности отчасти внешним приемом; углубляя впадины глаз и усиливая этим их тень.
Особенно славилась в древности его страстно возбужденная «Вакханка»; ему же, по-видимому, принадлежит патетическая группа умирающих Ниобидов с ее незабвенной центральной фигурой, молящей о пощаде единственной, младшей дочери Ниобеи.
Лисипп, признанный портретист Александра Великого стоит уже на рубеже следующего, эллинистического периода, которому он дал вышеупомянутый легкий канон своим «Анаксиоменом». В сакральной скульптуре он прославился в особенности статуей Посейдона Истмийского, в которой он очень удачно выразил страстность морской стихии в противоположность к спокойному величию Зевса.
 Говоря о скульптуре IV века до Р.Х., нельзя умолчать о тех ее безымянных памятниках, которые, возникнув под прямым или косвенным влиянием названных мастеров, производят на нас едва ли не самое глубокое и захватывающее впечатление. Это надгробные памятники. Покойные здесь изображены в идеализованном виде; они представлены большей частью в своей семье; совершившаяся разлука разлила над участвующими выражение тихой грусти, незабвенное для каждого, кто хоть раз их видел.
В. Живопись этого периода изучается нами опять-таки исключительность расписным вазам, а они могут нам дать представление, конечно, только о развитии рисунка и композиции, но не того, что в живописи важнее всего, — колорита. Вазопись аттического периода принадлежит всецело краснофигурному стилю. Великое множество памятников дает нам возможность проследить ее эволюцию полностью от строгого стиля (около 500 года до Р.Х.) к прекрасному и далее к пышному, который представляется нам уже стилем упадка. И здесь расцвет обусловливается отказом от неудоборазрешимых задач — многофигурности и смелых ракурсов. Вначале техника росписи представляет еще некоторые условности, главным образом, изображение глаза en face при лице в профиль и симметричное расположение складок — они характеризуют строгий стиль. Но в то же время угловатости чернофигурной техники уже сглаживаются и рисунок достигает поразительной тонкости и благородства. В следующем, прекрасном, стиле и Те последние условности исчезают, наступает царство той невыразимой гармоничности, которая характерна для классического искусства. Пышный стиль характеризуется возвращением к многофигурности; ей сопутствует богатство обстановки и, с другой стороны, некоторая неряшливость рисунка, свидетельствующая о поспешности работы.
Все эти черты в связи со многими другими, о которых знают специалисты, не дают нам представления о развитии высокой живописи в течение нашего периода, который для нее был таким же классическим, как и для других искусств. Мы знаем о ней от известий античных писателей, которые еще видели всю эту навеки исчезнувшую красоту. Следует, впрочем, заметить, что термин «аттический период» менее всего применим к современной ему живописи: все великие художники, которых мы к нему приурочиваем, были по происхождению не афинянами, и хотя и работали, между прочим, также и в Афинах, но не ограничивали своей деятельности этим городом.
Первым из них был Полигнот Фасосский, друг Кимона, прославившийся своими работами главным образом в афинской «пестрой стое» (битвы афинян с амазонками, троянцами и персами) и в беседке книдосцев в Дельфах (взятие Трои, преисподняя). Своей любовью к многофигурности, равно как и наивностью своего колорита — в его распоряжении были только четыре краски (белая, черная, желтая и красная), которые он без теней и полутонов наводил для изображения драпировки на готовые уже контуры нагих фигур, — он был скорее завершителем прежнего периода, чем основоположником нового; но его зрителям нравилась бесхитростная строгость его рисунка, и им казалось, что они читают весь трагизм троянской войны в заплаканных глазах его Поликсены.
Как явствует из сказанного, живопись была наименее сакральным из всех искусств. В храме она не находила себе места; ее первое крупное творенье — фрески на стенах чисто светский стой. Ее дальнейшему развитию способствовало открытие новой техники — так называемой «темперы», при которой наносимые на доску краски приготовляются на яичном желтке. Ее изобретателем, был современник Перикла Аполлодор. Важность этого изобретения не замедлила сказаться: Аполлодор первый ввел в свои картины воздушную перспективу, то есть искусство выражать оттенками тонов сравнительную отдаленность предметов. Это открытие было встречено неприязненно его современниками, которые в насмешку прозвали его «тенеписцем», но он стоял на своем, утверждая, что он «пробил дверь» для многих.
Расцвет живописи, предтечей которого был Аполлодор, наступил в эпоху пелопоннесской войны в лице триумвирата, членами которого были Зевксид, Паррасий и Тиманф. Не связанные религиозной традицией художники брались за самые вольные и отчасти причудливые темы, стремясь, с одной стороны, к возможному иллюзионизму (виноградная гроздь Зевксида и занавес Паррасия), с другой — к возможной выразительности (жертвоприношение Ифигении Тиманфа). И если принять на веру свидетельство древних, то они в обоих направлениях достигли идеала.
Четвертый век ознаменовался опять-таки техническим усовершенствованием — открытием так называемой энкаустической живописи, то есть приготовления красок на воске причем они лопаточкой наводились на доску и благодаря нагреванию впитывались в фон. Нам говорят, что благодаря этой технике, секрет которой потерян, достигалась гораздо большая яркость колорита, чем при старой темпере. Ее мастером был Павсий и руководимая им сикионская школа. Ей и принадлежит IV век до Р.Х. вплоть до появления того мастера, при котором античная живопись вообще достигла своего наивысшего совершенства. Но он — Апеллес — принадлежит уже следующему периоду.
§ 13. Мусические искусства. В нашу эпоху триединая хорея достигает предельной точки своего развития в аттической драме. Рядом с ней бледнеет то, что мы могли бы сказать о самобытной роли как музыки, так и орхестики; разве только про первую из них можно бы заметить, что она переживает эволюцию, аналогичную с современной нам, в смысле осложнения средств выражения и освобождения от старинных композиционных форм (реформы Фриниса и Тимофея), в чем ревнители строгой музыки видели, как и ныне, симптом упадка. Бледнеют также и прочие роды поэзии, кроме драмы. Героический эпос умолк с тех пор, как перевелись аэды, рапсоды же на «рапсодических» состязаниях стали ограничиваться одним Гомером. Дидактический эпос дал еще своих последышей в лице обоих первых элеатов — Ксенофана и Парменида, а также и Эмпедокла (выше, с.157 и сл.); но это было еще в начале V века до Р.Х., а затем он растворился в научной прозе. Элегия, хорическая лирика, мелика, ямб имеют еще своих представителей, но все это были поэты второстепенные: творческие таланты ищут себе применения в новооткрытой области драмы, и притом не в одной только Аттике: свет афинских Дионисий привлекает и зарубежных поэтов — хиосец Ион и эретриец Ахей увеличивают собой число драматургов нашей эпохи. Но тон задается Афинами; поэзия аттического периода — почти исключительно аттическая поэзия. Значит ли это, что другие государства не производили первостепенных поэтов? Или что они, затемненные афинскими, в своих произведениях не дожили до следующей эпохи? Мы на этот вопрос ответа дать не можем.
Драматические состязания происходили два раза в году; каждый раз допускалось к агону по двенадцать трагедий (включая «сатирическую драму») и от трех до пяти комедий. А так как повторение старой драмы разрешалось только в виде почетного исключения, то можно себе представить, какая огромная драматическая литература была создана в течение обоих столетий аттического периода; она несомненно превзошла своим объемом всю поэзию предыдущего времени. Далеко не вся она сохранилась к следующей эпохе, эпохе александрийских собирателей и издателей; нам же от нее осталось, не считая отрывков, только тридцать три трагедии и одиннадцать комедий.
Из трагических поэтов Фриних (выше, с. 105) писал еще по-ионийски, но это было последней данью аттической музы своей старшей сестре; со времени его преемника аттический язык царствует на аттической сцене. Этим преемником был Эсхил Элевсинский, законодатель аттической трагедии (525-456 годы до Р.Х.). Возникший до него спор из-за первенства между серьезной трагедией и веселой сатирической драмой (выше, с. 105) он решил в том смысле, чтобы каждый поэт ставил по три трагедии и, в виде заключения, по одной сатирической драме. Эти трагедии вначале и у него были лирико-эпическими кантатами, без драматической фабулы и без характеристик действующих лиц; но, ставя каждый раз по три таких кантаты, он получил возможность изображать в них три следующих друг за другом момента одной и той же фабулы («трилогический принцип»). Такова трилогия «Данаида»; в ее первой трагедии, «Просительницах» (сохранилась), представлен прием аргосцами бежавших от своих двоюродных братьев Данаид; во второй, «Строителях теремов» (не сохранилась), — после осады Аргоса этими братьями и революции в нем, доставившей власть Данаю, — насильственная свадьба Данаид, после которой Данай приказал им в брачную ночь умертвить своих мужей; наконец, в третьей, «Данаидах» (не сохранилась), — суд Даная над единственной из Данаид, не исполнившей этого приказа. Как видно отсюда, главные действия предполагаются происшедшими в промежутках между трагедиями, в самих же трагедиях изображены лишь отдельные моменты — прием, свадьба, суд. Дальнейшее развитие трилогии заключается в том, что действие чем далее, тем более из этих промежутков переносится в сами трагедии. Так, в последней трилогии Эсхила, «Орестее» (сохранилась вся), мы имеем уже обратное отношение: в первой трагедии, «Агамемнон», изображено возвращение героя из-под Трои и его убийство его женой Клитемнестрой, во второй, «Хоэфоры» (то есть «Приносительницы возлияний» на могилу убитого царя), — месть за него его подросшего сына Ореста и погоня за матереубийцей разгневанных Эриний, в третьей — «Эвменидах» — блуждания Ореста в Дельфы и Афины и его оправдание судом ареопага. Все действие сосредоточено в самих трагедиях, ни одно сколько-нибудь важное событие не предполагается происходящим в промежутки. Параллельно с развитием действий развивается и характеристика; в «Орестее» поэт достиг уже замечательного совершенства, но только в одной области: все его характеры суровы и в своей добродетели, как Орест, и в своей преступности, как Клитемнестра. Вообще Эсхил прежде всего — величавый поэт; эта величавость отразилась и на композиции его трагедий с их дивными хорическими песнями, глубокомысленными по содержанию и чарующими по форме, и на построении диалога с его обилием длинных речей, и на самом языке — могучем, образном и смелом в подборе и сложении слов. Располагая только двумя актерами, — причем второго он ввел сам, — Эсхил был лишен возможности выводить одновременно более двух действующих лиц. Зато выдающейся была роль корифея (то есть предводителя хора); обыкновенно появляющиеся действующие лица вступают в разговор с ним.
Что касается содержания драм Эсхила, то он вначале, пока его трагедия была лишь кантатой, допускал, подобно Фриниху (выше, с. 105), и исторические темы; к счастью, нам сохранились его «Персы», имеющие содержанием саламинскую победу 480 года до Р.Х., — поразительный образец эллинской гуманности, если вспомнить, что эта трагедия имеет целью вызвать сострадание к разбитому обидчику-врагу, что она была поставлена в 472 году до Р.Х. в виду разрушенных персами святынь Акрополя, и что она была увенчана первой наградой. Но позднее, по мере драматизации трагедии, Эсхил сосредоточился на мифологических темах, и его преемники последовали его примеру. Афинская трагедия V и VI веков до Р.Х. стала новым — четвертым — поэтическим претворением греческой героической саги.
Первым по времени из крупных преемников Эсхила был Софокл (496-406 годы до Р.Х.), уроженец афинского предместья Колона. Изменяя трилогическому принципу своего предшественника и учителя, он обособил отдельные трагедии своих трилогий, давая каждой самостоятельную завязку и развязку; он же расширил шкалу характеристик, прибавив к унаследованным от Эсхила суровым характерам и нежные, и мягкие в различных оттенках. Добившись введения третьего актера, он получил возможность обогатить и осложнить диалог; правда, он воспользовался этой возможностью очень сдержанно, сведя диалог трех лиц к последовательным диалогам двух из них, так, чтобы непосредственно после беседы А + В следовали беседы А + С или В + С. Такая сдержанность (в отличие от оживленности комедии) считалась приличествующей трагической торжественности и была сохранена и преемником Софокла Еврипидом. Вместе с тем мы должны признать, что в лице Софокла трагедия как драма достигла своего апогея; средствами, которые нам кажутся очень простыми при небольшом числе действующих лиц и сравнительно незначительном объеме трагедий, он достигает потрясающего действия: героическая борьба с роком Эдипа («Царь Эдип»), самоотверженный подвиг Антигоны, демоническая жажда мести Электры и Ореста — все это незабвенные темы, навсегда обогатившие сокровищницу всемирной поэзии. Сам поэт был настоящим воплощением лучших сторон эллинства: прекрасный собой, сильный, здоровый, замечательно разносторонний в своих дарованиях и обаятельный в обращении, он во всеоружии своих духовных сил дожил до девяностолетнего возраста, написал около ста двадцати драм и имел счастье умереть накануне разгрома своего отечества.
Он пережил даже, хотя лишь на несколько месяцев, своего младшего современника Еврипида, родившегося в самый год той саламинской битвы, в которой сражался Эсхил и после которой Софокл, как прекраснейший из эфебов, был удостоен чести исполнить благодарственный пеан. Тот еще в молодые годы и с полным участием пережил то софистическое движение, которому не удалось поколебать уже установившегося миросозерцания Софокла. Его трагедия — живой отголосок этого движения; к шкале цельных характеров, завершенной его предшественником, он прибавил характеры надломленные, нерешительные, томящиеся под гнетом неразрешимых проблем и собственной богоотчужденности. Он любил изображать нравственность в борьбе со страстью, особенно с греховной любовью; его современники были поражены преступными и все-таки непорочными образами его Федры, влюбленной в своего пасынка («Ипполит»), Макарея, влюбленного в родную сестру («Эол», не сохранилась). Они так убедительно отстаивали свою невиновность («софистика страсти»); рука не поднималась на них, — а, между тем, нравственность требовала их осуждения.
Особенно любил он изображать натиск страсти на женскую душу, будь то любовь, как у Федры, или ревность, как у Медеи. Современники за это называли его женоненавистником, но напрасно: он же дал нам трогательные образы самоотверженной жены (Алкеста, Евадна), сестры (Макария в «Гераклидах»), дочери (Ифигения Авлидская). Вообще современники к нему относились недоброжелательно; зато у потомков он прослыл «самым трагическим» из трагических поэтов, и именно этой своей популярности он обязан тем, что от него нам сохранилось не семь трагедий, как от Эсхила и Софокла, а целых восемнадцать, включая сатирическую драму «Киклоп». На нас они производят неравное впечатление, даже если учесть такие условности, как обращенный к публике пролог и пресловутого deus ex machina (то есть внезапное появление в выси божества, дающего неожиданную и подчас насильственную развязку действия). Но, оставляя в стороне все, что нам может не понравиться, созданных им положительных образов достаточно, чтобы также и ему обеспечить бессмертие.
Говоря о скульптуре IV века до Р.Х., нельзя умолчать о тех ее безымянных памятниках, которые, возникнув под прямым или косвенным влиянием названных мастеров, производят на нас едва ли не самое глубокое и захватывающее впечатление. Это надгробные памятники. Покойные здесь изображены в идеализованном виде; они представлены большей частью в своей семье; совершившаяся разлука разлила над участвующими выражение тихой грусти, незабвенное для каждого, кто хоть раз их видел.
В. Живопись этого периода изучается нами опять-таки исключительность расписным вазам, а они могут нам дать представление, конечно, только о развитии рисунка и композиции, но не того, что в живописи важнее всего, — колорита. Вазопись аттического периода принадлежит всецело краснофигурному стилю. Великое множество памятников дает нам возможность проследить ее эволюцию полностью от строгого стиля (около 500 года до Р.Х.) к прекрасному и далее к пышному, который представляется нам уже стилем упадка. И здесь расцвет обусловливается отказом от неудоборазрешимых задач — многофигурности и смелых ракурсов. Вначале техника росписи представляет еще некоторые условности, главным образом, изображение глаза en face при лице в профиль и симметричное расположение складок — они характеризуют строгий стиль. Но в то же время угловатости чернофигурной техники уже сглаживаются и рисунок достигает поразительной тонкости и благородства. В следующем, прекрасном, стиле и Те последние условности исчезают, наступает царство той невыразимой гармоничности, которая характерна для классического искусства. Пышный стиль характеризуется возвращением к многофигурности; ей сопутствует богатство обстановки и, с другой стороны, некоторая неряшливость рисунка, свидетельствующая о поспешности работы.
Все эти черты в связи со многими другими, о которых знают специалисты, не дают нам представления о развитии высокой живописи в течение нашего периода, который для нее был таким же классическим, как и для других искусств. Мы знаем о ней от известий античных писателей, которые еще видели всю эту навеки исчезнувшую красоту. Следует, впрочем, заметить, что термин «аттический период» менее всего применим к современной ему живописи: все великие художники, которых мы к нему приурочиваем, были по происхождению не афинянами, и хотя и работали, между прочим, также и в Афинах, но не ограничивали своей деятельности этим городом.
Первым из них был Полигнот Фасосский, друг Кимона, прославившийся своими работами главным образом в афинской «пестрой стое» (битвы афинян с амазонками, троянцами и персами) и в беседке книдосцев в Дельфах (взятие Трои, преисподняя). Своей любовью к многофигурности, равно как и наивностью своего колорита — в его распоряжении были только четыре краски (белая, черная, желтая и красная), которые он без теней и полутонов наводил для изображения драпировки на готовые уже контуры нагих фигур, — он был скорее завершителем прежнего периода, чем основоположником нового; но его зрителям нравилась бесхитростная строгость его рисунка, и им казалось, что они читают весь трагизм троянской войны в заплаканных глазах его Поликсены.
Как явствует из сказанного, живопись была наименее сакральным из всех искусств. В храме она не находила себе места; ее первое крупное творенье — фрески на стенах чисто светский стой. Ее дальнейшему развитию способствовало открытие новой техники — так называемой «темперы», при которой наносимые на доску краски приготовляются на яичном желтке. Ее изобретателем, был современник Перикла Аполлодор. Важность этого изобретения не замедлила сказаться: Аполлодор первый ввел в свои картины воздушную перспективу, то есть искусство выражать оттенками тонов сравнительную отдаленность предметов. Это открытие было встречено неприязненно его современниками, которые в насмешку прозвали его «тенеписцем», но он стоял на своем, утверждая, что он «пробил дверь» для многих.
Расцвет живописи, предтечей которого был Аполлодор, наступил в эпоху пелопоннесской войны в лице триумвирата, членами которого были Зевксид, Паррасий и Тиманф. Не связанные религиозной традицией художники брались за самые вольные и отчасти причудливые темы, стремясь, с одной стороны, к возможному иллюзионизму (виноградная гроздь Зевксида и занавес Паррасия), с другой — к возможной выразительности (жертвоприношение Ифигении Тиманфа). И если принять на веру свидетельство древних, то они в обоих направлениях достигли идеала.
Четвертый век ознаменовался опять-таки техническим усовершенствованием — открытием так называемой энкаустической живописи, то есть приготовления красок на воске причем они лопаточкой наводились на доску и благодаря нагреванию впитывались в фон. Нам говорят, что благодаря этой технике, секрет которой потерян, достигалась гораздо большая яркость колорита, чем при старой темпере. Ее мастером был Павсий и руководимая им сикионская школа. Ей и принадлежит IV век до Р.Х. вплоть до появления того мастера, при котором античная живопись вообще достигла своего наивысшего совершенства. Но он — Апеллес — принадлежит уже следующему периоду.
§ 13. Мусические искусства. В нашу эпоху триединая хорея достигает предельной точки своего развития в аттической драме. Рядом с ней бледнеет то, что мы могли бы сказать о самобытной роли как музыки, так и орхестики; разве только про первую из них можно бы заметить, что она переживает эволюцию, аналогичную с современной нам, в смысле осложнения средств выражения и освобождения от старинных композиционных форм (реформы Фриниса и Тимофея), в чем ревнители строгой музыки видели, как и ныне, симптом упадка. Бледнеют также и прочие роды поэзии, кроме драмы. Героический эпос умолк с тех пор, как перевелись аэды, рапсоды же на «рапсодических» состязаниях стали ограничиваться одним Гомером. Дидактический эпос дал еще своих последышей в лице обоих первых элеатов — Ксенофана и Парменида, а также и Эмпедокла (выше, с.157 и сл.); но это было еще в начале V века до Р.Х., а затем он растворился в научной прозе. Элегия, хорическая лирика, мелика, ямб имеют еще своих представителей, но все это были поэты второстепенные: творческие таланты ищут себе применения в новооткрытой области драмы, и притом не в одной только Аттике: свет афинских Дионисий привлекает и зарубежных поэтов — хиосец Ион и эретриец Ахей увеличивают собой число драматургов нашей эпохи. Но тон задается Афинами; поэзия аттического периода — почти исключительно аттическая поэзия. Значит ли это, что другие государства не производили первостепенных поэтов? Или что они, затемненные афинскими, в своих произведениях не дожили до следующей эпохи? Мы на этот вопрос ответа дать не можем.
Драматические состязания происходили два раза в году; каждый раз допускалось к агону по двенадцать трагедий (включая «сатирическую драму») и от трех до пяти комедий. А так как повторение старой драмы разрешалось только в виде почетного исключения, то можно себе представить, какая огромная драматическая литература была создана в течение обоих столетий аттического периода; она несомненно превзошла своим объемом всю поэзию предыдущего времени. Далеко не вся она сохранилась к следующей эпохе, эпохе александрийских собирателей и издателей; нам же от нее осталось, не считая отрывков, только тридцать три трагедии и одиннадцать комедий.
Из трагических поэтов Фриних (выше, с. 105) писал еще по-ионийски, но это было последней данью аттической музы своей старшей сестре; со времени его преемника аттический язык царствует на аттической сцене. Этим преемником был Эсхил Элевсинский, законодатель аттической трагедии (525-456 годы до Р.Х.). Возникший до него спор из-за первенства между серьезной трагедией и веселой сатирической драмой (выше, с. 105) он решил в том смысле, чтобы каждый поэт ставил по три трагедии и, в виде заключения, по одной сатирической драме. Эти трагедии вначале и у него были лирико-эпическими кантатами, без драматической фабулы и без характеристик действующих лиц; но, ставя каждый раз по три таких кантаты, он получил возможность изображать в них три следующих друг за другом момента одной и той же фабулы («трилогический принцип»). Такова трилогия «Данаида»; в ее первой трагедии, «Просительницах» (сохранилась), представлен прием аргосцами бежавших от своих двоюродных братьев Данаид; во второй, «Строителях теремов» (не сохранилась), — после осады Аргоса этими братьями и революции в нем, доставившей власть Данаю, — насильственная свадьба Данаид, после которой Данай приказал им в брачную ночь умертвить своих мужей; наконец, в третьей, «Данаидах» (не сохранилась), — суд Даная над единственной из Данаид, не исполнившей этого приказа. Как видно отсюда, главные действия предполагаются происшедшими в промежутках между трагедиями, в самих же трагедиях изображены лишь отдельные моменты — прием, свадьба, суд. Дальнейшее развитие трилогии заключается в том, что действие чем далее, тем более из этих промежутков переносится в сами трагедии. Так, в последней трилогии Эсхила, «Орестее» (сохранилась вся), мы имеем уже обратное отношение: в первой трагедии, «Агамемнон», изображено возвращение героя из-под Трои и его убийство его женой Клитемнестрой, во второй, «Хоэфоры» (то есть «Приносительницы возлияний» на могилу убитого царя), — месть за него его подросшего сына Ореста и погоня за матереубийцей разгневанных Эриний, в третьей — «Эвменидах» — блуждания Ореста в Дельфы и Афины и его оправдание судом ареопага. Все действие сосредоточено в самих трагедиях, ни одно сколько-нибудь важное событие не предполагается происходящим в промежутки. Параллельно с развитием действий развивается и характеристика; в «Орестее» поэт достиг уже замечательного совершенства, но только в одной области: все его характеры суровы и в своей добродетели, как Орест, и в своей преступности, как Клитемнестра. Вообще Эсхил прежде всего — величавый поэт; эта величавость отразилась и на композиции его трагедий с их дивными хорическими песнями, глубокомысленными по содержанию и чарующими по форме, и на построении диалога с его обилием длинных речей, и на самом языке — могучем, образном и смелом в подборе и сложении слов. Располагая только двумя актерами, — причем второго он ввел сам, — Эсхил был лишен возможности выводить одновременно более двух действующих лиц. Зато выдающейся была роль корифея (то есть предводителя хора); обыкновенно появляющиеся действующие лица вступают в разговор с ним.
Что касается содержания драм Эсхила, то он вначале, пока его трагедия была лишь кантатой, допускал, подобно Фриниху (выше, с. 105), и исторические темы; к счастью, нам сохранились его «Персы», имеющие содержанием саламинскую победу 480 года до Р.Х., — поразительный образец эллинской гуманности, если вспомнить, что эта трагедия имеет целью вызвать сострадание к разбитому обидчику-врагу, что она была поставлена в 472 году до Р.Х. в виду разрушенных персами святынь Акрополя, и что она была увенчана первой наградой. Но позднее, по мере драматизации трагедии, Эсхил сосредоточился на мифологических темах, и его преемники последовали его примеру. Афинская трагедия V и VI веков до Р.Х. стала новым — четвертым — поэтическим претворением греческой героической саги.
Первым по времени из крупных преемников Эсхила был Софокл (496-406 годы до Р.Х.), уроженец афинского предместья Колона. Изменяя трилогическому принципу своего предшественника и учителя, он обособил отдельные трагедии своих трилогий, давая каждой самостоятельную завязку и развязку; он же расширил шкалу характеристик, прибавив к унаследованным от Эсхила суровым характерам и нежные, и мягкие в различных оттенках. Добившись введения третьего актера, он получил возможность обогатить и осложнить диалог; правда, он воспользовался этой возможностью очень сдержанно, сведя диалог трех лиц к последовательным диалогам двух из них, так, чтобы непосредственно после беседы А + В следовали беседы А + С или В + С. Такая сдержанность (в отличие от оживленности комедии) считалась приличествующей трагической торжественности и была сохранена и преемником Софокла Еврипидом. Вместе с тем мы должны признать, что в лице Софокла трагедия как драма достигла своего апогея; средствами, которые нам кажутся очень простыми при небольшом числе действующих лиц и сравнительно незначительном объеме трагедий, он достигает потрясающего действия: героическая борьба с роком Эдипа («Царь Эдип»), самоотверженный подвиг Антигоны, демоническая жажда мести Электры и Ореста — все это незабвенные темы, навсегда обогатившие сокровищницу всемирной поэзии. Сам поэт был настоящим воплощением лучших сторон эллинства: прекрасный собой, сильный, здоровый, замечательно разносторонний в своих дарованиях и обаятельный в обращении, он во всеоружии своих духовных сил дожил до девяностолетнего возраста, написал около ста двадцати драм и имел счастье умереть накануне разгрома своего отечества.
Он пережил даже, хотя лишь на несколько месяцев, своего младшего современника Еврипида, родившегося в самый год той саламинской битвы, в которой сражался Эсхил и после которой Софокл, как прекраснейший из эфебов, был удостоен чести исполнить благодарственный пеан. Тот еще в молодые годы и с полным участием пережил то софистическое движение, которому не удалось поколебать уже установившегося миросозерцания Софокла. Его трагедия — живой отголосок этого движения; к шкале цельных характеров, завершенной его предшественником, он прибавил характеры надломленные, нерешительные, томящиеся под гнетом неразрешимых проблем и собственной богоотчужденности. Он любил изображать нравственность в борьбе со страстью, особенно с греховной любовью; его современники были поражены преступными и все-таки непорочными образами его Федры, влюбленной в своего пасынка («Ипполит»), Макарея, влюбленного в родную сестру («Эол», не сохранилась). Они так убедительно отстаивали свою невиновность («софистика страсти»); рука не поднималась на них, — а, между тем, нравственность требовала их осуждения.
Особенно любил он изображать натиск страсти на женскую душу, будь то любовь, как у Федры, или ревность, как у Медеи. Современники за это называли его женоненавистником, но напрасно: он же дал нам трогательные образы самоотверженной жены (Алкеста, Евадна), сестры (Макария в «Гераклидах»), дочери (Ифигения Авлидская). Вообще современники к нему относились недоброжелательно; зато у потомков он прослыл «самым трагическим» из трагических поэтов, и именно этой своей популярности он обязан тем, что от него нам сохранилось не семь трагедий, как от Эсхила и Софокла, а целых восемнадцать, включая сатирическую драму «Киклоп». На нас они производят неравное впечатление, даже если учесть такие условности, как обращенный к публике пролог и пресловутого deus ex machina (то есть внезапное появление в выси божества, дающего неожиданную и подчас насильственную развязку действия). Но, оставляя в стороне все, что нам может не понравиться, созданных им положительных образов достаточно, чтобы также и ему обеспечить бессмертие.
 Таков был V век до Р.Х. в развитии аттической трагедии. О IV веке мы ничего сказать не можем; поэтов было много, и некоторыми из них очень увлекались, но ни драм, ни наглядных известий о них нет. Быть может, в этом заключается крупная несправедливость по отношению к ним; мы ее исправить не в силах, для нас с годом разгрома Афин пелопоннесцами кончается и творческая эпоха аттической трагедии.
Несколько иначе отразился этот роковой год на другой крупной отрасли афинской драмы, на комедии. Возникла она из двух корней — обличительных песен ряженых против своих обидчиков (это и есть komodia в первоначальном смысле, как песнь komos'a, то есть подгулявшей компании) и бытовой сценки, которая, однако, кроме человеческого быта могла задеть и божий, забавно пародируя соответствующие мифы. Эта бытовая сценка в своем самобытном виде встречается во многих местах — в Сиракузах она даже имела очень крупного поэта, современника Эсхила Эпихарма, и под именем «мима» продолжала существовать во все эпохи Античности; но в Афинах она соединилась с упомянутой обличительной песнью и стала тем, чем ее знает V век до Р.Х., — политической комедией. Ее главными представителями были: Кратин, современник и враг Перикла, и Евполид с Аристофаном, современники пелопоннесской войны. Нам только от последнего сохранены комедии, числом одиннадцать, и это наследие — едва ли не самый оригинальный дар всей античной литературы. Никогда впоследствии свобода обличительного слова не была столь полной; поражаешься силой афинской государственности, что она могла сносить в течение целых двух поколений на всенародной сцене такую беспощадную критику. Аристофан — чтобы ограничиться им — забрасывает своими насмешками и могущественных демагогов, вроде Клеона, Гипербола, Клеофонта, и представителей несимпатичных ему духовных течений — Еврипида, Агафона, софистов... С болью в сердце находим мы среди последних и Сократа, но сам Сократ добродушно смеялся над карикатурой своей личности в комедии своего остроумного противника, и Платон представил обоих в приятельской беседе друг с другом и с Агафоном в своем «Пире». Это потому, что в политической комедии яд насмешки был обезврежен всеобщим дионисическим настроением; злопамятствовать не полагалось «высмеянному в унаследованных от отцов торжествах Диониса».
Но удар, ниспровергший гегемонию Афин, сломил также их выносливость в области политической насмешки; в IV веке до Р.Х. комедия присмирела. Лишившись своего обличительного задора, она занялась разработкой в более или менее шаржированном виде тогдашнего быта преимущественно золотой молодежи Афин с ее кутежами, мишурными страстями и мишурным горем. Плодовитость поэтов при этой легкой работе стала еще большей: Антифан, Алексид и другие оставили по несколько сот комедий каждый. Но в качественном отношении эта «среднеаттическая комедия», как мы ее называем, так же свидетельствует об отливе творческих сил народа, как и вся прочая поэзия IV века до Р.Х. Ее историческое значение заключается в том, что она подготовила новый расцвет комедии — новоаттическую комедию Менандра — в следующем периоде.
Переходя затем к области прозы, мы должны и здесь отметить постепенный переход от ионийского языка к аттическому, обусловленный притягательной силой Афин также и для этой отрасли литературы.
Историографию эллинского периода мы закончили Гекатеем; среди младших логографов, живших уже после персидских войн, особенно замечателен лесбосец Гелланик (Hellanikos, не сохранилось), открывший новые методы историографии; не довольствуясь генеалогиями, он использовал старинные, монументальные хронологические записи (между прочим, аргосских жриц Геры), а также составил на основании местных преданий первую историю Аттики под эолийским, позднее ставшим техническим, заглавием «Атфиды» (Atthis). А впрочем, он, хотя и эолиец, писал на общелитературном ионийском наречии, так же как и его славный современник, уроженец дорического Галикарнаса, Геродот, «отец истории», как его называет Цицерон. Свое крупное историческое повествование, разделенное позднее на девять книг, он издал «для того, чтобы не изгладились из памяти потомства великие дела как эллинов, так и варваров, и в особенности, как они воевали друг с другом». Ведет он его издалека, переходя от истории Лидии к истории царей персидских и рассказывая, в связи с вселенскими походами этих последних, историю и быт тех народов, против которых эти походы были направлены (так, в связи с походом Дария против скифов дано описание древней Скифии, см. выше, с. 124). С V книги идет уже рассказ о грекоперсидской войне (V книга — ионийское восстание, VI — Марафон, VII — Фермопилы, VIII — Саламин, IX — Платея и Микале). Но он далеко не строго придерживается своей повествовательной нити, позволяя себе ежеминутные отступления; и эта вольность придает его рассказу неподражаемую прелесть. Историческая критика у него еще слаба: основывая свое повествование на устных сведениях, лично добытых им во время его долгих путешествий, он широкой струей вливает легенду в свою историю; себя он выгораживает добродушным заявлением, что «считает своим долгом все записать, что он слышал, но не считает своим долгом всему верить» (Гер. VII, 152). Божий перст в истории он признает и к оракулам относится доверчиво, но настоящих чудес не допускает, стараясь их устранить рационалистическим толкованием. Вторую половину своей жизни Геродот провел уже в Афинах как приближенный Перикла. Здесь он имел счастье вдохновить своего великого ученика, Фукидида, первого афинского историка. Фукидиду мы обязаны монументальным сочинением о пелопоннесской войне с обстоятельным введением, в котором между прочим вкратце рассказывается история Греции за «пятидесятилетие» между Микале и вторжением пелопоннесцев; позднее это сочинение было разделено на VIII книг (I — введение; II-IV — до мира Никия; V — худой мир; VI-VII — сицилийская экспедиция; VIII — декейская война до 409 года до Р.Х., на которой изложение обрывается — вероятно, за смертью автора). Строгая историческая критика и безусловное стремление к истине отличают это сочинение; в лице Фукидида историография возмужала. Легенда устранена, история секуляризована. Желание быть объективным не позволяет автору самому разрешать вопросы о правоте той или другой стороны: он предоставляет им самим отстаивать свою правду в обстоятельных речах, которые он влагает в уста их представителей, — прием, которому впоследствии многие подражали. Язык изложения труден, но читатель не раскается в усилиях, потраченных на его изучение, — до того богат мыслью пишущий им автор.
Продолжателем труда Фукидида был Ксенофонт, доведший в VII книге своих «Hellenika» греческую историю до смерти Эпаминонда в 362 году до Р.Х., ему же принадлежит и знаменитый «Анабасис», описание похода Кира Младшего против Артаксеркса Персидского и смелого возвращения его греческого наемного войска под предводительством Ксенофонта из долины Евфрата к Эгейскому морю, и еще ряд других сочинений. Необыкновенно разносторонний в своих интересах — сельский хозяин, охотник, наездник, финансист, полководец и, в довершение всего, писатель, — он с ранних лет стал учеником Сократа, память о котором он увековечил в своих «Воспоминаниях», но стал им не ради философии, а ради жизни. Как стилист, он стоит чрезвычайно высоко; впервые под его пером аттическая речь пришла к сознанию своей природной легкости и гибкости. Его сочинения стали впоследствии школой греческого языка, вплоть до наших дней. Как историк он хранит заветы Фукидида, но ему недостает глубокомыслия и политической мудрости этого его образца.
Вторая отрасль прозы, философия, вначале тоже пользуется ионийским языком; а вне Афин, в сочинениях Демокрита и Гиппократа с его школой, ионийский язык сохранился до конца V века до Р.Х. и далее, так же, как в сочинениях пифагорейцев — Филолая, Архита — дорический. Но софисты, часто наезжавшие в Афины, уже переходят с ионийского наречия на аттическое, и всецело ему принадлежит афинянин Сократ. Правда, от Сократа не осталось для потомства ни одной строчки прозы; и все-таки он занимает выдающееся место в истории греческой литературы, так как его неподражаемые по диалектической тонкости «сократические» беседы послужили образцами для литературного диалога. Его художником стал гениальнейший ученик Сократа — Платон. Всего непринужденнее диалогическая форма в тех его сочинениях, где какое-нибудь нравственное понятие, вроде благочестия («Евтифрон»), мужества («Лахет») или скромности («Хармид»), является предметом всестороннего обсуждения собеседников; но нас еще более пленяют его крупные диалоги, как «Федон» (о душе), «Пир» (о любви), «Горгий» (о нравственности) и в особенности «Государство», в которых глубокомысленное содержание сочетается с художественной формой и, кроме того, философский диалог вставлен в красивую бытовую рамку, наглядно знакомящую нас с его участниками, и прежде всего, конечно, с Сократом. И тут незабвеннее всех «Федон», описывающий со слов очевидца последние часы этого праведника, проведенные им среди его учеников в тюрьме. Более специальный интерес представляют философско-конструктивные диалоги, вроде «Теэтета» (о знании), «Филеба» (об удовольствии»), «Тимея» (о мироздании); здесь диалогическая форма чувствуется даже как некоторое стеснение самодовлеющей мысли писателя. Литературные критики древности верно уловили основную черту писательского таланта Платона, назвав ее «обилием». На читателей новой Европы (уже начиная с Декарта) это обилие подчас производит впечатление многословия, которое, однако, тотчас исчезает, если припомнить, что Платон писал для еще не вышколенных логикой читателей, которых нужно было приучать к отвлеченному мышлению.
Эту логику создал, как уже было сказано, Аристотель. Его богатое литературное наследие, соответственно его двойной деятельности — экзотерической и эзотерической, состояло 1) из популярных диалогов, в которых сказывался, по отзыву Цицерона, «золотой поток его красноречия». Все же этот «перипатетический» диалог существенно отличался от «сократического»: в нем оба противника, каждый в связной речи, доказывали свое положение, после чего третье лицо развивало ten areskusan, то есть мнение самого автора. Нам диалоги Аристотеля не сохранены, а между тем именно они и относятся к литературе как искусству. Не относятся к ней 2) сохранившиеся многочисленные трактаты Аристотеля из разных областей философии, указанных выше, с. 160, очень глубокие и важные по содержанию, но сухие и небрежные по форме. Многие из них имели своим основанием 3) очень объемистые своды материалов, вроде того огромного сочинения о греческих «политиях», из которого нам недавно возвращена египетскими песками драгоценная книга «О государстве афинском»[16].
Третья отрасль художественной прозы, красноречие, возникает и расцветает именно в нашу эпоху. Древние очень толково делили всю область красноречия на красноречие: 1) судебное, 2) политическое и 3) торжественное. Выше (с. 141) было указано, как создались в Афинах условия для возникновения судебного красноречия; а раз судебные речи записывались (к чему естественно вела судебная логография), то их примеру вскоре последовали и политические, и торжественные.
История аттического красноречия делится на два периода. Вдохновителем первого был софист Горгий, приведший в 427 году до Р.Х. в восторг афинскую публику своими искусными «антитезами» и (часто рифмованными) «изоколами»[17]. Впрочем, практическое красноречие лишь умеренно могло воспользоваться этим прикрасами. Его чиноначальником был суровый аристократ Антифонт, поплатившийся жизнью в 411 году до Р.Х. за участие в политическом перевороте. Его сохранившиеся речи подкупают своей трезвостью и деловитостью, но их композиция еще очень неумела. За ним следуют уже принадлежащие IV веку до Р.Х. Лисии и Исей. Первый — мастер судебного рассказа и психологии, второй — мастер судебных доказательств. Счастливее был все-таки первый; сравнивая обоих, древние говорили, что Лисий возбуждает доверие даже там, где он не прав, Исей — недоверие даже там, где он прав.
Таков был V век до Р.Х. в развитии аттической трагедии. О IV веке мы ничего сказать не можем; поэтов было много, и некоторыми из них очень увлекались, но ни драм, ни наглядных известий о них нет. Быть может, в этом заключается крупная несправедливость по отношению к ним; мы ее исправить не в силах, для нас с годом разгрома Афин пелопоннесцами кончается и творческая эпоха аттической трагедии.
Несколько иначе отразился этот роковой год на другой крупной отрасли афинской драмы, на комедии. Возникла она из двух корней — обличительных песен ряженых против своих обидчиков (это и есть komodia в первоначальном смысле, как песнь komos'a, то есть подгулявшей компании) и бытовой сценки, которая, однако, кроме человеческого быта могла задеть и божий, забавно пародируя соответствующие мифы. Эта бытовая сценка в своем самобытном виде встречается во многих местах — в Сиракузах она даже имела очень крупного поэта, современника Эсхила Эпихарма, и под именем «мима» продолжала существовать во все эпохи Античности; но в Афинах она соединилась с упомянутой обличительной песнью и стала тем, чем ее знает V век до Р.Х., — политической комедией. Ее главными представителями были: Кратин, современник и враг Перикла, и Евполид с Аристофаном, современники пелопоннесской войны. Нам только от последнего сохранены комедии, числом одиннадцать, и это наследие — едва ли не самый оригинальный дар всей античной литературы. Никогда впоследствии свобода обличительного слова не была столь полной; поражаешься силой афинской государственности, что она могла сносить в течение целых двух поколений на всенародной сцене такую беспощадную критику. Аристофан — чтобы ограничиться им — забрасывает своими насмешками и могущественных демагогов, вроде Клеона, Гипербола, Клеофонта, и представителей несимпатичных ему духовных течений — Еврипида, Агафона, софистов... С болью в сердце находим мы среди последних и Сократа, но сам Сократ добродушно смеялся над карикатурой своей личности в комедии своего остроумного противника, и Платон представил обоих в приятельской беседе друг с другом и с Агафоном в своем «Пире». Это потому, что в политической комедии яд насмешки был обезврежен всеобщим дионисическим настроением; злопамятствовать не полагалось «высмеянному в унаследованных от отцов торжествах Диониса».
Но удар, ниспровергший гегемонию Афин, сломил также их выносливость в области политической насмешки; в IV веке до Р.Х. комедия присмирела. Лишившись своего обличительного задора, она занялась разработкой в более или менее шаржированном виде тогдашнего быта преимущественно золотой молодежи Афин с ее кутежами, мишурными страстями и мишурным горем. Плодовитость поэтов при этой легкой работе стала еще большей: Антифан, Алексид и другие оставили по несколько сот комедий каждый. Но в качественном отношении эта «среднеаттическая комедия», как мы ее называем, так же свидетельствует об отливе творческих сил народа, как и вся прочая поэзия IV века до Р.Х. Ее историческое значение заключается в том, что она подготовила новый расцвет комедии — новоаттическую комедию Менандра — в следующем периоде.
Переходя затем к области прозы, мы должны и здесь отметить постепенный переход от ионийского языка к аттическому, обусловленный притягательной силой Афин также и для этой отрасли литературы.
Историографию эллинского периода мы закончили Гекатеем; среди младших логографов, живших уже после персидских войн, особенно замечателен лесбосец Гелланик (Hellanikos, не сохранилось), открывший новые методы историографии; не довольствуясь генеалогиями, он использовал старинные, монументальные хронологические записи (между прочим, аргосских жриц Геры), а также составил на основании местных преданий первую историю Аттики под эолийским, позднее ставшим техническим, заглавием «Атфиды» (Atthis). А впрочем, он, хотя и эолиец, писал на общелитературном ионийском наречии, так же как и его славный современник, уроженец дорического Галикарнаса, Геродот, «отец истории», как его называет Цицерон. Свое крупное историческое повествование, разделенное позднее на девять книг, он издал «для того, чтобы не изгладились из памяти потомства великие дела как эллинов, так и варваров, и в особенности, как они воевали друг с другом». Ведет он его издалека, переходя от истории Лидии к истории царей персидских и рассказывая, в связи с вселенскими походами этих последних, историю и быт тех народов, против которых эти походы были направлены (так, в связи с походом Дария против скифов дано описание древней Скифии, см. выше, с. 124). С V книги идет уже рассказ о грекоперсидской войне (V книга — ионийское восстание, VI — Марафон, VII — Фермопилы, VIII — Саламин, IX — Платея и Микале). Но он далеко не строго придерживается своей повествовательной нити, позволяя себе ежеминутные отступления; и эта вольность придает его рассказу неподражаемую прелесть. Историческая критика у него еще слаба: основывая свое повествование на устных сведениях, лично добытых им во время его долгих путешествий, он широкой струей вливает легенду в свою историю; себя он выгораживает добродушным заявлением, что «считает своим долгом все записать, что он слышал, но не считает своим долгом всему верить» (Гер. VII, 152). Божий перст в истории он признает и к оракулам относится доверчиво, но настоящих чудес не допускает, стараясь их устранить рационалистическим толкованием. Вторую половину своей жизни Геродот провел уже в Афинах как приближенный Перикла. Здесь он имел счастье вдохновить своего великого ученика, Фукидида, первого афинского историка. Фукидиду мы обязаны монументальным сочинением о пелопоннесской войне с обстоятельным введением, в котором между прочим вкратце рассказывается история Греции за «пятидесятилетие» между Микале и вторжением пелопоннесцев; позднее это сочинение было разделено на VIII книг (I — введение; II-IV — до мира Никия; V — худой мир; VI-VII — сицилийская экспедиция; VIII — декейская война до 409 года до Р.Х., на которой изложение обрывается — вероятно, за смертью автора). Строгая историческая критика и безусловное стремление к истине отличают это сочинение; в лице Фукидида историография возмужала. Легенда устранена, история секуляризована. Желание быть объективным не позволяет автору самому разрешать вопросы о правоте той или другой стороны: он предоставляет им самим отстаивать свою правду в обстоятельных речах, которые он влагает в уста их представителей, — прием, которому впоследствии многие подражали. Язык изложения труден, но читатель не раскается в усилиях, потраченных на его изучение, — до того богат мыслью пишущий им автор.
Продолжателем труда Фукидида был Ксенофонт, доведший в VII книге своих «Hellenika» греческую историю до смерти Эпаминонда в 362 году до Р.Х., ему же принадлежит и знаменитый «Анабасис», описание похода Кира Младшего против Артаксеркса Персидского и смелого возвращения его греческого наемного войска под предводительством Ксенофонта из долины Евфрата к Эгейскому морю, и еще ряд других сочинений. Необыкновенно разносторонний в своих интересах — сельский хозяин, охотник, наездник, финансист, полководец и, в довершение всего, писатель, — он с ранних лет стал учеником Сократа, память о котором он увековечил в своих «Воспоминаниях», но стал им не ради философии, а ради жизни. Как стилист, он стоит чрезвычайно высоко; впервые под его пером аттическая речь пришла к сознанию своей природной легкости и гибкости. Его сочинения стали впоследствии школой греческого языка, вплоть до наших дней. Как историк он хранит заветы Фукидида, но ему недостает глубокомыслия и политической мудрости этого его образца.
Вторая отрасль прозы, философия, вначале тоже пользуется ионийским языком; а вне Афин, в сочинениях Демокрита и Гиппократа с его школой, ионийский язык сохранился до конца V века до Р.Х. и далее, так же, как в сочинениях пифагорейцев — Филолая, Архита — дорический. Но софисты, часто наезжавшие в Афины, уже переходят с ионийского наречия на аттическое, и всецело ему принадлежит афинянин Сократ. Правда, от Сократа не осталось для потомства ни одной строчки прозы; и все-таки он занимает выдающееся место в истории греческой литературы, так как его неподражаемые по диалектической тонкости «сократические» беседы послужили образцами для литературного диалога. Его художником стал гениальнейший ученик Сократа — Платон. Всего непринужденнее диалогическая форма в тех его сочинениях, где какое-нибудь нравственное понятие, вроде благочестия («Евтифрон»), мужества («Лахет») или скромности («Хармид»), является предметом всестороннего обсуждения собеседников; но нас еще более пленяют его крупные диалоги, как «Федон» (о душе), «Пир» (о любви), «Горгий» (о нравственности) и в особенности «Государство», в которых глубокомысленное содержание сочетается с художественной формой и, кроме того, философский диалог вставлен в красивую бытовую рамку, наглядно знакомящую нас с его участниками, и прежде всего, конечно, с Сократом. И тут незабвеннее всех «Федон», описывающий со слов очевидца последние часы этого праведника, проведенные им среди его учеников в тюрьме. Более специальный интерес представляют философско-конструктивные диалоги, вроде «Теэтета» (о знании), «Филеба» (об удовольствии»), «Тимея» (о мироздании); здесь диалогическая форма чувствуется даже как некоторое стеснение самодовлеющей мысли писателя. Литературные критики древности верно уловили основную черту писательского таланта Платона, назвав ее «обилием». На читателей новой Европы (уже начиная с Декарта) это обилие подчас производит впечатление многословия, которое, однако, тотчас исчезает, если припомнить, что Платон писал для еще не вышколенных логикой читателей, которых нужно было приучать к отвлеченному мышлению.
Эту логику создал, как уже было сказано, Аристотель. Его богатое литературное наследие, соответственно его двойной деятельности — экзотерической и эзотерической, состояло 1) из популярных диалогов, в которых сказывался, по отзыву Цицерона, «золотой поток его красноречия». Все же этот «перипатетический» диалог существенно отличался от «сократического»: в нем оба противника, каждый в связной речи, доказывали свое положение, после чего третье лицо развивало ten areskusan, то есть мнение самого автора. Нам диалоги Аристотеля не сохранены, а между тем именно они и относятся к литературе как искусству. Не относятся к ней 2) сохранившиеся многочисленные трактаты Аристотеля из разных областей философии, указанных выше, с. 160, очень глубокие и важные по содержанию, но сухие и небрежные по форме. Многие из них имели своим основанием 3) очень объемистые своды материалов, вроде того огромного сочинения о греческих «политиях», из которого нам недавно возвращена египетскими песками драгоценная книга «О государстве афинском»[16].
Третья отрасль художественной прозы, красноречие, возникает и расцветает именно в нашу эпоху. Древние очень толково делили всю область красноречия на красноречие: 1) судебное, 2) политическое и 3) торжественное. Выше (с. 141) было указано, как создались в Афинах условия для возникновения судебного красноречия; а раз судебные речи записывались (к чему естественно вела судебная логография), то их примеру вскоре последовали и политические, и торжественные.
История аттического красноречия делится на два периода. Вдохновителем первого был софист Горгий, приведший в 427 году до Р.Х. в восторг афинскую публику своими искусными «антитезами» и (часто рифмованными) «изоколами»[17]. Впрочем, практическое красноречие лишь умеренно могло воспользоваться этим прикрасами. Его чиноначальником был суровый аристократ Антифонт, поплатившийся жизнью в 411 году до Р.Х. за участие в политическом перевороте. Его сохранившиеся речи подкупают своей трезвостью и деловитостью, но их композиция еще очень неумела. За ним следуют уже принадлежащие IV веку до Р.Х. Лисии и Исей. Первый — мастер судебного рассказа и психологии, второй — мастер судебных доказательств. Счастливее был все-таки первый; сравнивая обоих, древние говорили, что Лисий возбуждает доверие даже там, где он не прав, Исей — недоверие даже там, где он прав.
 Вдохновителем второго периода был Исократ, великий учитель всей интеллигенции IV века до Р.Х. Сам он издавал образцовые речи торжественного характера (между прочим, «Панегирик», то есть речь в праздничном собрании, заглавие которой поныне осталось нарицательным); в них он научил эллинов продуманной композиции, плавной и звучной периодизации речи и вообще создал стиль греческой прозы, отныне обязательный для всех дорожащих литературной славой писателей. Сам он, безусловно, жертвовал содержанием ради формы, вследствие чего его речи, довольно многочисленные, более поучительны, чем интересны. Но на вспаханной им ниве выросли три ярких таланта, озарившие своим светом сумерки афинской свободы в эпоху Филиппа Македонского — Демосфен, Эсхин и Гиперид[18]. Речи последнего, постепенно воскресающие из египетских могил, все же недостаточно отражают его страстный, увлекающийся характер, странно сотканный из распутства (ср. историю с Фриной) и беззаветной преданности родине. При чтении речей Эсхина к наслаждению, доставляемому их бесспорными формальными красотами, примешивается досада от сознания того, что это — речи предателя, под личиной законности служившего врагу его отечества. А впрочем, полезно будет помнить, что он, вынужденный наконец покинуть Афины, переселился на Родос, где стал учителем красноречия, и что от него ведет начало тот родосский стиль, последним ярким представителем которого был, три века спустя, Цицерон. Самое чистое удовлетворение доставляет читающему Демосфен, бесстрашный защитник Афин и Греции против захватов Филиппа, неукоснительно верный своим идеалам до своей героической смерти в 322 году до Р.Х. Особенно в его «Филипповских речах», кратких, но сильных, чувствуется веяние исторического духа: не часто встречается в истории человечества, чтобы момент огромной мировой важности нашел отражение в сочинениях перворазрядного писателя, как здесь. Правда, читатель, избалованный эффектностью и прикрасами новейшего красноречия, будет разочарован: Демосфен увлекает содержанием, мыслью, волей, в форме же он трезв, сжат и подчас даже сух, и древние, сравнивая его с его страшим современником, Платоном, охотно сопоставляли «силу» одного с «обилием» другого. Они заботливо сохранили нам его богатое наследие, обнимающее, кроме политических речей, и много судебных (среди них особенно интересна пространная речь «О венке», в которой он в связи с присуждением ему гражданского венка защищает свою деятельность против нападений Эсхина). Благодаря этому мы получаем редкостно полное впечатление от этого великого мужа, которого мы и по его речам представляем себе таковым, каким его изображает дивная ватиканская статуя — грустно опускающим изрытое морщинами чело и сложенные руки на могилу греческой свободы.
Вдохновителем второго периода был Исократ, великий учитель всей интеллигенции IV века до Р.Х. Сам он издавал образцовые речи торжественного характера (между прочим, «Панегирик», то есть речь в праздничном собрании, заглавие которой поныне осталось нарицательным); в них он научил эллинов продуманной композиции, плавной и звучной периодизации речи и вообще создал стиль греческой прозы, отныне обязательный для всех дорожащих литературной славой писателей. Сам он, безусловно, жертвовал содержанием ради формы, вследствие чего его речи, довольно многочисленные, более поучительны, чем интересны. Но на вспаханной им ниве выросли три ярких таланта, озарившие своим светом сумерки афинской свободы в эпоху Филиппа Македонского — Демосфен, Эсхин и Гиперид[18]. Речи последнего, постепенно воскресающие из египетских могил, все же недостаточно отражают его страстный, увлекающийся характер, странно сотканный из распутства (ср. историю с Фриной) и беззаветной преданности родине. При чтении речей Эсхина к наслаждению, доставляемому их бесспорными формальными красотами, примешивается досада от сознания того, что это — речи предателя, под личиной законности служившего врагу его отечества. А впрочем, полезно будет помнить, что он, вынужденный наконец покинуть Афины, переселился на Родос, где стал учителем красноречия, и что от него ведет начало тот родосский стиль, последним ярким представителем которого был, три века спустя, Цицерон. Самое чистое удовлетворение доставляет читающему Демосфен, бесстрашный защитник Афин и Греции против захватов Филиппа, неукоснительно верный своим идеалам до своей героической смерти в 322 году до Р.Х. Особенно в его «Филипповских речах», кратких, но сильных, чувствуется веяние исторического духа: не часто встречается в истории человечества, чтобы момент огромной мировой важности нашел отражение в сочинениях перворазрядного писателя, как здесь. Правда, читатель, избалованный эффектностью и прикрасами новейшего красноречия, будет разочарован: Демосфен увлекает содержанием, мыслью, волей, в форме же он трезв, сжат и подчас даже сух, и древние, сравнивая его с его страшим современником, Платоном, охотно сопоставляли «силу» одного с «обилием» другого. Они заботливо сохранили нам его богатое наследие, обнимающее, кроме политических речей, и много судебных (среди них особенно интересна пространная речь «О венке», в которой он в связи с присуждением ему гражданского венка защищает свою деятельность против нападений Эсхина). Благодаря этому мы получаем редкостно полное впечатление от этого великого мужа, которого мы и по его речам представляем себе таковым, каким его изображает дивная ватиканская статуя — грустно опускающим изрытое морщинами чело и сложенные руки на могилу греческой свободы.
 Через двадцать лет наступили новые смуты. Царство Лисимаха было разгромлено Селевком, но присоединить его ему не удалось: вскоре после его победы последовало вторжение дикого племени галлов на фракофригийскую территорию, результатом чего был новый хаос. Когда он прояснился, около 240 году до Р.Х., определились следующие новые политические организмы: 1) самое важное для культурной истории царство Аттала в Мизии и Фригии с главным городом Пергамом (так называемое Пергамское царство); 2) Вифиния на Пропонтиде, медленно и туго поддававшаяся эллинизации; 3) Галатия, то есть земли, куда были оттеснены вторгшиеся галльские племена после их разгрома Атталом, с главным городом Анкирой (ныне Анкара); 4) Понт с Каппадокией в южном Черноморье, слабо эллинизованный и лишь в I веке прогремевший на весь мир благодаря знаменитому Митридату (о пограничном Боспорском царстве см. § 3); 5) царство парфян (приблизительно нынешняя Персия), около этого времени отщепившееся от царства Селевкидов и организовавшееся под собственной династией как возрождение древней Персии. Вследствие этого царство Селевкидов было ограничено Сирией и Месопотамией; а так как его главный город Антиохия лежал в первой из них, то его и принято называть Сирийским царством; 6) Фракия, полудикая страна.
К этим эллинистическим монархиям следует, однако, еще причислить следующие две, сыгравшие крупную роль в истории Запада: 1) Эпир, полудикая страна молоссов (выше, с.20), династия которого вела свое происхождение от Ахилла. Он просиял в начале III века до Р.Х. благодаря своему царю, гениальному авантюристу Пирру, 2) Сиракузское царство в Сицилии, уже с конца V века до Р.Х. подпавшее тиранам, из коих последний, умный Иерон Второй (264-215 годы до Р.Х.), назвал себя царем и даровал своему государству последний период расцвета.
С III века до Р.Х. этот эллинистический мир начинает испытывать тяготение к Риму; первым подчинилось ему Сиракузское царство в 212 году до Р.Х., что было одним из эпизодов второй пунической войны. Во II веке до Р.Х. предметом интереса Рима становятся и страны по ту сторону Адриатического моря; начинается постепенное присоединение к нему эллинистических царств в следующем порядке: Македонии в 146 году до Р.Х., Пергама в 133 году до Р.Х., Вифинии в 74 году до Р.Х., Понта и Сирии в 63 году до Р.Х., Египта в 30 году до Р.Х. С этого времени одно только Парфянское царство оставалось непокоренным и грозным соседом Рима до самого конца его истории в античные времена.
§ 2. Собственно Греция. Как мы видели выше (с. 122), господство Македонии над собственно Грецией приняло форму гегемонии; ее условия были определены на созванном царем Филиппом коринфском конгрессе в 338 году до Р.Х., незадолго до его смерти. Эта последняя вызвала в Греции восстание, быстро подавленное Александром Великим разрушением его соперника по гегемонии, Фив; но ни тогда, ни когда-либо после не удалось Македонии подчинить себе греческие города. Они продолжали пользоваться самоуправлением, где более, где менее стесненным вмешательством северной соседки, гегемония которой при Антигонидах была большей частью фиктивной. В частности, мы можем проследить историю следующих городов и союзов.
1. Афины после херонейского погрома не только не пострадали, но достигли даже под управлением оратора Ликурга нового, хотя и краткого расцвета (338-327 годы до Р.Х.), так что эту Ликургову эпоху сравнивают даже с эпохой Перикла. Но время после смерти Александра было для них временем болезненных содроганий, причем борьба против македонской гегемонии осложнялась внутренней борьбой между демократией и аристократией. Особенно бедственным было восстание в 295 году до Р.Х.: оно истощило последние финансовые силы государства, пришлось даже расплавить золотую ризу Афины-Девы, творения Фидия. После него в течение целого столетия с лишком Афины только прозябают как одно из многих маловажных греческих государств.
Интересное преобразование происходит во II веке: Афины начинают жить своим великим прошлым. Стремящийся к культуре Рим уважает в них главного творца этой культуры; он всячески им покровительствует, дарит им новые владения; даже покорение Греции в 146 году до Р.Х. не приносит им вреда, так как они сохраняют положение «свободного города» (civitas libera). Конституция окончательно реформируется в аристократическом духе, причем главным органом управления опять делается, как в досолоновскую эпоху, ареопаг (выше, с.74); благосостояние города растет, его охотно навещают римские вельможи и еще охотнее посылают они туда своих сыновей для посещения афинского университета, образовавшегося из соединения различных философских школ (ниже, § 6).
Правда, неблагоразумное присоединение Афин к Митридату имеет последствием их жестокую осаду Суллой (83 год до Р.Х.) и новый разгром, оставивший на Сароническом заливе лишь «трупы городов»; все же они оправились и от него и к концу республики опять стали для Рима городом великого прошлого, как в наши дни Флоренция, или Венеция, или — сам Рим.
2. Спарта уже после победы Эпаминонда и отнятия Мессении (выше, с. 122) должна была пережить тяжелый финансовый кризис, который не дал ей принимать сколько-нибудь деятельное участие в столкновении Греции с Македонией; события прошли мимо нее. Результатом кризиса было нарушение равенства земельных наделов, этого источника военной силы Спарты, и скопление богатств в руках немногочисленной многоземельной олигархии. Этому положению вещей попытались положить конец два один за другим правивших царя III века, Агид и Клеомен, поставивших себе задачу восстановить Ликурговы законы, равенство наделов и, следовательно, вернуть земле массу обезземеленного спартанского населения. Агид пал жертвой этой попытки, но Клеомен не только ее осуществил — он поднял значение Спарты и стал одним из могущественнейших царей своего времени. Но его политика вызвала конфликт со всесильным в Пелопоннесе Ахейским союзом (ниже, под пунктом 4); не будучи в состоянии сломить Клеомена силами самого союза, полководец ахейцев Арат призвал на помощь македонцев. Общими усилиями им удалось разгромить Спарту при Селласии (222 год до Р.Х.) и восстановить в ней, после бегства Клеомена, прежний непорядок. Последовал еще ряд содроганий вплоть до подчинения Греции Риму в 146 году до Р.Х. Рим, впрочем, отнесся и к Спарте романтически и дал ей управляться по Ликурговым законам, сохранить свои фидитии и всю прочую военно-гражданскую организацию, которая теперь, когда ее «атлеты войны» уже ничего не значили среди стотысячных армий владыки мира, отдавала горькой иронией. С ней она перешла в эпоху империи и медленно угасла как один из маловажных городков оскудевшего Пелопоннеса.
3. Этолийский союз. То влияние на судьбы Греции, которое ускользнуло из рук передовых держав эпохи расцвета, естественно перешло к союзам государств средней руки, еще не использовавших свои силы. Первый из них образовался по почину полудикого племени этолийцев (выше, с. 19); сначала оно само перешло от сельского быта к городскому и организовалось в союз этолийских городов, а затем привлекло ряд других государств, главным образом в средней Греции, но также и в Пелопоннесе (например, Элиду). Случилось это около 280 года до Р.Х. Высшая исполнительная власть находилась в руках ежегодно избираемого, но с правом переизбрания, стратега, высшая законодательная — в руках веча, собиравшегося в этолийском посаде Ферме (Thermon); так как правом голоса в нем пользовались все этолийцы, а этолийцами считались и все присоединившиеся к союзу народы, то мы и здесь имеем, в принципе, плебисцитарную демократию (выше, с.79). Особое значение получило присоединение, хотя и вынужденное, к союзу Дельфов. Правда, они были сильно ослаблены — и материально фокидскими грабежами в середине IV века до Р.Х., и нравственно — вторичной изменой национальному делу (выше, с. 123), но все же это были Дельфы, и обладание ими позволило этолийцам занять место древней амфиктионии (выше, с.78) и окружить свое дело известным религиозным обаянием, особенно после того, как им удалось в 279 году до Р.Х. отразить от горы Аполлона натиск галльских полчищ (выше, с. 193). Вообще же их деятельность состояла в беспрестанных войнах с македонскими Антигонидами, что естественно повело к союзу с Римом. Но во II веке до Р.Х. этот союзник справедливо показался им опаснее самого врага, и они перешли на сторону сирийского царя Антиоха Великого; результатом было то, что Рим после победы над Антиохом при Магнесии в 189 году до Р.Х. распустил Этолийский союз и восстановил дельфийскую амфиктионию на прежних началах. Так-то он просуществовал всего около ста лет.
4. Ахейский союз образовался по образцу этолийского и в противовес ему, тоже около 280 года до Р.Х., преимущественно из пелопоннесских государств под главенством пелопоннесской же Ахайи; но свое значение он получил лишь в 251 году до Р.Х., когда его стратегом стал Арат Сикионский, присоединивший к нему и свою родину, и ряд других городов, в том числе Коринф, который стал столицей союза. Все же без посторонней помощи он обходиться не мог; сначала его покровителем был птолемеевский Египет, затем, когда Клеомен спартанский стал его теснить, Арат заключил союз с Македонией; после поражения Македонии в 196 году до Р.Х. ахейцы обратились к протекторату Рима. Но рука Рима тяжело лежала на их свободе; под конец они восстали, и это восстание повело ко вторжению римских легионов, к осаде и разрушению Коринфа Муммием в 146 году до Р.Х. и к обращению Греции (кроме нескольких свободных городов, главным образом Афин) в провинцию, которая получила название Ахайи. Для нас Ахейский союз драгоценен главным образом тем, что он дал нам в лице Полибия (см. ниже, § 10) самого крупного после Фукидида греческого историка.
Рим оставил греческим городам их общинное самоуправление, повсюду введя аристократический режим; высшая власть, как и вообще в провинциях, находилась в руках наместника (пропретора). В 46 году до Р.Х. Коринф был восстановлен, но уже как интернациональный и преимущественно римский город и столица провинции; он сыграл немалую роль в истории христианизации римского государства. Дань, уплачиваемая общинами Риму, была сносна; хуже было то, что богатые художественные сокровища страны возбуждали алчность наместников-любителей, что имело последствием бесконечные грабежи, доводившие до отчаяния хранителей наследия Фидиев и Зевксидов.
5. Родос. Ни один из названных политических организмов не унаследовал торгового значения Афин, которое от них отошло после названных политико-экономических кризисов; унаследовал его Родос. Его рост начался еще с 407 года до Р.Х., когда его три главных общины — Линд, Иалис и Камир — путем синэкизма (с.78) соединились и образовали центральную общину, получившую название самого острова. В III веке до Р.Х. Родос становится морской державой и в качестве таковой — счастливым соперником самого могущественного на море эллинистического царства, птолемеевского Египта. Когда значение последнего с конца этого века пошло на убыль, Родос еще более расцвел, он расширил свои владения за счет прилежащих островов, с другими заключил союз и стал настоящей Венецией эллинистической эпохи. Его военный флот сдерживал пиратов и прикрывал его торговые сношения, которые охватывали весь архипелаг и доходили до нашего Черноморья, сменяя и здесь угасшее значение Афин. Это величие вызвало во II до Р.Х. веке ревность Рима, который всячески старался ослабить его и с этой целью после победы над Персеем македонским даровал Афинам Делос в виде порто-франко (166 год до Р.Х.). С этого времени начинается упадок Родоса и, как его последствие, возвышение могущества пиратов, имевших свои гнезда в неприступных бухтах гористой Киликии. Все же он и в I веке до Р.Х. был значительным культурным центром, пока его не разорил в 43 году до Р.Х. Кассий, убийца Цезаря. С тех пор он растворился в римском государстве.
§ 3. Эллинство в Северном Причерноморье. Из трех частей, на которые распадается его территория (выше, с. 125), наиболее бедственную судьбу испытала Ольвия. Роковым для нее был тот самый сдвиг северных племен, одним из эпизодов которого было вторжение галлов (выше, с. 193) в царство Лисимаха. Вследствие него соседями ольвиополитов оказались не одни только миролюбивые скифы, но и дикие сарматы, давно успевшие перейти Дон, не менее дикие саи и те же галлы-галаты. Ольвия обеднела и от разорительных набегов, и от жестокой дани, которой она должна была откупаться от царей пришлых племен. Некоторое время щедрость самоотверженных граждан помогала ей выносить все эти испытания; но к концу III века до Р.Х. все средства истощились, и она подпала власти скифских царей. Так бесславно прошел для нее II век. В I веке до Р.Х. мы опять видим ее свободной, но ненадолго; около середины этого века ей был нанесен новый тяжелый удар, о котором придется сказать в отделе В (§ 2).
Все же наша эпоха, постепенно разрушая политическое и экономическое значение Ольвии, прославила ее на скрижалях словесности: в III веке до Р.Х. жил человек, в котором мы вправе видеть первого писателя русской земли — Бион-Борисфенит. Как сын отпущенника, он был скорее всего скифского происхождения; его отец, будучи мытарем, обанкротился и был продан в рабство со всей семьей; Бион стал рабом богатого ритора, который оставил его наследником своего состояния. Он воспользовался им для того, чтобы посвятить себя в Афинах изучению философии; здесь могучая проповедь Кратета, ученика Диогена (выше, с. 155), сделала его киником: он надел сермягу и суму и пошел в народ. О его литературном значении см. § 10.
Вторая крупная колония Черноморья, Херсонес, вначале благоденствовала; но со второй половины II века до Р.Х. и для нее наступили тяжелые времена. Притеснения со стороны таврических скифов усилились; ее верная метрополия, Гераклея Понтийская, не могла ей помогать, так как сама тогда составляла часть монархии — Вифинии. Одно время она нашла заступничество у естественных врагов своих врагов, сарматов, и историческая легенда отметила решительные действия в пользу херсонеситов сарматской царицы Амаги; но к концу столетия скифское засилие стало невыносимым, и Херсонес обратился за помощью к великому царю Понта, Митридату VI Евпатору. Тот, охотно выступавший в роли покровителя эллинства, послал Херсонесу на помощь войско под начальством энергичного Диофанта. Диофант оттеснил скифов и в видах укрепления эллинства в Тавриде основал к северо-западу от Херсонеса новую греческую колонию, которую он назвал в честь своего государя Евпаторией; но вслед за тем он объявил подзащитный город собственностью Митридата. За ним и его домом он и остался, даже после разгрома Понта римлянами, вплоть до конца нашей эпохи.
Наконец, третий центр черноморского эллинства, Пантикапей, ставший еще в V веке до Р.Х. столицей Боспорского царства, продолжал некоторое время процветать под сильной властью Спартокидов и в III веке до Р.Х. был опасным соперником своего западного соседа Херсонеса. Правда, его экономическое значение должно было несколько пошатнуться с тех пор, как, благодаря воцарению Птолемеев, Египет перестал быть замкнутой страной и верный хлеб Нила сменил в междуэллинской торговле боспорский. Но критическая эпоха наступила для Боспора одновременно с Херсонесом лишь во второй половине II века до Р.Х. из-за тех же скифов. Не будучи в состоянии с ними сладить, последний Спартокид, Перисад III, передал власть Митридату Евпатору, который вскоре затем присоединил к своим северным владениям, как мы видели, и Херсонес и, таким образом, впервые объединил Тавриду. Своим наместником в Боспоре он сделал своего сына Фарнака, который, однако, отплатил ему гнусной изменой, когда он, разбитый Помпеем в 65 году до Р.Х. и лишенный отцовского царства, искал убежища у победителя. Купив этой изменой милость Рима, Фарнак остался царем Боспора; но когда он в 47 году до Р.Х. хотел воспользоваться римскими междоусобицами для завоевания своего отцовского царства, Цезарь разбил его наголову при малоазиатской Зеле. Эта легкая победа дала победителю повод к его знаменитому veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил). Тут Фарнак испытал участь своего отца: против него восстал его боспорский наместник Асандр, который, в свою очередь, благодаря этой измене удержал за собой Боспорское царство. Так обстояли дела в Тавриде, когда начался для всего эллинистического Востока римский период его жизни.
§ 4. Колонизационное движение. Эпоха эллинизма, особенно ее начало, была эпохой нового колонизационного движения, рассеявшего семена эллинизма по всему пространству прежнего персидского государства. Пример подал сам Александр Великий, основавший в течение своей краткой жизни до семидесяти колоний, которые почти все получили его имя. Из них самая значительная та, которую мы поныне так называем, — Александрия в Египте, ставшая столицей птолемеевского царства и наложившая свою печать на всю культуру эллинистического периода, который поэтому нередко называется александрийским.
Вообще основанные Александром города можно разделить на три части: 1) Александрии-гавани; сюда относятся, кроме только что названной, еще главным образом Александрия в Сирии напротив Кипра (ныне Александретта) и Александрия у устья Тигра; 2) Александрии торговые, долженствовавшие служить транзитными пунктами по великому караванному пути, ведшему через все персидское царство до границ Индии, и заодно оберегать и его; 3) Александрии-крепости вдоль индийской границы по нынешнему Белуджистану, Афганистану вплоть до нашего Мерва. Из них последние сыграли огромную культурную роль: благодаря им эллинизм соприкоснулся с Индией, что повело к возникновению эллино-индийских государств, эллиноиндийского искусства и даже к передаче этой сказочной стране литературных зародышей (между прочим, вероятно, и зародышей драмы). А так как впоследствии началась культурная миссия буддизма на Дальнем Востоке, то вместе с ней и названные семена эллинизма попали в эту струю, — в какой мере и с какой долей живучести, это покажут исследования будущего. Отщепление парфянского государства в 247 году до Р.Х. нанесло серьезный урон этим дальним колониям, лишив их покровительства эллинской династии Селевкидов; все же они сослужили свою службу в деле частичной эллинизации Парфии, пока не заглохли сами под непреоборимым напором варварства. Но в этом варваризованном виде они существуют поныне (Кандагар, Герат), доказывая своим относительным значением дальновидность своего гениального царя-основателя.
Из диадохов более всего унаследовал колонизаторские наклонности умершего царя Селевк, по стопам которого пошли его преемники, Селевкиды. Сам Селевк основал до семидесяти пяти колоний, между прочим, ту, которую он сделал столицей своего царства, назвав ее по имени своего отца Антиохией («прекрасный город эллинов», как ее называли окружающие ее сирийцы) с ее гаванью Селевкией; там же вблизи и города, получившие имена царственных жен, — Лаодикею и Апамею. В Месопотамии получили особую важность Эдесса и Селевкия на Тигре, к которой с тех пор стало переходить культурное значение умирающего Вавилона. Страстный македонец и эллинофил, он свое царство хотел превратить как бы в новую Македонию; очень вероятно, что это крайнее эллинофильство, перешедшее и к его преемникам, повело к упомянутому отщеплению Парфии. Оно же вызвало конфликт Селевкидов с иудеями в Палестине, когда последние были ими отвоеваны у Птолемеев; а этот конфликт повел к отщеплению также и Иудейского царства в 168 году до Р.Х., которое, однако, и само стало более или менее эллинистическим.
Через двадцать лет наступили новые смуты. Царство Лисимаха было разгромлено Селевком, но присоединить его ему не удалось: вскоре после его победы последовало вторжение дикого племени галлов на фракофригийскую территорию, результатом чего был новый хаос. Когда он прояснился, около 240 году до Р.Х., определились следующие новые политические организмы: 1) самое важное для культурной истории царство Аттала в Мизии и Фригии с главным городом Пергамом (так называемое Пергамское царство); 2) Вифиния на Пропонтиде, медленно и туго поддававшаяся эллинизации; 3) Галатия, то есть земли, куда были оттеснены вторгшиеся галльские племена после их разгрома Атталом, с главным городом Анкирой (ныне Анкара); 4) Понт с Каппадокией в южном Черноморье, слабо эллинизованный и лишь в I веке прогремевший на весь мир благодаря знаменитому Митридату (о пограничном Боспорском царстве см. § 3); 5) царство парфян (приблизительно нынешняя Персия), около этого времени отщепившееся от царства Селевкидов и организовавшееся под собственной династией как возрождение древней Персии. Вследствие этого царство Селевкидов было ограничено Сирией и Месопотамией; а так как его главный город Антиохия лежал в первой из них, то его и принято называть Сирийским царством; 6) Фракия, полудикая страна.
К этим эллинистическим монархиям следует, однако, еще причислить следующие две, сыгравшие крупную роль в истории Запада: 1) Эпир, полудикая страна молоссов (выше, с.20), династия которого вела свое происхождение от Ахилла. Он просиял в начале III века до Р.Х. благодаря своему царю, гениальному авантюристу Пирру, 2) Сиракузское царство в Сицилии, уже с конца V века до Р.Х. подпавшее тиранам, из коих последний, умный Иерон Второй (264-215 годы до Р.Х.), назвал себя царем и даровал своему государству последний период расцвета.
С III века до Р.Х. этот эллинистический мир начинает испытывать тяготение к Риму; первым подчинилось ему Сиракузское царство в 212 году до Р.Х., что было одним из эпизодов второй пунической войны. Во II веке до Р.Х. предметом интереса Рима становятся и страны по ту сторону Адриатического моря; начинается постепенное присоединение к нему эллинистических царств в следующем порядке: Македонии в 146 году до Р.Х., Пергама в 133 году до Р.Х., Вифинии в 74 году до Р.Х., Понта и Сирии в 63 году до Р.Х., Египта в 30 году до Р.Х. С этого времени одно только Парфянское царство оставалось непокоренным и грозным соседом Рима до самого конца его истории в античные времена.
§ 2. Собственно Греция. Как мы видели выше (с. 122), господство Македонии над собственно Грецией приняло форму гегемонии; ее условия были определены на созванном царем Филиппом коринфском конгрессе в 338 году до Р.Х., незадолго до его смерти. Эта последняя вызвала в Греции восстание, быстро подавленное Александром Великим разрушением его соперника по гегемонии, Фив; но ни тогда, ни когда-либо после не удалось Македонии подчинить себе греческие города. Они продолжали пользоваться самоуправлением, где более, где менее стесненным вмешательством северной соседки, гегемония которой при Антигонидах была большей частью фиктивной. В частности, мы можем проследить историю следующих городов и союзов.
1. Афины после херонейского погрома не только не пострадали, но достигли даже под управлением оратора Ликурга нового, хотя и краткого расцвета (338-327 годы до Р.Х.), так что эту Ликургову эпоху сравнивают даже с эпохой Перикла. Но время после смерти Александра было для них временем болезненных содроганий, причем борьба против македонской гегемонии осложнялась внутренней борьбой между демократией и аристократией. Особенно бедственным было восстание в 295 году до Р.Х.: оно истощило последние финансовые силы государства, пришлось даже расплавить золотую ризу Афины-Девы, творения Фидия. После него в течение целого столетия с лишком Афины только прозябают как одно из многих маловажных греческих государств.
Интересное преобразование происходит во II веке: Афины начинают жить своим великим прошлым. Стремящийся к культуре Рим уважает в них главного творца этой культуры; он всячески им покровительствует, дарит им новые владения; даже покорение Греции в 146 году до Р.Х. не приносит им вреда, так как они сохраняют положение «свободного города» (civitas libera). Конституция окончательно реформируется в аристократическом духе, причем главным органом управления опять делается, как в досолоновскую эпоху, ареопаг (выше, с.74); благосостояние города растет, его охотно навещают римские вельможи и еще охотнее посылают они туда своих сыновей для посещения афинского университета, образовавшегося из соединения различных философских школ (ниже, § 6).
Правда, неблагоразумное присоединение Афин к Митридату имеет последствием их жестокую осаду Суллой (83 год до Р.Х.) и новый разгром, оставивший на Сароническом заливе лишь «трупы городов»; все же они оправились и от него и к концу республики опять стали для Рима городом великого прошлого, как в наши дни Флоренция, или Венеция, или — сам Рим.
2. Спарта уже после победы Эпаминонда и отнятия Мессении (выше, с. 122) должна была пережить тяжелый финансовый кризис, который не дал ей принимать сколько-нибудь деятельное участие в столкновении Греции с Македонией; события прошли мимо нее. Результатом кризиса было нарушение равенства земельных наделов, этого источника военной силы Спарты, и скопление богатств в руках немногочисленной многоземельной олигархии. Этому положению вещей попытались положить конец два один за другим правивших царя III века, Агид и Клеомен, поставивших себе задачу восстановить Ликурговы законы, равенство наделов и, следовательно, вернуть земле массу обезземеленного спартанского населения. Агид пал жертвой этой попытки, но Клеомен не только ее осуществил — он поднял значение Спарты и стал одним из могущественнейших царей своего времени. Но его политика вызвала конфликт со всесильным в Пелопоннесе Ахейским союзом (ниже, под пунктом 4); не будучи в состоянии сломить Клеомена силами самого союза, полководец ахейцев Арат призвал на помощь македонцев. Общими усилиями им удалось разгромить Спарту при Селласии (222 год до Р.Х.) и восстановить в ней, после бегства Клеомена, прежний непорядок. Последовал еще ряд содроганий вплоть до подчинения Греции Риму в 146 году до Р.Х. Рим, впрочем, отнесся и к Спарте романтически и дал ей управляться по Ликурговым законам, сохранить свои фидитии и всю прочую военно-гражданскую организацию, которая теперь, когда ее «атлеты войны» уже ничего не значили среди стотысячных армий владыки мира, отдавала горькой иронией. С ней она перешла в эпоху империи и медленно угасла как один из маловажных городков оскудевшего Пелопоннеса.
3. Этолийский союз. То влияние на судьбы Греции, которое ускользнуло из рук передовых держав эпохи расцвета, естественно перешло к союзам государств средней руки, еще не использовавших свои силы. Первый из них образовался по почину полудикого племени этолийцев (выше, с. 19); сначала оно само перешло от сельского быта к городскому и организовалось в союз этолийских городов, а затем привлекло ряд других государств, главным образом в средней Греции, но также и в Пелопоннесе (например, Элиду). Случилось это около 280 года до Р.Х. Высшая исполнительная власть находилась в руках ежегодно избираемого, но с правом переизбрания, стратега, высшая законодательная — в руках веча, собиравшегося в этолийском посаде Ферме (Thermon); так как правом голоса в нем пользовались все этолийцы, а этолийцами считались и все присоединившиеся к союзу народы, то мы и здесь имеем, в принципе, плебисцитарную демократию (выше, с.79). Особое значение получило присоединение, хотя и вынужденное, к союзу Дельфов. Правда, они были сильно ослаблены — и материально фокидскими грабежами в середине IV века до Р.Х., и нравственно — вторичной изменой национальному делу (выше, с. 123), но все же это были Дельфы, и обладание ими позволило этолийцам занять место древней амфиктионии (выше, с.78) и окружить свое дело известным религиозным обаянием, особенно после того, как им удалось в 279 году до Р.Х. отразить от горы Аполлона натиск галльских полчищ (выше, с. 193). Вообще же их деятельность состояла в беспрестанных войнах с македонскими Антигонидами, что естественно повело к союзу с Римом. Но во II веке до Р.Х. этот союзник справедливо показался им опаснее самого врага, и они перешли на сторону сирийского царя Антиоха Великого; результатом было то, что Рим после победы над Антиохом при Магнесии в 189 году до Р.Х. распустил Этолийский союз и восстановил дельфийскую амфиктионию на прежних началах. Так-то он просуществовал всего около ста лет.
4. Ахейский союз образовался по образцу этолийского и в противовес ему, тоже около 280 года до Р.Х., преимущественно из пелопоннесских государств под главенством пелопоннесской же Ахайи; но свое значение он получил лишь в 251 году до Р.Х., когда его стратегом стал Арат Сикионский, присоединивший к нему и свою родину, и ряд других городов, в том числе Коринф, который стал столицей союза. Все же без посторонней помощи он обходиться не мог; сначала его покровителем был птолемеевский Египет, затем, когда Клеомен спартанский стал его теснить, Арат заключил союз с Македонией; после поражения Македонии в 196 году до Р.Х. ахейцы обратились к протекторату Рима. Но рука Рима тяжело лежала на их свободе; под конец они восстали, и это восстание повело ко вторжению римских легионов, к осаде и разрушению Коринфа Муммием в 146 году до Р.Х. и к обращению Греции (кроме нескольких свободных городов, главным образом Афин) в провинцию, которая получила название Ахайи. Для нас Ахейский союз драгоценен главным образом тем, что он дал нам в лице Полибия (см. ниже, § 10) самого крупного после Фукидида греческого историка.
Рим оставил греческим городам их общинное самоуправление, повсюду введя аристократический режим; высшая власть, как и вообще в провинциях, находилась в руках наместника (пропретора). В 46 году до Р.Х. Коринф был восстановлен, но уже как интернациональный и преимущественно римский город и столица провинции; он сыграл немалую роль в истории христианизации римского государства. Дань, уплачиваемая общинами Риму, была сносна; хуже было то, что богатые художественные сокровища страны возбуждали алчность наместников-любителей, что имело последствием бесконечные грабежи, доводившие до отчаяния хранителей наследия Фидиев и Зевксидов.
5. Родос. Ни один из названных политических организмов не унаследовал торгового значения Афин, которое от них отошло после названных политико-экономических кризисов; унаследовал его Родос. Его рост начался еще с 407 года до Р.Х., когда его три главных общины — Линд, Иалис и Камир — путем синэкизма (с.78) соединились и образовали центральную общину, получившую название самого острова. В III веке до Р.Х. Родос становится морской державой и в качестве таковой — счастливым соперником самого могущественного на море эллинистического царства, птолемеевского Египта. Когда значение последнего с конца этого века пошло на убыль, Родос еще более расцвел, он расширил свои владения за счет прилежащих островов, с другими заключил союз и стал настоящей Венецией эллинистической эпохи. Его военный флот сдерживал пиратов и прикрывал его торговые сношения, которые охватывали весь архипелаг и доходили до нашего Черноморья, сменяя и здесь угасшее значение Афин. Это величие вызвало во II до Р.Х. веке ревность Рима, который всячески старался ослабить его и с этой целью после победы над Персеем македонским даровал Афинам Делос в виде порто-франко (166 год до Р.Х.). С этого времени начинается упадок Родоса и, как его последствие, возвышение могущества пиратов, имевших свои гнезда в неприступных бухтах гористой Киликии. Все же он и в I веке до Р.Х. был значительным культурным центром, пока его не разорил в 43 году до Р.Х. Кассий, убийца Цезаря. С тех пор он растворился в римском государстве.
§ 3. Эллинство в Северном Причерноморье. Из трех частей, на которые распадается его территория (выше, с. 125), наиболее бедственную судьбу испытала Ольвия. Роковым для нее был тот самый сдвиг северных племен, одним из эпизодов которого было вторжение галлов (выше, с. 193) в царство Лисимаха. Вследствие него соседями ольвиополитов оказались не одни только миролюбивые скифы, но и дикие сарматы, давно успевшие перейти Дон, не менее дикие саи и те же галлы-галаты. Ольвия обеднела и от разорительных набегов, и от жестокой дани, которой она должна была откупаться от царей пришлых племен. Некоторое время щедрость самоотверженных граждан помогала ей выносить все эти испытания; но к концу III века до Р.Х. все средства истощились, и она подпала власти скифских царей. Так бесславно прошел для нее II век. В I веке до Р.Х. мы опять видим ее свободной, но ненадолго; около середины этого века ей был нанесен новый тяжелый удар, о котором придется сказать в отделе В (§ 2).
Все же наша эпоха, постепенно разрушая политическое и экономическое значение Ольвии, прославила ее на скрижалях словесности: в III веке до Р.Х. жил человек, в котором мы вправе видеть первого писателя русской земли — Бион-Борисфенит. Как сын отпущенника, он был скорее всего скифского происхождения; его отец, будучи мытарем, обанкротился и был продан в рабство со всей семьей; Бион стал рабом богатого ритора, который оставил его наследником своего состояния. Он воспользовался им для того, чтобы посвятить себя в Афинах изучению философии; здесь могучая проповедь Кратета, ученика Диогена (выше, с. 155), сделала его киником: он надел сермягу и суму и пошел в народ. О его литературном значении см. § 10.
Вторая крупная колония Черноморья, Херсонес, вначале благоденствовала; но со второй половины II века до Р.Х. и для нее наступили тяжелые времена. Притеснения со стороны таврических скифов усилились; ее верная метрополия, Гераклея Понтийская, не могла ей помогать, так как сама тогда составляла часть монархии — Вифинии. Одно время она нашла заступничество у естественных врагов своих врагов, сарматов, и историческая легенда отметила решительные действия в пользу херсонеситов сарматской царицы Амаги; но к концу столетия скифское засилие стало невыносимым, и Херсонес обратился за помощью к великому царю Понта, Митридату VI Евпатору. Тот, охотно выступавший в роли покровителя эллинства, послал Херсонесу на помощь войско под начальством энергичного Диофанта. Диофант оттеснил скифов и в видах укрепления эллинства в Тавриде основал к северо-западу от Херсонеса новую греческую колонию, которую он назвал в честь своего государя Евпаторией; но вслед за тем он объявил подзащитный город собственностью Митридата. За ним и его домом он и остался, даже после разгрома Понта римлянами, вплоть до конца нашей эпохи.
Наконец, третий центр черноморского эллинства, Пантикапей, ставший еще в V веке до Р.Х. столицей Боспорского царства, продолжал некоторое время процветать под сильной властью Спартокидов и в III веке до Р.Х. был опасным соперником своего западного соседа Херсонеса. Правда, его экономическое значение должно было несколько пошатнуться с тех пор, как, благодаря воцарению Птолемеев, Египет перестал быть замкнутой страной и верный хлеб Нила сменил в междуэллинской торговле боспорский. Но критическая эпоха наступила для Боспора одновременно с Херсонесом лишь во второй половине II века до Р.Х. из-за тех же скифов. Не будучи в состоянии с ними сладить, последний Спартокид, Перисад III, передал власть Митридату Евпатору, который вскоре затем присоединил к своим северным владениям, как мы видели, и Херсонес и, таким образом, впервые объединил Тавриду. Своим наместником в Боспоре он сделал своего сына Фарнака, который, однако, отплатил ему гнусной изменой, когда он, разбитый Помпеем в 65 году до Р.Х. и лишенный отцовского царства, искал убежища у победителя. Купив этой изменой милость Рима, Фарнак остался царем Боспора; но когда он в 47 году до Р.Х. хотел воспользоваться римскими междоусобицами для завоевания своего отцовского царства, Цезарь разбил его наголову при малоазиатской Зеле. Эта легкая победа дала победителю повод к его знаменитому veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил). Тут Фарнак испытал участь своего отца: против него восстал его боспорский наместник Асандр, который, в свою очередь, благодаря этой измене удержал за собой Боспорское царство. Так обстояли дела в Тавриде, когда начался для всего эллинистического Востока римский период его жизни.
§ 4. Колонизационное движение. Эпоха эллинизма, особенно ее начало, была эпохой нового колонизационного движения, рассеявшего семена эллинизма по всему пространству прежнего персидского государства. Пример подал сам Александр Великий, основавший в течение своей краткой жизни до семидесяти колоний, которые почти все получили его имя. Из них самая значительная та, которую мы поныне так называем, — Александрия в Египте, ставшая столицей птолемеевского царства и наложившая свою печать на всю культуру эллинистического периода, который поэтому нередко называется александрийским.
Вообще основанные Александром города можно разделить на три части: 1) Александрии-гавани; сюда относятся, кроме только что названной, еще главным образом Александрия в Сирии напротив Кипра (ныне Александретта) и Александрия у устья Тигра; 2) Александрии торговые, долженствовавшие служить транзитными пунктами по великому караванному пути, ведшему через все персидское царство до границ Индии, и заодно оберегать и его; 3) Александрии-крепости вдоль индийской границы по нынешнему Белуджистану, Афганистану вплоть до нашего Мерва. Из них последние сыграли огромную культурную роль: благодаря им эллинизм соприкоснулся с Индией, что повело к возникновению эллино-индийских государств, эллиноиндийского искусства и даже к передаче этой сказочной стране литературных зародышей (между прочим, вероятно, и зародышей драмы). А так как впоследствии началась культурная миссия буддизма на Дальнем Востоке, то вместе с ней и названные семена эллинизма попали в эту струю, — в какой мере и с какой долей живучести, это покажут исследования будущего. Отщепление парфянского государства в 247 году до Р.Х. нанесло серьезный урон этим дальним колониям, лишив их покровительства эллинской династии Селевкидов; все же они сослужили свою службу в деле частичной эллинизации Парфии, пока не заглохли сами под непреоборимым напором варварства. Но в этом варваризованном виде они существуют поныне (Кандагар, Герат), доказывая своим относительным значением дальновидность своего гениального царя-основателя.
Из диадохов более всего унаследовал колонизаторские наклонности умершего царя Селевк, по стопам которого пошли его преемники, Селевкиды. Сам Селевк основал до семидесяти пяти колоний, между прочим, ту, которую он сделал столицей своего царства, назвав ее по имени своего отца Антиохией («прекрасный город эллинов», как ее называли окружающие ее сирийцы) с ее гаванью Селевкией; там же вблизи и города, получившие имена царственных жен, — Лаодикею и Апамею. В Месопотамии получили особую важность Эдесса и Селевкия на Тигре, к которой с тех пор стало переходить культурное значение умирающего Вавилона. Страстный македонец и эллинофил, он свое царство хотел превратить как бы в новую Македонию; очень вероятно, что это крайнее эллинофильство, перешедшее и к его преемникам, повело к упомянутому отщеплению Парфии. Оно же вызвало конфликт Селевкидов с иудеями в Палестине, когда последние были ими отвоеваны у Птолемеев; а этот конфликт повел к отщеплению также и Иудейского царства в 168 году до Р.Х., которое, однако, и само стало более или менее эллинистическим.
 В стратегическом отношении должно быть отмечено постепенное усовершенствование походной техники, подготовленное еще в IV веке до Р.Х. Действительно, гражданские ополчения V века ее почти не знали: война состояла в битвах и длительных осадах. Битвы давались ради победы, чтобы иметь возможность поставить богам благодарственный «трофей» (tropaion, собственно — «приношение» за trope, то есть «обращение в бегство»). Когда эта истинно греческая потребность, внушенная агонистической идеей, была удовлетворена, полководец считал свое дело сделанным и даже не думал о преследовании разбитого врага; война же решалась истощением одной из воюющих сторон. Походная техника развивалась в наемных войсках; первый систематический поход, о котором мы узнаем, был поход Кира Младшего (вернее, его кондотьера Клеарха) в Персию в 401 году до Р.Х., описанный Ксенофонтом. С его же войском и спартанский царь Агесилай в 396 году до Р.Х. предпринял свой поход в ту же Персию, скоро прерванный после блестящих успехов. Крупнейшим стратегом середины IV века до Р.Х. был Эпаминонд (выше, с. 122), учитель Филиппа Македонского; и вот сын и ученик Филиппа в грандиознейшем походе осуществляет заветы Клеарха и Агесилая и в свою очередь воспитывает ряд стратегов, среди которых выдается Антигон, несчастный родоначальник будущей македонской династии.
Сын Антигона, гениальный Деметрий, доводит до совершенства и осадное дело. Он учреждает корпус военных инженеров; изобретаются подвижные башни с подъемными мостами, дающие возможность перебросить отряд вооруженных на стену осажденного города; заводится для этих башен артиллерия, так называемые катапульты и баллисты, относящиеся к луку так же, как пушка относится к ружью. Благодаря этим изобретениям, которые доставили Деметрию прозвище «Градоосаждателя» (Poliorketes), вековое преимущество осаждаемых перед осаждающими (выше, с.33) уступило место некоторому равновесию. Но, конечно, стоило среди осаждаемых явиться гениальному технику — и преимущество восстанавливалось. Таковым был тот Архимед (ниже, § 10), который своими машинами похоронил в 214-212 годах до Р.Х. столько римлян под стенами осажденных Сиракуз.
§ 8. Правовой и государственный быт. В государственном праве эллинистических монархий мы различаем элементы: 1) унаследованные от прежних македонских царей, 2) заимствованные из Персии и 3) развившиеся самостоятельно.
Старинная македонская монархия, насколько мы ее знаем, немногим отличалась от ахейской (выше, с.30): власть царя была ограничена, во-первых, советом «гетеров» (hetairoi, то есть «товарищи»; см. с.31), каковыми были вельможи, и, во-вторых, народным собранием, которое, при всеобщей воинской повинности, было в то же время и собранием войска. Теперь, перенесенная на восточную почву, царская власть становится самодержавной. Возможность участия в народном собрании всех египтян или персов, этих вековых «рабов» своих царей, никому не приходила в голову и всего менее им самим; на восточной почве «народное собрание» сводилось к собранию македонского войска, но и оно созывалось только для признания нового царя да еще по старинному обычаю — постепенно, впрочем, угасавшему — для подтверждения смертного приговора македонцу.
Совет гетеров продолжал существовать, особенно при царском суде; но его решение не было обязательным для царя.
Из заимствованных с Востока элементов самым антипатичным для нас является царский апофеоз; так как он относится к области религии, то о нем речь будет ниже (§ 14). Дальше пределов бывшего персидского государства этот кощунственный институт, впрочем, не заходил; македонские цари всегда сознавали себя людьми, а основателю новой династии, Антигону I, принадлежит прекрасное слово, часто потом повторявшееся, что царская власть есть лишь «славное служение» (endoxos duleia).
Нововведением эллинизма, и притом гениальным и богатым будущностью, был переход от наместнической системы к ведомственной. При персидских царях все государство распадалось на наместничества (сатрапии), причем в руках каждого наместника находилось управление и «внутренними делами», и финансами, и военными силами вверенной ему провинции. Это совместительство — тем более при фактической пожизненности сатрапов — делало их своего рода удельными князьями, ведшими самостоятельную и нередко враждебную друг другу политику. Теперь не то. Прежнее деление на провинции было сохранено, но их правители стали простыми губернаторами, ведавшими одними только «внутренними делами»; стоявшие в провинциях полки были подчинены особым военачальникам, коими в свою очередь управлял «старший секретарь сил» (archigrammateus ton dynameon) — по-нашему, военный министр. Так точно финансовое дело было объединено в руках государственного «диэцета» (dioiketes), которому были подведомственны провинциальные диэцеты; общественные работы — непосредственно в руках царя, передававшего свои приказы провинциальным архитекторам; суды — тоже, о чем ниже. При такой сложности личной работы царь нуждался в ближайшем помощнике; таковым был его канцлер (archigrammateus); но как она и при этой помощи была утомительна, показывает характерное слово одного царя человеку, прославлявшему его царское счастье: «Если б ты знал, сколько мне приходится писать писем, ты не поднял бы диадемы, даже найдя ее у своих ног». Все означенные лица и их многочисленные подчиненные прямо или косвенно назначались царем; это были чиновники, отличные от выборных городских магистратов. Последние тоже были в старых греческих городах; также и городские советы и т.д. Об этих «органах местного самоуправления» мы после сказанного выше (с.143) распространяться не будем.
Следует, впрочем, заметить, что эту ведомственную систему удалось провести последовательно только в Египте — лучше нам известном и наиболее важном. В царстве Селевкидов наместническая система продолжала сосуществовать с ведомственной, особенно в отдаленных восточных провинциях, что и содействовало их отложению в 247 году до Р.Х. и образованию Парфянского государства.
От описанной государственной службы следует отличать придворную, имевшую непосредственным предметом особу царя. Наибольшую важность имел тут начальник царских телохранителей, он же и начальник вышеназванного пажеского корпуса; затем мы имеем царских кравчего (archideatros), виночерпия (archioinochoos), ловчего (archikynegos), целый штат камергеров и т.д. Назначались они, конечно, из бывших пажей и преимущественно из того почетного выпуска, который некогда кончил курс вместе с царем (syntrophoi[22]). Что и царица располагала не менее сложным придворным штатом, ясно само собой и доказывается, кроме того, той честью, которой пользовались и ее syntrophoi.
Для судебного дела характерна в нашу эпоху двойственность: мы имеем двойное право и двойной суд. Местному населению было оставлено его старинное право и его судьи, так называемые лаокриты; в Египте, классической стране бумагопроизводства, процедура была письменной. Но для македонско-греческого населения и право, и суд (так называемые хрематисты) были греческими, и производство было устным с допущением представительства сторон. При этом параллелизме была неизбежна конкуренция, а при конкуренции — сознание превосходства греческих институтов и их постепенная победа.
§ 9. Нравственное сознание. Даже оставляя в стороне негреческую часть населения эллинистического мира, которая для нас (кроме иудеев) — молчаливая масса, и ограничиваясь одними эллинами, мы затрудняемся усмотреть в их пестром составе какое-нибудь единство нравственного сознания. Специализация жизни повела к невиданной еще пестроте характеров и настроений, дав полную волю индивидуальностям: верные своим царям «македонцы», блюстители древнеаристократической arete; удалые наемники, следующие девизу ubi bene, ibi patria[23]; расчетливые переселенцы, променявшие на верноподданническую лояльность республиканское свободолюбие оставленной родины; донельзя разношерстное городское население крестьянских, мещанских, интеллигентных профессий — все это вместе взятое создает такой пестрый калейдоскоп, в котором трудно найти руководящие линии.
Одно чувство, впрочем, заметно у многих, если не у всех: чувство неуверенности в завтрашнем дне. Как будто старые боги, которым раньше молились об устойчивости жизни, оставили правление и поручили мир прихотливой богине случайности Тихе (Tyche); и вот эта богиня возносит одних, ниспровергает других, никому не будучи ответственна в своих деяниях. Ее имя на устах у всех: у каждого своя Тихе, не только человека, но и города; знаменитой стала статуя антиохийской Тихе, гения-хранителя гигантского города. Все от нее; что в сравнении с ней arete?
«Она — наследственна», — говорил эллинский период; «она — научима», — доказывал аттический; «она — дар Тихе», — чувствует наш. Филономические узы порваны (выше, с.205); человек привыкает измерять правду и счастье пределами своей личной жизни, а эта привычка, в свою очередь, усиленно устремляет его взоры в потусторонний мир. Но об этом речь впереди (глава IV).
Со всем тем нельзя отрицать, что человечество стало добрее. При постоянных кровопролитных войнах, театром которых был (если не считать Египта) весь греческий Восток, — страшно подумать, во что обратился бы культурный мир, если бы их вели люди нашего современного закала. Здесь не то: везде свирепствуют войны, а города растут и в числе и в объеме, науки и искусства процветают, проповедь гуманности проникает все шире и все глубже. Александр разрушает дворец персидских царей в Персеполе, и современная ему история клеймит этот акт как акт бессмысленной жестокости (каким он, разумеется, и был), объяснимый только состоянием опьянения — до того он был единичным. История наших дней, напротив, оправдывает его политическими соображениями, характеризуя этим самое себя. Но важнее всего — полное отсутствие ненависти между воюющими сторонами.
Мы вряд ли ошибемся, приписывая это распространение доброты философии, которая ведь в древности вообще была не столько предметом изучения, сколько руководительницей жизни; что Александр был учеником Аристотеля — это факт и вместе с тем символ. А потому и само нравственное сознание народа находится в зависимости от нравственной философии. Направления, созданные прошлым периодом, с социальной точки зрения могут быть разделены на две категории: философией для народных масс был кинизм, философией для избранных — остальные направления. Теперь между этими двумя социальными слоями появился третий — интеллигенция, тоже масса, но прошедшая среднюю школу и поэтому слишком воспитанная для того, чтобы находить удовлетворение в грубоватой проповеди кинизма. Навстречу ее потребностям шли два новых направления нравственной философии, созданные именно в нашу эпоху — эпикурейское и стоическое. Оба имеют одну общую черту: они примыкают к старым природно-философским теориям (с.89 сл.) и на этом физическом основании строят свою этику.
Дело было рискованное: старая философия природы была затемнена могучим научным движением нашей эпохи, слишком разветвленным и сложным для единичного ума; и, действительно, наши философы-творцы этим движением не затронуты. Все же Эпикур имел счастье примкнуть к теории хотя и старой, но живучей — к атомистике Демокрита (выше, с. 157); она ему была нужна для механического объяснения мироздания и для устранения божьего промысла также и из области этики. Человек должен следовать своей природе, а она его направляет к удовольствию. И это было старой идеей — мы узнаем в ней гедонизм Аристиппа, как раз к началу нашей эпохи покончивший самоубийством своей проповедью самоубийства из уст Гегесия Киренского, глашатая смерти (выше, с. 154). Но Эпикур навсегда избежал этой опасности тем, что, ставя духовные наслаждения выше чувственных, он при подведении баланса благам и злу получал избыток первых — конечно, для философски просветленной натуры. Высшим же среди этих наслаждений он объявлял дружбу, и действительно, кружок учеников, собиравшийся в Афинах в основанном им «саду», был образцом такой философской дружбы. Таковыми были и дальнейшие последователи этой влиятельной школы: немногого ожидая от жизни и ровно ничего — от смерти, они превращали свою arete — добродетель в бесстрастную доброту, услаждая скоротечную жизнь себе и своим близким и смотря с улыбкой сострадания на потуги других, которые к чему-то стремились, чего-то искали, чувствовали чью-то властную волю в своей груди...
Эти другие чуждались эпикуровского «сада» с его истомой и закаляли свою волю в колоннадах Стои — той «Пестрой» Стои, которую некогда Кимон основал и Полигнот украсил своими героическими фресками (выше, с. 169). Здесь приблизительно с 300 года до Р.Х. учил Зенон из кипрского Китиона, построивший свою мужественную этику на физике Гераклита, что теперь было действительным анахронизмом. Но это не чувствовалось; сама же этика стоицизма имела религиозную окраску. Божий промысел есть, и нравственный долг человека — следовать божьему голосу в своей груди. Кто это делает неукоснительно — тот мудрец; а таковой блажен, подобно Зевсу, во всяком положении своей жизни... Даже на пытке? Да, ибо физическая боль не есть зло в глазах мудреца, таковым он признает только порок. А кто не мудрец, тот глупец, и между глупцами различий нет, как нет различий между падением в пропасть того, кто на вершок, и того, кто на аршин оступится. При таких условиях мудрецов окажется очень немного, но много должно быть стремящихся к мудрости. Эти, имея перед собой недоступную им пока arete-добродетель, пусть пока избирают «предпочтительное» (proegmena) и избегают «непредпочтительного» (apoproegmena), оставаясь равнодушны к «безразличному» (adiaphora).
Так этажом ниже этики совершенства стоицизм развил и обставил свою практическую этику, учащую всякого стремящегося к совершенству человека, в чем его нравственный долг (kathekon, лат. officium) в каждом положении его жизни. Для его определения нужно прислушаться к тому, куда нас зовет божий глас — или, что одно и то же, голос природы в нашей груди. Мы убедимся, что он зовет нас, во-первых, к общению с ближними, во-вторых, к исследованию внешнего и внутреннего мира, в-третьих, к первенству (мы узнаем здесь Элладу с ее агонистикой), в-четвертых, к развитию нашей индивидуальности. Из этих четырех влечений расцветают четыре кардинальные (платоновские) добродетели: справедливость (dikaiosyne, justitia), мудрость (sophia, sapientia), мужество (andreia, fortitudo) и четвертая, для нас непереводимая (sophrosyne, temperantia). Из них первые три имеют своим идеалом нравственное (to kalon, honestum), четвертая — пристойное (to prepon, decorum). Но все побуждают нас к деятельности и представляют нам жизнь положительной ценностью. Счастье в жизни возможно, так как возможна добродетель, а добродетель себе довлеет для счастливой жизни (virtue ad beate vivendum se ipsa contenta esta[24]). Такова героическая тема стоицизма.
В сущности, это была платоновская автономная мораль о добродетели как здоровье души, только развитая и приноровленная к различным положениям жизни. Обработал это учение стоик II века до Р.Х., родосский уроженец Панэций в своем сочинении «О нравственном долге». Он же переселился в Рим и стал там учителем кружка Сципиона Младшего, в который входили лучшие люди тогдашнего римского общества. Его проповедь нашла в нем живой отклик; благодаря ей стоицизм стал национальной философией Рима.
В стратегическом отношении должно быть отмечено постепенное усовершенствование походной техники, подготовленное еще в IV веке до Р.Х. Действительно, гражданские ополчения V века ее почти не знали: война состояла в битвах и длительных осадах. Битвы давались ради победы, чтобы иметь возможность поставить богам благодарственный «трофей» (tropaion, собственно — «приношение» за trope, то есть «обращение в бегство»). Когда эта истинно греческая потребность, внушенная агонистической идеей, была удовлетворена, полководец считал свое дело сделанным и даже не думал о преследовании разбитого врага; война же решалась истощением одной из воюющих сторон. Походная техника развивалась в наемных войсках; первый систематический поход, о котором мы узнаем, был поход Кира Младшего (вернее, его кондотьера Клеарха) в Персию в 401 году до Р.Х., описанный Ксенофонтом. С его же войском и спартанский царь Агесилай в 396 году до Р.Х. предпринял свой поход в ту же Персию, скоро прерванный после блестящих успехов. Крупнейшим стратегом середины IV века до Р.Х. был Эпаминонд (выше, с. 122), учитель Филиппа Македонского; и вот сын и ученик Филиппа в грандиознейшем походе осуществляет заветы Клеарха и Агесилая и в свою очередь воспитывает ряд стратегов, среди которых выдается Антигон, несчастный родоначальник будущей македонской династии.
Сын Антигона, гениальный Деметрий, доводит до совершенства и осадное дело. Он учреждает корпус военных инженеров; изобретаются подвижные башни с подъемными мостами, дающие возможность перебросить отряд вооруженных на стену осажденного города; заводится для этих башен артиллерия, так называемые катапульты и баллисты, относящиеся к луку так же, как пушка относится к ружью. Благодаря этим изобретениям, которые доставили Деметрию прозвище «Градоосаждателя» (Poliorketes), вековое преимущество осаждаемых перед осаждающими (выше, с.33) уступило место некоторому равновесию. Но, конечно, стоило среди осаждаемых явиться гениальному технику — и преимущество восстанавливалось. Таковым был тот Архимед (ниже, § 10), который своими машинами похоронил в 214-212 годах до Р.Х. столько римлян под стенами осажденных Сиракуз.
§ 8. Правовой и государственный быт. В государственном праве эллинистических монархий мы различаем элементы: 1) унаследованные от прежних македонских царей, 2) заимствованные из Персии и 3) развившиеся самостоятельно.
Старинная македонская монархия, насколько мы ее знаем, немногим отличалась от ахейской (выше, с.30): власть царя была ограничена, во-первых, советом «гетеров» (hetairoi, то есть «товарищи»; см. с.31), каковыми были вельможи, и, во-вторых, народным собранием, которое, при всеобщей воинской повинности, было в то же время и собранием войска. Теперь, перенесенная на восточную почву, царская власть становится самодержавной. Возможность участия в народном собрании всех египтян или персов, этих вековых «рабов» своих царей, никому не приходила в голову и всего менее им самим; на восточной почве «народное собрание» сводилось к собранию македонского войска, но и оно созывалось только для признания нового царя да еще по старинному обычаю — постепенно, впрочем, угасавшему — для подтверждения смертного приговора македонцу.
Совет гетеров продолжал существовать, особенно при царском суде; но его решение не было обязательным для царя.
Из заимствованных с Востока элементов самым антипатичным для нас является царский апофеоз; так как он относится к области религии, то о нем речь будет ниже (§ 14). Дальше пределов бывшего персидского государства этот кощунственный институт, впрочем, не заходил; македонские цари всегда сознавали себя людьми, а основателю новой династии, Антигону I, принадлежит прекрасное слово, часто потом повторявшееся, что царская власть есть лишь «славное служение» (endoxos duleia).
Нововведением эллинизма, и притом гениальным и богатым будущностью, был переход от наместнической системы к ведомственной. При персидских царях все государство распадалось на наместничества (сатрапии), причем в руках каждого наместника находилось управление и «внутренними делами», и финансами, и военными силами вверенной ему провинции. Это совместительство — тем более при фактической пожизненности сатрапов — делало их своего рода удельными князьями, ведшими самостоятельную и нередко враждебную друг другу политику. Теперь не то. Прежнее деление на провинции было сохранено, но их правители стали простыми губернаторами, ведавшими одними только «внутренними делами»; стоявшие в провинциях полки были подчинены особым военачальникам, коими в свою очередь управлял «старший секретарь сил» (archigrammateus ton dynameon) — по-нашему, военный министр. Так точно финансовое дело было объединено в руках государственного «диэцета» (dioiketes), которому были подведомственны провинциальные диэцеты; общественные работы — непосредственно в руках царя, передававшего свои приказы провинциальным архитекторам; суды — тоже, о чем ниже. При такой сложности личной работы царь нуждался в ближайшем помощнике; таковым был его канцлер (archigrammateus); но как она и при этой помощи была утомительна, показывает характерное слово одного царя человеку, прославлявшему его царское счастье: «Если б ты знал, сколько мне приходится писать писем, ты не поднял бы диадемы, даже найдя ее у своих ног». Все означенные лица и их многочисленные подчиненные прямо или косвенно назначались царем; это были чиновники, отличные от выборных городских магистратов. Последние тоже были в старых греческих городах; также и городские советы и т.д. Об этих «органах местного самоуправления» мы после сказанного выше (с.143) распространяться не будем.
Следует, впрочем, заметить, что эту ведомственную систему удалось провести последовательно только в Египте — лучше нам известном и наиболее важном. В царстве Селевкидов наместническая система продолжала сосуществовать с ведомственной, особенно в отдаленных восточных провинциях, что и содействовало их отложению в 247 году до Р.Х. и образованию Парфянского государства.
От описанной государственной службы следует отличать придворную, имевшую непосредственным предметом особу царя. Наибольшую важность имел тут начальник царских телохранителей, он же и начальник вышеназванного пажеского корпуса; затем мы имеем царских кравчего (archideatros), виночерпия (archioinochoos), ловчего (archikynegos), целый штат камергеров и т.д. Назначались они, конечно, из бывших пажей и преимущественно из того почетного выпуска, который некогда кончил курс вместе с царем (syntrophoi[22]). Что и царица располагала не менее сложным придворным штатом, ясно само собой и доказывается, кроме того, той честью, которой пользовались и ее syntrophoi.
Для судебного дела характерна в нашу эпоху двойственность: мы имеем двойное право и двойной суд. Местному населению было оставлено его старинное право и его судьи, так называемые лаокриты; в Египте, классической стране бумагопроизводства, процедура была письменной. Но для македонско-греческого населения и право, и суд (так называемые хрематисты) были греческими, и производство было устным с допущением представительства сторон. При этом параллелизме была неизбежна конкуренция, а при конкуренции — сознание превосходства греческих институтов и их постепенная победа.
§ 9. Нравственное сознание. Даже оставляя в стороне негреческую часть населения эллинистического мира, которая для нас (кроме иудеев) — молчаливая масса, и ограничиваясь одними эллинами, мы затрудняемся усмотреть в их пестром составе какое-нибудь единство нравственного сознания. Специализация жизни повела к невиданной еще пестроте характеров и настроений, дав полную волю индивидуальностям: верные своим царям «македонцы», блюстители древнеаристократической arete; удалые наемники, следующие девизу ubi bene, ibi patria[23]; расчетливые переселенцы, променявшие на верноподданническую лояльность республиканское свободолюбие оставленной родины; донельзя разношерстное городское население крестьянских, мещанских, интеллигентных профессий — все это вместе взятое создает такой пестрый калейдоскоп, в котором трудно найти руководящие линии.
Одно чувство, впрочем, заметно у многих, если не у всех: чувство неуверенности в завтрашнем дне. Как будто старые боги, которым раньше молились об устойчивости жизни, оставили правление и поручили мир прихотливой богине случайности Тихе (Tyche); и вот эта богиня возносит одних, ниспровергает других, никому не будучи ответственна в своих деяниях. Ее имя на устах у всех: у каждого своя Тихе, не только человека, но и города; знаменитой стала статуя антиохийской Тихе, гения-хранителя гигантского города. Все от нее; что в сравнении с ней arete?
«Она — наследственна», — говорил эллинский период; «она — научима», — доказывал аттический; «она — дар Тихе», — чувствует наш. Филономические узы порваны (выше, с.205); человек привыкает измерять правду и счастье пределами своей личной жизни, а эта привычка, в свою очередь, усиленно устремляет его взоры в потусторонний мир. Но об этом речь впереди (глава IV).
Со всем тем нельзя отрицать, что человечество стало добрее. При постоянных кровопролитных войнах, театром которых был (если не считать Египта) весь греческий Восток, — страшно подумать, во что обратился бы культурный мир, если бы их вели люди нашего современного закала. Здесь не то: везде свирепствуют войны, а города растут и в числе и в объеме, науки и искусства процветают, проповедь гуманности проникает все шире и все глубже. Александр разрушает дворец персидских царей в Персеполе, и современная ему история клеймит этот акт как акт бессмысленной жестокости (каким он, разумеется, и был), объяснимый только состоянием опьянения — до того он был единичным. История наших дней, напротив, оправдывает его политическими соображениями, характеризуя этим самое себя. Но важнее всего — полное отсутствие ненависти между воюющими сторонами.
Мы вряд ли ошибемся, приписывая это распространение доброты философии, которая ведь в древности вообще была не столько предметом изучения, сколько руководительницей жизни; что Александр был учеником Аристотеля — это факт и вместе с тем символ. А потому и само нравственное сознание народа находится в зависимости от нравственной философии. Направления, созданные прошлым периодом, с социальной точки зрения могут быть разделены на две категории: философией для народных масс был кинизм, философией для избранных — остальные направления. Теперь между этими двумя социальными слоями появился третий — интеллигенция, тоже масса, но прошедшая среднюю школу и поэтому слишком воспитанная для того, чтобы находить удовлетворение в грубоватой проповеди кинизма. Навстречу ее потребностям шли два новых направления нравственной философии, созданные именно в нашу эпоху — эпикурейское и стоическое. Оба имеют одну общую черту: они примыкают к старым природно-философским теориям (с.89 сл.) и на этом физическом основании строят свою этику.
Дело было рискованное: старая философия природы была затемнена могучим научным движением нашей эпохи, слишком разветвленным и сложным для единичного ума; и, действительно, наши философы-творцы этим движением не затронуты. Все же Эпикур имел счастье примкнуть к теории хотя и старой, но живучей — к атомистике Демокрита (выше, с. 157); она ему была нужна для механического объяснения мироздания и для устранения божьего промысла также и из области этики. Человек должен следовать своей природе, а она его направляет к удовольствию. И это было старой идеей — мы узнаем в ней гедонизм Аристиппа, как раз к началу нашей эпохи покончивший самоубийством своей проповедью самоубийства из уст Гегесия Киренского, глашатая смерти (выше, с. 154). Но Эпикур навсегда избежал этой опасности тем, что, ставя духовные наслаждения выше чувственных, он при подведении баланса благам и злу получал избыток первых — конечно, для философски просветленной натуры. Высшим же среди этих наслаждений он объявлял дружбу, и действительно, кружок учеников, собиравшийся в Афинах в основанном им «саду», был образцом такой философской дружбы. Таковыми были и дальнейшие последователи этой влиятельной школы: немногого ожидая от жизни и ровно ничего — от смерти, они превращали свою arete — добродетель в бесстрастную доброту, услаждая скоротечную жизнь себе и своим близким и смотря с улыбкой сострадания на потуги других, которые к чему-то стремились, чего-то искали, чувствовали чью-то властную волю в своей груди...
Эти другие чуждались эпикуровского «сада» с его истомой и закаляли свою волю в колоннадах Стои — той «Пестрой» Стои, которую некогда Кимон основал и Полигнот украсил своими героическими фресками (выше, с. 169). Здесь приблизительно с 300 года до Р.Х. учил Зенон из кипрского Китиона, построивший свою мужественную этику на физике Гераклита, что теперь было действительным анахронизмом. Но это не чувствовалось; сама же этика стоицизма имела религиозную окраску. Божий промысел есть, и нравственный долг человека — следовать божьему голосу в своей груди. Кто это делает неукоснительно — тот мудрец; а таковой блажен, подобно Зевсу, во всяком положении своей жизни... Даже на пытке? Да, ибо физическая боль не есть зло в глазах мудреца, таковым он признает только порок. А кто не мудрец, тот глупец, и между глупцами различий нет, как нет различий между падением в пропасть того, кто на вершок, и того, кто на аршин оступится. При таких условиях мудрецов окажется очень немного, но много должно быть стремящихся к мудрости. Эти, имея перед собой недоступную им пока arete-добродетель, пусть пока избирают «предпочтительное» (proegmena) и избегают «непредпочтительного» (apoproegmena), оставаясь равнодушны к «безразличному» (adiaphora).
Так этажом ниже этики совершенства стоицизм развил и обставил свою практическую этику, учащую всякого стремящегося к совершенству человека, в чем его нравственный долг (kathekon, лат. officium) в каждом положении его жизни. Для его определения нужно прислушаться к тому, куда нас зовет божий глас — или, что одно и то же, голос природы в нашей груди. Мы убедимся, что он зовет нас, во-первых, к общению с ближними, во-вторых, к исследованию внешнего и внутреннего мира, в-третьих, к первенству (мы узнаем здесь Элладу с ее агонистикой), в-четвертых, к развитию нашей индивидуальности. Из этих четырех влечений расцветают четыре кардинальные (платоновские) добродетели: справедливость (dikaiosyne, justitia), мудрость (sophia, sapientia), мужество (andreia, fortitudo) и четвертая, для нас непереводимая (sophrosyne, temperantia). Из них первые три имеют своим идеалом нравственное (to kalon, honestum), четвертая — пристойное (to prepon, decorum). Но все побуждают нас к деятельности и представляют нам жизнь положительной ценностью. Счастье в жизни возможно, так как возможна добродетель, а добродетель себе довлеет для счастливой жизни (virtue ad beate vivendum se ipsa contenta esta[24]). Такова героическая тема стоицизма.
В сущности, это была платоновская автономная мораль о добродетели как здоровье души, только развитая и приноровленная к различным положениям жизни. Обработал это учение стоик II века до Р.Х., родосский уроженец Панэций в своем сочинении «О нравственном долге». Он же переселился в Рим и стал там учителем кружка Сципиона Младшего, в который входили лучшие люди тогдашнего римского общества. Его проповедь нашла в нем живой отклик; благодаря ей стоицизм стал национальной философией Рима.
 1. В Пессинунте он эллинизовал местную религию Великой Матери богов (Megale Meter, она же, поместному, Кибела, а по-гречески — Рея Идейская, то есть лесная и горная). Это должно было случиться еще в правление Лисимаха, который, по-видимому, намеревался сделать новую религию официальной для своего царства, каковое намерение было осуществлено его преемниками, царями Пергама. Эта религия, очень экстатическая, имела в своем центре любовь Великой Матери к прекрасному пастуху Аттису — любовь страстную, поведшую любимого к безумию и самоизувечению, в котором ему подражали его исступленные жрецы-галлы (название темное, ничего общего не имеющее с племенем галлов, или кельтов). Из этого мрачного мифа Греция некогда, с устранением неприемлемого для эллина отвратительного мотива самоизувечения, извлекла свою прекрасную легенду о любви Афродиты и Анхиса[28], важную для позднейшего Рима; теперь Тимофею пришлось сделать из него миф греко-фригийской религии. Самоизувечения он удалить не мог, так как на нем держался неискоренимый институт галлов; но он ослабил его значение, поставив рядом с ним мотив смерти и воскрешения Аттиса любовью Великой Матери. Это дало ему возможность внести в религию Матери религиозную драму религии Деметры. Победа над смертью стала лозунгом и здесь. Посвящаемые — действительно, мы имеем дело с «мистериями» — приобщались к приверженцам новой религии путем вкушения неизвестных нам яств, причем сосудами служили те самые кимвалы и тимпаны, которыми пользовались для оглушительной музыки в исступленных плясках в честь богини: «Я ел из тимпана, я пил из кимвала, я стал мистом Аттиса», — гласил символпосвящаемых. Перед ними затем разыгрывалась религиозная драма любви, смерти и воскрешения Аттиса: в двойной перипетии радость сменялась горем, горе — радостью. Торжественным возвещением второй, окончательной радости было двустишие:
1. В Пессинунте он эллинизовал местную религию Великой Матери богов (Megale Meter, она же, поместному, Кибела, а по-гречески — Рея Идейская, то есть лесная и горная). Это должно было случиться еще в правление Лисимаха, который, по-видимому, намеревался сделать новую религию официальной для своего царства, каковое намерение было осуществлено его преемниками, царями Пергама. Эта религия, очень экстатическая, имела в своем центре любовь Великой Матери к прекрасному пастуху Аттису — любовь страстную, поведшую любимого к безумию и самоизувечению, в котором ему подражали его исступленные жрецы-галлы (название темное, ничего общего не имеющее с племенем галлов, или кельтов). Из этого мрачного мифа Греция некогда, с устранением неприемлемого для эллина отвратительного мотива самоизувечения, извлекла свою прекрасную легенду о любви Афродиты и Анхиса[28], важную для позднейшего Рима; теперь Тимофею пришлось сделать из него миф греко-фригийской религии. Самоизувечения он удалить не мог, так как на нем держался неискоренимый институт галлов; но он ослабил его значение, поставив рядом с ним мотив смерти и воскрешения Аттиса любовью Великой Матери. Это дало ему возможность внести в религию Матери религиозную драму религии Деметры. Победа над смертью стала лозунгом и здесь. Посвящаемые — действительно, мы имеем дело с «мистериями» — приобщались к приверженцам новой религии путем вкушения неизвестных нам яств, причем сосудами служили те самые кимвалы и тимпаны, которыми пользовались для оглушительной музыки в исступленных плясках в честь богини: «Я ел из тимпана, я пил из кимвала, я стал мистом Аттиса», — гласил символпосвящаемых. Перед ними затем разыгрывалась религиозная драма любви, смерти и воскрешения Аттиса: в двойной перипетии радость сменялась горем, горе — радостью. Торжественным возвещением второй, окончательной радости было двустишие:
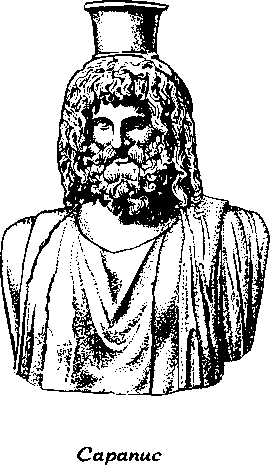 Все же, хотя и эллинизованные, эти две религии внесли немало чуждого в греческое религиозное сознание. Во-первых, изменился персонал религиозной драмы, и притом к худшему: в Элевсине мы имели чистую материнскую любовь Деметры к Коре, здесь же вдохновительницей представлена половая любовь Великой Матери и Исиды, что придало обеим религиям тот чувственный характер, которым вообще отличаются религии Востока. Со временем греко-римский мир снова выделил эту чувственную примесь, но вначале она очень даже давала о себе знать, и ревнители нравственности не без основания называли храмы обеих религий рассадниками разврата.
Во-вторых, обе религии требовали значительнаго штата жрецов; с их вторжением в западный мир туда же проникает и жречество, многочисленное по составу и с кастовой организацией.
3. В противоположность Лисимаху с Атталидами и Птолемеям властители третьего крупного восточного царства, Селевкиды, ни в какие компромиссы с местными религиями не вступали. Правда, одна из этих религий — религия Астарты-Афродиты и Адониса, — будучи эллинизована на Кипре, проникла повсюду в греческий мир; но это случилось самопроизвольно и задолго до их воцарения. Правда, с другой стороны, что религии сирийских Ваалов, а также и отщепленной от сирийского царства Парфии («митриазм») не остались без влияния на западный мир, но это влияние относится к гораздо более позднему времени (отдел В, глава IV). Вообще же Селевкиды были ревнителями чистоты эллинских религий, особенно религии Аполлона, от которого они вели свой род; в их столице Антиохии главный храм принадлежал Аполлону.
Но среди их подданных — правда, кратковременных — находились такие, влияние которых на религиозную жизнь окружающего греческого (и греко-римского) мира было очень значительным; это были иудеи. Для них эллинистический период был периодом рассеяния (diaspora); иудеи же рассеяния отличались от палестинских: 1) тем, что, будучи оторванными от земли, они занимались торговыми и особенно денежными делами, что повело к их скоплению в городах и особенно в столицах — Александрии, Пергаме, Фессалонике, Коринфе, а с шестидесятых годов до Р.Х. и в Риме; 2) тем, что вследствие запрета приносить жертвы где-либо, кроме Иерусалима, их богослужение было не храмовым, а синагогальным. Синагога же в те времена не отличалась исключительностью храма, а охотно вербовала «прозелитов» (pros-elytoi, собственно «подошедшие») преимущественно из эллинов. Три религиозно-житейские особенности характеризовали иудеев: 1) обрезание, 2) запрещение общей с неиудеями трапезы и 3) соблюдение суббот; из них первая была для эллина органически неприемлема, вторая — противоречила его взглядам на гостеприимство, третья — на праздники (выше, с. 188). В этом отношении синагога для прозелитов допускала некоторые послабления, строго требуя соблюдения других предписаний закона, особенно бескумирного богослужения. Обаяние Ветхого Завета, тогда уже переведенного на греческий (выше, с.203), довершало дело — и вот мы видим, что все синагоги рассеяния окружают себя кольцами таких прозелитов, да и независимо от синагог возникают общины «боящихся Бога», как они охотно себя называют. В самой Палестине ревнители старинной строгости неодобрительно относились к этой «проказе на теле Израиля», как они называли прозелитизм; напротив, «эллинствующие» охотно приветствовали постепенный рост стада Господня. Но ни те, ни другие, конечно, не подозревали, какое значение для религиозной жизни будущего будет иметь эта эллинизация ветхозаветной религии в общинах прозелитов.
4. Самой неутешительной стороной эллинистических религий является, бесспорно, культ государей, возникший из персидских и особенно египетских представлений о божественной природе царя. Еще Александр, как наследник персидских царей, потребовал для себя такого культа с символической «проскинезой» (proskynesis, «падение ниц») — вследствие ли мании величия или по политическим соображениям, мы не знаем. Это требование вызвало справедливое возмущение его македонской свиты, и его преемники действовали осторожнее. Грекам был привычен институт «героизации» основателей и спасителей общин (выше, с. 111); поэтому Птолемей I мог смело учредить в Александрии культ Александру как ее основателю, а его сын Птолемей II — приобщить к этому культу своего отца как ее спасителя (soter) от бедствий войн диадохов. Тот же Птолемей II по смерти своей супруги-сестры Арсинои II счел себя вправе учредить культ и ей как «Филадельфе» и не очень протестовал, когда к ней незаметно присоединили и его. А затем с Птолемеем III и Береникой II — «богами-Эвергетами» (то есть «благодетелями») — дело пошло совсем гладко. Несколько иначе, но с тем же исходом, развивался культ государей в царстве Селевкидов; что касается Атталидов и Антигонидов, — не говоря уже об Иероне Сиракузском, — то они, имея своими подданными преимущественно эллинов, довольствовались своим царским венцом. Эллины вообще, если судить по литературе, не удостаивают особым вниманием божеских притязаний царей Сирии и Египта; для варваров же они ничего нового собой не представляли. Все же этот кощунственный нарост на теле античной религии принес свои вредные плоды; правда, это случилось уже в следующую эпоху.
§ 12. Религиозная философия. В области религиозной философии эллинистический период был эпохой долгой и яростной борьбы между положительным и скептическим направлениями — той борьбы, которая повторилась без малого двадцать веков спустя в эпоху английского и французского так называемого «Просвещения» XVII и XVIII веков и повторилась как сознательное воскрешение той первой, при том же оружии, но со значительно большими силами. Ареной этой борьбы был афинский «университет», как мы называем совокупность его философских школ — Академии, Лицея, Стои, Эпикурова «сада» и Киносаргского гимнасия. Лицей, впрочем, с его строго научным характером, держался в стороне от борьбы; Киносарг, по причине противоположного характера, не шел в счет. Противниками были — Стоя и эпикуреизм как представители положительного направления и (новая) Академия как представительница скепсиса.
Характерное для эллинистического общества романтическое настроение выразилось, между прочим, и в любовном отношении к родным богам, свидетелям славного периода Эллады. Поэзия и искусства их прославляли; философия тоже пожелала им служить, изобретая доказательства их существования. Особой славой пользовались два доказательства: 1) ex consensu gentium: всеобщее распространение веры в богов доказывает, что представление о них является «врожденным понятием» (notio innata), которое в силу своей всеобщности не может быть ложным («Есть алтари — значит, есть и боги»); 2) космологически-телеологическое: целесообразное устройство мироздания и земли доказывает, что оно было делом высшего разума, то есть божества.
1. Эпикур, впрочем, допускал только первое доказательство, но его зато полностью. «Всенародное согласие» признает за богами два основных свойства, выраженных в эпитетах «бессмертные боги» и «блаженные боги». Если боги бессмертны, то они не могут быть частью миров, которые, возникнув из сцепления атомов, должны распасться на эти составные атомы и, таким образом, бренны; итак, боги обитают в «междумириях» (metakosmia, intermundia). Если боги блаженны, то они не могут заботиться о людях, так как забота и блаженство несовместимы; итак, божьего «промысла» (pronoia, providentia) нет. Не значит ли это, что мы не должны поклоняться богам? Вовсе не значит: мы должны им поклоняться как представителям совершенства, и это наше бескорыстное поклонение представляет большую нравственную ценность, чем то вымаливание наград на этом и на том свете, к которому сводится благочестие толпы. С отрицанием божьего промысла упраздняется и вышеупомянутое космологическое доказательство, которого Эпикур также и потому не мог допустить, что он объяснял происхождение мироздания чисто механическим путем. Оно же и было причиной того, что эпикурейцы, несмотря на свое положительное отношение к богам, тем не менее прослыли у толпы «атеистами».
2. Стоицизм, напротив, признавал оба доказательства и даже особенно напирал на второе; божий промысел стоит в центре его религиозной философии. Примыкая к Гераклиту (выше, с.89), он объяснял божество как разумную огненную душу мира (пантеизм): от нее все исходит, в нее же, в периодически повторяющиеся обогневения, все возвращается. Как таковое, божество — едино; но его проявления — многочисленны, и вот такими проявлениями должны мы считать богов народной веры, признавая их, таким образом, вполне реальными. На божьем промысле основаны народные культы, которые поэтому вполне разумны; разумно и ведовство. Ибо, если бы божество не дало нам средств ведовства, то пришлось бы допустить одно из трех: 1) или что божество не могло нам их дать; 2) или что оно не пожелало нам их дать из нерасположения к нам; 3) или что оно не пожелало нам их дать, не считая ведовство полезным; из этих трех объяснений первое противоречит божьему всемогуществу, второе — божьей всеблагости, третье — здравому смыслу (знаменитая стоическая трилемма, воспроизведенная Лейбницем). Не довольствуясь этим априорным соображением, стоики подкрепили его эмпирическими доказательствами, собирая сбывшиеся пророчества; вообще тема о ведовстве (de divinatione) была ими разработана очень усердно, как и родственные темы о предопределении и свободе воли, которые стоики старались примирить красивой антитезой: «рок согласных ведет, а несогласных влечет» (ducunt volentem fata, nolentem trahunt). A когда подняла голову астрология, то и ее искусные методы ведовства нашли себе уготованное место в стоической системе; дал ей доступ к ней много раз уже названный Посидоний (I век до Р.Х.), который своими учеными, остроумными и красноречивыми сочинениями обеспечил успех стоицизма в эпоху империи.
3. Противницей обоих положительных учений, и эпикуровского и стоического, была Академия с тех пор, как схолархат в ней занял пылкий Аркесилай (III век до Р.Х.). Уклоняясь от Платоновых путей, он отказался от его двоемирия, признавая действительным только мир видимости, о котором нам дают свидетельство наши чувства. А так как недостоверность опыта чувств была доказана самим Платоном, то в результате получался всеобщий скепсис: так как у нас нет средств, чтобы отличить правильное представление от неправильного, то мы должны следовать не истине, а правдоподобию, руководясь не знанием, а предположением (doxa, opinio). Всеобщий скепсис поглотил, разумеется, и учение о богах: Аркесилай и его приверженцы опровергали по пунктам догматы как эпикурейцев, так и стоиков, особенно последних. Атеистами они себя не считали, их полемика касалась не веры в богов, а только доказательств, которыми противники хотели подкрепить эту веру и в которых она не нуждалась. Дань вышеназванному романтическому настроению можно будет признать и в том, что ни Аркесилай, ни даровитый продолжатель его учения Карнеад (II век до Р.Х.) не обнародовали своих рассуждений, довольствуясь устным преподаванием под чинарами Академии. Правда, его преемник Клитомах писал более чем за троих; но он, будучи по происхождению карфагенянином и, собственно, Аздрубалом, и не был охвачен тем романтическим настроением. Его сочинениями, а также и учением его последователя Филона вдохновлялся Цицерон, последний представитель новой Академии в области религиозной философии; его сочинения «De natura deorum» и «De divinatione» для нас — единственные, но тем более драгоценные памятники всей этой борьбы и в то же время — зародыши того ее возобновления, которое наступило в XVII веке. Для античности она с ним вместе канула в прошлое; победил Посидоний, и даже ближайший преемник Филона, Антиох, ввел учение Академии опять в старое платоновское русло. Человечество искало новых идеалов, искало спасения и успокоения в необуреваемой сомнением вере в Божий промысел и в надежде на «лучшую участь» за вратами смерти.
Таким образом «исполнилось время».
Все же, хотя и эллинизованные, эти две религии внесли немало чуждого в греческое религиозное сознание. Во-первых, изменился персонал религиозной драмы, и притом к худшему: в Элевсине мы имели чистую материнскую любовь Деметры к Коре, здесь же вдохновительницей представлена половая любовь Великой Матери и Исиды, что придало обеим религиям тот чувственный характер, которым вообще отличаются религии Востока. Со временем греко-римский мир снова выделил эту чувственную примесь, но вначале она очень даже давала о себе знать, и ревнители нравственности не без основания называли храмы обеих религий рассадниками разврата.
Во-вторых, обе религии требовали значительнаго штата жрецов; с их вторжением в западный мир туда же проникает и жречество, многочисленное по составу и с кастовой организацией.
3. В противоположность Лисимаху с Атталидами и Птолемеям властители третьего крупного восточного царства, Селевкиды, ни в какие компромиссы с местными религиями не вступали. Правда, одна из этих религий — религия Астарты-Афродиты и Адониса, — будучи эллинизована на Кипре, проникла повсюду в греческий мир; но это случилось самопроизвольно и задолго до их воцарения. Правда, с другой стороны, что религии сирийских Ваалов, а также и отщепленной от сирийского царства Парфии («митриазм») не остались без влияния на западный мир, но это влияние относится к гораздо более позднему времени (отдел В, глава IV). Вообще же Селевкиды были ревнителями чистоты эллинских религий, особенно религии Аполлона, от которого они вели свой род; в их столице Антиохии главный храм принадлежал Аполлону.
Но среди их подданных — правда, кратковременных — находились такие, влияние которых на религиозную жизнь окружающего греческого (и греко-римского) мира было очень значительным; это были иудеи. Для них эллинистический период был периодом рассеяния (diaspora); иудеи же рассеяния отличались от палестинских: 1) тем, что, будучи оторванными от земли, они занимались торговыми и особенно денежными делами, что повело к их скоплению в городах и особенно в столицах — Александрии, Пергаме, Фессалонике, Коринфе, а с шестидесятых годов до Р.Х. и в Риме; 2) тем, что вследствие запрета приносить жертвы где-либо, кроме Иерусалима, их богослужение было не храмовым, а синагогальным. Синагога же в те времена не отличалась исключительностью храма, а охотно вербовала «прозелитов» (pros-elytoi, собственно «подошедшие») преимущественно из эллинов. Три религиозно-житейские особенности характеризовали иудеев: 1) обрезание, 2) запрещение общей с неиудеями трапезы и 3) соблюдение суббот; из них первая была для эллина органически неприемлема, вторая — противоречила его взглядам на гостеприимство, третья — на праздники (выше, с. 188). В этом отношении синагога для прозелитов допускала некоторые послабления, строго требуя соблюдения других предписаний закона, особенно бескумирного богослужения. Обаяние Ветхого Завета, тогда уже переведенного на греческий (выше, с.203), довершало дело — и вот мы видим, что все синагоги рассеяния окружают себя кольцами таких прозелитов, да и независимо от синагог возникают общины «боящихся Бога», как они охотно себя называют. В самой Палестине ревнители старинной строгости неодобрительно относились к этой «проказе на теле Израиля», как они называли прозелитизм; напротив, «эллинствующие» охотно приветствовали постепенный рост стада Господня. Но ни те, ни другие, конечно, не подозревали, какое значение для религиозной жизни будущего будет иметь эта эллинизация ветхозаветной религии в общинах прозелитов.
4. Самой неутешительной стороной эллинистических религий является, бесспорно, культ государей, возникший из персидских и особенно египетских представлений о божественной природе царя. Еще Александр, как наследник персидских царей, потребовал для себя такого культа с символической «проскинезой» (proskynesis, «падение ниц») — вследствие ли мании величия или по политическим соображениям, мы не знаем. Это требование вызвало справедливое возмущение его македонской свиты, и его преемники действовали осторожнее. Грекам был привычен институт «героизации» основателей и спасителей общин (выше, с. 111); поэтому Птолемей I мог смело учредить в Александрии культ Александру как ее основателю, а его сын Птолемей II — приобщить к этому культу своего отца как ее спасителя (soter) от бедствий войн диадохов. Тот же Птолемей II по смерти своей супруги-сестры Арсинои II счел себя вправе учредить культ и ей как «Филадельфе» и не очень протестовал, когда к ней незаметно присоединили и его. А затем с Птолемеем III и Береникой II — «богами-Эвергетами» (то есть «благодетелями») — дело пошло совсем гладко. Несколько иначе, но с тем же исходом, развивался культ государей в царстве Селевкидов; что касается Атталидов и Антигонидов, — не говоря уже об Иероне Сиракузском, — то они, имея своими подданными преимущественно эллинов, довольствовались своим царским венцом. Эллины вообще, если судить по литературе, не удостаивают особым вниманием божеских притязаний царей Сирии и Египта; для варваров же они ничего нового собой не представляли. Все же этот кощунственный нарост на теле античной религии принес свои вредные плоды; правда, это случилось уже в следующую эпоху.
§ 12. Религиозная философия. В области религиозной философии эллинистический период был эпохой долгой и яростной борьбы между положительным и скептическим направлениями — той борьбы, которая повторилась без малого двадцать веков спустя в эпоху английского и французского так называемого «Просвещения» XVII и XVIII веков и повторилась как сознательное воскрешение той первой, при том же оружии, но со значительно большими силами. Ареной этой борьбы был афинский «университет», как мы называем совокупность его философских школ — Академии, Лицея, Стои, Эпикурова «сада» и Киносаргского гимнасия. Лицей, впрочем, с его строго научным характером, держался в стороне от борьбы; Киносарг, по причине противоположного характера, не шел в счет. Противниками были — Стоя и эпикуреизм как представители положительного направления и (новая) Академия как представительница скепсиса.
Характерное для эллинистического общества романтическое настроение выразилось, между прочим, и в любовном отношении к родным богам, свидетелям славного периода Эллады. Поэзия и искусства их прославляли; философия тоже пожелала им служить, изобретая доказательства их существования. Особой славой пользовались два доказательства: 1) ex consensu gentium: всеобщее распространение веры в богов доказывает, что представление о них является «врожденным понятием» (notio innata), которое в силу своей всеобщности не может быть ложным («Есть алтари — значит, есть и боги»); 2) космологически-телеологическое: целесообразное устройство мироздания и земли доказывает, что оно было делом высшего разума, то есть божества.
1. Эпикур, впрочем, допускал только первое доказательство, но его зато полностью. «Всенародное согласие» признает за богами два основных свойства, выраженных в эпитетах «бессмертные боги» и «блаженные боги». Если боги бессмертны, то они не могут быть частью миров, которые, возникнув из сцепления атомов, должны распасться на эти составные атомы и, таким образом, бренны; итак, боги обитают в «междумириях» (metakosmia, intermundia). Если боги блаженны, то они не могут заботиться о людях, так как забота и блаженство несовместимы; итак, божьего «промысла» (pronoia, providentia) нет. Не значит ли это, что мы не должны поклоняться богам? Вовсе не значит: мы должны им поклоняться как представителям совершенства, и это наше бескорыстное поклонение представляет большую нравственную ценность, чем то вымаливание наград на этом и на том свете, к которому сводится благочестие толпы. С отрицанием божьего промысла упраздняется и вышеупомянутое космологическое доказательство, которого Эпикур также и потому не мог допустить, что он объяснял происхождение мироздания чисто механическим путем. Оно же и было причиной того, что эпикурейцы, несмотря на свое положительное отношение к богам, тем не менее прослыли у толпы «атеистами».
2. Стоицизм, напротив, признавал оба доказательства и даже особенно напирал на второе; божий промысел стоит в центре его религиозной философии. Примыкая к Гераклиту (выше, с.89), он объяснял божество как разумную огненную душу мира (пантеизм): от нее все исходит, в нее же, в периодически повторяющиеся обогневения, все возвращается. Как таковое, божество — едино; но его проявления — многочисленны, и вот такими проявлениями должны мы считать богов народной веры, признавая их, таким образом, вполне реальными. На божьем промысле основаны народные культы, которые поэтому вполне разумны; разумно и ведовство. Ибо, если бы божество не дало нам средств ведовства, то пришлось бы допустить одно из трех: 1) или что божество не могло нам их дать; 2) или что оно не пожелало нам их дать из нерасположения к нам; 3) или что оно не пожелало нам их дать, не считая ведовство полезным; из этих трех объяснений первое противоречит божьему всемогуществу, второе — божьей всеблагости, третье — здравому смыслу (знаменитая стоическая трилемма, воспроизведенная Лейбницем). Не довольствуясь этим априорным соображением, стоики подкрепили его эмпирическими доказательствами, собирая сбывшиеся пророчества; вообще тема о ведовстве (de divinatione) была ими разработана очень усердно, как и родственные темы о предопределении и свободе воли, которые стоики старались примирить красивой антитезой: «рок согласных ведет, а несогласных влечет» (ducunt volentem fata, nolentem trahunt). A когда подняла голову астрология, то и ее искусные методы ведовства нашли себе уготованное место в стоической системе; дал ей доступ к ней много раз уже названный Посидоний (I век до Р.Х.), который своими учеными, остроумными и красноречивыми сочинениями обеспечил успех стоицизма в эпоху империи.
3. Противницей обоих положительных учений, и эпикуровского и стоического, была Академия с тех пор, как схолархат в ней занял пылкий Аркесилай (III век до Р.Х.). Уклоняясь от Платоновых путей, он отказался от его двоемирия, признавая действительным только мир видимости, о котором нам дают свидетельство наши чувства. А так как недостоверность опыта чувств была доказана самим Платоном, то в результате получался всеобщий скепсис: так как у нас нет средств, чтобы отличить правильное представление от неправильного, то мы должны следовать не истине, а правдоподобию, руководясь не знанием, а предположением (doxa, opinio). Всеобщий скепсис поглотил, разумеется, и учение о богах: Аркесилай и его приверженцы опровергали по пунктам догматы как эпикурейцев, так и стоиков, особенно последних. Атеистами они себя не считали, их полемика касалась не веры в богов, а только доказательств, которыми противники хотели подкрепить эту веру и в которых она не нуждалась. Дань вышеназванному романтическому настроению можно будет признать и в том, что ни Аркесилай, ни даровитый продолжатель его учения Карнеад (II век до Р.Х.) не обнародовали своих рассуждений, довольствуясь устным преподаванием под чинарами Академии. Правда, его преемник Клитомах писал более чем за троих; но он, будучи по происхождению карфагенянином и, собственно, Аздрубалом, и не был охвачен тем романтическим настроением. Его сочинениями, а также и учением его последователя Филона вдохновлялся Цицерон, последний представитель новой Академии в области религиозной философии; его сочинения «De natura deorum» и «De divinatione» для нас — единственные, но тем более драгоценные памятники всей этой борьбы и в то же время — зародыши того ее возобновления, которое наступило в XVII веке. Для античности она с ним вместе канула в прошлое; победил Посидоний, и даже ближайший преемник Филона, Антиох, ввел учение Академии опять в старое платоновское русло. Человечество искало новых идеалов, искало спасения и успокоения в необуреваемой сомнением вере в Божий промысел и в надежде на «лучшую участь» за вратами смерти.
Таким образом «исполнилось время».
 Италийские войны и последовавшие за ними союзы с побежденными повели к соответствующему осложнению военного дела; стали набирать легионы также из «союзников» (socii) под началом особых префектов. Союзническая война 90 года до Р.Х., поведшая к дарованию италийским союзникам гражданских прав, упразднила эту чересполосицу; одновременно состоялась важная для всей дальнейшей истории Рима реформа Мария, заменившая прежнее гражданское ополчение регулярной армией, правда, все еще гражданской, а не наемной, поэтому последствием было не ослабление, а усиление военной мощи Рима.
Прежде всего Марий упразднил всеобщую воинскую повинность: численность римской гражданской бедноты дала ему возможность заменить ее (мы сказали бы: английской) системой добровольческой службы. Гражданин поступал в армию солдатом за жалование (stipendium) и присягой обязывался служить в ней двадцать лет; таким образом, могла получиться такая военная выправка, которая при прежней системе ополчения была невозможна. Манипулы различных строев были соединены в когорты, которых, стало быть, было в легионе десять, каждая по шесть центурий в сто человек, — всего, значит, стояло в легионе шесть тысяч человек. Штабные офицеры (так называемые военные трибуны), по шесть на легион, чередовались в команде; они были из знати. Напротив, строевые (центурионы) выслуживались из простых солдат и путем сложной системы повышений могли дослужиться до почетного чина primipilus'a, принимавшего участие в военном совете. В названии этого офицера заключено указание на национальное оружие римского легионера: им было pilum, род копья. Вообще же вооружение римского тяжеловооруженного воина состояло из тех же частей, как и в Греции и Македонии. Также и прочие усовершенствования эллинистической эпохи нашли себе применение в римском войске.
Италийские войны и последовавшие за ними союзы с побежденными повели к соответствующему осложнению военного дела; стали набирать легионы также из «союзников» (socii) под началом особых префектов. Союзническая война 90 года до Р.Х., поведшая к дарованию италийским союзникам гражданских прав, упразднила эту чересполосицу; одновременно состоялась важная для всей дальнейшей истории Рима реформа Мария, заменившая прежнее гражданское ополчение регулярной армией, правда, все еще гражданской, а не наемной, поэтому последствием было не ослабление, а усиление военной мощи Рима.
Прежде всего Марий упразднил всеобщую воинскую повинность: численность римской гражданской бедноты дала ему возможность заменить ее (мы сказали бы: английской) системой добровольческой службы. Гражданин поступал в армию солдатом за жалование (stipendium) и присягой обязывался служить в ней двадцать лет; таким образом, могла получиться такая военная выправка, которая при прежней системе ополчения была невозможна. Манипулы различных строев были соединены в когорты, которых, стало быть, было в легионе десять, каждая по шесть центурий в сто человек, — всего, значит, стояло в легионе шесть тысяч человек. Штабные офицеры (так называемые военные трибуны), по шесть на легион, чередовались в команде; они были из знати. Напротив, строевые (центурионы) выслуживались из простых солдат и путем сложной системы повышений могли дослужиться до почетного чина primipilus'a, принимавшего участие в военном совете. В названии этого офицера заключено указание на национальное оружие римского легионера: им было pilum, род копья. Вообще же вооружение римского тяжеловооруженного воина состояло из тех же частей, как и в Греции и Македонии. Также и прочие усовершенствования эллинистической эпохи нашли себе применение в римском войске.
 И все это войско, доведенное, благодаря расширению государства, до огромных размеров, стояло в провинциях; Италия со времени Суллы была лишена вооруженной силы. Было, однако, ясно, что при множестве этих провинций римские граждане не могли одни нести становившуюся все более и более тяжелой «повинность крови»: пришлось привлекать вспомогательные отряды (auxilia) из провинциалов, причем римляне удачно использовали боевые особенности покоренных племен, набирая всадников из галлов, испанцев, нумидийцев, стрелков с Крита, пращников с Балеарских островов и т.д. Опасности пока в этом не было никакой: римские легионы все-таки преобладали и численностью, и выправкой, и их серебряные орлы, введенные Марием, обращали на себя глаза всех как внушительные символы непреоборимой силы римского воинства.
§ 8. Государственный быт. В римской конституции историк Полибий (выше, с.231) прославляет гармоническое сочетание трех государственных форм — монархической, аристократической и демократической: первая, — говорит он, — олицетворена в магистратуре, вторая — в сенате, третья — в народном собрании. Для своего времени — времени расцвета римской республики — он был прав; но дальнейшее развитие, завершенное реформой Суллы в 82 году до Р.Х., повело к последовательному подчинению магистратской власти сенату и к фактическому упразднению значения народного собрания. В позднереспубликанскую эпоху мы имеем поэтому преимущественно аристократический режим.
I. Возникшая из царской власти магистратура вначале была представлена двумя годичными консулами (слово означает «коллеги»), называвшимися, впрочем, преторами («начальниками»); им принадлежала высшая власть, imperium, притом как в гражданском правлении (domi), так и в военном (militiae). Они были, таким образом, военачальниками, правителями, судьями. Их помощниками были квесторы (собственно, «следователи»), их слугами — ликторы, носившие символы их карательной власти — пучки с розгами, так называемые fasces. Их совещательным органом был ими же набираемый сенат, в котором они председательствовали так же, как и в народном собрании. В начавшейся вскоре после провозглашения республики сословной борьбе плебеи быстро добились своих магистратов — народных трибунов с их помощниками, плебейскими эдилами (aediles, названные по имени aedes Cereris, — ниже, § 16, — где находился плебейский архив). Они были неприкосновенны (sacrosancti) в видах оказания помощи обижаемым плебеям (jus auxilii); они же председательствовали в собраниях плебса (concilia plebis), постановления которых (plebi scita) были пока обязательны только для плебса. Так-то в Риме тогда (то есть в V веке до Р.Х.) были две системы магистратур — патрицианская и плебейская, взаимно недоступные для другого сословия.
Стремление плебса к завоеванию консулата повело к дроблению патрициями консульской власти: в 443 году до Р.Х. была учреждена цензура для периодического установления общины (census) и составления сената (lectio senatus) и всаднических центурий; в 367 году до Р.Х. — единоличная претура для суда (praetor urbanus, в отличие от praetores consules, предводительствующих войском); тогда же — и курульный эдилитет для надзора за торговлей. Эти новые должности учреждались в видах предоставления патрициям связанных с ними полномочий; но плебеи успокоились не раньше, чем добились доступа также и к ним. К началу III века цель была достигнута, и получилась единая народная магистратура, занимаемая избранными гражданами в следующем порядке: квестура — трибунат — эдилитет (курульный или плебейский) — претура — консулат — цензура. Запрещено было занимать одну должность непосредственно после другой (continuatio); право занимать одну и ту же дважды (iteratio) было ограничено. Напротив, продление власти (prorogatio imperii) консулам и преторам, в силу которого они становились проконсулами и пропреторами, допускалось, но исключительно для управления провинциями. С этих пор трибунат перестал быть угрозой для знати; напротив, он стал союзником сената в его стремлении держать в повиновении консулов.
Развитие римской магистратуры было завершено Суллой. Он резко отделил магистратуру от промагистратуры (то есть проконсулата и пропретуры), предоставив последней военную власть (то есть управление провинциями), магистратуре же — исключительно гражданскую. С его времени и до конца республики мы имеем в Риме:
1. Двадцать квесторов с главным образом казначейскими полномочиями в Риме и провинциях; каждый бывший квестор ipso jure[54] делался сенатором, чем была упразднена цензорская lectio senatus[55].
2. Десять народных трибунов, полномочия которых, урезанные Суллой, были вскоре восстановлены в полном объеме. Из них главными были право проведения в concilia plebis обязательных (с 287 года до Р.Х.) для всего народа «плебисцитов», а также право «интерцедировать» консульские законы и мероприятия и делать их этим недействительными.
3. Два курульных и два плебейских эдила, надзиравших за торговлей и дававших народу игры.
4. Восемь преторов (из них один praetor urbanus, один praetor inter peregrinos и шесть председателей уголовных комиссий, см. выше, с.261). По окончании годичного срока претор становился пропретором и получал в управление «преторскую» провинцию с ее войском, в принципе, на год; этот срок, однако, мог быть продлен.
5. Двух консулов, сохранивших из своих некогда широких полномочий только право созывать сенат и народное собрание — последнее для выборов, но и для проведения в нем своих законов. По истечении годичного срока и консул получал как проконсул свою провинцию.
6. Двух цензоров, избиравшихся периодически (по принципу — каждое пятилетие, lustrum) для проверки гражданского состава общины (census) и ее освящения (lustrum condere), причем предоставленное им право переводить гражданина из более привилегированной группы в менее привилегированную включало в себя косвенно надзор за общественной нравственностью (regimen morum, nota censoria). Они же отдавали подряды на общественные сооружения.
7. Вне магистратской табели стояла диктатура. В старину единоличный диктатор, назначенный консулом в тревожную для государства минуту, воскрешал в своем лице царские полномочия; торжество сената во II веке до Р.Х. повело к фактическому упразднению диктатуры. В I веке до Р.Х. она была возобновлена дважды в лице Суллы и Цезаря, причем второе возобновление было сигналом гибели республики.
II. Народное собрание в Риме отличалось от греческого веча своей организованностью: каждый подавал голос внутри той политической группы, к которой он принадлежал, и решающее значение имело большинство групп, а не общее большинство голосов. Подбором групп был обусловлен, как мы увидим тотчас, аристократический характер народных собраний. От афинского же веча римское народное собрание отличалось еще отсутствием инициативы: оно могло только принять или не принять вносимый председательствующим магистратом закон, избрать или провалить предлагаемого кандидата, но не изменить закон или избрать другого кандидата. Группировка была двойная. Одна имела основанием территориальное деление римского народа на тридцать пять триб, из которых тридцать одна была сельская и только четыре — городские. А так как весь городской пролетариат (со всеми отпущенниками) был причислен к городским, сельские же, включавшие помещиков, были малочисленны, то преобладание нобилитета было обеспечено. Собрания по трибам были либо всенародными (comitia tributa), либо плебейскими (concilia plebis); по составу они в позднереспубликанскую эпоху почти что совпадали, разница была лишь в том, что первые созывались консулом или претором, вторые — трибунами. Собирались они на городской площади (forum) главным образом для законодательных актов.
Вторая группировка была основана на комбинации территориального деления на трибы с имущественным на пять классов (последнее приписывалось царю Сервию Туллию) и с возрастным на два призыва, seniorum и juniorum: в принципе, каждая триба распадалась на десять «центурий», причем всадники составляли особые центурии. Эта группировка была еще более аристократической. Основанное на ней народное собрание называлось comitia centuriata; собиралось оно — что было пережитком его некогда военного значения — на Марсовом поле под городом главным образом для выборов старших магистратов.
Все эти народные собрания были до тех пор действительно народными, пока весь народ имел возможность их посещать — то есть в ту древнюю эпоху, когда ager Romanus[56] был невелик. Уже выведение колоний и дарование гражданства более отдаленным муниципиям (ниже, § 9) повело к нарушению их всенародности; когда же после союзнической войны в 89 году до Р.Х. вся Италия получила гражданские права, народные собрания стали простым звуком. Тогда римская республика оказалась на распутье: или перейти от плебисцитарной системы к неприемлемой для античного человека парламентской (выше, с. 77), или превратиться в сенатскую олигархию и затем в империю. Случилось, как известно, последнее.
III. Сенат из первоначального совещательного органа царя и консулов сумел, окрепнув в борьбе сословий, стать настоящим правителем государства, держа в повиновении консулов и пользуясь народным собранием как простым орудием своей воли. Был он вначале чисто патрицианским (patres), но при учреждении республики принял в свой состав и «вместе записанных» (conscripti) представителей плебейских родов. Число сенаторов, строго ограниченное за время существования цензорской lectio, стало неограниченным с тех пор, как по закону диктатора Суллы ежегодно двадцать новых квесторов вступало в их состав; оно колебалось между пятьюстами и шестьюстами. Внутри сената существовало деление на ordines[57], строго соблюдаемое при совещаниях: старшим ordo были «консулары» (то есть бывшие консулы), за ними шли «претории», далее «эдилиции» и «трибуниции», наконец, «квестории». Председательствующий консул, изложив суть дела, обращался к наиболее почтенному консулару с просьбой подать свое мнение («die, М. Tulli!»[58]); тот делал это в более или менее пространной речи, кончая ее своим предложением (sententia). Следующие могли или, вставая, сделать свое предложение, или, сидя, согласиться с одним из сделанных уже («М. Tullio assentior»[59]).
Сенатское правление наложило свой отпечаток на последний век республики; нам оно прекрасно известно благодаря речам и письмам Цицерона. Нельзя ему отказать в известной, истинно римской, величавости; но с задачей управления огромным государством оно совладать не могло. Его режим был временем постоянных смут — революция Гракхов, союзническая война, Марий и Сулла, невольническая война Спартака, заговор Катилины, анархия Клодия, Цезарь и Помпей, Октавиан и Антоний... Почти непрерывно одна гроза сменяла другую вплоть до последней, когда наступило длительное успокоение под эгидой империи. Как это случилось, об этом тотчас.
§ 9. Рим и Италия. Возвысившись среди прочих общин и племен Италии, Рим, тем не менее, оставался государством городом; как таковой, он имел в своем распоряжении только те формы господства, которые нами рассмотрены выше (с.78), — амфиктионию, синэкизм и гегемонию. Первая — союз латинских городов вокруг горы Латинского Юпитера (Jupiter Latiaris) — только в старину играла известную роль; она слилась с гегемонией Рима над латинскими городами, которая в 338 году до Р.Х., после окончания латинской войны, повела к установлению «латинского гражданского права» (противопоставляемого римскому). Латинские общины сохранили самоуправление, их граждане получили право голосовать в римских комидиях (jus suffragii, довольно призрачное ввиду того, что их причисляли всех по жребию к одной из тридцати пяти триб), не получив права быть избираемыми на должности (jus honorum), но могли сделаться полноправными римскими гражданами, если занимали раньше магистратуру в своей общине. Это было, таким образом, полусинэкизмом, полугегемонией. При всем том и область римского гражданства расширялась: 1) путем дарования такового целым латинским общинам, в силу чего они превращались в муниципии и 2) путем выведения римских колоний в более отдаленные области Италии. Основание первой такой колонии (Остии у устья Тибра) приписывается еще царю Анку Марцию; из позднейших главными были Sena Callica в Умбрии (около 283 года до Р.Х., ныне Sinigaglia), Путеолы в Кампании (в 134 году до Р.Х., ныне Pozzuoli), Парма и Мутина (ныне Modena) в циспаданской Галлии (в 183 году до Р.Х.); всех же было свыше тридцати. Параллельно с ними основывались и колонии латинского права; главными были Венузия в Апулии (в 291 году до Р.Х.), Аримин в галльской области сенонов (в 268 году до Р.Х., ныне Rimini), Беневент в Самнии (тогда же), Брундизий в Калабрии (в 244 году до Р.Х., ныне Brindisi), Кремона и Плаценция (ныне Piacenza) в цизальпинской Галлии (в 220 году до Р.Х.) и Аквилея (в 181 году до Р.Х.) там же. А так как параллельно с выведением этих латинских колоний старые латинские города в Лациуме превращались в римские муниципии, то уже ко II веку до Р.Х. понятия «Лациум» и «латинские граждане» совсем перестали совпадать. Все эти колонии были первоначально военными поселениями, опорами римской власти в побежденной стране; но сами собой они стали — и в этом их культурноисторическая важность — очагами романизации Италии.
Самоуправление как колоний, так и муниципиев было построено по образцу римского, только титулатура была другая.
Во главе общины стояли duoviri juri dicundo[60], соответствующие консулам; они собирали городской совет декурионов, соответствующий сенату. Второй главной магистратурой были два эдила, объединяемые часто с первой под общим именем quatuorviri[61]: ценз периодически производился квинквенналами, соответствующими римским цензорам. Наконец, происходили собрания и всего гражданского населения, организованного по старинным родовым куриям, — в Риме таковые (comitia curiata[62]) тоже некогда были, но к эпохе расцвета они давно успели выйти из употребления.
Но организация римско-латинской Италии была только первой задачей; труднее была другая.
Победоносные войны с самнитами, этрусками и другими нелатинскими племенами Италии повели к гегемонии Рима также и над ними, то есть к заключению «союзов» с побежденными, в силу которых те были обязаны помогать Риму в его войнах своими войсками; война с Ганнибалом, например, была выиграна римлянами благодаря деятельной помощи союзнических контингентов. Последствием было то, что «союзники» почувствовали желание сами стать членами той общины, величие которой они окупили своей кровью. Эти надежды, не раз обманываемые, повели, наконец, в 90-89 годах до Р.Х. к великой союзнической войне, в которой Риму еще раз пришлось сразиться с побежденными италийцами. Это была очень своеобразная война. Обыкновенно люди воюют, чтобы отстоять свою национальную самобытность; италийцы, напротив, воевали для того, чтобы растворить свою национальность в римсколатинской. Они достигли цели: в 89 году до Р.Х. вся Италия до Апеннин получила римское гражданство (а Галлия севернее Апеннин пока — латинское), и с этого времени осский, этрусский, умбрийский и другие языки в новых италийских «муниципиях» заменяются латинским.
Так состоялась романизация Италии. Рим достиг ее именно тем, что не навязывал своей национальности побежденным, а, напротив, заставлял видеть в ней завидную награду, которую надлежало взять заслугами или с бою.
§ 10. Рим и провинции. Последствием 1-й Пунической войны было приобретение Римом (в 241 году до Р.Х.) его первой провинции (карфагенской) Сицилии. В течение двух следующих столетий за этой первой провинцией последовали: 2) Сардиния с Корсикой в 238 году до Р.Х.; 3) Ближняя Испания (главный город Картагена) и 4) Дальняя Испания (главный город Кордуба, ныне Кордова) в 206-197 годах до Р.Х.; 5) Цизальпийская Галлия (главный город Медиолан) в 191-188 годах до Р.Х.; 6) Иллирик (главный город Салоны) в 167 году до Р.Х.; 7) Македония (главный город Фессалоника) в 146 году до Р.Х. с Ахайей (главный город с 46 г. до Р.Х. — Коринф) в 144 году до Р.Х.; 8) Африка (главный город Карфаген) в 146 году до Р.Х.; 9) Азия (главный город Эфес) в 133 году до Р.Х.; 10) Нарбонская Галлия (главный город Нарбон) в 121 году до Р.Х.; 11) Киликия (главный город Таре) в 102-84 годах до Р.Х.; 12) Вифиния (главный город Никомедия) в 74 году до Р.Х. с Понтом (главный город Амасея) в 65 году до Р.Х.; 13) Киренаика в 74 году до Р.Х. с Критом; 14) Сирия (главный город Антиохия) в 64 году до Р.Х.
И все это войско, доведенное, благодаря расширению государства, до огромных размеров, стояло в провинциях; Италия со времени Суллы была лишена вооруженной силы. Было, однако, ясно, что при множестве этих провинций римские граждане не могли одни нести становившуюся все более и более тяжелой «повинность крови»: пришлось привлекать вспомогательные отряды (auxilia) из провинциалов, причем римляне удачно использовали боевые особенности покоренных племен, набирая всадников из галлов, испанцев, нумидийцев, стрелков с Крита, пращников с Балеарских островов и т.д. Опасности пока в этом не было никакой: римские легионы все-таки преобладали и численностью, и выправкой, и их серебряные орлы, введенные Марием, обращали на себя глаза всех как внушительные символы непреоборимой силы римского воинства.
§ 8. Государственный быт. В римской конституции историк Полибий (выше, с.231) прославляет гармоническое сочетание трех государственных форм — монархической, аристократической и демократической: первая, — говорит он, — олицетворена в магистратуре, вторая — в сенате, третья — в народном собрании. Для своего времени — времени расцвета римской республики — он был прав; но дальнейшее развитие, завершенное реформой Суллы в 82 году до Р.Х., повело к последовательному подчинению магистратской власти сенату и к фактическому упразднению значения народного собрания. В позднереспубликанскую эпоху мы имеем поэтому преимущественно аристократический режим.
I. Возникшая из царской власти магистратура вначале была представлена двумя годичными консулами (слово означает «коллеги»), называвшимися, впрочем, преторами («начальниками»); им принадлежала высшая власть, imperium, притом как в гражданском правлении (domi), так и в военном (militiae). Они были, таким образом, военачальниками, правителями, судьями. Их помощниками были квесторы (собственно, «следователи»), их слугами — ликторы, носившие символы их карательной власти — пучки с розгами, так называемые fasces. Их совещательным органом был ими же набираемый сенат, в котором они председательствовали так же, как и в народном собрании. В начавшейся вскоре после провозглашения республики сословной борьбе плебеи быстро добились своих магистратов — народных трибунов с их помощниками, плебейскими эдилами (aediles, названные по имени aedes Cereris, — ниже, § 16, — где находился плебейский архив). Они были неприкосновенны (sacrosancti) в видах оказания помощи обижаемым плебеям (jus auxilii); они же председательствовали в собраниях плебса (concilia plebis), постановления которых (plebi scita) были пока обязательны только для плебса. Так-то в Риме тогда (то есть в V веке до Р.Х.) были две системы магистратур — патрицианская и плебейская, взаимно недоступные для другого сословия.
Стремление плебса к завоеванию консулата повело к дроблению патрициями консульской власти: в 443 году до Р.Х. была учреждена цензура для периодического установления общины (census) и составления сената (lectio senatus) и всаднических центурий; в 367 году до Р.Х. — единоличная претура для суда (praetor urbanus, в отличие от praetores consules, предводительствующих войском); тогда же — и курульный эдилитет для надзора за торговлей. Эти новые должности учреждались в видах предоставления патрициям связанных с ними полномочий; но плебеи успокоились не раньше, чем добились доступа также и к ним. К началу III века цель была достигнута, и получилась единая народная магистратура, занимаемая избранными гражданами в следующем порядке: квестура — трибунат — эдилитет (курульный или плебейский) — претура — консулат — цензура. Запрещено было занимать одну должность непосредственно после другой (continuatio); право занимать одну и ту же дважды (iteratio) было ограничено. Напротив, продление власти (prorogatio imperii) консулам и преторам, в силу которого они становились проконсулами и пропреторами, допускалось, но исключительно для управления провинциями. С этих пор трибунат перестал быть угрозой для знати; напротив, он стал союзником сената в его стремлении держать в повиновении консулов.
Развитие римской магистратуры было завершено Суллой. Он резко отделил магистратуру от промагистратуры (то есть проконсулата и пропретуры), предоставив последней военную власть (то есть управление провинциями), магистратуре же — исключительно гражданскую. С его времени и до конца республики мы имеем в Риме:
1. Двадцать квесторов с главным образом казначейскими полномочиями в Риме и провинциях; каждый бывший квестор ipso jure[54] делался сенатором, чем была упразднена цензорская lectio senatus[55].
2. Десять народных трибунов, полномочия которых, урезанные Суллой, были вскоре восстановлены в полном объеме. Из них главными были право проведения в concilia plebis обязательных (с 287 года до Р.Х.) для всего народа «плебисцитов», а также право «интерцедировать» консульские законы и мероприятия и делать их этим недействительными.
3. Два курульных и два плебейских эдила, надзиравших за торговлей и дававших народу игры.
4. Восемь преторов (из них один praetor urbanus, один praetor inter peregrinos и шесть председателей уголовных комиссий, см. выше, с.261). По окончании годичного срока претор становился пропретором и получал в управление «преторскую» провинцию с ее войском, в принципе, на год; этот срок, однако, мог быть продлен.
5. Двух консулов, сохранивших из своих некогда широких полномочий только право созывать сенат и народное собрание — последнее для выборов, но и для проведения в нем своих законов. По истечении годичного срока и консул получал как проконсул свою провинцию.
6. Двух цензоров, избиравшихся периодически (по принципу — каждое пятилетие, lustrum) для проверки гражданского состава общины (census) и ее освящения (lustrum condere), причем предоставленное им право переводить гражданина из более привилегированной группы в менее привилегированную включало в себя косвенно надзор за общественной нравственностью (regimen morum, nota censoria). Они же отдавали подряды на общественные сооружения.
7. Вне магистратской табели стояла диктатура. В старину единоличный диктатор, назначенный консулом в тревожную для государства минуту, воскрешал в своем лице царские полномочия; торжество сената во II веке до Р.Х. повело к фактическому упразднению диктатуры. В I веке до Р.Х. она была возобновлена дважды в лице Суллы и Цезаря, причем второе возобновление было сигналом гибели республики.
II. Народное собрание в Риме отличалось от греческого веча своей организованностью: каждый подавал голос внутри той политической группы, к которой он принадлежал, и решающее значение имело большинство групп, а не общее большинство голосов. Подбором групп был обусловлен, как мы увидим тотчас, аристократический характер народных собраний. От афинского же веча римское народное собрание отличалось еще отсутствием инициативы: оно могло только принять или не принять вносимый председательствующим магистратом закон, избрать или провалить предлагаемого кандидата, но не изменить закон или избрать другого кандидата. Группировка была двойная. Одна имела основанием территориальное деление римского народа на тридцать пять триб, из которых тридцать одна была сельская и только четыре — городские. А так как весь городской пролетариат (со всеми отпущенниками) был причислен к городским, сельские же, включавшие помещиков, были малочисленны, то преобладание нобилитета было обеспечено. Собрания по трибам были либо всенародными (comitia tributa), либо плебейскими (concilia plebis); по составу они в позднереспубликанскую эпоху почти что совпадали, разница была лишь в том, что первые созывались консулом или претором, вторые — трибунами. Собирались они на городской площади (forum) главным образом для законодательных актов.
Вторая группировка была основана на комбинации территориального деления на трибы с имущественным на пять классов (последнее приписывалось царю Сервию Туллию) и с возрастным на два призыва, seniorum и juniorum: в принципе, каждая триба распадалась на десять «центурий», причем всадники составляли особые центурии. Эта группировка была еще более аристократической. Основанное на ней народное собрание называлось comitia centuriata; собиралось оно — что было пережитком его некогда военного значения — на Марсовом поле под городом главным образом для выборов старших магистратов.
Все эти народные собрания были до тех пор действительно народными, пока весь народ имел возможность их посещать — то есть в ту древнюю эпоху, когда ager Romanus[56] был невелик. Уже выведение колоний и дарование гражданства более отдаленным муниципиям (ниже, § 9) повело к нарушению их всенародности; когда же после союзнической войны в 89 году до Р.Х. вся Италия получила гражданские права, народные собрания стали простым звуком. Тогда римская республика оказалась на распутье: или перейти от плебисцитарной системы к неприемлемой для античного человека парламентской (выше, с. 77), или превратиться в сенатскую олигархию и затем в империю. Случилось, как известно, последнее.
III. Сенат из первоначального совещательного органа царя и консулов сумел, окрепнув в борьбе сословий, стать настоящим правителем государства, держа в повиновении консулов и пользуясь народным собранием как простым орудием своей воли. Был он вначале чисто патрицианским (patres), но при учреждении республики принял в свой состав и «вместе записанных» (conscripti) представителей плебейских родов. Число сенаторов, строго ограниченное за время существования цензорской lectio, стало неограниченным с тех пор, как по закону диктатора Суллы ежегодно двадцать новых квесторов вступало в их состав; оно колебалось между пятьюстами и шестьюстами. Внутри сената существовало деление на ordines[57], строго соблюдаемое при совещаниях: старшим ordo были «консулары» (то есть бывшие консулы), за ними шли «претории», далее «эдилиции» и «трибуниции», наконец, «квестории». Председательствующий консул, изложив суть дела, обращался к наиболее почтенному консулару с просьбой подать свое мнение («die, М. Tulli!»[58]); тот делал это в более или менее пространной речи, кончая ее своим предложением (sententia). Следующие могли или, вставая, сделать свое предложение, или, сидя, согласиться с одним из сделанных уже («М. Tullio assentior»[59]).
Сенатское правление наложило свой отпечаток на последний век республики; нам оно прекрасно известно благодаря речам и письмам Цицерона. Нельзя ему отказать в известной, истинно римской, величавости; но с задачей управления огромным государством оно совладать не могло. Его режим был временем постоянных смут — революция Гракхов, союзническая война, Марий и Сулла, невольническая война Спартака, заговор Катилины, анархия Клодия, Цезарь и Помпей, Октавиан и Антоний... Почти непрерывно одна гроза сменяла другую вплоть до последней, когда наступило длительное успокоение под эгидой империи. Как это случилось, об этом тотчас.
§ 9. Рим и Италия. Возвысившись среди прочих общин и племен Италии, Рим, тем не менее, оставался государством городом; как таковой, он имел в своем распоряжении только те формы господства, которые нами рассмотрены выше (с.78), — амфиктионию, синэкизм и гегемонию. Первая — союз латинских городов вокруг горы Латинского Юпитера (Jupiter Latiaris) — только в старину играла известную роль; она слилась с гегемонией Рима над латинскими городами, которая в 338 году до Р.Х., после окончания латинской войны, повела к установлению «латинского гражданского права» (противопоставляемого римскому). Латинские общины сохранили самоуправление, их граждане получили право голосовать в римских комидиях (jus suffragii, довольно призрачное ввиду того, что их причисляли всех по жребию к одной из тридцати пяти триб), не получив права быть избираемыми на должности (jus honorum), но могли сделаться полноправными римскими гражданами, если занимали раньше магистратуру в своей общине. Это было, таким образом, полусинэкизмом, полугегемонией. При всем том и область римского гражданства расширялась: 1) путем дарования такового целым латинским общинам, в силу чего они превращались в муниципии и 2) путем выведения римских колоний в более отдаленные области Италии. Основание первой такой колонии (Остии у устья Тибра) приписывается еще царю Анку Марцию; из позднейших главными были Sena Callica в Умбрии (около 283 года до Р.Х., ныне Sinigaglia), Путеолы в Кампании (в 134 году до Р.Х., ныне Pozzuoli), Парма и Мутина (ныне Modena) в циспаданской Галлии (в 183 году до Р.Х.); всех же было свыше тридцати. Параллельно с ними основывались и колонии латинского права; главными были Венузия в Апулии (в 291 году до Р.Х.), Аримин в галльской области сенонов (в 268 году до Р.Х., ныне Rimini), Беневент в Самнии (тогда же), Брундизий в Калабрии (в 244 году до Р.Х., ныне Brindisi), Кремона и Плаценция (ныне Piacenza) в цизальпинской Галлии (в 220 году до Р.Х.) и Аквилея (в 181 году до Р.Х.) там же. А так как параллельно с выведением этих латинских колоний старые латинские города в Лациуме превращались в римские муниципии, то уже ко II веку до Р.Х. понятия «Лациум» и «латинские граждане» совсем перестали совпадать. Все эти колонии были первоначально военными поселениями, опорами римской власти в побежденной стране; но сами собой они стали — и в этом их культурноисторическая важность — очагами романизации Италии.
Самоуправление как колоний, так и муниципиев было построено по образцу римского, только титулатура была другая.
Во главе общины стояли duoviri juri dicundo[60], соответствующие консулам; они собирали городской совет декурионов, соответствующий сенату. Второй главной магистратурой были два эдила, объединяемые часто с первой под общим именем quatuorviri[61]: ценз периодически производился квинквенналами, соответствующими римским цензорам. Наконец, происходили собрания и всего гражданского населения, организованного по старинным родовым куриям, — в Риме таковые (comitia curiata[62]) тоже некогда были, но к эпохе расцвета они давно успели выйти из употребления.
Но организация римско-латинской Италии была только первой задачей; труднее была другая.
Победоносные войны с самнитами, этрусками и другими нелатинскими племенами Италии повели к гегемонии Рима также и над ними, то есть к заключению «союзов» с побежденными, в силу которых те были обязаны помогать Риму в его войнах своими войсками; война с Ганнибалом, например, была выиграна римлянами благодаря деятельной помощи союзнических контингентов. Последствием было то, что «союзники» почувствовали желание сами стать членами той общины, величие которой они окупили своей кровью. Эти надежды, не раз обманываемые, повели, наконец, в 90-89 годах до Р.Х. к великой союзнической войне, в которой Риму еще раз пришлось сразиться с побежденными италийцами. Это была очень своеобразная война. Обыкновенно люди воюют, чтобы отстоять свою национальную самобытность; италийцы, напротив, воевали для того, чтобы растворить свою национальность в римсколатинской. Они достигли цели: в 89 году до Р.Х. вся Италия до Апеннин получила римское гражданство (а Галлия севернее Апеннин пока — латинское), и с этого времени осский, этрусский, умбрийский и другие языки в новых италийских «муниципиях» заменяются латинским.
Так состоялась романизация Италии. Рим достиг ее именно тем, что не навязывал своей национальности побежденным, а, напротив, заставлял видеть в ней завидную награду, которую надлежало взять заслугами или с бою.
§ 10. Рим и провинции. Последствием 1-й Пунической войны было приобретение Римом (в 241 году до Р.Х.) его первой провинции (карфагенской) Сицилии. В течение двух следующих столетий за этой первой провинцией последовали: 2) Сардиния с Корсикой в 238 году до Р.Х.; 3) Ближняя Испания (главный город Картагена) и 4) Дальняя Испания (главный город Кордуба, ныне Кордова) в 206-197 годах до Р.Х.; 5) Цизальпийская Галлия (главный город Медиолан) в 191-188 годах до Р.Х.; 6) Иллирик (главный город Салоны) в 167 году до Р.Х.; 7) Македония (главный город Фессалоника) в 146 году до Р.Х. с Ахайей (главный город с 46 г. до Р.Х. — Коринф) в 144 году до Р.Х.; 8) Африка (главный город Карфаген) в 146 году до Р.Х.; 9) Азия (главный город Эфес) в 133 году до Р.Х.; 10) Нарбонская Галлия (главный город Нарбон) в 121 году до Р.Х.; 11) Киликия (главный город Таре) в 102-84 годах до Р.Х.; 12) Вифиния (главный город Никомедия) в 74 году до Р.Х. с Понтом (главный город Амасея) в 65 году до Р.Х.; 13) Киренаика в 74 году до Р.Х. с Критом; 14) Сирия (главный город Антиохия) в 64 году до Р.Х.
 Свободное население этих областей распадалось на следующие три разряда:
1. Римские граждане. Таковых следовало бы искать прежде всего в римских колониях, но в силу странной теории, которой держался римский сенат, понятие земельной собственности jure Quiritium[63], юридически связанное с понятием римской колонии, было несовместимо с провинцией. Единственной римской колонией, основанной в эпоху Гракхов при отчаянном сопротивлении сената, был Нарбон в трансальпийской Галлии. Вообще же в провинциях существовали колонии римских граждан в нашем смысле (например, «французская колония в Петрограде»); они назывались conventus civium Romanorum. Живя в провинциальных городах, они имели свою корпорационную организацию и пользовались особым покровительством наместника. Состояли они главным образом из купцов и «негоциаторов»; благодаря своей энергии они стали главным очагом романизации провинций, по крайней мере, на Западе; на Востоке они, понятно, не могли устоять против превосходящей греческой культуры.
2. Автономные подданные (peregrini foederati et liberi). Таковыми были граждане некоторых провинциальных общин, которые подчинились Риму при особо благоприятных для них условиях. Главные из них: в Сицилии — Мессана, вНарбонской Галлии — Массилия, в Дальней Испании — Гадес (ныне Кадис), в Македонии — Диррахий (ныне Дураццо), в Ахайе — Афины, в Азии — Родос, в Сирии — Тир, в Африке — Утика. Положение их было в принципе то же, что и италийских «союзников».
3. Неавтономные подданные (peregrini dediticii). Ими были все вообще провинциалы, кроме названных только что общин. Самоуправлением они пользовались в разрешенных наместником пределах. Этот наместник (со времен Суллы пропретор или проконсул) управлял ими через своих легатов или префектов, он же в важных случаях творил над ними суд. С этой целью он брал с собой в провинцию несколько «легатов» из числа сенаторов и многочисленную «когорту» (cohors) из римских граждан. Он же командовал и расположенными в провинции легионами, пользуясь ими не столько для подавления (редких) восстаний, сколько для войны с пограничными народами. Эти войны были для наместника очень заманчивы: они сулили ему богатую добычу (в худшем случае — рабами); после победы войско охотно провозглашало его imperator'ом, а по возвращении в Рим он мог отпраздновать так называемый триумф, то есть совершить торжественный въезд на Капитолий для благодарственной жертвы Юпитеру Капитолийскому. Безопасность республики требовала, чтобы наместник оставался в провинции не долее года; но войны и смуты заставляли иногда уклоняться от этого правила, и последствия оказались для республики роковыми: ее погубил смелый проконсул трансальпийской Галлии, в восьмилетних боях (58-51 годы до Р.Х.) завоевавший эту провинцию, затем во главе своих победоносных и преданных легионов перешедший Рубикон.
Свободное население этих областей распадалось на следующие три разряда:
1. Римские граждане. Таковых следовало бы искать прежде всего в римских колониях, но в силу странной теории, которой держался римский сенат, понятие земельной собственности jure Quiritium[63], юридически связанное с понятием римской колонии, было несовместимо с провинцией. Единственной римской колонией, основанной в эпоху Гракхов при отчаянном сопротивлении сената, был Нарбон в трансальпийской Галлии. Вообще же в провинциях существовали колонии римских граждан в нашем смысле (например, «французская колония в Петрограде»); они назывались conventus civium Romanorum. Живя в провинциальных городах, они имели свою корпорационную организацию и пользовались особым покровительством наместника. Состояли они главным образом из купцов и «негоциаторов»; благодаря своей энергии они стали главным очагом романизации провинций, по крайней мере, на Западе; на Востоке они, понятно, не могли устоять против превосходящей греческой культуры.
2. Автономные подданные (peregrini foederati et liberi). Таковыми были граждане некоторых провинциальных общин, которые подчинились Риму при особо благоприятных для них условиях. Главные из них: в Сицилии — Мессана, вНарбонской Галлии — Массилия, в Дальней Испании — Гадес (ныне Кадис), в Македонии — Диррахий (ныне Дураццо), в Ахайе — Афины, в Азии — Родос, в Сирии — Тир, в Африке — Утика. Положение их было в принципе то же, что и италийских «союзников».
3. Неавтономные подданные (peregrini dediticii). Ими были все вообще провинциалы, кроме названных только что общин. Самоуправлением они пользовались в разрешенных наместником пределах. Этот наместник (со времен Суллы пропретор или проконсул) управлял ими через своих легатов или префектов, он же в важных случаях творил над ними суд. С этой целью он брал с собой в провинцию несколько «легатов» из числа сенаторов и многочисленную «когорту» (cohors) из римских граждан. Он же командовал и расположенными в провинции легионами, пользуясь ими не столько для подавления (редких) восстаний, сколько для войны с пограничными народами. Эти войны были для наместника очень заманчивы: они сулили ему богатую добычу (в худшем случае — рабами); после победы войско охотно провозглашало его imperator'ом, а по возвращении в Рим он мог отпраздновать так называемый триумф, то есть совершить торжественный въезд на Капитолий для благодарственной жертвы Юпитеру Капитолийскому. Безопасность республики требовала, чтобы наместник оставался в провинции не долее года; но войны и смуты заставляли иногда уклоняться от этого правила, и последствия оказались для республики роковыми: ее погубил смелый проконсул трансальпийской Галлии, в восьмилетних боях (58-51 годы до Р.Х.) завоевавший эту провинцию, затем во главе своих победоносных и преданных легионов перешедший Рубикон.
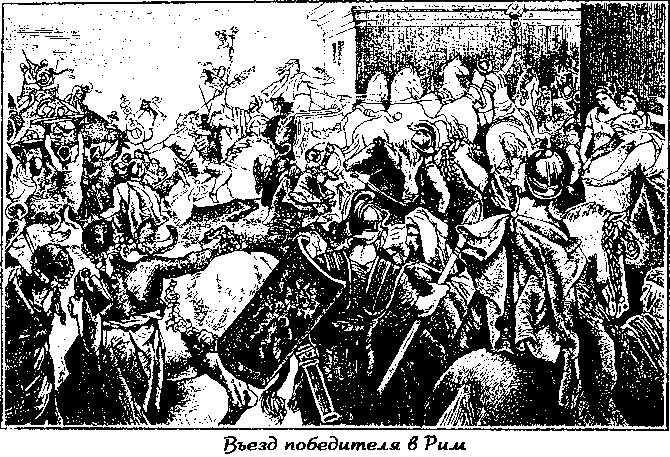 § 11. Нравственное сознание. В противоположность эллину с его агонистической душой, поведшей его вполне естественно и последовательно на путь положительной морали, мы римлянину должны приписать душу юридическую и в соответствии с ней стремление к отрицательной морали праведности, а не добродетели (выше, с.36); именно эта юридическая основа его нравственного сознания сделала его творцом в области права, нравственного сознания сделала его творцом в области права. Римский идеал — vir bonus, то есть человек, во всех отношениях своей жизни, начиная с богов, продолжая отечеством, семьей, клиентами, челядью, видящий себя окруженным целой сетью правовых постановлений и прилагающий все усилия к тому, чтобы в ней не запутаться; это — идеал строгой корректности, за соблюдение которого человек награждается общественным уважением, доброй славой при жизни и после смерти. Боги, конечно, властны над жизнью человека, но лишь постольку, поскольку и они поставлены к нему в юридические отношения. Строго соблюдая установленные молитвы и жертвоприношения как договор наследственный, а также блюдя верность клятве и обету как договору личному, человек обеспечивает себе их благоволение. Если его постигает несчастье свыше, его первая мысль та, не нарушил ли он, хотя бы невольно и бессознательно, одного из этих договоров, в пределах которых он только и признает право богов над ним. Понятно, что такая юридическая основа нравственности легко ведет к формализму — к исполнению внешней буквы предполагаемой справедливости независимо от ее внутреннего содержания и духа.
И вот на эту исконно римскую нравственную подпочву начинает воздействовать, приблизительно с III века до Р.Х., греческая жизнь и греческая философская мысль, первая — снизу и со всех сторон, вторая — сверху. Результатом этого воздействия является эллинизация также и римской нравственности. Мы видели уже, как благодаря этой эллинизации был издан даже особый юридический кодекс, jus gentium, с новым идеалом справедливости, aequum, противоположным старинному идеалу формального права. При свете этого нового нравственноправового сознания римляне поняли, что строгое следование букве права может повести к полному извращению его духа (summum jus summa injuria[64]). Но полнее всего была эллинизация нравственного сознания на высотах римского общества в той его струе, которая вела свое начало от Сципиона Старшего.
§ 11. Нравственное сознание. В противоположность эллину с его агонистической душой, поведшей его вполне естественно и последовательно на путь положительной морали, мы римлянину должны приписать душу юридическую и в соответствии с ней стремление к отрицательной морали праведности, а не добродетели (выше, с.36); именно эта юридическая основа его нравственного сознания сделала его творцом в области права, нравственного сознания сделала его творцом в области права. Римский идеал — vir bonus, то есть человек, во всех отношениях своей жизни, начиная с богов, продолжая отечеством, семьей, клиентами, челядью, видящий себя окруженным целой сетью правовых постановлений и прилагающий все усилия к тому, чтобы в ней не запутаться; это — идеал строгой корректности, за соблюдение которого человек награждается общественным уважением, доброй славой при жизни и после смерти. Боги, конечно, властны над жизнью человека, но лишь постольку, поскольку и они поставлены к нему в юридические отношения. Строго соблюдая установленные молитвы и жертвоприношения как договор наследственный, а также блюдя верность клятве и обету как договору личному, человек обеспечивает себе их благоволение. Если его постигает несчастье свыше, его первая мысль та, не нарушил ли он, хотя бы невольно и бессознательно, одного из этих договоров, в пределах которых он только и признает право богов над ним. Понятно, что такая юридическая основа нравственности легко ведет к формализму — к исполнению внешней буквы предполагаемой справедливости независимо от ее внутреннего содержания и духа.
И вот на эту исконно римскую нравственную подпочву начинает воздействовать, приблизительно с III века до Р.Х., греческая жизнь и греческая философская мысль, первая — снизу и со всех сторон, вторая — сверху. Результатом этого воздействия является эллинизация также и римской нравственности. Мы видели уже, как благодаря этой эллинизации был издан даже особый юридический кодекс, jus gentium, с новым идеалом справедливости, aequum, противоположным старинному идеалу формального права. При свете этого нового нравственноправового сознания римляне поняли, что строгое следование букве права может повести к полному извращению его духа (summum jus summa injuria[64]). Но полнее всего была эллинизация нравственного сознания на высотах римского общества в той его струе, которая вела свое начало от Сципиона Старшего.
 Уже сам основоположник этого направления, как эллинствующий, возбудил нарекания представителей староримской корректности в роде Фабия Кунктатора; они усилились при его преемниках Т. Квинктии Фламинине и М. Эмилии Павле, когда римская реакция обрела своего самого авторитетного представителя в лице строгого М. Порция Катона. Но победа была суждена эллинствующим: они одержали ее в лице родного сына Павла, Сципиона Младшего, кружок которого был средоточием эллинизации и гуманизации Рима. Его душой был родосский переселенец, стоик Панэций (выше, с.215); прекрасно понимая, в чем нуждались римляне, он написал для них первый кодекс нравственности, сочинение «Об обязанностях», позднее переделанное по-латыни Цицероном («De officiis»), но уже и в своей греческой форме достаточно понятное для образованных римлян. Здесь формально юридическая почва покидается сознательно и совершенно; даже клятва с ее обязательностью переносится с говорящих уст в мыслящую и волящую душу. Праведность, да и то в ее реальном, а не формальном виде, признается только одним из двух идеалов естественного стремления к справедливости; вторым объявляется благотворительность, улучшение доли ближнего в той мере, в какой это разумно (и, значит, в противоположность неосмысленной расточительности, плодящей дармоедов). И рядом с этим стремлением ставятся другие, столь же греческие по своему духу, сколь чуждые исконно римской природе: стремление к познанию, стремление к первенству — чисто агонистическая идея! — и, наконец, стремление к индивидуальному устроению своего характера и своей жизни, в духе замечательных слов Перикла (выше, с. 129) и вразрез с основным сознанием народа, точно так же прикрывавшего индивидуальные черты характера под обезличивающей корректностью идеального vir bonus[65], как у него прихотливые очертания тела исчезали в складчатом покрове гражданской тоги.
Панэций был воспитателем римского общества — но только той его части, которой пришлась по душе стоическая основа его морали. Это была его лучшая часть; заветы Сципиона перешли к Кв. Лутацию Катулу, от него к Л. Крассу (оратору), от него к Цицерону, Катону Младшему и М. Бруту. Можно даже сказать, что в эллинизованном римском обществе стоический идеал достиг своего апогея, так как здесь греческая философская мысль сочеталась с исконно римской выдержкой характера. Цицерон не раз бывал слаб в жизни, но смерть он встретил мужественно; еще более освятили свое дело своей геройской смертью Катон и Брут. Только теперь взошли семена, зароненные некогда первыми учителями в души их впечатлительной аудитории под колоннадами Пестрой Стои. Староримский vir bonus вырос и преобразился; он стал тем исполином духа, про которого сказано:
Уже сам основоположник этого направления, как эллинствующий, возбудил нарекания представителей староримской корректности в роде Фабия Кунктатора; они усилились при его преемниках Т. Квинктии Фламинине и М. Эмилии Павле, когда римская реакция обрела своего самого авторитетного представителя в лице строгого М. Порция Катона. Но победа была суждена эллинствующим: они одержали ее в лице родного сына Павла, Сципиона Младшего, кружок которого был средоточием эллинизации и гуманизации Рима. Его душой был родосский переселенец, стоик Панэций (выше, с.215); прекрасно понимая, в чем нуждались римляне, он написал для них первый кодекс нравственности, сочинение «Об обязанностях», позднее переделанное по-латыни Цицероном («De officiis»), но уже и в своей греческой форме достаточно понятное для образованных римлян. Здесь формально юридическая почва покидается сознательно и совершенно; даже клятва с ее обязательностью переносится с говорящих уст в мыслящую и волящую душу. Праведность, да и то в ее реальном, а не формальном виде, признается только одним из двух идеалов естественного стремления к справедливости; вторым объявляется благотворительность, улучшение доли ближнего в той мере, в какой это разумно (и, значит, в противоположность неосмысленной расточительности, плодящей дармоедов). И рядом с этим стремлением ставятся другие, столь же греческие по своему духу, сколь чуждые исконно римской природе: стремление к познанию, стремление к первенству — чисто агонистическая идея! — и, наконец, стремление к индивидуальному устроению своего характера и своей жизни, в духе замечательных слов Перикла (выше, с. 129) и вразрез с основным сознанием народа, точно так же прикрывавшего индивидуальные черты характера под обезличивающей корректностью идеального vir bonus[65], как у него прихотливые очертания тела исчезали в складчатом покрове гражданской тоги.
Панэций был воспитателем римского общества — но только той его части, которой пришлась по душе стоическая основа его морали. Это была его лучшая часть; заветы Сципиона перешли к Кв. Лутацию Катулу, от него к Л. Крассу (оратору), от него к Цицерону, Катону Младшему и М. Бруту. Можно даже сказать, что в эллинизованном римском обществе стоический идеал достиг своего апогея, так как здесь греческая философская мысль сочеталась с исконно римской выдержкой характера. Цицерон не раз бывал слаб в жизни, но смерть он встретил мужественно; еще более освятили свое дело своей геройской смертью Катон и Брут. Только теперь взошли семена, зароненные некогда первыми учителями в души их впечатлительной аудитории под колоннадами Пестрой Стои. Староримский vir bonus вырос и преобразился; он стал тем исполином духа, про которого сказано:
 В этом кратком очерке жизни Цицерона намечены те моменты, которым посвящены его главные речи; всех же нам от него осталось более пятидесяти. Их стиль — тот средний между аттической трезвостью и азианской патетичностью, который характеризовал родосское красноречие (выше, с.233); и действительно, Цицерон был учеником родосского оратора Молона. Он счастливо соединил вынесенное из этого учения искусство с естественной величавостью римской речи и этим создал римский национальный стиль, признанный таковым если не при его жизни, то, во всяком случае, с конца I века по Р.Х. В жизни же он чувствовал себя довольно одиноким и должен был в защиту своих идеалов издавать сочинения по теории и истории красноречия, из которых главные — «De oratore» в трех книгах (мастерский диалог систематического характера), «Orator» (синтетический портрет идеального оратора) и «Brutus sive de Claris oratoribus» (история красноречия в Риме).
Еще более интересным и исторически важным наследием Цицерона являются для нас его письма, которых сохранилось довольно много (к другу Аттику шестнадцать книг, к брату Квинту три книги и к Бруту две книги); они тем более драгоценны, что не были подготовлены к изданию самим автором. На них с XIV в., когда они вновь были найдены, между прочим, Петраркой, вся интеллигентная Европа училась искусству писать familiariter — просто и в то же время интересно.
Историография лишь к концу периода нашла себе в Риме достойных представителей; это были Цезарь («Записки о галльской войне» в семи книгах и «Записки о гражданской войне» в трех книгах) и Саллюстий (две монографии о Югуртинской войне и о заговоре Катилины и еще история поступательного движения римской демократии от смерти Суллы в 78 году до торжества Помпея в 67 году до Р.Х. в пяти книгах, из которых нам сохранены только речи и письма). Первый пишет с подкупающей ясностью и простотой, стараясь как можно более заставлять события говорить за себя; второй успешно подражает Фукидиду, в его слоге много продуманности и изысканности, он мастер сжатых характеристик и эффектной недоговоренности. Рядом с этими двумя совершенно исчезает как писатель добрый друг своих друзей Корнелий Непот; своей известностью он обязан школе, которая любовно сохранила его маленькие биографии греческих и других полководцев как книгу для младшего возраста.
Третья отрасль прозы, философия, опять приводит нас к Цицерону. Творцом он не был и не считал себя таковым; но он был человеком ясного ума и чуткого сердца и понимал поэтому, что метафизический скептицизм, вынесенный им из лекций новой Академии (выше, с.241), хорош для борьбы с предрассудками, особенно на почве ведовства (ср. «De divinatione» в двух книгах), и как протест против метафизического построения учения о богах («De nature deorum» в трех книгах) и о высшем благе («De finibus bonorum et malorum» в пяти книгах), но он неуместен в вопросах положительной морали. В этих последних он предпочитает следовать смягченному стоицизму Панэция (выше, с.279) и Посидония, что он и делает, особенно в своем славном трактате об обязанностях («De officiis» в трех книгах), но также в своих обаятельных «тускуланских беседах» («Tusculanae disputationes» в пяти книгах о смерти, физической и душевной боли, о прочих аффектах и о самодовлении добродетели) и в монографиях о дружбе и о старости. Спасенные от забвения благодарностью потомства, эти сочинения были настоящей отрадой для вдумчивых душ новой Европы, которые они и приучили к занятиям серьезной философией.
В этом кратком очерке жизни Цицерона намечены те моменты, которым посвящены его главные речи; всех же нам от него осталось более пятидесяти. Их стиль — тот средний между аттической трезвостью и азианской патетичностью, который характеризовал родосское красноречие (выше, с.233); и действительно, Цицерон был учеником родосского оратора Молона. Он счастливо соединил вынесенное из этого учения искусство с естественной величавостью римской речи и этим создал римский национальный стиль, признанный таковым если не при его жизни, то, во всяком случае, с конца I века по Р.Х. В жизни же он чувствовал себя довольно одиноким и должен был в защиту своих идеалов издавать сочинения по теории и истории красноречия, из которых главные — «De oratore» в трех книгах (мастерский диалог систематического характера), «Orator» (синтетический портрет идеального оратора) и «Brutus sive de Claris oratoribus» (история красноречия в Риме).
Еще более интересным и исторически важным наследием Цицерона являются для нас его письма, которых сохранилось довольно много (к другу Аттику шестнадцать книг, к брату Квинту три книги и к Бруту две книги); они тем более драгоценны, что не были подготовлены к изданию самим автором. На них с XIV в., когда они вновь были найдены, между прочим, Петраркой, вся интеллигентная Европа училась искусству писать familiariter — просто и в то же время интересно.
Историография лишь к концу периода нашла себе в Риме достойных представителей; это были Цезарь («Записки о галльской войне» в семи книгах и «Записки о гражданской войне» в трех книгах) и Саллюстий (две монографии о Югуртинской войне и о заговоре Катилины и еще история поступательного движения римской демократии от смерти Суллы в 78 году до торжества Помпея в 67 году до Р.Х. в пяти книгах, из которых нам сохранены только речи и письма). Первый пишет с подкупающей ясностью и простотой, стараясь как можно более заставлять события говорить за себя; второй успешно подражает Фукидиду, в его слоге много продуманности и изысканности, он мастер сжатых характеристик и эффектной недоговоренности. Рядом с этими двумя совершенно исчезает как писатель добрый друг своих друзей Корнелий Непот; своей известностью он обязан школе, которая любовно сохранила его маленькие биографии греческих и других полководцев как книгу для младшего возраста.
Третья отрасль прозы, философия, опять приводит нас к Цицерону. Творцом он не был и не считал себя таковым; но он был человеком ясного ума и чуткого сердца и понимал поэтому, что метафизический скептицизм, вынесенный им из лекций новой Академии (выше, с.241), хорош для борьбы с предрассудками, особенно на почве ведовства (ср. «De divinatione» в двух книгах), и как протест против метафизического построения учения о богах («De nature deorum» в трех книгах) и о высшем благе («De finibus bonorum et malorum» в пяти книгах), но он неуместен в вопросах положительной морали. В этих последних он предпочитает следовать смягченному стоицизму Панэция (выше, с.279) и Посидония, что он и делает, особенно в своем славном трактате об обязанностях («De officiis» в трех книгах), но также в своих обаятельных «тускуланских беседах» («Tusculanae disputationes» в пяти книгах о смерти, физической и душевной боли, о прочих аффектах и о самодовлении добродетели) и в монографиях о дружбе и о старости. Спасенные от забвения благодарностью потомства, эти сочинения были настоящей отрадой для вдумчивых душ новой Европы, которые они и приучили к занятиям серьезной философией.
 В похоронах тоже произошла важная реформа. Из двух конкурирующих форм, сжигания и погребения, во II-III веках вторая в зажиточных классах берет верх над первой. В связи с этой реформой воскресает забытый саркофаг — прямоугольный, большей частью мраморный гроб с такой же крышкой; он часто покрывается рельефами либо со всех сторон (греческая форма), либо только спереди (римская форма), изображающими мифологические или бытовые сцены — для нас это, поэтому, очень интересные и важные памятники. Для бедноты, напротив, заводятся коллективные гробницы, часто, в видах дешевизны, подземные, причем каждый получает маленькое помещение для урны, заделываемое дощечкой с надписью и круглым отверстием для поминальных даров; эти отверстия рядами друг над другом давали гробнице сходство с голубятней, почему она и называлась columbarium. В особом положении были христианские общины тех времен; для них, конечно, был обязателен пример гроба Господня, чем исключалось сожжение трупа: «Veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus»[90], — говорит Минуций Феликс (34, 11; ниже, § 13). А впрочем, они, соображаясь с местными условиями, хоронили своих покойников либо sub divo[91], либо в подземных, соединенных ходами, пещерах. Это и есть сохраненные нам, особенно под Римом, катакомбы.
В похоронах тоже произошла важная реформа. Из двух конкурирующих форм, сжигания и погребения, во II-III веках вторая в зажиточных классах берет верх над первой. В связи с этой реформой воскресает забытый саркофаг — прямоугольный, большей частью мраморный гроб с такой же крышкой; он часто покрывается рельефами либо со всех сторон (греческая форма), либо только спереди (римская форма), изображающими мифологические или бытовые сцены — для нас это, поэтому, очень интересные и важные памятники. Для бедноты, напротив, заводятся коллективные гробницы, часто, в видах дешевизны, подземные, причем каждый получает маленькое помещение для урны, заделываемое дощечкой с надписью и круглым отверстием для поминальных даров; эти отверстия рядами друг над другом давали гробнице сходство с голубятней, почему она и называлась columbarium. В особом положении были христианские общины тех времен; для них, конечно, был обязателен пример гроба Господня, чем исключалось сожжение трупа: «Veterem et meliorem consuetudinem humandi frequentamus»[90], — говорит Минуций Феликс (34, 11; ниже, § 13). А впрочем, они, соображаясь с местными условиями, хоронили своих покойников либо sub divo[91], либо в подземных, соединенных ходами, пещерах. Это и есть сохраненные нам, особенно под Римом, катакомбы.
 § 8. Государственный быт. Основным характером государственного строя в раннюю империю является, по крайней мере, юридически, последовательно проведенное двоевластие, то есть такое правление, при котором во главе государства оказываются два правящих органа, а именно — с одной стороны, государь (princeps), с другой — сенат. Это принципиальное двоевластие выводится юридически из конститутивной формулы, согласно которой власть императора представляется составленной из двух пожизненно ему врученных полномочий, а именно проконсульского imperium и трибунской potestas — и проявляется поэтому и в горизонтальном и в вертикальном делении власти между императором и сенатом.
Горизонтальное деление заключается в том, что император в силу своей проконсульской власти является верховным начальником всех легионов римской армии и всех провинций, где таковые стоят, — то есть провинций пограничных; ими он управляет через своих legati pro praetore сенаторского звания. Особняком стоит Египет, который Август по его завоевании не присоединил к прочим провинциям империи, а оставил себе как наследнику Птолемеев; им император управляет через особого префекта всаднического звания, и сенаторам доступ в эту страну был запрещен. Напротив, Италия и мирные провинции должны были оставаться в ведении сената, который управлял ими через своих магистратов и промагистратов.
Вертикальное деление заключается в том, что император в силу своей трибунской власти пользуется правом контроля деятельности сенатских магистратов также и в предоставленной сенату в силу горизонтального деления территории; это право он осуществляет особенно в области финансовой через своих прокураторов и в области судебной через своих префектов, городского и преторианских, — эти должности поручались исключительно лицам всаднического сословия. Таким образом, мы имеем в нашу эпоху две категории должностных лиц, сенатскую, в которую входили прежние республиканские магистраты и промагистраты, и императорскую, в которую входили прокураторы и префекты; первая принадлежала сенаторскому, вторая — всадническому сословию. Промежуточное место занимали легаты pro praetore, которые, будучи сенаторами, все, же управляли императорскими провинциями.
Народное собрание, существовавшее еще при Августе, было упразднено Тиберием; чисто пассивное отношение народа к его упразднению лучше всего доказывает, до какой степени оно стало фикцией после того, как дарование гражданских прав италийцам сделало его плебисцитарный характер несовместимым с изменившимися условиями (выше, с.268). Его функции перешли к сенату, пополнявшемуся по-прежнему ежегодными квесторами.
Развитие государственной власти при созданных этим двоевластием условиях не было последовательным, находясь в зависимости от индивидуальных наклонностей каждого данного императора; все же все фактические преимущества были на стороне единоличной императорской власти, рядом с которой власть сената была лишь терпима. Императоры-деспоты вроде Тиберия, Домициана и особенно Септимия Севера с его сыном сводили ее к нулю; а после великой смуты III века двоевластие и фактически и юридически прекратилось и его заменило монархическое правление императора, причем сенат превратился в простую городскую думу Рима. Таковым перешел он в следующий период.
§ 9. Италия и провинции. Как в республиканскую эпоху Рим относился к Италии, так ныне Италия относится к империи; романизация этой империи точно так же является делом нашей эпохи, как романизация Италии — предыдущей. Венцом обоих стремлений было распространение римского гражданства — там на италийцев после союзнической войны (89 год до Р.Х.), здесь — на провинциалов в constitutio Antoniniana 212 года. Одну оговорку, впрочем, придется сделать тотчас же: в восточной половине империи латинский язык стал только языком армии и конвентов (выше, с.271), в администрации и в частной жизни он стушевался перед языком греческим, носителем гораздо более полной греческой культуры.
Но и в жизни отдельных провинций наблюдаются довольно существенные особенности, и было бы глубоким заблуждением представлять себе их романизацию как культурную нивелировку.
Испания, населенная иберийцами (и кельтиберийцами) с сильной примесью на юге финикийского элемента, как первая римская провинция на материке еще в республиканскую эпоху сильно романизировалась. Особенно много сделал в этом отношении Серторий, вождь римской эмиграции в семидесятых годах, своими латинскими школами, охотно посещавшимися иберийской молодежью. Много городов с римским населением возникло здесь в последующее время, особенно в долине Бетиса (Гвадалкивира); финикийский Гадес уступил свою цивилизаторскую роль римскому Hispalis (ныне Севилья). Третьим фактором романизации стали на севере римские легионы, необходимые против свободолюбивых астурийцев и кантабров; они стояли в городе, который поныне сохранил название «легион» — Leon. Параллельно с романизацией шел переход от племенного быта к городскому; уже Веспасиан мог дать множеству испанских общин латинское право. Иберийский язык был оттеснен в Пиренейские горы, где он сохранился поныне в качестве своеобразного языка басков. Уже с первого века империи испанцы — оба Сенеки, Лукан, Квинтилиан — играют роль в римской литературе, и романский язык полуострова в своих трех главных разветвлениях — португальском, кастильском и каталанском — своей сравнительной близостью к итальянскому доказывает, что романизация здесь состоялась и раньше и полнее, чем где-либо. Точно так же и местные религии исчезли здесь раньше и бесследнее, чем где-либо.
Не так легко поддалась Галлия. Правда, так называемая «провинция» (выше, с.247) не отстала от Испании, и разница между ней и прочей Галлией отразилась на делении также и позднейшего французского языка на langue d'oc и langue d'oui. Крупнейшим изменением было здесь включение Цезарем в «провинцию» также и массалийского государства; Массалия осталась центром галльского эллинизма на все три столетия нашей эпохи, но ее торговое значение унаследовал город Arelate (ныне Арль) на нижней Роне, сохранивший его и в раннее Средневековье. Но в покоренной Цезарем Галлии местный элемент еще долго боролся с римским. Силы к борьбе он находил в своей религии, мрачной и мистической, и в ее представителях — друидах, организованном и объединенном жречестве с многолетним курсом учения и периодическими собраниями в Антрике (ныне Chartres). Рим при всей своей терпимости в религиозных делах счел нужным выступить против друидизма ввиду безнравственного характера его культа, требовавшего, между прочим, человеческих жертвоприношений; Антрику он противопоставил Лугудун (ныне Лион) как новый политикорелигиозный центр всех галльских провинций, скоро ставший самым населенным и цветущим городом Галлии. Впрочем, и здесь романизационные меры были мягкие и разумные, и цель была достигнута вполне. Галлия уже в I веке до Р.Х. срослась с империей; даже когда в последние дни Нерона здесь возникло восстание — его вождь Юлий Виндекс свое право на эту роль выводил из того (быть может, вымышленного) факта, что он происходил от побочного сына Цезаря. Все же литературное значение Галлии относится уже к следующей эпохе.
Необходимость укрепления римского владычества в Галлии повела со временем к завоеванию также и Британии, очага галльского друидизма, поскольку она была населена родственным с галлами народом бриттов. Каледонии, где жили пикты, а также острова Ивернии (Ирландии), который населяли скотты, Рим не тронул. Скоро и здесь началась романизация и переход к городскому быту; религиозно-административным центром новой провинции стал Camalodunum (Кольчестер), торговым — Londinium (Лондон), военным — Eburacum (Йорк). Очень развитая система больших дорог довершила умиротворение страны, которая только теперь, благодаря Риму, познала пользу хлебопашества и оседлой жизни. Она отплатила ему безупречной верностью и лишь очень неохотно дала себя отторгнуть от империи в начале V века после безуспешной просьбы о защите.
План Августа и его храброго пасынка Друза создать также и римскую Германию до Эльбы погиб вместе с легионами Вара в Тевтобургском лесу (9 год по Р.Х.); название Germania осталось за двумя небольшими провинциями на левом берегу Рейна и по эту сторону укрепленного вала (limes), соединяющего Рейн с Дунаем. Здесь названная в честь зятя Августа Colonia Agrippina (ныне Кельн) была сакрально-административным, Moguntiacum (ныне Майнц) — военным центром, и вся жизнь имела военный характер. Правда, херуски, от вождя которых Арминия погиб Вар, вскоре после этого потеряли гегемонию среди германских племен, и сменившие их хатты были довольно миролюбивы; но в последние времена Антонинов появляется на рейнской границе беспокойное племя (или союз племен) аламанов, а в эпоху смуты к ним присоединяются франки («свободные» — тоже, вероятно, союз племен). С этих пор начинаются непрерывные германские войны, в которых истощилась империя.
Августу же принадлежит и план организации дунайских провинций, коих он образовал пять: 1) Рецию с центром в Augusta Vindelicorum (ныне Аугсбург), к которому позднее Марк Аврелий прибавил Castra Regina (ныне Регенсбург). Она туго поддавалась романизации; напротив, очень легко и успешно 2) Норик со многими городами, особенно Emona (ныне Люблин) и Juvavum (ныне Зальцбург), 3) Иллирик (верхний), населенный народом, от которого происходят нынешние албанцы. Его завоевание началось еще в республиканскую эпоху, но организация и романизация была делом империи. Ее упадок в III веке был странным образом эпохой расцвета для Иллирика, главный город которого, Salonae, стал одним из самых людных городов римского государства. Здесь Диоклетиан построил себе свой огромный дворец, стены которого поныне окружают город, унаследовавший название дворца — Spalato. 4) Паннония (или нижний Иллирик) с ее соседними главными городами Carnuntum (ныне Петронелль) и Виндобона (ныне Вена), была чисто военной провинцией, занятой многочисленными войсками; как германские легионы вели войну с аламанами и франками, так паннонские в то же время — с маркоманнами. 5) Мезия (Moesia) с городами Singidunum (ныне Белград) и Viminacium (Костолац) была предметом двойной цивилизационной работы — римской с Паннонии и греческой с Македонии, причем и та и другая пользовались одинаковым покровительством римской власти. К этим пяти провинциям, организованным Августом и его ближайшими преемниками, Траян прибавил еще одну задунайскую, Дакию (ныне Румыния). Хотя эта провинция позже прочих была присоединена к империи и ранее прочих была от нее отторгнута — уже в смутный период III века, — все же ее романизация была настолько прочна, что восторжествовала над всеми веками и вторжениями варваров, и нынешние румыны справедливо признают императора Траяна создателем своего народа.
А впрочем, история всех этих окраин ничего не дает нам, кроме имен и голых фактов; пульс действительной жизни мы чувствуем, только спускаясь от них к греческому Востоку. Балканский полуостров, кроме Мезии и Фракии, был разделен на две провинции, Македонию и Ахайю, из коих первая обнимала также и северную Грецию (выше, с.20). Для обеих сакральным центром были Дельфы, амфиктионию которых (выше, с. 196) Рим реорганизовал, включая в нее почти все греческие племена с Македонией и Эпиром. Независимо от этого собственно Греция имела своими главными городами Коринф, вновь основанный Цезарем как римская колония, и Аргос: там жил римский наместник, здесь собирался провинциальный сейм. Не входили в состав провинции Афины и Спарта, сохранившие и при империи свою свободу. Вообще Рим всячески проявлял свой филэллинизм, особенно по отношению к Афинам — никто в такой мере, как Адриан, украсивший Афины многими величественными зданиями, пристроивший к ним новый квартал и подаривший им водопровод, из которого афиняне пьют воду поныне. И все-таки Эллада угасает; исчезновение филономического сознания повело к усиливающемуся безбрачию и к уменьшению населения. Старая религия еще была сильна, но более как предмет любви, чем веры. Промышленность и торговля оскудели; Пирей, некогда «гостеприимнейшая гавань в мире», теперь редко видел в своих водах заезжее судно. Мирное, предзакатное настроение царит повсюду; его лучший представитель — Плутарх Херонейский (I-II века), один из симпатичнейших людей того времени, прекрасный семьянин и любящий гражданин своей маленькой родины, довольствующийся при скромном достатке скромными почестями со стороны своих сограждан и мирно доживающий свой век под лучами заходящего солнца Аполлоновой горы.
Малая Азия состояла из нескольких провинций, из коих главной была «Азия» в узком смысле, бывшее Пергамское царство, «провинция пятисот городов», как ее называли. О ее процветании в нашу эпоху свидетельствуют, кроме литературы, и многочисленные развалины, обнаруженные путешествиями последних десятилетий: «Где только исследованию открывается уголок этой земли, нетронутой опустошениями того полутора-тысячелетия, которое нас отделяет от тех времен, там наше первое и сильнейшее чувство — чувство ужаса и почти стыда вследствие контраста между жалким и бедственным настоящим и счастьем и блеском истекшей римской эпохи» (Т. Моммзен). Земледелие, промышленность, торговля находились на одинаковой, очень значительной высоте; о просвещении города заботились взапуски, и в литературе — конечно, греческой — нашего периода Малая Азия играет первостепенную роль. Религиозность жителей была сильна и чутка с наклоном к мечтательности и мистицизму; для чудодеев, вроде знаменитого Аполлония Тианского, здесь была благодатная почва, но и христианство нашло здесь свои первые и самые верные общины.
Подобно Малой Азии и Сирия ждет своих избавителей для возвращения ей того благосостояния, которым она пользовалась в эпоху империи. Но, впрочем, характер ее был другой: там — множество одинаково цветущих, соперничающих друг с другом городов, здесь — бесспорное первенство греческой столицы, роскошной и распущенной Антиохии, которой не могла затмить основанная Римом латинская столица Берит (Berytos, ныне Бейрут), хотя и она прославилась своими высшими школами, филологической и юридической; там — мирная жизнь разоруженных провинций под мягкой властью римского сената, здесь — ферула[106] императорского наместника и воинский шум легионов у беспокойной евфратской границы. Но культура почвы, промышленность и торговля были здесь еще значительнее, чем там.
Особого внимания заслуживает Палестина. За Хасмонеями (то есть основанной Маккавеями династии, выше, с.201) последовал Ирод Великий, в сорокалетнее правление которого иудейское царство достигло своего апогея в смысле внешнего блеска и могущества; но при его преемниках начались смуты. Иудея была то подпровинцией с римским прокуратором во главе, то полусамостоятельной под протекторатом Рима; рознь партий между собой и с Римом росла и росла и повела, наконец, к восстанию 61-69 годов, после которого Иерусалим и его храм были разрушены. Но и этим сопротивление иудейского народа не было сломлено: он восставал и при Траяне, и при Адриане, и при Антонине Благочестивом, каждый раз неудачно; взаимное отчуждение и взаимная ненависть от этого только усиливались. Внешним результатом было включение Иудеи с ее столицей Aelia Capitolina — под таким названием Адриан вновь выстроил Иерусалим, запретив, однако, иудеям в нем селиться, — в провинцию Сирию; внутренним — прекращение прозелитизма (выше, с.238) и полная замкнутость еврейства в этот новый, чисто синагогальный период его жизни.
Оставляем в стороне римскую (северо-западную) Аравию, пустынную страну, в которой, однако, транзитная торговля с Индией повела к возникновению сказочно богатых и прекрасных городов вроде Петры; переходим к Египту с его столицей Александрией. В отличие от прочих провинций правление здесь было чисто бюрократическим: даже греческие города не имели ни советов, ни выборных властей. Превосходя плодородием все прочие провинции, Египет был житницей Италии в эпоху империи; вот почему императоры особенно дорожили этой провинцией, обладание которой им обеспечивало подчинение Италии. Второй силой страны была промышленность, главным образом, производство тканей, стекла и папируса; третьей — торговля с Индией (по Нилу до Копта, оттуда по большим дорогам до чермноморских гаваней[107] Myoshormos или Вереники, оттуда, огибая Аравию, к Малабарскому побережью), особенно с тех пор как мореход Гиппал открыл постоянство муссонов и возможность прямого морского пути из Аданы (ныне Аден) к Малабару. Александрийский Мусей с его кафедрами был оставлен императорами, и ученые продолжали с гордостью называть себя аро tu Museiu (как в Париже de l'Institut), но его придворное происхождение оказалось для него роковым: он захирел с тех пор, как в Александрии не было двора, между там как в Афинах высшие школы и под римской эгидой продолжали процветать. Впрочем, это касалось греков; местное население, умственно и нравственно обессиленное многовековыми кровосмесительными браками, в тупом повиновении исполняло свою тяжелую работу, равнодушное ко всему, что не касалось его священных крокодилов и кошек.
Оставляя в стороне малозаметное в нашу эпоху Киренское пятиградие на Большом Сирте, мы переходим к африканскому Западу между Средиземным морем и пустыней, состоящему из греко-финикийского трехградия (Триполиса), провинции Африки с Нумидией и Мавритании. После того как Цезарь восстановил разрушенный столетием раньше Карфаген, для этих провинций наступил период поразительного расцвета, о котором поныне свидетельствуют развалины заложенных тогда городов. Очень сложным был национальный вопрос. Местный (берберский) язык держался с замечательной стойкостью через всю античность, как и ныне; на него легло уже с давних пор финикийское наслоение вследствие карфагенского владычества; на финикийское — греческое, благодаря непреодолимой притягательной силе действующей с Сицилии и Кирены греческой образованности. Теперь на всю ту подпочву ложится латинское наслоение, и оно побеждает: к концу нашей эпохи мы имеем уже латинскую Африку, давшую также и литературе своеобразную «африканскую латынь», страстную и подчас дикую, но всегда сильную — латынь Апулея среди язычников, Тертуллиана и бл. Августина среди христиан. Экономическое значение этих провинций было неодинаково. Африка в узком смысле по плодородию мало уступала Египту, и Нумидия к ней в этом отношении приближалась; Мавритания была менее обильна, и ее оккупация Римом при Калигуле преследовала, главным образом, военные цели — обезопасить Испанию от набегов с юга.
Таким образом, все культурное развитие империи повело неизбежно к роковому дуализму: греческий Восток, римский Запад; внутренняя политика Рима держалась последовательно системы двух «наших» языков, эллинизируя Восток и романизируя Запад. Там она продолжала дело эллинистической эпохи, здесь делала свое, и успех был на ее стороне. Орудиями романизации были: 1) колонии и конвенты римских граждан, 2) свободная латинская школа, 3) армия при последовательно проведенной системе местного набора. Но главным средством было терпение, старательное избегание крутых мер, которые бы приправили очевидную пользу усвоения римской культуры изъянами нравственного характера. И поразительна была сплоченность этой двойной империи: и сириец Лукиан и испанец Сенека одинаково чувствовали себя гражданами единого римского государства. Его временные расщепления были делом армий, требовавших престола каждая своему полководцу; народы же провинций льнули друг к другу и к общему центру — Риму.
§ 10. Нравственное сознание. Многовековая работа греческой философии в греческой и латинской оболочке принесла в нашу эпоху свои самые обильные плоды, спаивая различные части римской империи также и единством нравственной культуры. Она обнимала далеко не одни только верхи общества: возродившаяся в нашу эпоху с новой силой киническая проповедь проникала в самые низшие слои, ставя всех лицом к лицу с коренными вопросами морали. Эти вопросы считаются везде самыми интересными; в деревенской усадьбе Горация его крестьяне-соседи за скромной трапезой охотнее всего рассуждают о том:
§ 8. Государственный быт. Основным характером государственного строя в раннюю империю является, по крайней мере, юридически, последовательно проведенное двоевластие, то есть такое правление, при котором во главе государства оказываются два правящих органа, а именно — с одной стороны, государь (princeps), с другой — сенат. Это принципиальное двоевластие выводится юридически из конститутивной формулы, согласно которой власть императора представляется составленной из двух пожизненно ему врученных полномочий, а именно проконсульского imperium и трибунской potestas — и проявляется поэтому и в горизонтальном и в вертикальном делении власти между императором и сенатом.
Горизонтальное деление заключается в том, что император в силу своей проконсульской власти является верховным начальником всех легионов римской армии и всех провинций, где таковые стоят, — то есть провинций пограничных; ими он управляет через своих legati pro praetore сенаторского звания. Особняком стоит Египет, который Август по его завоевании не присоединил к прочим провинциям империи, а оставил себе как наследнику Птолемеев; им император управляет через особого префекта всаднического звания, и сенаторам доступ в эту страну был запрещен. Напротив, Италия и мирные провинции должны были оставаться в ведении сената, который управлял ими через своих магистратов и промагистратов.
Вертикальное деление заключается в том, что император в силу своей трибунской власти пользуется правом контроля деятельности сенатских магистратов также и в предоставленной сенату в силу горизонтального деления территории; это право он осуществляет особенно в области финансовой через своих прокураторов и в области судебной через своих префектов, городского и преторианских, — эти должности поручались исключительно лицам всаднического сословия. Таким образом, мы имеем в нашу эпоху две категории должностных лиц, сенатскую, в которую входили прежние республиканские магистраты и промагистраты, и императорскую, в которую входили прокураторы и префекты; первая принадлежала сенаторскому, вторая — всадническому сословию. Промежуточное место занимали легаты pro praetore, которые, будучи сенаторами, все, же управляли императорскими провинциями.
Народное собрание, существовавшее еще при Августе, было упразднено Тиберием; чисто пассивное отношение народа к его упразднению лучше всего доказывает, до какой степени оно стало фикцией после того, как дарование гражданских прав италийцам сделало его плебисцитарный характер несовместимым с изменившимися условиями (выше, с.268). Его функции перешли к сенату, пополнявшемуся по-прежнему ежегодными квесторами.
Развитие государственной власти при созданных этим двоевластием условиях не было последовательным, находясь в зависимости от индивидуальных наклонностей каждого данного императора; все же все фактические преимущества были на стороне единоличной императорской власти, рядом с которой власть сената была лишь терпима. Императоры-деспоты вроде Тиберия, Домициана и особенно Септимия Севера с его сыном сводили ее к нулю; а после великой смуты III века двоевластие и фактически и юридически прекратилось и его заменило монархическое правление императора, причем сенат превратился в простую городскую думу Рима. Таковым перешел он в следующий период.
§ 9. Италия и провинции. Как в республиканскую эпоху Рим относился к Италии, так ныне Италия относится к империи; романизация этой империи точно так же является делом нашей эпохи, как романизация Италии — предыдущей. Венцом обоих стремлений было распространение римского гражданства — там на италийцев после союзнической войны (89 год до Р.Х.), здесь — на провинциалов в constitutio Antoniniana 212 года. Одну оговорку, впрочем, придется сделать тотчас же: в восточной половине империи латинский язык стал только языком армии и конвентов (выше, с.271), в администрации и в частной жизни он стушевался перед языком греческим, носителем гораздо более полной греческой культуры.
Но и в жизни отдельных провинций наблюдаются довольно существенные особенности, и было бы глубоким заблуждением представлять себе их романизацию как культурную нивелировку.
Испания, населенная иберийцами (и кельтиберийцами) с сильной примесью на юге финикийского элемента, как первая римская провинция на материке еще в республиканскую эпоху сильно романизировалась. Особенно много сделал в этом отношении Серторий, вождь римской эмиграции в семидесятых годах, своими латинскими школами, охотно посещавшимися иберийской молодежью. Много городов с римским населением возникло здесь в последующее время, особенно в долине Бетиса (Гвадалкивира); финикийский Гадес уступил свою цивилизаторскую роль римскому Hispalis (ныне Севилья). Третьим фактором романизации стали на севере римские легионы, необходимые против свободолюбивых астурийцев и кантабров; они стояли в городе, который поныне сохранил название «легион» — Leon. Параллельно с романизацией шел переход от племенного быта к городскому; уже Веспасиан мог дать множеству испанских общин латинское право. Иберийский язык был оттеснен в Пиренейские горы, где он сохранился поныне в качестве своеобразного языка басков. Уже с первого века империи испанцы — оба Сенеки, Лукан, Квинтилиан — играют роль в римской литературе, и романский язык полуострова в своих трех главных разветвлениях — португальском, кастильском и каталанском — своей сравнительной близостью к итальянскому доказывает, что романизация здесь состоялась и раньше и полнее, чем где-либо. Точно так же и местные религии исчезли здесь раньше и бесследнее, чем где-либо.
Не так легко поддалась Галлия. Правда, так называемая «провинция» (выше, с.247) не отстала от Испании, и разница между ней и прочей Галлией отразилась на делении также и позднейшего французского языка на langue d'oc и langue d'oui. Крупнейшим изменением было здесь включение Цезарем в «провинцию» также и массалийского государства; Массалия осталась центром галльского эллинизма на все три столетия нашей эпохи, но ее торговое значение унаследовал город Arelate (ныне Арль) на нижней Роне, сохранивший его и в раннее Средневековье. Но в покоренной Цезарем Галлии местный элемент еще долго боролся с римским. Силы к борьбе он находил в своей религии, мрачной и мистической, и в ее представителях — друидах, организованном и объединенном жречестве с многолетним курсом учения и периодическими собраниями в Антрике (ныне Chartres). Рим при всей своей терпимости в религиозных делах счел нужным выступить против друидизма ввиду безнравственного характера его культа, требовавшего, между прочим, человеческих жертвоприношений; Антрику он противопоставил Лугудун (ныне Лион) как новый политикорелигиозный центр всех галльских провинций, скоро ставший самым населенным и цветущим городом Галлии. Впрочем, и здесь романизационные меры были мягкие и разумные, и цель была достигнута вполне. Галлия уже в I веке до Р.Х. срослась с империей; даже когда в последние дни Нерона здесь возникло восстание — его вождь Юлий Виндекс свое право на эту роль выводил из того (быть может, вымышленного) факта, что он происходил от побочного сына Цезаря. Все же литературное значение Галлии относится уже к следующей эпохе.
Необходимость укрепления римского владычества в Галлии повела со временем к завоеванию также и Британии, очага галльского друидизма, поскольку она была населена родственным с галлами народом бриттов. Каледонии, где жили пикты, а также острова Ивернии (Ирландии), который населяли скотты, Рим не тронул. Скоро и здесь началась романизация и переход к городскому быту; религиозно-административным центром новой провинции стал Camalodunum (Кольчестер), торговым — Londinium (Лондон), военным — Eburacum (Йорк). Очень развитая система больших дорог довершила умиротворение страны, которая только теперь, благодаря Риму, познала пользу хлебопашества и оседлой жизни. Она отплатила ему безупречной верностью и лишь очень неохотно дала себя отторгнуть от империи в начале V века после безуспешной просьбы о защите.
План Августа и его храброго пасынка Друза создать также и римскую Германию до Эльбы погиб вместе с легионами Вара в Тевтобургском лесу (9 год по Р.Х.); название Germania осталось за двумя небольшими провинциями на левом берегу Рейна и по эту сторону укрепленного вала (limes), соединяющего Рейн с Дунаем. Здесь названная в честь зятя Августа Colonia Agrippina (ныне Кельн) была сакрально-административным, Moguntiacum (ныне Майнц) — военным центром, и вся жизнь имела военный характер. Правда, херуски, от вождя которых Арминия погиб Вар, вскоре после этого потеряли гегемонию среди германских племен, и сменившие их хатты были довольно миролюбивы; но в последние времена Антонинов появляется на рейнской границе беспокойное племя (или союз племен) аламанов, а в эпоху смуты к ним присоединяются франки («свободные» — тоже, вероятно, союз племен). С этих пор начинаются непрерывные германские войны, в которых истощилась империя.
Августу же принадлежит и план организации дунайских провинций, коих он образовал пять: 1) Рецию с центром в Augusta Vindelicorum (ныне Аугсбург), к которому позднее Марк Аврелий прибавил Castra Regina (ныне Регенсбург). Она туго поддавалась романизации; напротив, очень легко и успешно 2) Норик со многими городами, особенно Emona (ныне Люблин) и Juvavum (ныне Зальцбург), 3) Иллирик (верхний), населенный народом, от которого происходят нынешние албанцы. Его завоевание началось еще в республиканскую эпоху, но организация и романизация была делом империи. Ее упадок в III веке был странным образом эпохой расцвета для Иллирика, главный город которого, Salonae, стал одним из самых людных городов римского государства. Здесь Диоклетиан построил себе свой огромный дворец, стены которого поныне окружают город, унаследовавший название дворца — Spalato. 4) Паннония (или нижний Иллирик) с ее соседними главными городами Carnuntum (ныне Петронелль) и Виндобона (ныне Вена), была чисто военной провинцией, занятой многочисленными войсками; как германские легионы вели войну с аламанами и франками, так паннонские в то же время — с маркоманнами. 5) Мезия (Moesia) с городами Singidunum (ныне Белград) и Viminacium (Костолац) была предметом двойной цивилизационной работы — римской с Паннонии и греческой с Македонии, причем и та и другая пользовались одинаковым покровительством римской власти. К этим пяти провинциям, организованным Августом и его ближайшими преемниками, Траян прибавил еще одну задунайскую, Дакию (ныне Румыния). Хотя эта провинция позже прочих была присоединена к империи и ранее прочих была от нее отторгнута — уже в смутный период III века, — все же ее романизация была настолько прочна, что восторжествовала над всеми веками и вторжениями варваров, и нынешние румыны справедливо признают императора Траяна создателем своего народа.
А впрочем, история всех этих окраин ничего не дает нам, кроме имен и голых фактов; пульс действительной жизни мы чувствуем, только спускаясь от них к греческому Востоку. Балканский полуостров, кроме Мезии и Фракии, был разделен на две провинции, Македонию и Ахайю, из коих первая обнимала также и северную Грецию (выше, с.20). Для обеих сакральным центром были Дельфы, амфиктионию которых (выше, с. 196) Рим реорганизовал, включая в нее почти все греческие племена с Македонией и Эпиром. Независимо от этого собственно Греция имела своими главными городами Коринф, вновь основанный Цезарем как римская колония, и Аргос: там жил римский наместник, здесь собирался провинциальный сейм. Не входили в состав провинции Афины и Спарта, сохранившие и при империи свою свободу. Вообще Рим всячески проявлял свой филэллинизм, особенно по отношению к Афинам — никто в такой мере, как Адриан, украсивший Афины многими величественными зданиями, пристроивший к ним новый квартал и подаривший им водопровод, из которого афиняне пьют воду поныне. И все-таки Эллада угасает; исчезновение филономического сознания повело к усиливающемуся безбрачию и к уменьшению населения. Старая религия еще была сильна, но более как предмет любви, чем веры. Промышленность и торговля оскудели; Пирей, некогда «гостеприимнейшая гавань в мире», теперь редко видел в своих водах заезжее судно. Мирное, предзакатное настроение царит повсюду; его лучший представитель — Плутарх Херонейский (I-II века), один из симпатичнейших людей того времени, прекрасный семьянин и любящий гражданин своей маленькой родины, довольствующийся при скромном достатке скромными почестями со стороны своих сограждан и мирно доживающий свой век под лучами заходящего солнца Аполлоновой горы.
Малая Азия состояла из нескольких провинций, из коих главной была «Азия» в узком смысле, бывшее Пергамское царство, «провинция пятисот городов», как ее называли. О ее процветании в нашу эпоху свидетельствуют, кроме литературы, и многочисленные развалины, обнаруженные путешествиями последних десятилетий: «Где только исследованию открывается уголок этой земли, нетронутой опустошениями того полутора-тысячелетия, которое нас отделяет от тех времен, там наше первое и сильнейшее чувство — чувство ужаса и почти стыда вследствие контраста между жалким и бедственным настоящим и счастьем и блеском истекшей римской эпохи» (Т. Моммзен). Земледелие, промышленность, торговля находились на одинаковой, очень значительной высоте; о просвещении города заботились взапуски, и в литературе — конечно, греческой — нашего периода Малая Азия играет первостепенную роль. Религиозность жителей была сильна и чутка с наклоном к мечтательности и мистицизму; для чудодеев, вроде знаменитого Аполлония Тианского, здесь была благодатная почва, но и христианство нашло здесь свои первые и самые верные общины.
Подобно Малой Азии и Сирия ждет своих избавителей для возвращения ей того благосостояния, которым она пользовалась в эпоху империи. Но, впрочем, характер ее был другой: там — множество одинаково цветущих, соперничающих друг с другом городов, здесь — бесспорное первенство греческой столицы, роскошной и распущенной Антиохии, которой не могла затмить основанная Римом латинская столица Берит (Berytos, ныне Бейрут), хотя и она прославилась своими высшими школами, филологической и юридической; там — мирная жизнь разоруженных провинций под мягкой властью римского сената, здесь — ферула[106] императорского наместника и воинский шум легионов у беспокойной евфратской границы. Но культура почвы, промышленность и торговля были здесь еще значительнее, чем там.
Особого внимания заслуживает Палестина. За Хасмонеями (то есть основанной Маккавеями династии, выше, с.201) последовал Ирод Великий, в сорокалетнее правление которого иудейское царство достигло своего апогея в смысле внешнего блеска и могущества; но при его преемниках начались смуты. Иудея была то подпровинцией с римским прокуратором во главе, то полусамостоятельной под протекторатом Рима; рознь партий между собой и с Римом росла и росла и повела, наконец, к восстанию 61-69 годов, после которого Иерусалим и его храм были разрушены. Но и этим сопротивление иудейского народа не было сломлено: он восставал и при Траяне, и при Адриане, и при Антонине Благочестивом, каждый раз неудачно; взаимное отчуждение и взаимная ненависть от этого только усиливались. Внешним результатом было включение Иудеи с ее столицей Aelia Capitolina — под таким названием Адриан вновь выстроил Иерусалим, запретив, однако, иудеям в нем селиться, — в провинцию Сирию; внутренним — прекращение прозелитизма (выше, с.238) и полная замкнутость еврейства в этот новый, чисто синагогальный период его жизни.
Оставляем в стороне римскую (северо-западную) Аравию, пустынную страну, в которой, однако, транзитная торговля с Индией повела к возникновению сказочно богатых и прекрасных городов вроде Петры; переходим к Египту с его столицей Александрией. В отличие от прочих провинций правление здесь было чисто бюрократическим: даже греческие города не имели ни советов, ни выборных властей. Превосходя плодородием все прочие провинции, Египет был житницей Италии в эпоху империи; вот почему императоры особенно дорожили этой провинцией, обладание которой им обеспечивало подчинение Италии. Второй силой страны была промышленность, главным образом, производство тканей, стекла и папируса; третьей — торговля с Индией (по Нилу до Копта, оттуда по большим дорогам до чермноморских гаваней[107] Myoshormos или Вереники, оттуда, огибая Аравию, к Малабарскому побережью), особенно с тех пор как мореход Гиппал открыл постоянство муссонов и возможность прямого морского пути из Аданы (ныне Аден) к Малабару. Александрийский Мусей с его кафедрами был оставлен императорами, и ученые продолжали с гордостью называть себя аро tu Museiu (как в Париже de l'Institut), но его придворное происхождение оказалось для него роковым: он захирел с тех пор, как в Александрии не было двора, между там как в Афинах высшие школы и под римской эгидой продолжали процветать. Впрочем, это касалось греков; местное население, умственно и нравственно обессиленное многовековыми кровосмесительными браками, в тупом повиновении исполняло свою тяжелую работу, равнодушное ко всему, что не касалось его священных крокодилов и кошек.
Оставляя в стороне малозаметное в нашу эпоху Киренское пятиградие на Большом Сирте, мы переходим к африканскому Западу между Средиземным морем и пустыней, состоящему из греко-финикийского трехградия (Триполиса), провинции Африки с Нумидией и Мавритании. После того как Цезарь восстановил разрушенный столетием раньше Карфаген, для этих провинций наступил период поразительного расцвета, о котором поныне свидетельствуют развалины заложенных тогда городов. Очень сложным был национальный вопрос. Местный (берберский) язык держался с замечательной стойкостью через всю античность, как и ныне; на него легло уже с давних пор финикийское наслоение вследствие карфагенского владычества; на финикийское — греческое, благодаря непреодолимой притягательной силе действующей с Сицилии и Кирены греческой образованности. Теперь на всю ту подпочву ложится латинское наслоение, и оно побеждает: к концу нашей эпохи мы имеем уже латинскую Африку, давшую также и литературе своеобразную «африканскую латынь», страстную и подчас дикую, но всегда сильную — латынь Апулея среди язычников, Тертуллиана и бл. Августина среди христиан. Экономическое значение этих провинций было неодинаково. Африка в узком смысле по плодородию мало уступала Египту, и Нумидия к ней в этом отношении приближалась; Мавритания была менее обильна, и ее оккупация Римом при Калигуле преследовала, главным образом, военные цели — обезопасить Испанию от набегов с юга.
Таким образом, все культурное развитие империи повело неизбежно к роковому дуализму: греческий Восток, римский Запад; внутренняя политика Рима держалась последовательно системы двух «наших» языков, эллинизируя Восток и романизируя Запад. Там она продолжала дело эллинистической эпохи, здесь делала свое, и успех был на ее стороне. Орудиями романизации были: 1) колонии и конвенты римских граждан, 2) свободная латинская школа, 3) армия при последовательно проведенной системе местного набора. Но главным средством было терпение, старательное избегание крутых мер, которые бы приправили очевидную пользу усвоения римской культуры изъянами нравственного характера. И поразительна была сплоченность этой двойной империи: и сириец Лукиан и испанец Сенека одинаково чувствовали себя гражданами единого римского государства. Его временные расщепления были делом армий, требовавших престола каждая своему полководцу; народы же провинций льнули друг к другу и к общему центру — Риму.
§ 10. Нравственное сознание. Многовековая работа греческой философии в греческой и латинской оболочке принесла в нашу эпоху свои самые обильные плоды, спаивая различные части римской империи также и единством нравственной культуры. Она обнимала далеко не одни только верхи общества: возродившаяся в нашу эпоху с новой силой киническая проповедь проникала в самые низшие слои, ставя всех лицом к лицу с коренными вопросами морали. Эти вопросы считаются везде самыми интересными; в деревенской усадьбе Горация его крестьяне-соседи за скромной трапезой охотнее всего рассуждают о том:
 Та мягкость и кротость нравов, о которой мы говорим, была своеобразно окрашена все усиливающейся верой в предопределение, явившейся последствием победоносного шествия астрологии (ниже, § 11). Незыблемый и неумолимый Рок — настоящее божество нашей эпохи, сменившее в этой роли прихотливую Фортуну (Tyche) эллинизма; ее лозунг:
Та мягкость и кротость нравов, о которой мы говорим, была своеобразно окрашена все усиливающейся верой в предопределение, явившейся последствием победоносного шествия астрологии (ниже, § 11). Незыблемый и неумолимый Рок — настоящее божество нашей эпохи, сменившее в этой роли прихотливую Фортуну (Tyche) эллинизма; ее лозунг:
 Главное, чему нас научили Помпеи, — это устройство и убранство греко-римского дома нашей эпохи, дома-особняка, так пленительно соединявшего в себе римский атрий с греческим перистилем (выше, с.251) и украшавшего свои стены не нашими шаблонными обоями, а живой красочной росписью, вначале подражающей облицовке из разноцветного мрамора (I стиль, «инкрустационный»), затем — воспроизводящей солидные симметрические фасады (II стиль, «архитектурный»), далее — окружающей старательными цветными узорами центральную и боковые картины (III стиль, «орнаментальный») и наконец — дающей те же картины, но в фантастических рамках тоненьких колонн и канделябров с игривыми проспектами и кулисами (IV стиль, «иллюзионный»). Конечно, следует помнить, что Помпеи — маленький городок; в Риме все было грандиознее — огромные конструкции, величественные сводчатые залы поражали посетителей дворцов Палатина, название которого стало отныне нарицательным, а также и пригородных вилл (вроде хорошо нам известной виллы Адриана под Тибуром) и построенных для развлечения народа терм (особенно терм Каракаллы). Так же относились и игрушечные помпейские храмики к римским храмам, из которых один — круглый Пантеон Адриана — нам сохранен и вызвал многочисленные подражания в новейшей архитектуре, а равно и красивые в своей простоте гробницы за помпейскими воротами к мавзолеям императоров, вроде воздвигнутого для Адриана, который преодолел напор столетий и живет поныне — правда, в виде тюрьмы (castel S. Angelo). Очень значительной была также, благодаря растущему благосостоянию, строительная деятельность в провинциях, отчасти благодаря частному почину городов и их богатых граждан, отчасти же и благодаряимператорским щедротам; и тут приходится с почетом назвать имя Адриана, облагодетельствовавшего Афины и, между прочим, достроившего начатый Писистратом и с тех пор запущенный храм Зевса Олимпийского.
Архитектура — единственное из изобразительных искусств, которое продолжало развиваться в течение всей нашей эпохи, разнообразя и совершенствуя свои элементы. К известным уже в республиканскую эпоху арке и коробовому своду при Веспасиане прибавляется крестовый свод (впервые в его амфитеатре, так называемом Колизее), а при Адриане — купол (впервые в Пантеоне). В конструкции и декорации фасадов тоже проявляется неслыханное до тех пор разнообразие и пышность). Если Августу ставится в заслугу, что он, «унаследовав Рим кирпичным, оставил его мраморным», то к концу нашей эпохи можно было эту похвалу распространить на всю империю.
Главное, чему нас научили Помпеи, — это устройство и убранство греко-римского дома нашей эпохи, дома-особняка, так пленительно соединявшего в себе римский атрий с греческим перистилем (выше, с.251) и украшавшего свои стены не нашими шаблонными обоями, а живой красочной росписью, вначале подражающей облицовке из разноцветного мрамора (I стиль, «инкрустационный»), затем — воспроизводящей солидные симметрические фасады (II стиль, «архитектурный»), далее — окружающей старательными цветными узорами центральную и боковые картины (III стиль, «орнаментальный») и наконец — дающей те же картины, но в фантастических рамках тоненьких колонн и канделябров с игривыми проспектами и кулисами (IV стиль, «иллюзионный»). Конечно, следует помнить, что Помпеи — маленький городок; в Риме все было грандиознее — огромные конструкции, величественные сводчатые залы поражали посетителей дворцов Палатина, название которого стало отныне нарицательным, а также и пригородных вилл (вроде хорошо нам известной виллы Адриана под Тибуром) и построенных для развлечения народа терм (особенно терм Каракаллы). Так же относились и игрушечные помпейские храмики к римским храмам, из которых один — круглый Пантеон Адриана — нам сохранен и вызвал многочисленные подражания в новейшей архитектуре, а равно и красивые в своей простоте гробницы за помпейскими воротами к мавзолеям императоров, вроде воздвигнутого для Адриана, который преодолел напор столетий и живет поныне — правда, в виде тюрьмы (castel S. Angelo). Очень значительной была также, благодаря растущему благосостоянию, строительная деятельность в провинциях, отчасти благодаря частному почину городов и их богатых граждан, отчасти же и благодаряимператорским щедротам; и тут приходится с почетом назвать имя Адриана, облагодетельствовавшего Афины и, между прочим, достроившего начатый Писистратом и с тех пор запущенный храм Зевса Олимпийского.
Архитектура — единственное из изобразительных искусств, которое продолжало развиваться в течение всей нашей эпохи, разнообразя и совершенствуя свои элементы. К известным уже в республиканскую эпоху арке и коробовому своду при Веспасиане прибавляется крестовый свод (впервые в его амфитеатре, так называемом Колизее), а при Адриане — купол (впервые в Пантеоне). В конструкции и декорации фасадов тоже проявляется неслыханное до тех пор разнообразие и пышность). Если Августу ставится в заслугу, что он, «унаследовав Рим кирпичным, оставил его мраморным», то к концу нашей эпохи можно было эту похвалу распространить на всю империю.
 В значительно худшем положении находились оба других художества. Что касается ваяния, то мы замечаем вначале искусственное возвращение к архаической простоте (Паситель, Менелай), но затем пышность эллинистического искусства царит невозбранно. В области идеального ваяния наша эпоха подарила нам, строго говоря, только один ценный тип; это — тип Антиноя, любимца императора Адриана, который принял добровольную смерть за своего государя, чтобы этим магическим актом продлить ему жизнь. После Адриана начинается упадок идеалистического ваяния; в реалистической области прежняя сила еще держится некоторое время и до своего оскудения в III веке создает еще одно замечательное произведение — сатанинский лик императора-братоубийцы, Каракаллы.
Но главная ценность нашей эпохи в области ваяния вообще заключается не в созидании новых образов, а — согласно со всем характером тогдашней культуры — в размножении старых; ваятель-копиист вытесняет ваятеля-творца. Спрос был очень велик, статуи Праксителя находили такой же сбыт, как и трагедии Еврипида: каждому мало-мальски зажиточному человеку хотелось их иметь. Для нас это — большое счастье: благодаря этой усиленной деятельности нашей эпохи и нам сохранилось много порой очень хороших «римских» копий с греческих оригиналов; они-то и наполняют, главным образом, наши музеи. Характерно стремление возместить отсутствие оригинальности колоссальностью размеров или драгоценностью материала — разноцветного мрамора, порфира, базальта; в этом сказывается нездоровое влияние Востока.
То же самое приходится сказать и о живописи. Мы не можем назвать ни одного крупного живописца за весь данный период; зато техника копирования, как доказывает помпейская стенопись, стоит очень высоко. Даже там, где работа вследствие видимой спешности вышла довольно небрежной, поражаешься верности и смелости кисти копииста. Вместе с ваянием, однако, и живопись клонится к упадку; к следующей эпохе от нее останется, строго говоря, только одна разновидность, самая выносливая, но и самая связанная изо всех — мозаика.
§ 13. Мусические искусства. Отметив вкратце процветание танца в виде пантомимы, а равно и музыки, как инструментальной, так и вокальной (к обстановке богатого дома принадлежала и symphonia, то есть певческая капелла), сосредоточимся на литературе, так как только о ней мы можем судить по связному ряду памятников.
Что касается, прежде всего, поэзии, то нас поражает ее почти полное исчезновение с греческой почвы. Объясняется оно пресыщением творчества: саму поэзию продолжали любить, но находили праздными мечты о том, чтобы превзойти Гомера, Еврипида, Менандра. Только в области эпиграммы бьет прежний творческий ключ; в продолжение эллинистического периода (выше, с.229) создается то множество пленительных по своей меткости и изяществу дистихических стихотвореньиц, которые наполняют нашу многоименную «Антологию». Родственного характера и сборник «анакреонтических» безделушек в честь весны, вина и любви — собственно, студенческий песенник, который нам сохранен и долго сходил за сборник стихов самого Анакреонта (выше, с. 107), создавая неправильное представление о теосском певце.
Зато — по обратной причине — процветает поэзия римская. Правда, и здесь вначале не было недостатка в таких, которые считали все дело сделанным классическими поэтами II века до Р.Х.; но между этими «архаистами» и поклонниками александрийских шалостей (cacozeli) нашли правильный путь поэты века Августа, имена которых соединены с представлением о расцвете римской поэзии. Это были, главным образом, в хронологическом порядке: драматург Варий (75 год до Р.Х. — 14 год до Р.Х.), эпик Вергилий (70 год до Р.Х. — 19 год до Р.Х.) и лирик Гораций (65 год до Р.Х. — 8 год до Р.Х.), знаменитый триумвират, обессмертивший имя своего покровителя Мецената. Правда, о Варии и его некогда славной трагедии «Фиест» мы судить не можем; зато поэмы обоих других нам сохранены полностью. Из них П. Вергилий Марон, ласковая, но пассивная натура, охотно подчинял свое творчество указаниям извне: его первый покровитель, Азиний Поллион, приохотил его написать, отчасти в подражание Феокриту (выше, с.230), свои десять «эклог» и среди них — таинственную четвертую, которая в Средние века была понята как пророчество о Спасителе и доставила своему автору славу и пророка, и чародея. Затем второй покровитель, Меценат, внушил ему мысль возобновить дело Гесиода (выше, с.99) и дать римлянам на более широком основании поэму о земледелии («Georgica» в четырех книгах), которая бы посодействовала желанию государя воскресить эту столь нужную деятельность в загубленной латифундиями Италии; наконец, сам Август потребовал от поэта национального эпоса, и Виргилий, соединяя «Илиаду» и «Одиссею», написал свою поэму о странствиях и войнах Энея, косвенного основателя Рима (выше, с.289) и родоначальника Юлиев Цезарей. Эта «Энеида» стала венцом римской поэзии: никогда ни до, ни после не услышали такого звучного и сильного стиха, чарующего еще до проникновения в его смысл. Самостоятельнее и разнообразнее была деятельность Кв. Горация Флакка; приобретя славу своими юношескими стихотворениями — «Эподами» в духе Архилоха (выше, с. 104) и «сатирами» (две книги), в которых он облек в форму луцилиевского стиха (выше, с.284) игривую диатрибу Биона (с.232), давая ей, однако, содержание из окружающей его жизни, — он обратился к тому, в чем он видел свою главную поэтическую заслугу, — к лирической поэзии в духе лесбосца Алкея (выше, с. 106). Его «Оды» составляют четыре книги, из которых, однако, первые три, изданные одновременно в 23 году, составляют одно целое. Его лирика объективнее, чем лирика Катулла, и в то же время разнообразнее: гражданские оды чередуются с философскими, застольными, любовными; дивный язык, выражающий наибольшую полноту содержания при наименьшем количестве слов, приправлен неподражаемой мелодичностью стиха. В преклонном возрасте поэт вернулся к гекзаметру и написал свои «Послания» («Epistulae», две книги) на моральные и литературные темы; последнее из них — его знаменитая «Ars poetica»[115].
Рядом с этим триумвиратом ново-классической поэзии мы видим ряд даровитых поэтов, продолжающих творить в духе александринизма; из них выдаются Тибулл, Проперций и особенно Овидий. Первые два — исключительно элегические поэты; содержание их элегий — преимущественно любовь. Первый проще и задушевнее, у него элегия сочетается с идиллией; второй — ученее и страстнее, у него элегия иногда переходит в балладу. Но известнее обоих П. Овидий Назон (43 год до Р.Х. — 17 год по Р.Х.), всеобщий любимец благодаря легкости своего стиха, который кажется восковым в сравнении с мраморным стихом Вергилия. И он вначале был элегическим поэтом; посвятив некоей Коринне свои «Песни любви» («Amores», три книги) и влюбленным мифической старины свои балладические «Послания» («Epistulae s. heroides»), он возымел дерзкую мысль оставить в назидание потомству саму «Науку любви» — легкомысленной и сладострастной. Этим он навлек на себя немилость Августа; тщетны были его попытки восстановить свое доброе имя более серьезными поэмами: эпическими «Метаморфозами» в пятнадцати книгах, в которых он нанизывает миф на миф, прослеживая мотив превращения (героя или героини в зверя, птицу, растение, скалу и т.д.) чуть ли не через всю греческую мифологию, и элегическим «Месяцесловом» («Fasti», в шести книгах), в котором он дает поэтическое описание римских праздников и памятных дней. Август не забыл ему его игривой поэмы, противодействовавшей его стремлениям оздоровить римскую семью (с.303), и по загадочному для нас поводу сослал его в Томы у устья Дуная (ныне Констанца; выше, с.61). Там он провел свои последние годы в постоянных жалобах, увековеченных им в своих элегических «Скорбях» («Tristia», пять книг) и «Посланиях с Понта» (четыре книги).
Таково было поэтическое наследие века Августа; но и позднее поэзия не иссякала. В правление Нерона философ Сенека написал свои трагедии, более риторические, чем поэтические, но все же сильные и стремительные и написанные тем же метким и эффектным языком, который отличает и его философские произведения. Тогда же его смелый и несчастный племянник Лукан дал Риму в своей «Pharsalia»[116] второй после «Энеиды» эпос, на этот раз исторический, в котором он не убоялся разгневать деспота-правителя своими республиканскими симпатиями и сказать про непримиримого противника Цезаря чудное слово:
В значительно худшем положении находились оба других художества. Что касается ваяния, то мы замечаем вначале искусственное возвращение к архаической простоте (Паситель, Менелай), но затем пышность эллинистического искусства царит невозбранно. В области идеального ваяния наша эпоха подарила нам, строго говоря, только один ценный тип; это — тип Антиноя, любимца императора Адриана, который принял добровольную смерть за своего государя, чтобы этим магическим актом продлить ему жизнь. После Адриана начинается упадок идеалистического ваяния; в реалистической области прежняя сила еще держится некоторое время и до своего оскудения в III веке создает еще одно замечательное произведение — сатанинский лик императора-братоубийцы, Каракаллы.
Но главная ценность нашей эпохи в области ваяния вообще заключается не в созидании новых образов, а — согласно со всем характером тогдашней культуры — в размножении старых; ваятель-копиист вытесняет ваятеля-творца. Спрос был очень велик, статуи Праксителя находили такой же сбыт, как и трагедии Еврипида: каждому мало-мальски зажиточному человеку хотелось их иметь. Для нас это — большое счастье: благодаря этой усиленной деятельности нашей эпохи и нам сохранилось много порой очень хороших «римских» копий с греческих оригиналов; они-то и наполняют, главным образом, наши музеи. Характерно стремление возместить отсутствие оригинальности колоссальностью размеров или драгоценностью материала — разноцветного мрамора, порфира, базальта; в этом сказывается нездоровое влияние Востока.
То же самое приходится сказать и о живописи. Мы не можем назвать ни одного крупного живописца за весь данный период; зато техника копирования, как доказывает помпейская стенопись, стоит очень высоко. Даже там, где работа вследствие видимой спешности вышла довольно небрежной, поражаешься верности и смелости кисти копииста. Вместе с ваянием, однако, и живопись клонится к упадку; к следующей эпохе от нее останется, строго говоря, только одна разновидность, самая выносливая, но и самая связанная изо всех — мозаика.
§ 13. Мусические искусства. Отметив вкратце процветание танца в виде пантомимы, а равно и музыки, как инструментальной, так и вокальной (к обстановке богатого дома принадлежала и symphonia, то есть певческая капелла), сосредоточимся на литературе, так как только о ней мы можем судить по связному ряду памятников.
Что касается, прежде всего, поэзии, то нас поражает ее почти полное исчезновение с греческой почвы. Объясняется оно пресыщением творчества: саму поэзию продолжали любить, но находили праздными мечты о том, чтобы превзойти Гомера, Еврипида, Менандра. Только в области эпиграммы бьет прежний творческий ключ; в продолжение эллинистического периода (выше, с.229) создается то множество пленительных по своей меткости и изяществу дистихических стихотвореньиц, которые наполняют нашу многоименную «Антологию». Родственного характера и сборник «анакреонтических» безделушек в честь весны, вина и любви — собственно, студенческий песенник, который нам сохранен и долго сходил за сборник стихов самого Анакреонта (выше, с. 107), создавая неправильное представление о теосском певце.
Зато — по обратной причине — процветает поэзия римская. Правда, и здесь вначале не было недостатка в таких, которые считали все дело сделанным классическими поэтами II века до Р.Х.; но между этими «архаистами» и поклонниками александрийских шалостей (cacozeli) нашли правильный путь поэты века Августа, имена которых соединены с представлением о расцвете римской поэзии. Это были, главным образом, в хронологическом порядке: драматург Варий (75 год до Р.Х. — 14 год до Р.Х.), эпик Вергилий (70 год до Р.Х. — 19 год до Р.Х.) и лирик Гораций (65 год до Р.Х. — 8 год до Р.Х.), знаменитый триумвират, обессмертивший имя своего покровителя Мецената. Правда, о Варии и его некогда славной трагедии «Фиест» мы судить не можем; зато поэмы обоих других нам сохранены полностью. Из них П. Вергилий Марон, ласковая, но пассивная натура, охотно подчинял свое творчество указаниям извне: его первый покровитель, Азиний Поллион, приохотил его написать, отчасти в подражание Феокриту (выше, с.230), свои десять «эклог» и среди них — таинственную четвертую, которая в Средние века была понята как пророчество о Спасителе и доставила своему автору славу и пророка, и чародея. Затем второй покровитель, Меценат, внушил ему мысль возобновить дело Гесиода (выше, с.99) и дать римлянам на более широком основании поэму о земледелии («Georgica» в четырех книгах), которая бы посодействовала желанию государя воскресить эту столь нужную деятельность в загубленной латифундиями Италии; наконец, сам Август потребовал от поэта национального эпоса, и Виргилий, соединяя «Илиаду» и «Одиссею», написал свою поэму о странствиях и войнах Энея, косвенного основателя Рима (выше, с.289) и родоначальника Юлиев Цезарей. Эта «Энеида» стала венцом римской поэзии: никогда ни до, ни после не услышали такого звучного и сильного стиха, чарующего еще до проникновения в его смысл. Самостоятельнее и разнообразнее была деятельность Кв. Горация Флакка; приобретя славу своими юношескими стихотворениями — «Эподами» в духе Архилоха (выше, с. 104) и «сатирами» (две книги), в которых он облек в форму луцилиевского стиха (выше, с.284) игривую диатрибу Биона (с.232), давая ей, однако, содержание из окружающей его жизни, — он обратился к тому, в чем он видел свою главную поэтическую заслугу, — к лирической поэзии в духе лесбосца Алкея (выше, с. 106). Его «Оды» составляют четыре книги, из которых, однако, первые три, изданные одновременно в 23 году, составляют одно целое. Его лирика объективнее, чем лирика Катулла, и в то же время разнообразнее: гражданские оды чередуются с философскими, застольными, любовными; дивный язык, выражающий наибольшую полноту содержания при наименьшем количестве слов, приправлен неподражаемой мелодичностью стиха. В преклонном возрасте поэт вернулся к гекзаметру и написал свои «Послания» («Epistulae», две книги) на моральные и литературные темы; последнее из них — его знаменитая «Ars poetica»[115].
Рядом с этим триумвиратом ново-классической поэзии мы видим ряд даровитых поэтов, продолжающих творить в духе александринизма; из них выдаются Тибулл, Проперций и особенно Овидий. Первые два — исключительно элегические поэты; содержание их элегий — преимущественно любовь. Первый проще и задушевнее, у него элегия сочетается с идиллией; второй — ученее и страстнее, у него элегия иногда переходит в балладу. Но известнее обоих П. Овидий Назон (43 год до Р.Х. — 17 год по Р.Х.), всеобщий любимец благодаря легкости своего стиха, который кажется восковым в сравнении с мраморным стихом Вергилия. И он вначале был элегическим поэтом; посвятив некоей Коринне свои «Песни любви» («Amores», три книги) и влюбленным мифической старины свои балладические «Послания» («Epistulae s. heroides»), он возымел дерзкую мысль оставить в назидание потомству саму «Науку любви» — легкомысленной и сладострастной. Этим он навлек на себя немилость Августа; тщетны были его попытки восстановить свое доброе имя более серьезными поэмами: эпическими «Метаморфозами» в пятнадцати книгах, в которых он нанизывает миф на миф, прослеживая мотив превращения (героя или героини в зверя, птицу, растение, скалу и т.д.) чуть ли не через всю греческую мифологию, и элегическим «Месяцесловом» («Fasti», в шести книгах), в котором он дает поэтическое описание римских праздников и памятных дней. Август не забыл ему его игривой поэмы, противодействовавшей его стремлениям оздоровить римскую семью (с.303), и по загадочному для нас поводу сослал его в Томы у устья Дуная (ныне Констанца; выше, с.61). Там он провел свои последние годы в постоянных жалобах, увековеченных им в своих элегических «Скорбях» («Tristia», пять книг) и «Посланиях с Понта» (четыре книги).
Таково было поэтическое наследие века Августа; но и позднее поэзия не иссякала. В правление Нерона философ Сенека написал свои трагедии, более риторические, чем поэтические, но все же сильные и стремительные и написанные тем же метким и эффектным языком, который отличает и его философские произведения. Тогда же его смелый и несчастный племянник Лукан дал Риму в своей «Pharsalia»[116] второй после «Энеиды» эпос, на этот раз исторический, в котором он не убоялся разгневать деспота-правителя своими республиканскими симпатиями и сказать про непримиримого противника Цезаря чудное слово:
 Выше были названы письма Сенеки; относясь по содержанию к философской прозе, они по форме представляют ту ее область, которая носит специальное название эпистолографии. Ее классик республиканской эпохи,
Цицерон (выше, с.287), был автором настоящих живых писем; у Сенеки мы имеем письмо-трактат. Третью разновидность — письмо-анекдот — обработал современник Тацита, Плиний Младший, племянник натуралиста — натура неглубокая, но ласковая и гуманная, любящая все заслуживающее любви и умеющая находить в каждом человеке то, что в нем есть хорошего. Впрочем, есть у него и настоящие письма; это главным образом его переписка как легата Вифинии с императором Траяном с драгоценными сведениями о христианах.
К философии примыкает и христианская литература нашей эпохи, начинающаяся как литература (то есть за вычетом посланий апостолов и апостольских мужей) во II веке; ее темы — преимущественно апология и богословский трактат. Из греков особенно замечательна александрийская школа, старающаяся примирить христианство с философией; ее главные представители — Климент и особенно Ориген (начало III века). Из римлян должны быть названы изящный Минуций Феликс и страстный Тертуллиан (II век), строгий Арнобий и гуманный Лактанций (III век), «христианский Цицерон», как его справедливо называют.
Третья отрасль художественной прозы, красноречие, мало дает о себе знать в суде и еще менее в политике; оно живет парниковой жизнью, как парадное красноречие, в так называемой «второй софистике», вновь поднявшей значение этого заклейменного Платоном имени. Явление это — очень интересное в бытовом отношении, но малоутешительное в литературном, и мы бываем склонны проклинать извращенный вкус последующих эпох, которые, дав погибнуть стольким сокровищам греческой поэзии, бережно сохранили нам бессодержательные речи Элия Аристида (III век), главного представителя этого направления. Интересуют нас те риторы, которые совмещают свои занятия с философией; таковы особенно Дион Златоуст и Лукиан. Первый (I век) нас подкупает разносторонностью своих интересов, благородством своей души и известным величием в сознании своей миссии как учителя человечества; сверх того, мы благодарны ему, что он навестил нашу Ольвию в годину ее упадка и оставил нам картину ее тяжелой жизни. Второй (II век), родом сириец, был его прямой противоположностью: вечно беспокойная, мятущаяся натура, переходящая от риторики к академии, от академии к кинизму, от кинизма к Эпикуру, ничем не удовлетворенная и нашедшая себе, наконец, успокоение в облюбованном уголке практической жизни как императорский чиновник в Александрии. Но в своих многочисленных и необъемистых сочинениях он обнаруживает блестящий, хотя и легковесный юмор и по праву может быть назван отцом новейшего фельетона. Не был причастен к философии ритор северовской эпохи Филострат; нам он интересен отчасти как биограф живших до него «софистов», но главным образом как автор обстоятельного жизнеописания знаменитого чудодея флавиевских времен Аполлония Тианского.
Близко к софистическим декламациям, которые ведь и сами были нередко уголовными романами в лицах (выше, с.230), были настоящие роман и повесть. Их появление в литературе описано выше; сентиментально-идеалистический роман, сотканный по формуле: 1) возникновение любви, 2) разлука и приключения, 3) воссоединение и счастье — тянется через всю нашу эпоху, но нас эти авантюры без авантюризма, в которых жаждущие воссоединения герои играют довольно пассивную роль, мало пленяют. Лучше прочих роман-идиллия Лонга «О Дафнисе и Хлое»; он один остался на поверхности. Рим дал в указанной области два выдающихся романа, но не идеалистического, а реалистического характера; это «Satyricon» (gen. pl., дополняется: libri[123] Петрония Арбитра (эпоха Нерона) и «Метаморфозы» Апулея (эпоха Антонинов). Первый, отчасти только сохраненный, дает ряд ярких бытовых картин Нероновой эпохи, очень вольных по содержанию, но вполне убедительных; особую прелесть сообщают ему вплетенные в него новеллы, между прочим знаменитая — об «эфесской матроне». Второй и сам — растянутая новелла о превращении магическими средствами юноши в осла и его избавлении. Этой легкомысленной новелле, однако, автор дал неожиданно торжественное заключение: избавленный юноша посвящается в мистерии Исиды, оставляя нас под впечатлением благоговейной картины из религиозной жизни этих жаждущих спасения времен.
Выше были названы письма Сенеки; относясь по содержанию к философской прозе, они по форме представляют ту ее область, которая носит специальное название эпистолографии. Ее классик республиканской эпохи,
Цицерон (выше, с.287), был автором настоящих живых писем; у Сенеки мы имеем письмо-трактат. Третью разновидность — письмо-анекдот — обработал современник Тацита, Плиний Младший, племянник натуралиста — натура неглубокая, но ласковая и гуманная, любящая все заслуживающее любви и умеющая находить в каждом человеке то, что в нем есть хорошего. Впрочем, есть у него и настоящие письма; это главным образом его переписка как легата Вифинии с императором Траяном с драгоценными сведениями о христианах.
К философии примыкает и христианская литература нашей эпохи, начинающаяся как литература (то есть за вычетом посланий апостолов и апостольских мужей) во II веке; ее темы — преимущественно апология и богословский трактат. Из греков особенно замечательна александрийская школа, старающаяся примирить христианство с философией; ее главные представители — Климент и особенно Ориген (начало III века). Из римлян должны быть названы изящный Минуций Феликс и страстный Тертуллиан (II век), строгий Арнобий и гуманный Лактанций (III век), «христианский Цицерон», как его справедливо называют.
Третья отрасль художественной прозы, красноречие, мало дает о себе знать в суде и еще менее в политике; оно живет парниковой жизнью, как парадное красноречие, в так называемой «второй софистике», вновь поднявшей значение этого заклейменного Платоном имени. Явление это — очень интересное в бытовом отношении, но малоутешительное в литературном, и мы бываем склонны проклинать извращенный вкус последующих эпох, которые, дав погибнуть стольким сокровищам греческой поэзии, бережно сохранили нам бессодержательные речи Элия Аристида (III век), главного представителя этого направления. Интересуют нас те риторы, которые совмещают свои занятия с философией; таковы особенно Дион Златоуст и Лукиан. Первый (I век) нас подкупает разносторонностью своих интересов, благородством своей души и известным величием в сознании своей миссии как учителя человечества; сверх того, мы благодарны ему, что он навестил нашу Ольвию в годину ее упадка и оставил нам картину ее тяжелой жизни. Второй (II век), родом сириец, был его прямой противоположностью: вечно беспокойная, мятущаяся натура, переходящая от риторики к академии, от академии к кинизму, от кинизма к Эпикуру, ничем не удовлетворенная и нашедшая себе, наконец, успокоение в облюбованном уголке практической жизни как императорский чиновник в Александрии. Но в своих многочисленных и необъемистых сочинениях он обнаруживает блестящий, хотя и легковесный юмор и по праву может быть назван отцом новейшего фельетона. Не был причастен к философии ритор северовской эпохи Филострат; нам он интересен отчасти как биограф живших до него «софистов», но главным образом как автор обстоятельного жизнеописания знаменитого чудодея флавиевских времен Аполлония Тианского.
Близко к софистическим декламациям, которые ведь и сами были нередко уголовными романами в лицах (выше, с.230), были настоящие роман и повесть. Их появление в литературе описано выше; сентиментально-идеалистический роман, сотканный по формуле: 1) возникновение любви, 2) разлука и приключения, 3) воссоединение и счастье — тянется через всю нашу эпоху, но нас эти авантюры без авантюризма, в которых жаждущие воссоединения герои играют довольно пассивную роль, мало пленяют. Лучше прочих роман-идиллия Лонга «О Дафнисе и Хлое»; он один остался на поверхности. Рим дал в указанной области два выдающихся романа, но не идеалистического, а реалистического характера; это «Satyricon» (gen. pl., дополняется: libri[123] Петрония Арбитра (эпоха Нерона) и «Метаморфозы» Апулея (эпоха Антонинов). Первый, отчасти только сохраненный, дает ряд ярких бытовых картин Нероновой эпохи, очень вольных по содержанию, но вполне убедительных; особую прелесть сообщают ему вплетенные в него новеллы, между прочим знаменитая — об «эфесской матроне». Второй и сам — растянутая новелла о превращении магическими средствами юноши в осла и его избавлении. Этой легкомысленной новелле, однако, автор дал неожиданно торжественное заключение: избавленный юноша посвящается в мистерии Исиды, оставляя нас под впечатлением благоговейной картины из религиозной жизни этих жаждущих спасения времен.
 Но особенно важными были новые всенародные праздники обеих богинь, нашедшие себе место и в римском календаре. Великой Матери были посвящен весенний праздник, длившийся две недели (15-27 марта). Вся судьба Аттиса изображалась публично в священной драме при множестве участвующих лиц: его нахождение в тростнике реки Сангарии (15 числа, canna intrat), его исступление под роковой сосной (22 числа, arbor intrat), кончившееся его самоизувечением и смертью (24 числа, sanguen, день горя и отчаяния), наконец, его радостное воскрешение любовью Матери (25 числа, hilaria; 26, requetio; 27, lavatio). Исида имела даже два больших праздника, один весенний, посвященный ей как богине мореплавания (5 марта — Navigium Isidis; тут Исида приняла в свой культ carrus navalis дионисической помпы — выше, с. 187, — чтобы затем передать его средневековому «карнавалу»), другой осенний (28 октября — 3 ноября), во всем параллельный весеннему празднику Матери. Расширение значения и действия обоих культов имело последствием и их собственное очищение от чувственных элементов: запросы неофитов — отпущение грехов, «возрождение навеки» и победа над смертью — были серьезны и требовали серьезного к ним отношения. Достаточно прочесть у Апулея вышеупомянутое (с.339) описание весеннего праздника Navigium Isidis (Метаморфозы XI гл. 7 сл.), чтобы убедиться, что эта Исида — уже не та, тайные культы которой полтора века назад давали обильную пищу скандальной хронике великосветского Рима.
Гражданское положение Матери повело к тому, что к ее культу старались присоседиться другие, которые при иных условиях не могли рассчитывать на снисхождение Рима. Их носителями были большей частью солдаты: в силу античной терпимости они, воюя на восточных окраинах, приобщались к тамошним обрядам и впоследствии старались их удержать. Так, войны с Митридатом повели к проникновению в Рим дикого культа каппадокийской богини, названной у римлян Беллоной: ее жрецы в черных плащах и папахах бегали в исступлении по своему храму и мечами наносили друг другу раны, кровью которых они очищения ради окропляли толпу. Этих дервишей римляне, впрочем, не признавали жрецами: они называли их «храмовниками», fanatici (от fanum — «храм»); это слово получило впоследствии значение всякого религиозного исступления и изуверства. Еще важнее было приобщение во II веке парфянского культа Митры (Mithra), развившегося из древнеперсидской дуалистической религии маздаизма (Ahura-Mazda, Ормузд, бог добра, и Angramanju, Ариман, бог зла). Митра был посредником, mesitis, ведшим человечество к высшему богу добра; средством была постоянная война с силами бога зла. Ради этого он организовал своих верных в настоящее воинство с развитой иерархией. Культ совершался в подземных храмах (spelaea) при свете факелов; правился он — в силу отождествления Митры с богом-Солнцем (Mithra Sol Invictus) — в те дни астрологической недели (выше, с.319), которые были посвящены этому светилу — то есть в dies Solis. Неофитов водили через целый ряд ужасов, чтобы испытать их храбрость. Это была настоящая солдатская религия, деятельная и мужественная; она прекрасно дополняла преимущественно женскую религию Матери, и сплошь и рядом в одной и той же семье муж посещал священнодействия Митры, жена — службу Великой Матери.
Признание Митры уготовило путь и сирийским солнечным божествам (Ваалам) — последним, получившим гражданство в Риме до принятия им христианства. Правда, безумная попытка Элагабала подчинить Рим и империю своему эмесскому Ваалу, которого он перевел в столицу мира во всей неопрятной чистоте его сирийской обрядности, вызвала взрыв негодования, который стоил ему жизни[134]; осмотрительнее действовал собиратель империи Аврелиан. Он тоже перевел в Рим Ваала, а именно пальмирского, но дал его культу приемлемые для Рима формы. Так как новый бог был Солнцем, то его главным праздником был день зимнего солнцеворота, 25 декабря (Natalis Solis Invicti); в качестве такового он стал естественным продолжением старых Сатурналий (выше, с.295) и был приобщен к их веселой обрядности.
Все названные божества в одном пункте сходились и в нем же резко отличались от греко-римских: те, подобно республиканским магистратам, имели свои определенные, так сказать, ведомства, — эти, подобно императору, были всеобъемлющи. В Исиде сливались и Гера, и Афродита, и Деметра, и прочие с Великой Матерью включительно; это была просто богиня, к которой одинаково обращались люди всех возрастов и всех профессий. Это повело в III веке к так называемому синкретизму, то есть к смешению божественных естеств; в конце концов на поверхности религиозного мышления остались только два общих божества, те, которые в теологии Юлиана Отступника занимают первое место, — бог-Солнце и богиня-Земля. А так как первый был совокупностью небесных сил, то можно сказать, что в эпоху синкретизма античная религия вернулась к своему изначальному дуализму (выше, с.53). И все же это было не то же: элемент природы еще чувствовался, но был оттеснен на задний план этическим и эсхатологическим элементами.
Вместе с религиозностью развивалось и крепло суеверие, и притом не в одних только народных массах. Исида привела с собой множество магических практик, в которых ее родной народ был всегда очень силен; от иудеев эпохи прозелитизма (выше, с.238) античное человечество унаследовало их разветвленную ангелологию и демонологию с Велиаром (сатаной) во главе, из которой со временем развилась могучая в Средние века каббалистика (с «печатью Соломона»); сюда же была примешана и греческая демонология, и некромантия, и астрология. Получилось нечто щемящее и внушительное, обнимающее все народное сознание от философских верхов до простонародных талисманов и амулетов, Исида как «Дева Мира» (Kore Kosmu), управляющая демонами в подлунном пространстве, получившая от первого надлунного планетного духа Гермеса (Меркурия) за свою любовь в дар магию или химию, которой она учит посвященных... Страшно становилось в этом кругу, и все же это было еще сравнительно невинное начало: из этой отравленной чаши человечество пило в течение всего Средневековья, пока лучи Возрождения не рассеяли этого кошмара.
§ 17. Религиозная философия. Философия эпохи империи была либо этической, либо религиозной; вначале преобладает первая, затем перевес получает вторая. О той речь была выше (с.322); здесь будет сказано об этой.
На пороге нашего периода стоит спекуляция александрийского иудея Филона с его замечательной попыткой слить стоическую и платоническую философию с ветхозаветной религией; его метод при этом — аллегорическое толкование, издавна применявшееся к Гомеру (выше, с.183). В результате Филон получает представление о мире как о совокупности наслоенных друг на друга стихий с эфиром поверх всех. Над эфирными сферами царит божество, создавшее идеи как первообраз видимого мира и как свое первотворение — Логоса, посредника между божеством и человечеством. Отвергнутая правоверными иудеями по миновании эпохи прозелитизма, философия Филона оказала сильное влияние и на христианскую, и на позднейшую античную философию.
Одновременно начинается и возрождение философии полулегендарного Пифагора, которая вследствие своей характерной астрономической примеси шла навстречу астрологическим симпатиям времени. Этот неопифагореизм имеет своим самым славным представителем чудодея I века Аполлония Тианского. Бог есть единица; от него вечная часть нашей души. Под ним планетные божества вплоть до Луны, владычицы демонов подлунного пространства. Они — посредники между богом и людьми; с ними возможно общение, отсюда ведовство, очищения и особенно магия. В ней сила этого направления; совершенный человек — это тот, который умеет творить чудеса. Возникнув в I веке, неопифагореизм расцветает во II и особенно в III веках при Северах; затем он продолжается отчасти в тайных масонских ложах, перешедших и в Средневековье, отчасти же в последней крупной философии античности — неоплатонизме. Его творцом был Аммоний Александрийский (начало III века); сам он ничего не писал, но имел двух великих учеников, христианина Оригена (выше, с.338) и язычника Плотина. Последний для нас в своих многочисленных, хотя и необъемистых трактатах, соединенных в «эннеады» (девятки), — самый чистый источник неоплатоновского учения, в котором старая платоническая основа проникнута мистическим духом северовской эпохи.
Луч света, постепенно тонущий во мраке — вот символ неоплатонизма. Его источник — бог, он же и высшее благо. От него исходит путем эманации (но не субстанциальной, а каузальной) — разум, мыслящий и бога и самого себя как мыслимый мир с имманентными в нем идеями. От него, в свою очередь, исходит душа в качестве и мировой, и индивидуальных душ. Душа стоит на рубеже между мыслимым и чувственным миром, создавая этот последний из образуемой ею материи согласно имманентным в разуме идеям. Будучи отторгнута от своей небесной родины и погружена в материю, душа познавшего себя человека стремится вернуться к предвечному разуму; это вознесение души осуществится вполне после смерти. Для своего воплощения она должна была пройти через все семь планетных сфер, причем каждая наделила ее греховной склонностью: Сатурн — ленью, Юпитер — гордостью, Марс — гневом, Венера — любострастней, Меркурий — алчностью, Солнце — обжорством, Луна — завистью; благо ей, если она, возносясь, сможет возвратить каждый из этих смертных грехов «неиспользованным» его дарователю! Тогда она, вознесенная, вступит в пределы «огдоады» (восьмого неба) и найдет свой покой в предвечном разуме. Но уже при жизни она может подготовить себя к этому окончательному вознесению путем отрешения от чувственности (аскеза) и напряжения всех своих помыслов к предварению вечного блаженства в единении с творцом, то есть путем экстаза. Неоплатонизм — настоящая школа экстаза. Его не достигнешь спором и речью — тут неоплатонизм изменил своему источнику; не logos, как у Платона, а проникновенное молчание (sige noera) — богиня неоплатоников.
§ 18. Христианство рассматривается здесь исключительно в своих отношениях к язычеству. Зародившись в самом начале нашего периода в далекой Галилее и перекинувшись, благодаря апостолам, в прозелитские общины рассеяния (выше, с.238), оно в течение первых трех веков отчасти укрепляло свое положение и как учение в борьбе с ересями (особенно гностическими[135]), и административно как церковь, отчасти же отстаивало и расширяло круг своих приверженцев среди окружающего его со всех сторон языческого моря. Эта борьба с язычеством была отмечена с христианской стороны литературной самозащитой (так называемой апологетикой, о которой см. выше, с.338), с языческой — отчасти литературными же нападками, но главным образом административными воздействиями. Первые три века в истории христианства представляют собой эру гонений.
На первый взгляд может показаться странным, что Рим при своей терпимости к другим религиям, не изменившей ему даже по отношению к каппадокийской Беллоне с ее «фанатиками», тем не менее мог начать гонение именно на христианство. Следующие факты могут до некоторой степени объяснить — хотя, конечно, не оправдать — эту несправедливость.
1. В христианских общинах, особенно первого века, были очень живы эсхатологические чаяния предстоящего светопреставления. Правда, имелись они и у язычников; но в то время как те его боялись, христиане его желали, так как с ним были связаны надежды на второе пришествие и царствие Божие. Это навлекло на них упреки в odium generis humani[136]. По-видимому, этим обстоятельством и воспользовался Нерон для того, чтобы после большого пожара в Риме в 64 году, уничтожившего десять из его четырнадцати частей, обратить гнев бездомного населения на христиан как на виновников этого бедствия, — что и было «первым гонением». Мы должны тут выражаться осторожно, так как рассказ нашего главного свидетеля Тацита (Тац. Ан. XV, 44) и слишком краток и недостаточно ясен.
2. Христианство было несовместимо с поклонением другим богам, а следовательно, и с культом императоров. Положим, то же самое относится и к иудейству; но иудейство было ограничено небольшим народом, которому Рим вследствие его неисправимого упорства оказывал снисхождение, между тем как христианство вербовало себе приверженцев среди всего населения империи. Особенно строгим в проведении культа императоровбыл Домициан; при нем поэтому дело дошло до столкновения, и принадлежность к христианской общине была объявлена преступлением, которое можно было понимать и как sacrilegium[137], и как crimen (laesae) majestatis[138]. На этой почве и происходили отныне гонения, как при самом Домициане, так и при его преемниках, особенно Траяне и Марке Аврелии. Все же это были гонения против отдельных личностей.
3. Положение дел изменилось при императоре Деции (249-251 годы). К его времени успела развиться и окрепнуть христианская церковь как своего рода государство в государстве с собственной магистратурой, администрацией, судом и т.д.; когда поэтому в 248 году при императоре Филиппе Аравитянине было отпраздновано тысячелетие Рима, разница между обоими государствами стала особенно очевидна; это повело сначала к погрому, а в следующем году и к систематическому гонению по указу императора. Но это гонение, в отличие от прежних, было обращено против христианской церкви как таковой, главным образом, против ее «магистратуры», то есть клира. Скорая смерть императора положила ему конец; оно возобновилось, однако, в той же форме при Валериане, Аврелиане и с особой силой — при Диоклетиане. Это испытание было, однако, последним.
В смутах, разыгравшихся после отречения этого императора, невозможность дальнейшего продолжения вражды стала еще более очевидна. Слишком велико было число последователей Христа, слишком глубоко проникла их религия во все органы империи; ее искоренение было равносильно ампутации сердца у живого человека. Не одним только символом, а реальной действительностью было видение Константина — «сим победиши!» — поведшее к тому, что мировое государство, объединенное физически под властью императора, объединилось и духовно под сенью креста[139].
Но особенно важными были новые всенародные праздники обеих богинь, нашедшие себе место и в римском календаре. Великой Матери были посвящен весенний праздник, длившийся две недели (15-27 марта). Вся судьба Аттиса изображалась публично в священной драме при множестве участвующих лиц: его нахождение в тростнике реки Сангарии (15 числа, canna intrat), его исступление под роковой сосной (22 числа, arbor intrat), кончившееся его самоизувечением и смертью (24 числа, sanguen, день горя и отчаяния), наконец, его радостное воскрешение любовью Матери (25 числа, hilaria; 26, requetio; 27, lavatio). Исида имела даже два больших праздника, один весенний, посвященный ей как богине мореплавания (5 марта — Navigium Isidis; тут Исида приняла в свой культ carrus navalis дионисической помпы — выше, с. 187, — чтобы затем передать его средневековому «карнавалу»), другой осенний (28 октября — 3 ноября), во всем параллельный весеннему празднику Матери. Расширение значения и действия обоих культов имело последствием и их собственное очищение от чувственных элементов: запросы неофитов — отпущение грехов, «возрождение навеки» и победа над смертью — были серьезны и требовали серьезного к ним отношения. Достаточно прочесть у Апулея вышеупомянутое (с.339) описание весеннего праздника Navigium Isidis (Метаморфозы XI гл. 7 сл.), чтобы убедиться, что эта Исида — уже не та, тайные культы которой полтора века назад давали обильную пищу скандальной хронике великосветского Рима.
Гражданское положение Матери повело к тому, что к ее культу старались присоседиться другие, которые при иных условиях не могли рассчитывать на снисхождение Рима. Их носителями были большей частью солдаты: в силу античной терпимости они, воюя на восточных окраинах, приобщались к тамошним обрядам и впоследствии старались их удержать. Так, войны с Митридатом повели к проникновению в Рим дикого культа каппадокийской богини, названной у римлян Беллоной: ее жрецы в черных плащах и папахах бегали в исступлении по своему храму и мечами наносили друг другу раны, кровью которых они очищения ради окропляли толпу. Этих дервишей римляне, впрочем, не признавали жрецами: они называли их «храмовниками», fanatici (от fanum — «храм»); это слово получило впоследствии значение всякого религиозного исступления и изуверства. Еще важнее было приобщение во II веке парфянского культа Митры (Mithra), развившегося из древнеперсидской дуалистической религии маздаизма (Ahura-Mazda, Ормузд, бог добра, и Angramanju, Ариман, бог зла). Митра был посредником, mesitis, ведшим человечество к высшему богу добра; средством была постоянная война с силами бога зла. Ради этого он организовал своих верных в настоящее воинство с развитой иерархией. Культ совершался в подземных храмах (spelaea) при свете факелов; правился он — в силу отождествления Митры с богом-Солнцем (Mithra Sol Invictus) — в те дни астрологической недели (выше, с.319), которые были посвящены этому светилу — то есть в dies Solis. Неофитов водили через целый ряд ужасов, чтобы испытать их храбрость. Это была настоящая солдатская религия, деятельная и мужественная; она прекрасно дополняла преимущественно женскую религию Матери, и сплошь и рядом в одной и той же семье муж посещал священнодействия Митры, жена — службу Великой Матери.
Признание Митры уготовило путь и сирийским солнечным божествам (Ваалам) — последним, получившим гражданство в Риме до принятия им христианства. Правда, безумная попытка Элагабала подчинить Рим и империю своему эмесскому Ваалу, которого он перевел в столицу мира во всей неопрятной чистоте его сирийской обрядности, вызвала взрыв негодования, который стоил ему жизни[134]; осмотрительнее действовал собиратель империи Аврелиан. Он тоже перевел в Рим Ваала, а именно пальмирского, но дал его культу приемлемые для Рима формы. Так как новый бог был Солнцем, то его главным праздником был день зимнего солнцеворота, 25 декабря (Natalis Solis Invicti); в качестве такового он стал естественным продолжением старых Сатурналий (выше, с.295) и был приобщен к их веселой обрядности.
Все названные божества в одном пункте сходились и в нем же резко отличались от греко-римских: те, подобно республиканским магистратам, имели свои определенные, так сказать, ведомства, — эти, подобно императору, были всеобъемлющи. В Исиде сливались и Гера, и Афродита, и Деметра, и прочие с Великой Матерью включительно; это была просто богиня, к которой одинаково обращались люди всех возрастов и всех профессий. Это повело в III веке к так называемому синкретизму, то есть к смешению божественных естеств; в конце концов на поверхности религиозного мышления остались только два общих божества, те, которые в теологии Юлиана Отступника занимают первое место, — бог-Солнце и богиня-Земля. А так как первый был совокупностью небесных сил, то можно сказать, что в эпоху синкретизма античная религия вернулась к своему изначальному дуализму (выше, с.53). И все же это было не то же: элемент природы еще чувствовался, но был оттеснен на задний план этическим и эсхатологическим элементами.
Вместе с религиозностью развивалось и крепло суеверие, и притом не в одних только народных массах. Исида привела с собой множество магических практик, в которых ее родной народ был всегда очень силен; от иудеев эпохи прозелитизма (выше, с.238) античное человечество унаследовало их разветвленную ангелологию и демонологию с Велиаром (сатаной) во главе, из которой со временем развилась могучая в Средние века каббалистика (с «печатью Соломона»); сюда же была примешана и греческая демонология, и некромантия, и астрология. Получилось нечто щемящее и внушительное, обнимающее все народное сознание от философских верхов до простонародных талисманов и амулетов, Исида как «Дева Мира» (Kore Kosmu), управляющая демонами в подлунном пространстве, получившая от первого надлунного планетного духа Гермеса (Меркурия) за свою любовь в дар магию или химию, которой она учит посвященных... Страшно становилось в этом кругу, и все же это было еще сравнительно невинное начало: из этой отравленной чаши человечество пило в течение всего Средневековья, пока лучи Возрождения не рассеяли этого кошмара.
§ 17. Религиозная философия. Философия эпохи империи была либо этической, либо религиозной; вначале преобладает первая, затем перевес получает вторая. О той речь была выше (с.322); здесь будет сказано об этой.
На пороге нашего периода стоит спекуляция александрийского иудея Филона с его замечательной попыткой слить стоическую и платоническую философию с ветхозаветной религией; его метод при этом — аллегорическое толкование, издавна применявшееся к Гомеру (выше, с.183). В результате Филон получает представление о мире как о совокупности наслоенных друг на друга стихий с эфиром поверх всех. Над эфирными сферами царит божество, создавшее идеи как первообраз видимого мира и как свое первотворение — Логоса, посредника между божеством и человечеством. Отвергнутая правоверными иудеями по миновании эпохи прозелитизма, философия Филона оказала сильное влияние и на христианскую, и на позднейшую античную философию.
Одновременно начинается и возрождение философии полулегендарного Пифагора, которая вследствие своей характерной астрономической примеси шла навстречу астрологическим симпатиям времени. Этот неопифагореизм имеет своим самым славным представителем чудодея I века Аполлония Тианского. Бог есть единица; от него вечная часть нашей души. Под ним планетные божества вплоть до Луны, владычицы демонов подлунного пространства. Они — посредники между богом и людьми; с ними возможно общение, отсюда ведовство, очищения и особенно магия. В ней сила этого направления; совершенный человек — это тот, который умеет творить чудеса. Возникнув в I веке, неопифагореизм расцветает во II и особенно в III веках при Северах; затем он продолжается отчасти в тайных масонских ложах, перешедших и в Средневековье, отчасти же в последней крупной философии античности — неоплатонизме. Его творцом был Аммоний Александрийский (начало III века); сам он ничего не писал, но имел двух великих учеников, христианина Оригена (выше, с.338) и язычника Плотина. Последний для нас в своих многочисленных, хотя и необъемистых трактатах, соединенных в «эннеады» (девятки), — самый чистый источник неоплатоновского учения, в котором старая платоническая основа проникнута мистическим духом северовской эпохи.
Луч света, постепенно тонущий во мраке — вот символ неоплатонизма. Его источник — бог, он же и высшее благо. От него исходит путем эманации (но не субстанциальной, а каузальной) — разум, мыслящий и бога и самого себя как мыслимый мир с имманентными в нем идеями. От него, в свою очередь, исходит душа в качестве и мировой, и индивидуальных душ. Душа стоит на рубеже между мыслимым и чувственным миром, создавая этот последний из образуемой ею материи согласно имманентным в разуме идеям. Будучи отторгнута от своей небесной родины и погружена в материю, душа познавшего себя человека стремится вернуться к предвечному разуму; это вознесение души осуществится вполне после смерти. Для своего воплощения она должна была пройти через все семь планетных сфер, причем каждая наделила ее греховной склонностью: Сатурн — ленью, Юпитер — гордостью, Марс — гневом, Венера — любострастней, Меркурий — алчностью, Солнце — обжорством, Луна — завистью; благо ей, если она, возносясь, сможет возвратить каждый из этих смертных грехов «неиспользованным» его дарователю! Тогда она, вознесенная, вступит в пределы «огдоады» (восьмого неба) и найдет свой покой в предвечном разуме. Но уже при жизни она может подготовить себя к этому окончательному вознесению путем отрешения от чувственности (аскеза) и напряжения всех своих помыслов к предварению вечного блаженства в единении с творцом, то есть путем экстаза. Неоплатонизм — настоящая школа экстаза. Его не достигнешь спором и речью — тут неоплатонизм изменил своему источнику; не logos, как у Платона, а проникновенное молчание (sige noera) — богиня неоплатоников.
§ 18. Христианство рассматривается здесь исключительно в своих отношениях к язычеству. Зародившись в самом начале нашего периода в далекой Галилее и перекинувшись, благодаря апостолам, в прозелитские общины рассеяния (выше, с.238), оно в течение первых трех веков отчасти укрепляло свое положение и как учение в борьбе с ересями (особенно гностическими[135]), и административно как церковь, отчасти же отстаивало и расширяло круг своих приверженцев среди окружающего его со всех сторон языческого моря. Эта борьба с язычеством была отмечена с христианской стороны литературной самозащитой (так называемой апологетикой, о которой см. выше, с.338), с языческой — отчасти литературными же нападками, но главным образом административными воздействиями. Первые три века в истории христианства представляют собой эру гонений.
На первый взгляд может показаться странным, что Рим при своей терпимости к другим религиям, не изменившей ему даже по отношению к каппадокийской Беллоне с ее «фанатиками», тем не менее мог начать гонение именно на христианство. Следующие факты могут до некоторой степени объяснить — хотя, конечно, не оправдать — эту несправедливость.
1. В христианских общинах, особенно первого века, были очень живы эсхатологические чаяния предстоящего светопреставления. Правда, имелись они и у язычников; но в то время как те его боялись, христиане его желали, так как с ним были связаны надежды на второе пришествие и царствие Божие. Это навлекло на них упреки в odium generis humani[136]. По-видимому, этим обстоятельством и воспользовался Нерон для того, чтобы после большого пожара в Риме в 64 году, уничтожившего десять из его четырнадцати частей, обратить гнев бездомного населения на христиан как на виновников этого бедствия, — что и было «первым гонением». Мы должны тут выражаться осторожно, так как рассказ нашего главного свидетеля Тацита (Тац. Ан. XV, 44) и слишком краток и недостаточно ясен.
2. Христианство было несовместимо с поклонением другим богам, а следовательно, и с культом императоров. Положим, то же самое относится и к иудейству; но иудейство было ограничено небольшим народом, которому Рим вследствие его неисправимого упорства оказывал снисхождение, между тем как христианство вербовало себе приверженцев среди всего населения империи. Особенно строгим в проведении культа императоровбыл Домициан; при нем поэтому дело дошло до столкновения, и принадлежность к христианской общине была объявлена преступлением, которое можно было понимать и как sacrilegium[137], и как crimen (laesae) majestatis[138]. На этой почве и происходили отныне гонения, как при самом Домициане, так и при его преемниках, особенно Траяне и Марке Аврелии. Все же это были гонения против отдельных личностей.
3. Положение дел изменилось при императоре Деции (249-251 годы). К его времени успела развиться и окрепнуть христианская церковь как своего рода государство в государстве с собственной магистратурой, администрацией, судом и т.д.; когда поэтому в 248 году при императоре Филиппе Аравитянине было отпраздновано тысячелетие Рима, разница между обоими государствами стала особенно очевидна; это повело сначала к погрому, а в следующем году и к систематическому гонению по указу императора. Но это гонение, в отличие от прежних, было обращено против христианской церкви как таковой, главным образом, против ее «магистратуры», то есть клира. Скорая смерть императора положила ему конец; оно возобновилось, однако, в той же форме при Валериане, Аврелиане и с особой силой — при Диоклетиане. Это испытание было, однако, последним.
В смутах, разыгравшихся после отречения этого императора, невозможность дальнейшего продолжения вражды стала еще более очевидна. Слишком велико было число последователей Христа, слишком глубоко проникла их религия во все органы империи; ее искоренение было равносильно ампутации сердца у живого человека. Не одним только символом, а реальной действительностью было видение Константина — «сим победиши!» — поведшее к тому, что мировое государство, объединенное физически под властью императора, объединилось и духовно под сенью креста[139].
 При его сыне Констанции начались первые стеснения языческого культа: было запрещено ведовство, этот всегдашний предмет страха для императоров, и как одно из его условий — кровавая жертва. Этим, без сомнения, был упразднен один из самых характерных элементов язычества; но все же храмы остались неприкосновенны (поскольку их не тронул местный фанатизм), с ними — и жречество, и игры, и многое другое. Особенно старая столица с ее сенатом сочувствовала старой религии — как равно и собственно Греция и еще многие области империи.
Это обстоятельство подало преемнику Констанция, Юлиану Отступнику, надежду на возможность воскрешения язычества как государственной религии; все же воскрешенное им язычество было чем-то новым в сравнении с прежним. То не имело официального богословия; Юлиан привнес таковое в виде неоплатонизма (выше, с.347). Он ввел также и заимствованное у христиан литургическое пение; у них же он заимствовал и важный в его религиозной реформе элемент аскезы. Синкретизм тоже не прошел для него бесследно: его высшими божествами были бог-Солнце и Великая Матерь, то есть небо и земля — этим античная религия вернулась к своему исконному дуализму (выше, с.346). Гонителем христиан он не был, и не он был виною, что его правление ознаменовалось христианскими погромами. Христиане не остались в долгу; именно теперь был истреблен огнем один из центров эллинистического язычества, великолепный храм Аполлона в антиохийской Дафне (выше, с.237). Суду истории попытка этого «романтика на престоле цезарей» не подлежит; он умер от стрелы перса в самом начале ее осуществления, после полуторагодового правления, и предсмертный возглас, который легенда влагает ему в уста, — «Vicisti, Galilaee!» — хорошо передает смысл этой ранней смерти.
Юлиан был последним, вопросившим также и дельфийский оракул. Последняя Пифия оправдала славу своих предшественниц; данный ею оракул гласил:
При его сыне Констанции начались первые стеснения языческого культа: было запрещено ведовство, этот всегдашний предмет страха для императоров, и как одно из его условий — кровавая жертва. Этим, без сомнения, был упразднен один из самых характерных элементов язычества; но все же храмы остались неприкосновенны (поскольку их не тронул местный фанатизм), с ними — и жречество, и игры, и многое другое. Особенно старая столица с ее сенатом сочувствовала старой религии — как равно и собственно Греция и еще многие области империи.
Это обстоятельство подало преемнику Констанция, Юлиану Отступнику, надежду на возможность воскрешения язычества как государственной религии; все же воскрешенное им язычество было чем-то новым в сравнении с прежним. То не имело официального богословия; Юлиан привнес таковое в виде неоплатонизма (выше, с.347). Он ввел также и заимствованное у христиан литургическое пение; у них же он заимствовал и важный в его религиозной реформе элемент аскезы. Синкретизм тоже не прошел для него бесследно: его высшими божествами были бог-Солнце и Великая Матерь, то есть небо и земля — этим античная религия вернулась к своему исконному дуализму (выше, с.346). Гонителем христиан он не был, и не он был виною, что его правление ознаменовалось христианскими погромами. Христиане не остались в долгу; именно теперь был истреблен огнем один из центров эллинистического язычества, великолепный храм Аполлона в антиохийской Дафне (выше, с.237). Суду истории попытка этого «романтика на престоле цезарей» не подлежит; он умер от стрелы перса в самом начале ее осуществления, после полуторагодового правления, и предсмертный возглас, который легенда влагает ему в уста, — «Vicisti, Galilaee!» — хорошо передает смысл этой ранней смерти.
Юлиан был последним, вопросившим также и дельфийский оракул. Последняя Пифия оправдала славу своих предшественниц; данный ею оракул гласил: