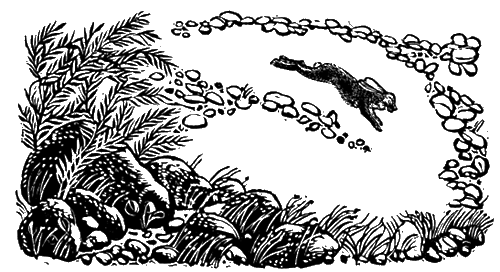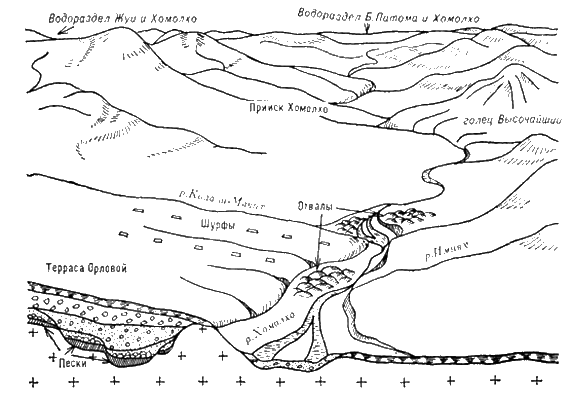Ю. П. ПАРМУЗИН
Осторожно пума!
Записки географа

*
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
М., «Мысль», 1973
От автора
Эта книга о рядовых первопроходцах, пионерах в исследованиях сибирских и дальневосточных природных богатств, о природных условиях этих советских земель и о самом страшном звере.
Самый страшный? Читатель, особенно если он зоолог, наверняка усомнится: путает что-то автор — самого страшного не бывает! В самом деле: кто это — медведь, тигр, крокодил, а может быть, иксодовый клещ?
И все же автор утверждает, что самый страшный зверь существует. Он притаился внутри нас — экспедиционных работников, путешественников, туристов и яростно пожирает своего хозяина — только поддайся. Имя его — непредусмотрительность. Он беспощаден к тем, кто неопытен, но самоуверен, беспечен и надеется на авось, слаб физически и неустойчив морально, слабоволен и рассеян.
Читатели газет нет-нет да и встретят горестную весть о том, как человек, оказавшись лицом к лицу с тайгой или горами, тундрой или просто рекой, то завален лавиной, то замерз, то, растерявшись, заблудился или утонул. Начинают искать виновного, суд, разбирательство, наказание… Главное же наказание получает сам пострадавший и дело, не доведенное им до конца. Его гибель — горе родным и близким.
Автор и его сверстники не изучали курса техники безопасности в экспедициях по той простой причине, что создатель этой совершенно необходимой дисциплины профессор Г. К. Тушинский в то время был студентом географического факультета Московского университета. Вот и приходилось нам, неопытным, необученным, постигать на многотрудной практике и элементарные требования к экспедиционной одежде, и сложные правила сохранения здоровья и самой жизни в необжитых таежных просторах Сибири и Дальнего Востока.
Незнание техники безопасности и типичные для студентов жизнерадостность и легкомыслие приводили иногда к трагическим последствиям. Если же трагедии по счастливой случайности не происходило, то все минувшие ошибки и промахи воспринимаются сейчас как комические недоразумения. Впрочем, трагическое и комическое — одно из проявлений закона единства противоположностей в экспедиционных исследованиях.
Однако курс техники безопасности читается, а люди гибнут. В чем дело? Да в том, что эта самая непредусмотрительность не только свирепый, но и коварный зверь. Он внушает студенту и молодому туристу: «Не все, что читают профессора, принимай всерьез. Ха, техника безопасности — чепуховый курс!»
В этой книге автор решил поделиться с читателем горьким опытом давних времен. В то время, о котором повествуется здесь, он был молодым специалистом и непосредственным участником или свидетелем описываемых событий. Он не изменил ни время, ни места действий, ни географических названий, ни имен действующих лиц.
Да простят мне здравствующие герои моих записок, если тут повествуется несколько не так, как они представляли свои поступки тогда! Каждому человеку свойственно представлять действия, как собственные, так и товарищей, по-своему, и что же делать, если мне так вот и представлялось, как здесь написано?
Осторожно — пума!

В начале тридцатых годов, тогда, когда мы были еще студентами, Родине срочно потребовалась точная топографическая карта. Вместе с созданием отечественной авиации возникло несколько аэрогеодезических предприятий. Новые требования порождали новую технику, новая техника требовала новой методики выполнения работ. По предложению наших старшекурсников В. А. Буханевича, Б. А. Колесникова и других, поддержанному именитыми географами, в аэрогеодезических предприятиях возникла новая должность — «географ». Кто станет географами производственных предприятий? Конечно, молодежь.
Итак, мы были первыми! Что мы можем сделать и что с нами делать, мало кто представлял, и тем более руководители аэрогеодезических экспедиций, на чью голову свалились в качестве специалистов десятка три студентов-практикантов. Наш же студенческий ум и вовсе не был в состоянии осмыслить всей грандиозности свершившегося события — учреждения первой географической должности в производственных предприятиях. Практического опыта, с которого можно было бы взять пример, и вовсе не было — наступал тот период, который в истории геолого-географического изучения нашей страны вошел под названием переходного от индивидуальных исследований к коллективной площадной съемке.
На долю группы студентов третьего и четвертого курсов Московского университета выпало Забайкалье. Конечно, в первую очередь возникла мысль: а что нам известно о Забайкалье? Большую Советскую Энциклопедию, которой так успешно пользуются сейчас студенты, тогда еще только начинали издавать, и том на букву «З» в библиотеки не поступал. Нашли мы две книги — В. А. Обручева «Селенгинская Даурия» и Л. И. Прасолова «Южное Забайкалье» (почвенный очерк). Но как мы ни перекапывали каталоги библиотек, ни о растительности, ни о животном мире, ни о климате, ни тем более о современной экономике ничего не выяснили. В конце концов нам стало казаться, что наше отечественное Забайкалье — страна еще не открытая. Нам даже в голову не приходило обратиться, как сейчас узаконено во всех вузах, за консультацией к нашим профессорам, из которых только Н. Н. Баранский бывал в Сибири в первое десятилетие нашего века, и то не по географическим, а по революционным делам.
Мы занялись самодеятельностью. В ожидании отъезда было решено ознакомиться с флорой и фауной Забайкалья через ботанический и зоологический сады. Вы думаете, эта затея достигла цели? Ничего подобного! В Ботаническом саду Московского университета на Первой Мещанской под стеклом оранжереи зеленели пальмы, бананы, магнолии, диковинные цветы наполняли ее запахами Африки и Южной Америки, Западной Европы и Австралии — и ни одного растения из Забайкалья, даже тривиальной даурской лиственницы в саду не было. Сибирь была страной трудной, почти неосвоенной и малоисследованной.
Не лучше было и в зоологическом саду. Кого только нет в нашем зоопарке! Львы из Сахары, обезьяны с Амазонки, страусы эму из австралийской саванны, попугаи Малайских островов, питоны Индии, крокодилы Нила. Среди множества иностранцев лишь наш добродушный сибирский медведь слонялся из угла в угол по клетке да какой-то облезлый камышовый кот считался забайкальским, хотя в Забайкалье камышовые коты практически вывелись и этот реликт сохранился только здесь.
Однако не пропадать же пятидесятипроцентным студенческим билетам! Мы разбрелись по зоосаду. После наиболее захватывающего зрелища клетки с мартышками, с их на первый взгляд непоследовательными действиями мое внимание привлекли хищники. В одной из клеток сидели две крайне недовольные пумы. Возможно, проходила семейная ссора или они, как на некоторых зимовках разнохарактерные люди, видя постоянно только одни знакомые лица, осточертели друг другу.
Конечно, не нужно объяснять просвещенному читателю, что пума — это огромного размера кошка коричневого или черного цвета, раз в пятнадцать — двадцать больше нашей домашней. Ее тело поставлено на высокие ноги и снабжено предлинным хвостом. Обитает она исключительно в Америке, особенно в горах и по опушкам тропических лесов, а на другие континенты добровольно не появлялась и никогда там не жила.
Представшие моим глазам пумы были в отвратительнейшем настроении. Стремясь как можно дальше держаться одна от другой, кошки нервно шагали от угла к углу. Одна терлась о доски глухой задней стенки, а другая — о прутья передней решетки. Они расходились в противоположные стороны, резко поворачиваясь в углах, а когда сближались, как по команде выпускали громадные когти, стуча ими по железной обивке углов клетки, поднимали шерсть на загривке, поворачивали морды, угрожающе скалили зубы, рычали, а зверские глаза метали друг в друга зеленые искры. Их хвосты в это время молотили стенки клетки, тщетно стараясь выломать их. Никогда после мне не приходилось видеть большей свирепости ни у одного зверя. Встретишь такую кошечку в ее родных американских горах — и пропал…
Как обычно, неудачи, как и обязанности, выполнения которых не требуют, быстро забываются. В пути забылись и попытки познакомиться с Забайкальем, не выезжая из Москвы. И вот перед нами село Никольское у подножия Заганского хребта. Бородач забайкалец, привезший нас с железнодорожной станции Петровск-Забайкальский, с чувством глубокого уважения к делу доложил начальнику геодезической партии, показывая на нас кнутом: «Вот, паря, однако привез тебе людей — не то фотографы, не то мотографы, язви их».
Такое представление уже не удивило нас. За трое суток пути, пока добирались на телегах по размытым только что прошедшими дождями проселкам, мы успели освоиться со своеобразным лексиконом забайкальцев. Впрочем, далеко не все было понятно в их разговоре. Такие предложения, как, например: «Аногдысь сундулой с братаном тянигусом хлыняли…» — понять без переводчика невозможно. В переводе же это означало: «Позавчера с двоюродным братом ехали мелкой рысью (трусцой) в телеге на лошадях по длинному пологому склону».
В некоторых районах южного Забайкалья живут потомки высланных Екатериной II староверов-раскольников. С тех пор эти русские люди сохранили многие старые обряды и обычаи, например запрет курения. Одежда их красочная, яркая, как в хоре имени Пятницкого, с расшитыми бисером кокошниками и пятью — восемью юбками у девушек, с длинными рубахами, подпоясанными матерчатыми поясами с кистями, и высокими вышитыми воротниками у мужчин. Речь их изобилует анахронизмами. Словечки же «паря», «язва», «однако» до сих пор вплетаются здесь в любую речь и в любом исполнении.
— Географы, — показал свою эрудицию, поправив возницу, геодезист.
Однако кроме названия он тоже толком не представлял, какую пользу от нас может получить отечественная геодезическая служба. Но при нас был циркуляр: «Обучить географов топографическому дешифрированию аэрофотоснимков; провести пятидневную практику по краткому описанию геологического строения, форм рельефа, вод, растительности, почв, грунтов, путей сообщения, чтобы впредь такие описания сопровождали каждый изданный топографический лист; вменить в обязанность географам составление этих описаний и заполнение топографических журналов».
Кроме топографического дешифрирования и заполнения топографических журналов, все остальные пункты циркуляра касались непосредственно вопросов учебных практик, которые мы проходили на первом и втором курсах за селом Воробьево, именно там, где теперь кончается территория нового здания Московского университета. Такое состояние дел воодушевило начальника партии.
— Отлично! Значит, вы сможете вести топографический журнал, а то ведь техников-топографов не обучали ни геологии, ни почвоведению, а журналы заполнять требуют, раз их напечатали.
И он для примера показал топографический журнал, заполненный техником-топографом и забракованный начальством.
Журнал представлял собой общую тетрадь в твердых корках. Каждая страница требовала множества сведений. На первой странице было напечатано «Геология» и оставлено около 60 строк для повествования о строении земной коры в данном районе съемок. В журнале же стояла буква Z, что означало честное признание топографа в некомпетентности по части геологического строения его участка. На нескольких страницах требовалось дать характеристику рельефа. Здесь всего на одной строчке стояло: «Рельефа нет». Очевидно, топографу попалась равнина. На следующей странице следовало дать сведения о почвах. И здесь была заполнена лишь одна строчка: «Почвы вспаханы». А вот о каких почвах — подзолистых или черноземных, грубоскелетных или суглинистых — шла речь, не было известно.
После ознакомления с такими записями и содержанием требований мы воспрянули духом и заверили, что заполним не только по одной строке, а по нескольку страниц на каждый раздел журнала, только бы посмотреть все это непосредственно в поле. Удовлетворенный начальник партии приступил к обучению нас основам топографического дешифрирования, то есть тому делу, в котором он «собаку съел», хотя лишь всего один год существовала аэрогеодезическая съемка в Советском Союзе.
Обучение шло успешно, начальник был доволен и начал хвалить район, вверенный ему для топографической съемки.
— Вам, надо сказать, повезло. Забайкальская тайга — это садик по сравнению с сибирской или, того хуже, с дальневосточной тайгой, куда попали ваши товарищи. Дождей тут мало. В болотах не утонешь. Заблудиться почти невозможно, имея такой прекрасный и исключительно точный аэрофотоматериал. Район весьма фотогеничен, и вы в этом убедитесь завтра же на практическом дешифрировании.
Для первого опыта решили взять площадь в половину топографического листа, разделить ее на равные участки между всеми географами и описать вместе с дешифрированием — так, чтобы это служило эталоном для дальнейших работ. Общими усилиями составили краткую инструкцию-вопросник, на что обращать внимание при полевом исследовании и что выделять на аэрофотоснимке.
Девушкам дали участки с селами, а самые дальние, таежные, достались наиболее крепким старшекурсникам. Решили, что девушки будут изучать свои участки по двое, чтобы никто не обидел, а мужчины могут ходить и по одному. Сейчас строжайше запрещено посылать в тайгу исследователей в одиночку, тогда же как-то мало доходила серьезность этого правила и до исполнителей, и до начальников, и сплошь и рядом человек один уходил на несколько дней и в тайгу, и в горы.
Следующий день был занят снаряжением и подходом к участку работ. Снаряжение мое нехитрое: полевая сумка с аэрофотоснимками и полевым дневником, анероид в другой сумке, на поясе геологический компас и охотничий нож, который я успел купить у бурята, за плечами крохотный (теперь таких не делают) рюкзак с тонким одеялом, солдатским котелком, ложкой, кружкой, пшеном, хлебом, баночкой масла, сахаром, солью, в руках геологический молоток и плащ через плечо. Одежда в точности соответствовала одежде географа из популярного в то время приключенческого кинофильма «Золотое озеро»: пестрая ковбойка, новые ботинки и брюки, правда основательно проношенные.
Участки Лизы Цирюхиной, Димы Борисевича и мой были самые дальние, и поэтому, чтобы добраться до них, нам дали вьючную лошадь с рабочим, который должен был сопровождать Лизу в маршруте.
Рабочий — типичный забайкалец: широкоплечий, кряжистый, широкоскулый, с жиденькой бородой и узкоглазый, хотя и русский. Он не выпускал изо рта самодельную трубочку, на его лице ничего не отражалось, даже если бы случился пожар или землетрясение. Тем не менее, завьючив лошадь, он, почти не глядя на меня, не спеша сказал:
— Однако, паря, обутки у тебя шибко худые — по чепуре
[1] на день. В тайгу ичиги надо.
Ичигов у меня не было, а про себя я подумал: всяк кулик свое болото хвалит, а забайкалец — свои ичиги. Неужели они лучше новых хромовых на рантах ботинок? Да и в «Золотом озере» географ был одет именно так, как я.
К вечеру мы достигли места, откуда должны были разойтись в разные стороны. Тропа затухла в кустарнике. Падь сузилась, а сопки как будто поднялись выше. Я облюбовал для ночлега лужайку при впадении одной речки в другую, но рабочий забраковал ее.
— Однако, паря, место худое. Ночью с дабана
[2] хиус
[3] будет — сгорим.
Пройдя еще полкилометра, он остановился у подножия сопки с густым лесом.
— Вот де баско и без балагана табор будет.
Ночь под открытым небом. Ровно горит костер. Над головой густой шатер пихтовой кроны. Крупные звезды на темно-синем бархате. Наш проводник, подстелив ватник, спит в одной рубашке у костра. Тишина.
Утром бодрое расставание. На самом же деле не так-то уж уверенно себя чувствуешь впервые один на один с тайгой. Но ничего не поделаешь: назвался груздем — полезай в кузов — престиж географа, мужское достоинство, ответственный эксперимент требовали мужества.
Передо мной был выпуклый и очень крутой склон сопки. Местами над его покатостью возвышаются гранитные скалы. Сосны по склону стоят далеко друг от друга. Кое-где разбросаны жиденькие кустики даурского рододендрона. Типчак, полынь, гвоздика, тимьян и другие степные низкорослые травы располагаются несомкнутыми куртинками среди сплошного ковра из сухой сосновой хвои. Взбираться вверх по сухим сосновым иглам в ботинках с кожаной подошвой скользко. Нога постоянно съезжает вниз. Солнце немилосердно жарит. Его лучи почти отвесно падают на склон. Пока я достиг вершины, пропотел так, что даже рюкзак промок до самого одеяла.
Совершенно другим оказался северный склон. Он был пологий и длинный. Солнечные лучи скользили вдоль него. Да их, собственно, и не было здесь видно, так как склон зарос густым и высокоствольным лиственничным лесом. Под его пологом сплошной покров высоких кустов ольховника, рододендрона, кустарниковой березки. Ноги путаются в густой сети багульника, утопают во влажном мху. Вот она, чепура! Ноги никак не выдернуть без привычки из этого зеленого и пахучего капкана. Того и смотри упадешь. Но падать некуда. Со всех сторон плетень из прутьев, листьев, хвои. Все это, как батут, отбрасывает тебя назад. Начинаешь пробираться боком — ветки цепляются не только за рюкзак, но и за нос, уши, пытаются разорвать рубашку.
— Ничего себе садик! Густо насадили! — ворчал я, вспоминая слова начальника партии.
Сейчас у всех студентов имеются наручные часы. В тридцатые годы это считалось большой роскошью и часов у меня не было. По солнышку я еще не привык определять время и вскоре потерял о нем всякое представление. Казалось, что минула целая вечность, а пройдено совсем мало. Самое же ужасное, что вскоре я уже не знал, где нахожусь. Меня окружал густой и высокий лес. Лес в падях, на склонах, на вершинах сопок. Никаких ориентиров. Все сосны или лиственницы на один фасон. Все сопки — близнецы, пади — зеленая муть, в двух шагах ничего не видно. Какое тут исследование!
В этот первый день моих полевых исследований не было выяснено никаких закономерностей, преодолевались препятствия, шла борьба со стихией. Только на второй день, наконец, было замечено, что все склоны, обращенные на юг, сосново-степные, а обращенные к северу — таежно-кустарниковые, несмотря на то, что и в первый день я пересек несколько северных и южных склонов. Не скрою своего разочарования, когда узнал, что буквально все наши географы подметили эту закономерность, так как вообразил, что именно мне посчастливилось обогатить науку. Девушки же, исследовавшие окрестности населенных пунктов, выяснили у аборигенов, что южные склоны называются солнопеками, а северные — сиверами.
Не только физическая борьба с тайгой, но и компас отвлекал внимание от наблюдений за ландшафтом. Уроженцу степей и городскому жителю, мне было трудно ориентироваться в тайге. Я то и дело доставал компас для проверки направления и обнаруживал постоянное отклонение вправо от заданного курса. Первоклассные аэрофотоснимки также не помогали мне. Как будто бы и с натуры снято, но попробуй найди точку, где ты стоишь. На снимке пади все на одно лицо. Стою на вершине сопки, а на какой? Ведь их тут много. Становилось досадно. Нет, заблудиться я не боялся — был уверен, что не потеряюсь. В крайнем случае поверну к югу и приду в жилые места. Боялся, что сорвется самостоятельный маршрут. Вершина полностью залесена. С земли ничего не видно. Сбросил снаряжение и полез на сосну.
Впереди, насколько хватало глаз, расстилались застывшие волны горной тайги. Пади спокойно бороздили пологосклонные отроги Заганского хребта. Вблизи господствовал зеленый цвет. Дальше яркая зелень становилась синеватой. Еще дальше тайга была совсем синей, потом голубой, фиолетовой, и, наконец, на горизонте лиловатый ее цвет почти сливался с серовато-голубым небом. Почти ничто не нарушало строгой гаммы этих холодных красок. Ни дымка, ни блестящей речной ленты, только однообразный, как мне казалось, таежный водораздельный массив. Кое-где небрежными мазками разбросаны темно-зеленые или синие полосы — это кедрачи и пихтарники покрывают каменистые вершины. В нескольких местах, Как заплатки на новой рубашке, наложены коричневатые или изумрудно-зеленые пятна. Это молодые, еще не заросшие или уже покрывшиеся березняком гари. Чувствуется рука человека. Однако не украшают эти лоскуты таежную целину. Скалы, речки, поляны — все скрыла коварная тайга от начинающего географа — попробуй разберись в ее хитростях!
Посмотрел назад. Где-то у самого горизонта в синеющую даль таежного моря как-то некстати врезался крошечный прямоугольник желтого поля села Никольского. Поле! Я привык к нему с детства. Оно понятно и близко моему разуму и сердцу, и как оно недоступно далеко сейчас! Я лишь малая песчинка в этой жестокой в своем равнодушии безбрежной тайге. Стало ужасно обидно. До чего же ничтожен, оказывается, человек, не вооруженный опытом.
Уже начав слезать со своего пушистого с виду и очень колкого наблюдательного пункта, я увидел прямо под сопкой за темно-зеленой полосой прируслового леса блеклозеленые проблески. Поляна! Она, конечно, отражается на аэрофотоснимке. Скорее туда. С сопки бегом вниз. Но не тут-то было. Шершавая непролазная стена кустов вырывала из рук молоток, стаскивала плащ, цеплялась за брюки. Ничего не видя перед собой, продирался я медленно сквозь зеленую заставу, громко проклиная забайкальскую растительность. Поглощенный этим занятием, я не сразу заметил, что склон стал положе и перешел в равнину, изрытую глубокими промоинами. Деревья стали выше, кусты еще гуще, под ногами то мох, то трава. Стало темнее под густыми кронами темнохвойной тайги, в глазах сплошное зеленое месиво. Совершенно не зная тайги, я не заметил, как со склона перешел в пойменный лес. Невероятными усилиями раздвигая упрямые ветви и получая от них удары то по лбу, то по уху, я принялся проклинать начальника партии, пославшего нас в этот зеленый хаос.
— Чтоб ты провалился со своим садиком в тартарары…
Вдруг почва под ногами исчезла. Полет по вертикали вниз ногами показался довольно долгим. Кусты, не дававшие ходу вперед, тут вдруг охотно расступились, не упустив момента расцарапать щеку. Я оказался почти по пояс в ручье.
Все объяснялось просто. Лет двадцать назад по пади прошел пожар. Уцелевшие деревья продолжали расти. На удобренной золой и освобожденной от мха почве кустарники стали еще гуще. Выросла трава. Обожженные деревья повалились от ветров и построили естественные мосты через ручей. Со временем они покрылись мхом, подгнили, на них поселилась трава, замаскировав от неопытного глаза русло ручья. Сооружение не выдержало дополнительной тяжести весом в одного поджарого студента. Всех этих элементарных истин в то время студент не знал и попал в ловушку.
Краткий испуг, удивление, досада. И я, как пружина, выскочил из прохладного ручья, протаранив кустарниковый заслон, очутился на небольшой поляне. Ласковая трава прятала упавшие обгорелые стволы. На пойме возвышались ели, пихты и кедры, а на склоне сопки — разреженные сосны. Полянка делила темнохвойную тайгу и сосновый бор. Она отлично была видна на аэрофотоснимке. Обрадованный этой находкой и уверенный, что пойманная путеводная нить больше не выпадет из рук, я стал разоблачаться для просушки.
Мой новый костюм уже не был столь свежим, как утром. Обнажая ссадину, на рукаве зияла прореха. Одна штанина на колене дала трещину. Черная пленка хрома на ботинках висела мелкой шелухой, как на картошке, варенной в «мундире». В левом ботинке воды было меньше, чем в правом, так как подошва близ его носка уже несколько поотстала от верха, давая возможность воде свободно изливаться на землю. Вообще это была какая-то киселеобразная масса, а не ботинки. Прав был наш проводник — обутки мои были худые. Впрочем, эти досадные мелочи не испортили отличного настроения после удачного спасения, а главное — определения своего места в таежной безбрежности.
Солнце, обдав сосны золотыми брызгами, начало прятаться за вершину сопки. Нужно было готовиться к одинокой ночи в этих коварных дебрях. Не меньше часа было потрачено на лесозаготовку для костра. Сушняка и обгорелых, но вполне пригодных для костра стволов кругом было множество. Не имея представления, сколько дров требуется для костра на ночь, и действуя согласно народной мудрости — запас карманов не тянет, натаскал их не менее двух кубометров. Разожжен громадный костер. Сварена и съедена с аппетитом каша. Устроена царская постель из пихтовой хвои. Вместо простыни — плащ, подушка — рюкзак, одеяло настоящее. К концу всех этих хлопот в падь вошла темнота. Она скрыла и сосны, и сопки. Только трава дрожала от жара пылающего костра да лапы елей как будто то приближались, то убирались восвояси. Мир сузился до нескольких метров. За границей света притаилась жутковатая неизвестность.
Странное чувство овладело мной. Теоретически было ясно, что ни один зверь не подойдет к такому грандиозному костру. Ни один бандит не станет ходить по тайге в кромешной тьме. Итак, бояться совершенно нечего. Но это только теоретически. Практически же первое время какая-то противная жуть отгоняла сон. Потом усталость взяла свое, но выяснилось, что необходимо отодвинуться от костра, который был длиной метра в три и высотой в половину моего роста. Даже на большом расстоянии было жарко и одеяло оказалось лишним.
Заснул крепко, но как только костер убавлял огонь, меня как будто кто-то толкал. За короткую летнюю ночь я просыпался раз шесть. Подложив дров, моментально засыпал снова. Окончательно проснулся, когда где-то на востоке Забайкалья появилось солнце, окрасив в ярко* оранжевый цвет противоположную вершину взлохмаченной со сна сопки. В пади стоял зеленый полумрак. Дремали травы. Опустив лапы, спали ели. Похрапывал ручеек. Медленно горел уставший за ночь костер. Темнела чуть-чуть уменьшившаяся куча заготовленных дров. Тишина и покой. Лишь во мне бурлили радость и гордость за первую самостоятельную таежную ночь, ощущение молодости и силы, уверенность в успешном выполнении задания.
Покончено с кашей. Выпит крепкий чай. Уложены немудрые пожитки. Залиты остатки костра. Наступило первое ликующее утро моей желанной специальности. Бодро насвистывая жизнеутверждающий марш тореадора из оперы «Кармен», размахивая молотком, придерживая другой рукой плащ на плече, я зашагал по глухой, заросшей пади к вершинам Заганского хребта, зная зачем и зная куда.
Солнце потихоньку взобралось на сопку и из-за сосновых крон бросило щепотку золотых лучей в мою падь. Потянуло ветерком. Падь проснулась, встряхнулась, заиграла солнечными бликами. Вместо росы на траве оказались нитки бриллиантов, расцвеченные всеми цветами радуги. Эти нити дрожали, переливались мириадами огоньков, превратив зеленый хаос в пещеру Алладина. Нет слов, чтобы описать все очарование этого преображения и игры красок… И вдруг из-под куста сбоку на меня глянули свирепые, зеленые глаза черной, как уголь, пумы!
Ее короткие уши были насторожены. Правое ухо слегка вздрагивало от напряжения. Ощетинившиеся усы дрожали. Невидимый в кустах хвост молотил траву, и трава колыхалась, теряла бриллиантовые нити. Слегка шевеля зрачками, глаза метали злые зеленые искры. Она лежала, положив голову на вытянутые, готовые к прыжку лапы, скрытые травой. Зубы были оскалены, хотя и не видны из-за травы. Страшный зверь изготовился к роковому прыжку. Чтобы увидеть все это, потребовалась тысячная доля секунды — щелчок фотоаппарата, глаз и воображения. Все дальнейшее происходило так же стремительно, во всяком случае не более двух секунд.
Но как были насыщены переживаниями эти секунды! За этот ничтожный в абсолютном исчислении отрезок времени в мозгу проносится ураган мыслей. В памяти возникает если и не вся жизнь, то во всяком случае значительная ее часть, связанная с событием, приведшим к роковой развязке.
Первое, что я ощутил, был тривиальный ужас. Именно он остановил меня на всем скаку и заставил врасти в землю. Механически пресеклась и застряла в лязгнувших зубах ария тореадора. Одновременно по спине пробежали полчища мерзких мурашек. Кожа как будто сжалась на всем теле, и было впечатление, что мурашки посыпались на траву. До боли отчетливо ощутилось, как сердце оторвалось, вроде бы упало в заднюю часть порванного левого ботинка.
В то время Как сердце уже подготовилось выскочить в щель отставшей подошвы, инстинктивно сложился план обороны. Еще не зная золотого правила, что нападение — лучший вид обороны, я собрался только защищаться. Ни за что не стал бы нападать первым. Черт с ней — пусть бы жила эта противная огромная, как теленок, кошка. План был прост и, насколько показал последующий анализ, единственно возможный: не бежать же от этого наглого хищника — все равно догонит. Из правой руки выпал геологический молоток и рука легла на рукоятку ножа. Левая рука судорожно сжала висевший на плече плащ — тоже тактическое и весьма существенное оружие. Решено дождаться прыжка зверя. Как только пума оказалась бы в зоне досягаемости рук, левая накидывает ей на голову плащ, ослепляя и сковывая ее действия, а правая наносит несколько ударов ножом в бок.
После полной моральной готовности отражать нападение мысль непрерывно помчалась дальше. Она стала работать в несколько другом плане. Пумы из Америки на другие континенты самостоятельно не переходят, следовательно, в Забайкалье, где зоосадов нет, они не водятся. И вообще Забайкалье не тропики! И тут я ясно увидел вместо пумы горелый пень.
Еще доля секунды — и все предметы заняли свои реальные места. Дерево сгорело давно. Оно было большим и суковатым. Обгоревший ствол свалился, неровно обломав остаток пня. Внутренность пня выгнила, вывалились корни сучков, образовав дыры-глаза. Внутри пня выросла трава и шевелилась от тихого утреннего ветерка. Трава поднималась над обугленной неровной поверхностью пня, напоминавшей настороженные уши, и имитировала подергивающееся ухо. Она же мелькала в отверстиях от сучков, создавая видимость живых свирепых глаз. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отверстия были на разных уровнях и разных размеров и в противоположность «ушам» ничуть на глаза не походили. Вообще пень был до того большой, что вся пума, если ее затащить сюда, могла бы свернуться клубочком в его внутренней части, и, уж конечно, не имел никакого сходства с мордой зверя, кроме «ушей». Воображение дорисовало массу деталей: зубы, на которые здесь и намека не было, хвост — слегка качающиеся ветви.
Нет, я не тратил много времени на осмотр презренного пня. Сжатые челюсти разомкнулись, и насвистывание тореадора продолжалось именно с той ноты, на которой оборвалось, но с еще большей жизнерадостностью.
Маршрут благополучно закончился через три дня и две ночи. Мой костюм по возвращении в Никольское был в ужасном состоянии. Новая ковбойка разорвана в трех местах, брюки прожжены на боку, голые колени свободно смотрели на мир. Обе подошвы ботинок подвязаны шпагатом. Лицо и руки в ссадинах и царапинах. Впрочем, не в лучшем виде возвратились и другие географы.
Маршрут был успешен благодаря крепкому сердцу, но вообще-то зря нас отправляли по одному!
Была ли это пума!

К сожалению, в тридцатые годы многие исследователи работали в одиночку. Начальство смотрело на это сквозь пальцы, а в глубине души даже поощряло: зарплаты меньше и план выполняется быстрее.
При разбивке триагуляционной сети на юге Дальнего Востока и создании геодезического обоснования одним из методов измерений горизонтальных углов был гелиотропический. В солнечные дни гелиотропом с одного геодезического пункта на другой подавались сигналы в виде отраженных лучей солнца — солнечных зайчиков. Вышки — геодезические пункты — строились на вершинах сопок, и где-то поблизости жили дежурные гелиотрописты, дожидаясь солнечных дней.
Около месяца стояла пасмурная погода и хлестали дожди. Наконец долгожданное солнце прервало вынужденное безделье геодезистов. Засверкали зайчики, но с одного пункта сигналов нет. Нет в назначенное время, нет в дополнительное, нет день, нет второй. Что-то с гелиотропистом случилось, не может же он по три дня спать. Продуктами и спичками он месяца на три обеспечен, да ягоды, да карабин — можно в тайге прожить даже без продуктов, значит, с голоду он тоже не умер.
Собрали нескольких топографов, врача с прииска, местного охотника и пошли на пункт, откуда не поступало сигналов. Он был на хребте Эзоп, что разделял воды Бурей и Селемджи. Идти километров шестьдесят. Проходимость плохая: по долинам болота, в нижних частях горных склонов густая темнохвойная тайга, захламленная валежником и буреломами. В верхней предгольцовой части тайга оторочена непролазным поясом кедрового стланика с курумами
[4], а выше гольцы — голые камни. Добирались три дня.
Вышка геодезического пункта стояла на высоком гольце. Полукилометром ниже, на седловине, где росли редкие лиственницы, а кусты кедрового стланика были не так густы, в палатке жил гелиотропист. Весной, когда еще не стаяли снега на гольце, к седловине бежали ручейки. Воды хоть отбавляй. Стаяли снега, и седловина высохла. За водой пришлось ходить к истоку ручья без малого километр вниз по склону. Гелиотропист не захотел переносить палатку к ручью — далеко от вышки. Так и ходил каждый день почти два километра к воде и обратно.
Пришли в палатку. По всему видно, хозяин давно отлучился. На столе, сколоченном из половинок листвянок, стояли чайник с чаем, подернутым сверху плесенью, кружка с налетом чая и сахара внутри. Видно, недопит был чай и вода высохла. Туесок стоял открытый, с позеленевшим прогорклым маслом. Что-то круглое в виде баранки на столе. Когда-то это было лепешкой. Середину растащили муравьи, только сухие края остались. Туда и сюда летали осы, перенося в свои гнезда сахар из раскрытого мешочка. Все говорило о том, что человек ушел из палатки поспешно.
На топчане, как и стол, сделанном из половинок бревен, лежали раскрытые спальный мешок, будто человек отлучился из него на минутку, и книжка Стендаля «Красное и черное». Согнулась подтаявшая от тепла свечка. Человек читал на сон грядущий.
Вещи в рюкзаке, видимо, не трогал никто, кроме него. Во вьючных сумах фанерные ящики с продуктами: консервы, крупы, мука, сахар, соль, чай, масло, спички — словом, полный набор экспедиционных продуктов. Тут же лежал плащ, стояли резиновые сапоги и другие вещи, необходимые для жизни. Ясно, что не голод заставил уйти человека без чая. Вещи и палатка в целости, стало быть, и нападения не было. Люди? Откуда они в этих нехоженых местах? Звери, из которых только медведь здесь опасен, ни за что не нападут на человека летом. Наоборот, если человек долго живет на одном месте, они постараются уйти отсюда как можно дальше. Ни денег, ни документов, ни карт или аэрофотоснимков у гелиотрописта не было, не нужны они ему в горах — все это хранилось на базе экспедиции. Значит, и с этой стороны не могло быть никакого соблазна.
Но где карабин? Ведра тоже нет.
Тропка протоптана от палатки к истоку ручья. Пошли к ручью.
Недалеко от палатки на траве лежал ватник. Один рукав вывернут наполовину, видно снят и брошен в поспешности на ходу. Еще ниже около тропки, накатившись на куст кедрового стланика, стояла форменная фуражка, поблескивая серебристой кокардой. В то время мы носили формы, похожие на летные, а на фуражках были серебряные крылышки — аэрогеодезия. Еще ниже по склону (и опять же на тропе) валялся уже заржавевший карабин. Полна магазинная коробка патронов, и в стволе патрон, и курок на боевом взводе. Ствол хорошо вычищен и смазан маслом. Стрелял ли из него вообще гелиотропист? Во всяком случае из него не стреляли в тот день, когда карабин был брошен. Около того места, где человек брал воду, валялись на боку ведро, полотенце и превратившееся в слизь мыло в мыльнице.
Вещи свидетельствовали, что на человека никто не нападал, что он не оборонялся и все же панически бежал прочь от ручья по направлению к палатке. Сначала он оставил ведро и умывальные принадлежности, затем бросил ненужный карабин, на бегу у него свалилась фуражка и покатилась под гору, и, наконец, видимо уже вспотев, он сбросил ватник. Однако в палатку он не прибежал. Человек чего-то боялся, иначе он не стал бы брать с собой карабин, идя по воду. Пришедшие к гелиотрописту были людьми опытными. Топографы не один летний период топтали таежные дебри, следопыт-охотник, врач, за несколько лет работы на таежном прииске ставший и хирургом, и терапевтом, и врачом судебной экспертизы. Они самым тщательным образом исследовали окрестности и не обнаружили ни одного следа зверя или постороннего человека. По крайней мере на два километра в радиусе от палатки наверняка никто не подходил сюда уже больше месяца. Геодезический пункт тоже был в полном порядке.
Гелиотрописта обнаружили на противоположном от палатки склоне гольца. Он лежал ничком на крупноглыбовой осыпи гранитов ногами вверх по склону. Обеими руками он закрывал затылок, будто хотел затолкать голову в расселину между огромными камнями. Ни тело, ни одежда не были порваны, не было и царапин, если не считать небольшой ссадины на лбу, лежащем на камне.
Вскрывший тело врач констатировал разрыв сердца. Очевидно, сердце не выдержало быстрого почти двухкилометрового бега в гору, а возможно и сильного испуга.
Дневник гелиотропист не вел. Письма к матери, жившей в Новосибирске, были грустные. От них веяло разочарованностью мрачного человека. Он не писал, что его угнетало. Убитая горем мать рассказала, что он был хилым, болезненным и очень впечатлительным мальчиком. Неудачно, без взаимности любил девушку.
В экспедиции у него не было ни друзей, ни близких товарищей. Никто не помнил, чтобы он с кем-либо говорил больше одной-двух фраз. Никому в голову не приходило поговорить с человеком подробнее, узнать, кого отсылают в длительное одиночество глухой тайги и гольцов, проверить его психическое состояние.
Однако это не было самоубийством, человек хотел жить, но его томил какой-то навязчивый страх. Скорее всего это была «пума».
Самый страшный зверь
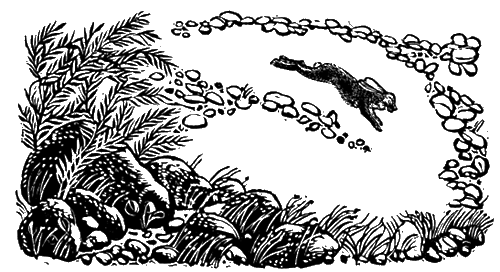
Волков в тайге мало, в степях и тундре они чаще встречаются. Кроме того, появись они где-нибудь и попробуй набедокурить — сейчас же целая армия охотников выйдет на их истребление. Нет, волк не очень опасен для экспедиционных исследователей тайги. В конце концов против него даже дубинка — оружие.
Рысь слишком осторожный зверь, чтобы попадаться на глаза и тем более нападать на человека. Если ей не наступишь на хвост, ни за что первая не нападет. А ввиду того что рысий хвост слишком короток, то наступить на него почти невозможно.
Общепризнанный хозяин тайги медведь — противник серьезный. На него с дубинкой не пойдешь — бесполезно: все равно задерет. Однако первым нападает, только когда встретишься с ним нос к носу и бежать ему некуда. Бывает, медведица нападает, когда ей приходится оборонять свое глупое, необученное потомство — почти всякая мать готова пожертвовать собой для детей. Но и это случается нечасто, обычно медведица находит способ отвести медвежат от опасности.
Несколько лет назад шли мы впятером по красивой долине Верхоянского хребта. По сторонам вздымались коричневато-серые остроконечные вершины гольцов в каменных шапках. Кое-где на коричневом поле гольцов блестели снежники. Снег залежался в глубоких тенистых промоинах до августа. Снизу гольцы опушены сплошной зеленью кустов кедрового стланика. Ниже этой похожей на зеленый каракуль опушки и до самой речки горы покрывало лиственничное редколесье с ольховниковыми, ивовыми и березовыми кустарниками. На речных террасах среди лиственничника то и дело попадались злаково-разнотравные лужайки с яркой изумрудной зеленью и массой цветов. Лес и пойму раздвигала белая кипень наледи — глазам больно от ее блеска. А речка разбегалась мелкими ручейками по широкой галечниковой пойме, как будто раздавленная мощным льдом среди зелени растений, и только далеко ниже по течению все ручейки собирались опять в одно русло. Шаталось русло от берега к берегу, гремело камешками и укладывало из них косы то с одной, то с другой стороны. На крутые берега вода набрасывалась с злобным шумом, подмывала и рыла котлы под скалами.
Идти по косам как по асфальту: ни болотные кочки под ногами не путаются, ни кусты за рюкзак не цепляются и дорога не в гору — почти ровная. Так вот с косы на косу и шли мы для сокращения времени. Ночь приближалась, а до лагеря дойти нужно было обязательно. Там, где речка мелкая, мы по камням на перекате переходили на противоположную сторону, чтобы не лезть на скалы или в прирусловую чащобу, и ускоренным маршем шагали по противоположной косе.
Вдруг шагах в пятидесяти увидел я, что с нашей стороны на противоположную наметом скачет медведь. Бурый, огромных размеров. Я сделал шаг в сторону, чтобы и другим видно было (они шли за мной гуськом).
Вот, говорю, и медведь. Мне-то приходилось с ними встречаться, а спутникам моим — нет.
Остановились мы и приготовились смотреть, как медведь удирать будет от нас. Не тут-то было. Он речку перепрыгнул, встал на задние лапы, а передние так жалостно свесил и стоит на нас смотрит, уходите, мол, пока я добрый. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы медведь не спешил убежать от пяти человек. Думаю: неужели любопытство сильнее страха? На пять человек не больно-то нападешь! Уверен, этот косолапый не знает, что в нашем ружье патроны только дробью пятым номером заряжены — и ни одного жакана. Знал бы это, разбросал бы он нас как хотел.
Я громко приказал:
— Чего встал? Давай проходи!
Послушался он, опустился на все четыре и еще прыжка три сделал. Как только его скрыли кусты, он опять поднялся на дыбы и стал внимательно смотреть на нас — чуть не плачет.
Что, думаю, за ерунда? Быть не может! Опять закричал на него еще громче, и тут все мы увидели, как кусты зашевелились и малыш-медвежонок к матери катится.
А думаю, вот в чем дело: не медведь ты, а
медведица, того давно бы след простыл.
Медвежонок подскочил к матери, вместе они пробежали немного еще до подъема в гору и опять остановились, опять медведица на задние лапы над кустами поднялась.
— Да что же ты ваньку валяешь, — кричу, — давай убегай, пока цела.
В это время зашевелились ветки на вершине лиственницы, которая около медведицы стояла, и вниз начал сползать медвежий близнец. Мелко перебирает лапочками по стволу, торопится вниз, видно, мать дала какой-то приказ. Сделает медвежонок несколько шажков по стволу, остановится, обернет башку в нашу сторону, черные глазки-пуговки удивленные: впервой, мол, такие звери в наших дебрях. Кто такие? А мать не на шутку разволновалась, аж дрожала вся. Дождалась, когда сын с дерева спустился, шлепнула обоих, и только кусты затрещали — все семейство шарахнулось в гору, только мы их и видели.
Не знаю, стали бы мы стрелять, если бы решили предупредить нападение зверя и если бы были жаканы или карабин? Убить-то было нехитро — три раза спокойно можно было прицелиться, но уж очень жалобно мать взглядом нас умоляла не трогать ее: пропадут ведь малыши.
Здесь это упомянуто к тому, что не так-то уж страшен человеку сам таежный хозяин, даже если это многодетная мать, готовая вложить всю силу и ярость на защиту потомства, — и она стремится убежать.
В первую свою практику после третьего курса мне пришлось сразу же столкнуться со зверем, который не спешил убегать от человека, а это, оказывается, действительно страшно.
Представьте картину: по густой тайге в глубокой задумчивости идет студент. Думает он о бесконечных и строго закономерных связях в природе. Например, забайкальские граниты, выветриваясь, дают дресву. Дресва делает почву хрящеватой. Вода легко проникает через хрящ. Солнце глубоко прогревает такую почву и вместе с циркулирующей водой понижает уровень вечной мерзлоты грунта. Такие почвы — самое подходящее место для сосны. Ее разветвленные корни, как в песке, проникают во все стороны. В легких дресвянистых почвах сосновые корни, наиболее приспособленные к бедным плодородием почвам, отбирают питательные вещества и душат другие деревья, позволяя жить под своим покровом только травам, которым немного нужно влаги. Травы создают поверхностный гумусовый горизонт, и в результате в тайге нередко встречаются степные группировки. А виной всему солнышко. Его лучи почти отвесно падают на крутые склоны и глубоко прогревают их днем. С заходом солнца склон сразу начинает охлаждаться, процесс выветривания происходит быстро, и его продукты — щебень и дресва — также сносятся быстро. В результате солнопеки— склоны южной экспозиции — крутые и почвенно-растительный покров на них лесостепной.
По склону северной экспозиции, сиверу, солнечные лучи даже в полдень лишь скользят, не прогревая столь глубоко почву, как на солнопеке. Здесь близка к поверхности мерзлота. Процесс таяния идет медленно, и поэтому оттаявший почвенный слой всегда летом маломощный и более влажный, чем на солнопеке. Сосне здесь расти трудно, зато хорошо растет лиственница, приспособленная к холодным и маломощным почвам. По мерзлому горизонту в деятельном слое вниз по склону сочится вода, производя обмен веществ и питательных элементов. На сырой почве лучше растут кустарники, развивается моховой покров, заглушающий травы, и в результате — дремучая тайга с холодными мерзлотными почвами. Даже звери на этом склоне другие, чем на солнопеке. Они избегают открытых мест днем. На сиверах же в двух шагах ничего не видно, что тебя ожидает за каждым кустом.
И как бы в подтверждение этой мысли прямо под ногами раздался треск, кажущийся ужасно громким среди чуткой тишины замерших лиственниц. Из-под ног взметнулось что-то коричневато-серое, как будто взрыв мины поднял участок земли. Что-то стремительно вылетело вперед и, как взрывная волна, с треском, ломая сучки, понеслось перед тобой. Естественно, инстинктивно весь сжался. В голову ударила кровь, не дающая подыскать нужного и правильного решения о форме защиты. Руки хватаются за что попало, но не успевают сорвать ружья, если оно даже у тебя есть. И только через несколько мгновений, когда чуть-чуть обрел способность соображать, различил куцый хвост над белым задом, стремительно удаляющийся по прямой в наиболее густые кусты. Когда до сознания, наконец, доходит, что это заяц, он уже успел исчезнуть. На лице появляется глупая улыбка, означающая в первую очередь, что ты жив, и что легко отделался, и что опасность миновала, и вообще-то в сущности ее не было!
Если ты даже не один, все равно будешь напуган не меньше и, смущенно оглянувшись, чтобы убедиться, не заметил ли спутник твоего смешного испуга, обязательно скажешь:
— Шутник косой.
Нет, медведь не страшен в тайге, потому что он зверь рассудительный и уходит подальше, как только почует человека, а его чутье очень тонкое. Этот же дурной грызун лежит до последнего и, уж когда почувствует, что нога готова опуститься на его прижатые уши, срывается, чтобы напугать и исчезнуть, пользуясь твоей растерянностью. Самый страшный зверь!
Спички

Широкое устье болотистой пади раздвинуло и взлохмаченные тайгой сопки, и гранитные скалы, отполированные Огоджой — капризной, как все дальневосточные речки. По сухим бугоркам на днище пади наспех в беспорядке разбросали геологи десяток избушек, баню, продовольственный склад и назвали Угольным Станом. В обрыве террасы из днища пади прямо к огоджинской воде выходил угольный пласт северной окраины Буреинского угольного бассейна. На юг, до водной дороги Бурей, было двести километров через дикий хребет Турана. На север, до автотракта Норск — Экимчан, что извивался вдоль Селемджи, всего сорок семь. Зимой на нартах и даже на автомашинах по льду Огоджи легко сюда завести и людей, и продукты, но летом пройти эти сорок семь едва ли легче, чем двести до Бурей. Тропка, еле заметная в таежной чащобе, то взбиралась на туранские кручи, то зарывалась в мари падей или тонула в речках. Как только начинались муссонные дожди, сорок два брода через малые речки и лодочная переправа через Селемджу накрепко запирали проход к Угольному Стану. Крутые сопки, скованные вечной мерзлотой, не принимали ни капли воды в свои недра и сбрасывали ее в пади. Каждый ерундовый ключик превращался в бурный поток, сбивая с ног не только пешеходов, но и лошадей, а об Огодже и говорить не приходится. Она собирала воду множества речек, ручьев и ключей и после каждого дождя вздувалась, наливалась злобной мутью и, ревя, как стадо фантастических зверей, громила берега, катила по каменистому дну валуны, кидалась галькой, вырывала с корнем прибрежные лиственницы. Гранит не выдерживал ее пьяного буйства, и в такие дни со скалистых берегов грохотали обвалы.
Уголь разведали, подсчитали запасы, но разрабатывать пока не стали: трудно без дороги спорить с Огоджой. Прежде чем строить дорогу, нужно иметь топографическую карту. Так и бросили поселок, оставив на всякий случай сторожа с женой охранять склад, набитый продуктами и буровым оборудованием. В этом-то Стане и расположилась база нашей топографической партии. Геодезист — начальник партии, завхоз, принявший содержимое склада и поселок от «Углеразведки», молодой радист с радиостанцией, две жены топографов (одна — бухгалтер, другая — чертежница) и, наконец, повариха, она же прачка и уборщица. Топографы, рабочие, оленеводы и мы, географы, расходились по тайге создавать первую для этих мест топографическую карту.
В конце каждого месяца в Угольный Стан со всех сторон сходились оленеводы из полевых отрядов. Они привозили наши отчеты о выполнении планов съемки, получали руководящие указания и, наполнив пустые торбы продуктами, уходили обратно в тайгу. Угольный Стан был нашей полевой столицей и пределом мечтаний женатых топографов.
В конце августа, когда в наши, хотя и невысокие, горы в верховьях бассейна Огоджи приползли ночные заморозки, мой отряд встретился с отрядом топографа Михаила Ивановича Вершинина. Встреча в безлюдной и бездорожной тайге — радостное событие, тем более когда промокший приходит в давно стоящий лагерь. После обоюдного обмена новостями и производственным опытом разговор повернул на бытовые темы.
— Слушай, промерз до костей, нет ли чего выпить?
— Ничего не осталось.
— А НЗ?
Неприкосновенный запас медицинского спирта, положенный на каждый отряд, выдавался для борьбы с простудными заболеваниями после вынужденных купаний в здешних ледяных водах. Однако то ли потому, что купания были слишком часты, то ли из-за способности спирта быстро испаряться, но так или иначе спиртовые фляжки становились сухими чуть ли не сразу после их наполнения.
— Какой там НЗ! Еще в июне, как раз в мой день рождения, промокли вдребезги.
— Какое совпадение! Да что НЗ, мы уже второй день на одних рябчиках живем.
— Да и у меня сухари в позеленевшую крошку истолклись. Спички кончаются.
— Слушай, а ты послал отчет?
— Нет.
— Давай завтра возьмем по рабочему, одного оленевода, всех оленей и махнем на Угольный Стан. Ребята тут расчисткой просек займутся, а мы тем временем сдадим отчет, в баньке попаримся — второй месяц не мылись.
— Баня-то куда ни шло, и без того каждый день то ванну, то душ принимаем — дожди да броды замучили. А самое вредное — кусты похлеще всякого банного веника продирают. Ни одного дня за два с половиной месяца сухими не были, только и сушимся ночью. А вот по жене и по радио соскучился. Идем!
План с расчетом материальных сил, средств и обязанностей был составлен моментально. День туда, день обратно, день и две ночи на Стане. На пять уходящих по два куска сахара, по два сухаря или пригоршня сухарных крошек, табаку на десять папиросок. В лагере остается полторы пачки махорки, крупа, чай, соль на четыре дня, сухарной крошки — на два…
— Ничего, перебьетесь! В крайнем случае на рябчиков нажимайте, дробовики вам оставляем. С собой берем только карабин — вдруг медведь попадется.
— А спички? У кого есть спички?
У каждого обнаружилось от трех до семи спичек. Соединили все спички в две коробки. Сорок спичек остающимся, восемнадцать — уходящим. Кроме того, в моей сумке лежала почти полная коробка, завернутая в бересту. Об этом НЗ я никому не сказал, а возможно, даже и забыл в тот день. Остающимся посоветовал спичек не тратить, а поддерживать костер круглые сутки и уж во всяком случае прикуривать только от костра.
На следующий день, чуть забрезжило, сводный отряд отправился в путь. Утро выдалось ясное, солнечное после легкого заморозка. Впереди ждали нас двадцать пять километров бездорожной дальневосточной тайги. Тайга везде тяжела для ходьбы, а дальневосточная особенно. Идти по ней не соскучишься — путь насыщен острыми ощущениями.
Развлечения начались сразу же на мари. Она простиралась полосой в четыре километра между лагерем и Огоджой. Болото неглубокое, провалиться можно на полметра, редко на метр, не глубже. Ниже его подстилает окаменевший мерзлый слой грунта. Но вечномерзлый грунт делает воду очень холодной, а мох хранит холод, скупо пропуская солнечное тепло. Поверхность мари усеяна кочками. Чем ближе к ручьям и речкам, тем выше кочки, а вода глубже. Хорошо оленям — они «обуты» в меховую непромокаемую шкуру, а копыта раздваиваются на мягком грунте и не проваливаются наподобие лыжных палок. Другое дело мы. Обувь у нас хоть и резиновая, но с дырами. Как только мы получали спецобувь, так сразу же провертывали дыры около подошвы для того, чтобы вода выливалась свободно. На Дальнем Востоке, как ни берегись, все равно вода наполнит сапоги, а каждый раз разуваться и выливать воду невозможно — работать некогда будет.
Хождение по кочкам дальневосточной мари сродни цирковому номеру хождения по проволоке. Нужно иметь отличный глазомер, обладать совершенным чувством равновесия и уметь точно рассчитывать силу мышц, чтобы, прыгая с кочки на кочку, во-первых, попасть на мизерную ее поверхность и, во-вторых, чтобы удержаться, когда это отнюдь не монументальное сооружение из торфа и осоки начнет, как живое, выворачиваться из-под ноги. Большинство таежников ходят, не обращая внимания на кочки, это экономит силы. Ну а рабочий моего отряда Иосиф Матюков таежником не был и не постиг мудрости пренебрежительного отношения к кочкам. Он не любил мочить ног и поэтому передвигался прыжками, чтобы возможно меньше вода попадала в его чуни.
Рослый и предприимчивый человек, он всего год назад плавал механиком на малых судах дальневосточного торгового флота. В тайгу он попал впервые, совершенно не понимал ее очарования и здорового физического труда на лоне дикой, не испорченной человеком природы и в сочных выражениях проклинал тот день и час, когда он попал в экспедицию.
Раз двадцать оступившись и раза два распластавшись в болоте, он, наконец, оставил изнурительные прыжки. Шлепая по торфяной жиже, он проклинал вселенную, ее создателя и ни в чем не повинное человечество.
— Я вычеркиваю это паскудное лето из жизни! Разве можно такое называть существованием?! И почему якуты не вырубят эту гнусную тайгу? Ведь можно же гати построить — вон сколько леса!
Внезапно размеренная, в такт шагам речь прерывалась быстрым речитативом. Это означало новое крушение. Иосиф спотыкался и, стараясь сохранить равновесие, подпрыгивал. Но ноги, опутанные багульником, отставали от получившего поступательную инерцию туловища. Вытянув руки вперед, он шлепался, подняв тучу брызг, и погружался в мягкую торфяную постель. Карабин, болтавшийся у него за спиной, по инерции продолжал двигаться, когда тело уже закрепилось в болоте. Ремень не давал карабину перелететь через голову Иосифа и с силой в четыре килограмма вдавливал ее в холодную воду. Из-под бурой жижи раздается бульканье. Поднимаясь, он первое время обчищается. Но из-за частых падений работа по очистке костюма оставляла его далеко позади всех идущих. Он бросал наводить лоск и шел весь в буром торфе, с листочками багульника в виде совокупного прообраза лешего и водяного.
Отряд еле поспевал за оленеводом — эвенком Николаем Соловьевым, который без всякого усилия, как по торной дороге, шел в своих олочьях впереди связанных цугом оленей. Четыре километра по мари уже основательно вытрясли наши силы, и, достигнув Огоджи, отряд сделал привал. Разложили дымокурчик от докучливых комаров, закурили. Впереди еще оставалось двадцать с гаком километров каменистых сопок, густых еловых зарослей и марей.
Дождя давно не было, и Огоджа обмелела. Во многих местах выступили отполированные валуны и скалистые выступы. На каждом перекате можно было перейти вброд ниже колена. Вода, недовольно ворча, разбегалась в сложном лабиринте камней мелкими струями и бежала прямым сообщением к Угольному Стану. До Стана, судя по карте, было всего семнадцать километров легкой водной дороги. Однако почему-то Соловьев обходил ее, делая большой крюк по сопкам. Мы курили и думали: почему? На этом участке съемка не велась, еще не было аэрофотоматериала, и никто из нас не знал места.
Общую мысль выразил Иосиф:
— А что, братцы, сделать нам, морякам, пару саликов да вниз по матушке Огодже? Коля, таежная душа, один доберется со своими рогатиками — мы же скорее его приплывем.
— Да, это, конечно, легче, — согласился Вершинин.
Но обычно спокойный Николай энергично заявил:
— Плыви не нада! Его низю ходи, камень шибко большой. Плыви не могу, ходи не могу. Шибко его худой места!
— Ну где для якута «плыви не могу», моряк проплывет. Похуже места видели, — возразил Иосиф, называвший почему-то всех нерусских дальневосточников якутами.
— В крайнем случае пойдем пешком по долине, — согласился я.
Только Грязнов, рабочий топографического отряда Вершинина, таежный старатель, молчал и неодобрительно посматривал на нас. Однако совещание большинством голосов решило вопрос в пользу плотов. Соловьеву приказали ехать и, если он приедет раньше нас, затопить баню.
— Мине баня завтра топи. Ваша тайга ночуй, — заявил он мрачно.
Но в тайге, как в армии, приказ есть приказ. Николай отдал нам топор, забрал карабин и, взобравшись на учига, качнувшегося от его легкого тела, поехал через реку, оставив нас в весьма бодром настроении.
Мы, конечно, знали, что семнадцать километров по карте — это еще не семнадцать на самом деле. Для тех мест карта крупного масштаба была составлена на основании расспросных данных и грешила многими неточностями, а иногда просто не отвечала действительности. Мы также совершенно не знали характера Огоджи. Однако она не вызывала у нас тревоги: текла прямо на север, к базе партии, она, казалось, обещала быстро доставить нас туда. Кроме того, по небу плыли белые облачка, ласково пригревало солнышко, чуть-чуть веял ветерок. Подумаешь, семнадцать — двадцать километров!
Работа закипела. Срублены две засохшие лиственницы. Каждая разрублена на три части. Три бревна связаны прибрежным тальником, скрученным наподобие веревок. Через два часа два салика были готовы. К моменту их спуска на воду к солнышку подобралась облачная муть и проглотила его. Похолодало. Но, разгоряченные работой, мы не ощущали никакого холода.
Закурив последний раз, мы съели все запасы продовольствия — нечего экономить, до «дома» всего семнадцать километров. Взглянув на небо, кто-то сказал:
— Кажется, сегодня вымокнем.
— Черт с ним, не привыкать!
С этими словами мы и отчалили. С первых же шагов «морского» путешествия наша уверенность в скором и легком достижении цели начала испаряться. Салики из тяжелой лиственницы сидели глубоко в воде и ни за что не желали изгибаться, чтобы лавировать между камнями. Они обязательно натыкались на каждый из них и застревали, садились на мель. Мы высаживались на камни, скользили и падали в воду, пытаясь поднять неподъемную древесину. Над речной гладью неслось кряхтенье. От криков «раз, два взяли» разбегались все звери и разлетались рябчики с прибрежных кустов. Огоджа была проклята самыми ужасными проклятиями. На плесах наши салики почти стояли на месте и также вполне заслуживали проклятий. В общем за полтора часа нечеловеческих усилий мы еще ясно видели то место, от которого началось путешествие. За это. время всего двадцать минут нас везли наши салики, а все остальное они предпочли ехать на нас.
Мы совершили минимум две ошибки: первая — постройка плота из «железного дерева» тайги, а не из легкой ели и вторая — это путешествие.
Плавание шло черепашьими темпами, и в наших рядах началось брожение.
— Да, прогадали мы с морским путешествием.
— Не пойти ли нам по следам Николая?
Но так не хотелось отказываться от радужных планов, признав себя побежденными, и возвращаться. И так сильна была надежда, что ниже по течению будет лучше, что мы потихоньку плыли все ниже по реке.
Начал накрапывать дождь. Но мы и без того были уже мокры и снаружи от бесчисленных высадок в воду, и изнутри — от собственного пота.
Налетел порыв холодного ветра, и хлынул ливень. На Дальнем Востоке иногда бывают такие ливни, как будто опрокидывается бочка с водой, и не капли, не струи, а сплошная стена воды падает сверху. Таким был дождь и тогда. В первую же секунду он вымочил нас до костей, невзирая на брезентовые спецовки рабочих, мою кожаную куртку и тем более солдатскую гимнастерку Вершинина.
К довершению неудач деревянные веревки нашего са-лика перетерлись, и я очутился по пояс в воде.
— К чертям салики! Пошли пешком! — закричал я.
— Попробуем еще немного проплыть, — возразил Вершинин, которому было лень слезать со своего салика.
— Конечно, поплывем, — настаивал Иосиф и уже начал связывать разъехавшиеся бревна.
— Попробовать-то можно, но вот скоро вода начнет прибывать, и уж если тогда налетим на камушек, то вряд ли удастся живым из этой поганой речонки выбраться.
Плот связали, и путешествие продолжалось с прежним успехом.
Ливень утих, но сильный дождь кисеей закрывал и окрестности, и реку впереди. А места становились все красивее. Сопки приблизились к руслу, иногда обрываясь к воде скалами. Скоро началось ущелье. Река стала заметно глубже, течение быстрее, шум усилился, между стенами скал гремело эхо. Наш салик плыл метров на полтораста впереди вершининского.
— Что это? — спросил Иосиф, указывая на чуть видневшиеся сквозь сетку дождя белые буруны впереди и высокие каменные глыбы между ними.
— Водопад! Давай к берегу!
Но было поздно. Шесты недоставали дна, а вместо весел они не годились для неповоротливого, тяжелого салика, все быстрее увлекаемого течением. Пытать счастье вплавь в ледяной стремительной воде было не только рискованно, но и поздно. Мы не успели составить план спасения, как плотик с курьерской скоростью уже несся среди камней гранитного барьера, преградившего реку. Иосиф бросился на плот ничком, крепко охватив его и ногами, и руками. Я же, инстинктивно зажав в руках шест, выпрыгнул на каменную глыбу как раз в том месте, где салик, приподняв зад, носом зарылся в пену и брызги и нырнул вниз. Я даже не заметил, на чем стою, так как искал глазами салик и Иосифа в бурлящей пене. Секунды казались часами.
Сначала из воды торчком, будто кто его с силой выбросил, выскочило одно бревно. Мы поднимали его вдвоем с большим напряжением, а тут оно скакало как лягушка. Потом ниже по течению вынырнуло второе. Наконец показалось и третье вместе с Иосифом. Его прибило к каменному мысу метрах в двухстах от меня. И было еле-еле видно, как Иосиф на четвереньках выполз на камни берега и сел. Посидев несколько мгновений, как бы соображая, что делать дальше, он стал разувать левую ногу. Потом стащил брезентовую куртку, разорвал рубаху и обмотал ногу.
Убедившись, что он жив, я приступил к оценке собственного положения. Оно было не из приятных. Мои ноги стояли на гранитном постаменте площадью менее квадратного метра. На нем я выглядел памятником среди грохочущей воды метрах в четырех от такого же гладкого и совсем крошечного обломка сущи. Укрепить шест на дне не было никакой возможности — вода моментально вырывала его из рук. Одно неверное движение — и я окажусь в падающей воде. Кое-как укрепив конец шеста и собрав все силы, я прыгнул, опираясь на шест. Конечно, мне просто повезло. Ударившись животом о камень, я вскочил на него и, не теряя инерции, перескочил на следующий.
На берегу я оказался вместе с Вершининым и Грязновым, которым удалось причалить салик к берегу, вовремя заметив нашу катастрофу.
Впереди виднелся еще один порог, и о дальнейшем плавании не могло быть и речи. Но вообще-то, будь у нас хоть немного тренировки в плавании на бревнах наподобие сплавщиков, плыть, конечно, было бы лучше, чем идти.
Спустившись со скалистого барьера и достигнув каменистого мыса, где сидел Иосиф, мы спросили его:
— Идти можешь?
— Попробую. Ногу поцарапал.
«Царапина» уже успела пропитать кровью самодельный бинт, и пришлось наращивать повязку остатками рубашки. Холод не давал стоять на месте. Мы побрели, прыгая по прибрежным камням, не решаясь углубиться в мокрые заросли пойменных кустов. Иосиф сильно хромал, морщился от боли и непривычно молчал.
Вскоре валунная отмель уперлась в скалу. Она почти отвесно обрывалась в воду. Водоворот у ее подножия вырыл глубокий котел, непроходимый вброд. Немного выше по течению гремел перекат, которым было решено воспользоваться для перехода на противоположную сторону.
Упираясь палками в каменисто-галечное дно, напрягая все мускулы и рассчитывая каждое движение, волочили мы ступни ног по дну, не отрывая их от камней. Это усиливало трение и сохраняло равновесие. Без такого приема и палки устоять в бешено несущейся воде, если она выше колена, было невозможно. Вода вырывала из-под ног гальку, а на валуны и вовсе становиться нельзя. Их отполированная поверхность сбрасывала каждого, особенно если он был обут в резиновую обувь со стертыми подошвами, как у нас.
Благополучно достигнув берега, мы быстро пошли по галечной отмели, но, не пройдя и трехсот метров, снова уперлись в непреодолимую скалу, и снова началась полная напряжения всех сил и внимания переправа. Так пришлось переправляться пять раз, и часа за четыре мы вряд ли прошли более двух километров.
Тем временем вода прибывала и даже на самых мелких перекатах стала выше колен. Переходя в шестой раз реку, я наступил на гальку, выскользнувшую из-под ноги. Судорожно взмахнув руками в поисках спасительной соломинки и независимо от сознания набрав полные легкие воздуха, рухнул в воду. Так же инстинктивно руки и ноги размахнулись в стороны, стремясь захватить как можно большую площадь дна, чтобы увеличить силу трения. Но прежде^ чем тело успело распластаться на дне и затормозить, струя проволокла меня и раза два перевернула, больно ударив грудью о камни — хорошо, что не головой. Никаких сил не хватало противостоять ее бешеному напору. Я понял всю свою ничтожность по сравнению с этой мощью, но продолжал шарить руками по дну. В голове была только одна мысль:
— Только не теряться! Только не теряться!
Мне повезло. Я наткнулся на большой камень. С невероятным напряжением уперся ногами и руками о камни дна и встал на четвереньки, пытаясь поднять голову над водой. А она хлестала по лицу. Рта раскрыть нельзя. Кое-как, урывками переводя дыхание, на четвереньках добрался до берега и посмотрел на товарищей. Один, так же как и я, выползал из воды на четвереньках, а двое кое-как добрели без приключений. Дрожа от озноба, нечеловеческого напряжение мускулов и нервов, мы в изнеможении упали на прибрежные камни.
— Ав воде-то теплее, чем на берегу, — стуча зубами, сказал Грязнов.
— И правда, вроде бы теплее.
— Когда с саликов спускались в воду, то камни выбирали да на цыпочки поднимались, чтобы не промокнуть, а сейчас, как утки, ныряем, и хоть бы что, — пытался пошутить Вершинин, стараясь придать как можно больше бодрости своему вибрирующему голосу.
— В воде-то только вода, а здесь еще и ветер. Два холода сразу. Б-р-р!
Пальцы на руках покраснели и не гнулись. По телу между бугорками «гусиной кожи» текли ледяные струи. Мокрая одежда плотно прилипала к телу, отнимая его тепло. Если удавалось оторвать липкую рубашку от какого-нибудь участка тела и создать воздушную прослойку, то уже не хотелось двигаться, чтобы не утратить этого отепленного кусочка.
О следующем переходе через реку нечего было и думать, Из ласково ворчащей мелкой речушки она превратилась в свирепый мутный поток. Она жаждала крови, подбираясь к нашим ногам, очевидно не в силах еще ринуться на нас из своего русла. Огоджа ревела, выворачивала прибрежные камни, унося их как мелкую гальку. Над водой стояла водяная пыль, смешанная с дождем. То в одном, то в другом месте возникали и опять пропадали, водовороты. В своих бурых волнах они закручивали, как щепки, большие лиственницы вместе с корнями и кронами. Она была прекрасна в своем гневе, эта взбешенная стихия. Нам же было не до восхищений.
— Хороши бы мы были на своих саликах сейчас!
— Однако сидеть некогда, топать еще порядочно и холод собачий.
— Мое мнение — взобраться на сопку и идти поверху. Берегом все равно не прорваться из-за скал.
Это было очевидно, и все, стараясь держаться строго гуськом, чтобы не получать всю воду с кустов, стали пробираться сквозь заросли пойменного леса к склону сопки. Шли очень медленно, передвигая ногами, как циркулем, держа корпус неестественно прямо, стараясь не изгибать ни рук, ни ног и не потревожить водоносные кусты. Я шел впереди, так как был одет в кожаную куртку и первым принимал удары кустов и водных струй. Кожанка набрала в себя воды, конечно, больше, чем просто вершининская гимнастерка, и превратилась в холодильник.
Наконец начался крутой склон, кусты поредели.
— Ну, кажется, выбрались!
— Прошли не более семисот метров, но они показались тремя километрами и по времени, и по напряжению.
Склон сопки покрывали курумы. Среди громадных гранитных глыб, одетых лишайниками, кое-где торчали лиственницы.
— Скажи, пожалуйста, — воскликнул Иосиф, — в сухую погоду по этим камушкам как по лестнице идешь, а сейчас полное смертоубийство!
Действительно. Лишайники, не имеющие корней и набухшие водой, превратились в скользкую слизь. Они потеряли всякую механическую связь с субстратом и скользили по нему, как только на них наступали. К тому же еще сами камни, смоченные дождем, лежали неустойчиво — того и жди съедут вниз.
Прыгнув на один из закачавшихся камней, неловко упал Грязнов. Сразу же из руки хлынула кровь. Перевязав руку, осторожно и потому медленно побрели дальше, напрягая внимание.
До вершины сопки добрались совсем обессиленные. Но здесь еще холоднее — нельзя ни сесть, ни остановиться. Тучи, цепляясь за верхушки лиственниц, как бы играли вперегонки. Насыщенные водой и холодом они то быстро взмывали вверх, то падали на вершину сопки, пытаясь проникнуть в ущелье. Такие тучи бывают перед снежным бураном. Они несли холод и еще больше омрачали и без того пасмурное настроение. Молча передвигались мы, растопырив руки, с трудом отрывая ноги, путающиеся в сети багульника. Вместе с дождем сыпались пожелтевшие хвоинки лиственницы.
Постепенно затих шум Огоджи. Ориентиров не было: их съели тучи, закрывшие все высокие сопки. Нужно было посмотреть на компас, но он висел на поясе в футляре, а так не хотелось сгибать руку, чтобы достать его: опять мокрая рубаха прилипнет. Компас в конце концов пришлось достать и убедиться, что мы слишком далеко уклонились вправо. Через несколько времени Вершинину показалось, что мы опять уклоняемся, и я, стуча зубами, опять полез за компасом, и опять пришлось поворачивать. Чувство времени и пространства стерлось. Казалось, что мы идем бесконечно. Главной заботой у всех было сохранить постоянное положение корпуса, чтобы рубаха не прилипала к телу. Этот был случай, когда совсем не хотелось, чтобы своя рубашка была ближе к телу. Начался спуск в какую-то долину. Оказалось, речка Курба — приток Огоджи.
В сухую погоду эту маленькую речонку можно перейти в любом месте. Теперь же она разлилась и так разбушевалась, что близко подойти было страшно. К счастью, подошли мы к ней недалеко от устья, где она в погоне за врезом Огоджи довольно сильно углубила русло и имела высокие берега.
Стали делать мост. Нашли высокую ель и свалили через поток. Но у ели была густая крона, и, как только хвоя коснулась воды, дерево было подхвачено и отнесено в сторону. После долгих поисков нашли высокую, но с редкой кроной лиственницу, свалив ее, перебрались на противоположную сторону. Смеркалось. В глазах появилась зеленовато-серая муть, обезличившая все предметы и расстояния.
— Ну, братцы, до Стана осталось не больше пяти километров.
— Пять-то пять, а вот попробуй-ка на эту сопочку взобраться, — указал Грязнов на крутой, поросший густым кустарником склон.
— Пошли-ка лучше к Огодже, может быть, ущелье кончилось, а то мне уже не взобраться, нога болит, — заявил Иосиф.
Выйдя к Огодже, мы очутились на небольшом полуострове галечного конуса выноса Курбы, заросшего лиственницами, елями и пихтами. Прямо впереди возвышалась мрачная голая скала, преграждавшая путь по берегу. Справа крутой склон, покрытый густым лесом, местами прерванным курумами. Слева и сзади в тесных берегах бесновались Огоджа и Курба. Дикое ущелье казалось совсем мрачным от спустившихся сумерек и туч, уже полностью закрывших даже низкие вершины сопок и стремившихся соединиться с волнами реки.
— Дальше идти нельзя. Надо ночевать, — решительно заявил Грязнов.
Тут же Вершинин начал рубить сухую лиственницу на костер. Место для ночлега выбрали под густой пихтой, почти не пропускавшей дождь. Когда сучья для костра были уже разложены, выяснилось, что поджигать его нечем. Заветная коробка спичек была мокра.
Наслушавшись рассказов о таежных драмах из-за отсутствия спичек и твердо усвоив, что в тайге самый важный предмет — спички, я всегда берег в полевой сумке коробку спичек, завернутую в бересту. Конечно, я сразу вспомнил об этом коробке и, преодолевая дрожь от холода, стал открывать сумку, предвкушая, как сейчас весело затрещит огонь, разольется тепло под пихтовой крышей и можно будет хоть немного оттаять, отдохнуть от утомительного дня.
Наконец сумка открыта.
— Вода!
Коробка вместе с берестой плавала приблизительно в средней части сумки, но еще полностью не промокла. Лихорадочно чиркая негнущимися пальцами спички, стараясь найти хотя бы миллиметр сухой поверхности терки, мы по очереди вырывали друг у друга коробку. Одна за другой отлетали головки спичек, а терка превращалась в отрепья. Испытанный способ сушки спичек в волосах ничего не давал: везде мокро, как в самой Огодже.
— Придется добывать огонь по способу австралийцев.
Срубили сухую лиственницу, вырубили два куска и начали тереть их один о другой до онемения пальцев. Дерево становилось горячим, но загораться и не собиралось.
Вместе с моросящим дождем начала срываться крупа. Ветер, смешиваясь с ревом реки, сквозняком свистел в ущелье. Темно — хоть глаз выколи.
— Видимо, австралийцы не из лиственницы огонь добывали, — констатировал Вершинин.
— Давай рубить деревья, иначе окоченеем, — предлагает Грязнов.
Топор переходил из рук в руки. Ожидающие топор продолжали тереть лиственничные куски, «сушили» спички и нет-нет, да чиркали, чтобы убедиться, что испорчена еще одна спичка. Уже всем было ясно, что эти спички зажечься не могут, и все же мы продолжали их чиркать о давно уже стертую терку, надеясь на чудо. Но чуда не произошло. Надежды отлетели вместе с последней спичечной головкой.
Одно спасение — рубить деревья. Но тело все сильнее сковывала смертельная усталость. Овладевало безразличие ко всему, кроме холода. Окоченевшие пальцы не гнутся, топор, делая неверные удары, того и смотри вырвется из рук. Конечно, за время рубки не успевали согреться. Совершенная тьма. Даже силуэтов сопок и деревьев не видно. Ревела Огоджа. Сыпался мелкий дождь пополам с крупой. Порывы ветра старались добить еле живой организм.
Ожидая своей очереди рубить, я стоял, опершись плечом о ствол ели, стараясь хоть немного спрятаться за ним от ветра, и уже не чувствовал своего тела…
Вдруг мне стало тепло. Я в Москве. Яркий солнечный день. Солнышко блестит в позолоте кремлевских шпилей. Весело звеня, трамвай спускается по Моховой к Манежу. В белом костюме я иду, размахивая полевой сумкой, к университету. Меня догоняет мой друг — физкультурник Долька Перельман. Странные привычки у этих физкультурников: им некуда девать избыток силы, и они стараются применять ее всюду. Он изо всей силы хлопает меня по плечу вместо приветствия и весело орет: «Здорово, Юрка! Юрка! Юрка, что с тобой?»
— Как что?
Я открываю глаза. Ничего не вижу. Кромешная тьма, но слышу, как ревет Огоджа, скрежеща валунами. Лежу навзничь. Лицо сечет крупа. Меня толкают все трое, трут лицо, руки, грудь.
Обнаружив, что пропускаю очередь греться топором и не отзываюсь на зов, товарищи в полной темноте нащупали меня и после значительных усилий вернули жизнь окоченевшему телу.
— Амба! — кричит Матюков. — Снимай с себя все! Раздевайтесь все догола.
Он хватает топор и с остервенением отрубает щепки от сухой лиственницы. Щепки раскладывает на гальке под той самой пихтой, облюбованной для Ночлега, близ кучи бревен и хвороста так и не зажженного костра.
Сначала показалось, что он помешался. Раздеваться догола, когда сыплет крупа и ледяной ветер продувает всякую одежду, кажется диким. Но в следующую минуту его мысль становится понятной.
Процесс раздевания кажется бесконечным. Пальцы не чувствовали одежды и тем более пуговиц. Наконец все раздеты, и опять пришлось удивиться — ничуть не стало холоднее.
Матюков сел на щепки спиной к стволу пихты и широко расставил ноги. Я поместился между его ног и плотно прижимаюсь спиной к его груди. Также спиной к моей груди прижался Вершинин, а к нему — Грязнов. Кое-как сделали из насыщенной водой одежды вроде крыши, кладя ее прямо на головы, а с боков она висела в виде занавесок. Прошло какое-то время, и мы начали ощущать свои тела. Тепло тела товарища потихоньку согревало кожу и проникало глубже. Однако полностью мы так и не согрелись. Никто из нас не понял, что было в ту ночь: бред или полудрема. Время от времени то тот, то другой поднимал висящий полог одежды, стараясь заметить наступление рассвета в непроглядной тьме.
Ручаюсь, что та в общем-то короткая августовская ночь на берегу Огоджи была самой длинной в моей жизни. Она была длиннее бесконечной ночи с одиннадцатого на двенадцатое января 1943 года, когда, лежа в снегу на берегу скованной льдом Невы, я ждал сигнала, чтобы поднять свою роту в атаку для прорыва блокады измученного Ленинграда. Она была длиннее и той январской ночи в 1945 году, когда меня выносили из боя, а затем везли шестьдесят километров по фронтовому бездорожью с раздробленной ногой к польскому городку Сендзишуву и я несколько раз терял сознание от нестерпимой боли и потери крови. Она была длиннее потому, что тогда впервые ко мне подошла смерть и я живо ощутил ее холод — первые впечатления всегда самые сильные. До сих пор зрительная память сохранила тот галечный полуостровок, равнодушные ели и буйствующую реку…
Много лет спустя на Чукотке, так же в августе, замерзли четыре исследователя — близко знакомые нам товарищи. Их нашли в разных местах недалеко друг от друга окоченевшими, в мокрой одежде. Они не догадались освободиться от этого холодильника, не согрели друг друга своими телами. Убийцей стала их мокрая одежда.
…Наконец из тьмы стали выступать поседевшие за ночь ели и обозначились контуры сопки на противоположной стороне реки. Наступал холодный рассвет.
Некоторое время мы сидели, не решаясь расстаться с нагретой нашим дыханием крышей. Наконец набравшись решимости, быстро выскочили и начали одеваться, с трудом попадая руками и ногами в складки слипшейся и местами обледеневшей одежды. От прикосновения к только что с таким трудом оттаявшему телу мокрой и холодной одежды болезненно сжимались мышцы. Это была жестокая пытка холодом. Кое-как натянув наконец все, мы молчком быстро стали карабкаться на крутую каменистую сопку и скоро очутились в облаках. Дождь перестал, но все мутное пространство вокруг было насыщено влагой и холодом. Крутой склон резко переходил в ровную, почти горизонтальную поверхность вершины, покрытую таежной гарью.
Гари в тайге бывают верховые, когда горят только кроны деревьев, а стволы остаются, как мрачные колонны без крыши; низовые, когда горят кусты и валежник; сплошные, при которых сгорает все, и на этих местах поселяется трава-вейник, иван-чай, осоки. Здесь гарь была низовая. Сгорели кусты, вместе с ними мох с тонкой торфяной подстилкой, прикрывавшей каменистый грунт и сильно щебнистую почву. Лишенные опоры и питательной базы, многие деревья засохли и попадали при первом же сильном ветре. Навалившись друг на друга, они создали что-то вроде баррикад, исключив всякую возможность движения по земле. Беспорядочно наваленные во всех направлениях стволы ощетинились острыми сучками, грозя воспользоваться малейшей оплошностью пешехода и разорвать его одежду вместе с кожей.
— Хождение по канатам под куполом цирка, — невесело пошутил Матюков.
Ему особенно трудно преодолевать этот хаос из-за ноющей ноги.
— Да, богатая практика. На старости лет, когда уже не смогу работать в тайге, — продолжил его мысль Вершинин, — подамся в цирк. После такой практики быть гимнастом сущие пустяки.
Балансируя по мокрым, скользким, нередко пружинящим стволам и Перепрыгивая с одного на другой, медленно двигались мы по гари. Туман был так густ, что в десяти шагах нельзя было отличить дерево от медведя. Впрочем, ни один уважающий себя и находящийся в полном разуме медведь, конечно, сюда бы не забрел — мы это знали и совершенно не опасались встречи с хозяином тайги. Нам деваться было некуда. Мы вынуждены были скакать по завалу. Ориентироваться в тумане да еще по гари невозможно. Вытаскивать часто компас было трудно и не хотелось из-за холода. Держать же его все время в окоченевших пальцах — значит лишиться этого единственного путеводителя на первом же прыжке. В общем на компас я почти не смотрел, и шли мы, казалось, по прямой, стремясь к северу, но, как только удавалось взглянуть на него, так неизбежно выяснялось, что идем почти на восток. Поворачивали, некоторое время шли на север, а еще некоторое время опять незаметно для себя уклонялись вправо.
Долго длилось путешествие. Ноги от напряжения и усталости дрожали. Прыжки были неверные, что еще больше выматывало остатки сил. Сесть было почти невозможно из-за холода, и поэтому отдыхали часто, но стоя. Опять потерялось чувство пространства и времени. Казалось, что прошли не менее пяти километров, а между тем в радиусе двух километров от Угольного Стана гари не было — значит, до Стана еще далеко.
— Что-то длинная эта гарь. Надо выходить к реке, — предложил я.
Все согласились и повернули в ту сторону, где теоретически протекала Огоджа. Гарь еще тянулась долго, но наконец поваленных деревьев стало меньше, началось мелколесье и заметный уклон к долине. Вскоре послышался шум реки.
Ущелья не было. Вдоль берегов мутного потока тянулся лиственничный лес с багульником по колено. Как ни трудно ходить по густой багульниковой сети, но для измученных гарью людей это было вроде отдыха.
— Ну, все! Теперь близко.
— Если бы не было тумана, пожалуй, были бы уже видны сопки близ Стана.
Однако время шло, и мы тоже шли, напрягая силы, как по сугробам, вытягивая ноги из цепкого багульника, а знакомые места не появлялись. У меня возникло сомнение. Долина была явно мельче, чем у Огоджи, а чем ниже по течению, тем она должна бы углубляться. Долина слишком узкая и мало разработана, но скал не было, что совсем не напоминало огоджинскую долину. Но с другой стороны, ширина русла и мощность потока были типично огоджинские. Пришлось вытащить компас. Когда я взглянул на стрелку, то не поверил своим глазам — река вместо положенного северного направления текла на юго-запад…
У меня подкосились ноги. Надежда на скорый отдых, тепло и миску супа лопнула как мыльный пузырь. Пытаясь сообразить, в чем дело, шел я, держа компас обеими руками, спотыкаясь и ничего не говоря товарищам. Я все надеялся, что это какой-то вираж реки, что вот там, за кустом, река повернет на свое северное направление. Но нет, она упрямо несла свои воды на запад, на юго-запад и за этим, и за следующим кустом. Мелькнула дикая мысль: неужели мы в тумане перевалили через водораздел в бассейн Бурей? Однако
не могли же мы, еле держащиеся на ногах, за неполный день пройти пятьдесят километров, которые отделяли район нашей съемки от водораздела!
— Ты чего это свой компас изучаешь? — заинтересовался Вершинин.
— Да понимаешь, что-нибудь одно из трех: или испортился компас, или мы на пороге открытия крупной магнитной аномалии, или это река не Огоджа.
— Брось шутить, — мрачно посоветовал Михаил Иванович.
Но, взглянув на компас, взял его, долго тряс, вертел во все стороны и вдруг заорал с диким выражением налившихся кровью глаз:
— Чего же ты раньше смотрел, так твою и эдак! Пропали теперь! — И он бросился бежать вверх на сопку.
Усомнившись в ясности его разума и видя по растерянным лицам рабочих, что они окончательно потеряли надежду остаться в живых, я собрал всю силу своего далеко не тихого голоса, придал ему максимальную повелительность и тоже гаркнул:
— Стой! Садись!!!
Окрик несколько отрезвил всех, погасив зародыш паники. Сели и, вытащив мокрый комок бумаги, ранее бывший картой, постарались найти свое местоположение. Как ни вертели раскисшую карту и компас, что ни думали, а так и не могли найти удовлетворительного объяснения, куда это нас занесла нелегкая.
Тем временем туман несколько приподнялся, и сквозь редкие его разрывы замелькали белесые просветы.
— Я дальше не пойду, — заявил Иосиф. — Если дойдете, то пришлите сюда Соловьева с оленями.
— Сейчас влезу на дерево, посмотрю— решил Вершинин.
— Надо идти вниз по реке, куда-нибудь придем, — предложил Грязнов.
Составить ясное представление о местности с дерева почти невозможно. Вершины сопок неожиданно возникали из быстробегущих серых туч и опять тонули в них. Их очертания были искажены и незнакомы. Мелькание вершин не только не создавало ясной картины местности, а, наоборот, сбивало с толку. Тем не менее Вершинин, имевший профессиональную натренированную зрительную память, вдруг глубокомысленно заявил со своей лиственницы:
— Местность вроде знакомая, но когда я тут был?
Последовала долгая пауза до следующего прорыва в облаках.
— Ребята! — вдруг закричал Вершинин, быстро съезжая с дерева, — мы тут ночевали!
Все, и в том числе Иосиф, сорвались с места и заспешили вниз. Пройдя несколько метров, мы увидели устье Курбы и полуостровок, который покинули утром. Таким образом больше половины дня потратив на изнурительный переход по гари и сделав большой круг, мы вернулись обратно, виной всему этому были холод и туман. И все же настроение поднялось.
— Теперь хоть знаем, где мы.
— Ну, теперь от реки — никуда.
Забравшись на сопку по той же каменистой осыпи, которую преодолели утром, мы пошли вдоль края скалы в густом мелколесьи, перемежающемся с участками гари.
— Опять эта чепура проклятая!
— Чепура бы еще ничего, а вот дождь с нее — это вредно.
Действительно, каждое прикосновение к кустам вызывало ливень.
— Попробую сойти вниз, может быть, там лучше, — сказал я.
— Хорошо. Если там скал нет — крикни, — согласился Вершинин.
Иосиф пошел за мной — с горы легче идти. Скал не было.
Я закричал:
— Давай сюда!
Но шум реки заглушил голос. В ответ тоже кричали, а что — не мог разобрать. Видя, что топографы на спускаются, мы через несколько минут вдвоем двинулись в путь. Он был непродолжительным. Вскоре его преградила очередная скала. От самой воды до верха скалу разбила расселина шириной в метр — полтора.
— Как? Влезем? — спросил я Иосифа.
— Влезем.
Первым полез он. Забыв одно из правил альпинистов — не лезть на скалу, пока не остановился впереди идущий, я начал взбираться следом за ним, упираясь ногами в одну, а спиной в другую стенку расселины и помогая себе руками. Уж очень холодно было стоять без движения. Перед самым верхом скалы расселина поворачивала влево под прямым углом. Когда я уже приближался к середине расселины, Иосиф скрылся за поворотом. Вдруг почти сразу послышался грохот и крик: «Камень!» Тут же из-за угла вылетел камень побольше головы, с силой стукнул в стенку расселины, отскочил и ударился в противоположную…
Часто бывает в момент смертельной опасности, мысль, как теперешние счетно-кибернетические машины, с удивительной последовательностью и логичностью произвела всесторонний расчет. Чтобы свалить меня с почти отвесной скалы, достаточно легонького толчка, а не только камня, способного раздробить голову или поломать ребра. Посмотрел вниз. Там острые камни и лютый поток Огоджи, только и ждущий, чтобы искромсать, истолочь, превратить в котлету. Кроме того, лететь туда около пятнадцати метров — и без Огоджи жизни лишишься. Разминуться с камнем в метровой расселине трудно, но можно. Нужно только сделать полшага вверх. Почему полшага? Не помню, чтобы это было рассчитанное, хотя бы глазомерно, расстояние. Скорее всего инстинкт подсказал эти полшага с математической точностью. Также не помню, чтобы при этом я торопился, — нет, просто были сделаны полшага, спина уперлась в стену, ноги в другую, а в следующее мгновение камень сильно ударился около уха повыше плеча, отскочил, ударился против носа, затем около кисти правой руки и полетел дальше зигзагами, отскакивая от стенок расселины. По рукам и лицу больно застучала свита обломка — мелкие камешки и дресва. Проводив глазами камень и его спутников, пока они не скрылись в воде, я быстро проскочил остаток щели.
— В другой раз осторожнее надо с камнями, — вскользь заметил я Иосифу.
Что еще можно было сказать, когда сам виноват? Веками стоящие горы и тайга не терпят поспешности и жестоко на-называют нарушителей. Впрочем, камень в тесной расселине не произвел заметного впечатления на усталое сознание.
Дальнейшее движение шло, может быть, немногим быстрее ползущей улитки. Усталость, голод, бессонная ночь, а главное противный холод мокрой одежды быстро съедали остатки физических сил. Багульник, на который в обычное время не обращалось большого внимания, сделался почти непреодолимым препятствием. Он схватывал ноги и цепко держал их. Особенно было плохо Иосифу — его раненая нога распухла. Нас передвигала уже не физическая сила и даже не воля, а, очевидно, привычка к ходьбе. Мы просто механически переставляли ноги, останавливаясь в изнеможении через пятьдесят — шестьдесят шагов. Но ни стоять, ни тем более сидеть долго мы не могли из-за цепенящего холода. Одна минута — и мы начинали переставлять ноги дальше. Казалось, что поход никогда не кончится. Мысли тащились в темпе ходьбы и только в одном направлении. Настанет ли момент, когда мы переступим порог избушки и можно будет стянуть с себя все мокрое? Придется ли когда-нибудь сесть, хотя бы у костра, и съесть миску горячего супа?
Именно тогда я узнал, какова высочайшая цена хотя бы пусть рваной, но сухой одежды и одной-единственной тарелки горячего супа или кружки чая. Все, что было пережито до этого, отодвинулось в невероятную даль, потускнело и утратило всякий смысл, казалось мелким и ничтожным.
Тем временем на дальневосточную тайгу спускалась темнота. Если в прошлую ночь было нас четверо, то теперь два человека имели в несколько раз меньше запасов тепловой энергии, даже нет топора, унесенного Грязновым. Снова начался мелкий дождь. Снова в глазах поплыла серая муть, а силуэты деревьев начали сливаться в общую черную массу. Появилась апатия. Мозг был занят только руководством перестановки ног.
И вот когда сознание готово было потемнеть точно так же, как потемнела тайга, что-то блеснуло.
— Ты видел? — закричал я.
— Огонь!
Где-то далеко-далеко, еле-еле пробившись сквозь качающиеся кусты, мелькнул и померк огонек. Через несколько шагов он робко проник в таежную темень.
— Огонь! Угольный Стан!
Человек может долго прожить, много пережить всяких встрясок и все же вряд ли до конца познает и исчерпает свои возможности. В этом, наверное, заключена сила жизни. За минуту до вспышки огонька еле волочившие разбитые ноги и падавшие от усталости люди, не мечтавшие о возможности пройти еще хотя бы один километр, вдруг сорвались и побежали, как малые ребятишки. Мы перепрыгивали через упавшие деревья, делали скачки из багульника, из которого только что не могли вытянуть ногу. Кусты мелькали по бокам и никак не могли затормозить бега, они лишь, казалось, ласково ударяли по ногам и совсем незлобно царапали лицо.
Вот и поселок.
— Иосиф, растопляй печку, а я на склад за продуктами. На складе начальник партии, радист, завхоз надевали чуни и плащи, делали носилки, зажигали «летучие мыши».
— Добрый вечер! — жизнерадостно приветствовал их я.
— Здравствуйте, — удивленно произнес начальник. — Вы? Один? Оставили Матюкова?
— Нет, зачем же, мы пришли вместе.
У меня и мысли не появлялось, что можно было оставить Иосифа одного в тайге, и вопрос начальника немного обидел.
— А Вершинин сказал, что вы остались на берегу и просили его скорее идти на базу. Они только что пришли, и вот мы собираемся за вами.
— Ерунда! Мы здесь. Это он не понял из-за шума воды. Давайте хлеба, консервов, чаю и спирту.
— Да все уже приготовлено у Соловьева и Вершинина. Сходите сначала в баню. Соловьев ее с утра топит. Вершинин уже пошел.
Наверняка нет ничего приятнее, чем после двух таких прохладных дней попасть в хорошо вытопленную баню с раскаленными камнями вместо печки. Мы хлестали друг друга березовыми вениками и чувствовали, как все суставы, даже пальцы приобретают гибкость.
После бани Соловьев увел Матюкова к себе в натопленную избушку, а я пошел в семейный дом к Вершинину.
И опять показалось, что нет ничего приятнее, чем сидеть в бревенчатой, низенькой хижине, пусть с протекающей крышей, но зато с весело гудящей железной печуркой, щедро разливающей тепло. Нет ничего приятнее съесть котелок горячего супа с тушенкой. На столе стоит свеча, в теле тепло, в голове приятный шумок, и весь наш поход начинает представляться в юмористическом духе.
— А помнишь, как ты крикнул: «Садись!»? Я подумал, что ты убьешь меня, если не сяду, — смеется Вершинин.
— Да. А я сегодня в Москве побывал. Там намного теплее, чем здесь.
Я смеялся, раскачиваясь на самодельном стуле, опершись на его спинку. На стуле висела совершенно мокрая гимнастерка Вершинина, и что-то в ее кармане неудобно упиралось мне в спину.
— Что это там у тебя? Вынь-ка.
Вершинин полез в карман и вытащил тоненькую железную коробочку, в которых обычно продают патефонные иголки. Когда коробочка оказалась в его руках, лицо его выразило крайнюю растерянность и покрылось испариной. Он попытался быстро переложить коробочку в брючный карман.
Это меня навело на мысль, что топограф нашел алмазы и не хочет поделиться своим открытием с товарищами.
— Нет, стой, дай-ка сюда.
Я почти вырвал у него коробочку и, открыв искусно пригнанную крышку, увидел десяток спичек и выломанную из спичечной коробки терку. Машинально чиркнул спичку о терку. Она без труда загорелась. Спички были абсолютно сухие…
— Это НЗ… я забыл… еще в Новосибирске мать в карман положила, — бормотал Вершинин.
Последовала немая сцена, во время которой я наливался яростью.
Медленно я закрыл крышку и положил коробочку на стол.
— Благодари свою жену, что она здесь, — сказал я вибрирующим голосом. — За такую сверхрассеянность в хорошем обществе канделябрами бьют.
Это последнее потрясение окончательно доконало меня. И в сильном расстройстве, кое-как добравшись до своей избушки, я уснул мертвецким сном.
Прошло много лет. Участвуя в обороне блокированного Ленинграда, я много раз мечтал о миске супа и корке хлеба, но ни разу не было столь острых переживаний, такого ощущения, как там, на Огодже. В Ленинград я попал уже умудренным опытом и переносил блокаду, наверное, легче многих.
Отгремела Отечественная война. Много воды и валунов унесла с тех пор Огоджа. От Угольного Стана осталось одно название на нашей сильно постаревшей карте. Нет теперь Стана! Нет того продовольственного склада, который спасал нас от гибели. Нет и дымной бани, топившейся по-черному, но сохранившей нам здоровье. Растащили куда-то бревенчатые избушки. Не позволила Огоджа вывозить ее уголь — свою собственность…
Как будто сузилась с тех пор широкая падь. Вместо худых, беспорядочно разбросанных избушек над тайгой возвышается корпус мощной тепловой электростанции, а на склонах пади прочно осели аккуратные домики рабочего поселка Огоджа. Не нужно теперь спичек, чтобы разжигать железные печурки или топить баню: повернул выключатель— и квартира наполняется теплом электрических печек, поворот крана — и ванна наполняется горячей водой.
Вместо робко намеченной тропки тайгу уверенно разрезала просека с линией высокого напряжения. И никакие муссонные дожди не в состоянии помешать непрерывному потоку энергии огоджинского угля на прииски и рудники, густо покрывшие туранские кручи.
Просеки с линиями электропередач проектировали по нашей уточненной карте, а не по той, составленной по расспросным данным, которой трудно было пользоваться даже для простой ориентировки в тайге.
Шапка крупы

Июнь застал нас на дальнем краю Родины.
Дальневосточная весна была в зените. Экспедиционный катер с полевым оборудованием и четырьмя географами, дрожа от напряжения, еле преодолевал своими девятью десятками лошадиных сил встречное течение Зеи. А когда повернули в ее приток Селемджу, пошли и вовсе медленно. В низовье этой немаленькой реки снег уже сошел с лугов, болот и полей, но дикие хребты, вздымавшиеся за сотни километров в ее верховье, еще были покрыты снежными шапками, и, постепенно тая там, снег не позволял быстро спадать полой воде. Разгулявшееся половодье уносило кучи прошлогодних листьев и хвои, куски торфа с бурой травой, обломки льда разрушенных водой наледей, иногда плыли и вывороченные с корнем деревья. Река весело смывала остатки отмершего и неустойчивого, освобождая место новой жизни, но нас она не очень-то хотела допускать в свое верховье. Выбирая в русле наиболее тихие места, старшина прижимал катер к тому месту, где была затоплена бровка поймы. Вода залила огромные пространства Зейско-Буреинской низменности, но из воды над пойменной бровкой белыми барьерами поднимались верхушки цветущих кустов черемухи. Вся километровая ширина реки была наполнена черемуховым благоуханием. Когда мы приставали к этому барьеру на ночь, то аромат черемухи выгонял с катера бензиновый запах.
Через несколько дней измученный катер достиг поселка Селемджинск, где расположилась база топографической партии, в которой мы работали. Выше по реке начинались горы, мелкие перекаты, течение убыстрялось, и катер дальше идти не мог. Кроме того, два географа — Сергей Воскресенский и Лида Лебедева уже приехали и именно отсюда должны были начать свои исследования. До района работ отряда Нади Сеютовой оставалось около сотни, а до моего около двухсот километров.
От Селемджинска до Стойбы было восемьдесят три километра. Там мы должны взять оленей и проводников и разойтись в разные стороны горной и болотистой тайги.
Под вечер следующего дня трехтонный ЗИС, нагруженный экспедиционным оборудованием, материалами и продуктами не только для наших, но и для топографических отрядов, базировавшихся в СТойбе, остановился на ее окраине.
Стойба по здешним местам поселок громадный. Он служил перевалочной базой с воды на колеса тресту «Амурзолото». По берегу Селемджи вытянулись продовольственные и товарные склады. В центре поселка автобаза чуть не на сотню грузовиков, авторемонтные мастерские, магазины, столовая, почта, клуб. На окраине кирпичный завод. В трех километрах вблизи автотракта наша аэрогеодезическая экспедиция расчистила место для посадочной площадки своих «королей» воздуха, и сюда в этот год стали впервые садиться двухместные У-2. Впоследствии размеры посадочной площадки постепенно росли и в конце концов получился нормальный аэродром, что еще больше повысило значение Стойбы в округе.
Со всех концов Советского Союза собрались в Стойбу русские и украинцы — они в основном работали на автотранспорте.
На противоположной стороне Селемджи, как бы вытряхнутые из дремучей тайги, белели новенькие домики таежных охотников и оленеводов — эвенков и якутов. Этот поселок и был собственно Стойбой, возводимой на месте прежнего зимнего становища кочевавших эвенков. Когда в тайгу проникли автомашины, возникла Новая Стойба и обогнала в своем развитии старую, которую стали называть Стойбой Якутской. Именно туда лежал наш путь. Там были олени и оленеводы — знатоки тайги. Однако уже вечерело и переправляться с грузом на другую сторону бурной реки было поздно. Кроме того, наш шофер спешил в обратный путь. Якутская же Стойба была еще поселком неблагоустроенным. Эвенки переживали первый год перехода от кочевого образа жизни на оседлый — шла революция в быту. Процесс этот протекал не всегда гладко. Всю жизнь проведшие в чумах и палатках охотники понятия не имели, как строятся дома. Их рубили жители Новой Стойбы.
Чистенькие, с затейливыми балкончиками, русскими печами, лавками и стульями домики отдавались безвозмездно таежным жителям, но были совершенно непривычны и совершенно неудобны для них. В самом деле, каждый раз, входя и выходя, нужно было закрывать дверь. Вместо того чтобы садиться прямо на землю, требовалось сидеть на стульях, нельзя было разводить костер в доме. В первое время владельцы домов складывали в них шкуры, а сами жили рядом в чумах и палатках. Но приехал председатель наслега и сказал, что надо жить в деревянных домах, что их для этого и строили. Пришлось переселяться. Переселение каждый понимал по-своему. Один охотник вошел в дом вместе со своим чумом и поставил его среди комнаты. Это тоже было неудобно. Шесты нельзя было воткнуть в пол: они разъезжались на его гладкой поверхности; их необходимо связывать не только вверху, но и за нижние концы. Пришлось также таскать плоские камни для очага — без них загорелся бы пол. Вне чума оставались углы комнаты. Они были использованы под отбросы. Подобные анекдотические случаи сплошь и рядом сопровождали переход кочевников к оседлости.
Наша машина стояла около крайнего домика Новой Стойбы. По его облику видно, что он совсем недавно отвоевал строительную площадку у тайги. Ограда из поставленных вертикально ольховых прутьев отделяла участок от дороги, а тыловая часть участка упиралась в уже поредевшую, но все же настоящую тайгу. Часть участка использовали под огород — картофель, капусту, огурцы. Среди огорода кое-где сохранились невыкорчеванные пни. Перед фасадом к цветущему таежному кустарнику, даурскому рододендрону, посадили мальву и пионы, и это отгораживало окна от пыльного тракта. В небольшом сарайчике хрюкала свинья, а вокруг бродили куры, заходили в таежные густые кусты, из которых торчали останцы гранитных скал в виде причудливых столбов. Дальше по улице было еще несколько таких же новеньких домиков, вклинившихся в тайгу. Стойба росла.
В доме три небольших комнатки и словоохотливая хозяйка.
— Здравствуйте. Мы экспедиция. Не поместите ли нас у себя на два-три дня?
— Да живите хоть все время, мне веселее будет. Недавно дочь замуж выдали — на прииске Лукачек теперь живет. Сын меньше года как из армии вернулся. Сейчас в рейсе — шофером работает. А муж — слесарь на автобазе. Лето — время горячее, все машины по тайге гоняют, людей не хватает, вот он по две смены работает. Да ведь и деньги нужны, поизносились, пока дом-то строили, да еще свадьбу недавно сыграли.
Своим имуществом мы завалили одну комнату и, отпустив шофера, пошли в центр поселка в столовую. Идти до нее больше километра. Столовая с небольшими перерывами работала круглые сутки. Она обслуживала шоферов, проезжих и поселковых жителей, главным образом служащих.
Вернувшись уже затемно, мы улеглись и вскоре уснули безмятежным сном, не обратив внимания на то, что в доме никого не было.
Утро застало нас тоже совершенно одних. Хозяев не было ни на огороде, ни в сарайчике, ни у соседей, и те ничего не могли сообщить о местонахождении хозяйки, а хозяин, известно, на работе. Хозяйка, видимо, в магазин пошла.
Ждем час, ждем два, ее нет, а есть хочется. Стали искать замок.
— Вот запрем и уйдем, пусть-ка нас тогда подождут, — в сердцах говорю я.
Но, сделав подробный обыск всего немудреного имущества и не обнаружив замка, мы решили изменить тактику.
— Давай обедать по очереди. Не бросать же имущество без присмотра.
Сначала в столовую идет Надя, я охраняю дом. Потом иду завтрако-обедать я, она становится сторожем.
— Ну, это уже ерунда получается. Выходит, вместо работы в тайге мы в сторожа стойбинские попали.
— Сторожа-то сторожа, это бы еще полбеды, а вдруг кто хозяйку убил или задавили да в кусты выбросили.
Становилось жутковато. Мы даже не пошли ужинать и сидели на пороге, дожидаясь хоть кого-нибудь.
Часов в одиннадцать вечера к калитке подошел человек. По его уверенным действиям мы почувствовали хозяина. Его мы еще не видели.
— С вашей женой что-то случилось. Целый день дома нет.
— Ничего не случилось. Вчера вечером шофер с Лукача передал, что дочь просила приехать, по хозяйству помочь. Вот она в ночь и уехала. Вас дома не было.
— Как же это вы уходите, уезжаете за тридевять земель, дома оставляете незнакомых людей. А вдруг они уйдут и дом без присмотра оставят. Ни замка, ни записки не оставили.
— А-а, — засмеялся хозяин. — Я ведь забыл, что вы, москвичи, народ подозрительный. Замков-то у нас и нет. Четвертый год здесь живем, их ни разу в кооперацию не привозили. Во всей Стойбе, наверное, всего два замка — на складе да на магазине, и то специально откуда-то привезли. Да и не нужны они здесь. Никто не балует. Не заведено у нас воровство. Вы не беспокойтесь, езжайте куда надо, все будет цело.
— Как же так? Ведь дорога под окнами. Мало кто тут уезжает, приезжает.
— Что из этого? Ну возьмет он у меня сундук, а куда он денется? В тайгу не пойдет — с голоду подохнет, а дорога здесь одна, всем видно, да и шоферы всех знают. У нас туг прошлый год лодку угнали. Сразу позвонили в Селемджинск. Пока они туда доплыли, их уже встречали. Задержали, а лодку велели обратно самим отогнать. Так они неделю вверх-то по реке ее гнали. С тех пор ничего брать чужого не будут. А попробуй у якута украсть, так тот очень обыкновенно убить может — у них воровство самым большим грехом считается.
В общем вы не опасайтесь. Куда нужно — идите, езжайте, я за ваши вещи отвечаю, раз вы у меня остановились. Может, чего надо постирать, помыть, так хозяйка завтра приедет — отдайте ей, хозяйство у нас небольшое, дел-то особых нет. Это вот когда ягоды да грибы пойдут, ну тогда она все по тайге. Любительница даровое собирать.
Как ни убедительно и логично говорил хозяин, но мы все же на следующий день решили проверить его и справиться у официальных лиц. Скрепя сердце оставив свое временное жилище и завязав проволокой щеколду двери, чтобы не вдруг открыть ее можно было, пошли в центр по разным Делам.
— Точно, — ответил нам завмаг на наш вопрос о замках, — замков в магазине ни разу не было, никто не покупает. Вот только на складах, на магазинах замки и есть, да и то для формальности — так уж повелось. Не воруют у нас. Все прилично живут.
— Ну уж если завмаг говорит, что никто не ворует, значит, правда.
Поехали в Якутскую Стойбу. Нашу лодку вышли встречать несколько человек. Не успели мы выйти из лодки, как один подошел и обратился ко мне. Говорил по-русски он плохо, выговаривая вместо Ш — С, а вместо Ч — Т.
— Твоя натяльник эспедиции?
— Да.
— Мне твоя должна сапка крупы, два плитка чай, два комок сахара.
— Почему же это я тебе должен? — удивился я.
— Не. Твоя должна нет, мине должна!
— Ты мне, насколько помнится тоже ничего не должен. Я же первый раз вижу тебя, — недоумевал я.
— Не, мине должна, — стукнул он кулаком себя в грудь. — Мине тайга три луна ходи, продукта нету, один мясо кусай. Мине твоя лабаз версына Бысю ходи. Сапка крупа, два плитка чай, два комок сахар возьми, исе соболь бей. Как мине отдавай? Ситяс бери.
Наконец я понял, в чем дело. В эти труднодоступные места можно проникнуть только на оленях или по рекам на легких лодках-оморочках. Лошади ни зимой, ни летом не могут пройти по снегу или каменистым осыпям, тем более по топям бесконечных морей. В район нашего обследования нельзя добраться на оморочке. Единственная проходимая для них речка Бысса лишь входила в район своим узким и порожистым истоком (вершиной), непригодным для плавания. Летом вьюком на слабосильных оленях тоже много не довезешь: тридцать два килограмма — оленья норма. А вот зимой на нартах олень поднимает раз в шесть-семь больше. Поэтому наши хозяйственники завезли потребное количество продуктов зимой на нартах. Они сделали лабаз на высоко спиленных деревьях, чтобы ни росомахи, ни медведи не достали, и, оставив там продукты, отметили место лабаза на аэрофотоснимках. У встретившего меня эвенка охота, видимо, шла удачно, и ему не хотелось возвращаться с Стойбу за продуктами, теряя сезон. Легко найдя лабаз приезжавших, он взял из него незначительное количество продуктов. И кто бы мог заметить недостачу двух-трех килограммов из тонны крупы или двух кусков пиленого сахара из двух мешков?
— Зачем ты мне сказал? — спросили. — Продуктов там много…
— Как его можно возьми? — возмутился он. — Тайга сибко плохой стука! Твоя тайга ходи, работай тайга ходи, кусай многа нада. Кусай нету — твоя пропадай, работа пропадай. Мине слысал, твоя Селемджинск ходи, сразу продукта покупай. Бери, позалста.
— Да зачем мне? Мне и так хватит продуктов. Спасибо, что сказал.
— Зачем твоя спасиба? — удивился эвенк. — Мине спа-сиба говори. Иди бери продукта.
— Сейчас не возьму. Некуда мне их девать, и шапки нету.
— Тада мине твоя работай ходи. Мине тайга сипко ха-расо знай. Мине олень крепкий, твоя манатка таскай.
— Это пойдет. Как раз мне хороший проводник нужен. А как ты узнал, что мы в Селемджинск приехали?
— Как его не знай? Софер езди; разный люди ходи, все его говори.
— А почему думал, что мы сюда придем? Зачем продукты покупал?
— Где твоя ходи? Проводник тут, олень тут, твоя лабаз версына Бысю ходи. Сибко далеко. Как твоя манатка таскай? Другой место ходи не могу.
Действительно, в тайге не спрячешься, подумал я. О тебе за неделю до приезда все знают, и знают, где пойдешь и что делать будешь, и даже знают, что думаешь, — где тут воровать?
Никак не предполагал, что Дереу Узала не единственный в нашем отечестве. Красота природы сочеталась с красотой человека, вселяла радость жизни, уверенность и в себе, и в благополучном исходе тяжелых таежных походов, работалось с подъемом. Таежники Дальнего Востока и Восточной Сибири исключительно честны. Суровой тайге противна нечестность. Каждый просчет или обман нередко приводит к гибели, и это хорошо усвоили все таежники. Люди здесь честны не из-за страха перед наказанием или местью, а потому, что уж очень легко каждому попасть здесь в трудное положение, и поэтому не отягощают судьбу другого, чтобы не ждать от него того же. Люди честны от природы и установившихся веками правил.
А веками ли? Это понятно для аборигенов. А как быть с Новой Стойбой, где только четыре-пять лет образовалось разнообразное общество? И наверняка некоторые приехали сюда «за длинным рублем». Ведь легенда о «бешеных деньгах» Дальнего Востока в то время распространилась очень широко. Сюда попадали и любители легкой наживы. Но видимо, и на новую Стойбу, и на многих таких готовых поживиться за чужой счет действовала окружающая среда, точно так же вытесняя дурные привычки, кв к аромат черемухи вытеснял запах бензина с нашего катера…
Впрочем, не только окружающая среда, но и половодье того нового, что сметает старое для новой жизни, имеет не последнее значение. Обеспеченность приисковых и рудничных рабочих, рыбаков, таежных охотников и оленеводов стала у нас повсеместной, а бесполезность всего лишнего, большего, чем нужно для непосредственного потребления и запасаемого на черный день, уже все очевиднее отходит в область прошлого.
Со времени эпизода с шапкой крупы минуло тридцать пять лет. Многие неизведанные тогда места Сибири и Дальнего Востока, где мы, студенты, были первыми исследователями, на моих глазах превратились в крупнейшие индустриальные районы: золотая Колыма, полиметаллический западный край гор Путорана, алмазная Западная Якутия, бокситово-железорудное Приангарье, угольная Зырянка и Южная Якутия, нефтяной тюменский север вписали славные страницы в историю нашей Родины. Глухомань тайги, гор и болот располосовали тысячекилометровые автотрассы и железные дороги. Поднялись красавцы города — Магадан, Норильск, Мирный, Ангарск, Братск, Билибин, Чернышевск… Невиданные плотины преградили, казалось, неукротимые потоки огромных рек, заставив их неиссякаемую энергию служить освоению щедрой сибирской земли: Ангара, Мама, Енисей, Вилюй, Хантайка, Зея… Только городское население, пришлое с запада страны, превысило население азиатских аборигенов эвенков, ненцев, долган, юкагиров. И только таежный закон взаимовыручки, честности и неприкосновенности того, что положено не тобой, остался незыблемым среди гор и тайги.
За двадцать три своих экспедиции в эти края мы не боялись оставлять без замков и охраны продукты, одежду, оружие, снаряжение не только в безлюдных местах, но и там, где кочевали с оленьими стадами якуты, охотились эвенки, рыбачили на реках и озерах русские, где геодезисты строили свои триангуляционные вышки, а геологи оконтуривали клады недр. До двадцать четвертой экспедиции 1971 года я ни разу не обманывался в своей уверенности, что все оставленное в таежных горах Сибири будет в целости и сохранности. Но…
Из одного старейшего вуза страны в наш институт на Байкале прислали на производственную практику двух студентов. В первый же день они продемонстрировали свою силу и ловкость. Вечером, когда молодежь сформировала две футбольные команды, эти двое выделялись в них не только своим высоким ростом и неутомимостью, но и сквернословным хвастовством.
— Эх ты, мазила! Вот как надо!
— Разве тут можно увидеть хороших футболистов? Вот наш факультет!..
— Мы вам покажем класс!..
Но ведь это игра, а в работе, может быть, они и не так плохи? — думали некоторые.
На следующее утро они обратились с просьбой послать их в один отряд. Полевые отряды у нас были небольшие, и по нескольку студентов их специальности вместе, как правило, не посылались. Им сделали исключение — трогательная дружба всегда вселяет надежду на успех в работе.
Когда им объявили, что они направляются вместе в Путоранскую экспедицию, их лица недовольно вытянулись.
— А нельзя ли остаться на Байкале?
— Нет, в байкальские экспедиции мы стараемся посылать девушек. Здесь легко, много населенных пунктов, прекрасно оборудованный флот. Да вы не беспокойтесь. Ваш отряд возглавляет опытнейшая начальница В. А., и вы получите всестороннюю практику. Кроме того, из географов в центральных частях Путорана вы будете почти первыми, а ведь лестно быть первоисследователями.
Про себя же я подумал: эх, если бы мне предложили поехать на первую практику в горы Путорана! Наверное, подпрыгнул бы от радости и считал себя на седьмом небе. Но тридцать пять лет назад никто и не знал таких слов: «горы Путорана». На всех картах этот район выделялся белым пятном вплоть до 1951 года. Только на самый малый западный их краешек проникли в то время геолог Н. Н. Урванцев, открывший норильское полиметаллическое месторождение, географ С. П. Суслов, изыскивавший трассу дороги к этому будущему городу, да ботаник Л. В. Шумилова, проводившая съемку оленьих пастбищ.
Плохой признак, если географы, да тем более такие хвастливые, не рады попасть в малоисследованные места. Шевельнулась мысль — а не отослать ли их обратно. Однако до этого никогда еще не приходилось встречать географов, которым бы не понравились экзотические места Заполярья с природой, почти не тронутой цивилизацией. Да и тот вуз, который послал их, славился отлично подготовленными и трудолюбивыми студентами. Авось (ох, это авось!) на месте воспитаются, тем более что начальница В. А. — воспитательница отличная. В свое время она прошла Карелию и Зею, Памир и Камчатку и справлялась не с такими.
В вихре предотъездных хлопот растворился неприятный осадок эпизодов с футболом и неудовлетворенностью этих парней местом практики. Экспедиция была относительно большая. Некоторые отряды ехали на круглогодичные исследования. Нужно было брать все — от иголки до моторных лодок и от геологического молотка до микроскопов и химических лабораторий, чтобы обеспечить жизнь и работу не только на короткое полярное лето, но и на длинную темную зиму. Нужно много достать, доделать, упаковать, отгрузить.
Каждый из отрядов снаряжался сообразно своей специальности: гидрологи, гидрохимики, гидробиологи, геоморфологи, геоботаники, диатомисты-донники, ихтиологи. Везде нужны и организаторские способности, и рабочие руки.
В смысле организаторских способностей оба этих парня были не промахи. Они быстро доставали упаковочный материал — прямо из-под рук у других вырывали. Им почему-то удавалось раньше других изготовить в мастерских и приспособления под приборы, и ящики нужных габаритов. Многие из начальников отрядов завидовали — будете, В. А., как за каменной стеной с этими шустрыми мальчиками!
Однако «каменная стена» на поверку оказалась не очень прочной. Уже при первой погрузке экспедиционного оборудования этих студентов не оказалось среди работающих. Какой-то, по их мнению, благовидный предлог они нашли и в Игарке, чтобы избежать «черной» работы: ведь они будущие инженеры или даже научные работники. Таскать ящики, да еще в гору — это ниже их квалификации. А что тюки и лодки таскают все другие члены экспедиции — от рабочих до начальника, то это их личное дело.
На озере Виви в центральной части Путорана водится деликатесная рыба — голец, сиг, ряпушка. Виви — озеро длинное, около девяноста километров с севера на юг. Рыбаки, которые заезжают сюда осенью почти на всю зиму, построили четыре зимовья, чтобы ездить от одного к другому и добывать рыбу. Ее время от времени вывозят на самолетах в Игарку. Отряд В. А. тоже ориентировался на эти зимовья — летом они не заняты. Зимой же здесь будет работать наш отряд ихтиологов, на это получено разрешение игарского рыбзавода.
Отряд высаживался около одного из зимовий на гидросамолете. Известно, что полярные летчики всегда спешат. Спешат воспользоваться полярным днем, хорошей погодой, выполнить планы перевозок. В Заполярье, да тем более в горах, где нет ни людей, ни радиостанции с радиомаяками, для малой авиации часто создаются рискованные ситуации. Сейчас тихо и ясно, а через час налетит вихрь, лягут облака на горы, долины забьет туман, а то еще и снегопад начнется— застряла «Аннушка» на каком-нибудь озере, а летчикам строго запрещается ночевать с самолетом вне аэропорта. Наши друзья, видимо, оценили это положение по-своему. Выскочили первыми из самолета и методично и обстоятельно начали исследовать пустынный берег и зимовье — они же впервые на этой земле. А в это время летчики и начальница вытаскивали из самолета продукты, лодку, спальные мешки. Когда все было выгружено и самолет приготовился взлетать, они вышли из зимовья и радостно сообщили, что в нем, оказывается, все есть: и продукты, и одежда, и печка, и дрова, и ружья, и даже транзисторный приемник. Зачем было столько везти своих вещей? Они искренне удивились, что это радостное сообщение отнюдь не обрадовало их начальницу.
— Продукты и оружие не трогать совсем. Если будете брать снасти, то тщательно очищать, сушить и класть на место. Дрова заготовить свои, а если возьмете в зимовье, то, уходя, положить больше, чем взяли. А сейчас свалите несколько лиственниц под вещи, чтобы тюки и ящики не лежали на сырой земле. Костер разожгите.
Слушать все это студентам было ужасно скучно. Они потряхивали ногами и отмахивались руками то ли от этих распоряжений, то ли от комаров, масса которых все увеличивалась.
Ох эти комары! Они здесь крупные, впиваются в кожу через две рубашки, хоть надевай штормовку в этакую-то жару. Заполярье, а термометр на зимовье показывает около тридцати градусов. Солнце круглые сутки не сходит с неба. Пекло! Кругом среди жесткого кустарника-ерника торчат чахлые лиственницы. Их ветки с набухшими почками и только кое-где пробивающейся весенней хвоей (хотя уже начало июля) никак не хотели загораться. Сухих веток около зимовья нет — давно пожгли. За ними надо идти далеко по мокрому кочковатому склону. А в зимовье сухие дрова… В общем не прошло и двух часов как костер начал разгораться. За это время начальница уже рассортировала груз, разложила по местам инструменты и продукты.
Дальше выяснилось, что ни один из двух студентов никогда самостоятельно ничего не готовил. У одного была любящая мама, а у другого кроме этого еще и жена. И вообще они мужчины, а приготовление пищи — дело женское. Пришлось начальнице кормить их ужином. А пока она после ужина грела воду и мыла посуду, мальчики спасались от комаров в зимовье. Оно было маленькое — максимум на двух человек с одной бревенчатой кроватью-топчаном. Пока В. А. управилась с женским делом, оба ее рыцаря мирно спали, умостившись вдвоем на кровати и милостиво предоставив ей для ночного отдыха давно не метеный, тоже бревенчатый, пол…
Для повествования о полевой практике этих студентов требуется вполне самостоятельный рассказ, который не хочется писать. Кратко, конспективно: эти юноши были совершенно не приспособлены не только к таежно-заполярным, но и к общежитейским условиям, трусливые, избалованные и самовлюбленные. Они совершенно серьезно полагали, что о ландшафтах гор Путорана и о происхождении озера Виви им все доподлинно известно. И вообще здесь в Заполярье настолько все одинаково однообразно, что незачем было и экспедицию снаряжать. Тем самым они еще раз подтвердили известную истину, что «самый образованный человек— это студент первого курса». Ведь только академики вроде И. П. Павлова могут сомневаться в своих знаниях — де, мол, «как я еще мало знаю!», студенты слушают соответствующие курсы лекций…
Такое отношение опять-таки настораживало. Если человек, окончив теоретическую часть уже третьего курса, уверен в безусловных своих знаниях, то, следовательно, он не был заинтересован в дальнейшем своем просвещении и остался на уровне первого курса.
В. А. после экспедиции очень огорчалась, что так и не сумела разубедить своих практикантов в их «глубоких и всесторонних» знаниях. Ее утешало только то, что, применив максимум стараний, дипломатии и терпения, она уже к середине полевого сезона научила их правильно заваривать чай, варить манную кашу и споласкивать хотя бы холодной водой из озера свои миски и кружки. Но искусства ощипывать уток и куропаток они постичь не успели и искренне считали серьезным усовершенствованием большую часть перьев на птице опаливать на костре. В. А. сетовала на слишком непродолжительное время: если бы охоту разрешили не с двенадцатого августа, а с первого июля, то ей бы удалось научить их и этому.
Заполярное лето стремительно пронеслось над Путораками. Еще не успели полностью стаять снежинки в верхней части склонов, обращенных к востоку, как уже в двадцатых числах августа начались новые заморозки. Они напомнили студентам о необходимости кончать производственную практику и возвращаться для пополнения теории в университете. Наши друзья уже давно соскучились по мамам и по городу и с нетерпением ждали прилета самолета, который бы приблизил их к местам обетованным. Ни очарование нетронутой природы, ни работа, ни тем более преодоление трудностей в раскрытии многих заполярных тайн и загадок не пробудили их интереса к будущей специальности. Не обращая внимания на предельную лаконичность своих полевых дневников, они валялись на спальных мешках в зимовье и подсчитывали, какую сумму должны получить за свои летние труды.
— Маловато платят полярникам в Академии — у геологов больше бы заработали!
— Да и много ли заработаешь за полтора заполярных месяца?..
Когда гидросамолет, сделав круг над зимовьем, заходил на приводнение, студенты со своими давно уложенными рюкзаками стояли на галечном бечевнике.
С этим самолетом прилетели два рабочих ихтиологического отряда, которые останутся на зимовку. Все снаряжение и спецодежду отъезжающий отряд оставил ихтиологам, чтобы не возить лишний раз грузы на дорогостоящих самолетах.
Виви волновалось. Холодный северный ветер срывал с серых волн брызги. Подходить к крупногалечному берегу без причала в такую погоду легкий самолет не мог — поплавки разобьются. Летчик сказал, чтобы перегрузку самолета сделать на лодке.
— Давай лодку! Самолет к берегу не подойдет! — закричали с борта водяной «Аннушки».
Вместо того чтобы погрузить в лодку рюкзаки, студенты схватили их и побежали в зимовье.
— Вот охламоны, — ворчал летчик. — Чего они там забыли? Ведь знали, что прилетим. Ведь видят, что погода портится. Вместо того чтобы сидеть зря, давно могли бы причал оборудовать.
— Давай скорей лодку, а то улетим без вас! — кричали с самолета.
Действительно, задерживаться долго было небезопасно. Волны били в поплавки, кантовали самолет, и он раскачивал крыльями.
В. А. бросила в лодку свой рюкзак и сама стала грести к ожидавшему самолету. Когда рабочие помогли ей причалить и взобраться на борт самолета, а затем сами погрузились в лодку и приплыли к берегу, студенты еще не выходили из зимовья. Они появились только тогда, когда рабочие почти выгнали их оттуда. Что бы все это значило? Наконец лодка со студентами подошла к пляшущему на волнах гидросамолету. Несмотря на строгое внушение летчика за необъяснимую никакой необходимостью проволочку, студенты были радостно возбуждены — наконец-то они покидали это ветреное озеро и пустынные места.
При расчете в Игарке их для порядка спросили: оставили ли они в зимовье спецодежду прибывшим рабочим? Получив вполне внятный утвердительный ответ, им выдали положенный заработок и авиабилет до места учебы.
Радиосвязи с зимовьем на Виви не было, и что там происходило, мы узнали значительно позже.
Прибывшие рабочие не обнаружили ватных костюмов и сапог в зимовье, а ведь их уверяли, что спецодежда будет. Через несколько дней самолет доставил рыбаков — хозяев зимовья. Рыбаки огорчились, не найдя заготовленных сухих дров. Они рассердились, когда увидели, что из их ружей стреляли, а
потом повесили нечищенными, и ружья заржавели. Наконец, они совсем возмутились, когда не нашли своих прорезиненных курток, без которых трудно обходиться во время непогоды на большом озере.
— На кой дьявол нам такие постояльцы! — закричали они на неповинных рабочих.
— Но мы-то ничего не трогали. Нам самим не оставили спецовки!
— Все вы тут друзья хорошие: студенты, научники! Валите отсюда подальше! — так и прогнали наших рабочих.
Они еле-еле выпросили разрешение поселиться до приезда начальства во втором зимовье за двадцать километров от первого.
Около двух недель рабочие мерзли без теплой одежды, пока не прилетел их начальник и не привез купленную за свой счет спецодежду. Потом отряду пришлось чуть ли не целый месяц строить свое зимовье, оторвав время от непосредственной задачи изучения озера.
Узнав об этих событиях, мы, конечно, послали шустрым студентам требование вернуть незаконно увезенные экспедиционные и рыбачьи вещи. Довольно быстро (они еще не стали бюрократами-волокитчиками) от них пришел вполне мотивированный отказ: «Вы не можете доказать, что перечисленные вещи взяли мы. На зимовьях не было замков, при выдаче спецодежды мы за нее не расписывались, а при отлете от нас ее никто не принимал».
Так и написали, и были, конечно, правы. Они решили возместить недостаток заработка натурой.
Крошки

Костер освещал ствол кедра метровой толщины и свесившиеся с его сучков седые бороды лишайников. Мы, успевшие отдохнуть от дневного перехода и приобрести благодушное настроение насытившихся людей, валялись на животах. Курящие курили, сосредоточенно переваривая ужин, а я записывал впечатления дня.
Экспедиционный рабочий Федоров, парнишка лет пятнадцати, бросив окурок в огонь, приподнялся на колени и намеревался стряхнуть плащ, усеянный крошками хлеба, успевшего засохнуть и сильно истолочься в мягких вьюках за десятидневный таежный маршрут. В тайге все вещи приобретают универсальные качества. Кроме своего прямого назначения плащ служил нам скатертью на столе обомшелой земли, а сейчас должен был стать постелью Федорову.
— Кого делаешь? Не шевель! — приказал Петр Захаров.
Он был старше всех нас, работал проводником и старшим рабочим, а в прошлом — красный партизан, бившийся за Советскую власть в Забайкалье. Он отлично понимал тайгу, знал приметы погоды и повадки зверей и, конечно, был самым авторитетным, если дело касалось охоты, выбора места лагеря и всяких практических мероприятий.
— А чо, дядя Петро?
— А ничо. Ты чуешь, сколь еще дён кочевать будем? Не чуешь и не могёшь. Тут те тайга — не Катангар. А если еще месяц? Кого жрать будешь. Без хлеба никого не наработаешь.
— Да ведь крошки же!
— Ха, крошки! Ишшо мало ученай.
И бережно собрав с плаща все крошки, он ссыпал их в мешочек для образцов и положил в тулун (кожаный мешок).
— Крошки! А крошки што — не хлеб? Ишшо до революции мой отец лесиной надорвался, тады мне, как те, неполных пятнадцать было. А тут осень — белковье наступает. Покряхтел, покряхтел отец и гутарит: «Однако, паря Петька, мне мочи нет. Тебе одному итить белковать ноне. Без пушнины пропадем».
Я-то самый старшой, а ить ишшо четверо ртов мене меня в избе. Ты, гутарит, хотя парень бравый, а однако один в хребтах не кочевал, много пушнины не приволокёшь. Ну я не спрошу, сколь добудешь, то и ладно. Однако чего спрошу — гостинца из тайги. Во те торбочка, как будешь исть, крошки от хлеба ли, от каши не бросай, собирай в торбочку и мне приволоки. Гляди, штоб ни одной не пропало.
Отец наш сурьезный был. Скажет однова, не послу хаешь — выпорет.
Набрал я хлеба на месяц и пошел. Попервоначалу не шла белка. И уж хлеб приедать почал, а она, язва, не идет и не идет. Ужо к концу месяца напал на место — и белка, и лиса, и соболь. Я уж почти одно мясо ел, хлеб скономил. Мало не два месяца в тайге, весь хлеб кончал, дня три без хлеба, а крошек фунтов шесть берег — охоту бросать жалко — больно зверь баско шел. Однако вижу не выдюжить, одно мясо без хлеба шибко муторно жрать. Думаю, пущай выпорет, зато пушнины принесу, семью обеспечу. Ишшо на крошках дён десят жил, и тут зверь, ну прямо, сбесился: идет, обдирать не успевал. Все до одной крошки кончал, огладал, аж шатаюсь, а добыл больше, чем с батей вдвоем за прошлый год. Всю пушнину не поднял — на лабазе больше половины осталось. Иду домой, думаю: ну, порки не миновать — крошки-то поел. Пришел, даю отцу соболей, говорю: белку-то, мол, не поднял, на лабазе оставил, иттить обратно надоть, а вот крошки-то, батя, не сберег, пожрал — две недели на них жил, больно белка добро шла, вертаться не хотел — ить спугнешь.
А отец и говорит: ладно. Был бы охотник да белка, а крошек и в Катангаре достанем, а в тайге-то и крошек не найдешь.
Жизнь охотника научила бережно относиться к крошкам в тайге, и он знал им истинную цену.
Наше положение было похоже на рассказанное. Работы еще было много, а хлеб кончался. Идти за ним в село — значит, потерять несколько дорогих суток в то время как стояли погожие дни. Захаров не только по привычке собирал крошки, но и воспитывал бережливость и осмотрительность у молодых рабочих.
К месту и к делу рассказанная притча о крошках запомнилась на всю жизнь, и, чего греха таить, не раз случалось на практике убеждаться в охотничьей мудрости…
Вершины сопок юго-западной части хребта Турана — это камни и густые заросли кедрового стланика, непреодолимые для оленей и лошадей, да и для пешехода весьма трудные. Нижние части склонов пологие и сплошь покрыты марями. Лошадь по марям не ходок. По крутым склонам спускаются шлейфы курумов, тут уж ни лошадь, ни олень не пройдет — нужно обходить. Плыть тоже нельзя ни на плоту, ни на оморочке. Все речки только здесь и начинаются. Это сплошные каменные глыбы, среди которых шумит, извиваясь, ручей. Да и для оленей, и для лошадей не вдруг найдешь корм в этих сырых и каменистых местах. Поэтому отряд географа Нади Сеютовой, которой достался такой райончик в четырехстах километрах от первого населенного пункта, был не совсем обычный. Для транспортировки инструментов, лагерного оборудования и минимума продуктов были наняты рабочие-носильщики. Само собой, подобраны ребята самые здоровые, рослые, мускулистые. И вот девушка среднего роста, не слишком сильная, только что со студенческой скамьи оказалась начальником и повелителем одиннадцати молодых людей гвардейского сложения и весьма по-разному воспитанных и настроенных. По крайней мере половина их были судимы.
Принять такую команду и отправиться в богом забытый район Надю не заставляли в порядке трудовой дисциплины. Наоборот, начальник партии и даже начальник экспедиции отговаривали ее от такого решения.
Экспедиция была большая и по тем временам богатая. Больше полтысячи разных сотрудников работали в ее составе. Три с лишним десятка съемочных полевых отрядов, почти десяток отрядов строителей геодезических знаков, геодезисты, топографы, географы, целый флот катеров, лодок и оморочек с соответствующими командами курсировали, обслуживая полевые отряды, по Зее, Селемдже и Бурее с их бесчисленными притоками. На трех аэродромах базировалась летная группа с тяжелыми съемочными и легкими оперативными самолетами, со штатом летчиков, аэрофотосъемщиков, фотограмметристов, фотолаборантов. Наконец, масса проводников-оленеводов и коноводов, радистов, хозяйственников, начальников таежных баз с продовольствием, спецодеждой, экспедиционным оборудованием и инструментами. Конечно, в такой экспедиции были возможности обеспечить транспортом отряд девушки-инженера, тем более что инженеров в то время было далеко не густо, а девушек — начальников отрядов только две.
Однако сама девушка носила комсомольский «билет не в кармане — в себе», как сказал поэт Безыменский, к званию комсомольца относилась удивительно бережно и ответственно. Она не привыкла отставать в работе от мужчин, и это одно из проявлений женского достоинства было в ее жизни не менее важным, чем комсомольская честь трудных времен первых пятилеток. Считая студенческие производственные практики, Надя уже четвертый летний сезон первой из исследователей изучала труднодоступные таежные районы. Естественно, что за этот срок работы и учебы у столь строгого учителя, как сибирская тайга, вырабатывается не только опыт, но и некоторым образом мировоззрение.
Предварительное изучение района работ по аэрофотоснимкам и по расспросам показало полную непригодность лошадей и лодок для передвижения, а олени за последние годы ужасно надоели Наде. С ними производственное задание вовремя можно выполнить разве только случайно. Десять — пятнадцать оленей, которых обычно выдавали географическим отрядам, за ночь уходили куда хотели. Только природные следопыты — эвенки со своей неисповедимой наблюдательностью и каким-то чутьем могли обнаружить их в тайге. На поиски оленей тратилась масса времени, а осенью бывало и целый день. После привода в лагерь их нужно вьючить по десять — пятнадцать минут каждого. Получалось минимум два с половиной — три часа. После такой работы проводник, естественно, уставал. Ему нужен был обеденный перерыв, и он пил чай, пока олени стояли навьюченные. А уже после начиналось движение. Вечером, когда исследователь облюбовывал прекрасное место для изучения и ночлега, рассчитывая, что, пока ставят палатки, разводят костер и готовят ужин, а утром завтрак, можно выбить шурф, описать почвы и скалистые обнажения, собрать гербарий и замерить скорость течения ручья, оленевод вдруг говорил:
— Однако место шибко худой. Корм нету. Олень ходи, ходи, его кусай нету, потеряйся. Как его ищи?
И вот нужно с тяжелым вздохом сожаления оставлять выгодное для раскрытия тайн природы место и уходить, подчиняясь требованию оленьего желудка, его психологии и соображению. А что он там сообразит, не узнаешь же! Выходит, не человек, а олень руководит отрядом. Без оленя раза в два быстрее работу можно выполнить. Не всегда же желудку стоит руководить всеми поступками и действиями!
Начальство пошумело, пошумело в протестах против бестранспортной работы, но разве можно переспорить женщину, раз она что-нибудь решила? Да и расчет, как дважды два, показывал, что Сеютова права.
С рабочими в тех безлюдных местах было неважно. В труднопроходимую тайгу шли либо люди, одержимые жаждой приключений и поисков неизведанного, которых в то время, кроме географов и топографов практически не было, либо охотники, предпочитавшие появляться в тайге зимой, либо те, которых никуда больше не принимали. Вот как раз те, которым стало некуда податься, кроме крайне трудной таежной экспедиции, и составляли большую часть сеютовского отряда. Однако молодой инженер-географ расчетливо составила план работы и сформировала свой отряд. Надя рассчитала, что, кроме дождливых дней, не будет терять времени на длительные остановки и с утра до поздней ночи отряд должен двигаться по исследовательскому маршруту. При этом план съемки выполняется раньше срока, а значит, рабочие больше заработают и плюс премия. Кроме того, при горно-таежных походах с полной выкладкой рабочим будет не до эмоций, и Надя надеялась, таким образом, оградить себя от случайных мужских порывов. Кроме того, сверх восьми необходимых носильщиков Надя взяла двух практикантов Новосибирского топографического техникума не только для прохождения практики, но и в качестве сознательного ядра отряда. Девятый же, зачисленный маршрутным рабочим, был специально определен в качестве личного телохранителя. Нет, это не был самый здоровый Голиаф. Наоборот, сообразуясь с истиной, что сила женщины в слабости, на эту должность был подобран несовершеннолетний, неопытный и физически довольно слабый мальчонка. Надя, в прошлом воспитанница детдома, специально потратила несколько дней на поиски такого парнишки в детдоме на должность морального телохранителя. Они все лето и ходили вместе по сопкам и спали в одной палатке.
В центре площади съемки отряда еще зимой построили лабаз и завезли большой ассортимент продуктов. По краям района построили еще два лабаза с минимальным запасом продуктов на всякий случай. От края района до центра суток двое ходу, если идти с темна до темна, и от него до вспомогательных лабазов столько же. Но если идти с исследованиями, описанием геологического строения, почв, растительности, всех ручьев — словом, всем тем, чем занимались географы того времени, да еще копать почвенные ямы, собирать образцы и гербарий, рубить, промывать, дешифрировать аэрофотоснимки и составлять разные определенные инструкцией карты, то и за месяц не дойдешь.
Легко себе представить, как трудно прокормить семейку в дюжину здоровых людей, в неограниченном количестве и круглые сутки потребляющих чистейший таежный воздух, ведущих здоровую физическую работу от сна до сна на лоне располагающей к аппетиту природы и не менее двенадцати часов в сутки теряющих изрядное количество пота. Ели, конечно, все досыта — иначе и настроение, и работа не те. При таких обстоятельствах через несколько дней исследовательских маршрутов в продуктовых рюкзаках начало обозначаться дно. Тем не менее рюкзаки не пустели. Вместо продуктов их заполняли образцы камней, почв, которые оказались еще тяжелее продуктов. В данном случае мудрость Эзопа, научившего человечество еще несколько тысячелетий назад брать самую тяжелую корзину с продовольствием и под конец пути идти налегке, в дальневосточной тайге оказалась неприменимой.
До центрального лабаза было еще порядочно, а Наде хотелось до муссонных дождей закончить съемку самого трудного участка. Она начала принимать меры экономии. Установила двухразовое суточное питание, норму суточного потребления сухарей, крупы, сахара, чаще стала отпускать двух-трех рабочих на охотничий промысел, пока остальные били шурфы. Ни грибов, ни ягод еще не было. Правда, на гольцах попадалась прошлогодняя заморенная брусника, водянистая и терпкая.
В начале ребята шутили и посмеивались и над начальницей, и над катастрофически тающими продуктами, и над своим положением. Но через несколько дней началось постепенное накопление усталости от недоедания, и наиболее сильные рабочие начали мрачнеть.
Как, к сожалению, часто бывает в таких случаях, тайга будто вымерла. Только изредка попадался какой-нибудь зазевавшийся рябчик или дикуша, а все остальное, более существенное, способное не только раздразнить, но и утолить голод, исчезло напрочь. Что за еда — один рябчик на двенадцать голодных душ? Только на ужин нужно минимум двенадцать взрослых рябчиков, чтобы мало-мало почувствовать, что в желудке что-то есть, а чтобы насытиться, необходимо по два рябчика на человека.
Однажды за скудным ужином начался уже откровенный ропот. В довольно решительных тонах начальнице предложили идти к лабазу без работы. Она же сказала, что утро вечера мудренее, надеясь, что ночной отдых ослабит категоричность требований рабочих. За завтраком были съедены все остатки съестного, кроме соли и чая, но Надя, призвав на помощь всю убедительность и логичность доводов, уговорила рабочих при полном молчаливом нейтралитете практикантов еще на день работы вместе с приближением к лабазу. Мол, соль есть, а мясо в тайге найдется.
Проработали еще день. Мясо нашлось в количестве, достаточном для обоняния и дегустации бульона.
На другой день голодные люди тронулись к лабазу напрямик. День шли, часто присаживаясь для отдыха. Надя пользовалась остановками, чтобы вести обычную работу. Она записывала наблюдения, отсчеты анероида, продолжала дешифрировать аэрофотоснимки и только не стала требовать земляных работ. Она не хотела больше возвращаться сюда и делала все возможное для этого.
— Ну и девка упорная! — сказал кто-то. — Это надо же, голодная, а все пишет и пишет.
По мере приближения к лабазу, несмотря на общую усталость настроение начало подниматься. За несколько километров до него, с трудом преодолеваемых отощавшими людьми, все разговоры сосредоточились вокруг пищи и отдыха.
В воздухе как будто уже разлился аромат консервированной тушенки с бобами, и эти сладкие мечты вызывали слюну.
— А уж завтра, Надежда Ивановна, давай выходной. Камней накалим. В палатке баню сделаем, попаримся, отоспимся и уж наедимся за всю неделю.
Когда солнце подготовилось уже нырнуть за сопку, где оно обычно коротало ночь, отряд спустился в ту долину, где на аэрофотоснимке было обозначено место лабаза. Километровую полосу мари, отделявшей прибрежный лесок от склона сопки, прошли быстро. Узкая полоска густого пойменного леса и вовсе не представляла никакого труда для преодоления. Вот сейчас за поворотом, на излучине маленькой речушки должны открыться зеленая полянка и величественное сооружение на трех лиственничных стволах со спиленными вершинами, до отказа набитое сухарями, мукой, разными крупами и консервами, сахаром и махоркой. Об этом лабазе как о самом богатом все много наслышались от хозяйственников еще в Свободном.
Вот полянка. Вот они три очищенных от коры белых лиственничных столба…
— Что такое? Тут, видать, снег шел.
Вся поляна была грязно-белая.
— Нет, братва, это не снег. Это мука!
— А где же лабаз?
— А вот он — одни бревнышки остались.
Вокруг столбов валялись бревна с вырубленными ячейками для связи, но не связанные. Среди разрозненных бревен серели щепки разломанных ящиков, клочья кулей, помятые консервные банки.
— Какая же это подлюка наработала?
— Да медведь. Вот его следы.
— Но хоть консервы-то оставил?
Медведь с зимнего сна был настолько голоден и, наверное, настолько обрадован лабазу, что повеселился здесь вволю. Разрушив надстройку на столбах, он съел, что можно было съесть. Двух кулей с сахаром как не бывало. Не осталось ни одного сухаря от нескольких ящиков — только изодранные куски фанеры валялись в самом хаотическом состоянии.
— Как только не подох, паразит, от обжорства?
— Тут, наверное, целое стадо медведей ужинало — ведь всю крупу пожрали.
— Ас кулями с мукой, наверное, в футбол играли.
Действительно, мучные изодранные кули валялись в разных местах поляны, а мука, превратившаяся в крошки засохшего теста, покрывала почти всю поляну.
— Братцы, а консервы-то тю-тю, он их испоганил.
Несколько сотен банок различных консервов были помяты и прокусаны медвежьими зубами.
— Ты, смотри, сгущенку высосал, а тушонка протухла!
— Вот ведь идиот, ну прокусил одну-две, видит — не съесть, оставил бы остальные, так нет же — все перекусал!
Из целой груды банок ни одна не была пригодна к употреблению после медвежьего пира.
Когда последняя надежда найти хоть что-нибудь съестное на месте бывшего лабаза полностью испарилась и до людей наконец дошло, что ни сытного ужина, ни завтрака, ни долгожданного выходного дня не будет, они повели себя по-разному.
Начальница сидела на пне, разложив аэрофотоснимки, и рассчитывала расстояние до двух других лабазов и до таежной базы партии. Она взвешивала все возможные случайности и варианты решения, наиболее выгодные для выполнения задания, чтобы не делать пустых маршрутов. Но нельзя было и рисковать людьми. Идти к вспомогательным лабазам ближе, чем к базе, но кто может поручиться, что, приобретя опыт бандитизма, медведь не разгромил и те, а они были в противоположном направлении от таежной базы. А если и те лабазы разгромлены, то и работу сорвешь, и людей можно потерять, да и самой не поздоровится.
Один из практикантов мрачно молчал. Другой проклинал хозяйственников.
— Безмозглые дураки! Серая бездарность! Не догадались вбить гвозди в столбы! Ведь и ребенку ясно, что в тайге медведи умеют на лесины лазить.
Действительно, то ли от неопытности, то ли от безответственной беспечности, а возможно, и просто потому, что забыли захватить с собой гвозди, устроители лабаза не сделали необходимого предохранительного приспособления от медвежьих погромов. Впрочем, это сейчас, после колоссального опыта исследовательских работ в тайге и горах, стало правилом при организации таежных лабазов забивать в столбы гвозди и отпиливать их шляпки. Захочется медведю пообедать на дармовщину, подойдет, уколет лапы и отойдет не солоно хлебавши. А в те времена как-то не было такой установки — надеялись, что медведь не сумеет преодолеть лабазного карниза на гладких столбах, и более существенных мер не предпринимали для охраны складов. И как показал опыт, попадались особенно натренированные медведи, преодолевавшие и очищенные от коры столбы, и карнизы, и ухитрялись растаскивать казенные продукты, срывая планы исследователей.
Большую часть сеютовского отряда в то время не волновало состояние производственных планов. Настроения и мироощущения диктовались требованием желудка. Несбыв-шиеся мечты о сытой еде и отдыхе, мрачная перспектива голодного, изнурительного похода, охватившее всех сомнение в сохранности других лабазов вызвало бессильную злобу. Злило все: и бандит-медведь, и безответственность хозяйственников, и задержавшая поход к лабазу начальница, слишком тщательно выполнявшая порученную работу, и вообще вся тайга с ее жестокими законами, и злодейка-судьба, приведшая в тайгу. Особенно здоровые, организму которых необходимо больше горючего, откровенно ругались громко и изощренно, не стесняясь начальницы, а ее маленький телохранитель плакал, всхлипывая и утирая нос рукавом брезентовой спецовки. Комары пищали, выбирая удобное место, чтобы высосать остатки крови.
— Давайте собирать муку, хоть болтушку сварим!
Люди, сбросив тяжелые рюкзаки, стали ползать по темнеющей поляне и соскребать с травы и мха налет засохшего теста. Крошек набрали две неполных миски. Очистить их от плесени и сора не хватило терпения. Окончив далеко не тщательную очистку, скипятили ведро воды и засыпали туда крошки. Утолив немного голод болтушкой, заснули неспокойным сном.
Все проснувшиеся начали с того, что ползали по поляне и собирали крошки теста на завтрак. Он прошел в молчании — это было издевательство, а не завтрак. У многих началось расстройство желудка с резкими болями. Не осталось никаких сомнений — нужно было двигаться к таежной базе партии, где сидел радист в срубленном домике и сторожил продовольствие, посылая в Свободный на базу экспедиции сводки о выполнении плана исследований.
Небольшой запас салола был проглочен в два приема. Разделились. Кто особенно часто отлучался в кусты, отделены в группу под командой наиболее хорошо разбирающегося в аэрофотоснимках практиканта и составили арьергард. Трое наиболее здоровых во главе с начальницей отправились вперед в надежде организовать помощь с базы или вызвать самолет для сброса продуктов и медикаментов. В районе посадочной площадки найти не удалось. Вертолетов тогда еще не было. Разработали точный маршрут. Авангард тронулся ускоренным шагом, а остальные двигались по силе возможности.
Несмотря на ворчание мужчин, Надя заставила их идти от темна до темна, не давая долго ни отдыхать, ни курить, ни отвлекаться ни на какую охоту или другую добычу пищи.
— Пошли дальше. Там же больные!
За два дня похода эти слова употреблялись чаще всего, и они раздражали больше всего двух рабочих. Ну чего там этим больным сделается, если часа два поискать рябчиков? А тут только и слышишь — пошли да пошли.
Поздним вечером третьих суток похода измученный и обозленный на весь свет авангард остановился на ночлег около ручейка. Пока двое шарили на ощупь дрова для костра, чтобы вскипятить чай без хлеба и сахара, двое других также на ощупь ставили палатку. Это была ситцевая палатка специально для пешего отряда. Она была легкая, быстро сохла после дождей и не пропускала воды даже в ливень, если сантиметров на десять выше ее крыши натянуть такой же легонький тент.
— Опять без жратвы спать придется, черт бы ее взял, эту Надежду Ивановну.
— Дать ей раза, а то шибко резвая. Гонит, как на пожар!
— Больные, больные! А мы здоровые? Тоже еле ноги волочим.
И быть бы в этот вечер начальнице битой, но тут случилось хоть и не чудо, но что-то около этого.
На белевшую в темноте крышу палатки что-то с силой шлепнулось. Палатка затряслась и перекосилась, но устояла, и девушка, только что нагнувшаяся, чтобы войти в палатку, увидела, как по тенту, хлопая крыльями, съезжает утка. Как тигрица, бросилась Надя на свалившийся с неба дар природы и вцепилась в него мертвой хваткой.
— Давайте сварим утку на два котелка. Пол-утки и бульон съедим сегодня, а пол-утки завтра утром, — сказала она, подходя к сгрудившимся около только что разожженного костра рабочим и протягивая им жирного селезня.
Ребята от удивления разинули рты, и именно это пресекло их совещание по выработке плана экзекуции начальницы.
— Ты смотри, вот так Надежда Ивановна! Ей и ружья не надо — уток на лету ловит.
— Селезень! Да какой здоровый. Он, наверное, бедняк, думал сверху-то, что озерко блестит, и решил на ночь сесть.
— Наверняка так, ведь сроду здесь палаток не было — откуда ему догадаться.
Термометр настроения, показания которого приближались к нулевой черте, быстро показал потепление в отношениях начальницы и рабочих. Один селезень на четверых — это по сути дела тоже крошка, но уже достаточная для существования.
На пятые сутки, шатаясь от усталости, Надин авангард достиг базы. А еще через двое подошли и все остальные вместе с вышедшим им навстречу караваном оленей. Второй группе отряда повезло больше. На вторые сутки их движения к базе с ними совершенно случайно встретился отряд строителей геодезических знаков, переходящий на другую сопку. Они поделились продуктами и салолом.
Несмотря на потерю времени после медвежьего погрома, Надин отряд закончил работу по съемке своего участка первым. Расчет на экономии за счет упразднения поисков и вьючки оленей оправдался.
Когда осенью в торжественной обстановке отряд премировали за перевыполнение плана, ребята искренне жали руку начальнице.
— Спасибо тебе, Надежда Ивановна! А мы ведь побить тебя хотели — больно ты нас гоняла.
— А как же вы думали? Не поработаешь как следует, на совесть, так всю жизнь на крошках жить будешь.
И не столько премия, сколько гордость, что они стали первыми, они, которых отказывались брать на работу многие организации, посеяла крохи веры в себя, в свои способности.
«Тони, брат, не мучайся»

— Никто же не предполагал, что так получится. Как-то все случилось уж очень неожиданно… Если бы мы знали… — растерянно объяснил следователю Федор Прохоренко.
— Да, никто не предполагал… Но нужно было неукоснительно выполнять правила выбора места для лагеря…
Накануне все шло необычно ладно. Прекрасный солнечный день и отличная видимость помогли в два раза перевыполнить дневную норму. Закончив съемку надоевшего болотистого участка, отряд свернул палатки, завьючил отдохнувших за неделю лошадей и перебазировался в горное верховье реки Туюн. Рабочие работали быстро и слаженно, с подъемом и шутками. По пути не было больших марей, лошади не вязли, не падали, их не приходилось тащить за хвосты, и переход напоминал прогулку. Настроение еще больше улучшилось, когда по пути подстрелили двух глухарей.
Федор Прохоренко, практикант-топограф из Новосибирского топографического техникума, вторую неделю вел самостоятельную съемку. Как настоящему топографу ему выдали аэрофотоснимки района работы, кипрегель, планшет, подсобные инструменты, пять лошадей и рабочих. С рабочими у него установились хорошие, деловые отношения. Как-никак он уже отслужил срочную службу в армии, повидал людей и умел с ними обращаться. В отряде установились так помогающие работе взаимопонимание и хорошая дисциплина, основанная не на окрике, а на сознании необходимости выполнить точно и в срок важное дело.
Было и другое. В отряде подобрались отчаянные парни, которые считали ниже своего достоинства ныть и жаловаться на усталость, холодную воду рек, тяжесть похода по марям. Они презирали слабых, издевались над неловкими или неумелыми, смеялись над опасностями, хотя опытных таежников в отряде не было. Установилось шутливо-пренебрежительное отношение к трудностям дальневосточной горной тайги и превратностям экспедиционных работ.
Вот и сейчас. Федор слышал говор и смех идущих впереди рабочих, обсуждавших вчерашнее приключение.
— Он прет, как паровоз, по кочкам с баяном на горбу. (Баяном прозвали деревянный ящик — футляр кипрегеля.) Я пустой за ним не поспеваю, а Мишка и вовсе далеко отстал с планшетом-то. Кричит: «Погодите, черти, не бегите, я же упаду, планшет-то помочу». Ну я ему отвечаю: «Падай, брат, полежи, не мучайся…» Идущие сзади и вовсе на анекдоты перешли. Слышу, он кричит: «Алешка, давай сюда скорей, Мишка в мари утоп, один не вытащу!»
— А глубоко провалился?
— Да по щиколотку!
— Чего же сам он не выходит?
— Да он кверху ногами.
Взрыв хохота…
Вечерело. Выбрали место для нового лагеря на песчаной террасе речки. Федор еще в техникуме усвоил, что место для экспедиционного лагеря должно отвечать пяти основным условиям: оно должно быть сухое и ровное, безопасное (подальше от скал, падающих деревьев, обвалившихся берегов), близко к питьевой воде, обеспеченное дровами и кормом для транспортных животных. Лучшего места не придумаешь. Кругом редкий лиственничный лес. Место высокое, незатопляемое, сухое и ровное. Земля оленьим мохом покрыта и сухие листвянки кое-где торчат — отличные дрова. В речушке вода как слеза чистая. Для оленей, если бы они тут были, корма сколько хочешь, а вот для лошадей? А ничего, вот за речушкой, которую немудро вброд перейти, пойменный лес — там травы полно.
Так же как собирались из того лагеря, дружно разбили этот. В момент скинуты вьюки и привязаны к лесинам лошади, чтобы остыли и на воду сразу не набрасывались. Трое ставят палатки, двое валят сушняк на костер. И вот он уже весело трещит на берегу ласково булькающей речушки. Коновод Костя теребит глухарей. Отвесив нижние губы, дремлют стоя кони. Никто не обеспокоился тем, что померкла прозрачность воздуха. Красный шар солнца, затянутый влажным маревом, закатывался в тучу. Да и что тут страшного? Ну может пойти дождь, это не новость. Продукты есть, палатки крепкие, место высокое, настроение отличное.
Вот и обильный ужин готов. Отвязанные лошади не спеша, помахивая хвостами, спустились к воде, попили и побрели на ту сторону к траве.
— Ишь ведь скотина, а сразу понимает где что. Издали корм чуют.
— Небось на сопку-то не поперли.
Заснули под мерный стук дождя. А в горах бушевал ливень. К утру ливень спустился в долину. Дождь гремел и прогибал полотняные крыши. Речушка помутнела. От ее ласкового бульканья не было помина. Она зло ворчала и стукала галькой в водоворотах.
В такую погоду все равно не пойдешь на сопку, не станешь рубить просеки. Все лежали в палатках, покуривая и лениво перекидываясь словами. Прохоренко рассматривал аэрофотоматериал, намечая план действия в новом районе.
Как-то никто не обратил внимания, что коновод Костя накинул плащ и вышел из палатки. Видимо, увидев начавшую вздуваться реку, он решил перегнать лошадей с той стороны к лагерю. О своем намерении он никому не сказал, а просто перебрел через реку. Подумаешь, ведь не глубоко! Не глубоко-то не глубоко, а уже по колено. Пока он ходил по мокрым кустам, пока собирал лошадей, прошло часа полтора. За это время в реку влилась новая порция воды с гор, казавшаяся малой речушка просто взбесилась. Вода залила уже все западинки на пойме, где паслись лошади.
Как дальше развивались события, никто не видел. Только вдруг сквозь шум дождя в палатки с реки донеслось:
— Помогите, тону!
В голосе не было ничего уж очень трагического. Никто не подумал, что человек в самом деле нуждается в помощи. В отряде привыкли к шуткам. Из крайней палатки раздалось:
— Тони, брат, не мучайся!
Но Костя и не думал никого разыгрывать. Видимо, его сбило течением. В горной реке, когда в нее заходишь выше колен, устоять трудно. Без палки нипочем не удержишься— нужны три точки опоры.
Федор выскочил из палатки тогда, когда еще раз, но уже далеко, снизу реки донеслось: «…ону-у!»
Выползли один за другим и другие из спальных мешков. Кони выходили из воды, отряхивались и равнодушно останавливались около палаток. Они собрались тут все пять, но Кости нигде не было. Река расширилась раза в три. Она ревела, бурлила со злой радостью.
Не сразу дошло до людей, что они лишились товарища. Он утонул прямо вот сейчас, почти на глазах. Когда оторопевшие рабочие поняли происшедшее, то бегом, некоторые как были босиком, бросились вниз по берегу реки. Но ни в этот, ни на другой день, ни до сих пор тела Кости не нашли. Его измолотило по камням и, конечно, унесло в Бурею, а в ней разве найдешь? Тайга жестоким уроком требовала к себе уважения и напоминала, что перед лицом ее величества презрительная формула «подумаешь» неуместна. Она не терпит нарушения своих законов даже в мелочах!
Коварная Бурея

— Сегодня нужно все кончить. Завтра уходит последняя лодка. Если мы не успеем выбраться отсюда с ней, то придется ждать зимы, — сказал, входя в барак, начальник топографической партии Чернявский.
На крутом берегу Бурей, в конце якутского поселка Усть-Ниман, в экспедиционном бараке царил неописуемый хаос. Длинные столы, когда-то задуманные как обеденные для рабочих артелей, были завалены картами, кальками, аэрофотоснимками, полевыми дневниками и другим благородным материалом экспедиции, требующим самого деликатного обращения. Зарывшись во все это, Лида Лебедева склонилась над стереоскопом, лихорадочно пытаясь успеть доделать геологическую карту. Инструкция требовала покидать полевую работу, имея полную документацию. Мне, старшему географу экспедиции, приехавшему в эту партию для приемки полевых материалов, при такой ситуации уже некогда было выполнять свои инструкторские обязанности. Вместо того чтобы стоять над девичьей душой с понуканиями, я засучив рукава взял на себя часть ее работы и доводил карту до кондиционного вида.
Пол в наименее доступных для хождения углах помещения устилали перенумерованные мешочки, свертки, пакетики с образцами горных пород и почв, листы гербария.
В середине помещения высилась гора подсобного материала: ящики, доски, вьючные сумы, гвозди, сено, брезентовые чехлы от топографических планшетов и приборов вперемежку с книгами, валенками. На топчанах спальные мешки, плащи, полушубки. Анероиды, бинокли, карабины и охотничьи ножи висели на вбитых между бревнами щепках, заменявших крючки.
Надя Сеютова, сдавшая уже свой полевой материал, укладывала образцы в ящики, экономя место и перекладывая пакетики сеном. Топограф Коля Юнох заколачивал готовые ящики и утрамбовывал одежду во вьючные сумы.
Партия запаздывала с окончанием экспедиционных работ. Чтобы не потерпеть финансового краха, начальник рассчитал рабочих, и они давно уже уплыли вниз по Бурее по домам, а инженерно-технический персонал работал с двойной нагрузкой.
Лето 1938 года для этой партии было трагическим и тяжелым. Медвежьи погромы продовольственных лабазов, бурные и внезапные паводки, унесшие несколько жизней, и следующие за этим следствия выбили партию из графика работы. А тут еще рация принесла категорический приказ прекратить работы и весь персонал партии переключить на поиски приземлившегося где-то в тайге самолета «Родина», пилотируемого летчицей Гризодубовой. Героический женский экипаж совершил вынужденную посадку почти в полтысяче километрах восточнее верховьев Бурей, но ведь тогда этого не знали. Все могущие двигаться жители недели две обшаривали болота и сопки в бесплодных поисках самолета.
Одиннадцатое октября в этих высоких местах число критическое. Обычно в первой половине октября здесь начинаются снегопады и замерзают не только мари и мелкие речушки, но становится и Бурея. Однако хоть и поздно, но «под занавес» партии повезло. Осень стояла небывалая. Над хребтами Турана и Буреинским висел антициклон, как в Забайкалье. Около месяца на небе ни облачка. Ночью ртуть термометра падала до минус семи — минус десяти градусов, а днем подползала к пятнадцати выше нуля. Солнышко щедро отдавало остатки тепла, недоданного летом. Воздух, потеряв свою дальневосточную сырую муть, непривычно прозрачен. На многие километры на фоне голубого неба отчетливо вырисовывались сопки, сменившие свой рабочий зеленый костюм на празднично-торжественное золото лиственниц, и только кое-где виднелись синевато-зеленые елово-пихтовые шапки.
Бурея же совсем похудела. Это летом от каждого дождя всякий ручеек и падь давали ей щедрую дань. Дождевые потоки быстро сбегали по крутым склонам и вечномерзлым грунтам. Тогда она буйствовала, налитая силой. Сейчас же застыли мари, пересохли ручейки, обмелели речки и к Усть-Ниману приближались галечные косы противоположного берега. Далеко к середине русла выступили ребра перекатов. По утрам не спеша, как усталая кляча, тащила Бурея серые комья шуги. Шурша, цеплялись они за галечные ребра и забереги на плесах. С каждым днем все дальше уходили от берега и дольше — до середины дня держались ледяные забереги. Если бы не было днем солнца, застыла бы эта гордая красавица.
Лодка пришла в Усть-Ниман с товаром для «интеграла»— это так на Дальнем Востоке назывались охотничьи магазины, торговавшие всем: от свечей и капканов до шоколада и бостоновых костюмов. Она задержалась на несколько дней в ожидании пассажиров вниз. Но так как, кроме нас, никто сплавляться не собирался, а мы не были готовы, то лоцман, отдыхая после трудного подъема, выжидал, когда прижмет нас время. Однако шуга увеличивалась с каждым днем и лодочники не хотели больше рисковать, твердо решив отправиться завтра, будут пассажиры или нет.
Вверх по обмелевшей реке да еще по шуге никто теперь подниматься не станет. В то время лодочные моторы были редкостью, а подвесных не было вообще и на сотни километров приходилось вести лодки на веслах или шестах.
Я послал за лоцманом.
Вскоре среди нашего базара возникла крепкая фигура загорелого, уже седеющего человека. Резкие черты лица производили впечатление решительности и твердости характера. Серые глаза светились умом.
— Вот, хозяин, нас с этими вещами надо доставить на станцию Бурею. Сколько будет стоить?
Не спеша осмотрев всю нашу свалку, он ответил:
— Шесть тысяч.
Мы про себя ахнули. За все четыре месяца невероятных трудов по исследованию тайги каждый из нас получит немного больше этой суммы, а тут шесть тысяч за три-четыре дня. По тем временам это были деньги огромные.
— Это же грабеж!
— Нет, начальник, лишнего мы не берем. Шмуток у вас много. Лодка будет тяжелая, осадка большая, а вода маленькая. Шуга идет, вода холодная. На каждом перекате лодку придется за уши тянуть, а ведь до Буреи-то пятьсот километров. Зато вы не ознобитесь и не замочитесь.
Выбора у нас не было. Оставаться здесь до ледостава, когда можно будет спуститься к железнодорожной магистрали на оленях, обойдется дороже. Торговаться было бесполезно.
Именно в тот год разрабатывался проект одного из «усов» трансибирской железной дороги до горнодобывающих предприятий Ургала. Проектировщики нуждались в наших картах. Пока же лодка была самым надежным средством транспорта, связывавшего магистраль с этим отдаленным горнодобывающим и охотничьим районом, и нам ничего не оставалось делать, как погрузиться в нее.
Занимался хмурый день. Все узкое, стиснутое заберегами водное пространство Бурей двигало угрожающе шипящее сало.
Лодка стояла в коридоре, прорубленном уже в плотном ледяном забереге, и ее было удобно грузить с обеих бортов.
Погода, как будто увидев, что работа топографов окончена, насупилась. Низко спустились холодные облака. Они слегка шевелились, надуваясь чем-то твердым, и, как бы не выдержав натуги, изредка сорили снегом.
Кроме груза в лодку легко поместилось восемь человек. На носу два гребца. В средней части пятеро исследователей, одетых в валенки и полушубки: холодно сидеть без движения среди леденеющей воды. Лоцман стоял на корме и, напряженно высматривая впереди камни, мели и перекаты, ворочал длинным, тяжелым веслом, укрепленным в железном гнезде.
Несмотря на осеннюю усталость, Бурея довольно быстро несла нас вниз по течению. В особенно узких или тихих местах, которые всегда кончались мелким перекатом, лоцман покрикивал на гребцов.
— Сильнее, левой! Левой! А ну оба нажмите! А, черт вас дери, прозевали! В воду!!
Вспотевшие от натуги лодочники быстро сбросили валенки и, расталкивая шугу босыми ногами, выскочили в воду.
В начале переката лодка двухтонной массой врезалась в заскрипевшую гальку. На кормовом весле, там, где оно то входило в воду, то показывалось над ней, образовался хомут ледяного ожерелья. Река злорадно шипела и ворчала.
О борта остановившейся лодки и голые ноги лодочников терлось холодное сало и стукались льдинки шуги. Стоя по колено в месиве льда, лодочники изо всех сил тянули с обеих сторон лодку за уключины. Несмотря на нашу теплую одежду, нам стало холодно, глядя на их покрасневшие ноги.
— Сильнее! Кантует!
Нос лодки, остановленный мелью, не мог удержать всю ее махину, и судно стало потихоньку разворачиваться боком к течению. Если лодка сядет на мель всем корпусом, вода станет заносить ее галькой, делая остров. Тогда не миновать нам всем выходить в воду и вытаскивать свое судно. Камни уже скрежетали, стукаясь о нижнюю часть борта.
Как был в валенках и ватных брюках, лоцман спрыгнул со своего руководящего места в воду и стал толкать лодку вперед, не давая разворачиваться корме.
Упираясь багром и веслами в дно реки, мы тоже старались хоть частично освободить лодку от собственного веса и помочь сдвинуть ее с мели. Наконец соединенными усилиями реки, лодочников и географов лодка стала носом по течению, проскрежетала днищем по булыжникам переката и закачалась на волнах плеса.
Лодочники сели на весла, сунув мокрые ноги в валенки. Лоцман вскочил на свое место. На их лицах ровно ничего не отражалось — ни озноба, ни досады, ни раздражения: они выполняли свою обычную работу.
Не прошло и пятнадцати минут, как по дну лодки опять заскрежетали булыжники, и мы остановились среди крутого перепада воды, к тому же круто поворачивавшего вправо от высоко торчащего камня. Выскочившие из лодки в студеную воду лодочники работали с особой поспешностью. Незначительное
промедление на этом сложном перекате грозило аварией и купанием всех пассажиров вместе с грузом.
Следующий перекат показался минут через восемь — десять. Мы затаили дыхание, ожидая скрежета. К счастью, только один валун легонько чиркнул по дну лодки и мы с курьерской скоростью пронеслись над зарябившей в глазах галькой. Пересекая плесы в лодке, как и в самолете, не ощущаешь быстроты движения. Исчезает мерило быстроты — удаляются берег и дно.
Но вот в поле зрения появляется перекат. Сначала возникают светлые пятна крупных камней, затем более мелких. Дно как бы стремительно летит на тебя. Валуны и галька мелькают мимо, сливаются в общее, недифференцированное на составляющие элементы как бы полосатое дно. Только тут возникает чувство «относительности», и тогда замечаешь колоссальную скорость собственного движения, неразрывного с лодкой. Ощущая быстроту, начинаешь оценивать огромную трудность работы лоцмана. Знание фарватера на Бурее — дело невозможное. Пока неделю-две протянули на бечеве лодку вверх по течению, к обратному пути фарватер на перекатах уже изменился. Там, где был канал стока, бешеное течение подкатило валун, и он зло оскаливает свой зуб при малой воде, загородив бывший фарватер, а где-то сбоку, на месте только что подмытой и отброшенной в сторону груды гальки образовалась ложбина. Дело памятью здесь не исправишь; нужна быстрая реакция, способность моментально оценивать обстановку и мгновенно, а главное, правильно на нее реагировать. Нужны и силы, чтобы, ворочая тяжелым веслом, в бешеном течении придать летящей стрелой тяжелой лодке нужное направление. Малейшая растерянность, нетвердое или неуверенное движение — и двухтонная лодка, нагруженная ценнейшим материалом экспедиции — плодами титанического и небезопасного труда целого лета, может оказаться вверх дном, отдав на волю волн все содержимое.
Наконец и плес!
Лодка плавно закачалась на волнах широкого плеса. Дно быстро погрузилось в невидимость буроватой воды и шуршащего сала. Гребцы закурили. Невольно и уже с большим вниманием я посмотрел на лоцмана. Он все так же стоял на корме, прижав конец кормового весла засунутой в карман рукой.
— Ну и работка у вас. Ведь недолго и ревматизм схватить или, чего доброго, о камень расшибиться. Давно работаете? — обратился я к лоцману.
— Ревматизм у меня был, когда учительствовал, а теперь вылечился.
— Вы были учителем? — удивился я еще больше.
— Да, преподавал литературу в средней школе в Челябинске. Да что-то надоело. Каждый год одно и то же, да ребята, что ни год, то баловней. Решил попытать счастья на Дальнем Востоке. К тому же действительно ревматизмом болел, а под Владивостоком, рассказывали, лечебные грязи есть. Вот и поехал.
Под Читой меня обворовали. Только и оставили в чем был. Доехал до Свободного. В поезде слышу, угольная экспедиция на Чекунду идет и платят хорошо. Решил сойти. Сошел в Бурее. Опоздал — экспедиции уже не было. Есть нечего. Спасибо, лодка с грузом вверх шла — гребцов не хватало. Не пропадать же, думаю. Нанялся в гребцы. Вверх со станции Бурея груз в Чекунду отправляли. Без малого все триста километров бечевой тянули. Только на больших плесах и плыли. А ведь сами видите, где они — большие-то плесы. Бурея с характером. Перекат на перекате. В первый рейс небо с овчинку показалось: дожди, вода холодная, камни, комары, сопки. Хотел в Чекунде уйти, да некуда. Поплыл обратно с пустой лодкой. Денег за рейс получил порядочно, и все же пришлось опять лодку вверх тянуть. Смотрю, не так-то уж и трудно и даже интересно с этой взбалмошной рекой поспорить. Заработки хорошие — три рейса в год. Как начал в ледяную-то воду лазить — лучше всяких грязей помогло. Вот уже шестой год плаваю и не то что сердце или ноги, гриппом ни разу не заболел. Теперь всю Бурею, как жену, знаю, каждый камушек — как сына…
— На весла! Сильнее! — вдруг крикнул он, ворочая веслом.
Впереди Бурею пересекла белая полоска бурунов.
— Ну, если этот проскочим, то нам повезет, — заметил один из лодочников.
Опять зарябила в глазах галька дна. Стукнувшись бортом о валун, лодка скользнула в узкую протоку между камней. Не успели мы, что называется, «мама» выговорить, как она уже потеряла скорость, выскочив на плес.
— Нет, это не пример, — продолжая разговор, сказал лоцман. — Тут только разве слепой на камень наткнется, а так тут глубоко.
Срывавшийся из нависших туч снег вдруг повалил крупными хлопьями, затянув белой кисеей берега. Еще несколько раз днище лодки врезалось в гальку и лодочники в снежных эполетах и шапках слезали босиком в воду, мы только толкали дрожащую от напряжения лодку веслами и шестами.
Смеркалось, когда на расчищенной от леса полянке показалось зимовье. Очень кстати срубили эту лесную гостиницу. Вытащив спальные мешки и продукты, мы покрыли лодку брезентом и длинной веревкой привязали ее к колышку на берегу.
В просторной избе, разливая жар, гудела приспособленная теперь в качестве печки бочка из-под спирта. Пахло жареным глухарем. На нарах дымили самокрутками два старателя, державшие путь на прииск Первомайский.
Подметал ли кто-нибудь и когда-нибудь пол с основания зимовья или нет, этого определить было нельзя, но что окна никогда не мылись — это точно. Грязь и мусор устилали земляной пол в несколько напластований, так же как и грязь на стеклах, которая не позволяла что-либо видеть в окна. Тем не менее мы с удовольствием расположились в теплом помещении для просушки одежды и отдыха.
Следующие два дня пути до Чекунды были сырые и холодные. Мелкие перекаты постоянно грозили перевернуть лодку, лодочники слишком часто выходили в воду. У двух из них шуга расцарапала икры ног. Лодочники уже громче высказывали недовольство своей судьбой. Лоцман чаще кричал на них, заставляя лодку тянуть на перекатах. Он спешил, так как слишком хорошо знал Бурею, которая могла встать каждую ночь. Нас спасло только пасмурное небо, не дававшее сильно переохладиться и смерзнуться шуге ночью.
К полудню третьего дня из-за поворота появился центр Буреинского угольного бассейна — последний пункт пароходства по Бурее и перевалочная база— поселок Чекунда. Неожиданно мы застали здесь катер нашей экспедиции, который отходил вниз по течению на следующий день и уже к вечеру должен был быть у железнодорожного моста через Бурею.
Общеизвестно преимущество техники над мускульным трудом и над силами природы. Технические средства транспорта облегчают нам жизнь, ускоряют движение, а в данном случае и намного удешевляют его. Конечно, недолго думая, мы рассчитались с лоцманом за половину пути, к великому его недовольству.
Первые же десятки метров по реке ясно доказали нам, как мы жестоко просчитались, надеясь к вечеру достичь железной дороги, пользуясь соединенными усилиями автомобильного мотора, установленного на катере, и течения. Мы слишком мало знали коварный характер Бурей! А уверения лоцмана, что на лодке мы доедем быстрее катера, приняли за обычное набивание себе цены. Если летом пароходы легко преодолевают перекаты по большой воде, то сейчас не только пароходам, но и лодкам тяжело проходить через них. Катер же, нагруженный оборудованием нескольких топографических партий и двумя десятками людей, сидел глубоко, как и пароход.
Катер сел на мель сразу же, как только отошел от пристани. Теперь уже не лодочникам, а нам всем предстояло лезть в ледяную воду и с криками «раз-два, взяли» стараться поднять неподъемное судно. Браться за борта было совсем не так удобно, как за лодочные уши, и, уж конечно, наше механическое усовершенствованное средство транспорта было намного тяжелее лодки. Ноги коченели в ледяной воде, скользили по голышам, устилающим дно реки. Днище катера скрипело, вдавливая гальку, протиравшую его. Провозившись в невероятном напряжении минут пятнадцать, мы все-таки протянули наше судно через мель. Мокрые, с окоченевшими конечностями и потными спинами, но обрадованные, взобрались мы на борт, отпуская шутки и остроты по поводу наших успехов.
Шутки мгновенно смолкли, как только раздался скрежет днища о гальку. Некоторые из нас еще не успели обуть валенки, как судно задрожало, подергалось в судорогах и плотно укрепилось на следующем перекате.
— Много тут еще таких перекатов? — спросил у моториста один из топографов.
— Много. Через каждый километр. До Тырмы частенько садиться придется. А уж ниже хорошо — катись вовсю!
Высадка в воду происходила без особого энтузиазма, но что поделаешь — необходимость. Впрочем, транспортная сеть зейско-буреинского бассейна того времени отличалась примитивностью. Все экспедиционные работники и тем более местные жители давно привыкли собственными мускулами оказывать существенную помощь автомашинам на плохо проходимых дорогах, лодкам и катерам на реках. Только разница и была в сухопутном и водном передвижении, что дороги размокали в дожди и почти теряли свое значение в снегопады, а реки выходили из строя в качестве путей сообщения, как только на несколько дней переставали идти дожди. Тот, кто работал в то время на Дальнем Востоке, всегда был готов перетаскивать плавсредства через перекаты, вытаскивать вагами автомашины из грязи разбитых трактов, сутками протаптывать колеи для них в снегу перевалов.
Хорошо еще, что с нами была лодка. Для восстановления плавучести катера в лодку были высажены все женщины и часть мужчин. Снова река задрожала от криков «взяли». Днище катера. и дно Бурей никак не хотели расстаться. Однако в конце концов человек всегда выходит победителем, чего бы это ему ни стоило.
Поскольку следующий перекат был не так далеко, лодка не стала подходить к катеру. Наоборот, она пошла к берегу, высадила людей и, пока мы пыжились, пытаясь разъединить два сцепившихся между собой дна, забрала часть груза с катера. В промежутках между несколькими следующими перекатами часть людей шла по берегу, а мы уже не обувались. Завернув чем попало ноги, с засученными выше колен штанами, мы с замиранием сердца ждали следующего скрежета о гальку, готовые выскочить в месиво шуги с водой для восстановления быстроходности судна. Скрежет и скрип дна не заставляли себя долго ждать. Пока мы возились с высадкой, натужным толканием катера, обратной посадкой на борт, люди на берегу далеко опередили наше механизированное сооружение.
Именно с дорог Дальнего Востока по нашей стране пошел вполне реальный анекдот. Шофер на автомашине, догнавший пешехода, предлагает: «Садись, подвезу!» — «Спасибо, мне некогда на машинах ездить, пойду пешком».
Трудный десятичасовой рабочий день подходил к концу. Скалистая долина Бурей закуталась в густые сумерки. Ныли все суставы и мускулы. Ноги почти ничего не чувствовали от озноба, и только саднила поцарапанная шугой кожа. Мы не достигли не только станции Бурея, но и поселка Усть-Тырма, от которого моторист обещал нам «легкую жизнь», ссылаясь на пополнение бурейнского русла водой притока Тырмы. Пройдено вряд ли четверть пути.
Пристав к каменистому бечевнику — узкой полоске ровного каменистого берега, мы на ощупь взялись за заготовку дров. Вскоре чахленький костер осветил узенькую наклонную площадку и почти отвесные скалы над ней. Где-то вверху угадывался лес. Здесь же крепчал верховик, разбрасывая по голым камням искры от костра. От усталости не хотелось есть. Попив наскоро чая, я стал искать место для ночлега. Бечевник не был пригоден для этой цели — холодно, ветрено. Увидев расселину в скале, я на ощупь добрался по ней до леса и позвал своих товарищей-географов, там мы устроились на ночлег. Постелив и накрывшись полушубками, спали, прижавшись друг к другу. Хмурым утром мы поняли, что место для ночлега выбрали далеко не блестящее. Я просто пришел в ужас, увидев себя на самом краю отвесной скалы. Внизу, окружив плотным кольцом костер, дрожали пассажиры. Ветер тянул вдоль реки холодный воздух. На нашем же насесте высоко над днищем долины было относительно теплее, а деревья защищали от пронизывающего ветра. Мы отлично выспались, не в пример оставшимся внизу. Но вот как сойти к ним? Просто непостижимо, как нам удалось забраться сюда?
Днем нам бы и в голову не пришло карабкаться на отвесную скалу в поисках ночлега. Так и продрожали бы всю ночь на каменном бечевнике. Ночью же мы преодолели скалу только потому, что не видели трудностей и опасностей — действовали на ощупь. Долго искали мы обратный путь, и все же пришлось спускаться там, где поднялись, другого пути не было.
Начался новый трудный день. Правда, шуга шла немного меньше, но вода не стала от этого теплее, а мели и перекаты— реже. Они все так же заставляли с содроганием сердца ждать скрежета гальки о днище, вылезать в ледяную воду, толкать судно, перегружать его. Совершенно определенно — катер ехал на нас значительно большее время, чем мы на нем. Сколько лошадиных сил мы потратили на его транспортировку — уму непостижимо. Мотор тоже работал вовсю. По крайней мере половина нас охрипла от надсадных криков «раз-два»…
Наконец, благополучно преодолев бурный перекат возле двуглавой скалы Собор, к вечеру добрались мы до поселка Усть-Тырма. Следующий день обещал отдых от этих несвойственных нашей квалификации трудов. Отсюда начинался глубокий плес Бурей.
Хорошо выспавшись, попили коровьего молока, которого не видели все лето, в благодушном настроении погрузились в катер, предвкушая, что уж во всяком случае этим вечером увидим железную дорогу. Завернувшись до носов в полушубки, поудобнее уселись, уверенные в том, что уже не встанем с мест, пока не достигнем магистрали. В буксируемой лодке, как и прежде, остались Юнох и два техника с бочкой горючего, изрядно полегчавшей за этот долгий путь.
Катер пошел бойко. Река расширилась. Берега понизились. Скал почти не было. На борту журчали мирные, веселые разговоры — человечество быстро забывает всякие трудности. Время летело, и кое-кто уже начал агитацию за обеденный перерыв. Моторист согласился с первого намека.
— Вот только вон тот порог перескочим, а за ним удобное местечко есть. Порожек-то шумный, но не опасный — глубина порядочная.
Показался порог. В большую воду его незаметно. Сейчас же почти во всю ширину русла несколько камней выставили свои отполированные лысины. Вокруг шумела и суетилась вода, гневаясь на бесстрастное спокойствие гранита. Она плевалась брызгами и пеной, волны изо всей силы пытались устранить со своего пути этот редкий частокол. Вода просверливала и те камни, которые еще не поднялись над ее поверхностью. Водные вихри крутились над невидимыми глыбами. Ускорив свой бег, катер втягивался в эту чертову мельницу. Каждое неверное движение рулевого грозило гибелью экспедиционным материалам, собранным с таким трудом. Да и выплыть отсюда в наших полушубках и ватниках без спасательных средств вряд ли кто надеялся. Поэтому все затаив дыхание пожирали глазами летящую навстречу полосу бурунов. Судно пролетело мимо самой высокой глыбы, и, так как уже ни одного камня впереди не было, у нас готов был вырваться вздох облегчения. Но вдруг резкий толчок опрокинул всех на дно катера. Громко застучал, работая вхолостую мотор. В следующее мгновение с курьерской скоростью мимо нас пронеслась лодка. Она была готова скрыться под висящий над стремниной нос катера. Один из техников резким движением молниеносно отрубил буксирный канат. Не сделай он этого, лодка могла бы перевернуться.
И как только приходят людям в опасные моменты так быстро правильные решения. Не успели мы опомниться, как лодка оказалась чуть ли не в километре ниже по течению, а катер сидел на невидимом камне, дрожа от напряжения воды и мотора. Моторист внимательно осматривал днище. Оно уцелело. Течи не было. Злополучные пассажиры облепили борта, оценивая создавшуюся ситуацию. Когда до нас дошло, что мы пока не потонем, но сам катер с места не сдвинется, все загалдели, стали давать разные советы, строить планы спасения.
Впрочем, выбор средств и способов высвобождения из этого оригинального капкана оказался весьма ограниченным. Река в этом месте была широкой около полукилометра. Катер, как жук на булавке, сидел на ее середине, и четверть его длины висела в воздухе над перекатом. В такую позднюю осень на всей Бурее не было никакого судна и подплыть к нам, конечно, никто не мог. На борту остался только один шест. Он еле доставал до дна и не мог служить ни существенным упором, ни рычагом, который мог бы придать хоть какое-нибудь поступательное движение нашей посудине. Свинцово-серая ледяная вода крутилась в воронках. Она шумела, предупреждая о бесполезности попыток пуститься вплавь.
Лодка, прекратив свой стремительный бег, пристала к берегу. Там развели костер. Около него энергично жестикулировали трое, видно обсуждали план спасения нас. Но что они могли придумать существенное?
— Ну что ж, будем ждать, когда станет Бурея, — попытался кто-то шуткой поднять настроение.
— Только дождутся этого, видимо, наши скелеты. Видишь, потеплело и шуги нет.
— Будь это на море, сейчас бы ЭПРОН вызвали. А ведь в этой чертовой речонке ни один водолаз костей не соберет.
— У нас одно средство спасения — шест. Будем толкать, может быть хоть раскачаем.
Но за шест с трудом могли взяться только два человека, а это слишком мизерная сила для придания плавучести столь объемистой массе.
Из каждого положения есть два выхода. Один — ждать ледостава, а другой — просить Юноха рубить шесты и пускать по течению. Хоть пару-то поймаем, а уж тогда столкнемся.
— Бесполезное занятие, — пробурчал Чернявский.
— Однако не сидеть в самом деле здесь до ледостава. Что-то делать надо.
Я стал подавать сигналы Юноху. Кричать было бесполезно. Все звуки тонули в шуме порога. Очень жаль, что на географических, биологических и геологических факультетах не обучают сигнализации по азбуке Морзе, как на флоте. Яростно жестикулируя, я шептал необходимый приказ, стараясь внушить им наши мысли и решение. Идите, мол, вверх, рубите слеги и пускайте по течению, мы будем ловить.
На берегу нашу сигнализацию поняли совсем не так, как мы предполагали. Они выгрузили бочку, привязали к лодке веревку и потянули ее через перекат. Мы поняли, что они хотят сами доставить нам шесты.
— Они же идут на гибель! — закричал Чернявский и стал отчаянно давать запрещающие знаки. Он был еще под сильным впечатлением летних аварий, в одной из которых сам чуть не потонул в Нимане. Однако на берегу то ли не поняли, то ли не захотели выполнять последнюю сигнализацию.
Затащив лодку приблизительно на километр выше переката, техники нарубили шесты, нагрузили ими лодку и пустились в рискованный путь. Лодка быстро росла, приближаясь к нам. Недалеко от водоската ее стало сбивать течением дальше, в следующие от нас ворота между камнями, несмотря на отчаянные усилия гребцов и рулевого. Дальнейшее произошло в несколько секунд. Стукнувшись о камень боком носовой части, лодка накренилась, зачерпнула воду, все шесты нырнули в водоскат и сразу же оказались далеко впереди.
— Все! — вырвалось у многих.
Мы были уверены, что люди последуют за шестами. Но тут произошло нечто невероятное. Падая в воду спиной вперед, Юнох вдруг сделал конвульсивное движение, как кошка, сброшенная с высоты, перевернулся в воздухе и выпрыгнул на камень среди буруна. От его резкого толчка лодка замедлила стремительный бег, выровнялась. Течение прижало ее к камню. Повернувшись вокруг него, никем не управляемая, лодка нырнула в бурун вниз носом.
Увидев, что лодка цела и уже готова ускользнуть от него, Юнох, не успевший еще укрепиться и приобрести равновесие на ничтожной поверхности камня, сделал прыжок, которому позавидовал бы сам Тер-Ованесян. Началось состязание лодки и человека. Оба они описывали красивую дугу. Человек почти настиг лодку. Но… его тело в ватнике и валенках скрыл от нас бурун. Все искали глазами, где покажется тело Юноха. Однако он успел схватиться рукой за корму. В следующее мгновение корма резко дернулась вниз, и как бы со дна реки, как шарик, привязанный на резинку, человек одним толчком очутился в лодке. Он сразу же схватился за руль, как будто и не выпускал его из рук. Никто не ожидал такой оперативности от обычно медлительного эстонца, которого многие считали тугодумом.
Через несколько секунд лодка причалила к своей исходной позиции около выгруженной бочки. Пассажиры катера, в безмолвии наблюдавшие эту беспримерно динамичную картину борьбы за жизнь, в полной безнадежности начали усаживаться, укутываясь и прижимаясь друг к другу. Никто не предполагал, что лодочники отважатся вторично подойти к нам. Видно было, как Юнох выжал ватник и снова оделся. По жестам можно было понять, что он излагает новый план действия. Потом на берегу закурили и… Что это? Опять садятся в лодку и переправляются на противоположный берег. Там, впрягшись в лямку, они потянули лодку через порог. Видимо, решили подойти к катеру по другой струе водослива.
— Не надо, не надо! — закричал Чернявский, отчаянно делая запрещающие знаки руками.
Но Юнох сделал выразительный жест — мол, не ваше дело, сидите себе спокойно.
Прошел томительный час, пока лодка достигла удобного для сплава места. Затем еще час, пока топографы нарубили шесты, погрузили их, покурили и снова пустились в рискованный путь. Видно, как Юнох широко раскрывает рот, командуя гребцами, но голоса его не слышно.
Лодка проносится метрах в трех от нас. Бросили канат. Его бухта зацепилась за ящик, и конец упал в воду. Но на носу стоял запасной человек с другим концом, который и схватили на лодке. Шесты наконец перетянули на катер.
— Четыре шеста на левый, четыре на правый борт. Качаем!
Беспорядочная суматоха, поиски метода инженерно-спасательных работ. Получасовые титанические усилия мало что меняют в нашем положении, если не считать того, что все согрелись до испарины. И вот когда мы уже начали снова терять надежду на успех, катер, казалось бы без нашего вмешательства, вдруг опустил нос и перепрыгнул через бурун. Просидев более пяти часов в плену Бурей, катер пошел дальше как ни в чем не бывало.
Бурея превратилась в солидную реку. Масса воды шла со спокойным достоинством, без прежних «младенческих» прыжков и шалостей. До самой станции нам уже не угрожали ни мели, ни пороги. Мерно стучал мотор. Катер шел полным ходом. Вечерело. Все погрузились в собственные думы. Кое-кто уже начал клевать носом. Наступила разрядка нервного напряжения и умиротворение. Не помню, о чем думал я, наверное о каких-то пустяках. Мой взгляд сосредоточился на досках дна катера. И вдруг именно там, куда я смотрел, с легким треском поднялись две доски, как будто мой взгляд просверлил их, и через образовавшееся довольно большое отверстие в катер хлынул мощный фонтан воды. Основательно протертое на перекатах днище сумело выдержать посадку на камень, но держалось на пределе и вот не выдержало давления воды спокойного русла.
Нет, меня ничуть не испугал этот фонтан. Я так далек был от мысли об опасности, что не сообразил, чем могло это завершиться. Просто я крайне удивился. Удивление парализовало мои действия. Совершенно не догадавшись, что можно предпринять, я на всякий случай вскочил на ноги, не имея представления, чем могу быть полезен. Между тем на катере началась паника.
— Тонем! — заорал один из топографов.
Он выхватил свой планшет с еще недочерченной топокартой, обернутой в брезентовый чехол, прижал его к груди и, расталкивая всех, ринулся на нос катера. От его толчка упала мать одного из топографов и, охваченная страхом, схватила своего внука, тоже прижала к груди, бросилась на нос.
Кто-то вопил: «К берегу! К берегу!» Подавляющее большинство пассажиров шарахнулось к бортам — подальше от пробоины. Мое зрение фиксировало чье-то искаженное страхом лицо, напряженные руки моториста, мгновенно повернувшие катер к берегу, желтоватую воду, хлеставшую по ногам бегущих, мечущегося и причитающего о своих дорогих трудах топографа. Но раньше всего этого сидевшая со мной рядом НадяСеютова сорвала с плеч полушубок. Почти одновременно с ней то же сделала Лида Лебедева. Только одни эти девушки, которые и раньше ни в чем не уступали мужчинам — таежным исследователям, не только не поддались панике, но мгновенно нашли реальный путь к спасению. Недаром в течение многих лет спустя начальник нашей экспедиции Александр Дмитриевич Запруднов отказывал в работе на Дальнем Востоке всем женщинам, говоря: «Взял бы только Лебедеву и Сеютову».
Мое пассивное удивление уступило место подражанию. Мы трое почти одновременно принялись затыкать пробоину полушубками. Фонтан ликвидировали, но вода прибывала все же довольно быстро. Мотор стоял на днище и, постепенно погружаясь в воду, мог заглохнуть. Если бы это случилось сразу, нам бы не видать больше катера. Но, залитый водой, он пока медленно тащился к берегу. Мотор заглох метрах в четырех от галечной косы. Катер лег на дно, выставив только нос, на котором столпились почти все пассажиры, держа в руках все, что могли поднять из самого им дорогого имущества. Аэрофотоснимки, которые в то время были не только дороги для нас, но и представляли государственную ценность, полевые дневники, образцы, геодезические инструменты и другое дорогостоящее имущество было упаковано во вьючные ящики и находилось на самом дне кормовой пристройки, наиболее глубоко сидящей под водой. В воде были спальные мешки, остатки продуктов — почти весь скарб.
Между берегом и носом поставили лодку, по которой благополучно высадились, наполовину мокрые люди.
Ночь прошла в обсушке того, что всплыло или оказалось доступным для извлечения сверху. Утром мы по необходимости, а не по доброй воле стали «моржами». Сейчас пропагандируется этот вид спорта, говорят, что он приятно освежает. Однако известно, что, когда даже приятное делается необходимым, оно перестает быть приятным. Я до сих пор не понимаю, что может быть приятного в спорте «моржей». Мне не раз приходилось бывать в ледяной воде, и всякий раз в скованной холодом груди перехватывает дыхание, я никогда не был уверен, что смогу вынырнуть.
Ныряли мы по двое, вытаскивая ящики из кормовой пристройки. Полуголые бежали отогреваться к костру, а женщины и хлипкие здоровьем сушили извлеченное.
Не прошло и полдня, как сверху показалась та самая лодка, которая вывезла нас из Усть-Нимана. Это последнее судно в этом сезоне на Бурее шло налегке и уж как-то очень бодро. К тому же лодочники основательно отдохнули. Они даже не удостоили нас приветствием и не желали знаться с неверными компаньонами. Наши хриплые вопли огласили долину. Некоторые даже побежали по берегу вслед лодке. Можно было догадываться, какие чувства боролись в душах лодочников: обида на наше вероломство, желание скорее достичь домашнего очага, моральная обязанность помочь терпящим бедствие, получить с потерпевших деньги… Не знаю, какие были сказаны слова, но лодка все же пристала почти в километре ниже по течению.
— Ладно уж, садитесь, но только скорее. Таскайте шмутки сюда, возвращаться не буду, — сказал лоцман.
Нас не огорчила такая мелочная месть. Погрузили все наиболее ценные материалы, женщин и простуженного Юноха.
— Бурея — женщина коварная, она моторы не уважает. Вперед не будете прыгать туда-сюда, — поучал лоцман. — Теперь бы давно в Бурее были.
С трудом вытащенный и кое-как залатанный катер пришел через трое суток.
Скоро стали все притоки Бурей, и одному из дальних отрядов пришлось несколько десятков километров тащить лодку по льду.
Один

— Стоп, мальчики! Скидай вьюки. Ставь палатки на этом мысу. Вот он треклятый голец с лабазом! — прокричал Веня Лунев, на ходу окончив изучение аэрофотоснимка.
Лошади остановились. Вьюки, постепенно освобождаясь от продуктов, сильно полегчали. В ожидании, когда их снимут, лошади глубоко вздохнули и опустили головы. Они умели выкраивать каждую минуту на рациональный отдых.
Топографический отряд Лунева переходил на промежуточную базу. Ему вообще-то не стоило здесь останавливаться, но уже три дня назад был съеден последний сахар, кончалась крупа, вчера искурили последние крохи махорки, в которую и так несколько дней подмешивали листья. Пришлось сделать небольшой крюк специально к этому гольцу, чтобы пополнить запасы продовольствия.
Ни на самом гольце, ни около него никто раньше из этого отряда не был. Но на аэрофотоснимке чуть в стороне от голой вершины горы, там, где проходила темная полоса кедрового стланика, четко обозначался белый кружок. Его выложили из камня хозяйственники, заезжавшие сюда зимой. Они построили лабаз, сложили туда продукты и слегка расчистили вокруг заросли кедрового стланика. Полянку обложили камнями, чтобы при аэросъемочных залетах она хорошо была видна на снимке. Топографы и географы без карт и проводников видели теперь, где находятся продуктовые лабазы. Третий год шла аэрогеодезическая съемка зейско-буреинского бассейна. Хозяйственники приобрели опыт в снабжении экспедиций. Они заранее создавали не только сеть продуктовых лабазов, но и предусматривали легкие их поиски в горной тайге.
Лунев не рассчитал. В этот год слишком много было простоев из-за дождей и продукты уменьшались быстрее заснятой площади. Пришлось терять день, чтобы подойти к этому лабазу. Впрочем, низкие облака закрывали многие вершины — все равно нельзя вести наблюдения.
— А ну, Миша, ты помоложе всех, — обратился топограф к одному рабочему. — Слетай-ка, друг, на эту сопочку, приволоки сахару килограмма два да махорочки рюкзачок. А уж завтра сходим за остальными продуктами. Тут всего километра два с гаком. Чтобы
к ужину здесь был — сладкого чайку пошвыркаем.
Идти не хотелось — устал. Но приказ есть приказ — с начальством не поспоришь.
Михаил Кучерявый в тайге первое лето. Только весной его родители покинули хлебную Украину и переехали сюда на сурьмяный рудник. Ему, как он считал, повезло. Еще и восемнадцати лет нет, а вот работает в экспедиции.
Все здесь ему в новинку — сумасшедшие реки, бескрайняя тайга. Внизу на горах она густая, но вдруг сразу прерывается полянами, заваленными глыбами камней, курумы называются. Многие вершины тоже завалены камнями и совсем голые. Почти везде их лысины окружены густыми зарослями кедрового стланика — самое паскудное растение! Хуже нет продираться через него, особенно с треногой или планшетом. Но как влезешь на голец — красота! Венька говорил, что тут на площади больше чем в пол-Франции ни души нет. На гольцах не надо рубить просеки для наблюдений, и, пока Венька наблюдает в свою трубу, можно посидеть и полюбоваться. Михаил очень любил смотреть на вздыбившиеся до горизонта сопки. Все они разные, то острые наподобие сахарных голов, то ребристые, а то как гробницы в Киевской лавре — с ровным верхом и крутыми склонами. И нигде ни дороги, ни дымка, ни человека.
Шустрый этот Венька. Сам, поди, тайги боится. Даже палатку не велит ставить близко к реке или к сухим лесинам. Один никуда не ходит, всегда за собой ребят тянет. А каких рабочих подобрал: все один одного здоровее, чтобы в случае чего вьюк каждый на горбу унести мог.
Большой чудак этот Венька — с утра до ночи все чего-нибудь рассказывает. Откуда он столько знает? И все с прибаутками. А без дела ни разу никого не обругал. Но попробуй проспи, покури больше, чем нужно для передыха, или сделай что неладно, так обсмеет, что в другой раз не захочешь. Или вот совсем выдохнешься — свет немил, а он как завернет анекдотик — все смеются, и жить как будто легче становится. Хитрый начальник! Все на сознательность бьет: мальчики, давайте-ка рубанем просеку в этом направлении. Часа полтора вам за глаза хватит. Нажимайте! Вас ждут премия и доска почета!
И Кучерявый, поднимаясь по багульниковой лиственничной тайге, с улыбкой вспоминал недавний случай.
В паре с Луневым площадь одного топографического планшета снимал его закадычный друг Коля Юнох. В то время за сезон вычерчивали один планшет два топографа. Для этого они должны были поставить несколько триангуляционных пунктов пятого класса и особенно на границах съемки своего района. Пункты представляли собой деревянные пирамидки не более трех-четырех метров высотой. Их ставили на наиболее высоких сопках, чтобы со всех других было видно.
Поставив пирамидку вблизи границы съемочного района, Юнох ушел дальше. В это время Лунев должен был засечь и нанести на планшет эту вершину. Ему немного мешала промежуточная залесенная сопка. Нужно было идти к ней и терять время на расчистку леса. Однако предприимчивый топограф пришел к другому решению.
— Мальчики, видите вон ту сопку с пирамидкой? Так вот кройте туда и переставьте пирамидку метров на сто пятьдесят вправо. Нет, не разбирайте ее, а возьмите за ноги и передвиньте. Да смотрите не на склон, а на плоскотинку, чтобы на вершине осталась.
Рабочие с удовольствием выполнили это задание. Они предвкушали смешное удивление Юноха. Да и топоры тупить на рубке не придется.
Через несколько дней Юнох, беря обратные засечки, никак не мог обнаружить своей пирамидки. Сопка та самая и просека есть, а пирамидку как корова языком слизала. После долгих раздумий и предположений пришлось отправиться обратно на ту сопку. Целый день на переход потратили. Пришли, и все стало понятно: от Лунева пункт хорошо видно! Значит, Венька перетащил пирамидку и уже наверняка теперь засек ее — обратно не перенесешь, и пришлось рабочим Юноха рубить вторую просеку.
И почему это Венька, такой быстрый и хитрый, подружился с этим медлительным эстонцем?
Михаил еще не знал правила единства противоположностей и мудрости тяготения различных характеров. Работавшие в паре много лет Лунев и Юнох в точности отвечали метким стихам А. С. Пушкина:
Они сошлись. Вода и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не так различны меж собой.
Именно столь различны были эти два топографа. Один — спокойный, флегматик, другой — холерик, подвижный, как ртуть. Один — коренастый, рыжий, другой — поджарый, брюнет. Один говорил только тогда, когда уж очень сильно понадобится, когда уж нельзя совсем обойтись без звукового выражения своих мыслей, другой, соперничая с пулеметом в быстроте, извергал каскад остроумия и не мог минуты посидеть спокойно без того, чтобы кого-нибудь не задеть острым словом, рассказать смешной случай или анекдот.
Вспоминая выходки Лунева, Кучерявый не заметил, как по довольно крутому склону пересек светлый лиственничный лес и вошел в сумрачный елово-пихтовый. Он уже знал, что в этих местах всегда лиственничный лес вверх по склону сменяется темнохвойным, а еще выше в нем пропадает пихта, а вместо нее появляется береза. А уж когда этот лес поредеет, начнутся кусты кедрового стланика и скоро после него гольцы.
Хотелось есть. Михаил прибавил шагу, хотя ноги уже успели устать — дневной переход был довольно большим. Сейчас бы сидеть у костра и пить чай, а тут вот тащись на голец! Вниз-то скорее добежишь, а вверх эти два километра за пять кажутся.
Наконец среди елей забелели стволы березок, гуще стал ольховник. Кедровый стланик встретил посланца густой стеной. Это был живой плетень из упругих смолистых веток почти в два метра высотой. Спустился туман. Чем дальше пробирался рабочий внутрь зарослей, тем гуще они становились. Ветви торчали в разные стороны, накладываясь одна на другую. Когда на них наступала нога, они вырывались как живые. Хвоя била по лицу, пальцы липли от смолы. Охватила злость. Она оттеснила усталость. Появилось второе дыхание, после которого часто наступает упадок сил. Но Михаил об этом не знал и с остервенением лез вверх по склону. Он был совершенно мокрым от пота.
В одном месте стланиковый плетень пересекла каменная осыпь. Неизвестно, где лучше идти. Камни качались. Нога то и дело скользила по набухшему влагой лишайнику, который покрывал камни. Кучерявый часто падал. Но склон был крутой, падал он вперед и поэтому не ушибался.
Скоро камни стали устойчивее, а потом как будто погружались в землю — склон выполаживался. Кедрового стланика на вершине нет. Зимой там ветер сдувает снег, а без снеговой шубы стланик жить не может. Где кончалась эта выпуклая вершина, видно не было. Туман лег на нее плотным слоем, заодно скрыв и лабаз.
Михаил решил обойти голец вдоль стланиковой опушки. Лунев сказал, что лабаз недалеко от вершины в стланике. Его, наверное, можно и в тумане рассмотреть. Но напрасно Кучерявый напрягал зрение. Кроме изредка торчащих засохших лиственничных стволов, ничего нельзя рассмотреть в стланике. Он, наверное, уже раза два обошел лысину гольца, а лабаза так и не увидел. Начало смеркаться. Несколько раз рабочий предпринимал попытки проникнуть в заросли стланика, но из него и вовсе ничего видно не было, даже и без тумана ничего не рассмотришь. Начался моросящий дождик. Налетел порыв ветра.
«Нет, надо возвращаться, пока от холода не околел», — подумал Михаил и ринулся вниз по каменной осыпи, а потом по стланику. В лес он вошел, когда совсем стемнело. Пожалел, что не взял спичек. Он не курил и не привык носить спички.
Идти по еловому лесу в темноте еще труднее, чем по стланику. Густой, сильно колющийся подрост перемежался с валежником. «Что-то, когда вверх шел, лес был реже», — подумал парень. Наверное, чуть в сторону взял. У него и намека не было на сомнение, что шел в противоположную от лагеря сторону. Запнувшись о сук, он упал и расцарапал щеку. «А, сгори все ясным пламенем, надо ночевать, а то без глаз останешься». На всякий случай он остановился и, набрав полные легкие воздуха, закричал по направлению вниз по склону: «Ого-го-о-о!» Прислушался. Тайга молчала. Только вершины слегка шуршали от ветра и дождя. Еще раз крикнул, но только шорох дождя ответил ему.
Нащупав толстую пихту, ветки которой спускались чуть не до земли, он уселся под нее и блаженно вытянул ноги. Здесь — сухо. Заснул он, видимо, сразу…
— Кучерявого только за смертью посылать. Опять без курева ложиться придется, — ворчали поужинавшие рабочие.
— Подкинь дров в костер и давай спать укладываться. Небось огонь увидит.
Но Лунев уже начал беспокоиться и жалеть, что послал именно Кучерявого.
— А ну, мальчики, давайте хором шумнем.
Тишину тайги прорезал мощный рев: «Ми-и-и-шка-аа! Ого-го-о-о!»
В ответ они услышали только шум дождя.
Раза два выстрелили, еще несколько раз кричали почти до часу. Дождь усилился. За палатками темень. Ну кто в такую погоду пойдет по тайге?
— Ладно, мальчики, утро вечера мудренее. Отбой!
Хмурое утро лагерь встретил без Кучерявого.
— Братва, а Мишка-то блудонул!
— Поздно пошел. Наверное, на лабазе заночевал.
Подождали. Вот уже и полдень, а посланца нет. Дождь прошел, но облака по-прежнему висели низко, закрывая вершины сопок. Пошли на голец всем отрядом. Лабаз нашли сразу.
— Братва, а Мишка до лабаза-то не дошел. Забит крепко, и продукты все целы.
Голец имел несколько вершин, окруженных стлаником. Он стоял на самом водоразделе. Его бороздили масса ложбинок, сливавшихся в неглубокие распадки. Одни из них шли на юг, к Бурее, другие — на север и восток, к Селемдже. Пройди десяток шагов — и вместо селемджицского попадешь на буреинский склон. Но никто не подумал, что именно так и случилось с их товарищем.
Люди обошли все вершины горного массива, все истоки речек, но ни следов, ни самого Михаила не обнаружили. К вечеру их встретили лишь насытившиеся лошади в лагере. И второй день прошел в бесплодных поисках. Всех охватила досада и беспокойство.
— Не надо было посылать пацана на ночь глядя. Он же тайги сроду не видел.
— Уже скоро белые мухи полетят. Сентябрь ведь.
— Еще дня два поищем, и план полетит.
На базу партии поскакал верховой.
Через два дня к гольцу подошли еще два отряда, а воздух начали утюжить два самолета.
Несмотря на всю свою невозмутимость, Юнох обругал Лунева.
— Через тебя четыре дня пропало. Спер, видишь ли, пирамидку. А теперь еще и человека умудрился потерять! За твой счет простой отряду запишем.
В инструкции по технике безопасности, которую проштудировали все перед выходом в поле, заблудившемуся полагалось останавливаться и быстро разводить дымный костер, как только увидит над собой самолет. Пилоты зорко всматривались в тайгу, на бреющих полетах проносились над гольцами, но ни дымка, ни других сигналов не заметили. Они облетели все прилегающие к массиву долины, систематическими параллельными курсами обошли все окрестности — тот же результат.
На шестой день поисков к хребту Турана подошел циклон. Пронзительный ветер гнал крупные хлопья снега. Вместе с листьями сыпалась пожелтевшая хвоя лиственниц. Зеленые пихты посинели и вместе с елями превратились в снежные пирамиды. Самолеты сидели на аэродромах, а мокрые люди продолжали искать.
На четырнадцатый день после пропажи человека был крепкий ночной морозец и селемджинско-буреинский бассейн очистился от облаков. Засияло солнце. В долинах стал таять снег, но выше девятисот метров абсолютной высоты на гольцах и в кедровом стланике он уже не стает до весны. Опять вылетели самолеты. Надеясь по снегу увидеть следы, они заодно сбросили продукты искавшим, так как все продовольствие злополучного лабаза было израсходовано.
Шестнадцатый день поисков был последним. Радио принесло приказ начальника экспедиции: «Поиски прекратить. Рабочего Кучерявого считать погибшим. Отрядам продолжать съемку. Луневу объявить строгий выговор». Далее в радиограмме все отряды, работавшие в буреинском бассейне, предупреждались о побеге из лагерей опасных рецидивистов. Приказывалось ходить только группами и иметь не менее трех стволов нарезного оружия.
Даже в солнечные дни тайга стала казаться не столь добродушной. Она притаила в себе жуть неожиданностей. Появился коварный противник, готовый вонзить в спину нож. Все ходили прислушиваясь и оглядываясь. На всю ночь оставляли у палаток дежурного.
Уже в первой декаде октября, на двадцать первый день после пропажи Кучерявого, отряд географа Криволуцкого поднимался к вершинам Турана в район того самого гольца, где развертывались поиски. Здесь вся округа хранила следы поисков. Рубленые деревья. Следы костров. Разбросанные по кустам пустые консервные банки, обрывки бумаги, сношенные сапоги и чуни. Вдоль долины к бывшему лагерю Лунева протоптали хорошую тропу. Все малые ключики в верховьях речек уже сковал лед. Приник к земле запорошенный снегом кедровый стланик. Пойменные леса — краса дальневосточной тайги — как будто ощипали. Опали листья, и лиственничная хвоя, и ранее труднопроходимые кусты просматривались насквозь.
Это был последний
маршрут отряда. Из-за поисков он сильно запаздывал с окончанием исследований. По ночам люди мерзли в спальных мешках, хотя днем заморозки отступали.
Впереди связки вьючных оленей бежала лайка Николая Соловьева, того самого оленевода, который работал со мной на Огодже. Она вдруг остановилась, понюхала воздух, на загривке поднялась дыбом шерсть. Николай остановил оленей и снял с вьюка берданку.
— Однако его там люди, — сказал он.
— Почему думаешь? — вполголоса спросил Матюков.
— На медведя кобель лаял бы, а тут его бойся. Плохой люди.
Отряд занял боевой порядок. Все были уверены, что произойдет встреча с беглыми. Есть ли у них оружие?
Потихоньку продвигаясь от дерева к дереву вдоль тропы со взведенными курками карабинов, они увидели на тропе голубоватый дымок. Он как будто исходил от тлеющей фигуры человека, вернее, от скелета, обтянутого кожей и одетого в лохмотья ватника. Что это живой человек, заметно было по медленно шарящим вокруг рукам. Человек сидел, поставив ступни ног на землю и подняв колени, на которых лежала его голова. Руками он собирал бумажки и мелкие сучки вокруг себя и медленно клал на огонек, чуть-чуть тлевший между его ног.
Соловьев сразу узнал Кучерявого, хотя все остальные были слишком далеки от мысли, что это он, который числился в погибших.
— Здорово, Миша! — раздался дружный хор нескольких здоровых глоток.
— Ты что, с того света? — последовал грубоватый вопрос.
С трудом подняв голову, Кучерявый посмотрел на ребят невидящими глазами. Никаких эмоций не выразили эти глаза. Все желания, чувства, интерес к окружающему покинули его вместе с силами истощенного тела.
— Миша, что это ты такой дохлый огонек разложил? Смотри кругом сколько дров, — указали подошедшие на валежник.
— Да, до них далеко, — раздался равнодушный хриплый голос.
— И ты собирался дойти до базы сам? Знаешь, сколько до нее?
— Тридцать километров осталось. Теперь я местность знаю… А я его все-таки нашел… Позавчера. Только там одни спички с махоркой остались.
— И ты, что же, за два дня четыре километра прошел? Или опять заблудился?
— Нет, не заблудился. Шел все время. Только теперь уж ползу. На ногах стоять не могу, голова кружится.
— Это хорошо, что на лабазе никаких продуктов не осталось, а то там бы ты и отдал концы на продуктах-то. Сейчас мы тебя чаем сладким поить будем.
В это время уже запылал большой костер. Над ним повисло ведро с водой. Кучерявый протянул руки к огню.
— Хорош, — прошептал он. — Я ведь почти и не грелся, как от Веньки ушел.
Голова его свалилась набок, и он потерял сознание. Неожиданная помощь оборвала туго натянутую струну нервного напряжения, заставлявшую изыскивать силы неизвестно откуда.
Последующие три дня, пока его доставляли в районную больницу в Экимчан, он почти не мог шевелиться. И этот человек надеялся проползти тридцать километров. Надежда была сильнее его физических возможностей. Он видел только одну цель и знал, что достичь ее может только сам, только один. Он уже знал, что съемку давно все закончили, а то, что его будут искать, он даже и не думал.
Наверное, такая вера и надежда в немалой степени способствовали тем, кто стоял насмерть в Бресте и Ленинграде пять лет спустя.
Двадцать один день человек пробыл один в незнакомой и враждебной ему обстановке, без нормальной пищи. Но еще удивительнее, что девятнадцать дней он пробыл без огня и не имел возможности полностью обсушиться и отогреть коченеющее тело. Только хвоя пихты и ели спасала его от дождя и снега. Только могучий инстинкт самосохранения помог найти пищу в тайге. А что он знал о ней, о съедобных растениях? Только ягоды и грибы. Но грибы он не мог использовать потому, что не было огня. Не было даже ножа и тем более других орудий, которые помогли бы добыть пищу. Одна цель и упорное стремление к ней, цепкость и поразительная вера в благополучный исход сделали его непобедимым. Он заставил свое изнуренное тело подчиняться воле.
Через месяц мне пришлось забирать поправившегося Кучерявого из экимчанской больницы. Грузовик мчал нас к нашему полевому аэродрому. Оттуда он должен направиться в Сочи — отогреваться в санаторий. В машине он рассказывал о своей одиссее. Все события воспринимались им спокойно, как само собой разумеющееся. Он не умел рассказывать о своих переживаниях. Создавалось впечатление, что они не беспокоили его или он просто человек без переживаний. А может быть, вот у таких парней, не избалованных жизнью и родителями, и может развиваться столь сильная воля и только такие могут выжить в самых невероятных условиях…
В каком-то украинском селе он окончил четыре класса, потом работал конюхом в колхозе, потом лето здесь. Но это лето дало ему опыта больше, чем вся прежняя жизнь.
Его рассказ прерывался, как только машина въезжала в населенный пункт. Михаил просил шофера остановиться у столовой. Столовые притягивали его, как магнит иголку. Через каждые полтора-два часа Кучерявый регулярно съедал обед из трех или четырех блюд. Удивительно, как его желудок справлялся с такой работой.
…Не очень холодная морошная ночь и густая хвоя пихты позволили Михаилу отлично выспаться и остаться почти сухим. Сколько он спал, неизвестно: ни часов, ни солнца не было. Хотелось есть, ведь со вчерашнего обеда ничего не ел. Он встал и пошел вниз по склону. Скоро захламленный елово-пихтовый лес сменился лиственничным. Вместе с ним кончился бесплодный мох. В лиственничном лесу чаще и чаще попадалась брусника. Он срывал ее на ходу. Но когда вышел на пологую часть склона, где лиственницы были высокие и редкие, перед ним открылось целое поле брусники, крупной и спелой. Став на колени, он собирал ее обеими руками и горстями отправлял в рот. В лагерь он не спешил — пусть сами ищут лабаз.
За приятным занятием Кучерявый не обратил внимания на то, что ни склон, ни лес не были похожи на те, по которым он шел вчера. Да и как заметить неопытным глазом все нюансы как будто однотипной тайги? Вечером он шел, думая о своем отряде, и не замечал, какой там лес или склон — неохотнику не бросаются в глаза таежные приметы. Склон, по которому он поднимался к вершине гольца, был крутой, поросший мелким и густым лиственничником, с ерником и багульником. Там был северный склон — селемджинский. Тут же деревья выше, кустарника меньше, а главное много брусники. Склон шел к Бурее. Это стало понятно значительно позже. Тогда же он жадно поглощал бруснику, до тех пор пока не появилась оскомина.
Раньше всегда приходилось ходить с кем-нибудь, кто лучше знал тайгу. Куда шли они, туда и он, не зная и не обращая внимания на дорогу и приметы. Сейчас же только одно стремление — вниз к реке владело им, туда, где стоят палатки.
Ребята, наверное, уже ушли к лабазу и оставили ему кулеш и чай. Пускай хоть не сладкий, но крепкий, восстанавливающий силы. А может быть, они только поднимаются на голец и где-нибудь идут рядом? Он протяжно крикнул. Ответа не было. Сложив ладони рупором около рта, он закричал изо всей силы. Повернул рупор в другую сторону. И опять молчала тайга. Видно, далеко в сторону взял. И он почти побежал под гору.
Кончился сухой склон. Лес поредел и сменился марью. Вчера еще все лиственницы стояли зеленые, а сегодня на многих из них стала пробиваться желтизна. Когда нога попадала между кочек, из-под нее выжималась вода. На кочках краснели бусинки клюквы. Голубика, кустиков которой было здесь много, осыпалась. Только кое-где среди окрашенных осенью красновато-фиолетовых ее листьев висели сморщенные синие ягодки. Михаил пошел медленнее, часто нагибался, собирая иногда прямо с земли голубичные ягоды. Но разве сейчас наберешь скоро? Это летом провел рукой на ходу по кустам — и полна горсть крупной и сочной ягоды. Сейчас голубика получила еще больше сладости, отдавала вином.
Пологий склон с марью тянулся долго и вывел к ручью, совсем не похожему на реку, около которой остановился отряд вчера. Там прозрачная вода бежала по камням и гальке, а тут, буроватая, еле двигалась среди осоковых кочек — даже дна не видно. Кучерявый подумал, что вышел к верховью реки и пошел вниз по течению. Наверняка река приведет к лагерю. Всегда нужно идти вниз по течению реки, и придешь к жилым местам. Эту истину он твердо усвоил, но не знал одного, что до поселков в сторону Бурей от этого места было не менее ста двадцати километров.
Идти по берегу совсем плохо. Высокие кочки гнулись под тяжестью тела, ноги глубоко проваливались в воду. Они давно промокли, и вода, хлюпая, выбивалась фонтанчиками из чуней. Михаил немного поднялся по склону и пошел по моховой мари. Она меняла свой буровато-зеленый летний наряд на праздничный осенний. Покраснели листики карликовой березки, яркими пурпурными пятнами блестел арктоус, верхушки кочек краснели от клюквы, кое-где червонным золотом выступали ивки. Вся эта ярко-красная долина была оторочена золотистой лиственницей. Впервые Михаил увидел таежную осень. Казалась фантастической красная долина, совсем непохожая на палево-желтые украинские степи.
Пройдено уже несколько километров, а марь не кончалась. По ней всегда трудно ходить, и тем более голодному. Не чувствуется прежней бодрости, тело ватное. Нетвердо ступают ноги и как-то лениво вытаскиваются из пружинящего сырого мха. Он поднялся еще выше по склону, туда, где больше лиственниц, а моховая перина тоньше. Но там стал гуще багульник, а это тоже не асфальт. Он присел на сухой бугорок с голубичником — таких много по окраинам марей.
Однако нужно идти. Через некоторое время долина сузилась, марь пропала. Вот наконец та самая речка, прозрачная вода быстро бежала среди камней по крупной гальке.
К самому берегу подходил лес, занимая узкую ровную площадку. Такие вытянутые сухие площадки Лунев называл террасами. На сухой террасе тоже была брусника, но оскомина не давала есть много ягод. Он клал их в рот по две-три, давил языком о нёбо и проглатывал.
Еще немного — и он подойдет к лагерю. Но время шло, речка и долина не меняли своего вида, а лагерь не появлялся. На крики никто не отзывался: наверное, все на гольце и в лагере никого нет. Шел он медленно, часто садился отдыхать, собирая ягоды. Иногда попадалась красная смородина-кислица, а изредка уже сошедшая жимолость. Срывать их удобно — высокие кусты не заставляли нагибаться. Они разнообразили брусничное меню. Отдельные ягодки жимолости, такие же сморщенные как и голубика, приятно-горьковатые.
Он совсем потерял чувство времени. Сквозь толстый слой облаков не было даже намека на солнце. Неожиданно рано стало смеркаться, и опять начал накрапывать дождь. От частых криков уже саднило в горле и голос стал не столь громким.
Дождь пошел сильнее. Страшно было мокнуть на ночь без надежды обсушиться у костра и согреться в спальном мешке. Михаил устроился на ночь в группе густых елей. Уснуть так же быстро, как вчера, не удалось. Он перебирал в памяти подробности похода и внешнего вида лагеря. За весь путь по долине сегодня он не видел похожих мест, хотя речка наверняка та же. А может, ручей в долине с марью был притоком той речки и он вышел к реке ниже лагеря? Ну все равно нужно идти вниз по течению. В тридцати километрах от лагеря на той же речке расположилась база партии. Если не в лагерь, так на базу он все равно попадет. Правда, идет он медленно и тридцать километров в один день уже не пройти. Но не было сомнения, что единственно правильный путь лежал вниз по долине. С этим он и заснул.
Приснилось, как два дня гуляли на свадьбе сестры. Два дня почти без перерыва ели и пили. Сон был так ясен и правдоподобен, что, открыв глаза, он не сразу понял реальную обстановку. Ветер дул вдоль долины, срывая крупные капли с хвои и листвы кустов. Шумела река. Дождь прошел, но тучи неслись быстро и низко. Желудок урчал и требовал пищи. Разувшись, он начал растирать озябшие ноги.
Нужно скорее идти, но страшила сплошная стена мокрых кустов. Сильный ветер должен быстро обсушить их — нашел Михаил оправдание нежеланию двигаться. Он забылся. Проспал, наверное, недолго, а потом встал и пошел, обходя густые кусты.
За целый день только в трех местах было что-то знакомое, и это вселило уверенность в правильности пути.
Ночь была холодной. Облака разнесло. Вызвездило. Но перед утром навалился густой туман. Спал он совсем плохо. В желудке начались боли. Холод пробирал до костей, как ни кутался в ватник и рюкзак. С рассветом начались поиски ягоды. Но она не давала утихнуть боли в желудке. Сильно докучала оскомина. По густому пойменному лесу идти совсем трудно — давила слабость. Часто путь преграждали старичные озера, их приходилось обходить и переходить заболоченные топкие понижения.
Боль в желудке становилась все сильнее. Казалось, пилят его тупым ножом. Уверенность, что сегодня он все равно подойдет к базе, давала ему возможность подолгу собирать ягоды. За два-то дня не только дойти — проползти можно эти тридцать километров.
Отличное качество — уверенность. Она придает спокойствие, работоспособность, не отвлекает на бесплодные думы и поиски других путей. Но в данном случае уверенность была заблуждением и ослепила Кучерявого, как очень многих, у которых она переходит в упрямство.
В одном месте почти из-под ног веером разлетелись рябчики. Молодые выросли. Он съел бы их сейчас тройку. Какое нежное у них мясо! Два из них уселись почти рядом на ветки и, вытягивая свои краснобровые головы, с любопытством осматривали невиданное ими существо. Но даже если бы он смог их поймать, то как их есть, когда нет ни костра, ни котелка? Через некоторое время он спугнул выводок глухарей. Громко хлопая крыльями, поднялась матерая ко-пылуха, а за ней уже совсем большие глухарята. И почему это дальневосточники считают глухарей лучше рябчиков? Рябчики Михаилу нравились больше. Но сейчас он не стал бы разбирать. Весь этот день птицы как будто сговорились дразнить его. Они вылетали из-под ног и совершенно нахально садились совсем близко. Он бросал в них палкой. Когда палка пролетала мимо или падала около дерева, на котором они сидели, птицы поворачивали головы, следя за ее полетом, и не каждая из них улетала.
В тайге считают, что все птицы делятся на два вида — съедобные и несъедобные. Съедобные — те, которых можно убить, а несъедобные все остальные. В этой долине летали только несъедобные. Он провожал их глазами и вспоминал, какие можно приготовить из них кушанья. Будь у него сейчас ружье — настрелял бы целый рюкзак и принес бы на базу…
Наступила четвертая ночь, а никаких признаков ни лагеря, ни базы не видно. Наверное, долго возился с брусникой да на рябчиков смотрел, думал Михаил. Ну ладно. Завтра уж наверняка не позже чем к обеду он подойдет к базе.
Зажав руками режущий живот, он пытался и долго не мог заснуть.
…Вдруг совершенно ясно он увидел длинный стол. Тарелки и миски, котелки и глиняные горшочки полны мясом, сметаной, варениками, жирной лапшой и галушками, пироги и молоко — чего-чего не было на этом столе! Люди за столом жадно поглощали вкусную еду. А он так устал, что стоял немного в стороне и не мог двинуть ни ногой ни рукой, чтобы достать кусок. Он хотел крикнуть: «Дайте хоть кусочек!», но рот не раскрывался…
… Холодные звезды мерцают сквозь хвою. Издали слышен шум реки.
Он рубит просеку. Рубит, рубит. Болят ноги и руки. Топор вырывается из негнущихся пальцев. А в стороне на большом костре варится мясо — полное ведро. Это копылу-ха и ее большие птенцы. Как вкусно пахнет!
— Руби, руби, — кричит Венька. — Ты моложе всех!
Он больше не может, бросает топор и тянет руки к мясу. Вот уже чувствуется его тепло. Но копылуха взмахивает крыльями и вылетает из ведра вместе с глухарятами. У него нет даже ножа, чтобы кинуть в них.
…Звезды блестят через пихтовую хвою…
Все ребята из отряда пригоршнями суют ему в рот бруснику.
— Ешь, Миша, ты самый молодой!
Он старается жевать, жевать, жевать, но не может проглотить.
Не было конца ни этой холодной ночи, ни видениям. Все они наполнены едой и невозможностью вкусить ее. Ночь не принесла отдыха. Сильно болел желудок. Он требовал пищи. Сейчас не только сырого рябчика, лягушку съел бы, но в вечномерзлой земле ни лягушек, ни червей нет.
Утренний туман разогнало быстро.
А почему солнце встало с запада? Вчера он не обратил внимания, что оно впереди, когда был уверен, что идет в северном направлении в сторону Селемджи. Михаил сидел и не мог понять: явь это или продолжается кошмарный сон. Когда же убедился, что день настал наяву, перед ним закружились кусты и деревья, как будто горы и небо вывернулись наизнанку и солнце стало ходить с запада через север на восток. Тайга и реки издевались, подсовывая вместо знакомых нехоженые места. Долго сидел он не в силах понять, что произошло. В голове не умещалась мысль, что все это время он не приближался, а удалялся от базы партии. С трудом он восстановил в памяти, что, прежде чем пойти к югу, к гольцу подходил почти с востока, значит, чтобы сократить путь и вернуться обратно в ту долину, где остался лагерь, нужно пойти на восток и перевалить хребтик, разделяющий две реки.
Сначала он встал на четвереньки и, перебирая руками по стволу, поднялся на ноги. Болели суставы. Колени и локти почти не гнулись. Пальцы не могли сжаться в крепкий кулак. Чтобы сломать ольховую палку для ходьбы, ОН потратил уйму времени и сил. Ольховая ветка гнулась, расщеплялась, но ее волокна никак не хотели рваться. Пришлось перегрызать их зубами. Ольха надолго оставила горький вкус во рту. Эта работа разогрела.
Идти в гору почти нет сил. Кочки, багульник, кустарниковая березка, на них раньше и внимания-то не обращал, тормозили и останавливали ноги. Опираясь на палку, все же побрел вверх, заставляя себя делать непосильное — обязательно нужно перевалить этот хребтик! Все плыло перед глазами, рябило, перескакивало с одного места на другое. Все время хотелось сесть и больше никуда не двигаться. Но нет, обязательно нужно дойти до базы.
Около середины дня звон в ушах стал настолько сильным, что, казалось, летают несколько самолетов. Откуда сейчас они? Незачем им тут летать! Но чем дальше он вслушивался, тем явственнее становился самолетный гул там, на севере, около гольца, откуда он пришел. Гул то нарастал, то пропадал. Но зачем так долго летать самолетам — аэрофотосъемка-то здесь уже прошла.
Усталость клонила книзу. Солнце пригревало так, что появилась испарина, а по лицу катились капли пота. Он уже не садился, а падал на землю и тут же засыпал. Казалось, засыпал только на минуту, а потом с трудом поднимался и ковылял дальше. Когда уже совсем стемнело, он дошел до обратного ската водораздельного хребтика и свалился под пихту. Началась новая, наполненная кошмарами ночь.
Чуть только посерела ночная чернота и стали различаться белесые пихтовые стволы — ее тут называют белокорой, он побрел дальше. То ли притерпелся, то ли действительно желудок меньше болел, боль стала ноющей, постепенно утихала и меньше занимала его мысли. Нужно скорее выйти к реке.
Во второй половине дня высоко, прямо над головой, прошел самолет. Сейчас бы костер развести, а нечем. Да и пока его разведешь, он сто раз улетит — все равно не увидит. Ну а если увидит, то что? Подумаешь, один человек по тайге ходит, на что он летчикам нужен. Они-то наверняка не знают, как трудно ходить по тайге. Через некоторое время самолет прошел в другую сторону, но уже южнее.
Какой поганый лес вдоль рек! Не менее часа Михаил продирался через сплетенные ветви ольхи, жимолости, шиповника, смородины, ивы. Смородина! Во многих местах ее красные кисти надолго останавливали его. Кроме красной тут росла очень вкусная смородина маховка, но ягод на ней было мало.
Вот и речка, такая же прозрачная и быстрая журчит по гальке между валунами. Но. она также текла на юг, к Бурее. Ноги подкосились, и он упал на прибрежные кусты. Зачем было тратить два дня для того, чтобы с таким трудом перевалить хребет в том же бассейне Бурей? В мозгу удивительно четко возникли ясные картины и все детали этих кошмарных дней. Вспомнились все разговоры о планах экспедиции и отряда, о приметах в тайге и о том, что до Бурей не меньше ста километров, а до населенных мест еще больше. Разве можно при его состоянии пройти сто километров. А дальше на юг ни один из отрядов не работал. Значит, нужно поворачивать назад по тому же пути, чтобы не зайти куда-нибудь в сторону.
Следующий день был наполнен ужасным напряжением сил для подъема к водоразделу. Ноги не хотели двигаться. Лицо заливал пот. Что случилось с авиацией? Самолеты летают и вдоль долин, и поперек. А, наверное, на будущий год аэросъемку делают. Но уж с Венькой-то больше ни за что не пойду.
Широкий водораздельный гребень покрыт темнохвойной тайгой. Ни ягод, ни воды. Так не хотелось делать лишний путь на спуск в долину, но пришлось — мучила жажда. Как только он делал резкие движения или начинал идти быстрее, кружилась голова.
К вечеру облака спрятали солнце. Пускай, теперь-то он знает, в какую сторону идти! Ночью порывы ветра срывали желтую хвою лиственниц и окончательно оголили лиственные кусты и березу. К утру густо повалил снег.
Михаил уже отчетливо не помнил, как прошла эта страшная ночь. Утром он разорвал по шву рюкзак и сделал полуплащ, полукапюшон. Снег валил весь день почти без перерыва. Он сделал белыми деревья и кусты, покрыл толстым слоем землю, скрыв под своим саваном последнюю доступную пищу.
Желудок уже не болел. Голод как будто заснул. Наступило безразличие. Мир воспринимался посторонним, ненужным. Совсем все равно, идет ли снег или светит солнце, есть ли брусника или пропала. Искать ее под снегом трудно— разве случайно, когда ногой зацепишь. Хоть и не хочется, а есть нужно — иначе не дойдешь.
Дальше дни и ночи как-то перемешались. В мозгу было только одно — дойти, не выходить из этой долины, которая приведет к лабазу, и поддержать силы какой-нибудь пищей. Тайга забита ею до отказа. По ветвям прыгали белки. Из-под ног слетали рябчики. На снегу виднелись следы мышей, каких-то зверей и птиц. Несколько раз шарахались в сторону и уходили в чащу лоси. Но все это было недосягаемо. Хоть бы дохлый какой попался — всякого бы съел. Он перепробовал кору всех кустарников, и почти вся она была горькая. Семечки лиственничных и еловых шишек царапали гортань, но все равно он глотал их. Трава стала сухой и пресной, а корни жесткие и почти не давали сока.
Спать подолгу не приходилось. Несколько минут дремы— и начинаешь окоченевать. Холод гнал, а слабость и усталость валили на землю. Он садился, дремал, замерзал, вставал, шел несколько минут и опять, садясь ненадолго, засыпал. Грыз кору прямо на стволиках кустов, жевал траву, но она только вызывала слюну.
Однажды он проспал дольше обычного. Поднялся уже засветло. Снег покрыл его. Он сделал несколько шагов и пересек совсем свежий медвежий след. Чуть не настоящую тропу протоптал вокруг спящего медведь, обойдя вокруг несколько раз. Видно, зверь был сыт. Ну и пусть. Главная цель — лабаз. Все остальное не мог уже переварить истощенный мозг Кучерявого.
За эти дни Михаил познал многие тайны тайги: знал признаки распространения брусничника. Знал, где пасутся рябчики в разное время суток. Узнавал места, где был прежде. Только тогда он прошел здесь в один день, а обратно и в три дня не осилишь.
Он еще не успел дойти до той длинной мари под гольцом, когда перестал валить снег. Ночью он потерял сознание. Сколько длилось полумертвое состояние? Очнулся от яркого солнышка, сильно пригревшего бок, лицо и ногу. Другая нога пока ничего не чувствовала. Полулежа он разулся и, расстелив портянки на кустиках, стал растирать ногу. Даже солнце не вызвало радости. Только уже лежа в больнице он понял: не отогрей его солнце, так и остался бы он там на берегу речки, на которой появились уже забереги.
Опять пролетел самолет. Он летел сначала к гольцу, потом как раз над долиной, где двигался Кучерявый. Можно было бы выйти на полянку метрах в ста, но это же четверть дня пути. А потом самолет все равно не сядет, а увидит ли — неизвестно.
Самое мучительное время настало при подъеме у верхней части гольца. Полегший кедровый стланик отнимал силы уже при третьем шаге. Среди кустов скопилось много снега. Веток почти не было видно, и ноги попадали в них, как в капкан. Для того чтобы освободиться из их тисков, требовалось столько же сил, сколько на сто метров ходьбы по ровному месту.
Выше стланникового пояса начались обледенелые каменистые осыпи. Оставалось только одно — ползти. Руки и без того почти не сгибались, а тут еще снег и подернутые ледяной коркой камни. Промокли брюки на коленях, на них стали расширяться недавно образовавшиеся прорехи. Хорошо еще, что день выдался солнечный. Но руки не отогревались. Сытый и небольной человек эту полосу каменистого склона прошел бы самое большое минут за двадцать. Кучерявый полз больше полдня. И все же казалось, что ползти быстрее, чем идти.
Уже под вечер, забравшись на ровную площадку гольца, Михаил издали увидел лабаз: полегший стланик теперь не заслонял его. Хотелось бежать к нему. Но как во сне, не двигались руки и ноги. По снегу он делал только два-три шага и останавливался, переводя с трудом дыхание.
Затемно он подошел к лабазу. Его открытая дверца болталась на кожаной петле. К отверстию была приставлена лестница в пять ступенек. Кучерявый знал, что сюда завезли продуктов на два отряда или на два сезона одному отряду. В этом районе работал только один их отряд. Значит, продуктов много, но почему ребята бросили лабаз открытым?
Как трудно подниматься по лестнице! Уже на третьей ступеньке он почти потерял сознание. В глазах плыли красные и зеленые круги, в ушах стоял непрерывный звон. Дрожащие руки никак не могли подтянуть тощее тело на следующую ступеньку, а нога не могла до нее дотянуться. Зачем они сделали такие редкие ступеньки?
Совсем стемнело, когда, перегнувшись через порог, он упал грудью на грубый, неотесанный бревенчатый пол, а ноги еще висели на лестнице. Внутри ничего не видно. Пошарил вокруг. Только голые бревна. Полежав несколько минут, он сделал еще отчаянное усилие, чтобы переместить ноги в лабаз. Пополз по полу, ожидая нащупать ящики и кули, которые здесь должны быть. Один угол — пусто. Второй — тоже. У задней стены два ящика. Один совсем пустой — даже крошек никаких нет. Второй забит. Ага, наконец-то!
Больших трудов стоило открыть крышку фанерного ящика. В нем лежали пачки махорки и несколько коробок спичек.
Впервые за девятнадцать дней из глаз Михаила потекли слезы. Надежда, из-за которой он преодолел невероятные трудности, разбилась вдребезги. Но может быть, он не все рассмотрел? Чиркнул спичкой. Нет, только два ящика — и больше ничего: ни одной корки, ни одного куска, ни одной консервной банки.
Охватившая его слабость, особенно сильная после такого физического и морального напряжения, повалила в сон. Впервые за девятнадцать дней он спал под крышей, но здесь не было теплее, чем там внизу, в лесу.
Хорошо еще, что спички есть, теперь идти легче будет. С этой мыслью он проснулся. Было совсем темно. Он скинул пустой ящик, сполз вниз и поджег его. Огня не хватило, чтобы отогреться до конца, и он пополз вниз — в долину селемджинского бассейна, к тропе и дровам. Надежда на тропу и тепло костра повела его дальше и вела еще почти два дня…
Ко времени трехнедельного голодания Михаила Кучерявого я уже испытал, что такое голодный поход в тайге. В середине того же сезона полевых работ невдалеке от тех же мест начались продолжительные и сильные дожди. Они уничтожили броды через многие речки. Даже небольшие ключики превратились в непреодолимые преграды. Шли мы вдвоем, имея продуктов максимум на два дня. Долгие поиски переправ и обходы водных преград окончились тем, что семь дней пришлось питаться только ягодами и грибами. Но мы знали, где находимся. У нас были спички и плащи. Мы имели возможность обсушиться, обогреться и почти нормально выспаться. Тем не менее мы настолько отощали, что еле плелись. Я испытал чувство безразличия и апатии. Слабость влекла на землю ежеминутно. Хотелось сесть и больше не вставать. Но нас было двое. Мы стеснялись показать друг другу слабость. Это заставляло идти. И когда уже совсем ноги отказывались передвигаться, кто нибудь говорил: «давай попасемся» или «давай сфотографируем — место очень красивое». Фотографий этого похода у меня накопилось больше, чем за предыдущие два года.
Сопоставляя голодные походы свои и Кучерявого, я далеко не был уверен, что смог бы выдержать хотя бы половину его рекорда, половину того пути и холода, который преодолел он. До сих пор мне непонятно, как человек мог остаться в живых, ночуя в снегу без костра?
Терраса Орловой

«К. Ф. Орлова погибла при загадочных условиях. Террасу, которую К. Ф. Орловой так и не удалось исследовать до конца, впоследствии исследовали другие геологи. Эта терраса получила имя Орловой. На террасе много золота. Здесь организуются гидравлические работы».
«Очерки по истории Ленских золотых приисков», Иркутск, 1949.
С мая тысяча девятьсот сорокового года началась моя пятая экспедиция вообще и восточнее Байкала в частности. Все четыре прошлых экспедиционных сезона отряд состоял из рабочего, обычно мастера на все руки, оленевода-эвенка, знающего тайгу, как свой чум, и десятка вьючных оленей. Управлять такой организацией не представляло труда. Такой коллектив обеспечивал все жизненно необходимые запросы. Теперь же мое высокое звание начальника отряда сохранилось, но к середине лета отряд разросся до тридцати человек — это больше, чем вся наша первоначальная экспедиция, выехавшая из Москвы. Это потому, что мы с только что окончившим географический факультет геоморфологом — моим помощником и другом Кирой Орловой предсказали никем ранее не замеченную золотоносную россыпь в широкой террасе.
Кира была замечательным помощником. В мой отряд она напросилась сама, считая этот участок поисков самым легкодоступным по сравнению с участками других отрядов. Она никогда не оспаривала моих решений и распоряжений и с готовностью предупреждала их выполнение. Решительно нападала на всех посягавших на интересы отряда и проявлявших хотя бы малейшее недоброжелательство к делу или ко мне.
Вообще-то раньше никто и не догадывался, что та непонятная форма рельефа, на которую мы обратили внимание, на самом деле речная терраса. Тем более никто не мог подумать, что в расширенном участке долины верховья реки Хомолхо, где без малого век мыли золото, могла сохраниться хоть какая-нибудь еще мало-мальски промышленная россыпь. Однако многие признаки убеждали нас в перспективности поисков именно в этом широком участке долины.
Как только экспедиционное начальство убедилось в реальности моих доводов, у нас сразу появились деньги, лошади, горнопроходческий инструмент, прораб-разведчик Раменский и топограф Колобаев с пятью рабочими. Рабочих же для проходки разведочных шурфов искать и нанимать мне было предоставлено самому. А где их найдешь в Дальней Тайге Ленского золотоносного района на полузаброшенном прииске Хомолхо?
Хомолхо! Сто с лишним лет назад река прогремела на всю Россию не хуже Клондайка. Именно из ее совершенно безлюдной, промерзшей долины разлетелась весть о несметных золотых сокровищах. Именно Хомолхо спустя шесть лет после открытия родила дальнетайгинские золотые прииски на притоках Жуй, а те в свою очередь через тринадцать лет породили бодайбинские прииски Ближней Тайги, или золотую Лену. Золотая же Лена подняла царскую Россию мощным революционным движением в 1912 году.
Про открытие золота на Хомолхо ходило много легенд, вот одна из них.
В начале 1846 года на ежегодную пушную ярмарку в село Витим пожаловал то ли сам первой гильдии купец Константин Петрович Трапезников — один из «отцов» Иркутска, то ли кто-то из его приказчиков. Привез он туда ситец и бисер менять на соболей. Идя по ярмарке, купец заинтересовался работой одного тунгуса. Кочевой тунгус из жуюганского рода восстанавливал на место отставший от нарты полоз, приколачивая его странным камнем. В увесистой ржаво-черной пластинке кристаллического сланца тускло блестели очень правильные кубики (это был пирит — серный колчедан). Блеск кубиков тускнел рядом с блеском ярко-желтых брызг по черному камню. Очень красивый камень! Выменяв камень на щепотку махорки, купец подробно расспросил, откуда привез его охотник.
Дальше начинается достоверная история золотой Лены.
Летом того же года в верховье реки Хомолхо, в центральной части Патомского нагорья, у подножия гольца Высочайший появились сразу две партии золотоискателей. Одна — под начальством золотознатца олёкминского крестьянина Петра Корнилова, снаряженная Трапезниковым, другая же, руководимая тобольским мещанином Николаем Окуловским, представляла интересы действительного статского советника Косьмы Григорьевича Репнинского.
19 сентября 1846 года олёкминское полицейское управление зарегистрировало заявку Трапезникова и Репнинского на разработку золота речки Хомолхо, впадающей в Жую, сливающуюся с Чарой, которая впадает в Олёкму — приток Лены. Возникли первые в ленском бассейне прииски Спасский и Вознесенский. Староста жуюганского рода эвенков Афанасий Якомин получил за каждый прииск по двадцать пять рублей серебром и официально уступил золотопромышленникам «государственные пустопорожние земли», которые входили в район кочевья его рода.
Нет, не были эти земли пустопорожними! Вскоре только одно ленское золотопромышленное предприятие стало одним из крупных в мире по добыче золота. За сто лет эксплуатации Лена дала четверть всей добычи золота в России. Именно здесь впервые построена гидравлика для его разработки в 1889 году. Сейчас гидравлическая разработка россыпей применяется широко во всем мире, а та первая, изобретенная русским инженером М. А. Шостак, работает до сих пор в районе Хомолхо — на прииске Кропоткинском. Именно на золотой Лене построена первая в России электрическая железная дорога и высоковольтная электростанция. Именно здесь в 1858 году изобретены ленточный транспортер — «песковоз Лопатина», машина для вскрытия торфов, оригинальный водоподъем, шлюзовая промывная машина Кулибина, наклонные шахты и многое другое, что введено в золотую промышленность всего мира. Богатое содержание золота в соединении с русской сметкой сделали знаменитой золотую Лену.
Но какие страсти и голодные смерти, разврат и обогащение, жульничество и убийства бушевали там до революции? Каких людей погубил, каких обогатил коварный металл, сейчас уже не восстановить полностью в памяти людей. Шишковская «Угрюм-река» это лишь пол странички бурной истории Витима, Бодайбо и прииска Апрельского. Но Угрюм-рекой можно назвать не только Витим, а любую реку Патомского нагорья…
В этом рассказе повествуется предпоследняя строчка истории Хомолхо — прабабушки золотой Лены.
Наша Жуинская экспедиция треста «Золоторазведка» получила задание с помощью новых достижений геоморфологической науки найти золото там, где оно не найдено с помощью интуиции старателей-практиков, дореволюционных горных инженеров и концессионеров «Ленаголдфилдз», и возродить покинутую Дальнюю Тайгу.
Итак, где найти людей на нелегкие горные работы по разведке россыпи, погребенной в мерзлой земле и замаскированной заболоченной наклонной равниной «увала»?
К моему удивлению долго искать не пришлось. Золото, как болтливая женщина, не в состоянии сохранить тайну своего месторождения, если оно открылось хоть одному. У нас не было ни радиостанций, ни телефонов, и все же весть о перспективной террасе разлетелась со скоростью света и привлекла к нам бывалых, опытных и даже чересчур предприимчивых рабочих. Не скажу, чтобы сложившийся коллектив очень радовал меня. Но что делать — других людей не было, а задание выполнять нужно.
Первым пришел Алешка Соловьев. Он немногим старше меня, но в жизненном опыте имел несомненное преимущество. От локтя до мизинца его левой руки тянулся шрам.
На мой вопрос, как он получил такую отметину, последовал скромный, вполне самокритичный, без тени бахвальства ответ:
— За нетерпеливость. Посадили на всю пятилетку, а я и половины не вытерпел — бежал.
— Как попал в лагерь?
— На домушничестве застукали. Начал-то шарашить с карманов в голодные годы под Москвой. Надо было как-то кормиться. Потом постепенно до Ростова дошел. Там уже высший класс превзошел. Оттуда аж до Сибири довезли. А у меня мама под Москвой. Сколько лет не видел — скучаю. Теперь намертво завязал — вот домой бы вернуться!
Мне импонировала такая откровенность. Соловьев стал заведовать всем нашим имуществом и продовольствием, одновременно выполняя обязанности поискового рабочего. Он оказался удивительно компанейским, веселым и абсолютно честным человеком. Соловьев стал моей правой рукой. Как бы мы ни уставали, какие бы беды нас не преследовали он никогда не терял веселого вида. С шутками и песнями он варил обед, ставил палатку под проливным дождем, вьючил лошадей, чинил сапоги, ездил за продуктами на прииск Кропоткинский, где неизменно добивался всех необходимых и, как правило, дефицитных предметов.
Жора прибыл с другого конца нашей страны. Родился он во Владивостоке. Его отца расстреляли за активную помощь атаману Семенову. До восемнадцатого года Жорин отец владел владивостокскими бегами (ипподромом) и имел возможность жить шикарно. Два его сына получили в свое время хорошее воспитание, которое не позволяло унизиться до какой-нибудь черной работы. Однако, подчиняясь настойчивым требованиям желудка, они вынуждены были искать пропитание. Недолго думая, они избрали себе работу с оттенком романтики. Владея английским и китайским языками, братья оказывали неоценимую помощь контрабандистам — транспортировали шелк и спирт оттуда и ходкие товары вплоть до золота туда.
Но в двадцать седьмом году Василий Константинович Блюхер накрепко закрыл границу. При очередном возвращении из-за рубежа в перестрелке брат был убит, а Жору осудили на восемь лет, и попал он на большую стройку. Работал на совесть. В результате через три года — новый паспорт и все четыре стороны.
Но Жора слишком уважал драгоценный металл — это был предмет его мечтаний с раннего детства. Он решил добывать его сам, но не думал, что это столь трудно. После сильного сомнения, брать или не брать не сумевшего побороть в себе жажды к контрабандной романтике человека, я решил все же рискнуть и направил его забойщиком в бригаду Матвея Ивановича, тонкого психолога, обладавшего недюжинными знаниями и организационным талантом. Мне казалось, что Жора приобретет навыки социалистического общежития скорее, поработав в мерзлом шурфе, чем на какой-либо иной работе.
Матвей Иванович по начитанности, знанию международной обстановки, эрудиции и многим другим качествам интеллигентного человека был недосягаем для любого члена нашего отряда. По летам он годился мне в отцы. В прошлом он был троцкистом, но, осознав бесперспективность троцкизма, ушел с политической арены в Дальнюю Тайгу.
Паспорт бригадира Михайлова был в полном порядке, чо добиться от него, что привело из Пешехонья в Дальнюю Тайгу, я не смог. Он вообще не любил много говорить. Высокий, статный, лет тридцати, он имел большие мозолистые руки, запросто поднимал десятипудовый вьюк на лошадь. Только по тому, с какой любовью он ухаживал за лошадьми, по аккуратности и бережливости, сноровистому обращению с лопатой и неправильной речи можно было узнать в нем крестьянина. Значительно позже выяснилось, что дошел он до Дальней Тайги из-за обиды, что его отца-мельника раскулачили и сослали.
Бригадир Мальцев пришел к нам последним — глубокой осенью. Среднего роста, кряжистый, слепленный из одних мускулов, он очень высоко ценил себя и не спешил идти под начальство такому зеленому специалисту, как я. Он мало говорил и много работал. Глубоко запрятанные маленькие глазки так и пронизывали насквозь собеседника. Его знали все жители приисков Хомолхо, Кропоткинского и Светлого. Однако, как оказалось впоследствии, аборигеном он не был. Руководил он старательской артелью из четырех человек, промывавшей «стулья» — неотработанные остатки россыпей высокой поймы Хомолхо. На долгие и упорные мои уговоры переменить призрачное счастье частного старателя на устойчивые заработки геологоразведочного бригадира он либо отмалчивался, либо коротко и, как мне казалось, насмешливо бросал:
— Повременю.
Пришел сам, когда убедился, что молодость наша не стала помехой «угадать» погребенную долину с золотом, которую здесь все считали «горным свалом» или пустым «увалом». Пришел, но не принес паспорта, который полагалось сдавать мне.
— Забыл в сундуке у жены на Кропоткинском.
Организовал работу и работал Мальцев, опережая всех бригадиров в проходке шурфов. Зарабатывал порядочно и проникся ко мне доверием. Как-то в порыве откровенности под новый сорок первый год он приоткрыл уголок своей жизни.
Шел тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Движимый слухом о баснословном золоте, только что открытом на Алдане, он с товарищами пришел по тропе от Большого Невера к месту, где теперь расположен город Алдан. Тогда только две избушки оживляли здесь чахлую тайгу. Год жестоких лишений, голода, неимоверных по тяжести трудов, и наконец в заплечной котомке два с лишним пуда золотого песка. Дальше почти месяц голодного похода обратно к Неверу. В десятке километров от железной дороги из кустов вышли трое с обрезами и велели положить котомки на тропу, а самим возможно скорее убираться на все четыре стороны. Пошли назад. Еще год работы, и теперь уже большой группой старателей вынесли золото к Неверу.
Но самой колоритной личностью нашего коллектива, несомненно был Александр Иванович Коновалов. Впрочем, мало кто знал его под этим именем, и, уж конечно, никогда никто так не величал. У этого шестидесятилетнего человека с мешками под глазами и заскорузлыми пальцами на потрескавшихся руках было другое всем известное длинное, как у арабов, имя: «Сашка-Тайга — сорок лет тайга — двадцать фунтов золота». В Ближней и Средней Тайге его знали буквально все от мала до велика и звали просто Сашка-Тайга. Он же отлично знал всю ленскую тайгу, все золотоносные ключи, всех старателей и все хитрости поисков благородного металла.
Родился он на бодайбинских приисках в семье рабочего, пришедшего искать счастья из Иркутска на Золотую Лену в самом начале золотой лихорадки. Счастья, конечно, честный рабочий найти здесь не смог и до смерти проработал в штольнях сначала в забое, потом на водоотливе. Всю жизнь он раскаивался в таком своем
шаге и восхищенно рассказывал об Иркутске, который в ту пору гремел в Сибири под названием Сибирского Петербурга. С раннего детства Саша слышал рассказы и представлял Иркутск в виде замечательнейшего города мира и всю жизнь мечтал поехать в эту «жилуху». Как только он подрос настолько, что мог держать в руках кайлу, стал помогать семье выбраться из долгов, приковывающих всех рабочих к хозяйским приискам. Потом работал в штольне прииска Андреевского.
В печально прославившемся на весь мир апреле 1912 года он вышел вместе с отцом и другими бастующими рабочими к народному дому прииска Надеждинского, где сидел жандармский ротмистр Терещинков, чтобы подать ему «сознательную записку». После первого же залпа парень сообразил повалиться рядом с убитым отцом. Через день от ран умерла и мать. Он прекрасно запомнил этот день и, не желая оставаться в опустевшем общежитии-бараке, ушел в Дальнюю Тайгу. Потомственный пролетарий превратился в романтичного бродягу-люмпена, доброго к трудовому люду и нетерпимого к жестокости, фальши и вообще к сильным мира сего. Всю жизнь он искал и добывал золото, но так и не приобрел той жестокой алчности, которую оно обычно вызывает, Яркий блеск благородного металла не ослепил зорких глаз, а его сладкий звон не заглушил журчание горных ключей и лесных шорохов в ушах Сашки-Тайги. Он просто презирал этот металл как предмет индивидуального обогащения. Золото стало для него средством анализа человеческих страстей и душ, средством своеобразного спорта для себя — мерилом собственных способностей и возможностей. Он слишком хорошо запомнил огромную братскую могилу прииска Надеждинского (ныне Апрельского), куда закопали его семью вместе с надеждой с помощью золота «выйти в люди» или получить возможность решать людские судьбы. На него произвел неизгладимое впечатление вид взмокшей от слез земли около той ямы, куда снесли около трехсот жертв Ленского расстрела. Не мог же он остаться в своем забое и также гнуть спину на тех зверей. Однако другой специальности, кроме промывки золотоносных песков, он не знал. Страна обетованная — «жилуха», манящая его с раннего детства, могла быть достигнута только благодаря его труду и благородному металлу. Со страстью охотника он выслеживал русловые и террасовые россыпи, потом собирал двух-трех человек и несколько месяцев яростно переворачивал тонны мерзлой земли, чтобы на несколько килограммов золота, заключенных в ней, достичь Сибирского Петербурга — родины его отца. Ему было ясно, что после девяноста лет хищнической охоты алчных людей в руслах и террасах Бодайбо, Патома, Жуй и Хомолхо не осталось мест, дававших когда-то по килограммам металла на тонну породы. Его устраивало пятнадцать и даже десять граммов на тонну перебуторенной земли, что обеспечило бы выполнение его мечты взглянуть на жилые места. Посмотреть — и вернуться обратно…
Бригада, собранная Тайгой, рубила себе избенку и, не пропуская ни одного дня, и в жару, и в стужу, и в дождь, и в снег, по колено в ледяной воде, ворочала землю. Было трудно. Сашка не давал отдыха, не терпел долгих перекуров, выгонял из бригады без жалости проявивших леность или нечестность, но никогда не ошибался в выборе фартовых мест. Зная его характер, к нему шел далеко не каждый, но тот, кто приходил, неизменно намывал достаточно металла быстрее многих соседей.
Когда в кожаном мешочке Тайги оказывалось ровно столько металла, чтобы обеспечить приличную одежду и средней пышности выезд в Иркутск, он созывал соратников.
— Вот вам золото, — говорил он, отсыпая точно равную долю себе. — Вот вам фартовая ямка. Как работать, вы теперь научились. Старайтесь. А я пошел в жилуху.
И Тайга шел к Бодайбинскому порту. Через несколько дней он возникал у окошечка золотоприемщика и менял часть золота на боны. Немного позже чисто вымытый, выбритый, благоухающий дорогим одеколоном, в костюме последней моды Тайга степенно поднимался к двери ресторана «Рекорд».
Меньше чем через неделю с опухшей физиономией в рваных штанах и немыслимо грязной рубахе с чужого плеча Сашка-Тайга, провожаемый благодарными собутыльниками, возвращался искать россыпи в Среднюю Тайгу.
«Рекорд» был непреодолимым барьером на пути Коновалова в жилуху. Так он и не преодолел этот барьер за все свои шестьдесят лет…
Разные люди, разные судьбы, очень разные наклонности и обостренные тайгой страсти. Конечно, очень нелегко и даже небезопасно управлять таким коллективом. Но люди заразились жаждой открытия. Ими овладел и неукротимый интерес, есть или нет тут золото, и смутные надежды на фарт. Все их страсти гасились работой.
А тут еще Колобаев! За пятнадцать лет таежных топографических съемок при сравнительно небольшой зарплате он превратился в нервного, мелочного человека, воспламеняющегося по каждому самому, казалось бы, незначительному поводу. Он ни с того ни с сего начинал кричать на своих рабочих или на кого угодно, кто попадался под руку. Его рабочие совершенно не были приспособлены к таежным работам. Разнузданные, ленивые, они даже не утруждали себя ежедневным утренним умыванием, особенно во время заморозков. Искатели легкой жизни вроде современных тунеядцев, они жестоко ошиблись, попав в тайгу. Ни легких заработков, ни тем более легкой жизни они тут не обрели. Особняком из этой группы стоял Бутаков. Он не любил распространяться о своей судьбе и прошлой жизни. На его широком лице зло посвечивали маленькие бесцветные глазки-щелочки. К топографу он попал, как говорится, из рук в руки от ворот лагерей, где он провел последние три года. Внешне Бутаков души не чаял в Колобаеве. Он прямо извивался, стремясь вылезти из кожи для удовлетворения интересов и малейших желаний своего непосредственного начальника. Подать, подвинуть, поддакнуть, вступить в разговор с поддержкой мнения топографа, казалось, было главным в его жизни. Когда тот раздражался и начинал кричать, Бутаков тоже начинал кричать на виновного, усиливая бессмысленный шум и взвинчивая нервозность.
Непреклонная честность и принципиальность Киры, ее отвращение ко всякого рода фальши и тем более лживости с первых же дней восстали против Колобаева и его рабочих. Буквально через несколько дней знакомства Колобаев и Орлова не могли спокойно видеть друг друга и взрывались по всякому поводу и без него. Забывая свое мужское достоинство, Колобаев мог грубо, обидно своим визгливым голосом набрать на Киру за то, что она повесила сушить полотенце на его палатку, так как на других палатках уже висели какие-то предметы.
Как из-под земли сейчас же возникал Бутаков и отпускал ехиднейшие замечания по поводу белья «провинившейся». Никакие уговоры не могли исправить создавшихся отношений и тем более характера топографа.
Пришлось разделить сферы исследования обоих подотрядов, чтобы потушить возраставшую ненависть. Окончив съемку перспективной площади в верховье Хомолхо, отряд Колобаева отправился вниз по течению в бассейну Семикачи— притоку Хомолхо, на который в то время не было карты. Отряд же Киры с рабочим, коллектором Володей Лиманчиковым — студентом Бодайбинского горного техникума на двух вьючных лошадях отправился в верховья реки Большого Патомана. В конце августа, когда будет закончена топографическая съемка Семикачи, все съемочные подотряды должны встретиться в устье этой реки на зимовье Семикача.
Зимовья в ленской тайге — это гостиницы, построенные сообразно потребностям зимнего гужевого транспорта через шестьдесят километров вдоль рек или зимних дорог, между наиболее важными приисками. Чаще всего зимовье состоит из двух комнат. Так сказать, в приемной устроены плита, небольшой стол и широкие нары во всю длину помещения. За дверью, во второй комнате, помещается смотритель зимовья. Обычно смотрителями становятся пожилые супруги, которые уже не могут промышлять ни в качестве охотников, ни в качестве старателей.
Семикача по здешним местам была, пожалуй, самым большим и благоустроенным зимовьем. Обе комнаты были приспособлены для приезжих, а зимовщик построил себе собственный домик с двумя комнатами, двор с сараями, баню. Как мне сказали еще в Бодайбо, зимовщиком здесь был бывший кулак, служивший денщиком Пепеляева, того самого генерала, о котором старики вспоминают до сих пор с содроганием из-за особенно изощренных зверств.
Когда мой подотряд в назначенный день пришел к зимовью, Колобаев уже занял одну комнату непосредственно у зимовщика для вычерчивания карты. Он рассчитал всех своих рабочих, кроме Бутакова, и те в поисках работы ушли на прииск Светлый. Но и Бутакова не было. За три дня до нашего появления приехал верховой милиционер и, не объясняя причины, отконвоировал его на Светлый, где помещался милицейский участок.
Вид зимовья и особенно зимовщика произвел на нас сильное впечатление. Огромная, почти в полтора километра длиной поляна раздвигала не очень высокие сопки, протягивалась вдоль долины Хомолхо, начинаясь прямо от устья Семикачи. Она была занята прекрасным, совершенно чистым лугом. Около леса стояли опрятные домики зимовья, в прибрежных кустах на берегу речки скрывалась баня. Траву скосили и собрали в несколько стогов, огородив их слегами от набегов косуль, которых здесь было великое множество. По стерне паслись две коровы. Во дворе и вокруг зимовья была идеальная чистота, что отличало его от других населенных мест ленской тайги. Мирная, идиллическая картина как бы сошла с полотна фламандского художника.
Оставив лошадей на попечение рабочих и коллектора около устья Семикачи, где решили ставить палатки, и подходя в противоположный край поляны к зимовью, я крикнул: «Эй, кто дома?» И с трех сторон горы вразнобой передразнили: «Эй… оо…аа». Акустика поляны была изумительной.
Через два километра от этой располагалась другая поляна немного меньших размеров, о чем мы узнали на следующий день.
На мой крик из сарайчика вышел зимовщик. От изумления я несколько мгновений не мог произнести ни слова. Он был копией пирата, запомнившейся с детства повести «Остров сокровищ». Невысокого роста, широкий в плечах, с неестественно длинными, почти до колен руками. Пестрая — красная с желтым — рубаха, подпоясанная веревкой, олочья из шкуры косули полузакрывали босые ноги. Седеющую голову прикрывал красный в «горохах» платок с узлом на правом ухе. В левом же ухе висела большая золотая серьга. На рябом лице несколько шрамов — то ли от медвежьих когтей, то ли от ножа. Так и казалось, что вот он сейчас подойдет и сунет мне в руку черную метку — пиратский знак самосуда. Но к удивлению, заговорил он очень любезно, ласковым голосом, резко контрастирующим с его пиратским обликом. Слащавость и чистый русский язык, без тени свойственного здешним якутам акцента еще более усиливали недоверие к искренности его тона. Впрочем, недоверие могло происходить от заранее составленного предвзятого мнения. В Бодайбо, знакомя меня с некоторыми нюансами его биографии, сказали, что семикачинского зимовщика арестовали после гражданской войны в 1923–1924 году, но вскоре отпустили, как и многих других преступников. Они, живя в изоляции среди тайги, ничего существенно вредного сделать не могли.
Вид зимовщика усугубил мое скверное настроение.
Мы давно не получали писем, а я особенно их ждал, так как в Москве осталась моя семья и должен был именно в конце августа появиться на свет наш с Надей первенец. Надя писала, что ожидаются трудные роды. Волнение жены передавалось и мне. Временами от воображения всяких ужасов — последствий неудачных родов я не мог спокойно работать, был невнимателен и часто раздражался.
К вечеру появился подотряд Киры. Она с бурной радостью бросилась мне навстречу и вдруг померкла, встретив равнодушное «здравствуй» и официальное пожатие руки.
Полевой сезон кончался. Были обследованы основные перспективные участки верховья Хомолхо и Большого Патома. Оставалось посетить долину Семикачи, что входило в мои обязанности, и несколько ключей, притоков Хомолхо, в районе устья Семикачи — Кирина забота. Впрочем, судя по форме долин и геологическому строению, оба этих участка были бесперспективными, и их обследование носило скорее формальный характер. Можно ожидать только небольшие остатки высоких террас, в которых обычно очень мало золота. Для выявления террас мы снимали профиль долин.
Анализ и сопоставление поперечных профилей долины в деле поисков россыпей — один из важнейших и необходимых методов. Именно с его анализа начинаются поиски. Коренные месторождения золота связаны с кварцевыми жилами и концентрацией пиритов. В процессе выветривания и переноса дождевыми водами горная порода сносится в долины речек. Тяжелый металл отлагается на дне водотоков. Проходят тысячелетия, водотоки врезаются в горные породы глубже и прежнее русло оказывается выше современной поймы — образуется терраса с погребенной на ее цоколе-плотике золотоносной россыпью.
Строение речных террас в принципе везде однотипно. На ложе коренных пород залегают грубообломочные и наиболее крупные, наиболее тяжелые аллювиальные (речные) отложения. В горах, в том числе на Хомолхо, это обычно валуны, крупная галька, плохо окатанные обломки кристаллических или метаморфизованных сланцев, кварцитов, мраморов. Вот тут-то и концентрируется золотоносная россыпь — этот промышленный слой золотоискатели называют песками. Выше отложенный материал становится мельче, лучше окатан — это галька, гравий, грубый песок. Как правило, золота здесь нет или очень мало и этот слой называют породой. Еще выше располагается самая мелкообломочная часть аллювиальных отложений: песок, суглинок, ил. Верхний слой называют торфами, хотя настоящего торфа там может и не быть.
В таких районах, как Патомское нагорье, где грунты охвачены вечной мерзлотой, летом чаще всего оттаивает только верхний слой террасовых отложений — мерзлотоведы называют его деятельным или сезонно-оттаивающим слоем. В этом маломощном талом слое скапливается много воды и от дождей, и от вытаивающих ледяных включений. Насыщенная водой порода начинает двигаться если не вся, то по крайней мере мельчайшие глинистые частицы просачиваются в песке и тем более в гравии или гальке. Обычно равнинные поверхности речных террас при этом деформируются. Террасовые бровки и уступы разрушаются. Вместо лестницы террас, которые присутствуют в любом горном районе, формируется неровная холмистая поверхность, а когда со склонов снос идет быстро, то, наоборот, одна наклонная поверхность, ничуть не напоминающая исходную форму террасовой лестницы. Именно такая наклонная поверхность и была в широкой долине верховьев Хомолхо. До нашего прихода никто в ней не ожидал погребенных террас. Старатели называли эту длинную, почти в четыре километра наклонную поверхность увалом, покрытым «горным свалом» — сползшими со склонов обломками. Побывавшие до нас геологи также присоединились к такому мнению. Видел верховья Хомолхо и самый авторитетный в то время ученый геолог Владимир Афанасьевич Обручев. Он полностью разделял гипотезу Петра Алексеевича Кропоткина о покровном и горнодолинном оледенении Патомского нагорья. Поэтому пологосклонную форму долины верховья Хомолхо он определил как троговую — выпаханную ледником, а отложения, покрывавшие пологий склон, — мореной. Всем известно, что в моренах никогда не бывало еще промышленных россыпей золота. Таким образом, и практики, и ученые были уверены, что расширенный правый борт долины Хомолхо бесперспективен относительно золота.
Впрочем, тогда еще не знали о мощных перемещениях рыхлых покровов по склонам под влиянием многолетней мерзлоты грунтов, а мерзлотные формы рельефа и отложения путали с ледниковыми. Догадки же об этом наблюдательного Александра Карловича Мейстера, известного исследователя Патомского нагорья, были резко раскритикованы В. А. Обручевым в статье «Ледники или грязевые потоки». Практики-старатели пробовали бить шурфы на пологом склоне и везде натыкались на «перебутор», то есть на несортированные пустые суглинисто-каменистые отложения. Они никак не обещали никаких надежд на золото.
Когда мы запланировали здесь разведочные линии шурфов, это вызвало скептическую улыбку Раменского и прямые насмешки Мальцева.
— Молодежь-то на горный свал кинулась. Глухарь шурфовать вздумали. Видать, денег невпроворот — девать некуда.
Но у нас были, как я считал, веские основания для разведки наклонной поверхности. В русле Хомолхо, в ее пойме и в низких террасах левого борта, напрочь перемытых прежде, было богатое золото. Так почему же ледник выпахал и отложил свои морены только на правом склоне долины Хомолхо и пощадил от разрушения левый борт? — задавал я себе вопрос. Стало быть, террасы должны сохраниться и на правом склоне. Но самые тщательные наблюдения и снятые профили не обнаруживали и намека на перегибы пологого склона. Может быть террасы погребены? Если же сохранились террасы, значит, должно быть там и золото, погребенное не только под «речником», то есть под речными аллювиальными отложениями, но и под покрывшим «речник» «горным свалом» — нужно только пройти его шурфами, чтобы убедиться в этом. Если же дойдем до «речника», то золото будет такое же, как было Взято из террас левого борта. В доказательство такого соображения я указывал на знаки золота в шлихах из подошвы правобережного полого склона хомолхинской долины. Если же террас нет, то все равно нужно убедиться в этом. Наши доводы взяли верх. На этой широкой террасе мы наметили несколько линий шурфов, и бригады рабочих били их всю зиму 1940/41 года.
Ниже устья Семкачи долина Хомолхо сужалась, а в шлихах речных отложений не содержала даже знаков золота.
Следующий день после сбора всех отрядов на семикачинском зимовье решили сделать банным. Рано утром рабочие начали заготавливать дрова, воду и топить баню. Один из них с двумя лошадьми был послан на прииск Кропоткинский за продуктами и письмами. Посылая его, я сетовал на долгое отсутствие известий из Москвы, гадал, кто родился — сын или дочь? Опасался за здоровье жены. Алеша Соловьев превращал мое нытье в шутку, а у Киры испортилось настроение, и она решила до бани уйти из лагеря и сделать профиль долины Хомолхо невдалеке от нашей поляны.
Чтобы не терять времени, Володя Лиманчиков, взяв старательский лоток и мою двустволку с патронташем, отправился на соседний ключ, вблизи места намеченного Кирой профиля, промывать шлихи. Он собрался быстро и ушел раньшё Киры. Она что-то долго и, как показалось, бесцельно копалась в своей палатке. Это раздражало, и я довольно резко поторопил Киру, сказав, чтобы вернулась в лагерь не позже двух часов дня. Она ушла сердитая, хотя ничего мне не сказала. Я остался в лагере и занялся составлением месячного отчета, табеля и ведомостей на зарплату.
К двенадцати часам возвратился Лиманчиков со шлихами и подстреленными рябчиком и белкой. Принимая от него ружье и патронташ, я заметил, что не хватало трех патронов, заряженных дробью.
— А где третий патрон?
— Да в рябчика промазал, — равнодушно ответил Володя.
— Киру Федоровну не видел? Где она теперь?
— Нет. А разве она должна на том ключе быть?..
Два часа. Мы уже все помылись в бане, а Киры нет.
— Вот копуша, всегда запаздывает!
Действительно Кирина тщательность в съемке и описаниях не давали ей приходить вовремя, и все к этому привыкли.
Часам к пяти на ночевку к зимовью подошла группа якутов.
Они убирали сено на полянах в долине Хомолхо ниже по течению. Нет, они никого не видели, кроме своих. Выстрелы они слышали: одни — два, другие — три.
Около шести часов я с Женей (второй коллектор из Бодайбо) отправился в район маршрута Киры, но, не обнаружив следов, мы вернулись. Кроме того, никак не верилось, что человек может пропасть, отойдя от лагеря не далее двух километров. Возвращаясь в густые сумерки, мы были твердо уверены, что Кира уже в лагере. У меня сжалось сердце, когда увидел плотно закрытую ее палатку и ответ, что она не возвращалась. Тревога охватила всех. Посреди поляны разложили огромный костер. Его отблески ложились на соседние сопки. Время от времени кричали, стреляли в воздух. Никакого ответа. У костра, балагуря, топтался Колобаев. Видимо для нашего успокоения, он рассказывал всякие таежные приключения и недоразумения.
Когда на востоке засерела новая заря, мы, растерянные и подавленные, прилегли отдохнуть. Часов в семь утра я пошел на зимовье мобилизовать на поиски якутов, но оказалось, что они уже разошлись раньше, чем обычно, по своим полянам именно в том направлении, куда ушла Кира. Зато в зимовье неожиданно оказался Бутаков. Он возвратился также со стороны Кириного маршрута.
— Когда пришел?
— Около часа ночи.
— Видел костер? Слышал как кричали?
— Слепой увидит. А рев километра за два слышно было.
— Почему не подошел?
— Устал очень — ведь поди шесть десятков километров за день отмахал.
— За что арестовывали?
— Да не арестовывали, а свидетелем на суд вызывали.
Послав коллектора за разведочной группой Раменского, которая работала в противоположной стороне километров за восемнадцать, все оставшиеся отправились по маршруту Киры.
Маршрут невелик. От полянки километра полтора он шел по хорошо утоптанному, сухому зимнику. На дороге не видно никаких следов, тем более от Кириных ичигов с мягкой подошвой. За первым ручьем, который опробовал Лиманчиков, Кира должна была повернуть перпендикулярно к дороге и, пользуясь анероидом, сделать профиль долины.
По ее маршруту не было скал, если не считать небольших выступов террасовых цоколей. Даже в случае падения с них вряд ли ушибешься. Высота здесь не более двух метров, а под ними толстая подушка мягкого мха. Таких выступов в суженной части долины было немного, и мы все осмотрели с особой тщательностью. Ни следов ноги, ни следов геологического молотка на скалах не было. Совершенно очевидно— Кира не подходила ни к одному такому обнажению. Образцы коренных пород в нашем деле брать обязательно с каждого обнажения, тем более в долине — ведь именно в скальных породах следует искать коренные месторождения золота.
— Что-нибудь одно из трех: либо Кирилл (так мы ее часто называли за мужественность характера) не видела этих выходов, либо оставила на обратный путь, чтобы не тащить камни в гору, либо она здесь не проходила вовсе.
— Если не здесь — значит, шла по берегу Хомолхо.
Подошли к берегу. Низкая узенькая пойма во многих местах еще больше понижалась и выходила в русло реки мелкогалечными и песчаными косами. Начиная от наших палаток и далеко вниз по течению за границу района, определенного нам для съемки, ни на одной косе не было никаких следов.
— Ну на песке-то следы должны были остаться, — сказал Алексей.
Действительно наши ноги оставляли заметные отпечатки не только на песке, но и на мелкой гальке.
На всем участке наших исследований Хомолхо можно было перейти почти везде не замочив колени, тем более осенью когда уровень речек в этих местах сильно понижается. Течение не очень сильное, сбить даже ребенка не сможет. Дно только кое-где имеет камни, а большей частью устлано галькой и песком. Ширина русла небольшая. Ни утонуть, ни разбиться здесь невозможно.
— Говорят, что даже в тазу некоторые тонуть ухитрялись, а тут-то до метра местами будет.
— Хорошо. Предположим, оступилась или упала вот с этого полутораметрового обрывчика, ударилась головой о дно, потеряла сознание. Где тело? Ведь не может же течение его унести. На любом перекате застряло бы.
— Да здесь перекат на перекате и везде по щиколотку.
Мы бросили в реку сосновый сук длиной около метра. Он медленно проплыл по плесу и застрял на первом же перекате. Высвободили его, проследили дальнейшее движение. Результат один и тот же.
— Если сучок застревает, так уж человеческое тело и вовсе не пронесет.
— Нет, река здесь безопасна. Ни унести, ни скрыть человека она не в состоянии — везде дно видно.
Тщательно обследовав реку, мы повернули на склон долины. Идя в гору, обсуждали все возможные варианты опасностей.
— Заблудилась?
— Исключено. Во-первых, Кира не младенец и не новичок — ориентируется в тайге прекрасно. И компас, и карта с нею.
— На что здесь карта? День ясный, отовсюду на два-три километра поляну видно — только на сопку подняться, а она дальше полутора километров и уходить-то не должна.
— Медведь?
— Ну какой это шалый медведь ближе трех километров летом к зимовью подойдет? А человека-то тоже далеко чует.
— Да и лето теплое, урожайное — все медведи сытые.
— Ну а вдруг нечаянно встретился и напугал?
Но и медвежьих следов ни сегодня, ни впоследствии мы не встретили.
По склону долины дошли до гольца. Здесь, в верховье Хомолхо, гольцы поднимаются невысоко над рекой. С него как на ладони видна вся поляна и каждая палатка.
— Смотри-ка! Вроде Кирина палатка открыта.
— Нет, показалось.
Мы с надеждой всматривались в каждый предмет на поляне, в прибрежные кусты, в зимовье. А вдруг вот сейчас откуда-нибудь покажется Кира. Но ни движения, ни дыма костра… Поляна около лагеря замерла. Вот видно, как открылась дверь зимовья и оттуда, судя по фигуре, вышел зимовщик. Мы изо-всей силы крикнули: «Эго-гоо!» Зимовщик остановился и, приложив руку к глазам, посмотрел в нашу сторону.
— Ты смотри, услышал. А ведь тут не менее двух километров.
— Черт с ним, с пиратом. Вот Кира услышала бы!
Тайга и гольцы, речка и поляна молчали.
Где-то у гольца Высочайшего, в самом истоке Хомолхо, солнце коснулось горизонта, уходя с Патомского нагорья на покой. Нужно было возвращаться в лагерь. Усталые, голодные и совершенно подавленные неудачей поисков, молча брели мы к лагерю. Выйдя на поляну, ускорили шаги. У всех теплилась какая-то надежда. А вдруг вот подходим к палаткам, а оттуда Кирилл? Нет, не было…
Сенокосчики, их было семь человек, без всякого энтузиазма встретили настоятельное предложение с утра идти на поиски Орловой.
Идя впереди с одним из них, я расспрашивал его, где он был и где работали другие в тот день. По-русски якут говорил плохо, и с трудом можно было понять, что он огораживал стог сена на соседней поляне. Поляна находилась как раз на границе нашего участка поисков и съемки, в двух километрах от лагеря. Косарь видел, что часов в двенадцать в кустах недалеко от поляны прошел человек в черном. Был это мужчина или женщина, он не различил.
Правильно, именно там должны были пройти и Лиманчиков, и Кира. Только Володя уже возвратился к двенадцати часам. Впрочем, не имевший часов якут мог ошибиться на час-другой.
Минут через пятнадцать в том же направлении прошел другой человек в черном. Вскоре раздались выстрелы один за другим — почти дуплетом.
Подождав отставшего Лиманчикова, спрашиваю его:
— Когда стрелял?
— Как пришел к ключу, еще шлих не начал мыть, рябчика убил. Потом приблизительно через час. Промазал. А уж когда домой шел, по дороге белку убил.
— А дуплетом стрелял?
— Нет.
Закрадывалось подозрение: кто лжет — якут или Лиманчиков? Ослышаться и принять один выстрел за два прирожденный охотник вряд ли мог. Стрелять дуплетом по рябчику или белке Лиманчикову совсем не к чему. Он достаточно хладнокровен и опытен, чтобы впопыхах дергать за оба курка. Значит, якут нарочно путает?
Подошли другие якуты.
— Кто позавчера слышал выстрелы?
— Мы, — сказал один, по фамилии, насколько помню, Семенов.
Я впервые обратил на него внимание. Он не был похож на якута. Нос горбинкой, как у эвенков. Лицо менее широкое, чем у якутов. При обычных черных и прямых, как у всех якутов, волосах глаза оказались светло-голубыми. По-русски говорит вполне прилично, хотя и с акцентом. За плечами у него была берданка.
— Мы втроем шли часа в четыре, — продолжал он. — Километрах в двух отсюда услышали два выстрела один за другим.
— А ты долго здесь работал? — спросил я первого якута.
— Часов до пяти.
— Перед уходом на зимовье слышал выстрелы?
— Нет.
Как свидетельствовал Колобаев, косари в тот день брали с собой только одну двустволку, а еще две и берданка оставались в зимовье.
— Кто же, кроме вас и нас, ходил здесь?
— Никого не видели.
— Так кто же стрелял дуплетом и кто стрелял в четыре часа?
Ответа на эти вопросы не было. Возникло подозрение: не косари ли убили Киру. Путаница фактов и времени невольно заставляли настороженно присматриваться к якутам.
Разделились на три группы: одна еще раз обследовала поляну и реку, другая — левый склон, а я с голубоглазым якутом отправился на склон, противоположный обследованному вчера. Он густо зарос березняком и осинником после старой гари. Мы молча шли зигзагами по склону, тщательно высматривая следы. Достигли залесенной вершины. Дальше Кире идти не было никакого смысла. На вершине выступали гранитные развалы с кварцевой жилой. Если Кира была здесь, то она обязана отбить несколько образцов на контакте жилы и вмещающей породы. Самый тщательный осмотр показал, что к этим камням никогда не прикасался геологический молоток. Ни следов зверя, ни человека мы не обнаружили.
Сделав большой круг, уже под вечер мы стали спускаться в долину Семикачи невдалеке от ее устья. Семенов отстал и шел сзади меня в нескольких десятках метров. Вдруг пронзительный женский визг боли и отчаяния прорезал замерзшую тайгу и заставил меня судорожно сбросить карабин с плеча. Сразу представилось, что Киру пытают, других женщин тут не было. Визг доносился от устьевой части Семикачи. Подождав Семенова, я спросил:
— Слышал?
— Слышал.
— Где кричали?
— Там, — показал он в противоположную сторону долины — вверх по течению.
Стало совершенно ясно, что Семенов путает намеренно, будучи замешанным в пропаже Киры. У меня сжались все мышцы, готовые к схватке с бандитом. Не знаю, что именно, но что-то меня удержало от мгновенно принятого решения пустить пулю в голову Семенова.
— Хорошо. Иди вперед. Внимательно ищи следы. Если там кричали, то должен быть след от низовья реки.
Потихоньку, незаметно для него я послал патрон в патронник карабина и поставил затвор на боевой взвод.
Я шел сзади с карабином на руке, внимательно следя за каждым движением якута и в то же время, как и он, смотря на признаки следов. Если бы он сделал хоть малейшее движение, напоминающее намерение снять берданку с плеча, я выстрелил бы ему в голову. Уверенный, что он виновник пропажи Киры, этот выстрел я расценивал как необходимый для самозащиты.
До самого русла Семикачи и на другом склоне ее долины никаких следов мы не обнаружили. Правда, я следил больше за Семеновым, чем за следами. Я-то знал, что тут следов не может быть и никто не кричал в верхней части семикачинской долины.
Пошли вдоль русла к устью на свою поляну. Когда среди деревьев показались просветы у входа на поляну, с нее вдруг опять повторился тот же визг, на той же ужасающе тоскливой ноте. Но тут мы оба увидели источник его. Визжал жеребенок, укушенный взрослой лошадью, с которой он рискнул познакомиться поближе. Со Светлого на зимнее пастбище сюда ежегодно пригоняют молодняк. Небольшой табунок подошел сюда к полудню во время нашего отсутствия. Визг жеребенка точь-в-точь напоминал женский. Веемое тело вдруг обмякло, как будто кто-то повернул рубильник, выключив непосильное напряжение. Открыв затвор, я вытащил патрон из патронника. Страшная усталость почти валила с ног — видимо, даже только решение убить человека принимать нелегко.
А все же, почему Семенов указал на противоположную сторону от источника звука? Может быть, в силу непостижимых акустических свойств семикачинской поляны? Небольшая разница в высоте или условий экранизации звука деревьями могла исказить впечатление от его направления. И не потому ли якут, работавший на соседней поляне, принял один выстрел и его эхо за дуплетный или почти дуплетный выстрел? Да, но разницу в оценке времени выстрела в четыре часа разными людьми все же не объяснишь акустикой…
На поиски Киры были сняты все рабочие моего отряда, работники других отрядов нашей экспедиции, многие жители Светлого, Хомолхо, якутского колхоза. Над всем бассейном Семикачи и Хомолхо несколько дней подряд кружил самолет. В течение двух недель мы ходили цепью в пяти — десяти метрах один от другого и внимательно всматривались. Все долины, склоны и гольцы в радиусе десяти — двенадцати километров от семикачинской поляны обошла наша цепь. Ни один куст, кочка, стог сена не остались вне тщательного осмотра. Все напрасно.
В «Очерках по истории Ленских золотых приисков» написано: «Ее искали очень долго и не могли найти. Нашли лишь места, где она отбивала от скал образцы пород». Это ошибка — ни одного места с потревоженными геологическим молотком скалами в полосе Кириного маршрута ни мы, ни прибывшие с некоторым запозданием следователи не обнаружили.
Следователь, врач и начальник районного отдела уголовного розыска допросили всех присутствующих в районе семикачинского зимовья и всех рабочих нашего отряда. Мне стало страшно. Ведь не только несколько рабочих, но два бригадира в составе нашего разведочного отряда скрывались от закона. Только тогда вдруг я понял, что стал даже, может быть, укрывателем беспаспортных, беглых и вообще невесть каких граждан. Наверное, уже за это меня можно было привлечь к законной ответственности. Но именно их руками я делал важное для Родины дело. Как-то не было серьезного страха за собственные незаконные действия. Может быть, еще и потому, что мысли о трагедии Киры затмевали все остальное.
На мое искреннее опасение за судьбу разведки золота и моего разведочного отряда начальник угрозыска конфиденциально сказал:
— Вы что же, думаете, что мы не знаем, кто и как у вас работает? Все они у нас на учете. Дорога здесь только одна — через порт Бодайбо, и, кого не нужно, мы просто не выпустим отсюда. Арестовывать и рассылать по местам прежних отсидок нам не выгодно — это же прекрасная рабочая сила! Вы ведь, кажется, не жалуетесь на их леность или неопытность? И ведут они себя разумно, не буйствуют.
Да, мы с Раменским не жаловались. Действительно, буквально все наши рабочие работали не покладая рук, с выдумкой, инициативой. Их захватила внушенная нами перспектива найти в заброшенной долине промышленную россыпь. Задачей всей нашей экспедиции было не только найти россыпи, но и возродить добычу золота в Дальней Тайге. Поэтому в случае обнаружения мы должны были разведать, подсчитать запасы и сдать золотоносную россыпь в эксплуатацию. После приемки разведанных площадей наши рабочие имели право перейти на самостоятельное старание на любом шурфе и на любом горизонте погребенных террас.
— А то, что они преступили закон, — продолжал милиционер, — мы решили не замечать до тех пор, пока они работают и ведут себя правильно. Вы что же думаете: они в лагерях больше пользы принесут и скорее перевоспитаются, чем здесь? Тайга воспитатель идеальный, в ней свои законы: ни грабить, ни убивать нельзя. Попробуй ограбь — самих кокнут. Вот вам и воспитание, и уважение к чужой собственности. Кроме того, интерес есть — золото моют, стране польза, и немалая. И им занятие, и государству валюта, и трудовой навык у них, да и время для решения, как жить дальше, есть. Только присматривайтесь к Матвею Ивановичу — он сам воспитатель сильный, а воспитание-то у него не то. Впрочем, это дело не мое…
Следователь в первую очередь заподозрил в убийстве Киры Лиманчикова и Бутакова.
— Я же не мог утиной дробью убить человека! Да и зачем?
Действительно, зачем молодому парню, комсоргу Бодайбинского техникума убивать свою учительницу?
— Но третий патрон!..
— Ты мог выстрелить в упор, например в затылок или лицо, а тело зарыть в мох. Можешь показать, где стрелял?
И Лиманчиков вел нас всех по своему маршруту, показывал подбитые дробью листья и ветки ольхи, впившиеся в стволы лиственниц дробинки. Два места он нашел и показал, а третьего найти не мог.
После неудачных поисков следов Киры Лиманчикова и Бутакова арестовали. Бутакова освободили довольно быстро. Большое число свидетелей на прииске Светлом и расчет времени доказывали, что без машин, которых тут не было, человеку невозможно преодолеть за полдня шестьдесят километров даже на лошади по таежной тропе.
За недостатком улик после месячного следствия освободили и Лиманчикова. У всех наших рабочих имелось алиби: все они выполнили дневную норму проходки шурфов минимум в восемнадцати километрах от Семикачи, и к тому же никто не знал ни времени, ни места маршрута. Ведь он был случаен, не планировался заранее, о нем не знал даже рабочий, уехавший на Кропоткинский.
Следователь не очень тщательно допрашивал косарей и Колобаева. Он говорил:
— Никогда якутские колхозники не станут нападать ни на кого из русских. К тому же всех мы их знаем с лучшей стороны. А Колобаев, по данным зимовщика, целый день был в зимовье.
То же утверждал и Колобаев: зимовщик с поляны не уходил.
Следствие решили прекратить. Однако родственники Киры в Москве не удовлетворились таким оборотом дела и обратились в Прокуратуру СССР с просьбой тщательного расследования и наказания виновных. Москва потребовала найти во что бы то ни стало! Дело передали другому следователю.
Уже зимой, в конце января опять были арестованы Лиманчиков, Бутаков и на этот раз семикачинский зимовщик и все косари. Это сделали, по-видимому, для оправдания бодайбинских следственных органов перед Прокуратурой СССР, так как все следы давно скрыл снег и ничего нового нельзя было выяснить. Когда следователь тоже убедился в этом и освободил всех взятых под стражу, он решил обвинение предъявить мне.
— Зачем отпускал по одному в тайгу?
— Орлова была начальником подотряда и принимала решение сама. Кроме того, даже официально разрешается удаляться от лагеря на два километра, тем более в таком месте, где имеются дороги и население, да еще при такой идеальной слышимости, как на семикачинской поляне.
— Вы отпустили ее одну для того, чтобы убить. Какая причина была у вас для убийства?
Такое обвинение следователя заставило меня онеметь сначала от удивления, а потом от возмущения. У меня к тому времени не возникало даже мысли, что кто-нибудь может заподозрить во мне убийцу. И кого — своего помощника и друга!
Официальный допрос длился целый день. По «железной логике» следователя выходило так, что косари и недоброжелатели не могли, а товарищ по учебе и работе мог убить своего помощника. В ходе перекрестного допроса выяснилось, что второй ствол огнестрельного оружия, которым располагал отряд, в тот день увез рабочий, посланный за продуктами. Топоры были в распоряжении топящих баню. Стало быть, материальных средств убийства я не имел. Это меня больше всего умилило в доводах следователя. Потом оказалось, что в разное время, но в течение всего дня меня видели разные лица в собственной палатке — с поляны я не отлучался.
В конце концов прокурор города Бодайбо постановил дело прекратить. Я же провел много бессонных ночей в логических поисках виновного.
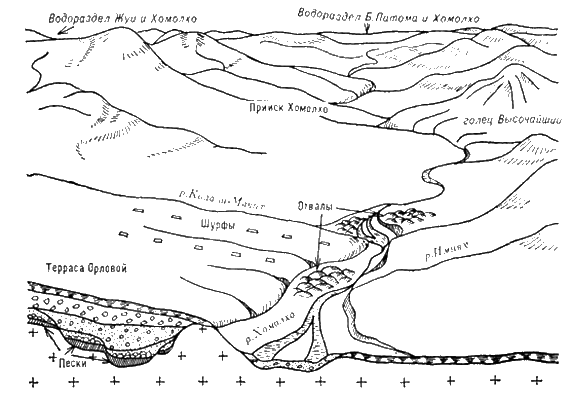 Верховье долины р. Хомолхо (схема)
Верховье долины р. Хомолхо (схема)
Приходила мысль о самоубийстве Киры. Вдруг она намеренно ушла на север — в пустынную часть Патомского нагорья? Там есть и скалы, и глубокие реки, и медведи. А может быть, замучила себя голодом? Но логика событий противоречила этой мысли. Кира слишком любила жизнь, была оптимистом, бойцом и борцом за достижение поставленной цели. Она с нетерпением ждала результатов наших прогнозов, а пока ничего определенного еще не было известно не только о запасах, но и содержании золота в террасе.
Я проклинал себя за невыдержанность, выразившуюся в строгом обращении и, по-видимому, чуть-чуть вызывающем тоне перед отходом ее в маршрут. Но не могло же быть это причиной самоубийства — обычные отношения между начальником и подчиненным? Иногда приходилось обращаться значительно более сурово и с Колобаевым, и с бригадирами.
Если бы это было самоубийство, то не думаю, чтобы комсомолка, глубоко преданная своей специальности, влюбленная в Хомолхо, вложившая немалый труд в исследование ее бассейна, могла унести с собой рабочий дневник и карту, которые также не были найдены.
Но если это все же самоубийство, что нужно было делать начальнику, чтобы предотвратить его? Вот этого не говорится даже в современных инструкциях по технике безопасности.
* * *
К двадцатому июня тысяча девятьсот сорок первого года закончилась промывка породы, выбранная за всю зиму из всех разведочных шурфов. Результат превзошел все наши даже смелые ожидания. Оказалось, что под «горным свалом» погребена не одна терраса правого борта долины Хомолхо. На плотике трех нижних террас, скрытых под мощной толщей щебенки и суглинка, сползших со склона долины и скрывших речные отложения, оказались вполне перспективные россыпные залежи. Они не были беднее некогда выработанных россыпей левого борта, принесших известность золотой Лене. В память Киры, душевного, честного человека и начинающего исследователя, мы предложили назвать разведанную нами террасу именем Орловой, и это быстро привилось и в обиходе, и в официальной номенклатуре.
Только на сданное золото из наших разведочных шурфов была окуплена стоимость всей Жуинской экспедиции почти на два года работы с полным штатом поисково-съемочных и разведочных рабочих и инженерно-технических работников. Сдача нашего золота в приисковое управление совпала со вторым днем Великой Отечественной войны. Впрочем, о войне мы узнали лишь первого июля — радиосвязи у нас не было. Определив запасы столь необходимого, особенно в то время, металла, мы сдали разведанную площадь в эксплуатацию. На некоторых шурфах осталась добывать золото часть наших рабочих. Некоторые из рабочих, так же как и я, ушли на фронт, а несколько человек с Сашкой-Тайгой и Матвеем Ивановичем продолжали поиски в других районах Патомского нагорья.
Еще и сейчас терраса Орловой продолжает давать золото. Там работает мощная драга. Еще и сейчас свежа в памяти трагедия Киры у всех оставшихся в живых участников Жуинской экспедиции. Тяжелый урок дал нам право строго требовать, чтобы никогда исследователь не отходил один в тайге, пустынях, горах, тундре от лагеря дальше, чем на видимую и голосовую связь.
В ночном Якутске

Багаж у меня небольшой. В одной руке маленький чемоданчик наподобие тех, в которых футболисты носят бутсы, а в другой жестяной тубус с картами. Карты природных ресурсов, недавно разработанные на географическом факультете Московского университета, вез я для
демонстрации руководителям совнархоза Якутской автономной республики в надежде заключить с ними хозяйственный договор. В середине пятидесятых годов ученые были заняты усиленными поисками мест приложения достижений своей отрасли знаний в практических делах. Дело в том, что производственники того времени оценивали академических и университетских представителей естественных наук как силу второстепенную и не спешили финансировать научные разработки и рекомендации. Но ученые твердо знали, что практика без науки не сможет рационально развиваться. Поэтому они все настойчивее стучались в двери практических организаций. Мне выпала доля постучаться в якутскую дверь.
Якутск только что стал столицей алмазного края и университетским городом. Именно в этот год среди одноэтажного деревянного Якутска на Октябрьской улице появились недавно разработанные совместно с мерзлотоведами первые свайные кирпичные трехэтажные дома с тройными рамами и индивидуальной канализацией — филиал Академии наук и два экспериментальных — для преподавателей университета. Самую же эту улицу еще не переименовали в проспект Ленина, как она называется сейчас.
До торжеств трехсотдвадцатипятилетнего юбилея вхождения Якутии в состав России Якутск еще не располагал большими ассигнованиями на строительство и благоустройство, которые сейчас позволили ему приукраситься неузнаваемо: асфальтировать улицы, построить современного типа аэропорт, застроить трехэтажными каменными домами не только проспект Ленина, но и многие другие улицы. Поэтому, если не считать дощатых тротуаров, в то время столица автономной республики не имела мощеных улиц. Вечномерзлые грунты, оттаивая под сплошными фундаментами, вспучивались, и стены домов накренялись, нарушая горизонтальность полов и строгую прямолинейность улиц. Только башня от древнего города, построенного землепроходцами более трехсот лет назад, стояла не накреняясь, потому что не имела фундамента.
Сейчас турбовинтовые лайнеры доносят нас от Москвы до Якутска за семь-восемь часов с одной остановкой, тогда же винтовые самолеты между Москвой и Якутском летали с восемью остановками и каждый радиационный туман останавливал их не только на ночь, но и на сутки.
Мне повезло. Не прошло и двух суток, как ИЛ-14, поднявшись с Быковского аэродрома столицы, подрулил к небольшому деревянному строению якутского аэропорта. Известно, что в любой из наших столиц номер в гостинице получить трудно. Поэтому я и не пытался искать гостиницу, которая, как выяснилось позже, была единственной и не слишком вместительной. В моей записной книжке имелся адрес Кирилла Космачева, который после окончания аспирантуры в Московском университете решил приложить свои научные силы на окраинах нашей Родины и обосновался в Якутске на улице Аммосова. О своем появлении я Кириллу не сообщил, а он, естественно, даже не мог представить, что мало знакомый ему человек, занимавшийся до сих пор Дальним Востоком, вдруг окажется в Якутске да еще в зимнее время.
Степенно сойдя с борта самолета, я как-то не обратил внимания на поспешность всех остальных пассажиров. Через так называемый зал ожидания аэропорта, отталкивая друг друга чемоданами, как будто за ними по пятам шел вал цунами, бежали пассажиры. Они задыхались под тяжестью ноши, совершенно не обращали внимания на чины, на пол и возраст, глаза их были устремлены только в одну точку, вперед — на дверь зала ожидания. Все стремились как можно скорее выскочить на припортовую площадь. Я вежливо уступал путь всем и через несколько мгновений остался один посреди зала.
Выигравшие бег пассажиры моментально переполнили те полтора такси, которые скучали в ожидании самолета. Остальные ринулись к автобусу типа «голубая антилопа» и взяли его приступом задолго до того, как я подошел к нему. Площадь мгновенно опустела. На автобусной остановке кроме меня остались две пожилые женщины. Висеть же на подножке было невозможно, так как мороз в сорок восемь градусов сковывал неподвижный воздух.
Чтобы скрасить разочарование женщин, я начал разговор:
— А скоро ли будет второй автобус?
— Автобусы ходят через сорок минут.
— А где улица Аммосова?
— Впервые слышим. Это надо в центре спрашивать. Здесь такой нет.
— А далеко ли до центра?
— Километров восемь.
Шел девятый час декабрьского вечера. Только что вышедшая из-за взлетной полосы полная луна тускло освещала пустынную улицу, легко соперничая с парой еще более тусклых электрофонарей, торчащих по краям площади. Пока я проделал сто пятьдесят метров от аэровокзальных дверей до остановки автобуса, мороз проник в перчатки, а галоши стали стучать по обледенелой земле, как деревянные. Хорошо, что вопреки отходящей моде носить галоши я все же догадался утеплить ими ноги в туфлях. Зимой в Якутске все от мала до велика носят валенки, унты или в крайнем случае бурки. Человек в туфлях на улице города здесь крайняя редкость — это наверняка не знающий здешнего климата командированный с запада. Дольше нескольких минут якутские морозцы ботинок не терпят. Преодолевать пешком восемь километров, так же как и стоять сорок минут на таком морозе, было бессмысленно. Не пожелав стать ледяной статуей, я отправился в зал ожидания и занял наблюдательный пост возле окна. Отсюда видны прямая улица, упирающаяся в аэропорт, автобусная остановка в круге электрического света и мой чемоданчик, который был оставлен в качестве заявки на автоочередь. Несомненно, что оставлять неодушевленный предмет в очереди была крайняя наивность москвича. В Сибири сама природа требует от людей предприимчивости, и здесь очереди для посадки в автобусы не соблюдают.
Как только в начале улицы появились фары автобуса, в пятне света автобусной остановки начали возникать фигуры, жаждущие автоперевозки. Просто поразительно, откуда они появлялись? Преодолев в стремительном броске площадь, я еле успел спасти свое имущество из-под танцующих ног. Их было не менее сотни. Мне с большим трудом удалось втиснуться в автобус. Салон автобуса был низеньким и тесным. От пола до потолка, включая спинки кресел, его внутренность представляла собой ледяную броню, задрапированную довольно красиво блестящим инеем.
Бедный автобус качался и стонал под напором пассажиров в процессе его заполнения. Трескалась его ледяная облицовка. Кондукторша в категорических тонах требовала оплаты проезда.
Однако выполнить ее требование я лично не мог по причине чрезвычайной пассажирской плотности.
Несколько освоившись с необычностью положения, я стал выяснять, где и как мне следует выйти и найти нужную улицу.
— Улица Аммосова? Впервые слышу, — ответил первый спрошенный пассажир.
— Аммосова? Семен, ты знаешь где Аммосова? — обратилась кондукторша к водителю.
— Впервые слышу, — донеслось из кабины после длительной паузы.
— Граждане! Кто знает, где улица Аммосова? Где мне выйти? — обратился я громким голосом ко всем пассажирам.
Вопрос вызвал оживление и подвергся обстоятельному и всестороннему анализу. Нет, ни один из пассажиров о такой улице не слышал, но появилась тема для дебатов.
— Это, наверное, в районе Сергеляха — там новое строительство.
— Какой там Сергелях! Всю жизнь там живу. Нет там такой улицы.
— А не около ли порта?..
— Аммосов? — раздался старческий голос. — Это же бывший председатель ревкома. Я его видел…
— Так вот, может, и переименовали какую улицу.
— Знаешь, браток, сойди у «Гиганта», там и спросишь, — посоветовал наиболее рассудительный пассажир, как будто я знал, где и что такое «Гигант».
Выброшенный вместе с частью пассажирской массы у кинотеатра «Гигант», я успел заметить только пятки разбегавшихся во все стороны людей. Улица опустела моментально. У освещенного подъезда кинотеатра ни души. На месте ожидать прохожих просто невозможно — обледенеешь. Пошел вперед, должен же быть на перекрестке милиционер.
Стучу по дощатому тротуару одеревеневшими галошами, и эхо четко разносит звук в пустынной улице. Мимо пронеслась еще одна «голубая антилопа» — и опять никого. Вышел на площадь. Из-за низенького штакетника торчали хлыстики молоденьких березок — здесь решили создать бульвар. Кроме четырех фонарей, мерцавших по углам, площадь освещалась окнами двух домов. Один из них был обкомом партии, а другой магазином. Кроме того, на площади стояла трибуна. Ага, это Красная площадь Якутска, сообразил я.
Отчаянно мерзли нос и щеки. Давным-давно они были отморожены на Кавказе в августе при подъеме на Эльбрус, когда после двухсуточной отлежки на «Приюте Одиннадцати» в неимоверной силы пургу мы карабкались на вершину. С тех пор они постоянно мерзнут. Но кроме них начали терять чувствительность пальцы на всех четырех конечностях. Становилось обидно. В самом деле, здесь же не Огоджа и нелепо замерзнуть человеку среди столичного города автономной республики. Вдруг отворилась дверь и, сильно хлопнув, видимо под действием сильнейшей пружины, пропустила на ступеньки крыльца женщину. Это уже удача!
— Аммосова? Впервые… — начался уже привычный ответ.
Нет, позвольте. У женщины возникли отдаленные воспоминания. Постояв несколько секунд, она радостно воскликнула:
— Да ведь это бывшая Пионерская! Ее в октябре переименовали. Мы же на ней стоим.
Улица выходила на площадь перпендикулярно Октябрьской. В поисках дома номер двадцать я шел, уже не чувствуя ни рук, ни ног. В щели закрытых ставен пробивались полоски света. Высокие бревенчатые заборы и массивные ворота не имели щелей. Из-за них иногда слышалось угрожающее рычание волкодавов. Поднимаясь на носки и обнимая столбы ворот, я выяснял номера домов. Наконец вот он — двадцатый. Ворота такие же, с затейливой резьбой, только забор не бревенчатый, а дощатый.
Прежде чем открыть ворота, я постарался укрепить в правой руке тубус на случай схватки со сторожевыми животными. Калитка открылась без усилий. На ее скрип никакого проявления жизни не последовало. Постучал в дверь. Никакого ответа. Попробовал открыть. Открылась. В глаза бросилась ярко освещенная комната, видимая через кухонную дверь. В комнате, стоя на коленях на стуле и опершись локтями о стол, женщина читала газету. Это была жена Кирилла, которую раньше мне не приходилось видеть. Видение длилось ту небольшую долю секунды, пока клубы ворвавшегося вместе со мной пара не окутали большую часть кухни.
Переступив высоченный порог — их в Якутии делают приблизительно в полметра высотой для сохранения тепла, — я не ощутил пола. Первое впечатление было такое, что кухня не имела пола вообще. На самом же деле по прихоти процессов, развивающихся в вечномерзлых грунтах, стену с дверью несколько приподняло и перекосило пол по направлению к середине кухни. Вместо половика хозяева положили к двери клеенку, отслужившую свою службу на столе. Обледенелая галоша, не встретив никакого трения на скользкой клеенке, покатила ногу вперед, как по ледяной горке. Вторая нога рванулась за первой вдогонку. В то же время тяжелая дверь на наклоненной мерзлотой притолоке сильно хлопнула по спине. Телу было окончательно придано энергичное поступательное движение помимо воли его обладателя, и оно въехало в помещение ногами вперед почти в горизонтальном положении. Чемоданчик отлетел в одну, тубус в другую сторону, ноги, достигнув высокой поленницы дров у печки, развалили их. Грохот получился достаточно внушительный, а главное полифонический и устрашающий. Каждое полено стучало сообразно своему объему. Тубус катился по наклонной плоскости пола, издавая железное бренчание. Чемоданчик стукнул ведро с уже почти растаявшим льдом. Зимой в Якутске вместо воды развозят с Лены лед на мохнатых лошадках зимоустойчивой якутской породы. Кроме всего гремящего мое тело, видимо, тоже издало какой-то звук при падении, что сопровождалось громким восклицанием: «Черт бы ее побрал!» Мне впервые приходилось проникать в дом столь оригинальным способом, и необычность ситуации требовала словесного выражения, хотя оно и было бессмысленным.
Дверь захлопнулась, прикрыв доступ холодного воздуха в теплое помещение. Прекратилась конденсация паров, и в еще стелящихся по полу его остатках возникла женщина. На лице ее был написан ужас. Кухня явно рушилась по неизвестным причинам. Лишиться крова на ночь глядя в столь суровый мороз, конечно, малоприятно. И кто не испугается этого? Естественно, она бросилась на спасение своего имущества. Щелкнул выключатель, и перед ней открылась картина, как неизвестный ей мужчина отбивался от навалившихся на него дров. Тут же на помощь подоспел ее муж, вскочивший с постели. Несмотря на свое нелепое положение, мое зрение отмечало малейшие нюансы обстановки. Лицо Кирилла не отразило даже удивления. Совершенно спокойно, ровным, приветливым голосом он проговорил: «Раздевайтесь, Юрий Павлович», как будто я только что вышел и вот вернулся обратно, хотя и не совсем удачно.
— Да ладно, пусть их валяются, — добавила его супруга, пресекая мою попытку сконцентрировать разбросанные в разные направления дрова. — Вешайте пальто сюда.
Однако раздеться было не так просто. Окоченевшие пальцы не ощущали пуговиц. Галоши как будто припаялись к туфлям. Пока я стаскивал галоши, шапку и пальто, объединяя разобщенные предметы моего багажа, прошло не более четырех минут. После этого я вошел в комнату.
В момент падения я совершенно отчетливо видел пустой стол с разостланной на нем газетой, которую читала Клара. Больше там ничего не было. Сейчас же на нем стояла бутылка спирта, лежали нарезанный хлеб, колбаса, сало, лежала огромная рыба, стояли тарелки с соленой капустой, грибами и брусникой. Хозяева, как в сказке, заканчивали сервировку стола несущественными деталями.
— Не прогневайтесь, что без индивидуальных тарелок. У нас по-простому, по-экспедиционному.
На моем лице, очевидно, выразилось крайнее изумление столь высокой оперативностью, что вызвало снисходительные улыбки Космачевых.
— Садитесь, отогревайтесь!.. Ну с приездом!
Мне бы рассыпаться в благодарностях и похвалах, но я еще не отошел от мороза, падения, досады на неустроенность центра Якутии.
— Тоже мне столица! Улицы не освещаются. На улицах — ни одного милиционера. Окна задраены ставнями. Хорошо еще, что луна светит.
— А зачем тут на улицах милиция, тем более в такой мороз? Автомашины почти не ходят — вода в радиаторах замерзает. Народу на улицах мало — за порядком следить не к чему. Водку в магазинах не продают зимой, чтобы не замерзали. Так что милиция зимой отдыхает.
После первого посещения мне несколько лет подряд приходилось бывать в Якутске ежегодно. Город благоустраивался и хорошел поразительно быстро. Проспект Ленина застроился добротными кирпичными домами. Да не только этот проспект. Вырос прекрасный, нарядный аэровокзал. Стоящее рядом с ним старое здание казалось маленьким и незаметным, так что на него уже никто не обращал внимания. Около авиапорта построена благоустроенная гостиница. Большая гостиница «Лена» поднялась в начале проспекта Ленина вместе с фундаментальными зданиями Совета Министров и домом связи. На улице лег асфальт на толстых подушках из шлака, опилок и бетонных плит. Институт мерзлотоведения разработал эффективные меры борьбы с вечной мерзлотой. А в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году в Якутске состоялся международный симпозиум по четвертичным отложениям.
Странный случай на реке Дьявольской

Нет, серьезно, это отнюдь не домысел. Одна из рек нашей страны так и называется — Дьявольская. История названия теряется где-то в героических временах сибирских землепроходцев. Очевидно, происшествие, послужившее причиной такого названия, было более значительным и занимательным, чем то, о чем пойдет здесь речь.
Наверное, даже многие не подозревают о существовании реки со столь запоминающимся именем. На это, конечно, есть веские причины. Прежде всего река Дьявольская меньше Волги, а может быть даже и Москвы-реки. В ее бассейне нет ни одного населенного пункта.
Для геологов же Дьявольская — сущий клад. Дело в том, что, впадая в Сухую Тунгуску, она прорыла свою долину точно поперек Туруханской антиклинали. Разрезала покрывающие кристаллическое основание Сибирской платформы— древнейшие слои горных пород, смятых дугой и приподнятых
в виде горба над долиной Енисея. Геолог может изучать один слой за другим, как бы проникая все глубже и глубже в недра земли, читать ее удивительно занимательную историю.
Да, а название Сухая Тунгуска тоже не простое и на первый взгляд кажется странным. Почему Сухая, когда по крайней мере за последние двести лет она исправно и круглогодично, не в пример другим рекам, промерзающим до дна в вечномерзлых грунтах, приносит свою долю вод могучему Енисею чуть южнее Полярного круга? Но это в устье, а в средней части река действительно иногда проваливается в карстовые полости. Протекая по кембрийским гипсоносным известнякам, она растворила довольно большие толщи их и вырыла себе достаточно обширные ямы, чтобы скрыться с поверхности. Впрочем, хватит географии, перехожу к конкретному случаю.
Известно, что радист в геологической партии, когда она ведет исследования в отдаленных и ненаселенных местах, лицо абсолютно необходимое и, следовательно, почетное. Связь геологических партий с базой экспедиции, расположившейся где-нибудь в Туруханске или Туре, радисты обязаны держать регулярно дважды в сутки. Попробуй какая-нибудь партия проспать утром или не успеть раскинуть антенну после трудного дневного похода вечером. Радист вместе с начальником партии получит выговор от начальства. Бывали случаи, что вертолет на их поиски посылали. Это ведь двести рублей в час, и если никакого ЧП не случалось с данными геологами, то полет относили за счет начальника партии!
С другой стороны, радист при геологических поисках и съемке самый свободный человек. За двадцать — тридцать минут отстукает он информацию о положении дел, передаст личные телеграммы, примет «ЦУ» с базы и до вечерней связи хочешь спи, хочешь художественную литературу читай. В начале действий радиостанций в геологических партиях многие радисты так и делали — прямо как с курорта приезжали с полевых работ. Но продолжалось это недолго. Сейчас радистов используют сообразно их наклонностям и способностям, загружая хозяйственно-снабженческими делами, хлебопечением, помощью в горных выработках, маршрутных исследованиях, да мало ли всяких нужд.
Зимой же все геологи, коллекторы, картографы возвращаются в свои города и в поте лица с утра до ночи обрабатывают полевые материалы, сидят за микроскопами, чертят карты всех геологических слоев и месторождений полезных ископаемых, анализируют образцы горных пород, радисты же вынуждены становиться фотографами, проявляют горы пленок и делают массу фотоотпечатков для отчетов. Некоторые переписывают полевые дневники геологов или перечерчивают начисто зарисовки разрезов и шурфов.
Все это классного радиста Николая Б. не устраивало. Почерк у него не ахти какой, чертить он не умел и вообще он радист — второе лицо в партии, зачем еще возиться с несвойственными делами. После службы в армии он пошел в геологическую службу потому, что страстно любил природу, путешествия, рыбную ловлю. Никто быстрее и больше его не мог наловить рыбы на любую удочку. Он умел на красный лоскуток ловить тайменей, прямо закармливал всю партию рыбой. Истинно мужским делом считал Николай бороться и находить выходы из трудных положений. Бездорожье, сотни всяких сложностей, необходимость уметь делать все — от варки пищи и починки сапог до постройки лодок и хирургических операций — все это нравилось ему в работе геологов.
В тот год, о котором идет речь, Эвенкийская геологическая экспедиция расширилась и получила новый, очень важный участок исследований в районе Туруханской антиклинали. Была организована новая геологическая партия и ее начальником назначен молодой, способный геолог Володя Ф., а радистом — Коля Б. Чтобы не сидеть зимой без дела, пока геологи штудируют литературу и аэрофотоснимки по новому району будущих работ, Коля вызвался проехать по эвенкийским колхозам долины Нижней Тунгуски, чтобы заключить договоры на транспортных оленей для летних работ не только своей партии, но и всей экспедиции. Он расценивал свою поездку как своего рода преодоление стихии — борьбу с трудностями тайги. Он лелеял честолюбивое намерение удивить экспедицию своей изворотливостью и найти путь к удешевлению экспедиционного транспорта.
Известно, что транспорт в сибирском безлюдье и бездорожье проблема номер один. Перевозка вещей, без которых в тайге никак не обойтись, часто стоит дороже их самих. Коля твердо решил удешевить работу своей партии, а значит, увеличить сумму премии в конце успешных работ.
Геологическая партия небольшая, но самая главная ячейка в сложной системе геологической службы. Впрочем, на мой взгляд, усложнение геологической и всякой другой службы за счет создания слишком высокой и широкой лестницы надстроек на плечах главной производственной единицы — своего рода «архитектурные излишества», причем ни в коей мере не украшающие, а лишь усложняющие и удорожающие производство. В системе геологических организаций есть и секторы снабжения, но Коля вызвался сам достать оленей и оленеводов — заранее хотел знать новые условия летних исследований. Однако ему что-то не удалась поездка для удешевления работ своей геологической партии. Вернулся он из вояжа в предвесеннее время, прямо скажем не в лучшем настроении.
— Грабители! Двадцать четыре рубля в сутки за каждого рогатика. Это же курам на смех! На него же еще и нельзя грузить больше тридцати двух килограммов, а проводнику отдельного верхового оленя — учига надо. И за него платить. Так в договоре и пишут. Пусть мне столько в сутки платят — по тридцать пять таскать буду. И ведь надо же — ни копейки не уступили. Прейскурант, говорят, постановление!
— А ты что же хотел, чтобы еще и теперь, как купцы раньше, обманывали и за бутылку спирта эвенк тебе все лето с оленями работал?
— Ну целое — не целое, а могли бы немного уступить.
Короче говоря, радисту эвенки не понравились. Он прямо не желал разговаривать с оленеводами, когда начались исследовательские работы. Уязвленный тем, что не смог преодолеть прейскуранта эвенкийских колхозов, Коля не стал входить с оленеводами в товарищеские отношения. Известно, что эвенк без чая и табака работать не станет. Для них эти продукты — жизненная потребность. Коля это быстро усвоил и никогда не угощал своим табаком оленеводов. Больше того, даже на прямые просьбы давал недвусмысленный отказ вроде того, что, мол, свой надо иметь. Поскольку в партии он выполнял функции завхоза, то и чаем старался ограничить ни в чем не повинных оленеводов. Оленеводы-эвенки — люди спокойные и покладистые. Они не стали мелочиться и высказывать свое недовольство, а просто перестали обращать на него внимание.
В июле партия Володи Ф. переходила в бассейне Дьявольской с одной промежуточной базы на другую. С таких баз геологические и геоморфологические отряды расходились по радиальным маршрутам, нанося на карту все слои горных пород, которые только можно увидеть, определяли их возраст по остаткам моллюсков, отпечаткам растений и костям животных и вели опробование на рудные, редкометальные и россыпные полезные ископаемые.
Чтобы не терять времени, все прорабы с рабочими разошлись в маршруты сразу после завтрака. А радист должен был идти на место следующего лагеря вместе с караваном оленей, сопровождая все хозяйство. Пока вьючили оленей, Коля ловил рыбу удочкой и не вмешивался в погрузку.
Съемочные отряды собрались вечером в установленном для бивака месте. Володе Ф. необходимо было дать по радио информацию о проведенном дне и доложить, что ничего не случилось, работа проходит по плану. Подошел он к уже стоящие палаткам, а антенны не видно и вьюки с радиостанцией не распакованы.
— Где Коля?
— Не знаем, — ответили оленеводы, — сзади каравана шел. Наверное, поотстал немного, он все рыбу ловил.
— Вот так-так, время к сроку связи подходит, а у него еще и антенна не поставлена.
Начали кричать. Некоторые даже пошли вниз по речке, откуда караван пришел, чтобы привести радиста и напомнить ему о его обязанностях. Однако ни голоса не услышали и следов Коли не обнаружили. Срок связи с базой экспедиции прошел, и уже середина ночи, а радиста нет. Сам Володя, хоть и начальник, но рации не знал. Спасибо, еще один рабочий в армии служил и чуть-чуть умел работать на такой радиостанции, но не знал морзянку и мог делать передачи только через микрофон.
К сроку утренней связи установили и антенну, и радиостанцию. Попробовали связаться с Туруханском голосом. Погода была хорошая, полярных сияний не было, а всем известно, что радиосвязь невозможна при полярных сияниях. Связь установили довольно быстро, так как на базе, конечно, беспокоились, что партия Ф. не вышла на вечернюю радиосвязь. Кое-как объяснили, что исчез радист по совершенно непонятным причинам. Оттуда получили приказ: искать и вечером сообщить.
Ну потерять один день на поиски человека для партии — ничего не значило. Да, собственно, и искать-то почти нечего. Коле было точно объяснено, куда идти и где лагерь будет — не впервые лагерь переезжал. Оленеводы пришли без всяких помех и довольно рано. Однако местность здесь — равнина, да еще сильно заболоченная, ориентиров почти никаких. Но человеку, уже достаточно опытному, который еще до службы в армии охотничал и рыбачил, ничего не стоило найти лагерь по оленьим следам. Когда по заболоченной тайге пройдет караван оленей в полсотни голов и в двести ног, то образуется достаточно заметная тропа — только слепой не увидит ее.
Посланные на поиски пошли именно по этой вновь пробитой тропе. Дошли они до места прежнего лагеря, покружили вокруг, пошли вдоль реки, вернулись обратно. Коля как в воду канул. Утонуть не мог — речка не такая, чтобы тонуть в ней, мелкая. Значит, куда-то в сторону уклонился.
Пришлось вечером, надрывая голос, сообщить в микрофон, что радист не нашелся. С базы обещание: завтра вышлем на поиски самолет, но всем составом партии поиски продолжать независимо от этого.
Стали подробнее допрашивать оленеводов: когда последний раз видели радиста, почему не остановились, когда заметили, что отстал, что он говорил, что делал и всякие другие вопросы.
Оленеводы отвечали, что пока они вьючили оленей, Коля ловил рыбу удочкой. Когда караван стал двигаться, пошел и он, как всегда, сзади. По дороге с ним никто не разговаривал, потому что и он не подходил, и курить не давал. Мы, мол, ехали сами по себе, а он шел тоже самостоятельно. Когда заметили, что его не видно сзади — конечно, олень идет быстрее человека, — то кричали, звали, но он не отвечал. Не стали ждать потому, что думали — опять на рыбную ловлю остановился, чего же его ждать, когда такую заметную тропу протоптали — сам бы увидел.
На следующий день уже все геологи, рабочие и оленеводы построили маршруты так, чтобы и работа не страдала, и радиста искать можно было. Шли разреженной цепью по уже пройденному пути, уточняли геологическую съемку и через каждые пять — десять минут по тайге летел мощный крик: «Коля!»
Уже описано, что переживают товарищи, потерявшие человека в тайге. А тут был еще потерян не только товарищ, но и радист, и завхоз. Партия осталась как будто без ушей и без голоса. Больше недели ходили люди по всем прилегающим болотам и ручьям, они почти все охрипли от криков «Коля-я-я!» и, наверное, искали бы еще дольше. Но однажды во время радиосвязи через микрофон, которым пользовались не каждый день, чтобы не посадить батареи, с базы экспедиции им сообщили:
— Нашелся ваш Коля, вышел на Енисей в поселок Сухая Тунгуска. Продолжайте съемку, а его при первой возможности доставим вам, скажите только — куда.
Вернули Колю Б. в партию через месяц. Геологи так привыкли к поискам пропавшего, что, уже зная, где он, идя в маршрутах, нет-нет да и закричат: «Коля-я-я!»
Когда радист наконец прибыл в партию, его, во-первых, выругали, и каждый считал это своим долгом. Потом устроили перекрестный допрос, почему и как отстал и почему оказался в противоположной стороне от района работ. Коля отвечал непривычно лаконично, без лишних слов.
— Заблудился. Кричал. Тропу не нашел, хотя и искал. Пошел вниз по течению реки согласно инструкции заблудившимся.
Проводники говорили, что тоже кричали, а он, мол, не отвечал.
В общем так ничего толком и не выяснили, но с тех пор Коля всегда сам предлагал оленеводам закурить и вволю снабжал чаем.
Все это происшествие назвали странным случаем. Всех работников партии лишили премии, да, впрочем, они и не успели кончить работу в срок. Володе Ф. дали строгий выговор с серьезным предупреждением. И он в ту же зиму освоил работу на радиостанции.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Географы в маршруте. Фото В. В. Масленниковой

Солнопек. В экстраконтинентальном Забайкалье, там, где ощущается недостаток влаги, по таким склонам степи проникают в тайгу далеко севернее зоны своего сплошного распространения. Фото Л. Н. Тюлиной

Кедрач. Кедровые леса — «жемчужина тайги» гор Южной Сибири и Дальнего Востока, распространены в предпоследнем высотном лесном поясе. Фото Л. Н. Тюлиной

Гольцы. Так в Сибири и на Дальнем Востоке называют безлесные горы или высотный пояс горных тундр и холодных пустынь. Восточнее Байкала гольцы, как правило, снизу обрамляются поясом кедрового стланика. Фото Л. Н. Тюлиной

Лагерь исследователей в горной лесотундре. Фото автора

В долинах Верхоянского хребта и других горах Северо-Востока широко распространены наледи, иногда не успевающие растаять за короткое лето. Фото автора

Глубокие реки приходилось форсировать на саликах. Это наскоро сделанные плотики в три-четыре бревна. Салики из лиственницы — «железного дерева тайги» — тяжелы и глубоко сидят в воде. Фото автора

Скалы, подмываемые рекой, часто дают крупноглыбовые обвалы. Фото автора

В разрывах облаков появлялись неясные очертания сопок. Фото Л. Н. Тюлиной

Расселины в скалах — наиболее удобный путь для подъема к вершинам гор. Фото И. Ю. Пармузина

Отряд Ю. П. Пармузина на Огадже: Юрий Пармузин, Николай Соловьев, Иосиф Матюков

На путоранских озерах. После Байкала это самые длинные и глубокие озера Сибири. Фото Е. Н. Покровского

Высадка с «водной Аннушки». Фото Е. Н. Покровского

Останцы особенно часты в резко континентальных областях. Фото И. Ю. Пармузина

Чтобы медведь не разграбил продукты лабаза, нужно вбивать гвозди в стойки. Фото автора

Отряд Нади Сеютовой в голодном походе. Фото автора

Лагерь в горной долине. Фото автора

Курум. Ходить по заснеженным крупноглыбовым осыпям трудно и утомительно даже опытному и здоровому человеку. Фото Л. Н. Тюлиной

Отвалы промытой горной породы в золотоносной долине. Фото автора

Невелика норма веса вьюка оленя — всего 32 кг и все же во многих районах сибирской и дальневосточной тайги исследователям не обойтись без вьючных оленей. Фото автора

В тайге. Фото автора
INFO
91с
П18
Пармузин Ю. П.
П18 Осторожно — пума! М., «Мысль», 1973.
160 с. с илл.; 8 л. илл. (Рассказы о природе).
2-3-1/162-72
91С
Пармузин, Юрий Павлович
ОСТОРОЖНО — ПУМА!
Редактор К. О. Добронравова
Младший редактор Т. С. Положенцева
Оформление художника И. Ф. Шипулина
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор В. Н. Корнилова
Корректор Л. Ф. Кирилина
Сдано в набор 30 мая 1972 г. Подписано в печать 31 октября 1972 г. Формат бумаги 60x84 1/16. № 2. Усл. печатных листов 10,23 с вкл. Учетно-издательских листов 10,6 с вкл. Тираж 65000 экз. А04650. Заказ 2990. Цена 39 коп.
Издательство «Мысль».
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28.
…………………..
FB2 — mefysto, 2022

Примечания
1
Чепура — кустарниковые заросли.
(обратно)
2
Дабан — горный перевал.
(обратно)
3
Хиус — северный, а здесь холодный ночной ветер, дующий вниз по долине.
(обратно)
4
Курумы — крупноглыбовые, медленно двигающиеся по склону каменные осыпи, характерные для зоны развития многолетней мерзлоты грунтов.
(обратно)
Оглавление
От автора
Осторожно — пума!
Была ли это пума!
Самый страшный зверь
Спички
Шапка крупы
Крошки
«Тони, брат, не мучайся»
Коварная Бурея
Один
Терраса Орловой
В ночном Якутске
Странный случай на реке Дьявольской
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO
*** Примечания ***