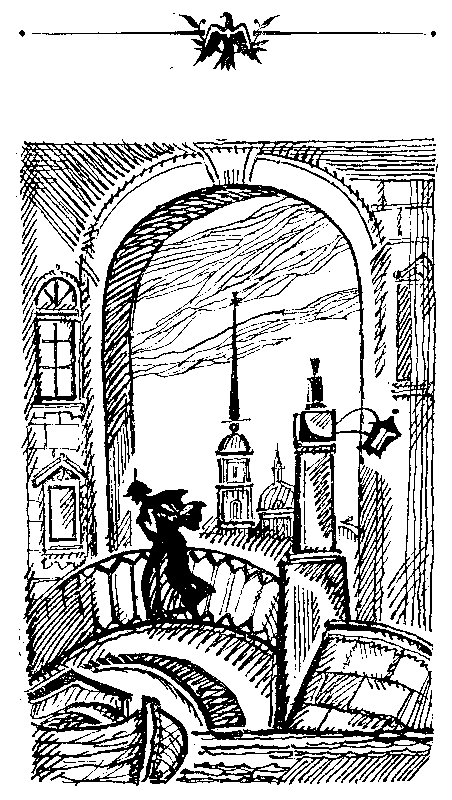Панас Кочура
АПОСТОЛЫ ПРАВДЫ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
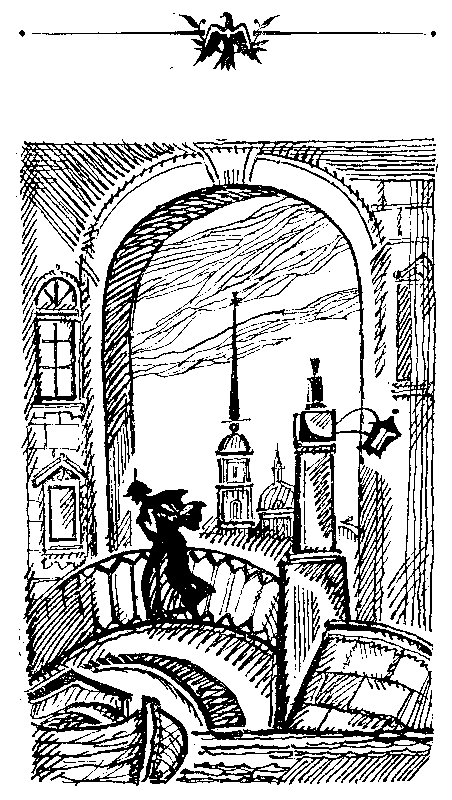
Был конец марта. В оврагах, куда не заглядывало солнце, еще лежал порыжевший снег, а поле уже курилось легким облачком. И повсюду, где хоть немного успела прогреться земля, пробивалась зелень — символ тысячи раз обновляемой жизни. Воскресала природа, все вокруг ликовало, пробудившись от долгого сна, ибо шла весна, она обещала щедро укрыть землю травой, а людей согреть после морозов и метелей.
Над полем звенела песня жаворонка, и небесную синь темными стрелами пронзали куда-то спешившие птицы. Пришла пора ремонтировать старые гнезда и строить новые, чтобы вывести птенцов и до наступления осени научить их всем премудростям птичьего житья-бытья.
По дороге, еще не везде просохшей, на легкой повозке, где поверх душистого сена была брошена цветастая плахта, ехали двое. Это были подполковник Черниговского пехотного полка Муравьев-Апостол Сергей Иванович и его денщик Федор Скрипка — среднего роста, черноволосый солдат лет тридцати.
То ли залюбовавшись окрестностями, то ли углубившись в свои мысли, ездоки не погоняли лошадей, и те катили возок неторопливо, словно понимали, что хозяевам приятно погреться на солнышке и послушать пение жаворонков либо просто отдохнуть от житейских забот и всяких неприятностей. Вот, скажем, проезжали через села, принадлежащие графине Браницкой. Сколько горя, сколько обид терпят крепостные от старост да экономов, поставленных графиней! Подполковник заступился было за одного горемыку, которого хлестали нагайкой, но надсмотрщик только огрызнулся в ответ:
— Ваше благородие, мы выполняем приказ графини.
— Да разве можно так истязать живого человека?! Жалостливый хозяин и скотину не обидит.
— Так то скотина, а не Нечипор Блоха. Сравнили! — издеваясь, бросил барский холуй и еще раз стегнул крестьянина по плечам.
Муравьев-Апостол в мгновение ока спрыгнул на землю, еле сдерживаясь, чтобы не отхлестать той же нагайкой при служника Браницкой. Но кому от этого станет легче? Свою злобу надсмотрщик выместит опять-таки на Нечипоре и других таких же бесправных рабах, а на подполковника донесут кому следует: дескать, вмешивается в дела помещиков, склоняет крепостных к неповиновению.
Сергей Иванович долго не мог успокоиться:
«Не человек, а крепостной! Собственность! Просто вещь! Гадко и стыдно при мысли, что я тоже душевладелец, помещик... что и у меня есть рабы. А по какому праву? Почему один человек владеет другим человеком?» Вопросы, вопросы, и нет ответа... Думы мешали ему любоваться прекрасными видами, открывавшимися на каждом шагу.
«А разве этот прихвостень графини Браницкой сказал неправду? Как назвать человеком того, кого можно продать, обменять на какую-нибудь вещь, проиграть в карты либо засечь до смерти плетями на конюшне? И это в стране, где с амвонов учат любить друг друга, ибо перед богом все равны, все братья и сестры... Какое страшное лицемерие, какое глумление над человеком — самым совершенным созданием природы!»
Он вспомнил Ивана Дмитриевича Якушкина, отставного капитана, помещика со Смоленщины. Якушкин решил отпустить на волю своих крепостных, наделив их землей. Однако выяснилось, что сделать это не так-то просто, необходимо разрешение Сената. А его не дают. Помещики возмущены намерением Якушкина, протестуют, Сенат их поддерживает. Ведь крепостничество — это, видите ли, богом благословенное право, и любое посягательство на него воспринимается как расшатывание тех столпов, на которых держится Российская империя. Вот где корень зла. А благодеяния одного или двух помещиков, желающих отпустить на волю своих рабов, что дадут они России? Почти ничего. Только посеют смуту, вызовут волнения среди крепостных. Войска подавят бунт, напрасно прольется кровь, и все останется без изменений. И опять одни будут владеть всем, а другие прозябать рабами. Нет, один-два благодетеля дела не спасут. Когда падет монархия и власть перейдет в руки народных избранников, Великий собор провозгласит свободу и равенство для лиц всех состояний. Наш долг — способствовать свержению абсолютизма в России. Ненавистный деспотизм должен быть уничтожен навсегда. И тогда на развалинах дома Романовых расцветут справедливость и человеколюбие.
— Ваше благородие! — прервал его размышления Федор, показывая кнутовищем в сторону оврага, к которому быстро катился какой-то серенький клубочек. — Смотрите, как удирает косой. Спугнули мы его. Тоже жить хочет, понимает, что от сильных надо спасаться, не то погибнешь.
Подполковник повернул голову, но в этот момент заяц будто сквозь землю провалился — спрятался в овраге. «Все живое отстаивает свое право на существование», — подумал Сергей Иванович.
Он смотрел, прищурившись, на залитую солнцем степь. Над дорогою звенело синее небо; по нему то там, то здесь были разбросаны ослепительно белые облака. Казалось, что именно они исторгали звуки, сливавшиеся в печальные мелодии, а вовсе не жаворонки, похожие в вышине на темные комочки... Жаворонки так медленно поднимались над степью, словно тащили за собой струны, которых касались пальцы невидимых кобзарей.
— Всякое создание, как подумаешь, свой разум имеет и чего-то желает, — философствовал Федор, дергая вожжи, чтобы лошади не дремали, а быстрее катили возок. — У нас на Черниговщине начало весны тоже славное. Выйдешь в поле — простор! И лес на горизонте синеет. А поднимешься на пригорок — над Десною белеют меловые горы. Залюбуешься!
— Тоскуешь по родным местам? — спросил Сергей Иванович, ласково взглянув на Федора. Широкоплечий, красивый у него денщик. А главное — хороший солдат, преданный человек, такому можно доверить какую угодно тайну.
— Что там толковать, болит сердце, — признался Скрипка. — Нет на свете уголка дороже того, где впервые босыми ногами мерил землю. — Федор вздохнул и, немного помолчав, прибавил: — Без малого десять лет службу царскую несу. Раньше в Семеновском, а теперь в Черниговском полку. Ведь мы с вами семеновцы. Или уже забыли?
Нет, Муравьев-Апостол не забыл семеновской истории. Издевательства полковника Шварца, назначенного в 1820 году командиром лейб-гвардии Семеновского полка, его каждодневная беспощадная муштра вывели из терпения нижних чинов. Доведенные до отчаяния солдаты решили подать жалобу высокому начальству. И вот головная рота, не дожидаясь команды, собралась на перекличку и заставила фельдфебеля Брагина вызвать ротного командира. Солдаты изложили ротному свою жалобу на полковника Шварца. Усмотрев в этом возмущение Семеновского полка, царь Александр приказал арестовать девятьсот человек, и их немедленно под конвоем отвели в Петропавловскую крепость. Полк расформировали. Офицеров разослали по другим полкам, солдат секли розгами, некоторых приговорили к каторге, других без права выслуги отправили в Черниговский полк и полки Второй армии.
Разве можно вычеркнуть из памяти жестокость и несправедливость царя и правительства по отношению к тем, кто осмелился поднять голос против бесчеловечного обращения? Шварц, этот зверь, ставленник Аракчеева, не давал солдатам вздохнуть. Кроме обычной, ежедневной муштры он еще приказывал приводить к нему на квартиру от каждой роты по десять человек в отбеленной амуниции и, пока обедал, заставлял их выполнять разные упражнения. Часто Шварц гонял солдат босиком по стерне, принуждая их ходить при этом гусиным шагом. Приказывал плевать друг другу в глаза, драться. Он унижал и офицеров, они, как и солдаты, ненавидели этого садиста, но ничего не могли сделать. Все жалели о прежнем командире — Потемкине, которого император уволил за то, что он по-человечески относился к подчиненным и запрещал рукоприкладство.
Вот как Федор очутился в Черниговском полку. Перед этим он еще получил три сотни плетей — для науки, чтобы никогда не помышлял бунтовать против начальства и исправно нес цареву службу.
После семеновской истории перевели в Черниговский полк и Муравьева-Апостола.
— Не видать уж мне родного дома, ведь я лишен права выслуги, — жаловался Федор, печально качая головой. — До конца службы. О побывке нечего и мечтать. Семеновец! Офицерам и то не дают отпуска, а нашему брату подавно. А домой-то ой как тянет! Сначала что ни ночь снилось, будто иду я по своей улице или бреду по тропинке к колодцу. И каждый камешек на этой тропинке вижу, каждую песчинку ногами чувствую. А то, бывало, речка Свидня приснится, роща наша, березняк. Или будто кошу я в овраге траву.
— А родители у тебя живы? — спросил подполковник.
Лицо у Федора потемнело.
— Еще на рождество послал домой письмо, а ничего почему-то не отписали. Может, денег нет писарю или дьячку заплатить, а может, уже в живых никого но осталось. Родственники-то неграмотные, да и соседи тоже, вот и молчат. Да и о чем писать? Горе, нужда... Матушка у меня добрая, к людям с лаской да с приветом. Как провожала, обещала вымолить у бога, чтобы наслал на меня какую-нибудь хворь или еще что, лишь бы домой отпустили. Один я у нее. Но, видно, не всякая и материнская молитва до бога доходит. А может, не внял господь ее молитве, придется, стало быть, без сроку служить.
Жаль Сергею Ивановичу Федора. И, чтобы утешить его, он сказал, словно предвидя будущее:
— Потерпи еще немного. Скоро будут служить не двадцать пять, а пятнадцать лет. Поедешь домой, женишься и заживешь семейной жизнью. Есть у тебя невеста?
Федора бросило в жар. Смутился, слова не мог выговорить, наконец признался:
— Была, как и у всех. Хорошая девушка, Дариной зовут. А фамилия Кучерявая. Она и в самом деле кудрявая, а глаза синие-синие, как вот небо над нами. Обещала всю жизнь ждать меня. Да кабы ее воля... Прикажет барыня — насильно погонят в церковь и обвенчают. А то еще продадут кому-нибудь. Девушка-то красивая. Что поделаешь, крепостная.
— Не горюй, Федор. Отменим крепостное право — все люди станут свободными. Только нужно, чтобы солдаты поддержали офицеров, когда те объявят волю. Понимаешь?
Не впервые Федор слышит от своего любимого командира о воле и сокращении срока службы, а все не верится, что наступит когда-нибудь такое счастье. Разве господа откажутся от крепостных? А кто же будет поле пахать, скотину пасти и вообще все делать в барских поместьях, ежели людей на волю отпустить? Ну как в это можно поверить?
— Так будет, — повторяет Сергей Иванович. Он верит в светлое будущее и, думая о нем, веселеет. — Закон такой выйдет. А того, кто ему не подчинится, заставят силой.
— А коли царь этого закона не подпишет, что тогда?
— Может, и царя не будет. Все люди станут равны перед законом, потому что не будет сословий, не будет господ и рабов.
Чудно Федору. И страшно. Не будет царя! И все равны. Вот к ним в полк, например, пригоняют людей из разных краев. А послушаешь, — оказывается, горе да нужда везде одинаковы. Среди офицеров-то и сейчас есть хорошие, которые по-человечески относятся к нашему брату: понапрасну не обидят, копейки солдатской себе не возьмут, — наоборот, еще свою отдадут артели. Требовательные, суровые, но справедливые. За такими все пойдут, только позови. Скажут солдатам оружие взять — возьмут. Правду говорит подполковник, люди должны быть равны. Ведь бог всех сотворил для жизни.
Замечтался Федор, забыл даже, что он солдат и еще много лет будет солдатом. Мысленно перенесся домой, повидал мать, Дарину. И будто они уже не крепостные, а вольные. Казалось, ничто не могло омрачить радости, озарившей сердце, как весеннее солнце озаряет степь...
Наконец он оторвался от своих мыслей, заметив на дороге чумаков, направлявшихся на юг, — наверное, в Крым, за солью или рыбой. Медленно ступали круторогие волы, скрипели тяжелые чумацкие мажи, а рядом шагали усатые и безусые, опаленные солнцем и ветром чумаки. И хотя знал Федор, что тяжка чумацкая доля, но позавидовал им. Все-таки они свободны! Пусть даже и подстерегают их в степи опасности. Может, придется встретиться с ватагой разбойников, и не одного чумака свалит в пути черная смерть. Но не под шпицрутенами он скончается, а на воле. Умрет не так, как умирают беглые солдаты, которых после поимки приводят для наказания в свои полки. Навидался за эти годы Федор — лучше не вспоминать!
Мысли — как грачи над степью. Не остановишь их, не уймешь. Почему так на свете ведется, что солнце всем светит, да не всех греет? При рождении всем поровну отпущено жизни и хлеба, а не все живы и не все сыты. Есть на свете и красота и радость, но большинство людей слезами умывается. Почему? Кто тут виноват? Господа или царь? Ведь господа тоже разные бывают. Одни — как Шварц. А другие — как подполковник Сергей Иванович. Первого проклинаешь, а перед этим душу открываешь. И откуда взялись царь да господа? От Адама пошли или бог их сотворил отдельно, назло простым людям? А почему назло? Мог же бог и не создавать их. Частенько солдаты об этом говорят между собой, и никто не может ответить. В одном только все согласны — что господа лишние на земле. Без них не было бы ни зла, ни несправедливости, люди были бы добрее. И даже мир стал бы просторнее.
Неожиданно на самом горизонте показалась крыша роскошного дворца графа Потоцкого, а немного подальше — монастырь Бернардинского ордена.
— Вот и Тульчин, ваше благородие, — после долгого молчания произнес Федор.
Почуяв конец путешествия, быстрее побежали лошади. Муравьев-Апостол с любопытством всматривался в надвигавшееся на них селение.
Тульчин — небольшое местечко на Подолье. До 1793 года оно принадлежало Польше. Теперь им владели графы Потоцкие. Население Тульчина обрабатывало землю по оброку и целиком зависело от воли графа и его слуг.
В центре Тульчина возвышался богатый дворец Потоцкого, построенный известным французским архитектором Лакруа. Рядом — новый костел. Вокруг раскинулся огромный парк с беседками и прудами. На фоне зелени особенно четко вырисовывалась белая колоннада дворца. С тех пор как Тульчин присоединили к России, здесь находилась штаб-квартира Второй армии. Сначала ею командовал участник дворцового переворота и один из убийц Павла Первого — Бенигсен, а потом Витгенштейн, у которого некоторое время служил адъютантом Пестель Павел Иванович. К Пестелю-то и ехал сейчас Сергей Иванович.
Позади усадьбы магната, на холмах, были раскиданы дома жителей Тульчина — мелкой шляхты, ремесленников-евреев. Все они нищенствовали, тяжким трудом добывая себе пропитание. Их хатки казались снежными глыбами, поблескивавшими на солнце.
Путники еще не успели въехать во двор, а денщик Пестеля Степан Савенко уже бежал докладывать о гостях. Едва Муравьев-Апостол вылез из возка, как увидел, что к нему спешит, сияя от радости, Павел Иванович.
— Милости прошу, дорогой друг, — сказал он, целуя Муравьева-Апостола и крепко обнимая его. — Очень рад вашему визиту...
— Мог ли я миновать вашу обитель, будучи неподалеку от Тульчина? — весело отвечал Сергей Иванович, разглядывая крепкую, точно вырубленную из мрамора, фигуру Пестеля и его красивое лицо с агатовыми глазами, которые, казалось, смотрели прямо в душу собеседнику.
Несколько секунд они так и стояли, глядя друг на друга, искренние друзья и единомышленники, встретившиеся после долгой разлуки.
— Старым холостякам особенно тоскливо без друзей, — пошутил Сергей Иванович. — Может быть, потому я и навестил вас.
— Разве вы еще не нашли себе верной подруги жизни? — засмеялся Пестель. — А я думал, вы приехали приглашать меня на свадьбу.
И они оба захохотали по-юношески непринужденно и весело.
— Тот, кто встал на путь борьбы, должен забыть о личном счастье, Павел Иванович. Не нам предназначено оно судьбою. Это правило я напоминаю себе всякий раз, когда случается встретить на балу какую-нибудь красавицу.
Разговаривая таким образом, они вошли в гостиную, обставленную мебелью красного дерева. На стенах висели гравюры в черных рамах, на окнах колыхались вышитые занавески, на подоконниках стояли цветы. Весь этот уют был создан хлопотами денщика, ко всему приложил он свои заботливые руки.
Сергей Иванович подошел к фортепиано, взглянул на пюпитр — там лежал ноктюрн Фильда.
— Я знаю, вы увлекаетесь музыкой, — сказал гость, лукаво посмотрев на хозяина. — Но, помня, что музыкант отнюдь не тороват, я уже потерял надежду когда-нибудь услышать хотя бы, например, Фильда. А так хотелось бы насладиться талантливым исполнением...
Пестель смутился, как мальчик.
— Ну, какой там талант, что вы... Иногда по вечерам развлекаемся с ротмистром кавалергардом Ивашевым, играем на фортепиано в четыре руки. Вот и все!
— Ивашев все еще живет с вами?
— Да. Сначала он был болен и потому временно остановился у меня, а потом мы привыкли друг к другу. Вот и музицируем. Ротмистр когда-то брал уроки у Фильда, очень любит его сочинения. И меня с ними познакомил. А я высоко ценю музыку. Это от матери, она боготворит Моцарта и Бетховена. Да и мне они дороги. Просто не представляю себе жизни без музыки. Особенно когда на душе тяжело. Импровизация меня всегда успокаивает. Степан! — крикнул Пестель в дверь. — Завтрак!
И, переворачивая на пюпитре ноты, улыбнулся.
— Вот моя возлюбленная. Но если ей не хватает меры и такта, она может быть невыносима. Кажется, так выразился Шекспир. А я играю неважно, лучше бы моя игра не касалась постороннего слуха. Очень люблю Моцарта, — прибавил он восторженно, и глаза у него загорелись. — Гений! И такого человека похоронили в общей могиле, с нищими и бродягами. Ужасно! Не было денег, чтобы уплатить за место на кладбище. А погребение в общей могиле обошлось в три с половиной гульдена. У гения нет даже могилы, человечеству некуда приносить цветы! Не могу вспоминать об этом без гнева. Царь и короли швыряют тысячи за один вечер, а Моцарту нельзя было купить три аршина земли.
— Говорят, и народу на похоронах было не много.
— Это верно. День выдался пасмурный, холодный, провожающих оказалось совсем мало. Только Антонио Сальери да еще несколько почитателей музыки. А жена Моцарта Констанца накануне уехала из города, боялась простудиться во время похорон.
— Часто бывает, что человечество не ценит по достоинству тех, чьими именами впоследствии гордится. Неблагодарность — неизлечимый порок общества.
Пестель остановился у окна и задумался, глядя на голые еще деревья и безлюдную улицу. Потом, обернувшись к гостю, сказал:
— Ивашев настоящий музыкант. Недаром он ученик Фильда. А я обыкновенный любитель.
— Не скромничайте, Павел Иванович, — обняв его за талию, возразил Муравьев-Апостол. — Скромность тоже может стать пороком, если ею злоупотреблять.
— Возможно, — согласился Пестель. — Даже мудрецы порой неравнодушны к похвале или критике. Говорят, греческий трагик Софокл, к которому слава пришла уже в преклонном возрасте и который, казалось, был равнодушен к похвалам, однажды, прочитав публично свое сочинение, с волнением ждал приговора. А узнав, что большинство слушателей одобрило его трагедию, скончался от радости. Не выдержало сердце.
— А итальянский композитор Карелл умер после того, как известный музыкант Скарлатти заметил, что в одном его, Карелла, сочинении чувствуется диссонанс...
— Наверно, все это шутки. Ведь вокруг имен великих людей анекдоты возникают, как грибы после дождя. Я оставлю вас, Сергей Иванович, на одну минуту.
Пестель вышел. Муравьев-Аностол приблизился к полкам, занимавшим всю стену от пола до потолка, и начал рассматривать книги, которых здесь было великое множество, в основном на политические и экономические темы.
Вот подлинное богатство, собранное человечеством за много веков! Сергей Иванович был в восторге. Руссо, Гельвеций, Кондильяк, Гольбах, Дидро, Вольтер. А на нижней полке — Беккариа, Бентам...
«Сокровища человеческой мысли! Невольно хочется склонить голову», — подумал он, испытывая чувство зависти к хозяину библиотеки.
Ему пришло на память замечание Гельвеция о том, что среди книг, как и среди людей, можно чувствовать себя хорошо и плохо. Как много в этих словах поучительного!
«А вот Дидро! — Сергей Иванович взял в руки книжку, перевернул несколько страниц. — Это ему принадлежит афоризм, что, не читая, мы перестаем мыслить. Как будто обо мне сказано, ведь за последнюю неделю я не брал в руки ничего, кроме газет», — вздохнул он, ставя книгу на место.
...Пили коньяк, чай и разговаривали обо всем на свете, как бывает всегда, когда друзья встречаются после долгой разлуки. Хочется говорить не только о важном, но и о пустяках, словом, о том, что произошло за то время, пока они не виделись.
Сергей Иванович рассказал о майоре Охотского пехотного полка Вержейском. Тот приказал дать унтер-офицеру семьсот ударов палками и тесаками по обнаженному телу, и бедняга молча вытерпел наказание, не склонился перед майором, не попросил прощения, потому что не считал себя виноватым. Тогда Вержейский распорядился принести несколько пригоршней соли и втереть их в раны наказанному, а после этого всыпать ему еще триста палок.
— Ужасно! Хуже зверей! — взволнованно произнес Пестель. — И это в православной стране, считающей себя поборницей гуманизма, любви к ближнему! Молодых офицеров учат варварству, садизму по отношению к нижним чинам, это лишь подогревает ненависть, ибо жестокость не может вызвать добрых чувств. Жестокость сделала людей зверями. Из-за нее все больше и больше становится дезертиров. Вон из Екатеринбургского полка в течение месяца убежало сто сорок человек, а из Тридцать первого егерского за один день исчезло тридцать три солдата. Ужасно. Солдат нещадно бьют, расстреливают. Но разве запугаешь людей наказаниями? Мы кормим солдат гнилью, издеваемся над ними, не считаем их людьми. И воспринимаем это как закономерность, даже не думаем протестовать против подобного варварства. Отвратительно! И самое страшное — наше равнодушие. Мы — дворяне, аристократы, гордимся своим происхождением, пытаемся поучать другие народы, но сами же бесчестим свой мундир. И все это благословляют церковь и тиран, восседающий на престоле российском подобно земному богу, которому мы обязаны молиться. Лицемерие! Святотатство! До коих пор будем мы терпеть?
— В Одесский пехотный полк, — печально произнес Муравьев-Апостол, — назначили командиром подполковника Ярошовецкого — грубого, ограниченного человека, вроде Шварца, который столько горя причинил семеновцам. С приходом Ярошовецкого в полку не стало житья. Чтобы избавиться от этого дикаря, офицеры придумали следующее. Решили тянуть жребий. Вытянул один штабс-капитан. На дивизионном смотру он при всех дал пощечину Ярошовецкому, сбил его с ног и начал пинать ногами. Штабс-капитана сразу лишили чина и дворянства и приговорили к каторге. Он принес себя в жертву ради других. Пример, достойный подражания.
Пестель не согласился с Муравьевым-Апостолом:
— Слишком дорогая цена за одного негодяя. Такой поступок не лучший выход из положения. Рыба гниет с головы. Значит, надо отрубить голову. Обновление России следует начинать с престола. Ибо именно оттуда идет все зло, которое мы поставили себе целью искоренить.
Сергей Иванович внимательно слушал, Пестель всегда сохранял хладнокровие, он умел видеть далеко вперед, очень многие ценили его незаурядный ум и опыт. Сергей Иванович в душе завидовал мудрости и твердым взглядам тульчинского руководителя. К словам Пестеля прислушивались все товарищи-единомышленники.
За разговором не заметили, как сгустились сумерки. Степан убрал со стола посуду, зажег в шандале свечи и вышел, тщательно притворив дверь.
Тогда они перешли к делу, интересовавшему их обоих. Уже было известно, что члены бывшего Союза благоденствия — Сергей Трубецкой, Никита Муравьев и князь Оболенский — по образцу Южного создали Северное общество, в которое вступили влиятельные лица, как военные, так и штатские.
Вообще-то связь между «северянами» и «южанами» поддерживалась давно. Приехавший в Петербург Сергей Волконский взялся выполнить важное поручение: отвез Пестелю Конституционный проект Никиты Муравьева. Проект этот вызвал в Южном обществе бурную критику. Пестель возвратил Никите Муравьеву его «Конституцию» как неудовлетворительную. «Права на должности в правлении и на участие в делах общих и государственных основаны на богатстве, так что для исполнения должностей нужно богатство, а для высших должностей все более и более», — заявил Пестель, выражая свое несогласие со многими положениями муравьевской «Конституции».
Умеренные взгляды Никиты Муравьева и других «северян» явно расходились с революционными установками «Русской правды», предполагавшей республиканское правление в России, отмену крепостного права, наделение крестьян землей. Согласно «Русской правде» все сословия крепостной России сливались «в единое сословие — гражданское». В написанной Пестелем «Русской правде» подчеркивалось: «Каждый гражданин имеет право на занятие всех мест и должностей по государственной службе. Одни дарования, способности, познания и услуги служат поводом и причиной к прохождению службы». Чрезвычайно важным вопросом «южане» считали вопрос о земле. По их мнению, одна часть земли представляла собой общественную собственность, ее запрещалось продавать, покупать, она делилась на участки для безвозмездного распределения между всеми желающими заниматься земледелием. Эта половина земли предназначалась для «производства необходимого продукта». Вторая половина представляла собой частную собственность, ее можно было покупать, продавать, дарить, завещать. Она предназначалась для производства «изобилия».
Муравьев-Апостол не очень-то верил, что их идейные единомышленники в Петербурге примут такую программу.
— Не согласятся они. Испугаются революции, — выразил он вслух свои сомнения. — Они не прочь лишить престола императора, но все остальное должно оставаться без изменений. Особенно дворянские привилегии. К такому выводу пришел я, Павел Иванович, беседуя в столице с некоторыми «северянами».
Внешне Пестель оставался невозмутим, но в душе у него все кипело. Эти столичные аристократы не желали поступиться ничем своим ради общего для всей Российской империи.
— Не понимаю, почему они не хотят признать, что все люди равны перед законом? Ведь равны же, да, Сергей Иванович? — Пестель старался держаться спокойно, но голос его звучал взволнованно. — Когда же они наконец поймут, что люди рождаются не дворянами, не крепостными, а просто людьми, с одинаковым правом на свободу и вообще все земные блага? Ведь меньшинство попросту завладело тем, что по праву принадлежит большинству. Где же справедливость? А ведь мы добиваемся именно справедливости. Иначе зачем создавать общества, которые борются против абсолютизма в России?
— Я разделяю ваши взгляды, но как все это внушить «северянам» — не знаю, — пожал плечами Сергей Иванович. Он вынул из кармана тетрадь и протянул ее Пестелю. — Вот привез вам дополненную «Конституцию» Никиты Муравьева. Он передал ее через Давыдова. Я думаю, с этой «Конституцией» следует ознакомить всех членов Общества: мы должны выработать единое суждение. А еще лучше было бы, если б вы сами наведались в Петербург и там, на месте, сумели достичь согласия. Откладывать это дело надолго неразумно, время не терпит. Надобно спешить, тут не может быть двух мнений...
Пестель перевернул несколько страниц, пробежал глазами ровные строчки, написанные рукою Никиты Муравьева. Пестель ненавидел высшее дворянство с его чванливостью, высокомерием по отношению к тем, кто не владел поместьями и потому был низведен до уровня плебеев. Таким людям даже был ограничен доступ в Кавалергардский полк и на командные посты в армии. Однако Пестель прекрасно понимал силу дворянской элиты: с ее участием можно было свалить в России абсолютизм. Поэтому он все время искал пути, которые привели бы оба Общества к совместным действиям на благо революции. Искал, это верно, но не мог поступиться своими взглядами, легшими в основу «Русской правды» и так пугавшими столичных аристократов.
— Я пишу заново некоторые разделы второго варианта «Русской правды», — медленно проговорил Пестель, точно размышляя вслух. — Однако не собираюсь отступать от основного, хотя это и не по вкусу кое-кому в столице. Сейчас нужно обо всем говорить откровенно, не боясь, что кто-нибудь может выйти из нашего Общества, испугавшись его республиканского духа.
Сергей Иванович не вполне разделял такое мнение. Быть может, учитывая обстоятельства, в некоторых пунктах следует сгладить острые углы и кое-чем поступиться, чтобы удержать в Обществе как можно больше людей. Особенно это относится к вопросу о земле, — его-то решения, главным образом, и страшатся «северяне».
— К чему обманывать себя и других? — с обидой произнес Пестель, бросив быстрый взгляд на Муравьева-Апостола, которого всегда очень уважал за искренность. — Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает, а не нам с вами. Часть ее пойдет под усадьбы освобожденным крестьянам, остальное — в общее пользование.
— Трубецкой пришел в ужас от ваших предложений, Он утверждает, что «Русская правда» просто-напросто призывает крестьян к восстанию против дворян-помещиков. А Трубецкого поддерживают если не все, то по крайней мере большинство «северян», — в этом я убедился.
— Слово чести, Сергей Иванович, напрасно они так боятся, — сказал Пестель, остановившись у овального стола, за которым не раз собиралось тульчинское общество, проводя ночи в беседах и дискуссиях. Вон в том уголке часто сиживал начальник штаба Второй армии генерал-адъютант Киселев, прислушиваясь к горячим спорам молодых офицеров, открыто высказывавших республиканские суждения.
— Мы отменим крепостное право. Упраздним дворянстро. В России не будет сословий. А если не останется помещиков, то против кого восставать крестьянам? Чепуха, мой друг! Глупости! Странно, что этого не желает понимать Трубецкой, человек с широкими взглядами на жизнь. Ему делается страшно при мысли, что он должен будет лишиться своих поместий и расстаться с тысячами рабов, которые на него работают. Но если мы хотим уничтожить монархию, нужно с корнем вырвать все, на чем держится абсолютизм.
— Не всем ясен и вопрос относительно монарха, — заметил Сергей Иванович. — Как быть с ним? Здесь тоже нет единого мнения. Это остается нерешенным.
— Действительно, вопрос спорный, но что из того? В конце концов придем к согласию. Михаил Сергеевич Лунин, приезжавший познакомиться с делами нашего Общества, предложил арестовать императора по дороге в Царское Село и уничтожить его вместе с семьей, чтобы он не мог вредить республике, интригуя и устраивая заговоры против революции. Однако не все разделяют убеждения Лунина, да и в самом деле все это не так просто.
— А как считаете вы, Павел Иванович? — поинтересовался Муравьев-Апостол, внимательно глядя на якобинца, как прозвали Пестеля «северяне».
Пестель обернулся к гостю, но лицо его по-прежнему оставалось задумчивым. Его взгляд, казалось, проникал за темную завесу будущего; обогащенный опытом живших до него революционеров, наделенный недюжинным умом и огромной интуицией, Пестель как будто провидел завтрашний день.
— Я согласен с точкой зрения Лунина, — ответил он твердо. — Если того требует наше святое дело, нечего жалеть этих выродившихся отпрысков пруссачества и российского дворянства. Тут нет места жалости. Поучительный пример дает нам Французская революция. Еще Мелье говорил, что никакая ненависть, никакое отвращение не могут быть чрезмерными по отношению к людям, виновным в народном горе и эксплуатирующим других. А Джефферсон высказался куда резче: «Народные массы не рождаются с седлами на спинах, чтобы кучка привилегированных, пришпоривая, ездила на них, правя при помощи закона и милости божьей». Я поддерживаю такие взгляды.
Степан принес трубки с длинными чубуками, и в комнате запахло табаком.
— Вы не задумывались над тем, как быстро меняют убеждения венценосцы? — отозвался Сергей Иванович, выпустив облачко дыма. — Не так давно наш «ангел» император и сам не прочь был поиграть в либерализм. А теперь, наверное, мечтает создать тайную канцелярию во главе с новым Шешковским, чтобы вздернуть на дыбу таких, как мы с вами.
Муравьев-Апостол был прав. Александр Первый еще в 1814 году, при свидании с королем Людовиком Восемнадцатым в Рамбулье, сказал, что, по его мнению, король Франции, вступая на престол, должен создать правительство из Представителей народа. В 1815 году, на Венском конгрессе, отстаивал либеральные установления, выступая против ретроградной политики Меттерниха и Талейрана. Александр даровал Польше конституционное правление, а на открытии Варшавского сейма произнес речь, вызвавшую восхищение мыслящей молодежи. Летом 1819 года на аудиенции, данной Новосильцеву, которому было поручено разработать проект конституции, он заявил о своей решимости довести дело до конца и будущими реформами удивить мир.
— Эта игра в либерализм давно в прошлом, — заметил Пестель. И взял со столика томик Ваттеля «Право народов, или Начала естественного права». — Чего ждать от сына Павла Первого! В армии царит аракчеевщина. Солдат, который завоевал России славу и ценой собственной крови не только спас родину, но и освободил от узурпатора Наполеона Европу, низведен до положения скотины. Крепостничество, это омерзительнейшее беззаконие, от которого давно избавилась Европа, все еще господствует у нас. До каких же пор наша отчизна, прославленная на поле ратном, будет пребывать в состоянии дикости и отсталости? Вместо обещанных реформ — тюрьмы, каторга, плети и нагайки.
Глаза Пестеля горели ненавистью. Муравьев-Апостол невольно залюбовался современным Маратом, как называли его в столичных кругах, имевших отношение к Тайному обществу. Эти люди видели в Пестеле претендента на роль диктатора, советовали Сергею Ивановичу быть с ним поосторожнее и не во всем доверяться. «Глупости! Он чист и благороден в своих помыслах, — думал Сергей Иванович, следя за глубоко взволнованным собеседником. Все, что творилось в душе этого умного и страстного человека, отражалось у него на лице. — Сама природа поставила его выразителем дум народных и нашим руководителем, и потому не может у него быть соперника».
— Вы правы, Сергей Иванович, — продолжал Пестель, — император поиграл в реформы с Польшей и Россией и давно забыл о своих обещаниях. Просто он тогда опьянел от победы над Наполеоном и от оваций Европы в его честь как освободителя угнетенных народов. А после похмелья Александр испугался семеновской истории, потом чугуевского бунта, революционных вспышек в Испании, Португалии, Пьемонте, Неаполе, Греции. Когда же против короля Фердинанда в Кадиксе восстал отряд Рафаэля Риего, наш император окончательно утратил покой. Ему показалось, что весь мир зашатался от твердой поступи революции, и панический страх охватил его честолюбивую душу. А тут еще в Пруссии начались волнения: студиозы надумали отпраздновать трехсотлетие со дня сожжения Лютером папской буллы и швырнули в костер на площади ненавистные народу атрибуты — капральский посох, офицерский крест и косичку Фридриха. Все это — чтобы опозорить папский престол, верного прислужника абсолютизма. Александр не ошибся, почувствовав в этой акции революционный дух. И вдруг, словно нарочно, как раз в годовщину смерти его отца Павла студент Занд убил немецкого писателя Коцебу — агента тайной полиции российской. Это было подобно сухому хворосту, брошенному в огонь, которого так боится венценосный. И от его либерализма не осталось и следа.
Слушая Пестеля, Сергей Иванович еще больше убеждался в последовательности его взглядов. Пестель был непримиримым противником ограниченной монархии, он выступал за республику. Он вполне мог бы возглавить новое правительство. Недаром сказал командующий Второй армией Витгенштейн, что Павел Иванович везде будет на месте, дай ему командовать армией или назначь министром. То же самое не однажды говорил и начальник штаба армии Киселев.
Одного лишь не понимал Муравьев-Апостол — почему Пестель не верит в силу его «Катехизиса»? Ведь как только солдаты поймут, что слово божие служит не царю, а простолюдинам, с их глаз спадет вековая пелена и они прозреют. Это совершенно ясно. И тогда их можно будет повести за собой.
Но Павел Иванович не соглашался:
— Как примирить непримиримое: несть власти аще не от бога — и в то же время отнять у царя корону и скипетр? И передать всю власть на усмотрение народа? Я не спорю, можно использовать любой метод, способствующий успеху общего дела. Однако, мне кажется, солдату нужно просто сказать, что отныне срок службы сокращается до пятнадцати лет. Это он воспримет всем сердцем. Зачем вдалбливать ему в голову святое писание современным языком? Не так ли, Сергей Иванович?
Муравьев-Апостол обиделся, но не подал виду.
— Сочиняя «Катехизис», Павел Иванович, я руководствовался положениями апостола Павла, который учил людей не быть рабами. Царь и крепостники поступают вопреки божьим заповедям, поэтому их не грех лишить власти, которую следует передать тем, кто справедливо исполняет государственные законы. Христос сказал: «Не можете богу работати и мамоне». Неужели эта простая истина недоступна нашим солдатам? — спросил он, с отчаянием глядя на Пестеля.
— Отчего же, мой друг? Солдаты все поймут, если мы найдем тропинку к их душе.
За разговором не заметили, как прошла ночь. Муравьев-Апостол приказал Федору запрягать лошадей.
Пестелю не хотелось прощаться с Сергеем Ивановичем. Пусть бы он дождался Ивашева, который завтра должен вернуться из Житомира.
Однако Сергей Иванович категорически отказался погостить еще денек.
— Нельзя злоупотреблять доверием начальства. Вы сами понимаете.
Ему тоже не хотелось так быстро покидать Тульчин. Разговаривая с Пестелем, он как будто приникал к роднику, бившему из гущи народных помыслов и устремлений. Беседа с Пестелем вдохнула в него веру в победу. Великие испытания приближались, подобно грозовой туче, чтобы пролиться бурным дождем на иссушенную нуждой, веками страдающую, но потому еще более дорогую, родную русскую землю.
— Ну вот и повидались, — сказал на прощание Сергей Иванович, взяв руки Пестеля в свои. — Все будет хорошо. Поезжайте в Петербург и известите о положении дел. На крыльях прилечу. Сейчас главное — добиться согласия. Не пугайте «северян» революционными фразами, пожалуйста, мой друг!
Пестель улыбнулся.
— Я сделаю все возможное, чтобы наше общество окрепло, — пообещал он, — но отступать от «Русской правды» не намерен. Это не в моей натуре. Если мы добровольно встала на путь борьбы с монархией, то, значит, не имеем морального права уклоняться с этого пути. Нам нужна не куцая конституция, а равенство, свобода и справедливость для всех. Независимо от того, родился ли ты под дворянским гербом в пышных хоромах или под скирдой соломы.
И опять перед Муравьевым-Апостолом стоял русский Марат, человек решительный и готовый на любую акцию ради революционной идеи. Сергей Иванович смотрел на руководителя Тульчинской управы даже с некоторым благоговением, в душе завидуя его нравственной силе.
— Я ненавижу абсолютизм, ненавижу тиранов, — продолжал Пестель; глаза его потемнели. — Заметьте: узурпаторам свойственны трусость и подозрительность. Даже Наполеон — сей бог войны! — став императором, не избежал подобной участи. Вы над этим не задумывались?
— Почему вы так считаете? Какие у вас доказательства? — спросил, одеваясь, Сергей Иванович. — Наполеон на поле боя всегда подавал пример храбрости своим гренадерам. Уж это-то бесспорно. Я полагаю Наполеона великим стратегом.
Пестель прошелся по комнате, остановился в двух шагах от гостя. Заложив руки за спину, отвечал:
— В мелочах характер человека обычно проявляется ярче, чем в крупном и серьезном. Тем более — трусость. И подозрительность.
Пестель рассказал, как однажды при дворе Наполеона давали бал с концертом. Были приглашены дипломаты, привилегированные иностранные гости. Когда Наполеон вошел в залу, ему, как обычно, подали программу вечера. Император внимательно рассмотрел красивую бумажку, подозвал маршала Дюрока и что-то ему тихо сказал. Дюрок сразу побежал к секретарю, автору этой программы. «Господин Грегуар, — сказал он взволнованно, — его величество император повелел, чтобы в дальнейшем, сочиняя программы, вы избегали лишних, нежелательных острот». Ошеломленный Грегуар ничего не понял, только изумленно захлопал глазами.
Когда Наполеон отбыл в свою резиденцию, Дюрок объяснил, в чем дело. Под названием одного номера — «Музыка императора» — Грегуар поставил несколько точек: сначала маленькую, потом большую, а потом снова маленькую. Наполеон увидел в этом намек на свое прошлое, настоящее и будущее. Он предчувствовал свою изменчивую судьбу. И испугался.
Пестель и Муравьев-Апостол весело захохотали.
— Правду говорил Рошфуко: легче быть мудрым для других, чем для себя, — заметил Павел Иванович. — И еще можно добавить, что фальшивое величие всегда неприступно, ибо, чувствуя свою слабость, оно прячет лицо, а если порой и откроет его, то лишь настолько, чтобы произвести впечатление и ни в коем случае не выявить своей подлинной сути — ничтожества. Этими пороками отличаются и наши Романовы. В них все фальшиво и гадко.
Они вышли. День начинался пасмурным утром, и казалось, солнечная весна, вчера еще так радостно шагавшая по степи, куда-то скрылась. Сердитый ветер гулял под серым небом, раскачивал верхушки деревьев и набрасывался на путников, словно хотел обрушить на них весь свой гнев.
— А все-таки весна! — точно наперекор холодному ветру, воскликнул Сергей Иванович, пряча лицо в воротник шинели.
В вышине клубились тучи, напоминавшие пенящиеся морские волны.
— До свидания!
— Счастливого пути!
Возок выехал на улицу и, покачиваясь, поплыл по ухабистой дороге.
Едва лишь прапорщик Федор Вадковский, бывший кавалергард, высланный из столицы в Нежинский конно-егерский полк за неуважительное отношение к своему командиру, вернулся из отпуска, как его посетил гость, недавний знакомец Шервуд. В первый день знакомства в доме майора Лукашевича подвыпившие офицеры в шутку заставили их выпить на брудершафт и тем скрепили дружбу.
Вадковский не жалел, что познакомился с англичанином — симпатичным, духовно развитым человеком, а главное — таким же пылким, как он сам.
Правда, Шервуд сердился и всегда возражал, когда его называли англичанином.
— Я русский патриот. Что из того, что я родился на Британских островах? Всем известно, что мой отец еще в тысяча восьмисотом году приехал на службу в Россию — на Александровскую мануфактуру. С тех пор мы навсегда связали свою жизнь с русскими. Дело не в том, где родиться, а какую землю считать своей отчизной. Я дважды ездил в
городок Кент, где впервые увидел свет, но был там только гостем, не более. Лишь в России я чувствую себя дома. Ибо это моя страна, ее слава — моя слава, ее боль — мои собственные раны и тоска.
Федору Федоровичу импонировало, что Шервуд хорошо знал историю как Британии, так и России. Рассказывая, он кипел от возмущения против несправедливости владетельных особ. Он ненавидел королей и императоров. Зато благоговел перед Радищевым, восхищался поэзией Державина и молодого Пушкина, особенно теми его стихами, которые распространялись среди дворянства в потрепанных тетрадках.
Быть может, юношеская восторженность британца потому так пришлась по душе Вадковскому, что он и сам ненавидел монархов, которые, сидя на русском престоле, молились прусскому богу. И, не зная и даже не стараясь узнать русский народ, пользовались богатством и славой, добытыми им.
Таким образом, мысли Шервуда, всей душой болевшего за Россию, были мыслями самого Вадковского.
Еще в Петербурге вступив в Тайное общество, Федор Федорович остался его верным и последовательным пропагандистом. Он мечтал о том времени, когда Россия, сбросив ярмо, станет одной из просвещеннейших держав Европы. О том времени, когда в Россию за наукой будут ездить иностранцы.
Каждая встреча Шервуда и Вадковского приносила обоим много нового, обогащала их. Вот почему Вадковский был искренне рад визиту Шервуда.
Они обнялись, как настоящие друзья, встретившиеся после долгой разлуки. Шервуд сиял, глядя на статного прапорщика. А Вадковский, положив ему руки на плечи, словно собираясь бороться, — энергия так и била через край, да и молодого задора было не занимать, — говорил:
— Иван Васильевич, ей-ей, я не знал, что дома меня ждет приятная встреча, а то сейчас же уехал бы от Чернышевых и примчался сюда. Откуда ты взялся?
— Соскучился по тебе, вот и приехал, — признался Шервуд, глядя в серые, с золотой искоркой глаза прапорщика. — Сердце подсказало, что именно сегодня мне следует быть здесь, чтобы приветствовать тебя, мой друг. Ну, рассказывай! В столице, наверное, не одной фее вскружил голову?
— А вот и не угадал, — захохотал Вадковский, ведя гостя к столу, на который слуга уже ставил напитки и закуски. — В столицу я так и не попал, разве вырвешься от моего двоюродного брата Захара Чернышева? Но, откровенно говоря, я не жалею. На Оке дивные места, а гостей у Чернышевых каждый день собиралось как на банкет. Бывало, по пятьсот лошадей стояло на конюшне. Представь, огромный двор заставлен каретами, возками разного стиля, ландо, берлинами, — словом, всем, на чем переезжают с места на место наши помещики, вечно ищущие, где бы спрятаться от скуки и весело провести время. Ну, а у Чернышевых всем хорошо. Они люди гостеприимные, у них не захандришь. Каждому найдется место. А в погребах столько радости Бахуса — можно целую дивизию напоить.
Шервуд, покачав головой, спросил с завистью:
— Богаты?
— Современные крезы! Только на российский манер! — воскликнул Вадковский, хмелея от одного лишь воспоминания о днях, проведенных в имении Чернышевых. — Кроме майората Ярополец у них могилевское имение, графство Чечерское, поместье Тагино, где я гостил, ткацкая фабрика в селе Скорнякове, винокурня в Пустошине, мельницы, сукновальни, лесопилки, кирпичные и поташные заводы, заводы по производству стекла и железа, двенадцать поместий и черт знает что еще. В одном лишь Чечерском — представь! — у них восемьдесят четыре тысячи десятин земли. А в Яропольце девять тысяч крепостных душ. Сотни слуг, целый штат учителей, собственный оркестр, художник, врач... Богатства на миллионы рублей!
— Можно позавидовать, — вздохнул Шервуд, ошеломленный рассказом друга.
— Я не заметил, как промелькнули два месяца. Каждый день кавалькады, пикники, обеды на берегу Оки. И прелестные девицы! А по вечерам танцы, фейерверки, ужины на четыреста или пятьсот персон. Не отдохнул, а даже устал от развлечений.
— В полку отдохнешь, мой друг, — шутя посочувствовал Вадковскому Шервуд, любуясь им и завидуя его счастливой судьбе. — Военным не к лицу сантименты, как говорят в Британии. Но должен признаться, что ежели привыкнешь к человеку, то разлуку с ним переживаешь весьма и даже — что там скрывать! — тоскуешь вот по такому прапорщику. Недаром же говорят, что друг — это сокровище души и сердца! Не так ли, Федор Федорович?
— Ох ты новоявленный философ! — засмеялся Вадковский, дурачась, как мальчик, который не знает, куда девать играющую в мускулах силу и как справиться с радостью, переполняющей сердце. — Давай лучше выпьем чего-нибудь из запасов Чернышевых. В дорогу мой возок нагрузили всякой всячиной, словно отправляли меня на край света.
Когда они выпили не по одному бокалу и закусили ветчиной и колбасой, Вадковский спросил:
— А что нового здесь? Все ли живы из общих знакомых?
Шервуд отодвинул тарелку на середину стола, встал, тщательно притворил дверь, вернулся на свое место, но не сел, а наклонился над столом. Тихо, точно боясь, что его могут услышать стены, проговорил:
— Я ждал тебя с нетерпением, ибо располагаю сведениями, которые не одного меня взволновали. В чугуевских военных поселениях действует тайная группа, весьма многочисленная. Не исключено, что там может вспыхнуть новое восстание, еще более грозное, чем то, которое подавил Аракчеев.
На Вадковского эта весть произвела глубокое впечатление. С минуту он молчал.
— А откуда тебе это известно? — спросил наконец, взглянув на Шервуда с подозрением. — Это же тайна.
— Там служит один мой добрый знакомый. Может быть, он из числа заговорщиков? И я дурно поступил, признавшись тебе? Доверил чужой секрет. Я долго колебался, но иначе не мог.
— Колебался! — обиделся Вадковский, заметив, что Шервуд немного растерян. — Ну, спасибо за доверие. Я с первого дня знакомства чувствовал, что нашел в тебе верного друга. И, как вижу, не ошибся. За это стоит выпить. За настоящую дружбу! Я думаю, ты не станешь возражать против подобного тоста?
И Федор Федорович наполнил бокалы.
— Зачем таиться перед истинным другом? — пожал плечами Шервуд, словно огорченный тем, что, к сожалению, еще встречаются такие друзья, которые не желают делиться с ним, Шервудом.
— На кого ты намекаешь? — спросил Вадковский, любуясь игрой вина в бокале.
— Да хотя бы на тебя, — сказал Шервуд, уже не скрывая обиды на хозяина дома. — Думаешь, я не знаю, что в русской армии давно существуют тайные общества, целью которых является низвержение монархии и создание нового государства?
Вадковский, отрезвевший от всего услышанного, потрясенный словами Шервуда, не сразу нашелся что ответить.
— А ты откуда об этом знаешь? — спросил он недоверчиво, стараясь быть спокойным. — Кто тебе сказал?
— Никто, догадался, и все тут. Не считай, что я глуп и слеп. У меня есть глаза и уши. Этого достаточно, — уклонился от прямого ответа Шервуд. И помрачнел: он был недоволен другом, от которого сам ничего не скрывал.
— Эти тайны принадлежат не мне, — оправдывался Федор Федорович. — Тебе не на что обижаться.
— Я и не говорил, что обиделся, мой друг. Просто случайно вырвалось слово. Откровенно говоря, я очень завидую тем, кто имеет честь быть принятым в тайные организации. Такие люди живут не напрасно, их ждет подвиг. Они борются за светлые идеалы...
Погрузившись в свои думы, Шервуд неторопливо шагал по комнате. Казалось, он не замечал хозяина, забыв, что находится не дома. Вдруг он остановился напротив Вадковского и тихо произнес:
— Нас никто не слышит, значит, можно говорить откровенно. Я знаю некоторых офицеров, принадлежащих к обществу заговорщиков. Давно хотел просить кого-нибудь, чтобы и меня ввели в круг этих вольнодумцев, мечтающих о свободе для народа и Отечества. Я уверен, что заслужу их доверие и уважение, ибо готов хоть сегодня на смерть во имя революции. Ты знаешь, как я ненавижу монархию с ее несправедливостью и косностью!
Вадковский молча слушал исповедь Шервуда, все еще колеблясь, стоит ли признаться, что он тоже принадлежит к числу тех, кто мечтает о свободе и ненавидит абсолютизм. «Что же делать? Признаться или еще и еще раз проверить этого полубританца-полурусского? Впрочем, если он все равно кое-что знает, глупо отказываться от услуг человека решительного и преданного революции. Такие люди нужны нашему Обществу».
— Знаешь, о чем я сейчас подумал? — спросил Шервуд, повеселев. — Что, если договориться с чугуевцами и вместе восстать против тирана и аракчеевщины? Ведь у всех одна цель — и у поселенцев, и у дворян-офицеров. Только сам я не решусь обратиться с таким предложением к кому-нибудь из влиятельных людей, причастных к заговору. Это дело политическое, тут необходима осторожность. А главное — мне могут не поверить. Ведь я британец!
Вадковский, тронутый искренностью Шервуда, сказал, что сможет ему помочь.
— Добро за добро. Ты мне доверил тайну о чугуевцах, а я поручусь за тебя, доверю тайну нашего общего дела.
— Что ты! — испугался Шервуд и отступил на два шага. Вадковскому показалось, что он побледнел. — Я не заслужил такой чести и не смею надеяться. Сначала должен доказать, что достоин быть среди лучших сынов России. Ну кто я? Сын механика, из плебеев. Ни чина, ни богатства. А там князья, графы, соль земли.
— Правда, и князья, и графы. Братец мой Захар Чернышев, о котором я тебе рассказывал, тоже вступил в Общество. И чины там разные встретишь — от унтер-офицера до генерала. Кавалергарды, гусары, драгуны, уланы. Все считают за честь пребывать среди тех, кем когда-нибудь будет гордиться Россия. А то, что ты незнатен, невелика беда! Не одни лишь дворяне верой и правдой служат России, но все, кто желает ей благоденствия.
— Не знаю, как я отблагодарю тебя, мой друг, за эту услугу, за доверие ко мне. Ты просто осчастливил меня, — произнес глубоко тронутый Шервуд. — Нет, все-таки я этого не заслужил, ей-ей, не заслужил.
— Заслужишь! — старался ободрить гостя Вадковский. Он видел, что Шервуд очень возбужден, и почти насильно усадил его за стол. — Ты свяжешь нас с поселенцами чугуевцами и тем послужишь общему делу. Представляешь себе, какою будет Россия без тирана? Я над этим часто задумываюсь, и душа наполняется гордостью. Жаль, что не дожил до сих времен Радищев. Он был одинок. А теперь сотни его последователей в полках только ждут знака, чтобы подняться против проклятой монархии и смести ее.
— Да, мой друг, да! — горячо воскликнул Шервуд. — Я на всю жизнь останусь твоим должником, Федор Федорович. — Он обнял Вадковского и, не сумев сдержать своих чувств, начал его целовать.
— Мы все в долгу перед отчизной, — промолвил Вадковский, тоже очень растроганный. — Давай выпьем за наше будущее, за новую Россию, без тирана. И за верную дружбу.
— Да, за дружбу и за Россию, мою настоящую родину, за обновленную, солнечную Россию! — сказал Шервуд, поднимая бокал с красным вином.
То было время национально-революционных движений, возникавших в разных концах Европы. Особенно ярким пламенем вспыхнуло освободительное движение в Италии — Неаполитанское восстание. Героически сражались за свою независимость и греки.
Очень тяжелой показалась российская действительность участникам заграничного похода, когда они, завоевав победу над узурпатором Наполеоном, возвратились домой. Сначала надеялись, что после того, как будет освобождена Европа, наступит и для России новая жизнь — Александр Первый выполнит все, что обещал. Но время развеяло эти надежды...
Ратники не жалели своей крови и жизни в борьбе с Бонапартом, а их положение так и осталось трудным, подневольным. Крестьяне искали выхода в бунтах либо переселялись в глухие уголки бескрайней Российской империи, надеясь там спастись от крепостников и найти свое счастье.
Честные люди повсюду страдали от бюрократической власти, от своеволия помещиков, взяточничества чиновников и несправедливостей и обид, чинимых знатью. Недовольство правительством постепенно распространялось на все слои общества. И тогда, не веря, что царь пойдет на уступки, а также боясь народных восстаний, в результате которых помещичий класс мог быть сметен вместе с монархией, передовые круги дворянства решили провести в жизнь реформы, не ожидая согласия императора и тех, кто и думать не хотел о каких-либо изменениях в государственном устройстве.
Часть дворянства ударилась в мистику, в масонство. А скоро на почве масонских лож возникли первые тайные кружки, со временем превратившиеся в Общества.
Офицеры гвардии организовали Союз спасения, целью которого являлось создание в России конституционно-монархического правительства. Позднее этот союз был преобразован в Союз благоденствия. Его задачей было способствовать распространению образования, правосудия, развитию сельского хозяйства и промышленности.
Однако вскоре встал вопрос о форме правления в России. Большинство членов Союза благоденствия высказались за республику: монархия всем опротивела, у нее не было будущего, она давно устарела как форма государственности.
У Союза благоденствия было много сторонников, но он не обладал ясным и конкретным планом действий и потому фактически ничего не делал. Без конца шло обсуждение одних и тех же вопросов. Союз оказался нежизнеспособным. Власти легко могли его обнаружить и многих наказать за вольнодумство и болтовню насчет антиправительственных реформ.
В 1822 году правительство Александра I запретило какие бы то ни было общества и масонские ложи. Для того чтобы не привлекать внимания царя и избавиться от ненадежных членов, Союз благоденствия для вида распустили. Но в то же время в Тульчине, при участии Пестеля, было создано Южное общество. Туда принимали только проверенных офицеров, преданных идеалам революции, да и то если за них ручались руководители нового Общества. Каждый вновь вступающий должен был дать клятву, что будет хранить тайну Общества и выполнять приказы директории в лице Пестеля, Юшневского, а затем и Сергея Муравьева-Апостола, ставшего третьим директором.
Директории подчинялись три управы. Тульчинской руководили Пестель и генерал-адъютант Второй армии Алексей Юшневский. Во главе Васильковской управы стояли Сергей Муравьев-Апостол, подполковник Черниговского полка, и подпоручик Полтавского — Михаил Бестужев-Рюмин. Каменскую управу возглавили генерал-майор Сергей Волконский и отставной подполковник Василий Давыдов. Членами Южного общества были в основном гвардейцы и те, кто в наказание за семеновскую историю был переведен в другие полки.
Немного позднее в Петербурге было создано Северное общество во главе с Никитой Муравьевым и Сергеем Трубецким; вскоре к ним присоединился поэт Кондратий Рылеев.
Северное общество по своим идеалам отличалось от Южного. «Северяне» стояли за конституционную монархию, федеративное государственное устройство, двухпалатную систему с высоким цензом для выборщиков, — что отдавало всю власть в руки крупных и средних помещиков.
Пестель же, а за ним и другие члены Южного общества, представлял себе Россию как республику и возражал против федеративного устройства. Во главе государства, по мнению «южан», должна была стоять Верховная дума из пяти членов, которых народ избирал бы на пять лет. Этой думе должна была принадлежать высшая исполнительная власть, а все законы издавала бы Государственная дума, состоящая из двух палат — Великого собора и Народного веча. И никакого имущественного ценза для выборщиков. Предлагалось уничтожить крепостной строй, землю в принудительном порядке отнять у помещиков и часть ее распределить между крестьянами, а остальное отдать в общее пользование.
Собираясь в Петербург, Пестель надеялся обо всем договориться с руководителями Северного общества, сгладить острые углы, убрать то, что до сих пор служило камнем преткновения на пути единства и объединения обоих Обществ.
Все было готово в дорогу. Пестель и Ивашев отдыхали за беседой. Денщик Степан хлопотал насчет ужина.
Василия Петровича Ивашева в четырнадцать лет отдали в Пажеский корпус. Оттуда он вышел ротмистром и был направлен в Кавалергардский полк. Потом его назначили адъютантом к товарищу отца по службе, командующему Второй армией графу Витгенштейну. В Тульчине Ивашев встретил однокашников по Пажескому корпусу — Пестеля, Свистунова, познакомился с Фонвизиным, Крюковым, Комаровым, Краснокутским, Юшневским, Басаргиным и доктором Вольфом. Все они были членами Общества. Во Второй армии служило много офицеров-семеновцев. Ивашев быстро с ними подружился. В то время как раз происходила расправа над чугуевскими повстанцами. Передовые офицеры возмущались жестокостью императора и Аракчеева во отношению к людям, вся вина которых состояла в том, что они протестовали против бесчеловечного обращения с ними в военных поселениях.
Скоро Ивашева приняли в Общество. Он жил на квартире у Пестеля и в свободные часы помогал ему в работе над «Русской правдой», делал выписки из сочинений Барюеля о Вейсхаутской тайной организации, правила которой использовались при разработке программы Южного общества.
Провожая Пестеля в столицу, Ивашев тоже собирался в дорогу. Начальство дало ему отпуск на год, и теперь Василий Петрович ехал в Симбирскую губернию, в Ундорово, имение своей матери.
— Вот и расстаемся мы с тобой надолго, — грустно проговорил Пестель, положив руку на плечо Ивашева. — Когда-то судьба опять сведет нас вместе! Из Петербурга я отправлюсь в свой полк, в Линцы. А ты из Симбирска вернешься в Тульчин.
— Ничего, Павел Иванович, мы еще не раз увидимся. А может быть, даже опять будем жить на одной квартире и по вечерам играть на фортепиано.
Пестелю стало стыдно, что он поддался минутной грусти, проявил слабость перед товарищем. На вид суровый, он, однако, быстро привыкал к людям и тяжело переживал разлуку с ними. В душе он упрекал себя за это, потому что считал сентиментальность свойством женщин, но никак не военных.
В тот вечер Пестель и Ивашев последний раз играли в четыре руки любимые музыкальные произведения. Потом Пестель один сыграл сонату Бетховена до диез минор. Казалось, в комнату, окутанную сумерками, вдруг заглянула июльская тихая лунная ночь. А за окном, точно задумавшись, стоял лес и как живой сиял серебряным светом пруд. Пел соловей, и все окрест слушало его, покоренное вечно молодой песней любви...
Друзья пытались шутить, вспоминали разные веселые случаи из своей жизни. Но, как нередко бывает перед разлукой, словно черная туча бросила тень на уютную квартиру Пестеля. Даже Степан не проронил ни слова, молча подал ужин, молча убрал со стола посуду. Он, правда, любил путешествовать, однако сейчас тревожное настроение барина передалось ему, поэтому Степан почитал за лучшее молчать.
Всю дорогу беспокоил Пестеля вопрос: удастся ли хотя бы на этот раз убедить в своей правоте «северян» и прийти к соглашению по главным пунктам, до сих пор мешавшим объединению обоих Обществ? Он вспомнил, как ездил в Петербург князь Барятинский.
Александр Петрович Барятинский был убежденным сторонником Пестеля. Он отправился в столицу в качестве делегата от директории Южного общества. О его миссии знали Давыдов, Волконский, Юшневский, Сергей Муравьев-Апостол. Предлог для поездки был выбран удачно: как адъютант Барятинский сопровождал в Петербург командующего Второй армией Витгенштейна.
С Барятинским Пестель передал письмо Никите Муравьеву. Пестель писал, что восстание должно начаться в столице по первому сигналу с юга, сообщал, что Южное общество признало необходимым истребить царскую фамилию. В письме была знаменательная фраза: «Полумеры ничего не стоят, мы тут хотим, чтобы весь дом был очищен» (имелось в виду уничтожение царствующего дома).
Миссия Барятинского не оправдала надежд: принял в Общество Вадковского и Поливанова — и все. А уезжая из Петербурга, передал обоих под опеку Сергею Трубецкому, то есть формально ввел их в Северную управу. Но тем самым Барятинский создал почву для будущего республиканского филиала Южного общества.
Скоро благодаря усилиям Вадковского в Общество вступил кавалергард граф Захар Чернышев, на сестре которого Александре был женат Никита Муравьев. Вадковский подготовил к вступлению в Общество поручика Анненкова, организовал кружок из вновь принятых членов, в который, в числе прочих, вошли подпоручик Кривцов и корнет Свистунов. Руководство республиканским кружком возложили на Матвея Ивановича Муравьева-Апостола. А когда Вадковского перевели в Нежинский конно-егерский полк, он и там остался преданным и неутомимым помощником Пестеля в деле привлечения в Общество новых членов из числа офицеров Нежинского полка.
В Кавалергардском полку в свое время начинали карьеру кроме Пестеля Михаил Лунин, Михаил Орлов, граф Киселев и другие. По своему составу и традициям Кавалергардский полк был самым аристократичным в петербургской гвардии. Кавалергарды несли почетную охрану во время коронации, из их числа выбирали офицеров, стоящих у трона. Кавалергарды являлись частью парадной декорации на всяких празднествах и торжествах, и поэтому их мундиры отличались особенной пышностью. В этот полк вербовали исключительно из знатных семейств. Кавалергарды играли главную роль и во время дворцовых переворотов. В ночь убийства Павла Первого они охраняли спальню цесаревича Александра, будущего императора. И фавориты императрицы чаще всего попадали именно в Кавалергардский полк.
Вот почему этот полк стал главным объектом в стратегическом плане Пестеля. Павел Иванович мечтал создать там надежную опору из своих единомышленников, на которых можно было бы целиком и полностью положиться в час выступления против династии Романовых.
Приезжая в столицу, Пестель обычно останавливался в трактире Демута на Мойке. Из просторного номера были видны речка с рыбацкими лодками, мост и синее небо, просвечивавшее сквозь туман. В открытое окно доносился приглушенный шум города, такой непривычный после тишины в Тульчине.
Первым Пестеля навестил Матвей Муравьев-Апостол — невысокого роста человек, державшийся с большим достоинством. Матвей Иванович, хотя и ходил в партикулярном платье, сохранял военную выправку — четкие движения, твердая походка. Он не был похож на своего младшего брата Сергея ни внешностью, ни чертами характера.
Матвей Иванович знал, что Пестель приехал в Петербург, — несколько дней назад он получил письмо от Сергея.
Шагая из угла в угол, Матвей Иванович рассказывал петербургские новости: кто из товарищей сейчас в столице, кого перевели из столичных полков в провинцию. Пестель узнал, что некоторые из тех, на кого он возлагал надежды, теперь далеко от Петербурга, а порученная им работа в гвардейских полках столицы не выполнена. И филиал, возникший было после приезда в Петербург князя Барятинского, в силу непредвиденных обстоятельств распался. Неприятная новость погасила огонек надежды, который светил ему, когда он ехал сюда. Ну, а старые члены Северного общества, сказал Матвей Иванович, придерживаются прежних взглядов относительно будущего России, они просто не в состоянии принять революционные воззрения Юга.
— А конкретно — что делают наши столичные друзья? — спросил Пестель, отходя от окна и внимательно глядя на Муравьева-Апостола. — Как всегда, ведут дискуссии, спорят? И все?
— Нет, они не только дискутируют, но и принимают в Общество новых членов. На последнем совещании избрали трех директоров. Я собирался написать вам об этом эзоповым языком, однако, получив письмо от брата, решил рассказать все при встрече.
— А кого избрали?
— Никиту Муравьева, князей Трубецкого и Оболенского. Мы с Никитой собирались вместе прийти к вам, но у него заболела жена. А Трубецкой приедет вечером.
— Как поживают наши юные кавалергарды?
— Вы имеете в виду Свистунова и других? Ну что вам сказать... Молодежь быстро загорается, но быстро и остывает. Этот огонь нужно постоянно поддерживать, да некому. Костер души требует топлива. Военным людям легче сражаться оружием, нежели софизмами. Лучше броситься на штурм любой крепости, выхватив шпаги, чем ждать, когда кто-то с кем-то согласует форму государственного устройства.
— Для штурма крепости тоже необходимо иметь план и сила нужна, иначе сложишь голову еще у стен.
— Не возражаю. Однако дальновидность и способность к глубоким размышлениям приходят к вам с опытом. А опыт — с годами. Не так ли?
Пестелю не хотелось спорить с Муравьевым-Апостолом, его не покидали грустные думы о филиале. Он не мог смириться с тем, что люди, клявшиеся все сделать для Общества, так скоро забыли свои обещания, так быстро остыли. «Может быть, в самом деле прав Матвей Иванович, говоря, что надо раздувать огонь, а я об этом не подумал».
— Поручик Анненков часто отлучается из столицы по делам кавалерии и нарочно избегает бывать на совещаниях, — продолжал Муравьев-Апостол. — Корнет Свистунов охвачен скептицизмом и более не верит в идеалы, которые еще недавно вызывали у него восхищение и ради которых он готов был жертвовать жизнью. Депрерадович, Арцыбашев, Васильчиков совершенно охладели, не принимают никакого участия в работе Общества...
Молча слушал Пестель эти печальные новости. У него было такое чувство, словно холодные камни один за другим падают ему на сердце, оставляя глубокие раны. Но он ничем не проявил своих чувств. Только лицо его потемнело и вокруг рта резче обозначились морщины. И бездонными стали глаза. «Ну что же, пусть лучше слабые духом покинут наши ряды сегодня, чем в день восстания. На их место встанут настоящие борцы».
Когда Матвей Иванович ушел, Пестель прилег на кушетку и закрыл глаза. Он думал о товарищах, которые так быстро утратили интерес к общему делу, хотя в тот уже давно прошедший вечер на квартире Свистунова пылко и, казалось, искренне клялись в верности Обществу.
«А что, если и другие отступятся? Что тогда? Погибнет то великое, во что я верю и что поставил целью своей жизни. Нет, не может быть, чтобы изменили такие, как Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Волконский, Юшневский... Однако это на юге. А в столице? Что собой представляют Трубецкой, Никита Муравьев, Лунин, Якушкин?.. Я знаю их и не знаю. Лунин энергичный, решительный человек, готовый на смерть ради революции. Помню, когда он приехал в Тульчин, то советовал создать группу из особенно отважных офицеров, чтобы убрать императора и расчистить путь революции. Якушкин сам сказал, что он переоденется в мундир кавалергарда, отправится во время бала в царский дворец и убьет тирана. Разве такие люди способны изменить, предать? Нет, они не отступят, не разочаруются, они пойдут на смерть. Но что могут сделать одиночки, пусть даже самые отчаянные, там, где требуется огромная и надежная сила, чтобы повалить твердыню, веками считавшуюся святой и необходимой? Нужно добиться, чтобы в Общество вступили влиятельные особы, генералы, — словом, те, кто близко стоит к трону. Только тогда можно надеяться на успех».
Много вопросов выдвигает жизнь, и каждый требует ответа — одного-единственного, точного и бесспорного.
Размышления Пестеля прервал Степан.
— Князь Трубецкой, — сказал он, войдя в номер. Прикажете принять?
— Зови! Но сначала принеси мне мундир.
Сергей Петрович Трубецкой начинал свою карьеру подпрапорщиком в Семеновском полку. Там он познакомился, а потом и подружился с Сергеем Муравьевым-Апостолом, Якушкиным.
В кампании двенадцатого года на Бородинском поле и под Кульмом Трубецкой отличился храбростью и умелым командованием. Потом — заграничный поход. В Париже он входил в масонскую ложу «Трех добродетелей». А вернувшись в Россию, вступил в Союз благоденствия. Жил он тогда в семеновских казармах вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом. В Обществе принадлежал к умеренным, высказывался весьма осторожно. А когда речь заходила о форме правления в новой России и о цареубийстве, категорически возражал против крайностей. Он готов был удовлетвориться теми куцыми реформами, на которые, без сомнения, милостиво согласится император, если ему доказать, что без перемен Россия в наше время не может двигаться к прогрессу.
Надевая принесенный Степаном мундир, Пестель почему-то подумал, что в годину испытаний легче всего узнать человека и понять, на что он способен: именно тогда, а не в обыденной, мирной жизни люди раскрываются в полной мере.
На пороге комнаты, радостно улыбаясь и протягивая Пестелю обе руки, стоял гость.
— Счастлив видеть вас в столице. Только почему вы не приехали прямо ко мне?
— Благодарствуйте! Я всегда останавливаюсь у Демута, привык. Прошу садиться!
Сначала, как водится, заговорили о новостях, о последних событиях столичной жизни, об общих знакомых, потом незаметно перешли к делам Общества.
Глядя на Трубецкого, Пестель старался уловить на его лице тот отпечаток, который жизнь неизбежно накладывает на все лица, однако никаких перемен во внешности своего гостя, хотя они и не виделись уже довольно давно, заметить не мог. Те же азиатские черты: большой нос на удлиненном лице, две глубокие бороздки, тянущиеся ко рту, толстые губы, серые глаза — а ведь мать Трубецкого, грузинская княжна, была черноглазой.
Честолюбивый князь в душе завидовал авторитету Павла Ивановича, особенно сильно чувствовавшемуся на юге. Впрочем, и в столице влияние Пестеля было весьма заметно. Его решительность, последовательность в отстаивании своих взглядов, его неуступчивость, когда дело касалось формы государственного устройства, — все это раздражало Трубецкого, но нравилось некоторым членам Общества.
Прошло несколько минут, и они уже заспорили. В словах Трубецкого звучала зависть, правда, спрятанная за светской учтивостью.
— Ваша «Русская правда» не более чем уничтожение крепостного права и всех сословий, упразднение дворянских привилегий, — сказал он, сдерживая раздражение. — Однако нельзя же у одних все отнять, а другим все дать. Помещик — хозяин страны, а вы хотите отнять у него без выкупа землю, раздать ее крестьянам. Подобная акция разрушит хозяйства, разорит богатых дворян. А где же справедливость? И разумно ли это?
— Речь идет только о части земли, которая будет отнята для распределения между крестьянами, — поправил Трубецкого Пестель: ему не впервые приходилось давать объяснения тем, кто боялся потерять источник своих доходов и потому защищал право на рабство и землю, на которой трудились рабы. — А что касается сословий и привилегий, князь, то не кажется ли вам, что они несовместимы с правами, предоставляемыми республикой всем без исключения гражданам? Ведь все рождаются с одинаковым правом быть человеком, а не рабом. Почему же вы не желаете согласиться, что именно привилегии, происхождение и другие негодные атрибуты нашей жизни разъединяют людей? Почему мы должны оставить все неизменным, не уничтожив эту извечную несправедливость, ежели нашей целью является создание новой России? А ведь мы ратуем именно за это, князь. Не так ли?
— Вы желаете равенства для всех. Однако, отдавая власть в руки черни, не допустим ли мы ошибку, столь пагубную, что она принесет еще больше зла, чем монархия?
Пестель покраснел от возмущения.
— Князь, мы отдаем власть не черни, а Временному верховному правительству. В него войдут достойнейшие сыны новой России. А потом во главе государства встанет Верховная дума из пяти человек, избранных на пять лет.
— И все-таки где гарантия, что не появится новый Пугачев? А за ним, безусловно, пойдут простолюдины, и тогда наступит хаос. Ибо чернь страшна. Она ужаснее чужеземных завоевателей. Вы скажете, что наша армия сможет задушить восстание и навести порядок в стране? Однако не забывайте, что в армии служат те же крестьяне. Она держится только благодаря суровой дисциплине. А если не будет монарха, командиры потеряют авторитет, и ничто не спасет нас от междоусобиц и хаоса.
— Ваши опасения, князь, ей-богу, лишены всяких оснований, — улыбнулся глазами Пестель, вспоминая, что не впервые они с Трубецким спорят из-за этого важнейшего вопроса и Трубецкой, храбрый воин на поле ратном, почему-то ужасно пугается, когда речь заходит о передаче власти из рук монарха в руки народа. — Уверяю вас, что Временное верховное правительство — лучшая форма правления. При нем будет не только сохранен порядок в стране, но и обеспечена неприкосновенность границ от посягательств любых захватчиков. Временное верховное правительство гарантирует свободу всем народностям империи, которые избавятся от опеки дома Романовых. Ваши опасения неосновательны. Я тоже дворянин, но я спокоен за свое сословие. И за будущее России. Быть может, на первых порах обстоятельства заставят установить временную диктатуру. Однако что тут страшного? Можно оправдать все, что делается для блага республики.
— И все-таки меня больше привлекает ограниченная монархия, когда не император, а высшее дворянство диктует законы и следит за их выполнением, а император остается символом власти, тем символом, к которому русский привык и который он чтит, как святыню.
— Пример европейских государств доказывает, что абсолютизм свое отжил, князь, и никакие ограничения его не спасут. Дерево с гнилыми корнями легко повалит даже небольшая буря, а страна должна выстоять во время любого шторма, любой бури. Вы это прекрасно понимаете, но почему-то не хотите признать.
Трубецкой встал и прошелся по комнате. Остановился у стола, положил на него руку. Помолчал, внимательно глядя на Пестеля. Наконец сказал:
— Мы с вами уже не первый раз дискутируем на эту тему, но по-прежнему находимся на разных полюсах. У нас разные взгляды.
— Да, взгляды разные, однако дело, которое мы начали с лучшими намерениями и должны довести до конца во имя отчизны, общее. Перед нами одна цель. Нам нужно объединиться, слить оба Общества вместе и чтоб управление у них было одно и то же, то есть одни управляющие члены.
Трубецкой ничего не ответил, точно, задумавшись, не слышал последних слов Пестеля. Разговор не клеился. Казалось, Трубецкой утратил к нему интерес, он стал прощаться.
— Встретимся завтра у Никиты Муравьева, — сказал он. — Вы приедете?
Проводив гостя, Пестель долго шагал по комнате, погрузившись в свои мысли. Трубецкой был одним из наиболее влиятельных членов Северного общества и главным противником республики. Не было никакой уверенности, что удастся его переубедить и склонить на свою сторону. Пестель вздохнул. Он прекрасно понимал, какое огромное значение это имело бы для успеха дела.
У Муравьевых в Петербурге был большой дом. Его купила, переехав из Москвы, мать Никиты, Екатерина Федоровна. На первом этаже жил Никита Михайлович с молодой женой Александрой Григорьевной, урожденной Чернышевой, красавицей, женщиной благородной души и такой обаятельной и радушной, что дом Муравьевых всегда был полон гостей — родственников, знакомых и даже тех, кто, впервые попав в Петербург, считал для себя честью познакомиться с молодой четой.
Используя то обстоятельство, что Муравьевых окружала слава гостеприимных хозяев, члены Тайного общества собирались чаще всего именно у них, не боясь вызвать подозрения и привлечь внимание полиции и прочих любопытных, которых в столице было предостаточно.
Когда Пестель появился в гостиной у Муравьевых, хозяйка играла, а Никита Михайлович сидел за столиком недалеко от фортепиано и просматривал почту.
Хозяева встретили гостя приветливо и любезно. Никита Михайлович извинился за то, что не мог вчера поехать к Демуту, хотя Матвей Иванович и заезжал за ним.
Пестель пошутил:
— Если Магомет не идет к горе, то гора идет к Магомету. Так и я.
— Это я виновата, что Никита не поехал к вам, — сказала Александра Григорьевна, ласково глядя на Пестеля. — Мне немного нездоровилось.
— А как вы себя чувствуете сегодня? — спросил Пестель, целуя хозяйке руку.
— Хорошо. Даже понемножку играю. Только напрасно напугала своего Никиту. Он боится остаться вдовцом, — засмеялась она, бросив влюбленный взгляд на мужа.
— Завидую женатым, особенно тем, кому досталась такая очаровательная шутница, — сказал Пестель. Он прекрасно чувствовал себя в дружной семье Муравьевых и в глубине души действительно им завидовал. — Очень рад видеть вас в добром здравии, ведь это самое главное. Я привез вам, Александра Григорьевна, в презент кое-что из музыкальных новинок.
— Благодарю вас, Павел Иванович, — растроганно проговорила хозяйка, принимая из его рук сверток с нотами. — Я очень люблю Шуберта, Гайдна. Да и не только их.
— Мы с Ивашевым тоже иногда играем в четыре руки в свободное от службы время. Он большой почитатель своего учителя Фильда, вот и я постепенно к нему привыкаю. Больше всего мне импонируют Бетховен и Моцарт — непревзойденные гении в музыке. Шуберт тоже великий мастер. Между прочим, мне недавно рассказали анекдот, касающийся его сочинений. Говорят, однажды какой-то известный немецкий музыкант исполнял квинтет Шуберта «Форель». И представьте себе, один из почитателей принес исполнителю в подарок полную корзину свежей форели. Растроганный музыкант поблагодарил и сообщил, что на следующем концерте исполнит «Менуэт быка» Гайдна...
Все долго смеялись.
Никита Михайлович пригласил гостя в кабинет. Он был искренне рад приезду Пестеля, которого уважал за глубокий ум. Правда, им не раз приходилось горячо спорить, обсуждая дела Общества: каждый отстаивал свой взгляд относительно методов борьбы с монархией. Особенно резко нападал Пестель на «Конституцию» Муравьева, в которой имелся параграф о цензе для выборщиков. Пестеля раздражало такое размежевание людей, разделение на категории в зависимости от их имущественного положения. Если следовать этому принципу, то крестьяне, ремесленники и многие другие будут лишены права голоса и власть, по существу, так и останется в руках аристократов и богатых помещиков. А с этим Пестель никак не мог согласиться.
— Вы, как и прежде, против моей «Конституции»? — спросил Муравьев, как только они остались вдвоем и сели за стол, заваленный книгами и какими-то черновиками.
— То, что мне кажется полезным, я принимаю безоговорочно, — откровенно отвечал Пестель, глядя в глаза своему противнику. — А что касается разных цензов, ограничений, тут никогда не будет моего согласия, дорогой Никита Михайлович. Равенство для всех состояний, иной республики я себе не мыслю. Здесь мы с вами расходимся. Вы хотите отдать все меньшинству, а моя цель — всеобщее благоденствие. Имущество не должно иметь никакого значения. Это просто несправедливо, тем паче в новой России. Разве оттого, что увеличились ваши богатства, вы разумом поднялись выше других? Только разум и способности достойны уважения в обществе, которое мы с вами желаем создать.
Муравьев не обиделся. Он положил свою руку на руку Пестеля и сказал тоже совершенно откровенно, по-дружески:
— Вы правы, Павел Иванович. Мой дед по матери завещал мне пятьдесят семь тысяч десятин земли со всем, что есть на ней живого и мертвого, хотя я и так имею достаточно много для одной семьи. Однако поверьте, если б это потребовалось для нашего дела, я отдал бы все богатства, не оставил бы себе ни одной десятины, ни одного рубля и начал бы зарабатывать на жизнь. Я готов все отдать для святого дела, но отступиться от «Конституции» не могу. То, что в ней записано, выстрадано мною. Неужели вы не верите в мою искренность? Я был бы глубоко оскорблен, если б усомнился в вашем доверии ко мне.
Павел Иванович встал. Стоял перед высоким, стройным Муравьевым, любуясь его откровенностью и непосредственностью.
— Я всегда верил вам, Никита Михайлович, и гордился вами, борцом за новую Русь! — сказал он.
Потом шагнул к Муравьеву и крепко обнял его, как брата или близкого друга. Пестелю вспомнились прежние дискуссии, совещания, на которых на него нередко нападали, обвиняли в том, что он диктатор, хочет всем навязать свои взгляды. Муравьев всегда защищал его от этих несправедливых упреков.
— Я всю жизнь выступаю против любого насилия и в «Конституции» проповедую то же самое. Я полагаю, что там, где льется кровь, нет, не может быть свободы.
Пестель начал возражать:
— А что делать, если того требует революция, Никита Михайлович? Позвольте вам напомнить то, о чем вы почему-то хотите забыть, дорогой друг. Помните, на совещании у Фонвизина, когда Якушкин предложил убить императора и добровольно решил осуществить эту акцию, а все стали с ним спорить, вы и Артамон Муравьев выдвинули свой план уничтожения Александра Первого и дали согласие сделать это во время бала в Грановитой палате. Эту идею вы поддерживали и тогда, когда Лунин хотел организовать покушение на Александра на Царскосельской дороге. Почему же вы теперь считаете, что революция возможна без пролития крови? И только так? Удивительная логика! Откуда такие колебания, откуда столь разные взгляды на одни и те же вещи? Нет, Никита Михайлович, республика требует жертв, и вы обязаны пойти на них во имя свободы и благоденствия отчизны. Ваш куцый гуманизм противоречит общечеловеческим принципам. Справедливее убрать какого-либо претендента на трон, нежели рисковать республикой, ставя под угрозу новую Россию.
Муравьев заметно растерялся.
— Я и сегодня в принципе не возражаю против этой акции. Но иногда меня охватывают сомнения: не послужит ли она сигналом для восстания черни? Поэтому я думаю, что революцию надо осуществить мирным путем, это больше отвечает нравственному чувству русского человека.
Пестель подошел к окну и залюбовался видом на Фонтанку и Михайловский дворец на противоположном берегу Невы. Не поворачиваясь, сказал, что, к сожалению, не очень верит в нравственность православия. Православие освящает несправедливость и господство меньшинства над большинством.
— Я не вижу в истории примеров, когда бы оставленные в живых, но лишенные трона венценосцы не представляли собой опасности для новых правительств. Тем более революционных.
— Ну что же, вы правы, — без особого энтузиазма согласился Муравьев. — Хотя наши взгляды на некоторые вопросы не совпадают, тем не менее я на всю жизнь враг абсолютизма. Этому принципу я не изменю, от идеи не отступлю.
— За это я вас и уважаю.
Пестель повернулся к Муравьеву, хотел подойти к нему и пожать руку, но в этот момент слуга доложил, что приехал князь Оболенский.
— Проси, — сказал хозяин и, извинившись перед Пестелем, пошел встречать нового гостя.
Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, считался одним из организаторов Северного общества. Он был сторонником республиканского строя и поддерживал «Русскую правду»; ему импонировали высказывавшиеся в ней революционные идеи.
Князь Оболенский, приветливо поздоровавшись с Пестелем, сразу начал расспрашивать его о Волконском, Давыдове, Юшневском, пересыпая вопросы шутками и вспоминая смешные случаи из жизни столичных
оригиналов. Начитанный человек, прекрасный знаток литературы, Оболенский рассказывал очень интересно и живо, рисуя портреты общих знакомых. Пестель слушал его с удовольствием.
За этой беседой и застал их Рылеев — самый младший в столичном Обществе, энергичный и пламенный пропагандист его идей. Среднего роста, смуглый и худощавый, он производил впечатление человека сурового и даже угрюмого. Но как только Рылеев начинал говорить, его хмурость сразу исчезала, в карих глазах загорался огонек, и перед слушателями открывалась чистая, светлая душа поэта.
Кондратию Федоровичу еще не было тридцати, однако он выглядел старше своих лет, — может быть, потому, что жизнь его была довольно трудной. Отец Рылеева, бригадир екатерининских времен, обладал суровым характером и жестоко обращался со всеми, кто был от него зависим. Все в доме его боялись, не только слуги, но даже жена, Настасья Матвеевна. В припадке гнева он запирал ее в погребе, а сын Кондратий дрожал от страха и куда-нибудь прятался, чтобы не попасться отцу на глаза. Все это легло тяжелым бременем на душу мальчика.
Чтобы избавить сына от ярости мужа, Настасья Матвеевна отдала Кондратия в Первый кадетский корпус в Петербурге, директором которого был немец Клингер, к сожалению, тоже сторонник телесных наказаний. Горячему, непоседливому мальчику часто доставалось на орехи, тем более что иногда он брал на себя чужие провинности.
К этому времени относятся первые поэтические пробы Рылеева. Потом появится убийственная сатира на любимца Александра Первого — Аракчеева, которого ненавидела вся Россия. Стихотворением «К временщику», напечатанным «Невским зрителем», зачитывался весь Петербург, и слава дотоле никому не известного пиита сразу неимоверно возросла.
В 1814 году Рылеева выпустили из корпуса в чине прапорщика. В составе Первой резервной бригады он побывал в Германии, Франции, Швейцарии.
После пребывания в чужих странах упала пелена с глаз Кондратия Рылеева. Крепостническая Россия, освященное законом и церковью рабство — весь уклад жизни на родине породил желание бороться за справедливость, способствовать освобождению народов России. И Рылеев поклялся принести жизнь на алтарь свободы во имя благоденствия народа.
Военная часть, в которой он служил, квартировала в Воронежской губернии, в селе Подгорном. Рылеев влюбился в дочь помещика Тевяшова, Наталью Михайловну, и вскоре женился на ней.
По требованию тестя в конце 1818 года в чине подпоручика он вышел в отставку, некоторое время служил заседателем в Петербургской палате уголовного суда, пользуясь большой популярностью среди простолюдинов, особенно после того, как выступил в защиту восставших в Ораниенбаумском уезде, в имении графа Разумовского.
Вместе с Александром Бестужевым Рылеев издавал журнал «Полярная звезда», на страницах которого одно за другим появлялись его сочинения, заставлявшие многих задуматься над судьбою родины и бесправного народа.
Скоро адмирал Мордвинов пригласил Рылеева на службу в правление Российско-Американской компании, на должность правителя канцелярии. Тогда же Рылеев узнал о существовании Тайного общества, а спустя немного вступил в него и стал его активным деятелем и пропагандистом. Революционер-романтик, он от всей души верил в историческое значение их дела, полагая, что даже возможное поражение пригодится новым поколениям борцов за свободу и, подобно маяку, будет освещать им путь.
На квартире Рылеева, жившего на Мойке, в доме, принадлежавшем компании, часто собирались на так называемые «русские завтраки» литераторы, члены Общества, а также люди, близкие им по духу. Слуга ставил на стол графин водки, резал ржаной хлеб и несколько кочанов квашеной капусты. На этих завтраках обсуждались литературные и политические вопросы, вспыхивали жаркие споры. Случалось, гости ссорились, отстаивая свои взгляды. Но все это шло от юношеской горячности, все было так искренне, что никто друг на друга не обижался.
Вступив в Общество, Рылеев отдавал свои силы и время пропаганде его идей и превыше всего ставил самопожертвование во имя родины и русского народа.
Рылеева еще до знакомства с Пестелем предупреждали, что с ним надо быть поосторожнее. Полковнику приписывали пороки, которых на самом деле тот не имел. Противники подчеркивали его склонность к диктаторству, утверждали, что якобинец с юга не терпит инакомыслящих, будто бы требуя от всех полнейшей покорности и проведения в жизнь его теории и взглядов.
На что только не способны зависть и недоверие по отношению к человеку, чей ум и опыт намного выше посредственности!
Наслушавшись подобных разговоров и предостережений, Рылеев тщательно взвешивал каждое слово нового знакомого, внимательно наблюдал за ним, словно желая заглянуть ему в душу и за словами угадать его сокровенные намерения.
Приехали Трубецкой и Александр Бестужев, вслед за ними — Матвей Муравьев-Апостол. В кабинете стало тесно.
Пестель коротко доложил о работе южных управ и сказал, что настало время отбросить всякие разногласия, отказаться от дискуссий и объединить оба Общества. Впредь надо действовать по одному плану, укреплять единство, а не растрачивать силы в философских спорах, которые сейчас могут принести только вред.
Как всегда, Пестеля слушали внимательно, не пропуская ни слова. Поддавшись обаянию его логического мышления, люди забыли о недавнем предубеждении и недоверии, им просто приятно было слушать этого высокообразованного человека, умевшего передать присутствующим самое основное из того, что он всегда проповедовал.
Слушая руководителя Южного общества, Рылеев невольно вспомнил слова Пушкина о том, что Пестель — «умный человек во всем смысле этого слова... один из самых оригинальных умов...». Эта характеристика была столь меткой, что, вспомнив ее, Кондратий Федорович сейчас же согласился с Пушкиным.
То, что Пестель был на целую голову выше других членов Общества, он понял сразу. Ему нравилось, что Павел Иванович держался и говорил очень просто, хотя в его словах чувствовалась сила, покорявшая слушателей и никого не оставлявшая равнодушным.
— Мы — представители новой формации русского общества, добровольно возложившие на себя миссию превратить нашу страну из бесправной и отсталой в передовую, в такую державу, которой будут завидовать все европейские государства, — продолжал Пестель. — На привилегиях одних и рабстве других зиждутся беды и несправедливости нашей жизни. Отсюда упадок добропорядочности, взяточничество судей, чиновников, продажность помещиков и вообще все мерзости, которыми так богата Россия. Не к лицу нам держаться гнилого столпа монархии, его нужно повалить, чтобы и следа не осталось. Вот наша главная цель.
Пестель говорил недолго, однако сумел выразить в своей краткой речи задачи и цели Тайного общества.
— Я возражаю против чрезмерно революционной «Русской правды», — заявил Трубецкой, когда Пестель попросил присутствующих высказаться по поводу программы Общества. — Я считаю, что можно убедить монарха добровольно согласиться на реформу. Нужно только доказать ему, что она принесет пользу империи и является требованием времени...
Трубецкому не дали говорить. Со всех сторон послышались недовольные голоса. Слова Трубецкого сыграли роль сухого хвороста, подброшенного в костер.
— Довольно софизмов, господа! И так слишком много пустословия!
— Вот говорили, что Сперанскому и Новосильцеву поручено подготовить новые законы, более отвечающие требованиям современности. Но где же обещанные императором реформы, о которых протрубили на всю Европу?
— Вздор! Еще Радищев сказал, что до скончания века тиран не поступится добровольно хотя бы частицей своей власти.
— Истинно! Власть царей отнимают силой, а не выпрашивают, как милость.
— Когда императорам и королям приходится круто, они не скупятся на обещания. А как только опасность минет, надевают на шею народа новое, еще более тяжелое ярмо. За примерами недалеко ходить: Испания, Неаполь, Португалия...
— Друзья! Господа! — воскликнул Рылеев, до сих пор молча слушавший своих единомышленников. — Я скажу коротко: смерть монархии, да здравствует новая Россия! Мы должны подготовить проект устройства республики. И если в нем будут учтены права человека, этот проект, безусловно, одобрит и утвердит Великий собор.
— Но сначала надо прийти к общему мнению, объединиться. Нужно все взвесить, все предвидеть.
— Мы даже ясно не представляем себе, как удержать власть, что сделать в первую очередь, — скептически отозвался Трубецкой. — Гипотез очень много, однако все они не более чем плоды вольной фантазии и построены на песке.
— Князь, разве не довольно дискуссий, опасений, сомнений и всевозможных допущений, которые также являются плодами фантазии и трусости людей, не верящих в человеческий разум и не представляющих себе государства немонархического? Мы уже не один год спорим относительно формы государственного устройства. Военная диктатура — вот гарантия сохранения власти на первых порах, пока не будет создано Временное правительство. Вот с чего придется нам начинать, когда мы лишим Романова трона.
— Военная диктатура во главе с диктатором? — хриплым голосом спросил Никита Муравьев. — А надолго ли? На год? На десять лет? Надо же знать.
— Может быть, и на десять, если того потребуют обстоятельства, — сдержанно отвечал Пестель, чувствуя за каждым словом спрашивающего тайные опасения. — Если власть будет принадлежать народу, срок не так уж важен. Любой метод достоин одобрения, поскольку он способствует утверждению республики. Я так думаю. Вероятно, возражений нет?
— Именно есть, Павел Иванович, — отозвался из угла Матвей Муравьев-Апостол и встал. — Не слишком ли мы рискуем, господа, отдавая в руки одного человека, пусть даже временно, всю полноту власти?
Его поддержал Трубецкой.
— Боюсь, — сказал он, бросив быстрый взгляд на Пестеля, — что это может закончиться диктаторством в худшем смысле слова. Вернее, явится новый тиран.
Пестель помрачнел. В словах Матвея Муравьева-Апостола и Трубецкого он почувствовал недвусмысленный намек: будто бы он, ратуя за военную диктатуру, руководствуется личными планами и расчетами, будто он хочет занять место диктатора. Ему стало горько, обида обожгла сердце. Неужели его в самом деле подозревают в честолюбии, считают человеком корыстолюбивым и недобросовестным? Это ужасно!
«Я не могу молчать. Не имею права, — приказал себе Павел Иванович. — Лучше искренность и прямые обвинения, чем эти безосновательные подозрения».
Пестель понимал, что сейчас главное — спокойствие. И подавил в себе обиду, чтобы не сказать лишнего. Руководить нами должен разум, а не эмоции... Он заговорил сдержанно, как человек, все взвесивший и обдумавший.
— Господа, я считаю бесчестным дурно думать о том, с кем, быть может, придется идти на смерть. Я понимаю ваши намеки и хочу прямо предупредить, что не ищу для себя лично никакой выгоды. Моя цель — благоденствие отечества. Я, как и все вы, готов пожертвовать жизнью, если того потребует наше дело. Но должен напомнить, что самое страшное для Общества — это разброд. Ибо там, где нет доверия, не может быть ничего прочного. Я предлагаю военную диктатуру только потому, что это единственный надежный способ удержать власть в первые дни после свержения монархии. Тот, кто думает иначе, пусть тоже откровенно выскажет свое мнение. Мы должны относиться друг к другу с чистой совестью и открытой душой.
Всем стало неловко. Подозревать человека, у которого нет никаких задних мыслей! Одни опустили голову, чтобы не встречаться взглядом с Пестелем, другие начали оправдываться:
— Зачем же так думать, Павел Иванович? Это сомнение было высказано вообще и никого конкретно не касалось. Нас всех объединили общие идеи, общая цель.
Вернулись к обсуждению дел. Рылеев считал, что выбор формы правления зависит от воли народа, а волю народа должно выразить Учредительное собрание. Вместе с тем он советовал поскорее составить план восстания, не терять времени, потому что правительство никого не пощадит, если узнает о заговоре.
— Нерешительность равноценна поражению. Аракчеев поднимет над нашими головами меч и еще туже затянет петлю у нас на шее. Нужно окончательно договориться, когда мы выступим, и действовать по плану.
Пестель внимательно смотрел на него. Кондратий Федорович говорил с большим воодушевлением. Казалось, он готов хоть сегодня отправиться на штурм монархии и, если потребуется, не пожалеет собственной жизни.
— Об этом рано говорить, — охладил его пыл Трубецкой. — Еще слабы наши силы и недостаточно влияние в полках. Прежде всего необходимо укрепить свои ряды. Для этого мы должны вовлечь в Общество побольше офицеров, а тогда уж назначить время выступления.
— Так когда же это будет? — не выдержал Оболенский, который, как и Рылеев, рвался в бой, считая промедление смерти подобным.
Вместо Трубецкого ответил Пестель:
— У себя на юге мы можем приступить к акции не ранее двадцать шестого года, когда император будет делать смотр полкам. Если Вятский полк назначат нести караул в главной квартире Второй армии, судьба тирана будет решена. А вы в Петербурге, по-моему, должны уже с этого дня готовиться к восстанию, ведь могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Если вы начнете первыми, я от имени Южного общества обещаю вам присоединиться и помочь всеми имеющимися силами. Могу вас заверить, что за нашими офицерами без колебаний пойдут нижние чины, уважающие своих командиров и доверяющие им. Если же кто-нибудь из начальства не согласится добровольно присоединиться к нам, заставим силой! Справедливость всегда на стороне большинства.
— Право личности священно и неприкосновенно, — неодобрительно глядя на Пестеля, произнес Трубецкой.
— Если оно не используется во вред другим и не угрожает свободе, — парировал Пестель, сделав вид, что не заметил раздраженного тона Трубецкого.
Чтобы прекратить пикировку, Никита Михайлович Муравьев на правах хозяина резюмировал:
— Господа, предлагаю подвести итог сегодняшнему совещанию. Я думаю, никто не возражает? — Не ожидая ответа, он продолжал: — Во-первых, принимая во внимание заявление Павла Ивановича, мы будем ориентироваться на двадцать шестой год, однако наготове надо быть всегда, чтобы не пропустить подходящего случая. Во-вторых, нам нужно вовлекать в Общество влиятельных офицеров. Но при этом тщательно оберегать тайну и всегда помнить о конспирации. Мы будем обо всем оповещать друг друга, а если возникнет необходимость, соберемся на срочное совещание, чтобы обсудить тот или иной вопрос и принять необходимые меры. В том случае, если часть наших товарищей решит действовать немедленно, остальные должны их поддержать всеми имеющимися силами и способами. Вот и все! У кого есть возражения, прошу говорить.
Возражений не было, хотя и после этого совещания остались те чисто теоретические разногласия, которые особенно беспокоили Пестеля.
Офицеры-дворяне, выступавшие от имени русского народа, на самом деле боялись его революционной активности и считали, что нижние сословия — как в селе, так и в городе — лучше оставить в стороне от политических событий.
Спор приобретал форму яростного столкновения двух принципиально враждебных точек зрения. С присущей ему энергией продолжал Пестель борьбу, стараясь оторвать от умеренных «северян» тех, кто был настроен революционно, и создать из них крепкую, надежную группу.
На квартире корнета Свистунова состоялось организационное собрание вновь созданного филиала, основу которого заложил Барятинский. На нем присутствовали Пестель, Матвей Муравьев-Апостол и кавалергарды Вадковский, Поливанов, Свистунов, Анненков, Депрерадович. Вадковский познакомил Пестеля с теми офицерами, которых он не знал. Павел Иванович спросил, согласны ли они принять участие в деятельности Тайного общества, ставящего себе целью создание республики.
— Да, согласны, — услышал он в ответ.
На мгновение воцарилась тишина. Все смотрели на Пестеля. Кое-что о нем уже слышали от его брата Владимира, служившего в Кавалергардском полку, а также от других офицеров, лично знавших черноволосого вольнодумца. Было также известно, что его не любят император Александр и великие князья Романовы, зато в среде передового, мыслящего офицерства он пользовался доброй славой как знаток военной науки, герой Отечественной войны, умный, верный товарищ.
Около часа говорил Пестель, излагая политическую и социальную программу Общества, рассказывая, какою представляется ему форма правления в будущем государстве. Он доказывал преимущества республиканского строя и предупреждал, что республику можно завоевать только дорогой ценой, так как абсолютизм не отдаст власти без боя.
Потом Павел Иванович стал читать важнейшие разделы «Русской правды», и перед слушателями, как из тумана, постепенно начал вырисовываться образ будущей России с совершенно новыми политическими и административными учреждениями.
Возбужденные и взволнованные офицеры поклялись бороться за новое отечество и ничего не жалеть ради святого дела. Пестель намекнул, что для успеха нужна решительная тактика, нужна храбрость; что ради революции, быть может, придется пойти на жертвы и даже кое-кого убрать с дороги, чтобы спасти республику. Надо быть готовым пролить собственную кровь, а также ту, которую прикажет пролить Общество.
Горячая речь Пестеля произвела на молодежь глубокое впечатление. Офицеры как будто увидели мысленным взором родную страну обновленной, все граждане там пользовались равными правами. Собрание закончилось ужином. Пили за победу и успехи Общества. Все горячо верили, что правда возьмет верх над злом и ложью. Эта вера в светлые идеалы, казалось, навеки объединила их в одну семью.
Отмежевываясь от Северного общества, члены республиканского филиала опирались на иную структуру тайной организации. По образцу масонских лож для конспирации были утверждены три категории членов — братья, мужи, бояре.
Вновь принятые представляли собой первую ступень — братьев. Им сообщали общие положения революционной организации, однако оставляли на положении учеников, которых еще надо было испытать и проверить. Лишь после этого их возводили на вторую ступень — они становились мужами. Тогда им рассказывали о цели, которую ставит перед собой Общество, и способах ее достижения. И только доказав свою преданность Обществу, можно было подняться на высшую ступень — попасть в бояре. Бояре занимали руководящие посты, им был известен поименно состав верховного правления, они имели право принимать в Общество новых членов.
Тогда же Вадковский предложил воспользоваться большим балом в белом зале императорского дворца, чтобы уничтожить ненавистное семейство Романовых и провозгласить республику.
Пестель с этим планом не согласился и убедил Вадковского, что Общество пока не готово к такой акции. Еще не составлена программа; она будет изложена в «Русской правде», и Общество объявит ее в день падения монархии.
Павел Иванович был прав, для восстания еще не пришло время. Нужно было укрепить Общество, и в первую очередь в столице, выделить преданную и решительную группу, на которую падет вся ответственность в момент восстания. Пестель мечтал использовать кавалергардов, чтобы их руками свалить аристократический строй. Он старался вдохнуть в них силу революционной убежденности, внушить им готовность пожертвовать своей жизнью во имя идеи, за которую поклялись бороться все члены Общества. Прощаясь с товарищами, Павел Иванович сказал:
— Наш путь не устлан розами. Тот, кто ничем не рискует, ничего не добьется.
После совещания у Никиты Михайловича Муравьева Пестель еще несколько раз встречался с руководителями Северного общества, и разговоры опять и опять вились вокруг тех пунктов, которые так напугали «северян» и на которых особенно настаивал Павел Иванович, не желая поступиться ни одним параграфом «Русской правды».
Накануне отъезда из Петербурга Пестель заехал к Муравьевым попрощаться с Никитой Михайловичем и Александрой Григорьевной.
Супруги Муравьевы предлагали Пестелю остаться обедать, но он отказался, ссылаясь на то, что должен еще проститься кое с кем, а времени в обрез.
— Вы теперь в Тульчин, Павел Иванович? — спросила Александра Григорьевна. Она сидела на диване, рядом стояла корзиночка с нитками.
— Хочу заехать к родителям в Васильево, это в Смоленской губернии, — отвечал Пестель.
— А где квартирует ваш полк?
— В Линцах. Село не очень большое, но чистое и красивое, как и все села в Малороссии.
— Я тоже на этой неделе собираюсь в наше имение Тагино, что в Орловской губернии, — заметила Александра Григорьевна. — Мой брат Захар получил четырехмесячный отпуск. Мне хочется повидаться с ним и вволю наговориться: ведь все наши на службе, вечно в хлопотах, редко собираются вместе за столом. Орловское имение очень красиво. Дивные пейзажи, прелестная Ока и такая тишина... Для отдыха трудно найти лучшее место.
— У вас один брат?
— К сожалению, да. Один брат и шесть сестер.
Графа Захара Чернышева Пестель почти не знал. Только слышал, что он очень богат и принят в Северное общество по рекомендации Федора Вадковского, своего двоюродного брата.
Пестель хотел расспросить Муравьеву о брате, однако вошел Никита Михайлович, и разговор перекинулся на другие темы.
Когда Александрина вышла из гостиной, Муравьев и Пестель опять заговорили о последнем совещании. Никита Михайлович поинтересовался, скоро ли будет дописана «Русская правда».
Павел Иванович покачал головой:
— До конца еще далеко. Должно быть десять разделов, но готово пока только пять. А из этих пяти окончательно доработаны лишь первые три. Тут мне весьма помог Василий Петрович, адъютант графа Витгенштейна.
— Это сын генерал-майора Петра Никифоровича Ивашева, бывшего начальника штаба Суворова, шефа Таганрогского драгунского полка?
— Да! Отец вышел в отставку и живет сейчас в Симбирской губернии.
— Павел Иванович, вы не собираетесь вносить никаких изменений в разделы о государственном устройстве и военной службе?
— Незначительные. Временное правительство должно выделить в каждую губернию по одному представителю. Во время выборов депутатов в палату они будут следить, чтобы не нарушалось право. Срок военной службы — пятнадцать лет, однако брать в рекруты следует только холостых, причем не старше двадцати лет. А минуло двадцать — никто не имеет права взять на службу. Нужно, чтобы человек, отслужив свой срок, мог вернуться домой, создать семью и пожить, как все. Кто вправе отнимать у человека всю жизнь? Она дается каждому из нас один раз. И ее надо провести не только в казарме, заполнить не одной муштрой. Этому рабству, этим издевательствам придет конец вместе с последним Романовым — Александром. Как подумаю, что иные офицеры, без совести и чести, часто отнимают у нижних чинов ассигновки на провиант, пропивают их несчастные копейки и порой даже содержат на эти деньги любовниц, — как подумаю об этом, просто сгораю от стыда за двуногих зверей в мундирах. В «Русской правде» я предлагаю улучшить питание нижних чинов. Кроме муки и крупы давать им в скоромные дни по полфунта говядины, горох, картофель и капусту. Форму одежды тоже надо сменить на более просторную, удобную и цветом потемнее, чем нынешняя, пруссацкая. А что касается военных поселений, то их мы, безусловно, уничтожим. Эта александро-аракчеевская выдумка принесла людям много страданий, стоила много крови.
— Надумали снять графа Витта с должности начальника военных поселений? — пошутил Никита Михайлович, и в уголках его глаз обозначились едва заметные морщинки. — Этак, батенька, грех поступать! Граф Витт пожалуется своему благодетелю, «без лести преданному», и вам достанется на орехи.
— Пусть Витт скажет спасибо, что его до сих пор не убили несчастные поселенцы, которых он опекает... Ну, кажется, мы обо всем договорились? Если возникнут непредвиденные вопросы, мы решим их в письмах. Может быть, условимся и о встрече. А теперь, Никита Михайлович, попрощаемся. Желаю вам успехов, мой друг, и здоровья. И чтобы все у вас было хорошо.
Они поцеловались, как близкие друзья, хотя и были непримиримыми и принципиальными противниками, когда дело касалось «Конституции» или «Русской правды».
— Остались бы с нами обедать, Павел Иванович, — сказал Муравьев, все еще надеясь уговорить гостя. — Приедут Батюшков, Карамзин...
— Благодарю за любезное приглашение, да нет времени, друг мой.
— Я позову Александрину, или лучше давайте вместе с вами пойдем к ней. Может быть, она сумеет повлиять на вас...
— Я уже говорил Александре Григорьевне, что завтра отправляюсь в дорогу. А сегодня мне нужно еще кое с кем встретиться.
— Вы и в быту так же принципиальны, как в серьезных делах? — добродушно упрекнул Пестеля хозяин, не выпуская его руки. Они шли по огромному муравьевскому дому, перед ними была целая анфилада комнат.
— Это вам кажется, Никита Михайлович, — возразил Пестель. — Просто я спешу поскорее уехать из столицы, потому что хочу навестить родителей в Смоленской губернии и заехать в Каменку, к Давыдову. Может быть, застану там Волконского, кого-нибудь еще из наших единомышленников и расскажу им о своей поездке, о том, что говорилось на совещании. Надо, чтобы они были в курсе всех дел. Когда я вернусь в полк, у меня уже не будет возможности разъезжать.
— Приветствуйте их от моего имени. Скажите Волконскому, что осенью я его жду в гости. Пусть возьмет отпуск и приезжает в Петербург.
— Хорошо, непременно передам. Кстати, чуть было не забыл: ваш двоюродный брат Михаил Сергеевич пишет вам?
— Лунин? Редко. Он живет близ Варшавы, там квартирует их полк. Жуирует, ездит на охоту, не пропускает ни одного бала. Говорят, в него влюблена графиня Потоцкая. Михаил пользуется благосклонностью его высочества Константина Павловича.
— Лунин — человек большой души и редкого мужества. К тому же он человек чистосердечный. Я люблю людей прямодушных, которые не боятся говорить правду в глаза.
— Весьма похвальные черты. Но иногда они вредят таким, как наш Михаил. Он слишком горяч, ему не хватает рассудительности. А в его положении эти пороки могут в конце концов оказаться фатальными.
— Если будете писать Лунину, кланяйтесь ему от меня. Скажите, что я часто его вспоминаю.
— Он, как и вы, убежденный холостяк.
— Неженатому легче в нашем положении. Личное счастье, наверное, выпадает не всем, — вздохнул Пестель.
Муравьеву почудились в его голосе печальные нотки, — словно Павел Иванович вспомнил что-то недостижимое, но такое желанное...
В царствование Александра Первого отец Пестеля был назначен генерал-губернатором Сибири. Иван Борисович считал, что вверенным ему краем можно управлять и за шесть тысяч верст от него, и потому жил в Петербурге, в собственном доме на Фонтанке, жил так же, как жили все сановники.
А тем временем в Сибири процветало взяточничество, казнокрадство, совершались и иные преступления, и когда Сперанскому поручили ревизию этого огромного края, Пестелю пришлось подать в отставку.
Тогда Иван Борисович оставил столицу и переехал в Смоленскую губернию, в имение своей жены село Васильево: кроме долгов, у бывшего губернатора ничего не было за душой, а жизнь в Петербурге требовала немалых расходов.
В первый день пребывания в родительском доме Павел Иванович только и делал, что слушал жалобы отца на несправедливость да упреки по адресу Сперанского и ревизоров. Ревизоры, мол, и сами не без греха, а других судят со всей суровостью.
— Все берут, — говорил Иван Борисович, — все требуют взяток, на том мир стоит. Где ж тут уследить? Да еще в таком огромном, богом забытом крае. И почему я должен отвечать за чиновников? Это же такие взяточники и фарисеи, что с мертвого отца готовы шкуру содрать. Ежели уж судить, то всех без разбору, начиная с Сената и кончая последним писарем. Помещиков и чиновников — на каторгу, среди этого скопища грабителей и казнокрадов нет ни одного честного человека. Не-ет, я обо всем напишу его величеству, расскажу о мерзавцах, занимающих государственные должности, о всех, кто обогащается за счет живого и мертвого. А я что имел от службы, кроме жалованья? Когда уезжали из столицы, в кармане у меня было семьдесят пять рублей. И двести тысяч долгу.
Павел Иванович, как мог, утешал отца, не очень, впрочем, веря, что жалоба, посланная императору, внесет существенные перемены в жизнь бесславно покинувшего свой пост генерал-губернатора Сибири.
— Я сорок лет честно служил русскому престолу, а что нажил под старость? — возмущался Иван Борисович, изливая свои обиды и угрожая недругам, столкнувшим его с насиженного места.
Мать молча вытирала слезы. Она ничего не понимала в служебных делах и искренне верила в честность мужа. Она не сомневалась, что с ним поступили несправедливо и что виной всему зависть и недоброжелательство злых людей, близко стоящих к трону.
Павлу Ивановичу было жаль родителей. Их беспомощность вызывала в душе чувство ненависти к могущественным особам за их жестокое, издевательское отношение ко всем, кто стоит на служебной лестнице ступенькой ниже и кого можно безнаказанно унижать. Разумеется, отец виноват, потому что, живя в столице, не знал, что делалось в Сибири. Но разве есть праведники среди министров, высших чиновников, в Сенате! Эта продажная камарилья весь век живет в подлости. В подобной грязи может захлебнуться даже чистая душа. Где уж отцу бороться с ними? Он тоже, пока обладал властью и силой, ничем не отличался от других. А теперь возмущается, ищет правды, требует справедливости, которую сам еще недавно топтал ногами. Ужасно! Вот вам трагедия на русской почве.
Но разве в других странах справедливость и честность в почете? Нет, и там то же самое, только в другой форме. Ибо вся суть в общественном устройстве, в тех условиях, благодаря которым процветает деспотия, являющаяся причиной всех бед. Уничтожив ее, уничтожишь зло. Абсолютизм покрыл Россию зарослями бурьяна, загадил святую землю.
Павел Иванович сидел угрюмый, уже не слушая жалоб отца. Жаль было только чистую сердцем мать. Она с детства учила сына брать пример с героев Плутарха, ненавидеть все темное и тупое, бороться со злом и пошлостью. И вот сидит удрученная, подавленная. Действительность навалилась на нее всей своей тяжестью, согнула — куда девалась ее гордая осанка! — и нет сил выпрямиться.
Павел Иванович посмотрел на отца (как он возбужден, как гневен!), перевел взгляд на мать (как она беспомощна!). И, чтобы утешить их, сказал:
— Не поддавайтесь печали. Скорбь не поможет вашей беде, наоборот — еще больше усложнит и так нерадостную жизнь. Я обещаю помогать вам, сокращу до минимума свои расходы, все буду отдавать вам. И помогу самому младшему из братьев — Александру. Владимир и Борис служат, они сумеют прожить, если будут экономными. И советую переписать Васильево на Софью. Она девушка, ей больше всех нужно.
— Быть может, мне еще удастся выхлопотать хорошее место или достаточный пенсион, — отозвался отец, не терявший надежду, что на старости лет ему улыбнется судьба.
— Ну что же, блажен, кто верует.
Вечером Павел Иванович сидел на террасе, радуясь тишине и вдыхая полной грудью благоуханный воздух старого парка, темной стеной окружавшего дом. Все кругом спало крепким сном; только где-то в вышине закричал сыч, и эхо его резкого крика долго звучало во мраке, словно перекатываясь с места на место, пока не потонуло в зарослях.
И опять тишина, какая бывает только тихой летней ночью после жаркого дня. Потом темная громада парка начала постепенно светлеть, точно упала завеса, и по аллеям один за другим быстро побежали лунные блики, там и сям появились узорчатые тени, а кусты сирени скинули с плеч тяжелые плащи. И потускнел свет, падавший из окон отцовского кабинета.
Пришла мать, села в старое кресло, всегда стоявшее возле круглого стола, за которым когда-то любил читать Павел Иванович.
— Все пишет, все жалуется, — сказала она, словно разговаривая сама с собой. — А что толку? Заимодавцы все равно не дадут житья, какое им дело до нашей бедности. Потерпят еще немного, а потом продадут Васильево, а нам хоть под забором пропадай. Куда идти, как жить?
— Говорю же я вам — перепишите имение на Софью. А долги я возьму на себя, чтобы вас никто не тревожил.
— Павел, дорогой мой! Тебе пора подумать о собственной семье. Не вечно же так, бобылем. А мы, благословляя тебя на самостоятельную жизнь, ничего не можем тебе дать.
Павел Иванович подошел к матери, взял ее руки в свои.
— Я все сделаю для того, чтобы вам было легко и покойно. Все, что в моих силах.
— Нет, сын, жизнь не так проста, как тебе кажется, — возразила Елизавета Ивановна. — Иногда одного желания мало. Бедность никогда не считалась добродетелью, она унижает человеческое достоинство. Даже славное прошлое не всегда спасает, если у тебя нет денег, чтобы жить в столице, как живут другие из твоего круга. Бедность — настоящая трагедия, которой никто не прощает.
Павел Иванович, как мог, утешал мать, в глубине души понимая, что все его слова бесполезны. Вдруг ему стало страшно, что он не сумеет выполнить данных отцу обещаний. Ведь на том пути, на который он встал, его на каждом шагу подстерегает опасность, ее не объехать на аргамаке, не обойти окольной дорожкой. Тайные общества растут, ширится молва, и где гарантия, что она не дойдет до ушей императора? А тогда Аракчеев задушит заговор, как тот чугуевский бунт. Что будет с родителями? С сестрой Софьей?
— Я рада, что ты приехал в Васильево, — снова заговорила мать. — Жаль, что не застал дома братьев. И Софья уехала к тетушке Ангелине, кузены так просили отпустить ее к ним погостить. Пусть рассеется, ведь к нам редко кто приезжает.
— Я всего на несколько дней, мама. По дороге из Петербурга. Тороплюсь в полк. Служба!
— Я понимаю, — вздохнула она, подняв на сына полные грусти глаза. — Это старая истина, что дети — до тех пор, пока не вышли за порог родительского дома. Отрастают крылья, и дети разлетаются по свету. Что поделаешь... Ты в Петербург приезжал по делам или к кому-нибудь в гости?
— Какие там гости! Дела... Да, забыл передать привет от Петра Христиановича.
— Графа Витгенштейна? Он все еще командует?
— Да! Формально он командующий Второй армией, но всем правит начальник штаба Киселев. Граф стареет, пора в отставку.
— Хоть бы тебе, сын, счастье улыбнулось на службе. Каждый день молю бога.
— Если оно мне не улыбнется, я вызову его на дуэль, — пошутил Павел Иванович. — Счастье, мама, понятие относительное. У каждого оно свое, не похожее на чужое.
— Вот женишься, и придет к тебе счастье...
— А что, если останусь холостяком?
— Шутишь! — Мать испуганно отстранилась от сына. — Человек рождается не только для того, чтобы прославить свой род, но и чтобы продолжить его. Это долг перед богом и природой, и грех им пренебрегать.
— А может быть, я хочу посвятить свою жизнь высшей цели?
— Ну что ты говоришь, Павел! — мягко укорила она его. — Нет более высокой цели, чем семья и отчизна. Отчизне ты служишь душою, а семье — сердцем и своей любовью. Так я понимаю.
Пестель умолк, ничего не ответил матери. «Отчизне — душою, а семье — сердцем и любовью, — подумал он с грустью. — Нет, нельзя делить неделимое. И могу ли я изменить делу, которое поставил себе целью всей жизни?»
Неожиданно по верхушкам деревьев побежали розовые блики, по аллее метнулись тени. Казалось, в глубине парка кто-то всколыхнул ночной мрак и он выплеснулся сюда, к самому дому. И в ту же минуту тишину разорвал церковный колокол. Это били в набат. Просыпалось село, разбуженное тревожными всплесками однообразных печальных звуков, которые то усиливались, приближаясь, то словно отступали за деревья и делались глуше.
— Опять пожар. Боже, когда же этому будет конец! — испуганно проговорила мать, вставая с кресла. — Не проходит недели, чтобы у кого-нибудь из соседей-помещиков не подожгли конюшню, каретную, а то и дом. А две недели тому назад убили заседателя. Неспокойно у нас.
Застучал в колотушку сторож, проснулась дворня. Долетели голоса:
— Где горит? Не у нас?..
Вышел Иван Борисович, крикнул кому-то, чтобы поднялись на башню да посмотрели, кого из соседей настигла беда.
— Может, у Саввы Мефодиевича горит, огонь-то с той стороны, — донеслось сверху.
— Дай им волю — всю Россию спалят, — бормотал старый Пестель, шаркая домашними туфлями. — Гнезда дворянские по ветру пустят, а владельцев перережут, как петухов.
Елизавета Ивановна куталась в шерстяную шаль — не из-за ночной прохлады, ее била нервная дрожь. Павел Иванович обнял ее. Ему хотелось успокоить мать, внушить ей уверенность.
— Так мы и живем, всегда в тревоге, — пожаловалась она каким-то чужим голосом. — Неспокойно! Слуги требуют воли, говорят — есть, мол, государев указ об отмене крепостного права, а помещики его не желают выполнять, прячут ту бумагу. Это, наверное, потому пошли среди дворни такие слухи, что некоторые душевладельцы задумали отпустить на волю своих дворовых, да еще земли хотят им нарезать. Хорошо, что Сенат не позволил им сделать подобную глупость.
— И без Сената да императорского указа позорное рабство будет упразднено, — тихо, так, чтобы его могла услышать только мать, произнес Павел Иванович. — Солнце светит, ни у кого не спрашивая позволения. И ветер гуляет вольно. Почему же человек должен быть рабом, принадлежать другому, как вещь?
— Да как же это — без слуг, без дворни? А кто будет обрабатывать землю? — спросила мать с неудовольствием. — Так всегда было на земле — господа и слуги. Как же иначе? Кто, как не помещик, заботится о своей дворне?
— Этой несправедливости, мама, настанет конец. Разве не одинаково появились на свете я и сын нашего кучера? Так почему же он принадлежит мне? Почему?
— Потому что вся его семья, как и Васильево, достались нам в наследство от моего отца, а твоего деда.
— А представь себе, что меня родила наша кухарка Глафира. И я не воспитывался в Пажеском корпусе, а потом в Дрездене. И был чьей-то собственностью. А мой хозяин взял да и продал меня или обменял на старый экипаж либо на какой-нибудь пустяк. И разлучил меня с тобой навеки. Как бы ты восприняла столь жестокую несправедливость?
— Замолчи, Павел! Зачем ты меня пугаешь? Я бы руки на себя наложила. — Она вздрогнула и, словно в лицо ей подул ледяной ветер, плотнее закуталась в шаль. — Выбрось из головы эти ужасные мысли, сын, они не принесут тебе добра. Каждому живому созданию бог дал свое место на земле. Ведь надо же кому-то быть и кучером, и пастухом. Не нужно об этом думать, живи, как живут все. Единственное, чего я хочу, — это чтобы мои дети оставались честными и справедливыми людьми. В этом мое счастье.
— А я хочу не только быть счастливым, но и видеть вокруг себя счастливых, — отвечал матери Пестель.
— Я тебя не совсем понимаю, сын. В чему ты стремишься?
— Только к тому, чему ты нас учила: любить правду, брать пример с героев Плутарха, превыше всего почитать свободу и ненавидеть зло.
Ответ сына отчасти успокоил материнское сердце.
Пожар понемногу потушили, умолкли голоса, не слышно было звуков колокола. И из окна отцовского кабинета опять струился тусклый свет, — казалось, на всей измученной земле это был единственный огонек, неусыпно несший свою дозорную службу.
Разговаривать не хотелось. Хорошо сидеть молча, вспоминая давно минувшее, в котором столько сказочного и светлого, что сейчас даже не верится, действительно ли все это было. Беззаботное детство, юность... И мечты о подвиге. А каким он будет, этот подвиг, о том не задумывались. Это неважно. Подвиг — вот самое лучшее, на что способен человек и что он обязательно должен совершить.
Откуда-то налетел ветер, пронесся по вершинам деревьев и, наверное, сам прилег на часок отдохнуть — все кругом погрузилось в дремоту.
Пока запрягали лошадей, а мать, как всегда, проверяла, все ли приготовленное в дорогу положили в возок, Павел Иванович неторопливо обходил комнаты, прощаясь с милыми его сердцу вещами и книгами, напоминавшими далекое детство и юность.
Мало уж осталось свидетелей прошлого, и тем более дороги они были ему сейчас, когда он покидал родительский дом. Приедет ли он сюда еще? Может быть, бурный житейский поток никогда не занесет его в этот уголок земли, с которым связано столько воспоминаний и где доживают свой век самые близкие ему люди.
Пестель остановился у своего портрета, нарисованного на бумаге тушью, белилами и акварелью. Этот портрет писала его мать. Елизавета Ивановна оказалась хорошей художницей, портрет был великолепен.
Павел Иванович долго смотрел на свое молодое лицо, повернутое в профиль. Он и в самом деле был тогда молод — девятнадцатилетний прапорщик Литовского гвардейского полка. За смелость и отвагу на Бородинском поле он получил из рук Кутузова золотую шпагу с надписью: «За храбрость». На Бородинском поле прапорщик Пестель был тяжело ранен в ногу, пришлось восемь месяцев лечиться в Петербурге.
Скоро его назначили адъютантом главнокомандующего Второй армией и наградили орденом святой Анны второй степени. Вот тогда, накануне его отъезда из Петербурга, Елизавета Ивановна и написала портрет сына.
С того дня, кажется, прошла целая вечность. Теперь он командир Вятского полка, считается опытным военным. Но в душе остался тем же юным прапорщиком, которому мать пекла на дорогу печенье, коржики, «хворост» и жарила свиную ножку.
Как много у каждого человека этого незабываемого, интимного, светлого — того, что принадлежит только ему, ибо никто посторонний не может заглянуть в его святая святых. Такими были для Пестеля воспоминания о невозвратном прошлом.
Услыхав в соседней комнате голос матери, Павел Иванович отошел от портрета и начал рассматривать на жардиньерке цветы в горшочке и вырезанные из слоновой кости маленькие фигурки оленей и людей — обитателей холодной тундры.
— Кажется, ничего не забыли, — сказала мать, входя в комнату. — Только ты, Павел, помни, что в дороге нужно есть. Прошу тебя, даже приказываю. Смотри, как ты похудел. Так и заболеть можно. — Елизавета Ивановна посмотрела на сына с такой любовью и грустью, словно прощалась с ним надолго — может быть, навсегда.
Пестель обнял мать, прижал ее уже поседевшую голову к груди, сказал ласково:
— Не тревожься за меня, милая, родная. Я совершенно здоров, мне хватит здоровья на сто лет. А что касается коржиков и прочих лакомств, то за них большое спасибо, я всегда поглощаю их с аппетитом современного Гаргантюа. Правда, правда!
— Ты все шутить, — вздохнула мать, обнимая сына, — а у меня почему-то болит за тебя душа.
— Напрасно волнуешься, сама накликаешь на себя болезнь. На службе меня уважают друзья,
даже начальство неплохо меня аттестует. Так что у тебя нет никаких оснований терзаться.
— Все это так. Но есть ли на белом свете хоть одна мать, у которой в разлуке с детьми не болело бы за них сердце?
Павел Иванович ничего не ответил. Молча обеими руками приподнял ее голову, нежно поцеловал в лоб.
И долго потом в дороге видел перед собой ее печальные, чистые глаза, слышал тихий, ласковый голос.
Тучи надвигались со всех сторон. Небо, еще недавно такое светлое, пронизанное солнцем, сразу стало зловеще черным. Где-то грохотал гром, с каждой минутой приближались его раскаты. На западе горизонт то и дело вспыхивал ослепительным огнем, но сразу гас. В природе все притихло, притаилось в тревожном ожидании, и было такое чувство, что вот сейчас, сию минуту, черная глыба рухнет в поле и своей тяжестью не только придавит все живое на дороге, но ничего не оставит даже от верб и стройных тополей. Вдруг чернота над самым горизонтом будто раздвинулась, серая полоса начала расползаться и наконец охватила полнеба... Пестелю казалось, что над ними находится центр урагана, опрокидывающего все на своем пути. Денщик Степан, правя лошадьми, со страхом поглядывал на тучу, которая как-то волнами накатывалась на дорогу. Лошади тоже, наверное, чувствовали опасность, они быстро катили возок в гору, оставляя за собой длинный шлейф пыли.
— Нам лишь бы успеть доскакать до какого-нибудь хуторка да переждать, пока пронесется ураган и распогодится, — сказал Степан, дергая вожжи и в душе побаиваясь, как бы не опрокинуться на незнакомой дороге, где то и дело попадались большие выбоины и ухабы.
— А если поблизости нет жилья, что тогда? — спросил Павел Иванович, любуясь разбушевавшейся стихией, которая всегда оказывала на него необъяснимое влияние, вызывая в душе чувство причастности к ее исполинскому могуществу.
— Есть, должно быть, — возразил Степан. — Видите, лошади побежали быстрее. Верный знак, что почуяли человечий дух.
Он еще что-то прибавил, но Пестель не расслышал. В эту минуту налетел шквал, обрушился на лошадей, все завертелось в бешеном вихре. Казалось, ветер вот-вот подхватит возок, поднимет и понесет над полем, а потом швырнет в пропасть либо в глубокий овраг. Длилось это минуту или две, Пестель не знал. Зажмурившись и вцепившись руками в поручни, чтобы не вылететь из возка, он замер в ожидании, надеясь, что лошади вынесут в безопасное место и тогда можно будет открыть глаза. Но лошади мчали и мчали, в ушах свистело, гудело, казалось, все вокруг летит в бездну. Наконец они очутились в более спокойном месте, Пестель понял это по тому, что ветер уже не хлестал по лицу и не рвал на груди одежду. Возок покатился ровнее, ураган теперь шумел где-то сбоку.
— Слава богу, пронесло, — услышал Павел Иванович голос Степана и открыл глаза. — Я уж думал, нечистая сила разнесет нас на куски вместе с лошадьми и возком либо бросит в тартарары. Ох, беда, беда! Ну, ни дать ни взять — ведьмы сбежались со всех сторон на бесовские игрища. Помилуй бог! Тьфу!..
Пестель посмотрел на дорогу, поднял глаза к небу. Ураган разорвал тучи, небо посветлело. Ночь, подгоняемая вихрем, словно отступила на восток. Лошади шли спокойнее, радуясь, что все кончилось благополучно и можно немного передохнуть после бешеного галопа. Однако отдыхать было рано. Позади еще шумело, земля дрожала под раскатами грома.
— А вон и село или, может, господское имение, — сказал Степан.
Пестель взглянул в ту сторону, куда показывал кнутовищем денщик. В самом деле — вдали виднелась темно-зеленая громада сада или парка, а там очертания дома и еще каких-то строений. Под горою же можно было различить крестьянские жилища — как белые пятна на темном фоне.
Еще быстрее побежали лошади, еще больше посветлело небо. А когда возок миновал околицу незнакомого села, на землю упали первые капли дождя.
Через несколько минут усталые лошади въезжали на широкий двор с конюшней, каретной и приземистым домом с деревянными старыми колоннами и ступенями, ведущими на террасу. Пестель поспешил спрятаться от дождя и в то же мгновение увидел хозяина имения.
— Надворный советник и кавалер Митрофан Платонович Шарапов, — отрекомендовался толстяк с круглым лицом, вздернутым носом и маленькими глазками в складках век. — Ваше счастье, что успели добраться до моей усадьбы, пока не хлынул дождь. А то вымокли бы до нитки. Видите, что творится? Словно божья кара обрушилась на наш грешный мир.
В самом деле, дождь лил как из ведра, точно разверзлись хляби небесные.
— Прошу в дом, — сказал толстяк, поводя рукой в сторону раскрытых настежь дверей. — Весьма тронут и рад, что непогода привела в мою обитель господина полковника. Ванька! — крикнул он кому-то из слуг, вероятно находившемуся поблизости. — Лошадей господина полковника накормить, укрыть попонами, возок поставить в каретную, чтобы не намок. Параша, обед на стол! Живо!
Павел Иванович огляделся, но никого не увидел. Непонятно было, кому приказывал хозяин и кто мог слышать его слова. Однако, наверное, кто-то слышал, потому что, отдав приказания, толстяк спокойно направился в дом, пропуская впереди себя гостя.
Они пересекли неширокий коридор, миновали две комнаты и вошли в гостиную. Старинные кресла, длинный стол под тяжелой люстрой, камин, украшенный часами с купидонами и несколькими фарфоровыми безделушками. На стенах портреты — три женских и один мужской, — а весь простенок занимает портрет императора Александра в гвардейском, зеленом с золотом, мундире, при шпаге. Царь держит руки на эфесе шпаги, усыпанном драгоценностями, и вся его фигура чрезвычайно величественна. Кажется, он вот-вот заговорит.
Павел Иванович невольно задержал взгляд на портрете, но не спросил, кто рисовал монарха и сколько заплачено за работу. Ему были неинтересны ни сам император, ни его слащавое изображение на полотне. И хозяин в душе обиделся на неделикатность гостя, хотя внешне ничем этого не проявил.
Через несколько минут на столе появились холодные закуски. Молчаливые молодые горничные расставили посуду, разложили приборы. В комнате запахло вкусными кушаньями. Пожилой слуга в помятой выцветшей ливрее, как видно с чужого плеча, поставил графины с вином.
— Прошу господина полковника к трапезе, — пригласил хозяин. Он весь так и сиял, осматривая жадным взором богатый и красиво накрытый стол.
А за окном бушевал ливень, и казалось, этот бурный поток никогда не иссякнет.
— Люблю, грешный, поесть, — говорил Митрофан Платонович. — А гостеприимство, по моему мнению, делает честь любому дворянину. В таких вот не бросающихся в глаза приметах проявляется благородство души. Чем мы отличаемся от Европы? Гостеприимством! Оттуда к нам везут духи, моды и либерализм — эту моровую язву, подтачивающую корни нашего домостроя. Вот в чем беда. Наш долг — оберегать русскую самобытность и, как святыню, защищать ее от пагубного духа либерализма. В Европе то и дело разные революции, королям головы рубят. А мы народ патриотический, любим монарха и живем согласно заповеди божьей: «Возлюби ближнего, как самого себя...»
Кто знает, в каком направлении развивалась бы дальше речь хозяина, если бы не непредвиденный случай, повернувший все по-иному.
Молоденькая горничная несла на подносе супницу и еще какую-то посуду и то ли поскользнулась, то ли что другое — только поднос будто выбили у нее из рук.
Пестель заметил, как побледнел слуга в ливрее, как буквально замерла на месте девушка, которую постигла беда. На мгновение мелькнули испуганные глаза столпившихся в дверях дворовых.
Время точно остановилось, лишь за окном по-прежнему шумел ливень, вспыхивала молния и уже где-то далеко гремел гром. Митрофана Платоновича словно оглоушили обухом по голове. Мгновение он сидел неподвижно, глядя на пол, по которому среди осколков фарфора растекались лужи. Потом вскочил с места и, наверное в ярости забыв о госте, шагнул к девушке и изо всей силы ударил ее своей толстой белой рукой по лицу.
— На конюшню, быдло проклятое!
Даже не охнув — а может быть, Пестель не расслышал, — горничная упала как подкошенная. Толстяк пнул ее ногой, и она откатилась к дверям. Там ее сразу подхватили и вынесли слуги. На миг мелькнули перед Пестелем окровавленное лицо, сползший с головы платок, он заметил беспомощный, страдальческий взгляд. И долетел злобный крик хозяина имения:
— Всех запорю! Я научу вас беречь господское добро, гайдамаки!
Но помещик тут же взял себя в руки, вспомнив, что в комнате посторонний человек, который может осудить его за несдержанность.
— Господин полковник, прошу извинить! Эти разбойники кого угодно выведут из терпения. Ослушники, дармоеды! Кормлю их, пекусь о каждом, а они вон чем платят за мои заботы! Так и норовят напакостить, испортить настроение. С радостью продал бы десятка два баб и девок, хлопот бы поубавилось...
Он не договорил. Глубоко взволнованный Пестель, подойдя к нему, возмущенно произнес:
— Вы ничтожество! Зверь! Я не могу ни минуты находиться под одной с вами крышей!..
И Пестель направился к дверям, возле которых не было уже ни души.
— Куда же вы?! — в фальшивом отчаянии восклицал толстяк, догоняя его. — Пообедаем! Господин полковник, ведь на дворе ливень...
Но Пестель, схватив на ходу дорожный плащ, выбежал прямо под дождь, не обращая внимания на хозяина, который все еще уговаривал его подождать, пока распогодится. Павел Иванович точно не слышал его.
— Степан, запрягай! — крикнул он денщику.
Тот сейчас же вышел из-под навеса сарая, немного напуганный сердитым видом полковника.
Через несколько минут возок полз по размокшей земле, оставляя за собой глубокие колеи. В ложбинках шумели ручьи, кроны деревьев стряхивали с себя тысячи прозрачных капель, лужи были усеяны пузырьками, которые, казалось, танцевали под журчащую музыку дождя какой-то удивительный танец.
«Нужно было дать ему пощечину, — думал Павел Иванович. Волнение еще не улеглось, он был охвачен гневом и отвращением к хозяину имения. — В самом деле, как я удержался? Подлецов надо бить. И можно бить».
Лошади втащили возок на пригорок. И дождь внезапно прекратился, словно только того и ждал. А скоро рассеялись тучи, небо очистилось, выглянуло солнце и смотрело с высоты на умытую и принаряженную землю. И все кругом стало таким прекрасным и светлым, как бывает только после щедрого ливня. Лишь на востоке еще погромыхивало и изредка вспыхивали молнии.
Первым нарушил молчание Степан.
— Вон там, — показал он кнутовищем куда-то на горизонт, — град наделает людям немало бед. Видите, какая туча — пепельная, с завитушками. Плохая примета. И так нелегко крестьянам живется, да еще это горе. Выбьет последнее на поле, а полоска-то, сами знаете, с гулькин нос. Эх, горькая доля крепостная...
Пестель не стал расспрашивать, почему от пепельной, с завитушками тучи непременно будет град, только спросил, удастся ли им засветло добраться до Каменки.
— А то как же, — твердо отвечал Степан. — Лошади малость отдохнули и овса пожевали. А как проехать в Каменку, я у людей расспросил. Ну, там-то уж пообедаем и поужинаем сразу.
Немного помолчав, он прибавил:
— Этот мордастый только с виду такой, что хоть святого с него пиши. Скряга окаянный, вздохнуть людям не дает. Дворовые жаловались: каждую субботу, говорят, на конюшне расправу чинит. Даже если ты за неделю ни в чем не провинился, все равно отстегают. На будущее, дескать, чтобы помнил. Характером непутевый. Сычугом прозвала его дворня.
«Может, и в самом деле нужно было при всех дать ему пощечину? Хоть так унизить. Но противно было бы прикоснуться к его физиономии. Да и недостойно это человека в мундире русского офицера. А главное — разве пощечины могут что-либо изменить в России? Если бить, то венценосца, чтобы скипетр из рук выронил. А потом уж начинать очеловечивать этих двуногих зверей, которые считаются столпами империи. Лишь таким способом можно искоренить зло».
Воздух после дождя был свежий, точно настоянный на травах. Дышалось легко, дорога казалась ровнее. Не было пыли, возок плавно катился вперед, оставляя за собой четкий след. На западе догорал день.
Наконец вечером добрались до Каменки. Окна давыдовского дома уже сияли огнями, во дворе, как всегда, стояли возки и старый кабриолет. Пестель узнал ландо подполковника Поджио Александра Викторовича и в душе порадовался встрече с симпатичным полуитальянцем.
Гостил в Каменке и Бестужев-Рюмин. А к старой хозяйке имения Екатерине Николаевне приехали из Болтышек Раевская с дочерью Элен и какая-то родственница графини Браницкой. Если принять во внимание, что в Каменке всегда гостило не меньше десятка родственников и знакомых, то следовало признать, что Пестелю повезло. Гостей было не много, ничто не могло помешать ему поговорить с Василием Давыдовым о делах Общества. К тому же Поджио и Бестужев-Рюмин находились здесь, — значит, собрались вместе четыре члена Общества, и можно было решить некоторые вопросы, а также передать через этих людей необходимые указания другим товарищам.
Пестель отметил про себя, что во дворе не видно экипажа Волконского. Выходит, князя нет в Каменке. Жаль. Придется заехать к нему в Умань либо поручить это Бестужеву-Рюмину или Поджио. Первый хотя и числится на службе в Полтавском полку, но живет с Сергеем Муравьевым-Апостолом и выполняет обязанности связного между членами Общества. А Поджио в отставке, свободный человек, может ездить куда заблагорассудится.
— Вот уж здесь по-человечески отдохнем, — сказал Степан тоном человека, который наконец прибыл в назначенное место и теперь может ни о чем не беспокоиться. — И лошади отдохнут. Не то что у того сычуга проклятого...
От дома уже шел навстречу дорогому гостю Василий Давыдов. Еще через минуту во дворе появились Поджио и Бестужев-Рюмин.
— Павел Иванович, какими судьбами?
— Недаром мне приснился хороший сон...
— И кошка поутру умывалась, — шутили друзья, по очереди целуясь с Пестелем.
— Говорят, незваный гость хуже татарина, — отшучивался Павел Иванович. — Рад видеть вас всех.
— Прошу в дом, Павел Иванович, — сказал Давыдов, беря его за руку. — Ты счастливый, как раз к обеду попал.
— Счастье всегда со мною, — улыбнулся Пестель, направляясь вместе с Давыдовым к дому. — Только позвольте мне сначала привести себя в порядок и заглянуть на половину вашей матушки. Как ее здоровье?
— Как обычно, — отвечал Давыдов. — Старые люди крепче, чем мы с вами.
— А почему? Потому, что их не волновали вопросы политики и государственного устройства, — заметил Поджио, идя рядом с Бестужевым-Рюминым позади Пестеля. — Их не терзали сомнения, не мучила совесть за то, что общество несовершенно. Они не ставили себе задачу ломать отжившее во имя будущего.
Дом встретил Пестеля светом и уютом. За окнами шелестели листвой старые деревья. В открытую дверь доносились музыкальные аккорды.
— Кто это играет? — поинтересовался Пестель.
— Дочь Раевского, наша прелестная Элен, — сказал Давыдов. — Она с матерью уже неделю гостит в Каменке и каждый вечер развлекает нас музыкой. Если б не она, мы совсем заскучали бы. Сам понимаешь, жизнь наша однообразна и тосклива, как осенний дождливый день. Впрочем, не сомневаюсь, что с тобой время пролетит незаметно. Быть может, и поссоримся не раз, — лукаво поглядел он на гостя.
— Ссориться нам не из чего, Василий Львович. Это во вред всем нам. Там, где нет согласия, ничего нет. А поспорить, конечно, можно, в споре рождается истина.
— Не возражаю, согласен, — улыбнулся Давыдов. — Ступай переоденься и пойдешь к матушке. Только разговаривай с нею недолго, а то как начнет расспрашивать про столицу, до полуночи не отпустит от себя. Она у нас любит поговорить. Мы ждем тебя в моем кабинете.
Иван Васильевич Шервуд на вид казался старше своих двадцати семи лет, рябинки на продолговатом лице и смуглая кожа старили его. Он уже давно жил в имении Давыдовых. Василий Львович пригласил его в Каменку как искусного механика. Шервуд должен был не только пустить машину на недавно построенной мельнице, но и вообще наладить там всю работу.
Сын механика, в начале столетия эмигрировавшего из Англии в Россию, Шервуд охотно принял предложение Давыдова, тем более что тот пообещал щедро наградить его, если мельница будет работать как следует.
К сожалению, машина, купленная через знакомого негоцианта в Британии, почему-то задержалась в пути. Молодой механик с нетерпением ждал ее. Он уже подготовил ложе и вообще все необходимое для монтажа машины. Проводить дни в безделье было не в его натуре. Он постоянно находил себе в имении Давыдовых какую-нибудь работу, целыми днями что-то мастерил на берегу Тясмина в каменном сооружении, больше напоминавшем средневековую башню на крепостном валу, чем мельницу.
Жизнь Шервуда текла так же спокойно, как воды этой речки. В усадьбу он приходил только завтракать и обедать или в том случае, если его звали хозяева. Иногда Давыдов сам наведывался на мельницу, чтобы побеседовать с механиком о машинах да помечтать о том времени, когда эти творения человеческого разума и рук заменят лошадей и волов и будут перевозить не только людей, но и грузы.
Эти вопросы интересовали Давыдова. А Шервуд в них хорошо разбирался и рассказывал с увлечением. С ним приятно было побеседовать на темы, которые никогда не затрагивались в разговорах с другими гостями.
Давыдову нравилось в Шервуде и то, что он не слоняется среди дворовых или незнакомых ему гостей и почти все время проводит за работой то на мельнице, а то и в кузнице у Демида. Даже когда Давыдов приглашал британца послушать музыку или поиграть в карты, тот, любезно поблагодарив за внимание, все-таки проводил вечер в одиночестве.
Шервуд починил Давыдовым все замки и старые часы в футляре из орехового дерева, тем самым доказав, что он хороший механик и не даром ест их хлеб.
Деликатный и предупредительный молодой человек заслужил уважение в многочисленной семье Давыдовых и среди их родственников. Казалось, не было такой просьбы, которую он не выполнил бы с удовольствием. Он все умел и все знал досконально.
Однако хотя механик как будто и не любил бывать в господском доме, на самом деле его интересовал каждый человек, приезжавший в Каменку на долгий или короткий срок. Может быть, этот интерес объяснялся тем, что тщеславною душой он завидовал людям, для которых в целом свете не существовало ничего невозможного и которые не знали, что такое нужда и бедность.
Эти мысли никогда не покидали Шервуда, они преследовали его безжалостно, все больше возбуждая зависть ко всем, кто приезжал в Каменку в каретах, кого окружал почет, кто был в чинах и не обращал внимания на мелких людишек, путавшихся под ногами.
Не так уж много прожил Шервуд на свете, но многому научился. А главное — пришел к убеждению, что не всем на земле уготовано теплое местечко. Для того чтобы его занять, нужно пройти по головам других, если ты родился не в богатой семье и не в сорочке дворянина. Только так можно подняться наверх и не быть рабом какого-нибудь чиновника или обыкновеннейшего помещика в этой полуфеодальной и вечно загадочной России. Подобные мысли разжигали в Шервуде честолюбивые стремления и неутолимую жажду стать вровень с богатыми и могущественными людьми. Он даже слегка побаивался своих размышлений.
Однажды жарким днем, когда Шервуд, сидя на мельнице, где сейчас было прохладно, чинил часы одного знакомого Давыдовым помещика, он услышал раздававшиеся неподалеку веселые голоса. «Уж не ко мне ли в гости направляются господа?» — подумал Шервуд и выглянул в окно. На берегу реки он увидел Давыдова, Пестеля, Поджио и Бестужева-Рюмина. Наверное, они пришли сюда купаться, потому что остановились как раз напротив мельницы, где берег был песчаный, а плес реки чистый. На это место всегда приходили и сам Давыдов, и его гости, особенно если выдавался такой жаркий, душный день, как сегодня. Купальщики весело хохотали: очевидно, кто-нибудь из них рассказал что-то забавное. «Да и почему бы им не смеяться? — подумал Шервуд. — Молоды, богаты. У каждого впереди карьера, беззаботная, обеспеченная жизнь». В оконце, выходившем на речку, не хватало одного стекла, поэтому Шервуду было хорошо слышно каждое слово.
Сначала он не уловил ничего любопытного. Друзья говорили все разом, как бывает всегда до тех пор, пока разговор не коснется темы, интересующей всех присутствующих, и не разгорятся страсти. Постепенно беседа приняла определенное направление, и скоро от шуток и смеха не осталось и следа. Их реплики насторожили Шервуда, он замер, прижавшись к холодной стене. Они стали говорить тише. Шервуд из отдельных слов понял, что речь идет о заговоре, об обществе, которое существует в каком-то полку или в полках, и что заговорщики задумали сбросить с престола императора.
Говорил Пестель, остальные внимательно слушали. Только Бестужев-Рюмин, самый горячий и несдержанный, с чем-то не соглашался, спорил, кого-то в чем-то упрекал. Однако спокойный тон Пестеля, его уравновешенность благотворно действовали на подпоручика, он остывал и, сидя на желтом песке и подперев рукой голову, затихал до новой вспышки.
Шервуд ясно расслышал слова Бестужева-Рюмина:
— Если мы оставим в живых тирана, он сумеет задушить революцию. Это доказывают исторические ошибки тех, кто из милосердия, а скорее по неосторожности оставлял живыми королей. Впоследствии короли отрубали головы своим противникам и все опять вставало на прежнее место, точно и не было никакой революции. Имеем ли мы право пренебрегать уроками, подсказываемыми нам самою жизнью?
— Ну, допустим, Михаил Павлович, — возражали ему Давыдов и Поджио, — мы уничтожим Александра, а на престол сядет наследник. Что тогда?
Бестужев-Рюмин быстро взглянул на товарищей и, повысив голос, решительно заявил:
— Я имею в виду не одного Александра Первого, а всех без исключения Романовых. Уничтожить их всех, вырвать с корнем. Ведь мы не собираемся менять одного тирана на другого, наша цель — покончить с абсолютизмом раз и навсегда. Мы объявляем войну монархии, а значит, во имя революции можно пожертвовать семьей Романовых. Россия от этого ничего не потеряет, — наоборот, выиграет. Республика стоит того, чтобы выполоть бурьян — уничтожить венценосцев. Я всегда отстаивал это мнение и не откажусь от него. Потому что не верю в благородство и великодушие царей, их родственников и вообще сторонников монархии.
— Друг мой, вы и теперь настаиваете на своем и согласны на революцию, обагренную кровью? — спросил Поджио, глядя на Бестужева-Рюмина.
— Бескровной революции я себе не мыслю, да, кажется, такой и быть не может. Значит, совершенно справедливо, что в жертву будут принесены Романовы. Они сделали много зла России, так пусть теперь послужат ей во благо. Если не жизнью, то хотя бы смертью. И еще я хочу спросить вас, господа: неужели вы верите, что республику можно создать, действуя в белых перчатках? Нет, тут нужен топор и кузнечный молот. А кто боится брать их в руки, тому не по дороге с революцией.
— Друзья! — воскликнул Пестель, останавливая товарищей, чтобы не разгорелись страсти. — Мы еще не раз будем обсуждать этот вопрос и в конце концов придем к единому мнению. Наша сегодняшняя задача — подготовить почву для будущего. В каждой воинской части должно быть как можно больше наших единомышленников — людей беззаветно храбрых и решительных. Только при таких условиях мы можем надеяться на успех в этой борьбе не на жизнь, а на смерть. А для философских раздумий и дискуссий у нас еще будет время. Мы будем спорить, даже ссориться, отстаивая свои взгляды, — это естественно. Однако споры не должны повредить общему делу. Надо с должной осторожностью вовлекать в Общество надежных офицеров из разных полков. Еще раз повторяю, друзья, приобретайте сторонников. А когда свершится революция, Великий собор решит все остальные вопросы.
— Полностью поддерживаю Павла Ивановича, — сказал Давыдов. — И должен признаться, что хотя в принципе я не разделяю взгляда Михаила Павловича относительно уничтожения Романовых, но допускаю, что вряд ли нам удастся обойтись без пролития крови. Когда что-то разрушают, могут быть жертвы.
— Вы хотите сказать: легко ничто не дается? — улыбнулся Поджио. — Кстати, Василий Львович, мы так громко разговариваем и о таких деликатных вещах, что нас могут подслушать. На мельнице никого нет?
— Никого, Александр Викторович. Механикуса я только что видел. Он пошел с кузнецом в кузницу, теперь они до самого вечера будут там возиться, эти фантазеры и изобретатели. А вам, друзья, советую окунуться в речке — и страсти сразу улягутся. Потом пойдем обедать. После приятного купания всегда прекрасный аппетит. Оттого-то я и привел вас сюда.
И Давыдов, раздевшись, первый вошел в воду. Через несколько минут над Тясмином уже звучали веселые шутки и смех: в воде и взрослые люди на время превращаются в детей.
Солнце висело над Каменкой, вглядываясь в зеркальную гладь реки и любуясь ее красотою. И наверное, только Шервуду было сейчас холодно, особенно в те минуты, когда Поджио спрашивал Давыдова, нет ли кого-нибудь на мельнице. Хозяин усадьбы и его гости давно ушли, на берегу опять воцарилась тишина, тихо текла река, и неподвижно стояли в воде кувшинки и камыш, а Шервуд все еще не мог прийти в себя от страха.
«Что, если бы они заглянули в башню и заметили меня? — думал он, вытирая холодный пот. — Они убили бы меня за то, что я оказался свидетелем их разговора. Не пощадили бы, нет, ни за что. Я хорошо знаю русских. Однако фортуна улыбнулась мне и подарила истинное сокровище. Неосторожность — враг конспирации. Отныне заговорщики в моих руках. Теперь я могу сделать карьеру, если не провороню этот случай и сумею воспользоваться им с умом. Но и торопиться тоже нельзя. Нужно все как следует взвесить, все обдумать. А тогда уж действовать решительно и настойчиво. Выходит, заговорщики есть во многих полках и лишь ждут сигнала, чтобы восстать, уничтожить императора и его семью и устроить в России революцию? Все козыри в моих руках, надо поставить ва-банк и выиграть. Однако где доказательства, что они и в самом деле заговорщики? Поверит ли мне император? Как я докажу это? Кто еще замешан, кроме этих офицеров, и в каких полках?..»
От долгого стояния у каменной стены у него затекли ноги и руки. Шервуд начал шагать из угла в угол, как запертый в клетку хищник. Мысли сверлили мозг, голова раскалывалась.
«С чего же начать? Написать императору? Или лучше Аракчееву, а уж он сам сделает все, что нужно?.. Тут страшно ошибиться. Можно много выиграть, но можно и проиграть собственную жизнь».
Проходил час за часом — Шервуд не замечал времени. Солнце опускалось все ниже и наконец потонуло в багряном потоке пламени. Затем костер на западе погас, и только далеко в вышине над Каменкой еще долго пламенела розовая дорожка. Потом и она потускнела и потухла. Тихая ночь неслышно проплыла над берегом Тясмина и остановилась в господском парке, любуясь огоньками, похожими на звезды, которые там и сям светились в окнах дома.
Шервуду стало страшно, словно кто-то невидимый встал у него за спиной, выжидая. Шервуд несколько раз принимался осматривать башню — никого не было.
«Просто я слишком много пережил за сегодняшний день, — успокаивал он себя, но на душе все равно скребли кошки. — Ну чего мне бояться? Никто не догадывается, никто не знает. Все будет хорошо. А впереди великое будущее. Спаситель монарха и всего царского дома! Богатство, слава, почет и уважение. Надо только набраться терпения и держаться совершенно спокойно. Видеть и слышать все, что здесь происходит. В таком деле любая мелочь может пригодиться. Теперь понятно, почему в Каменку приезжает так много гостей! И почему Давыдова часто навещают офицеры! Это, конечно, связные, Может быть, именно здесь главная квартира заговорщиков, а отсюда приказы и распоряжения разными путями поступают в полки».
Шервуд ушел с мельницы и направился в усадьбу. Во дворе суетились слуги, бегали из кухни в погреба повара и лакеи; в углу расположились кучера, здешние и приезжие, и о чем-то оживленно разговаривали. Каждый был занят своим делом, всем хватало забот. Господа поздно вставали, но зато и ложились после третьих петухов.
Дверь и несколько окон были раскрыты настежь, из дома доносилась мелодия — кто-то играл на фортепиано. В подсвечниках и бра горели свечи, вокруг них кружились ночные мотыльки. И вдруг Шервуд увидел в окне Пестеля. Полковник разговаривал с молодой Раевской. Шервуд узнал ее сразу. Сегодня она была в розовом и казалась какой-то неземной, точно ее озарял волшебный свет, который вот-вот мог погаснуть, исчезнуть.
Пестель что-то рассказывал, а она слушала, очень взволнованная, радостно-возбужденная и оттого еще более прелестная.
«Она в самом деле очаровательна, эта Раевская! И недоступна для таких, как я», — с завистью подумал Шервуд. Остановившись в тени под деревом, он старался расслышать, что рассказывал Пестель. Но не услышал ни слова, хотя тот говорил горячо и страстно. Раевская не сводила с него глаз. На ее живом лице отражались малейшие оттенки чувств — Шервуд все видел.
«Пестель ей нравится, — решил он. Вот так иногда очень просто и неожиданно открываются чужие тайны тому, кто незаметно притаился где-то сбоку. — Если бы не присоединился к заговору, мог бы стать зятем Раевского. Генерал хоть и не богат, — наверное, кроме Болтышек, у него поместий нет, — однако человек влиятельный и сумел бы успешно провести зятя по всем ступеням служебной лестницы. В высшем свете именно так и добываются чины».
Шервуд еще раз бросил взгляд на Раевскую и молодого полковника и отошел от дерева: боялся, что кто-нибудь из дворни его заметит. А Раевская, наверное, села за фортепиано, потому что вслед Шервуду полилась мелодия и звучала долго, пока не затерялась наконец в уголках большого двора. Каменка жила обычной вечерней жизнью, к которой уже привык Шервуд. Но сегодня он шел по этой земле более уверенным, твердым шагом. Теперь в каждом госте Давыдова он видел заговорщика, приехавшего сюда не ради развлечений, а для того, чтобы присутствовать на совещании или получить новый приказ. А может быть, чтобы привезти нечто такое, о чем он, Шервуд, пока не подозревал, что ему еще предстояло разгадать. Зато отныне в Каменке ни один пустяк не пройдет мимо него, каждое слово он будет брать на заметку.
В небе высыпали звезды, еще чернее стала ночь, расположившаяся среди старых деревьев и кустов в усадьбе Давыдовых. А дом по-прежнему сиял огнями и казался кораблем, плывущим этой душной ночью в неизвестность.
Шервуд оглянулся на окно, возле которого стояли Пестель и Раевская, и зловеще улыбнулся. «С этой минуты ваше счастье зависит от меня, господа! Теперь и я не последняя спица в той колеснице, на которой вам предстоит ехать в будущее. Прошу это запомнить, обладатели аристократических родословных! Ваша фортуна — я!»
Кто-то из дворовых тихо запел, голос будто покатился по холодному небосклону, усеянному звездами.
Шервуд обошел весь двор, — можно было подумать, что он кого-то ищет. Потом поднялся на освещенное крыльцо и тихонько прокрался в дом, где все еще звучала нежная, печальная мелодия.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

При въезде в имение дежурили два гайдука в позументах и шляпах с широкими полями и павлиньими перьями.
В широко распахнутые ворота с утра и до вечера въезжали тройки, кареты, крытые повозки, а в просторном доме с антресолями, голубой гостиной и большим залом с хорами старый дворецкий громко докладывал барыне о вновь прибывших гостях.
Екатерина Николаевна Раевская сидела в глубоком кресле, вся в драгоценностях и кружевах. Драгоценности переливались всеми цветами радуги вокруг бледного от пудры и разных притираний старого, морщинистого лица, иссушенного годами, против которых бессильны любые чудодеи с их волшебными мазями. Екатерина Николаевна не хотела думать о старости. Но время шло, отсчитывая годы один за другим, и вот опять в день ее рождения отовсюду, как дети к матери, съезжаются гости. Кроме близких и дальних родственников много старинных друзей и знакомых, которых каждую осень гостеприимно встречают в Каменке в день святой Екатерины. Стало тесно не только в большом доме, но и во флигеле, и в бильярдной — маленьком домике с колоннами. А гости все прибывают и прибывают.
От первого мужа у Екатерины Николаевны был сын — Николай Николаевич Раевский, генерал, герой Отечественной войны. А от второго — два сына, Александр и Василий Давыдовы. Оба отставные полковники.
Племянница князя Потемкина, Екатерина Николаевна владела многими тысячами десятин земли. Но Давыдовы жили на широкую ногу, и над Каменкой постоянно висели десятки тысяч рублей долга.
Однако Екатерину Николаевну это не тревожило. Круглый год в Каменке кто-нибудь гостил. Если б вдруг в усадьбе наступила тишина и со двора выехала последняя карета, на Екатерину Николаевну это произвело бы ошеломляющее впечатление. Она привыкла к шуму, к многочисленным гостям, к вечной суете дворовых.
— Генерал Раевский... Капитан Якушкин... Князь Репнин!.. — докладывал с порога дворецкий, словно читая эти громкие фамилии по книжке.
Василий Львович и его молодая жена Александра Ивановна встречали гостей на правах хозяев. А Александр Львович, женатый на графине де Грамон, не принимал участия в приготовлениях к празднику и даже не очень интересовался, кто сегодня приехал в Каменку. Зато мелодичный голос его жены Аглаи де Грамон не умолкал ни на минуту, очаровывая молодых людей, которые, как шмели, гудели вокруг красавицы.
Уже приехало немало гостей, короткий осенний день догорал в алом пламени, когда дворецкий назвал имя Пушкина. Точно легкий ветерок прошелестел по голубой гостиной, проник в зал, оттуда — в соседние комнаты, где за зелеными столами на диване и в креслах расположились, беседуя, гости.
— Кто сей Пушкин? — шепотом спросил лысый толстый помещик Филюков своего соседа, тоже полного, с грубыми чертами рябого лица помещика Ащаулова.
— Пиит, Серафим Филиппович. Сочиняет стишки. Говорят, богохульник и вольнодумец. Лично не имею чести знать, но читать его опусы приходилось. До Державина и прочих Пушкину далеко, однако перо у него бойкое, он не без царя в голове, — отвечал Ащаулов, доставая из бокового кармана табакерку и угощая Филюкова.
На Филюкова характеристика, данная новому гостю, произвела убийственное впечатление.
— А зачем же его принимают? — удивился он, вытирая платком сразу почему-то вспотевшую лысину. — Неблагонадежного я бы и на порог не пустил.
— Вы же знаете, что Екатерина Николаевна добра, как голубица, очень гостеприимна, славится своим мягкосердечием на всю Малороссию, — объяснял Ащаулов, набивая ноздрю ароматным табаком. — Неудивительно, что она и этого пиита допустила к ручке в день своего тезоименитства.
— Очень тронут вашей любезностью, Евмений Панкратьевич, — сказал Филюков.
Вошел Пушкин. Поклонился гостям и остановился около именинницы, которая еще издали увидела его в лорнет. Пушкин поцеловал ей руку и пожелал много раз в добром здравии встречать в этот день гостей.
— Похвально, что не забываешь знакомых, — сказала Екатерина Николаевна и, прищурившись, посмотрела на поэта, о котором слышала немало забавного. Рассказывали также, что он очень остроумен и за словом в карман не лезет.
— Можно ли забыть ваше гостеприимство, которым я не раз пользовался, вашу чудную Каменку? — отвечал Пушкин. — Кто хоть однажды побывает в этом эдеме, тот будет мечтать приехать сюда снова и снова.
— Комплимент моей Каменке? — улыбнулась хозяйка. — Если уж здесь так хорошо, оставайся навсегда. Я подарю тебе домик, который стоит на горе. Оттуда вся Каменка как на ладони. Только ведь ты непоседа, убежишь!
— К сожалению, Екатерина Николаевна, сие от меня не зависит, — вздохнул Пушкин. — Не всегда нам позволяют жить там, где мы хотим.
— А он похож на цыгана, — зашептал Филюков на ухо Ащаулову, и его широкое лицо расплылось в улыбке. — Какой-то цыганский граф.
— Арапская кровь, — сказал Евмений Панкратьевич, запуская пальцы в табакерку. — Говорят, его дядя тоже сочинитель: такая уж порода. Может и нас с вами протащить в стихах, да так, что долго помнить будем. Лучше не обращайте на него внимания, а берите-ка табачок. С Волощины шурин привез. Хороший табак, так и дерет, и запах приятный.
Вошел Василий Давыдов, крепко обнял Пушкина. Через минуту появились генерал Раевский с сыновьями Александром и Николаем и Иван Якушкин, который в партикулярном платье был похож на чиновника казенной палаты.
Завязалась беседа. Скоро Василий Львович предложил Пушкину проводить его в зеленый домик, где всегда жили молодые друзья Давыдовых, приезжавшие в Каменку.
— Александр Сергеевич, вам придется жить вдвоем с Иваном Дмитриевичем, — сказал Василий Львович, кивнув в сторону Якушкина. — Я думаю, это соседство будет вам приятно. А если уж обо всем переговорите и заскучаете, то поселим к вам кого-нибудь третьего, а то и пятого — гостей съедется много. Лишь бы приглашенным хватило места.
— Я уверен, что мы с Иваном Дмитриевичем скучать не будем, — заметил Пушкин, поднимаясь рядом с Якушкиным по тропинке в гору.
— Конечно! — весело согласился Якушкин, радуясь возможности провести не один день с «властителем дум» молодого поколения.
О Пушкине слагались легенды не только как о замечательном поэте, но и как об очень смелом человеке, который и самому монарху не побоится сказать правду в глаза. Собственно, за это Пушкина и выслали из столицы на юг — пока. В кругу, близком ко двору Романовых, были люди, которые не возражали бы, если б острого на язык пиита даже заточили в Петропавловскую крепость за неуважение к существующему строю, а также к святой церкви.
— Жаль, что вы приехали к нам осенью, — сказал друзьям Давыдов, остановившись на холме, откуда открывался дивный вид с крестьянскими хатами и мостиком через Тясмин, по которому сейчас усталые лошади, запряженные цугом, тащили тяжелую карету. — Летом здесь чудесно. А в это время года все становится серым и однообразным. Голые деревья, завеса туч над соломенными кровлями братьев во Христе, коих мы опекаем...
— И благоденствует всяк сущий под милостивой десницей венценосца, согретый вечно скудной помещичьей лаской, — печально и не без иронии произнес Пушкин, глядя на убогие жилища каменских крестьян.
— Рабство благословляем, — прибавил ему в тон Якушкин. — Хотя считаем себя просвещенными по сравнению с древними римлянами, которые к нему тоже относились как к обычному явлению.
Не успели они перешагнуть порог чистенького домика, где стоял запах васильков и сухого аира, как появились братья Раевские. Сразу стало весело, посыпались шутки. Не обошлось и без анекдотов, модных в то время среди аристократов не только в столице.
— А я расскажу вам, друзья, — обратился к присутствующим Пушкин, — действительный случай, происшедший в Царском Селе, хотя и весьма похожий на анекдот.
— Только без всяких фантазий, Александр Сергеевич, — заметил Давыдов.
— Подлинное происшествие, без выдумки и преувеличения, — пообещал Пушкин. Остановившись в углу комнаты, откуда ему было хорошо видно всех сидевших вокруг стола, он начал: — Жил-был медвежонок у дворцового коменданта Закаржевского в Царском Селе...
— Сказка! — захохотал Александр Раевский, пренебрежительно махнув рукой. — Зачем нам сказки? Расскажи что-нибудь интересное.
— Надо сначала выслушать, а потом уж высказывать неудовольствие. Так вот, — продолжал Пушкин, — этот звереныш сорвался с цепи и, благословляя свободу, отправился гулять по аллее. И как раз в это время другой зверь, двуногий, тоже вышел на прогулку. Нежданно-негаданно оба зверя — большой и маленький, — к несчастью, встретились. Заметив венценосца, Михайла Топтыгин вежливо встал на задние лапы, чтобы отдать честь. Но его величество, увидев медвежонка, со всех ног бросился наутек, вопя диким голосом. Ну, разумеется, поднялась тревога. Сбежались слуги, гвардейцы, общими силами вытащили монарха из кустов, куда он изволил залезть, кое-как успокоили и повели переодеваться после приступа медвежьей болезни. А перепуганный медвежонок спрятался в уголке своей конуры, так и не поняв, почему большой двуногий зверь бросился от него прочь, визжа дурным голосом. Топтыгин не знал, что это была его последняя прогулка. Император приказал казнить медвежонка за оскорбление, нанесенное публично его величеству. Через полчаса звереныша расстреляли. А жаль, нашелся один хороший человек в империи, да и тот медвежьего роду-племени...
— И это правда, Александр Сергеевич?
— К чему бы я стал выдумывать? Божественный цезарь, светлейший император тоже боится смерти. Даже еще больше, чем раб.
— За что же расстреляли Михайлу Топтыгина? В чем он провинился? — с сочувствием покачал головой Давыдов.
— Медвежонок поплатился жизнью за то, что не знал законов, согласно которым некие создания природы убивают ниже себя стоящих. Он не разбирался в чинах, не понимал, что Фемида всегда служит тому, у кого набит карман, и что именно такие вот двуногие никогда не бывают виноваты. Ну откуда маленькому зверю разобраться в подобных премудростях? Он жил просто, как ему повелела природа, и не знал, что такое царь.
Все молчали. Рассказ Пушкина произвел гнетущее впечатление. Россией правили ничтожества и трусы; даже медвежонок заслуживал больше сочувствия и уважения, чем они.
Александр Сергеевич прошелся из угла в угол, на миг остановился у окна, из которого были видны Тясмин и низменность под холодной пеленой тумана. Надвигался вечер, расстилая серые ковры между белыми хатками каменских крестьян. В комнате стало темнее, лица присутствующих как будто постарели.
— Закон! — промолвил Давыдов, барабаня пальцами по краю стола. — Порядочный человек считает закон святыней до тех пор, пока его — царя природы, ее высшее творение! — жизнь не научит смотреть на многое другими глазами. Тогда лишь он начинает рассуждать: хорош ли закон, справедлив ли. К сожалению, эта немудреная истина обычно приходит на ум слишком поздно.
— Зло возникло вместе с человеком, а потому и останется с ним до скончания века, — сказал Александр Раевский; его немного вытянутое лицо в сумерках казалось очень бледным. — Люди создают законы не только для того, чтобы карать преступления, но и для того, чтобы с их помощью скрывать собственные подлости и как-то разнообразить свое серенькое существование. Значит, прежде чем искоренить зло, наверное, нужно, чтобы на земле появился новый человек, не такой, как мы и те, кто придет после нас.
— Выходит, все попытки бороться с позорными сторонами жизни ни к чему? Темные пятна ничем не смоешь? Так прикажете понимать ваш взгляд на современное общество и его идеалы?
В разговор вмешался
Якушкин.
— Нет, мы смоем темные пятна и заново устроим жизнь, — произнес он уверенно, словно только ему были известны тайны человеческой души и принципы того общества, в котором было суждено действовать новому человеку — ведь должен же он был когда-нибудь явиться на земле, чтобы жить, не зная противоречий нынешней эпохи! — Главное, друзья, — продолжал Якушкин, — понимать, в чем корень зла. А если мы это поймем, то не трудно будет раз и навсегда его вырвать.
«Как часто мы говорим об этом, — подумал Давыдов, слушая друзей. — Подобные разговоры толкают на размышления, заставляют задуматься над своей жизнью, весьма однообразной и скучной. Хорошо, что они не дают нам предаться покою».
— Извечная проблема Старого и Нового Света, — заметил Александр Раевский, шагая по комнате.
— Кстати, недавно мне рассказали характерный случай из жизни Нового Света, который, наверное, напрасно назвали Новым, ибо он живет по законам Света Старого. Трагический случай, — сказал Якушкин. Казалось, он не слышал, о чем говорили друзья, занятый своими мыслями о несовершенстве законов, прикрывающих позорное рабство фиговым листком добропорядочности и иезуитской фальши. — Один свободный негр из Нью-Йорка отправился на юг искать работу. В Вашингтоне его задержали и бросили в острог, потому что какому-то полисмену показалось, что он убежал с плантации. Следствие велось неторопливо, бедняга негрос сидел за решеткой, веря в человеческую добропорядочность и справедливость американских законов. Ведь он не преступник, не беглец, он свободный человек, имеющий право ездить по стране, чтобы заработать себе на кусок хлеба и миску похлебки. Закон не запрещает это никому. Наконец суд определил, что негр в самом деле ни в чем не виноват и имеет право идти, куда хочет, только сначала должен уплатить судебные издержки. Вот и все. Но у негра, на беду, не было за душой ни гроша. Тогда американские соломоны решили продать его одному плантатору, а вырученные деньги внести в счет оплаты судебных расходов, И продали свободного человека в рабство — теперь уж на законном основании.
— Ужасно! — воскликнул, вставая, Николай Раевский.
— Не ужасайтесь так, друг мой, — заметил Пушкин. — Разве мы не продаем своих братьев во Христе, не обмениваем их, точно они вещи?
— А если кто-нибудь решит отпустить крепостных на волю и нарезать им земли, чтобы они не умерли с голоду, Сенат ни за что не позволит этого сделать. Как же — подрываются основы империи! Революция! Подобного возмутителя спокойствия того и гляди посадят в каземат как опасного политического преступника!..
— Друзья мои! — прервал их Давыдов. Ему хотелось направить разговор в другое русло, чтобы хоть на первых порах гости чувствовали себя в его доме весело и беззаботно, а не философствовали на темы, которые невозможно исчерпать до конца. — Не будем сейчас говорить о том, что не вызывает в душе ничего, кроме грусти. Давайте лучше вспомним, что веселие на Руси есть пити! Вот что близко и понятно нам, славянам. Садитесь за стол. Прошу!
— В самом деле, зачем портить настроение себе и другим? Как бы мы ни изощрялись, приводя те или иные аргументы в доказательство своей правоты, разве от этого что-нибудь изменится?
— Вот совет сладкий, как мед! Поклонимся Бахусу и сочиним оду в его честь!
Казачок принес вино, фрукты, быстро и ловко расставил все на столе и исчез. Но через несколько минут вернулся с подносом, полным закусок; тут же стояли два графина.
— Василий! — крикнул Давыдову Якушкин. — Распоряжайся за столом, и да будет благословенно твое имя за это предложение, всем нам очень приятное!
— Наполняйте рюмки, выпьем за того медвежонка, который так напугал светлейшего цезаря.
— Вечная память медвежонку! А ты, господи боже, и венценосцев почаще призывай к себе.
— Да ведь они не слышат божьего гласа, надо нам, смертным, подсаживать на небо их, бессмертных.
Поднимая бокал с вином, Якушкин продекламировал:
Тому, чья совесть нечиста,
Не утаить вины.
Кричат глаза, когда уста
Молчать принуждены.
— Слава Фильдингу! Хорошо сказал — как будто про нашу эпоху.
— А я пью за Пугачева Емельяна! — шутливо воскликнул Александр Раевский. — Помните, как у Рылеева:
Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или враг царей Катон!
— Кондратий замечательный талант! Им будет гордиться Россия, если Аракчеев не растопчет его своим сапогом с благословения «нашего ангела», — словно про себя, негромко произнес Пушкин.
До поздней ночи в домике на холме звучали веселые голоса молодежи, и издалека видны были огоньки в его окнах. Наконец Давыдов и Раевские ушли. Александр Сергеевич еще долго сидел за столом, просматривая «Полярную звезду», которую привез из Петербурга Иван Дмитриевич.
Пушкин поздно лег, но проснулся очень рано. Чтобы не разбудить Якушкина, тихо вышел из домика и медленно побрел на берег реки. Еще не совсем рассвело, над Каменкой висела холодная мгла, только по самому краешку неба кто-то провел розовую полоску, которая медленно разгоралась и становилась все шире, шире. Наверное, потому и предрассветный ветерок казался уже не таким холодным, а может быть, он и в самом деле стал ласковее, когда по серым облакам протянулась огненная лента. Четко вырисовывалась вдали новая мельница, и деревья в парке тоже не казались сейчас такими угрюмыми и холодными, как вчера.
Александр Сергеевич остановился на утесе и долго стоял там, любуясь окрестностями, словно все это видел впервые. Нахлынули воспоминания; точно из-за холодной тучи внезапно выглянуло солнце, гигантский сноп лучей упал на речку, на берега, на всю Каменку и задрожали невидимые струны...
Нет, это проказник ветер запел над ухом знакомую печальную песню, и каменные скалы ответили ему эхом. Александру Сергеевичу вспомнилось тихое летнее утро, когда лирники пели о запорожцах, о Сечи, о синем море и турках-басурманах. Долго тогда слушал он слепцов. Уже высоко взошло солнце, лошади вздымали пыль, и ее рыжий шлейф тянулся за каретой какой-то барыни. Крупные капли пота выступили на лицах лирников, а он все не мог наслушаться народной музыки, звучавшей из-под пальцев странствующих Баянов.
Может быть, и сегодня, когда настанет утро и проснется Каменка, он отправится на поиски певцов. Но посчастливится ли ему опять встретить незрячих Гомеров?
А в душе его рождались звуки, которым скоро суждено было вылиться в слова крепче скал, звонче медных колоколов. И будут в тех словах и очарование природы, и слезы, горе угнетенных на этой щедрой, но исстрадавшейся земле.
Запоздавшее утро медленно приближалось к Каменке по осенним стежкам-дорожкам. Проснулся Якушкин — Пушкина нет. Куда исчез — неизвестно! Не разбудил. Должно быть, ему захотелось побыть одному. Что ж, поэты любят одиночество.
Пришел Давыдов. Спросил, как спалось на новом месте. Узнав, что Пушкина нет, махнул рукой:
— Этого арапчонка никогда не застанешь в постели. Будет голодный бродить до самого вечера по окрестностям Каменки. А если встретит интересного человека — лирника или кобзаря, — весь день будет ходить за ним по пятам, слушая песни да разные бывальщины. Наверное, поэты все на один лад.
— Но лира у каждого своя, не похожая на другие, — заметил, одеваясь, Якушкин.
— Жаль, что ни Пестель, ни Волконский не приедут в Каменку, как сообщил Сергей Муравьев-Апостол. Правда, они обещают быть на Контрактах. Приезжайте и вы, Иван Дмитриевич. Быть может, кто-нибудь из столичных друзей тоже заглянет в Киев.
— Обязательно приеду, если представится случай, — отвечал Якушкин. — О, смотрите, наш беглец возвращается! — уже другим тоном прибавил он, заметив за окном Пушкина.
Раскрасневшийся на холоде Александр Сергеевич весело поздоровался с друзьями. Сказал, что сейчас неплохо было бы напиться чаю с ромом, а до этого отведать чего-нибудь такого, что любили простые казаки и не чурались даже гетманы...
Все засмеялись, — никто не возражал против предложения Пушкина.
— На Тясмине утро встречал. Хорошо там, но холодно, — признался он, потирая руки и притопывая ногами, чтобы согреться.
— А я уж собрался было послать на розыски, да Никита меня успокоил: они, говорит, любят утренние променажи. Так и сказал — променажи. Хороший у тебя телохранитель. Ну, довольно разговаривать, идем пить чай, а то и в самом деле простудишься. Что тогда о нас будут говорить в Петербурге? Вот, дескать, не уберегли поэта.
— Напротив, будут весьма благодарны, — пошутил Пушкин, но в его словах чувствовалась горечь. — Скажут: пропал один из самых докучливых. А «временщик» трехпуповую свечку поставит богу за то, что призвал меня в лоно свое. Я думаю, он с радостью каждый день молился бы об упокоении души рабов божиих Кондратия, Александра и им подобных...
Он напомнил друзьям о Владимире Федосеевиче Раевском, заключенном в тираспольскую крепость. Раевский был одним из первых борцов за свободу и просвещенную Россию.
— Да, вот кто герой нашего времени, — поддержал Пушкина Якушкин. — Один восстал против тирана и его адептов. С ним ничего не могут сделать, ибо даже монархи бессильны сломить дух бесстрашного проповедника революции. Подумать только — император с целым синедрионом блюдолизов против одного Владимира!
— Ты прав! Замуровали живым в каменном мешке, а он не отступается. Вот с кого следует брать пример нам, слабым духом.
— Почему слабым духом? — удивленно посмотрел на Пушкина Давыдов, не понимая, кого тот имеет в виду.
— Мы молча взираем на несправедливости, часто не замечаем подлости. Точно все глухи, немы и слепы. Впрочем, и слепцы бывают разные. Лирников и кобзарей природа наградила искусством сеять меж людей правду. Их песни воистину жгут огнем. Глаголом возбуждают ненависть к обидчикам. А что делаем для России мы с вами?.. Впрочем, вы что-то делаете, таясь от меня, а я... — Он не докончил фразы, точно ему не хватило слов.
Присутствующие были поражены откровенностью Пушкина, ни один не нашелся что ответить. Все замолчали, никто не смотрел на поэта. Казалось, в эти минуты он осуждал друзей за то, что у них есть от него тайны, недоумевал — неужели они не вполне доверяют ему? А они не смели ничего сказать в свое оправдание и чувствовали себя виноватыми перед ним.
Майор Владимир Раевский служил в Шестнадцатой дивизии, которою в свое время командовал Михаил Федорович Орлов — человек высокообразованный, с прогрессивными взглядами, противник жестокости в армии. Он категорически запретил произвол и грубость по отношению к нижним чинам. Внушал офицерам, что солдат — защитник родины, и унижать его, а тем более издеваться над ним он, Орлов, никому не позволит. В Шестнадцатой дивизии не наказывали шпицрутенами, за мордобой Орлов выгонял офицеров как недостойных нести службу.
И вот, воспользовавшись авторитетом командира дивизии и его гуманным отношением к подчиненным, Владимир Федосеевич Раевский, член Южного общества, создал юнкерскую и ланкастерскую школы, в которых не только обучал солдат грамоте, но и воспитывал в них чувство любви к родине и человеческое достоинство, объяснял, что все люди рождаются свободными и в стране не должно быть рабов. Раевский пользовался среди учеников большой любовью и уважением. У него была своя программа воспитания. Такие слова, как равенство, республика, конституция, свобода, и подобные им постоянно упоминались в организованных Раевским школах, наталкивая на размышления забитых, затравленных, напуганных жестокостью, лишенных всех человеческих прав солдат русской армии. «Кто дал человеку право называть человека моим и собственным? По какому праву тело и имущество и даже душа оного может принадлежать другому?» — спрашивал Раевский. И отвечал: «Не человек созревает до свободы, но свобода делает его человеком и развертывает его способности». Раевский стремился вызвать у солдат вопросы, главными из которых были: кто виновник зла, почему в Европе давно уничтожено рабство, а в России оно существует до сих пор?
Все видели, что развитие солдат заметно возросло; кроме того, они стали с большим доверием относиться к своим офицерам, которые вели себя с ними по-человечески, во время муштры не наказывали, не унижали их, не издевались над ними, как это было принято в других полках и дивизиях.
Но, как говорится, в семье не без урода. И в Шестнадцатой дивизии нашлись офицеры, которые продолжали вести себя так, как привыкли. Это были майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский — они издевались над нижними чинами. Генерал Орлов был человеком последовательным: за жестокое обращение с солдатами он приказом от 6 января 1822 года всех троих отдал под суд.
Это вызвало бурное возмущение у других представителей высшего офицерства, давно ненавидевших Михаила Орлова. Одним из них был командир соседней дивизии генерал Желтухин, от которого солдаты, рискуя жизнью, бежали за Днестр. Желтухин и начальник корпуса Сабанеев ждали только случая нагадить Орлову и Раевскому.
И такой случай представился.
Капитан Камчатского полка Брюхатов, вопреки решительному запрещению Орлова, стал отнимать у солдат Первой мушкетерской роты деньги, выдававшиеся на харчи. Это глубоко возмутило их, но они все же не пошли жаловаться. Когда же Брюхатов приказал избить плетями ни в чем не повинного каптенармуса, все бросились на защиту товарища и спасли его от незаслуженного наказания.
Орлов принял сторону солдат, капитана Брюхатова отдали под суд. Тогда начальник корпуса генерал Сабанеев решил, что пришел его час. Мотивируя тем, что командир дивизии Орлов поступил так без его ведома, он приказал передать дело о нижних чинах в военный суд. Солдат приговорили к шпицрутенам, и двое из них во время экзекуции скончались.
Сабанеев отменил приказы Орлова, и в дивизии снова воцарились старые жестокие порядки, согласно которым разрешалось десять человек замучить насмерть, лишь бы одного научить всем премудростям прусской муштры. Сабанеев известил обо всем начальника Главного штаба барона Дибича, а тот доложил императору Александру. Монарх не на шутку испугался: как раз накануне он получил донос Грибовского о существовании в армии заговора.
Александр надеялся, что арестованный майор Раевский назовет единомышленников и враги престола будут наказаны, армия освободится от вольнодумцев. Но Раевский молчал. Он не признал своей вины и не назвал никого из друзей. Солдаты тоже молча вынесли наказание. Во время следствия ни один из них не обмолвился ни единым словом, которое могло бы повредить их любимым командирам. Император приказал отнять у Орлова дивизию, а Раевского, как государственного преступника, перевести с гауптвахты в крепость и держать его там до тех пор, пока он не выкажет верноподданнических чувств и не назовет своих сторонников.
Арест майора взволновал не только членов Общества, к которому Раевский давно принадлежал, но и тех, кто, может быть, даже не слышал о существовании заговора, однако ненавидел жестокость и считал позором издевательства одного человека над другим.
Члены Общества, хотя и были уверены, что Владимир Федосеевич их не выдаст и никаким следователям не удастся раскрыть заговор, все-таки боялись, что сам факт ареста Раевского насторожит правительство и усилит тайный надзор в полках. И где гарантия, что не отыщется негодяй, способный выдать товарищей и провалить святое дело, налаженное с таким трудом!
Все эти мысли промелькнули у Давыдова и Якушкина, пока они молча следили за взволнованным Пушкиным. Поэт с минуту стоял неподвижно, подавленный воспоминаниями о тираспольском узнике. Потом быстро взглянул на присутствующих и, словно прочитав их мысли, с обидой произнес:
— Ну почему же вы замолчали? Не оправдывайтесь. Я знаю, что вы мне не доверяете, считаете, что я не разбираюсь в политике, хотя на самом деле я мог бы не хуже любого из вас послужить революции. Да, не смотрите на меня с таким удивлением. Самые опытные следователи не сумели бы вытянуть у меня сведения о вашей тайне и о заговорщиках. Жилы вытянули бы, а слова — нет!
— Что ты, Александр? — встревожился Давыдов, а за ним и Якушкин, им хотелось развеять подозрения поэта, успокоить его. — Мы от тебя ничего не скрываем.
— Но ведь никто из вас не станет отрицать, что в полках существует заговор против тирана?
— Возможно, что-нибудь подобное и есть, — пожал плечами Якушкин. — Откуда нам знать? Ты нас просто обижаешь, Александр.
Глаза Пушкина сверкнули, он резко ответил:
— Не вам обижаться на меня за откровенность. Я весь перед вами, нет такого пустяка, который я утаил бы от друзей.
— Мы тебя любим, гордимся, что заслужили твою дружбу. Напрасно ты на нас сердишься. Не сердись, друг мой! Своим пером ты служишь Обществу, о котором говорил. Разве этого недостаточно?
Пушкин был очень взволнован, возбужден, он дал волю чувствам, не задумываясь над тем, какое впечатление произведут его слова на присутствующих. Он догадывался, с какой целью в Каменку часто наведываются некоторые военные, отчего одни и те же люди собираются в Киеве во время Контрактов. Но не понимал, почему таятся от него те, кого он считал верными друзьями. И обижался на них за то, что они таились от него.
Однако имели ли они право подставлять под удар жизнь человека, которым гордилась Россия? Ведь в случае провала царь никого не пощадит. Жестокость и месть слепы, не им отличить гения от посредственности. Коса не разбирая срезает и бурьян, и красивейший цветок. Жизнь поэта слишком дорога, чтобы ею бездумно рисковать. Лучше прослыть людьми не откровенными — зато уберечь от опасности человека, нужного всей России. Дамоклов меч висит над каждым членом Тайного общества...
Чтобы прекратить неприятный разговор, Давыдов поспешно сказал:
— Друзья, идемте завтракать, пить чай. Тебе, Александр, это просто необходимо, чтобы не простудиться.
— А ты прикажи принести сюда горячительные напитки, не хочется выходить на холод...
— Нет, идем, брат, матушка может расценить это как неуважение к себе и рассердится. Сам знаешь, какой у нее нрав. Потемкинский.
В имении вовсю шли приготовления к балу в честь именинницы, но Пушкин, не обращая внимания на беготню и суету, не терял драгоценного времени, а, запершись в библиотеке, работал или читал любимых авторов — Байрона и Вальтера Скотта. Ему хотелось встретиться с Екатериной Раевской — женой Михаила Орлова, однако она почему-то не приехала в Каменку. Наверное, виной тому были неприятности, свалившиеся на ее мужа. После доноса у него отняли дивизию, К этому приложил руку и Аракчеев, аттестовавший Орлова как неблагонадежного за то, что тот завел новые порядки в дивизии и тем самым, по мнению генерал-аншефа, подрывал дисциплину в армии.
Александр Сергеевич часто вспоминал красиво и со вкусом обставленный кишиневский дом, в котором жил Орлов со своей очаровательной и умной женой, старшей дочерью Николая Николаевича Раевского.
Дом командира дивизии был тем местом, где собирались члены Общества, проводя за беседой долгие осенние и зимние вечера. Здесь обсуждали новости литературы и искусства, спорили об идеалах и героях современности. Иногда до утра затягивались диспуты на политические и экономические темы. Много проблем стояло перед Россией, и на вечерах в доме Орлова часто бурлили страсти. Когда же они разгорались чересчур, молодая хозяйка ласковыми словами мирила противников, и все опять входило в свою колею.
Тогда у всех на устах были события в Испании. Молодой офицер Рафаэль Риего-и-Нуньес вместе с полковником Квирогой, опираясь на военную партию, провозгласил конституцию, и король Фердинанд Седьмой, насмерть перепугавшись, присягнул на верность народовластию — кортесам. Его примеру последовало духовенство. Казалось, в освобожденной от пут деспотизма стране не осталось врагов революции. Но это была лишь хитрость со стороны коварных иезуитов, старавшихся успокоить, усыпить возбужденную армию и «чернь», а потом, воспользовавшись удобным случаем, вновь овладеть троном, прибрать к рукам власть и жестоко расправиться с теми, кто посягнул на королевские привилегии.
Все так и вышло, как задумали король и духовенство. Власть снова очутилась в их руках, восставшие заплатили за кратковременную свободу дорогой ценой — своей кровью и жизнью. Эта история наглядно показала, что оставлять в живых королей и прочих претендентов на престол равносильно тому, чтобы погубить революцию. Монархи готовы нарушить любое обещание, они ни перед чем не остановятся ради своего господства над тысячами и миллионами подданных.
Все это вспомнилось Александру Сергеевичу, когда он, на минуту оторвавшись от работы, мысленно перенесся в прошлое, в кишиневский дом гостеприимных Орловых. Сейчас они жили в Москве.
Несколько раз в библиотеку заглядывала жена старшего Давыдова, прелестная графиня де Грамон. Капризная красавица привыкла к обожанию мужчин, встречавшихся на ее пути, и злилась на тех, кто не поддавался ее чарам.
Александру Сергеевичу она не нравилась: ему были не по душе ее жеманство и надменность. Своим поведением и манерами она напоминала тех женщин, чье кокетство и тщеславие всегда вызывали в нем желание подразнить их. Словом, поэт оставался холоден и равнодушен к Аглае. Ей хотелось отомстить ему за это, но все не было случая: Пушкин редко появлялся среди каменских гостей, большую часть времени проводил в библиотеке или бродил по Каменке и ее окрестностям.
За окном серый день. Тучи упираются в голые верхушки деревьев, сеет снежная крупа. Ветер швыряет ее пригоршнями в окна библиотеки, словно сердясь на зиму, которая почему-то замешкалась, до сих пор не укрыла продрогшую землю.
В такой день хочется сидеть в теплой, уютной комнате и работать. И у Александра Сергеевича не было желания никуда идти.
Тишина! Не та обыкновенная тишина, которая живет в сумрачных жилищах людей и к которой все привыкли, а особенная тишина, та, которая возникает только среди множества книг — этих изумительных созданий человеческого гения. В окружении книг рождаются слова острее шпаги, нежнее солнечного луча. А душа жаждет подвига, дерзаний.
За работой забывалось то мелкое, гадкое, что порой так отравляет жизнь и даже самый воздух, насыщая его миазмами лжи, ханжества и лицемерия. Продажность и угодничество дворцовой камарильи, фальшивая добропорядочность тех, кто чванился своим происхождением, считая себя опорой империи... А в этой империи нередко голод косил целые села, здесь процветало освященное церковью рабство, здесь над людьми из нижних сословий от колыбели до гроба виз село проклятие.
И хотя в Каменке и вокруг нее тоже царило крепостное право, сейчас об этом не хотелось думать. Не проходила обида на друзей. Всякий раз, когда он вспоминал, что они ему не доверяют, делалось больно. «Они скрывают от меня то, о чем я давно догадываюсь. Ясно, что существует заговор против правительства. И наверное, это не тот дворцовый заговор, когда одного монарха заменяют другим. Происходит что-то более важное, что-то новое для России. То, что называется революцией. Но мне не доверяют никаких тайн, прячутся, как от врага».
Пушкин вспомнил встречу с Пестелем в Кишиневе, в доме Михаила Орлова. Взгляды Пестеля по политическим и экономическим вопросам поражали верностью, последовательностью и глубиной. Пушкин не мог не восхищаться им. «У Пестеля государственный ум, — подумал он. — Будь в России побольше Пестелей, династия Романовых давно перестала бы существовать».
В комнате вдруг стало темно — за окном пошел снег. Крупные снежинки напоминали лепестки роз, развеянных по земле ветром.
Приотворив дверь, в комнату заглянула Аглая.
— Александр Сергеевич, простите, нет ли здесь моего Александра? — озабоченно спросила она.
Аглая фальшивила: ей было прекрасно известно, что ее муж заходит сюда очень редко. Он был ленив, его не интересовало почти ничего, кроме вкусного обеда да крепкого вина. Правда, когда собиралась компания картежников, он иногда присаживался к зеленому столу. Тут он оживал, откуда только бралась энергия, но игра кончалась, и он становился прежним.
— Вашего мужа здесь не было, — ответил Александр Сергеевич, взглянув на скучающую графиню.
Она, точно не слыша его слов, то ли удивленно, то ли обиженно протянула:
— И как вам не наскучит все дни и вечера сидеть тут? Хоть бы развлекли нас, ведь в этой глуши можно погибнуть от тоски.
— Позвольте с вами не согласиться, — сказал Пушкин. Аглая была похожа на изящную, красивую бабочку, привыкшую перелетать с цветка на цветок, нигде не задерживаясь. — В Каменку наехало так много гостей и среди них столько военных, что говорить о скуке просто смешно. Особенно вам, графиня!
В его словах звучала явная насмешка, Аглая не могла ее не почувствовать. Но она знала, что этот пиит подсмеивается над всеми несимпатичными ему женщинами, поэтому сделала вид, что ничего не поняла, и внешне осталась спокойной. Она не сомневалась, что в конце концов заставит его покориться своим чарам, в силу которых сама очень верила. А отомстить ему она успеет, причем очень жестоко, как умеют мстить только оскорбленные женщины. Пока же она играла роль ценительницы поэзии, особенно Байрона, потому что его любил и этот далекий потомок эфиопов, столь невнимательный к ней.
Пушкин вздохнул и отложил перо. Они довольно долго разговаривали о байронизме на русской почве, пересыпая беседу шутками и вспоминая разные незначительные эпизоды, которыми так богаты будни. Наконец Аглая начала прощаться. Извинилась, что оторвала его от работы. Она думала, что Пушкин будет просить ее остаться, поговорить еще. Однако он не произнес ни слова. Графиня была обижена.
— Не стану вам мешать, — сказала она. — Я понимаю, когда на поэта нисходит вдохновение, он делается слепым, никого не замечает...
— Но вас-то я заметил? — пошутил Пушкин, не сводя глаз с этой стройной, изящной женщины — каменской нимфы, которой все-таки чего-то не хватало, чтобы ее можно было назвать обаятельной. А чего — он не мог сказать.
— Нет, неправда, вы никого не замечаете, — отвечала Аглая, капризно надув полные губки. — С тех пор как приехали, все время сидите здесь. Да по вечерам вас иногда можно увидеть в обществе мужчин. Но женщины не прощают невнимания, не забывайте этого, поэт!
— Не забуду, — серьезно пообещал Александр Сергеевич.
Атлая снова обожгла его взглядом и вышла, еще более обиженная.
— Ваш Пушкин грубый, дурно воспитанный человек, даром что учился в лицее, — сказала она мужу.
— Это тебе просто кажется, — вступился за поэта Александр Давыдов. И, чтобы успокоить жену, прибавил: — Ну откуда ты взяла, что он невнимателен к женщинам? Напротив, влюбчивый, пылкая натура. Ей-ей, настоящий донжуан.
Графиня не пожелала дальше слушать и разразилась целой филиппикой против поэта, ранившего ее самолюбие. Давыдов, зная ее несносный характер, почел за лучшее не спорить и замолчал. Он сидел, закрыв глаза, и думал, что неплохо бы сейчас съесть жареного цыпленка, запивая его рейнвейнским.
А Пушкин работал до самого вечера. Перо быстро скользило по бумаге, и одно за другим возникали слова. Но через несколько минут поэт зачеркивал их и находил новые. Постороннему человеку трудно было бы что-нибудь разобрать на этих листках.
Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире...
Ветер за окном угомонился, снег падал медленно, — точно в имении Давыдовых отцветали вишни, стряхивая на сухую землю бесчисленные лепестки.
Можно было подумать, что это шумит весеннее половодье. Из окон большого дома лился свет, играла музыка. Когда гости выходили подышать свежим воздухом, шум долетал даже на хозяйственный двор. Издалека казалось, будто десятки глаз смотрят на Каменку из мрака холодной ночи.
А в зале, едва касаясь сверкающего паркета, пара за парой кружились танцующие. Крепостной оркестр играл превосходно; главное — музыканты были неутомимы. Мазурка сменяла вальс, полька сменяла мазурку. Молодежь, опьянев от музыки, то грациозно плыла по залу, то, будто подхваченная ветром, в неудержимом полете словно бы устремлялась в неведомую даль — и была счастлива.
Пушкин вошел в соседнюю комнату, где гости отдыхали после танцев. Здесь было прохладнее. В открытые двери виднелись зеленые столы; за ними сидели картежники, забыв о богине Терпсихоре и предавшись на волю случая, который мог сделать человека богачом, а мог и выпустить из этой комнаты нищим. Все развлекались на свой вкус и лад: женщины — беседой, мужчины — картами.
Александр Сергеевич охотнее всего отправился бы в свой домик или в библиотеку. Его нисколько не прельщало провести время в компании ожиревших, ограниченных помещиков, съехавшихся в Каменку чуть ли не со всей губернии. Только Раевские, Якушкин да Василий Давыдов скрашивали Пушкину те часы, когда он, устав от работы, отдыхал за дружеской беседой.
Завидев Пушкина, неразлучные Ащаулов и Филюков стали просить его прочесть что-нибудь из своих произведений. При этом они уверяли, что являются истинными ценителями поэзии и почитают за честь провести несколько дней в обществе прославленного пиита.
— Господа, — говорил Александр Сергеевич, стараясь как-нибудь избавиться от них, — я противник лести и фимиама, более всего мне доставляет удовольствие молча слушать музыку и танцевать. Я читаю только чужие стихи, да и то когда нахожусь в комнате один.
— Это лишь свидетельствует о вашей скромности, — упорствовали они, и не помышляя оставить его в покое. — Пиит, читая свои творения, делается великим, подобно апостолу среди грешников.
— Вы достойный преемник Тредиаковского и Державина в служении музе.
— Не сочините ли вы оды в честь этого незабываемого вечера? Вот было бы кстати! Как обрадовалась бы именинница! А мы гордились бы тем, что стали первыми слушателями оды в честь высокочтимой Екатерины Николаевны, нашей общей благодетельницы.
— К сожалению, никак не могу исполнить вашу просьбу, — сокрушался Александр Сергеевич, стараясь придать своему голосу почтительные нотки, между тем как в глазах притаилась насмешка. Его так и подмывало сказать что-нибудь колкое в отместку за эту назойливость, но он сдерживался. — Моего поэтического дара не хватит, чтобы достойным образом описать сей вечер, тем паче ваши высокие чувства. Что же касается поэзии вообще, то она вокруг нас, господа. Вчера я ходил на базар, чтобы послушать кобзарей и заодно поучиться у этих непревзойденных малороссийских Баянов. Какие песни, какая музыка! Незабываемое впечатление, господа! Вот кто самородки пииты, у которых всем нам должно брать уроки.
— Изволите шутить или считаете нас за дураков? — ощерился Филюков, и от гнева у него покраснели глаза. — Мужицкая музыка, а слова гайдамацкие. Слыханное ли дело называть этих подстрекателей против власти помещиков высоким именем служителей муз!
— Да! Можно их так называть, и вполне заслуженно, — твердо произнес Пушкин, и в голосе его звучала гордость, точно он говорил о таланте близких друзей.
К ним подходили другие гости: всем интересно было послушать беседу поэта с киевскими помещиками.
— Ну, скажите на милость, какую словесность могут создать эти нищие, бродяги? — возмущался Филюков.
— Что с них толку? — поддакивал ему Ащаулов. — Бродят от шинка к шинку да пьяниц потешают. Их бы всех в Сибирь, чтобы и духу гайдамацкого не осталось.
Одни поддерживали Филюкова и его приятеля, другие ждали, что скажет Пушкин: о красноречии поэта все были наслышаны не меньше, чем о его таланте. По рукам ходили переписанные пером стихи, по мнению некоторых, не вполне пристойные и вообще неблагонадежные, так что о том, чтобы их напечатать, не могло быть и речи. Хотя под этими стихами не стояло подписи автора, однако все знали, что их сочинил Пушкин.
— Могу заверить вас, господа, — продолжал Александр Сергеевич, — что эти странствующие философы имеют право называться выразителями дум своего народа, а знание, понимание народных чаяний суть свойства подлинных поэтов. Да, кобзари и лирники неграмотны, но вслушайтесь в их песни. Ведь в них шекспировская сила, в них байроновское мужество, байроновский дух.
— Гайдамацкий дух! — не выдержал Филюков, вытирая платком сразу вспотевшую шею. — Они возмущают против нас голытьбу, чинят всяческие непотребства, призывают к неподчинению.
— Ну и что же? — спокойно возразил Пушкин, но в глазах его запрыгали бесенята. — Что здесь несправедливого или недостойного? Не станете же вы отрицать божью премудрость, — да и житейский опыт утверждает то же самое! — что всяк сущий выражает свои взгляды с помощью методы, наиболее ему близкой. Потому и обиженный ищет правды среди таких же обиженных, чтобы вместе добиваться того, что принадлежит ему согласно закону природы. Это закономерно, господа!
— Александр Сергеевич! — взывал к Пушкину Филюков, весь красный, как будто только что из бани. — Ведь вы сами дворянин! Как же вы можете так говорить? Почему вы оправдываете вольнодумство? Это либерализм, подтачивающий столпы нашей государственности!
— Ежели эти столпы еще не совсем сгнили, то они не упадут и вам нечего беспокоиться, — насмешливо парировал Пушкин, увлекшись этой игрой и забавляясь растерянностью и возмущением помещиков-душевладельцев. — А если вас пугает правда, то забирайтесь-ка на свои хутора, как улитки в раковины, и сидите там тихонько, ничего не видя и не слыша.
Присутствующие захохотали.
— Милостивый государь, вы не имеете права! — запинаясь, проговорил Филюков, теребя пальцами воротник. — Я этих бродяг и близко не подпускаю к своему имению. Музыку их приказываю ломать, а самих в холодную. Дня четыре подержу на хлебе и воде — и пусть убираются. До околицы села их гонят батогами мои верные слуги. Вот как, милостивый государь! Вот как! — скалил зубы Филюков, подступая к Пушкину и не зная, чем бы ему досадить.
— Вот уж не думал, что вы так непоследовательны в православной вере, — словно удивляясь, сказал Александр Сергеевич и посмотрел в потемневшие от ярости глаза помещика. — Мне довелось слышать, как вы хвастали своими благодеяниями по отношению к крепостным. Называли их братьями во Христе, напоминали о любви к ближним и к малым сим. А что, если они тоже скажут: око за око, зуб за зуб?
— Пустяки, господин Пушкин! Они — моя собственность, я отвечаю за них перед всевышним. И перед императором.
— Я верю. Это, наверное, о вас вчера пели у церкви слепцы:
Бодай пана не сховали,
Щоб собаки розiрвали.
Поховали при долинi,
Щоб по йому вовки вили...
Филюков в изнеможении опустился на стул, тщательно вытирая лицо и шею платком и беспрестанно моргая, словно его хватил кондрашка. Возле него захлопотал Ащаулов. А гости — кто смеялся над шуткой поэта, а кто многозначительно качал головой, не оправдывая его дерзости и считая неучтивым подобное обращение с помещиком весьма почтенного возраста. Разве нельзя было разговаривать более мягко? И если даже человек ошибается, деликатно указать ему на ошибку?
К Пушкину подошла дочь Раевского — смуглолицая Мария. Она тронула его за локоть и, когда они вышли в соседнюю комнату, где сидели только две старушки, напоминавшие своим видом груды дорогих кружев, сказала с упреком, как мать неразумному дитяти:
— Ну зачем вы их дразните, Александр Сергеевич? Дойдет до бабушки — придется вам отвечать за свое необдуманное поведение. Бабушка не спускает людям с таким колючим характером, как у вас.
— Я извинюсь перед именинницей, и она по доброте сердечной простит мой грех, как простил Христос разбойнику.
— Вы все шутите! И такой неосторожный! Забываете, что не всякое слово вам на пользу.
— О моя заступница и руководительница, благодарю вас за науку и обещаю впредь за версту обходить столь благонамеренных особ, как этот помещик. Черт с ними! Но, признаюсь, иногда хочется их подразнить.
Мария укоризненно покачала головой, в ее агатовых глазах блеснул огонек.
— Какой вы непослушный! И неосмотрительный. Не нужно их раздражать, — проговорила она таким тоном, словно заранее знала, какая беда подстерегает нерасчетливого поэта. — Лучше танцуйте, веселитесь, только не вступайте в разговор с Филюковым и Ащауловым. Они злые. И приехали к бабушке лишь потому, что боятся ее. Или, может быть, надеются на протекцию.
— И все-то вам известно, добрая фея, — пошутил Александр Сергеевич, любуясь добросердечной и прелестной смуглянкой. С тех пор как в Каменку приехала Раевская с дочерьми, Пушкин все свободное время проводил в их обществе, особенно досаждая этим Аглае. — Откуда у вас житейский опыт, откуда столько серьезности, Мария?
— Да будет вам, Александр Сергеевич! Однако мне почему-то кажется, что раньше вы были более осторожны. Помните, как мы вместе путешествовали по югу? Гурзуф, море! Дивная красота! Никогда не забуду тех солнечных дней.
— Вы правы. Я тоже всегда вспоминаю благословенные часы, проведенные с вашей семьей. И вас, и Екатерину Николаевну. Жаль, что она не приехала в Каменку. Я ждал ее.
— Она захворала. К тому же, как вы знаете, у Михаила Федоровича неприятность за неприятностью.
— Да, слышал, — вздохнул Пушкин. Глаза его погасли, лицо омрачилось. — Судьба почему-то несправедлива к людям благородной души. Быть может, потому мы так долго помним каждый счастливый день и так грустим, сознавая, что он никогда не повторится. Гурзуф! Черное море! Как сейчас вижу: вы бежите по берегу, а прохладные волны стелются вам под ноги, нежно целуя их. И вы так веселы, точно весь мир принадлежит вам.
— Вы всегда преувеличиваете. Впрочем, возможно, поэты видят мир в светлых тонах, даже если вокруг все серое, будничное.
Нет, он не преувеличивал. Тогда, на берегу моря, Марии было пятнадцать лет, и она в самом деле была какой-то необыкновенной, солнечной. Тот образ так и остался навсегда в его душе волшебным видением.
Из залы долетели звуки музыки. Гости маленькими ручейками устремились из соседних комнат на эти звуки. Заколебались в горячем воздухе огоньки свечей.
— За вами кроме мазурки один вальс, Мария Николаевна, — сказал Александр Сергеевич, наклонив голову.
— Я с радостью буду танцевать с вами весь вечер, — отвечала она просто, как человеку, к которому давно привыкла и с которым можно говорить открыто, не придерживаясь этикета. — Только вы будьте послушны и не дразните местных душевладельцев. Согласны?
— Склоняю голову в знак покорности и обещаю не нарушать договора, — шутливо промолвил Александр Сергеевич, следуя за нею в залу. — При встрече с филюковыми и ащауловыми буду нем как рыба. А если и придется разжать уста, разговор мой будет касаться только поместий, доходов да благодеяний помещиков по отношению к их крепостным...
Мария взглянула на него и молча покачала головой. Правда, отвечать уже не было времени. Подчиняясь мелодии, она, точно цветок, подхваченный течением реки, поплыла по сверкающему паркету, испытывая то непередаваемое ощущение, которое дают человеку юность, звуки музыки — вообще чудный вечер в кругу близких друзей.
Кроме Марии Раевской Пушкину нравилась в Каменке и молоденькая хозяйка Александра Ивановна, дочь небогатого губернского секретаря Потапова. Александре Ивановне было семнадцать лет, когда с нею сошелся Василий Львович, богатый и красивый полковник, лейб-гусар. Он привез ее в Каменку и до сих пор жил с нею, не узаконивая брака. Почему — Пушкин не знал. А впрочем, какое это имело значение для людей, любивших друг друга? Церковное благословение не всех делает счастливыми.
Александра Ивановна уже стала матерью, но в имении Давыдовых по-прежнему держалась незаметно, хотя свекровь любила ее больше, чем невестку графского рода — Аглаю де Грамон. Может быть, старая женщина ценила в Александре Ивановне именно эту скромность и большую привязанность, глубокую любовь к своему сыну Василию.
С Пушкиным Александра Ивановна как-то сразу подружилась и с первого дня знакомства чувствовала себя с ним просто и легко, будто со старшим братом. Поэт знал это и всегда был рад, когда вместе с молодыми Раевскими в библиотеку приходила и Александра Ивановна, жена Василия Львовича.
Было уже далеко за полночь, когда вдруг ударили из пушки, стоявшей при въезде в имение, — ее держали специально для торжественных случаев, пушечные выстрелы любому празднику придавали блеск и великолепие и вообще что-то необычайное. В ту же минуту в небо взвились тысячи разноцветных огней. Разорвав тьму осенней ночи, они мгновенно осветили имение, парк, всю Каменку, скалы над Тясмином. Казалось, звезды далеких миров, вспыхнув, медленно угасали, опускаясь на землю.
Гости восхищались искусством крепостного пиротехника, не в силах оторвать взгляд от огромного вензеля именинницы, выписанного в темном небе нежными цветами радуги. Все вокруг было расцвечено огнями, к небу вздымались огромные снопы красных и золотых искр. Гигантские водопады из многих тысяч звезд ярко осветили парк, и было такое впечатление, словно на каждое дерево надели роскошный убор из золота и бриллиантов, от их блеска даже пушистый снег, впервые в этом году укрывший землю, казался сотканным из драгоценных каменьев.
Когда погасли огни фейерверка и в парке опять расположилась ночь, окутав дом мраком, гостей пригласили к ужину.
По дороге к дому кто-то сказал Василию Львовичу:
— Может быть, вы согласились бы продать этого мастера огненного дела, который всем нам доставил столько удовольствия? Я дал бы за него хорошую цену. Или, пожалуй, обменяемся — за одну душу отдам вам пять. Хотите — мужчин, хотите — красивых девушек.
Давыдов искоса взглянул на говорившего. Это был действительный статский советник с лентой через плечо. Давыдов промолчал, будто не слышал.
По приказу Петра Первого Контрактовую ярмарку в 1797 году перевели из Дубно в Киев. Для города с сорокатысячным населением, из которого восемнадцать тысяч были военными, для этого города с его древними церквами и монастырями, с небольшой крепостью и довольно многочисленным отрядом ремесленников, ярмарка имела немалое значение.
В Киев съезжалось много торгового люда, шляхты, чиновников, офицеров из разных полков и дивизий, расквартированных в губернии, а также крестьян и ремесленников из окрестных местечек. Одни приезжали для того, чтобы купить и продать, другие — чтобы заработать на кусок хлеба. А господ привлекала возможность развлечься и побывать на представлении театра, непременно приезжавшего в эти дни в Киев.
Среди всего этого многолюдия, среди пышных балов и концертов, которые давали как приезжие «штукмейстеры», так и любители и почитатели театрального искусства, легко было спрятаться от державного ока членам тайных обществ.
В особняке на углу Садовой и Александровской происходили
заседания масонской ложи «Соединенных славян», близко стоявшей к Южному обществу. Эта ложа избрала Сергея Волконского своим почетным членом, и он часто бывал на ее заседаниях и произносил речи, в которых высказывался за дружбу русских с поляками для пользы борьбы за национальные интересы обоих славянских народов.
Негромкими аплодисментами, троекратно повторенными по обычаю масонов, присутствующие выражали полное согласие со взглядами Волконского.
Встречались члены тайных обществ на Подоле, в Контрактовом доме, построенном по проекту англичанина Гести после пожара 1811 года, когда ремесленно-торговый Подол сильно пострадал. Этот новый дом, просторный и красивый, стоял на широкой площади, с утра до вечера запруженной каретами и возками. Кроме того, здесь всегда толпился народ.
Дом арендовал купец второй гильдии, капитан французской армии Альберт Линовский — человек предприимчивый, с коммерческой жилкой. Он сумел завоевать доверие и симпатии как у купечества, так и среди гостей, посещавших ярмарку.
На первом этаже торговали мануфактурой, на втором — картинами, эстампами, книгами. Большая зала внизу вмещала около трех тысяч человек. Стены были увешаны галантерейными изделиями, поблескивавшими серебром и бронзой, а столбы, стоявшие двумя рядами посредине, были окружены шкафами с янтарем, книгами и прочим мелким товаром. Рядом была расположена судейская палата и другие залы и комнаты — поменьше.
Контрактовый дом от зари до зари гудел, как улей; тут совершались коммерческие сделки, тут происходили встречи друзей, приезжавших в Киев с разных концов страны, не только с Украины. Здание на какое-то время превращалось в центр торгово-экономической жизни Подола, да, пожалуй, и всего Киева. А по вечерам здесь устраивались пышные банкеты, балы и выставки. И народ до поздней ночи не расходился с площади, где стояла эта временная биржа. Недаром Контрактовый дом сравнивали с парижским Пале-Роялем, причем отдавали предпочтение Киеву. Что и говорить, вряд ли какой-нибудь другой европейский город мог похвастать многотысячной толпой, какая беспрерывным потоком текла по Подолу, заполняя просторные залы, битком набитые всяким добром. А когда наступал вечер, бесчисленные огни заливали ярким светом Контрактовый дом, и тогда он напоминал сказочный дворец.
На Контрактах состоялся и первый съезд представителей Тульчинской, Васильковской и Каменской управ Южного общества. Присутствовали Пестель, Юшневский, Волконский, Сергей Муравьев-Апостол, а вскоре в работе съезда принял активное участие и Михаил Бестужев-Рюмин.
Когда членам Общества стало известно о существовании польской тайной организации, они поручили Сергею Муравьеву-Апостолу и Михаилу Бестужеву-Рюмину через графа Ходкевича войти в контакт с ее представителями, чтобы вместе обсудить вопросы, касающиеся плана действий и тактики обоих союзов.
Скоро Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин встретились с Анастасием Гродецким и Антонием Чарковским. Муравьев-Апостол доказывал, что судьба Польши зависит от судьбы русского революционного движения. Был согласован вопрос о независимой Польше — это должно было способствовать миру и дружбе между двумя народами. Кроме того, было решено, что поляки приложат все усилия к тому, чтобы не дать возможности цесаревичу Константину вернуться в Россию, когда в русских войсках вспыхнет восстание. Поляки обещали наладить отношения с западно-европейскими революционными объединениями, согласились на установление республиканского строя, обязались вести подготовку к восстанию и всячески помогать Южному обществу.
Обо всем этом доложил на заседании Южного общества Бестужев-Рюмин. Однако отнюдь не все члены Общества приняли требования поляков: некоторые считали Польшу придатком России и возражали против ее независимости и самостоятельности. Тем не менее большинство одобрили и утвердили доклад Бестужева-Рюмина. После этого совещания он еще несколько раз приезжал в Киев, чтобы вместе с Гродецким и Чарковским обсудить нерешенные вопросы.
В последний раз на Контрактовую ярмарку приехали Павел Пестель, Алексей Юшневский — генерал-интендант Второй армии, Василий Давыдов, князь Барятинский, отставной полковник Александр Поджио, бывший командир Алексопольского полка Повало-Швейковский, переведенный в Саратовский пехотный полк, князь Сергей Волконский, командир Полтавского полка барон Тизенгаузен и командир Ахтырского гусарского полка Артамон Муравьев.
Сергею Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину корпусной командир генерал-лейтенант Рот не позволил отлучиться, поэтому они не смогли прибыть в Киев. Однако прислали свой план начала восстания, намеченного на весну 1825 года, когда император Александр, как предполагалось, должен был делать смотр Третьему корпусу.
По этому плану императора надлежало убить и, подняв полки Третьего корпуса, во главе с Пестелем двинуться на Киев. Одновременно члены Северного общества в Петербурге должны были арестовать семейство Романовых и, вывезя его за пределы России, создать Временное правительство.
Часть восставших полков устремилась бы на Москву, чтобы заставить Сенат немедленно изменить государственный строй — вместо монархии провозгласить республику.
Пестель возражал против этого плана. Весна не за горами, говорил он, а не в каждом полку есть надежные офицеры, за которыми пойдут нижние чины. Прежде чем замахиваться на абсолютизм, нужно быть уверенным в своих силах. Для того чтобы подготовить людей, преданных революции, требуется по меньшей мере полтора-два года.
На совещании одни поддержали план Муравьева-Апостола, другие встали на сторону Пестеля, отвергая поспешность в столь важном деле. Разгорелись дебаты.
— Нельзя рисковать. История нам этого не простит.
— Однако и не оправдает, если найдется человек, который уведомит правительство, и всех нас схватят еще до восстания.
— Нет, нас не арестуют! Мы успеем поднять полки, к восставшим присоединятся другие и тоже встанут под знамена свободы.
— Неизвестно, как все сложится! Торопиться безрассудно. Доказательством тому европейские революции, потерпевшие крах из-за недостаточной подготовленности и чрезмерной поспешности. Зачем идти их путем, который, безусловно, приведет к гибели общего дела?
— Россия не чета Европе. Здесь от одной искры вспыхнет такой пожар, что и не потушишь.
— Но в пламени этого пожара можем сгореть и мы, если не сумеем обуздать чернь. Об этом должно помнить...
И опять разгорелись страсти: одни и те же вопросы перемалывались на жерновах красноречия, хотя все как будто желали одного — свалить с пьедестала земного бога, которому уже так надоело молиться.
Пестель коротко доложил о переговорах с руководством Северного общества, на которых было согласовано время восстания и дано обещание действовать сообща. Правда, прибавил он, остались некоторые несогласованные вопросы, касающиеся программы Общества и его тактики.
Вечером на Печерске, у Волконского, состоялась встреча с польскими представителями Гродецким и князем Яблоновским. Кроме Волконского присутствовали Пестель и Давыдов. Речь шла о государственном устройстве Польши, о ее границах, а также о судьбе цесаревича Константина. Эти вопросы обсуждались и раньше, но полной договоренности еще не было. Поскольку Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин не смогли приехать в Киев, Пестель решил лично переговорить с поляками. Он хотел условиться действовать одновременно, по единому плану, чтобы восстание охватило не только юг и север России, но и распространилось на всю Польшу. Он говорил о «взаимном содействии» и «одинаковом образе правления» в случае успеха затеянного дела.
Спор возник вокруг вопроса о границах. Пестель считал, что к Польше следует отнести губернии, в которых большинство населения поляки, а обрусевшие губернии должны остаться в пределах России, даже если в них сохранились польский колорит и обычаи, традиции бывшей Речи Посполитой.
Гродецкий и князь Яблоновский возражали: они хотели отодвинуть границу как можно дальше на восток, посягая на часть Белой Руси, когда-то принадлежавшей королевству.
Русские не уступали, поляки добивались своего. Наконец решили перенести обсуждение этого вопроса на будущие Контракты, чтобы за год как следует изучить его и прийти к обоюдному согласию.
Поляки обязались помешать цесаревичу Константину вернуться в Петербург. Как только начнется революция, они изолируют его, чтобы пресечь возможность всяких интриг и заговоров. Пестель полагал, что поступить с Константином следует так же, как будет поступлено с прочими великими князьями.
Киев был окутан звездной ночью, когда они расходились с совещания. Контрактовый дом сиял огнями, на площади чернели кареты, легкие сани, нетерпеливо били копытами о мерзлую землю лошади. И, как весеннее половодье, шумел народ, которому был заказан вход в светлые, теплые залы.
— Сегодня дает представление театр Штейна и Калиновского. Говорят, хорошо играют, — сказал Волконский.
— А помнишь, Серж, — повернулся к нему Давыдов, — помнишь, как во время ярмарки мы посещали полтавский театр Котляревского и восхищались игрой артистов, или, как говорят киевские купцы, штукмейстеров?
— Да, как же! Особенно сильное впечатление произвел Щепкин. Помню, по всем Ромнам собирали деньги, чтобы выкупить его из неволи. Талант! И какой!
— А где он сейчас? Жив ли?
— Я как-то спрашивал одного знакомого полтавчанина. Он рассказал, что Щепкин теперь играет во вновь созданном московском театре и по-прежнему пользуется большим успехом. Если придется быть в Москве, непременно пойду на спектакль.
— А выкупили его? — осведомился Пестель и, не ожидая ответа, сказал: — Вот трагедия на русской почве — гений, закованный в кандалы! Не человек, а вещь. Подумать только — рабство в наш век... Ужасно!
— Не будем пессимистами, господа. Час расплаты приближается, и от нас зависит ускорить его. Разве этого мало, чтобы с надеждой смотреть в будущее?
— Вы правы, это зависит от нас, — угрюмо произнес Пестель. В его глазах отразился свет фонаря, висевшего на карете, которая стояла неподалеку; лошади были вороные и запряжены цугом. — Если б не наша святая цель, то не стоило бы и жить в этом холодном мире. Иногда так хочется представить себе, какою будет новая Россия, освобожденная из-под ярма абсолютизма, — прибавил он после паузы и даже замедлил шаг, словно в непроницаемой дали увидел чудную картину. — Быть может, новая Россия будет в чем-то похожа на светлое, солнечное утро. А возможно, будет еще прекраснее. Ведь и люди тогда станут лучше, чем мы с вами.
— Все мы мечтатели, хотя и не все поэты, — вздохнул Волконский. — И под военным мундиром бьется чувствительное сердце.
Они решили побродить по ночным улицам Киева, немного рассеяться на свежем морозном воздухе после бурных диспутов, жарких споров. Жизнь что ни день выдвигает множество вопросов — как найти на них единственно правильный ответ? Если бы человек мог заранее его знать, отпали бы пререкания, а подчас и ссоры между близкими друзьями и единомышленниками.
Чем больше удалялись они от Контрактового дома, тем меньше попадалось на улицах людей. Да и те куда-то спешили, занятые своими делами, и не обращали внимания на красоту зимней ночи. Во многих окнах было темно; казалось, за ними нет ни единой живой души. Такие дома напоминали черные привидения на фоне зимнего пейзажа.
— Друзья, приглашаю вас на свадьбу! — вдруг воскликнул князь Волконский.
Все остановились и посмотрели на него. Волконский стоял в покрытой инеем шинели, высокий, точно вырубленный из глыбы холодного гранита.
— Сергей Григорьевич! — отозвался Пестель, то ли удивляясь, то ли не веря и для чего-то снимая с левой руки перчатку. — В самом деле женитесь?
— Разумеется! Брак слишком серьезное дело, чтобы шутить по поводу такого события.
— Поздравляю, мой друг! А кто же, простите, ваша избранница? Я думаю, это уже не тайна?
— Достойнейшая среди достойных, — полушутя, с пафосом объявил Волконский, улыбаясь Пестелю.
— Но кто же она? — по-юношески нетерпеливо допытывался Павел Иванович.
Давыдов только усмехался: он уже знал, с кем сочетается браком молодой генерал.
— Мария Раевская...
— Раевская? Дочь Николая Николаевича?! — обрадованно воскликнул Пестель, обнимая Волконского. — Лучшей спутницы жизни нельзя было найти. Семейство Раевских пользуется искренним и заслуженным уважением.
— Почему же ты не сказал нам об этом дома? — упрекнул Волконского Давыдов. — Выпили бы за твое здоровье и здоровье моей племянницы если не по бокалу клико, то хотя бы по кружке кваса из твоего погреба.
Пестель и Волконский захохотали.
— Это мы успеем, когда находимся по киевским улицам, — сказал Волконский. — А пока приглашаю вас на свадьбу. Павел Иванович, не отказывайтесь!
— От души благодарен. — Пестель пожал руку Волконскому. — Однако вряд ли буду иметь счастье быть с вами в этот торжественный день. Приходится сидеть в Линцах, в штаб-квартире полка. Часто отлучаться опасно. — Немного помолчав, он прибавил: — Иногда мне кажется, что за каждым из нас наблюдают. Это всегда надо иметь в виду.
— Вы правы, полковник, осторожность — мать конспирации, — поддержал его Давыдов.
— Когда же наконец мы будем свободно дышать и ходить, не оглядываясь по сторонам?..
Послышалась песня пьяного, потом к его хриплому голосу присоединились другие голоса. По переулку шла веселая компания.
— После Сержа ваша очередь, Павел Иванович, — заметил Давыдов. — Ведь пора, не так ли?
— Нет, — возразил Пестель, — я проживу жизнь холостяком, или, как говорят малороссы, старым парубком. В моем сердце не осталось места для личного...
— И место освободится, как только встретите свою суженую, мой друг, — ласково проговорил Волконский, взяв его за руку. — Я тоже так думал. А потом...
— Что ж, может быть! Все-таки это прекрасно, когда есть для кого жить. Мир кажется необъятным, а жизнь вдвое ярче и милее.
Они надолго умолкли, каждый думал о своем. Пестелю вспомнился тихий вечер в Каменке, глубокие глаза Элен Раевской, ее нежный голос, исполненный какого-то особенного очарования, как и музыка, звучавшая в доме от прикосновения к фортепиано маленьких ручек. Он на мгновение закрыл глаза и увидел на темном фоне Элен, всю в розовом, как в тот дивный вечер, когда они, забыв обо всем на свете, говорили, говорили об искусстве и поэзии и не могли наговориться...
А январский мороз румянил щеки трех запоздалых прохожих, которым не хотелось никуда спешить, только бы вот так медленно идти и идти по этой дороге без конца и без края, под звездным шатром киевской ночи.
В поле безумствовал ветер, швыряя в лицо тысячи колючих снежинок. Лошади то и дело порывались свернуть с дороги, но сильная рука солдата опять и опять возвращала их на еле заметную стежку, тянувшуюся меж вех из прошлогоднего бурьяна, соломы и конопли, заботливо расставленных здесь для того, чтобы в такую вот непогоду путник не заблудился в чистом поле.
Белый вихрь то появлялся словно из-под земли, то пропадал в снежной замети. А ветер жалобно стонал, тянул бесконечную гневную песню и кидал в глаза пригоршни снега.
— Федор, держись дороги, а то заметет так, что до весны придется тут лежать, — долетает сквозь завывания ветра голос из закрытых саней, и на миг появляется голова Бестужева-Рюмина, — он в башлыке, в шубе из решетиловской мерлушки.
— Свят бог, ваше благородие, как-нибудь доберемся до корчмы. Надо было переждать денек в селе, а уж тогда ехать, — сокрушается Федор Скрипка, внимательно следя за вехами, которые качаются под ветром, напоминая больших испуганных птиц.
«И что бы переждать в теплой хате! Лошадям вдоволь овса и сена, нам к обеду по чарке наливали... Так нет же, запрягай, нужно домой поскорее! Словно убежит Васильков. А и опоздали бы — невелика беда! Это нашему брату солдату надо в срок на месте быть, а его благородие что гонит?.. Теперь вот смотри, как бы в овраг не угодить. Нырнешь с головой — и заказывай похороны. И то сказать, сами напросились в пекло...»
— Не замерз, Федор? — опять доносится голос из саней, точно не человек кричит, а вьюга воет. — А то, может, остановишься, пусть лошади отдохнут, а мы с тобой поищем дорогу. Одним словом, пока суд да дело, залезай в мою берлогу, погрейся.
— Нет, ваше благородие, солдату ни к лицу холода бояться. Привычные мы. А остановимся — лошадей застудим. Вспотели они, а чем их укрыть? Вот оно и выходит, что надобно пробиваться к корчме. Тут она, где-то неподалечку. Да разве сейчас увидишь, ишь как крутит. Ни земли, ни неба, все смешалось.
Дороге и в самом деле не видно было конца. И не затихал буйный ветер, так и носился по белой пустыне, словно наперегонки с кем-то. От его дикого бега и завываний на душе становилось тоскливо, точно ты остался один на свете, а все живое спряталось под белым покрывалом.
Лошади ступали осторожно, проваливаясь в сугробы. Бестужев-Рюмин дремал, закрыв глаза. Казалось, не сани катились вперед, а плыла лодка и волны бросали ее из стороны в сторону, как скорлупку или щепку. «Как там, в Киеве, на Контрактах, друзья? — думал Бестужев-Рюмин, пряча голову в воротник. — Жаль, что командир корпуса не позволил мне поехать. Любопытно, кто там из наших? Быть может, все соберутся, кроме нас с Сергеем Ивановичем. Удастся ли теперь договориться о времени выступления? Лунин советовал захватить императора по дороге и двинуть полки на столицу. Сенат перепугается, провозгласит республику. Так зачем же чего-то выжидать? Это только расхолаживает людей. Все хотят действовать, а не сидеть сложа руки и дискутировать. Без сомнения, в спорах рождается истина, как сказал древний мудрец, но разве словами разрушишь стены? Нет, тут без силы не обойтись. Нужно идти на приступ, пока царь не дознался об Обществе, не то поплатимся за это выжидание своими головами. Романовы считают Россию фамильной собственностью, добровольно они не отступятся. Нужно уничтожить Романовых, чтобы и духу их не осталось, и тогда Россия станет свободной и просвещенной. Появятся новые Ломоносовы, которые во сто крат умножат ее славу, расширятся академии, с каждым годом все больше будет образованных людей...»
— Ваше благородие, впереди что-то чернеет. Не то корчма, не то бог весть что...
Михаил Павлович откинул полость и выглянул. Федор сидел весь в снегу, похожий на снежную бабу, и показывал кнутовищем на темное пятно, которое, покачиваясь, плыло в белом мороке.
Лошади, тяжело дыша, перетащили сани через сугроб и пошли живее по вылизанной ветром дороге. И тогда Бестужев-Рюмин увидел запорошенных снегом людей и всадника с нагайкой, который подгонял их, что-то крича. Издалека казалось, что толпа не движется, а топчется на одном месте, меся снег ногами.
Бестужев-Рюмин, прищурившись, смотрел в ту сторону.
— Что за люди? — спросил он. — Каторжные?
— Не похоже, — отвечал Федор, рукавом шинели смахивая с бровей снег. — Одежа-то обыкновенная. А гонят под конвоем, как преступников.
Толпа расступилась, пропуская сани, и Михаил Павлович увидел вблизи черные, изможденные лица. Людей гнали, как скотину на ярмарку.
— Чьи будете? — спросил Федор, не останавливая лошадей.
— Были графини Браницкой, а теперь...
— Продали нас, служивый. А кому — не сказали.
— К новому пану гонят. С семьями разлучила нас графиня! Лютая ведьма...
Где-то позади осталось на снежной равнине темное пятно и пропало из виду, когда дорога спустилась к яру. Ветер угомонился, только с мутного неба сыпал колючий снег. Михаил Павлович, не опуская полости, смотрел на длинный, узкий овраг, точно вдавленный чьею-то могучей рукой в ослепительно белые сугробы и по склонам обнесенный изгородью из кустарников.
— Неужто так можно... с людьми? — глухо вырвалось у него из груди.
Михаил Павлович зажмурился, словно только что увиденное резало ему глаза. Боль пронзила сердце, охваченное ненавистью к мрачному, несправедливому миру, в котором святые законы человечности растоптаны ботфортами царя, а рабовладельцы торгуют людьми, как овцами.
— У нас все можно, ваше благородие, — отвечал Федор, нахлестывая лошадей, хотя подпоручик обращался не к нему, а к собственной совести. — Ведь нашего брата, по приказу подполковника Гебеля, секут, пока не скончаемся от шпицрутенов. И ничего, закон позволяет такое смертоубийство. Священник отпоет — и квиты! Почему же нельзя по сходной цене продать какого-нибудь бедолагу? Пану доход, а крепостному повсюду каторга.
— Ужасно! — продолжал размышлять вслух Бестужев-Рюмин, боясь открыть глаза, чтобы снова не увидеть эти черные страдальческие лица. — Позор! Пусть будет проклят тот, кто первый поработил подобного себе.
— Эх, ваше благородие Михаил Павлович! Не убивайтесь вы понапрасну. Словами тут не поможешь. Нет, здесь нужно что-то другое... Но, лодыри!.. — закричал он, дергая вожжи. И умолк.
— Что нужно, скажи?! — взволнованно воскликнул подпоручик, вцепившись руками в его шинель.
Федор Скрипка хорошо знал Бестужева-Рюмина, привык к нему, как и к Сергею Муравьеву-Апостолу, но сейчас немного испугался, когда, обернувшись, увидел пылающие гневом глаза. Что ни говори, офицер! Барин! Кто знает, как примет он слова, невольно сорвавшиеся у Федора с языка...
— Вам лучше знать, ваше благородие, — пробормотал он. И даже вспотел, даром что трещал мороз. — Мы люди маленькие, да и вообще-то нас за людей не считают.
— Нет, ты такой же, как и я, как все мы. Понимаешь? И никто не имеет права издеваться над тобой, бить, продавать, обменивать. Ты не вещь, а человек.
— Известное дело... Только кто же за нашего брата заступится? Кому мы нужны?
— Заступятся офицеры, ваши командиры, они так же, как и вы, ненавидят душевладельцев и обидчиков. Вот и надо слушаться приказов офицеров. Скажут: поднимайтесь на бой с супостатами, — все как один должны взять в руки оружие. Понял? Так и товарищам своим говори. А они пусть другим передают.
— Да мы так и делаем, Михаил Павлович. Разве мы не знаем, кто с нами по-человечески, а кто — как зверь лютый? За вами да за подполковником Сергеем Ивановичем хоть на смерть.
Дорога пошла в гору. Выехав из оврага, они увидели хутор, словно вынырнувший из-за сугробов у самого горизонта. Это были корчма и заезжий двор.
Низенький круглый человечек с лысой, какой-то приплюснутой головой и маленькими, прятавшимися в морщинистых веках глазками, почтительно кланяясь, пригласил Бестужева-Рюмина в дом.
После бурана в светлице было особенно хорошо, и Михаил Павлович с удовольствием начал раздеваться. От свежевымытого пола пахло хвоей. На столе пел свою мелодичную песенку пузатый самовар — символ домашнего уюта. Через несколько минут появилась яичница на сковороде. Михаил Павлович и Федор перекусили, напились чаю с ромом.
Они решили заночевать здесь: лошади устали, а метель к вечеру разыгралась еще пуще, и было рискованно отправляться в степь на ночь глядя.
Михаил Павлович приказал Федору принести сундучок, в котором лежали книги и тетрадь в кожаной обложке. Михаил Павлович имел обыкновение писать обо всем случившемся в пути, записывал новые песни и стихи, неведомо кем и когда сочиненные.
Он сел к столу и записал в тетрадь недавно услышанное:
Долго ль русский народ
Будет прихотью господ
И людями,
Как скотами,
Будут баре торговать...
«В самом деле — до каких пор? — подумал Михаил Павлович. — Когда же истощится терпение и обиженные поднимутся на своих обидчиков? Тогда никому не ждать милости и пощады. Скорее бы наступил день суда, скорее бы услышать приговор! Я не боюсь, что и меня настигнет карающая рука за то, что я сын душевладельца. Умру, зная, что в новой России более не будет несправедливых законов и никто не посмеет унижать подобного себе...»
Михаил Павлович вынул из сундучка томик стихов Луи Дюбуа, изданный в Париже, и стал его перелистывать.
Быстро сгущались сумерки, в светлице зажгли свечу. Вернулся Федор, выходивший задать корму лошадям и укрыть их попонами, взятыми у хозяина заезжего двора.
— Ну как погода? — спросил Михаил Павлович, оторвавшись от чтения. — Не лучше?
— Свету божьего не видать. Как на Страшном суде. Того и гляди, так занесет дорогу, что не скоро отсюда и выберемся.
— Что ты выдумываешь! Поутру тронемся в путь. Нам нельзя задерживаться, и так опоздали. Мы же солдаты, Федор!
— Известное дело, служба! — вздохнул Федор, принимаясь раздеваться. — Здесь-то тепло. А те бедняги всю-то ночь будут зябнуть на морозе. То-то горюшко!
— О ком ты? — поднял голову от книги подпоручик.
— Да о тех, кого мы встретили по дороге, — отвечал Федор, приглаживая рукой непослушные волосы. — И обогреться-то сердешным негде. Надсмотрщик загнал в сарай, как скотину, — и дело с концом. Спасибо, хозяин позволил. А то хоть ложись посреди двора.
Михаил Павлович захлопнул томик Дюбуа, стремительно поднялся из-за стола.
— Зови их сюда! Тут места хватит, светлица просторная.
— Как это? — удивился Федор, испуганно глядя на подпоручика. — Да ведь хозяин не пустит их. Светлица-то, я чай, для проезжающих господ, а не для простого люда. И за ночлег надо платить.
— Говорю тебе, зови сюда всех сию минуту! — рассердился Михаил Павлович. — Или хочешь, чтобы я сам пошел?
— Да я что... Только ведь не послушаются они меня: напуганы больно и порядки знают, — бормотал Федор, опять начиная одеваться.
Прошло несколько минут, двери распахнулись, и в светлицу ворвался морозный воздух. Двенадцать мужчин и женщин друг за другом нерешительно переступили порог. Боязливо задрожал огонек свечи. Люди жались по углам, поглядывая на офицера, позволившего им войти в теплое, просторное помещение.
— Садитесь, кто где может, — сказал Михаил Павлович, распоряжаясь, как в собственном доме. — Только сначала разденьтесь, так скорее согреетесь.
Надсмотрщик нервно переступал с ноги на ногу, не отходя от дверей и тиская в руках шапку. Его вытянутое лицо и испуганный взгляд говорили, что ему не очень-то по душе доброта господина офицера. Что, если хозяин заезжего двора потребует уплатить за ночлег, где взять денег? Офицер-то, может, просто пошутил с пьяных глаз...
И, словно в подтверждение его опасений, дверь соседней комнаты отворилась, и на пороге появился хозяин. Мгновение он ошалело смотрел на пол: непрошеные гости, конечно, успели наследить. Люди стояли или сидели прямо на полу, некоторые примостились на лавке. Хозяин хотел было гаркнуть на них, но не успел раскрыть рта, как раздался голос Бестужева-Рюмина:
— Накорми всех и напои чаем! Они могут простудиться, если проведут ночь на таком морозе.
Хозяин, как видно, хотел что-то сказать, но передумал, вытер рукой внезапно вспотевшую лысину и молча вышел, чтобы исполнить приказание.
Подпоручик уже не мог ни писать, ни читать. И, чтобы освободить место за столом, спрятал томик Дюбуа вместе с тетрадью в сундучок.
Люди раздевались, складывали одежду в углу светлицы и рассаживались на лавках, служивших здесь и кроватями. А те, кому не хватило места, устраивались прямо на полу, радуясь теплу и уюту и на время забыв о своей горькой доле.
Потом все ели хлеб, посыпанный солью, запивая его кипятком, — единственное, на что расщедрился лысый толстяк, в глубине души на чем свет стоит ругая подпоручика.
Только черноволосая молодица как села на пол, так и замерла неподвижно, опустив голову и обхватив руками колени.
— Что с нею? — спросил Михаил Павлович, с тревогой глядя на красивую, но изможденную, казалось, совсем выбившуюся из сил женщину. — Захворала?
— Беда приключилась, ваше благородие, — шепотом отвечал крестьянин, стоявший ближе других. — Не в своем уме она. Будто каменная стала. Что прикажут — сделает, а сама как во сне. Графиня ее-то продала, а мужа и мальчишку-первенца оставила у себя...
— Навеки разлучила, гадюка! — прибавил второй крестьянин, скрипнув зубами. — Была семья, а теперь разлучены навеки. Где же правда твоя, господи?..
На этот вопрос не было ответа.
Скоро разомлевшие от тепла и кипятка люди уснули, кое-как устроившись на полу. Прилег на лавку и Михаил Павлович, однако сон к нему долго не приходил. Свеча догорела и погасла. В светлице стало темно, как в большом общем гробу. Только ветер всю ночь бешено рвался в дом и на все голоса плакал в печной трубе.
Возвращаясь с Контрактов, Пестель, Юшневский и Повало-Швейковский заехали в Васильков. Муравьев-Апостол очень обрадовался друзьям, не знал, куда их посадить, чем угостить.
— Да нам, Сергей Иванович, кроме горячительного, ничего не нужно, — шутил Юшневский, потирая от холода руки и поглядывая на стол, возле которого уже хлопотал Федор.
— Все будет, дорогие мои! Я так счастлив, что вы ко мне заехали, — отвечал Муравьев-Апостол. — Ну, что нового в Киеве? Кто из наших был на Контрактах?
Юшневский охотно рассказал об общих знакомых, о балах и представлениях, которые посещали помещики, наехавшие со всех концов Киевщины и из других губерний.
— Не было только вас с Михаилом Павловичем. Да еще не приехали братья Лихаревы. Они решили жениться! Довольно вести холостяцкую жизнь! Кстати, князь Волконский обручился с дочерью генерала Раевского. Так что, можно сказать, нашего полку, женатых, прибывает.
На столе шумел серебряный самовар, в пузатых бутылках стоял ром. Федор внес сковороду, на которой шипели караси, потом — ароматную колбасу и графин водки, настоянной на зверобое.
— Вот лучшее лекарство от простуды, — тоном знатока объявил Юшневский, берясь за графин, чтобы наполнить рюмки.
— Кому, как не интендантам, известны все премудрости, — пошутил Повало-Швейковский, разглаживая свой пышные усы и откашливаясь. — А нам остается благоразумно прислушаться к умному совету и отведать с холоду рекомендованного зелья, поскольку оно целебное.
— Погода сегодня в самом деле мерзкая, — заметил Муравьев-Апостол, потчуя друзей. — Зима выдалась ужасная, на неделе два дня пуржит. А до весны еще далеко.
— Сергей Иванович, — обратился к хозяину Пестель, когда все немного подкрепились с дороги, — мы ведь заехали к вам по делу. Ознакомились с вашим планом касательно известной акции и хотим высказать свои замечания. Лично я возражаю против поспешности. Во-первых, мы не готовы организационно и у нас нет окончательной, всеми принятой программы. Во-вторых, еще не решены некоторые принципиальные вопросы. Не секрет, что не все члены Общества, особенно Северного, склонны признать «Русскую правду», а «Конституция» Никиты Муравьева не может служить республиканскому строю. Тем не менее понятно, что мы должны выступить с совершенно ясной программой. Кроме того, полки не подготовлены к восстанию. Поспешность смерти подобна. Мы хотим жить сами и хотим, чтобы жило наше дело.
Пестель заметно волновался. Он любил Муравьева-Апостола, ему импонировали его пылкость и энергия. Однако когда речь шла об Обществе, он не мог и не хотел ничем поступиться, не мог и не хотел идти на какой бы то ни было компромисс.
Но и Муравьев-Апостол тоже не собирался отказываться от того, что считал нужным совершить, не теряя времени.
— Опять дискуссии, споры, софистика... Надоело толочь воду в ступе. Где же логика, я спрашиваю? — сердился Сергей Иванович, покраснев от возбуждения. От природы нетерпеливый, он рвался в дело и просто не мог спокойно сидеть, дожидаясь подходящего случая.
— Логика, Серж, в том, чтобы выступить, будучи уверенными в победе, — заметил Юшневский. — А этого пока нет. Надо смотреть правде в глаза.
— Поймите, Сергей Иванович, — прибавил, вставая изза стола, Повало-Швейковский, — мы еще не готовы противопоставить что-то значительное той силе, которая поддерживает императора. Вот в чем суть. Нельзя идти на риск в таком деле.
Но Муравьев-Апостол стоял на своем и упорно защищал прежнюю точку зрения.
— Прежде чем представить свой план на всеобщее обсуждение, мы с Бестужевым-Рюминым все взвесили, приняли во внимание существующие условия, постарались предвидеть то, что можно, и, я думаю, составили себе совершенно объективное мнение. Вы спрашиваете, на какую силу мы опираемся? Отвечу. Черниговский полк подниму я, Саратовский и Алексопольский поведете вы. — Он повернулся к Повало-Швейковскому. — В этих полках вас любят и офицеры, и нижние чины, они выполнят ваш приказ. Полтавский полк поведут его командир барон Тизенгаузен и Бестужев-Рюмин, Ахтырский гусарский — Артамон Муравьев. Во главе Вятского полка встанете вы, как его командир, — взглянул Сергей Иванович на Пестеля. — А князь Волконский поднимет свою Девятнадцатую пехотную бригаду. Семнадцатый егерский поведут Александр Вадковский и Молчанов. В Нежинском конно-егерском полку тоже есть наши единомышленники. Имеются они и в Кавалергардском, и в лейб-гвардии Московском, Финляндском, Драгунском. Лейб-гвардии Гродненский гусарский поднимет подполковник Лунин. Есть наши друзья и в лейб-гвардейских Измайловском и Гренадерском полках. Не останется в стороне и Пензенский, да и другие. Разве это не достаточная сила? А стоит выступить этим полкам, как к ним присоединятся и те, на кого мы теперь даже не рассчитываем. Уверен, что вся честная Россия встанет под наши знамена. Да, я верю, что так оно и будет.
Он горел надеждой и, казалось, уже видел перед собой десятки полков, вставших под республиканское знамя. И вся Россия, приветствовала своих сынов, несших ей свет и свободу.
Пестель невольно залюбовался восторженным, горячо убежденным в своей правоте подполковником Черниговского полка, однако длилось это всего несколько секунд.
— Друг мой! — сказал он, с нежностью глядя на Сергея Муравьева-Апостола, но не разделяя его оптимизма. — Вы недооцениваете мощи Романовых и их приспешников. Да и где гарантия, что перечисленные вами полки выполнят ваш приказ и возьмут в руки оружие? Это только ваше предположение, а что будет в действительности?.. Вдруг они не присоединятся к нам, не поддержат? Что тогда? Погибнет наше дело? А имеем ли мы право рисковать, допуская возможность поражения?
Однако переубедить Муравьева-Апостола было не легко, это почувствовали все. Он упорно настаивал на своем плане, доказывал, что все будет хорошо. Его вела ничем не обоснованная, слепая вера. Ни Пестель, ни его друзья не могли согласиться со взглядами слишком нетерпеливого молодого подполковника, они возражали против поспешности.
— И все-таки я верю, что стоит бросить искру — и вспыхнет такой пожар, который не удастся погасить дому Романовых и иже с ними, — не сдавался Сергей Иванович, тяжело переживая то, что никто из присутствующих его не поддержал.
— Кто-то приехал, — сказал стоявший у окна Юшневский.
— Это вернулся Михаил Павлович, — отозвался Муравьев-Апостол, посмотрев в оттаявшее пятнышко на разрисованном морозом окне. — Он ездил с письмом графа Витгенштейна в Китомир, к командиру корпуса Роту.
Через минуту в комнату вошел Бестужев-Рюмин — высокий, статный молодой человек. Нос с горбинкой придавал его лицу несколько злое выражение, но в глазах светилось то обаяние, которое привлекает к человеку с первого взгляда.
Все встали, здороваясь с подпоручиком, а он сразу забыл о своем трудном путешествии, как вообще легко забываются в юности всякие невзгоды и злоключения.
— Я теперь часто путешествую, — похвастался он, пожимая руки друзьям. — Жалею, что в этот раз не взял с собой Федора. А денщик князя Барятинского какой-то неуклюжий и неосторожный к тому же. Представьте себе — опрокинул нас. Наверное, задремал. Я думал, мы костей не соберем. Однако ничего, только испугались. Князь очень рассердился на своего Луку. Но немного спустя мы уже весело хохотали, вспоминая, как летели в овраг. Так и покатились с холма, как груши с дерева, еле-еле выбрались на дорогу. Ну, невелика беда! Лучше рассказывайте, что там, в Киеве, кто из наших приезжал, какие вопросы обсуждались, удалось ли встретиться с поляками. Все-все рассказывайте!
— Нет, ты сначала выпей водки, а то простудишься, — обеспокоенно произнес Сергей Иванович, наполняя большую рюмку. — Придется позвать нашего лекаря Вольфа.
Далеко за полночь не гасли огни в доме, где жил Муравьев-Апостол, и не было конца горячим спорам.
— А что, если последовать совету Лунина и захватить императора на пути между Петербургом и Царским Селом? — спросил Михаил Павлович; он все время ходил по комнате и, казалось, размышлял вслух. — Может быть, наш монарх в самом деле испугается и добровольно согласится на конституционные реформы. Тогда дело кончится мирно, без восстания и пролития крови.
Пестель снисходительно улыбнулся. Ему была смешна наивная вера юного подпоручика. Бестужев-Рюмин готов был выполнить любое задание Общества, но, неопытный в жизни, проявлял странный, ни на чем не основанный оптимизм в столь серьезном политическом деле.
— Михаил Павлович, ну где вы слышали, чтобы тиран добровольно отдал власть в руки революционеров? История такого не знает. Это предположение противоестественно, а потому неосуществимо. — А если Александр Первый не согласится, то заплатит за это жизнью. Ну что же, подождем, пока он будет делать смотр корпусу. Он, конечно, как всегда, остановится в Белой Церкви, во дворце графини Браницкой. Наши товарищи сменят караул, ночью войдут в опочивальню и прочитают ему смертный приговор.
Пестель подумал про себя, что со временем Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин предпочтут выждать подходящего случая, чем рисковать и ставить под угрозу дело Общества.
Бестужев-Рюмин опять спросил, виделись ли с поляками. Пестель рассказал о беседах с Гродецким и князем Яблоновским и посоветовал Михаилу Павловичу быть осторожнее в письмах, не забывать о перлюстрации, хотя официально она и запрещена.
— Будьте осмотрительны. Неосторожным словом можно навести полицию на след и погубить все дело. С глазу на глаз говорите о чем угодно, а писать следует лишь о совершенно невинных вещах, которые ни у кого не вызовут подозрений.
Бестужев-Рюмин с благодарностью принял его совет, признавая в душе справедливость сделанных ему замечаний. Он в самом деле нередко высказывал в письмах противоправительственные взгляды, за которые можно было поплатиться.
Утром друзья выехали из Василькова. Всю дорогу Пестеля угнетала мысль, что он так и не добился согласия не только между Южным и Северным обществами, но даже между членами своих управ. Правда, в Петербурге как будто договорились действовать сообща. Но Павел Иванович чувствовал, что решение это чисто формальное и отнюдь не все отказались от надежды на ограниченную монархию. Боялись революции, хотя предпочитали об этом молчать. Боялись утратить привилегии, которыми до сих пор пользовались как дворяне.
Пугали хаос, буйство черни, междоусобица, которую придется подавлять силой оружия. Вслух о своих опасениях не говорили, однако именно это и ничто иное было причиной нерешительности и колебаний умеренных «северян».
Все это очень тревожило Пестеля. А тут еще планы Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина...
Занятый своими печальными мыслями, Павел Иванович не слышал, о чем разговаривали, сидя в широких санях, запряженных тройкой вороных, Юшневский и Повало-Швейковский.
Вятский полк квартировал в небольшом местечке Подольской губернии — Линцах, принадлежавшем князю Сангушко. Пестель жил в одноэтажном домике, выходившем фасадом на площадь, где каждый день проводились военные учения.
А вокруг — леса, типичная провинциальная глушь, где все знают друг друга и где новый человек может истосковаться от однообразия и серости бытия.
Долгими осенними и зимними вечерами офицеры собирались в квартире командира полка — читали, оживленно обсуждали прочитанное.
Как и в Тульчине, у Пестеля в Линцах стояло много шкафов с литературой, за книжными полками не видно было стен. Здесь в основном были книги философско-экономического содержания: ведь беседы и дискуссии, происходившие в доме Пестеля, всегда носили политический характер, часто в поисках истины разгорались настоящие баталии. Нынешнюю жизнь сравнивали с тою, о которой писали мудрецы далекого прошлого.
Много времени уделялось поэзии — Радищеву, молодым Пушкину и Рылееву и западноевропейским поэтам, будившим мысль у нового поколения.
В Тульчине на квартире Пестеля жил Ивашев, а в Линцах поселился майор Лорер, бывший гвардеец, оставивший столицу и гвардию, — он происходил из бедных дворян и не мог служить вместе с сыновьями богатых аристократов.
Князь Оболенский посоветовал Лореру поступить на службу в Вятский полк и дал ему рекомендательное письмо к Пестелю. Павел Иванович выполнил просьбу князя. И не ошибся. Майор оказался хорошим товарищем, веселым и умным.
В свое время в Петербурге Оболенский принял Лорера в члены Северного общества, поэтому между новыми друзьями не было тайн. Если Пестелю приходилось отлучаться из Линцов, рукопись «Русской правды» брал к себе на хранение майор.
Вернувшись из Киева, Пестель все рассказал Николаю Ивановичу Лореру. Они с грустью констатировали, что различия во взглядах лишь ослабляют оба Общества, причиняя немало вреда делу.
План Муравьева-Апостола Лорер считал скороспелым и необдуманным. Он утешал Пестеля, говоря, что время лучший советчик в столь серьезном вопросе. Вполне возможно, что автор плана со временем поймет свою ошибку и сам откажется от него. Нужно набраться терпения.
Мать Лорера была княжна Цицианова, отец — француз. От матери он унаследовал черты горцев, а веселый нрав взял у французов. И наверное, благодаря своему характеру Лорер через час после серьезной беседы уже рассказывал Пестелю всякие мелкие происшествия, случившиеся в Линцах за последние дни. Рассказывал он уморительно и так умело изображал в лицах своих героев, что Пестель смеялся. Майор в детстве научился от няньки разговаривать по-украински, и украинские словечки придавали своеобразный колорит его историям.
После обеда Лорер ушел по служебным делам. Пестель хотел было на часок прилечь отдохнуть, но явился капитан Майборода — широкоплечий, дюжий медведь, как называли его в полку офицеры.
Капитан производил впечатление нелюдима. В его фигуре, во всей его натуре было что-то от первобытного человека с характерной для того грубостью, ограниченностью и жестокостью — свойствами, сформировавшимися в результате суровой жизни наших далеких пращуров. Однако службист Майборода был прекрасный, да и как член Общества считался не последним, горячо ратуя за республику и ненавидя монархию в любой форме. «Как ни ограничивай монархию, все равно она останется вечным злом», — часто говаривал он в кругу единомышленников.
— Со счастливым возвращением, полковник! — приветствовал он Пестеля, и на лице его сквозь обычную холодную угрюмость пробился светлый луч простой человеческой радости — редкой гостьи для Майбороды. — А я
беспокоился: дорога плохая, пурга — мало ли что может случиться, да еще в такое время! Как говорится, живем на голом утесе, а вокруг бурное море. Того и гляди смоет. Да, так кто же из наших был на Контрактах? Весело ли провели время? Рассказывайте, Павел Иванович, не скупитесь.
Пестель рассказал, кого из общих знакомых встретил в Киеве, как понравился ему бал, какой спектакль он видел и так далее. Но ни словом не обмолвился о совещании с поляками и об обсуждавшемся на нем плане Муравьева-Апостола.
Майборода внимательно слушал, лицо его хмурилось. Когда Пестель кончил, он раздраженно заметил, что, наверное, никогда не будет начато то, ради чего было создано Общество.
— Все разговоры да разговоры! Какая от них польза? России нужны дерзания, а не пустая болтовня.
«Вот и он твердит то же, что наша молодежь», — подумал Пестель. У него потеплело на душе при мысли, что люди жаждут дела. Но не покидала и тревога: ведь всякие проволочки дурно действуют на нетерпеливых, ослабляют веру, морально разоружают малодушных. А среди членов Общества есть и такие.
В утешение капитану Пестель сказал, что ждать осталось недолго, это время нужно использовать для подготовки нижних чинов. Они должны знать, за что им придется бороться, когда офицеры подадут знак к выступлению.
— Прикажу — пойдут в огонь и в воду, — сурово произнес Майборода, бросив на Пестеля недобрый взгляд. — Никакой подготовки тут не требуется. Солдат обязан не раздумывая выполнять приказы начальства.
Пестель возразил:
— Нет, не того мы добиваемся, капитан. Обязанности обязанностями, но солдат должен поступать сознательно. Должен ясно представлять себе, во имя чего ему надо браться за оружие и против кого направлять его. Слепые исполнители приказов нам не нужны. Поэтому разъясняйте суть происходящего, терпеливо воспитывайте в солдате человека. Однако действуйте осторожно, чтобы не вызвать подозрения у тех, кто негласно наблюдает за каждым из нас. Не забывайте, что повсюду могут быть провокаторы и предатели.
Майборода сжал кулаки.
— Да я первый задушу иуду собственными руками ради спасения товарищей и нашего святого дела.
«И он исполнит свое обещание, этот медведь, — подумал Пестель, любуясь дикой силой капитана. — Побольше бы нам таких в решительный момент, чтобы сломить сопротивление противника и броситься на штурм крепости, которая называется монархией».
Майборода ушел. Принесли почту. Пестель сел к столу и принялся читать письмо от отца, Вспомнилось Васильево, где он недавно был. Тихий уголок Смоленщины... Нет, не тихий! Теперь повсюду брожение, повсюду пусть скрытая, но борьба. Зреет ненависть, наливается соками то, что посеял сам монарх. Как знать, что ждет всех их в будущем, на какой берег вынесет и каким течением...
Иногда ненависть прорывается, как долго сдерживаемый плотиной поток, и многострадальный сын земли не разбирая крушит все вокруг, пока его не схватит за горло мощная рука правительства. Тогда одних полосуют нагайками и плетями, других гонят на каторгу. Мир и тишина воцаряются среди руин и пожарищ. Но тишина эта обманчива — опять по ночам кровавое зарево освещает небо, а утром находят в постели задушенного управителя экономии или самого помещика-крепостника.
Вот о чем писал Пестелю отец, жалуясь на крестьян, которые все больше выходят из повиновения, жгут усадьбы, убивают помещиков и чиновников. Страшная это сила — чернь.
«Страшно все, что не подчиняется власти, что единственным законом для себя признает эмоции, — подумал Пестель, соглашаясь с отцом. — Потому я и считаю, что революцию должны делать военные, а не штатские. Ни в коем случае не крепостные — они будут мстить за старые обиды и превратят отчизну в поле сражения. Нет! Только военным под силу эта миссия. Они и тирана сбросят с престола, и установят в России справедливый порядок, создав новое правительство».
Уже смеркалось, когда вернулся Лорер. Увидев Пестеля сидящим за столом, он с укором сказал:
— Наверное, так и не прилегли отдохнуть, как обещали?
— Не удалось, — без тени сожаления признался Павел Иванович. — Пришел Майборода, потом принесли почту. — Он положил в ящик отцовское письмо. — Зато ночью отосплюсь вволю.
Лорер пригладил перед зеркалом волосы, повернулся к Пестелю.
— С Майбородой будьте осторожны, Павел Иванович. Не нравится он мне.
— Чем именно? Тем, что грубоват, угрюм, резок?
— Сам не знаю. Просто несимпатичный человек. Что-то в нем есть гадкое, неискреннее. Что-то от библейского Искариота.
На переносице у Пестеля прорезалась морщина, он поднял глаза на шагавшего взад-вперед майора.
— Это чисто субъективное чувство, Николай Иванович. Предубеждение не всегда верный советчик, — сказал он наставительно, как отец сыну. — Капитан исполнительный офицер, свои служебные обязанности выполняет не за страх, а за совесть. Вы же знаете, что я, учитывая желание капитана, просил начальника штаба армии перевести его из Тридцать четвертого егерского в наш полк. Не мог же я ошибиться в человеке?
— Знаю, — печально отвечал Лорер, на минуту останавливаясь перед Пестелем, который по-прежнему сидел за столом. — И еще кое-что мне известно, Павел Иванович. Например, то, почему Майбороде пришлось оставить Московский полк.
— Почему? — поинтересовался Пестель.
Лорер прошелся по комнате, заложив руки за спину. Остановился у полки с книгами.
— Майборода взял у однополчанина офицера тысячу рублей, чтобы купить для него донского скакуна. А вернувшись из поездки, заявил, что конь по дороге сдох. На самом деле, он эти деньги проиграл. Товарищи разоблачили плута, и ему пришлось просить перевода в другой полк. Майбороду перевели в Тридцать четвертый егерский, и уж оттуда вы его забрали к себе. Вот и вся биография человека, недостойного носить офицерский мундир. К сожалению, в русской армии такое ничтожество даже продвигается по службе. Майборода может дойти до генерала и будет шефом какого-нибудь полка. У нас все возможно! Как говорят католики, per fas et hefas — всеми правдами и неправдами.
— Вы преувеличиваете, мой друг, — возразил Пестель, желая оправдать капитана. — Очевидно, за ним в самом деле водится какой-то грешок, но повторяю — субъективные чувства не дают права быть суровым судьей чужих поступков. Известны же случаи, когда несимпатичный на первый взгляд человек после более близкого знакомства становится лучшим другом.
Лорер махнул рукой:
— По-грузински друг — амхенахебо, однако из Майбороды не только друга, нс и просто честного человека никогда не выйдет. Службист он неплохой, но человек подлый! В полку его прозвали медведем. Однако капитан недостоин этого прозвища...
Пестель захохотал, стараясь успокоить майора и превратить все в шутку.
— Ну можно ли так, Николай Иванович? Этакий весельчак, шутник, а стал говорить о душевных качествах товарища — ни дать ни взять прокурор святейшего Синода. Непохвально, друг мой!
— Возможно, однако Майбороду я никогда не назову своим амхенахебо.
Пестелю было не по душе столь несправедливое и однобокое мнение, и, чтобы прекратить неприятный разговор, он приказал денщику подавать ужин.
Одиннадцатого января 1825 года в Киеве, в церкви Спаса на Берестове, венчались князь Волконский и Мария Раевская.
Нельзя сказать, что свадьба была пышной, но гостей съехалось много. Кроме родственников, друзей и товарищей по службе прибыли киевский штатский губернатор Ковалев, вице-губернатор Катеринич, комендант генерал-майор Аракчеев — брат любимца императора, полицмейстер полковник Дуров, высшие чиновники, сенаторы из Киева и Петербурга.
Дом гудел от множества людей, громко играла военная музыка. В зале было светло — хоть иголки собирай: в бра и люстрах горели десятки свечей. Воздух благоухал. Кадриль сменялась мазуркой, мазурка — вальсом или уже выходившим из моды менуэтом. Веселью, казалось, не будет конца.
На юных гостей, веселых, сияющих, как будто тоже упал отблеск счастья — столько было улыбок, пылких взглядов, задорного молодого огня. В этой зале сейчас царила весна, хотя за стенами дома мело и стояла морозная январская ночь.
Отдельно от молодежи, в боковых комнатах, развлекались пожилые, почтенные гости. Мужчины, как водится, искали счастья в карточной игре. Одни из них были бледны, другие багровы от возбуждения и волнений; одни были злы, другие веселы — в зависимости от того, улыбнулась им фортуна или прошла мимо. Женщины вели между собой обычную легкую беседу, сообщая друг другу последние новости из жизни знакомых или обмениваясь шутками на животрепещущие темы.
Больше всего разговоров, конечно, было о Волконском и Раевской, ставших супругами. Сегодня им все завидовали.
Да и как было не завидовать! Молодая — дочь прославленного генерала, героя Отечественной войны 1812 года, который еще недавно, пока его не сменил князь Щербатов, командовал Четвертым армейским корпусом в Киеве. Молодой — генерал-майор, бригадный командир Девятнадцатой пехотной дивизии, князь Сергей Волконский, тоже из богатой и славной семьи.
В подвенечном белом платье Мария казалась еще выше, еще стройнее. Недаром ее прозвали «девой Ганга» — она и в самом деле была похожа на дочь сказочной Индии в той фате и цветах, оттенявших ее смуглое лицо и точеную шею. И при этом непринужденные манеры, гордая осанка, живой, умный взор.
Волконский был намного старше Марии. Эта разница в летах сегодня была особенно заметна. Никто не решился бы назвать Волконского красавцем, но его благородные мужественные черты у каждого вызывали чувство приязни.
Князь Волконский принадлежал к роду Торуских, происходивших от черниговских князей. Свою фамилию они получили от названия имения Волконое, Алексинского уезда, Тульской губернии. До четырнадцати лет Сергей Волконский учился дома под присмотром иностранца Фриза и отставного подполковника Коленберга, а потом — в Петербурге, у аббата Николь и в пансионе Жакино. Еще в детсве Волконский был приписан к Екатеринославскому кирасирскому полку и на двадцать четвертом году жизни получил чин генерал-майора.
Во время Отечественной войны князь был награжден за храбрость, а вернувшись из заграничного похода, вступил в Южное общество. Будучи образованным и умным человеком, Волконский вместе со своими товарищами мечтал о России, свободной от деспотии дома Романовых, о республиканской России. Волконский ненавидел абсолютизм, ставший препятствием на историческом пути прогресса и культуры, и поставил себе целью его уничтожение.
Сергей Григорьевич принимал активное участие в деятельности Тайного общества, поддерживая постоянную связь между южными управами и оповещая товарищей обо всем, происходившем в Петербурге: его мать, Александра Николаевна, была любимой статс-дамой и гофмейстериной императрицы Марии Федоровны. В его положении все это можно было делать, не вызывая подозрений, поэтому Волконский часто появлялся то в Василькове, то в Тульчине или в имении Давыдовых — Каменке. А во время Контрактов члены Общества устраивали совещания в киевском доме Волконских.
Старый Раевский догадывался о связях будущего зятя с офицерами-вольнодумцами. Вернувшись из Европы, они уже не признавали абсолютизма как чего-то незыблемого и вечного и искали такую форму правления, при которой не воля одного человека, а разум и интересы всего класса являлись бы движущей силой государства. Для них монархический строй, благословенный церковью, не был священен — они считали его тормозом в развитии России.
В душе Раевский сочувствовал мечтателям-реформаторам, хотя сам не принадлежал ни к организовавшимся повсюду масонским ложам, ни к другим обществам. Однако он, занимая пост командира Четвертого корпуса, завел ланкастерские школы и способствовал их распространению, сознавая огромное значение и пользу просвещения среди нижних слоев общества.
Отгремела мазурка, и Михаил Орлов, женатый на старшей дочери Раевского Екатерине, вышел на террасу, опоясывавшую дом с южной стороны. Летом эта терраса была увита густой сеткой дикого винограда, здесь можно было укрыться от жары. Опершись на балюстраду, Орлов смотрел на широкий двор, запруженный каретами, на костры, вокруг которых грелись дворовые и слуги, сопровождавшие на свадьбу своих господ. Волконские не поскупились на водку и пиво для дворни, и теперь простолюдины развлекались на свой манер. Кто-то бил в бубен, кто-то наигрывал на свирели, звенели цимбалы, а плясуны изо всей мочи топали ногами о мерзлую землю под веселые возгласы товарищей.
При колеблющемся свете костров картина была почти фантастическая, и Орлов залюбовался ею. По его лицу с резко очерченными бровями пробегали тени, тусклые блики. Коренастая фигура, унаследованная от дядьев — Алексея и Григория Орловых, фаворитов и любовников царицы Екатерины, сейчас казалась еще грубее, еще кряжистее.
Для своего времени достаточно образованный, отличавшийся природным умом, Орлов был активным членом Союза спасения, но после московского съезда, когда вновь были созданы Общества в Петербурге и на юге, официально не принимал участия в их работе, хотя последовательно проводил в жизнь принятую ими программу.
Дворовые затянули:
iшов козак з Украiни, мушкет за плечима,
За ним iде дiвчинонька з чорними очима...
Песню дружно подхватили все, кто стоял вокруг костров и возле карет и саней. Можно было подумать, что поющие хотят заглушить музыку, доносившуюся из дома.
Заслушавшись, Орлов не заметил, как рядом с ним остановился Сергей Волконский.
— Понравился тебе хор? — спросил он, кивком головы указывая на двор. — Малороссы народ певучий, и храбрости им не занимать. Я убедился в этом во время французской кампании.
— Неплохо поют, — похвалил Орлов, не отрывая взгляда от людей у костров. — Напрасно разрушили Сечь. Запорожцы еще не раз пригодились бы. Особенно при уничтожении крепостничества и монархии. — Он улыбнулся. — Уж тут бы они кое-кому всыпали. Не одному Аракчееву, а многим шкуродерам.
Не успела смолкнуть первая песня, как затянули вторую:
Серед поля широкого церковка стояла,
Там попадя до церкви люди звабляла.
Прийшли люди до церкви богу сi молити,
А пiп пiшов до корчми горiлочку пити...
— А еще говорят, что простолюдины религиозны, — заметил Волконский. — Ишь как они про священника-то! Хорошо бы эту песню митрополитам послушать.
— Я не понимаю их языка, — признался Орлов, — улавливаю отдельные слова. Но что касается церкви, то их верования чисто формальные. Наверное, они на храм божий смотрят как на некое государственное учреждение, которое нужно посещать в назначенные начальством дни.
— Церковь и корчма — разве это не родные сестры? И там и здесь торгуют и обогащаются, — сказал Волконский.
Орлов быстро взглянул на него. Лицо Волконского было освещено дрожащим отблеском костра. Орлов полушутя-полусерьезно посоветовал ему быть осторожнее. Не дай бог, его слова дойдут до ушей митрополитов Серафима и Филарета, не поздоровится.
— Тогда на собственной шкуре почувствуешь, какова их сила и мстительность. Хотя формально инквизиции давно не существует, святые отцы не прощают еретикам богохульств. А наши священнослужители берегут для них места в Соловецком и иных монастырях, где ничуть не менее страшно, чем в инквизиторских подземельях.
— Все это для нас не секрет, мой друг, — вздохнул Волконский, глядя на пляшущих. — Признаться, не люблю я святош. Ханжи... Проповедуют «не убий», а сами благословляют убийства. Вспомни чугуевское восстание. Сколько людей погибло из-за аракчеевской выдумки — создать военные поселения? А святые отцы благословили кровавую расправу над невинными. Как это согласовать с любовью к ближнему? Это же разные полюсы морали.
— И это еще не все! Я уверен, что тех, кто придумал военные поселения, после смерти канонизируют, как святых, и мы будем ставить свечки перед их рожами, то бишь иконами. А что ты думаешь? В Зимнем дворце прикажут, в Синоде благословят, а верноподданные исполнят.
— Тише, Михаил Федорович, — сказал Волконский, оглянувшись на дверь, которая вела с террасы в дом, — не забывай, что здесь в гостях брат Аракчеева, лучше не называть имен.
— Кощунство! — с ненавистью процедил сквозь зубы Орлов. — «Не убий», а убиваем, «не укради», а у поляков оттягали Польшу, да еще становимся в позу благодетелей.
Волконский насмешливо произнес:
— Будь справедлив, мой друг! Мы же посадили в Польше комиссаром сенатора Новосильцева, отдали цесаревича Константина Павловича. Неужели полякам мало такой чести? Неблагодарные! Они, видите ли, добиваются независимости. Бога бы благодарили за милости венценосца...
— Так вот вы где, конспираторы! — воскликнул старый Раевский, выходя на террасу с братом Волконского, генерал-губернатором Малороссии Николаем Григорьевичем Репниным. — Почему вы прячетесь от гостей? Нехорошо, господа! Бог знает что о вас могут подумать, — выговаривал Раевский зятьям.
— Простите... Много танцевали и вот решили выйти подышать свежим воздухом да послушать песню, — оправдывался Орлов.
Но Раевский не унимался:
— Знаю вас, либералов, вольнодумцев! Наверное, для того и скрылись, чтобы поговорить о том, о чем на людях говорить нельзя: реформы, уничтожение крепостничества и прочие модные теперь политические штучки. Запомните: его величество проведет реформу и без ваших разговоров, так что незачем понапрасну ломать себе голову.
— Монарх что-то не очень торопится, — пошутил Волконский.
— Якобинцы! — Раевский погрозил пальцем младшему зятю. — Смотрите, чтобы в ваших полках все было в порядке, а реформ дождемся и без вас. А теперь — в залу, дамы скучают. — И старик начал подталкивать их к двери.
Мария Раевская не любила Волконского, она вышла замуж, выполняя волю отца. Во-первых, Волконский был почти вдвое старше ее: Марии девятнадцать, а ему тридцать шесть. Во-вторых, она всего несколько раз видела жениха, он не успел вызвать у нее сердечных чувств. Да, может быть, она просто еще не понимала, что такое любовь. Как бы там ни было, Мария была равнодушна к молодому генералу, избравшему ее спутницей своей жизни.
Старый Раевский знал Волконского еще с кампании двенадцатого года и был не прочь породниться с богатым и славным родом князей Торуских. К Марии сватался граф Олизар Густав Филиппович, младший сын маршала трибунала. В то время Густав Филиппович был киевским губернским маршалом. Однако Раевский не пожелал отдать дочь за человека, который недавно развелся с графиней Каролиной де Моло, прожив с нею в браке пять лет. Граф Олизар недолго тосковал по Марии Раевской: получив отказ, женился на графине Жозефине Ожаровской.
Мария жила в мире грез, в романтическом мире, созданном юным воображением: явится рыцарь и увезет ее на волшебный остров, где все не похоже на то, что окружает нас в обычной жизни. Только такого рыцаря она полюбит, только ему отдаст руку и сердце. А Волконский — обыкновенный, земной. Что в нем может поразить, увлечь? Ему ли полонить сердце мечтательницы?
Правда, в ее семье князя Сергея уважали, но что до того Марии? Он такой же, как другие генералы. Почтительный, любезный, умный. Этого мало, когда тебе только девятнадцать.
«Но может быть, это и есть счастье, если кто-то выбирает тебя в спутницы жизни? И неважно, что ты к нему равнодушна?» — эта неожиданная мысль не раз мелькала сегодня у Марии.
Женщины окружили молодую, не отходили от нее ни на шаг. Не оставляли Марию весь вечер и сестры — Екатерина, Элен, Софья. Элен в утра ждала, что вот-вот откроется дверь и слуга доложит с приезде еще одного гостя. Все глаза проглядела, вздрагивала при каждом новом имени. Но тот, кого она с замиранием сердца ждала, так и не приехал на свадьбу. И ее ничто не радовало, в глубине глаз притаилась грусть. Элен вспоминала Каменку; тихий летний вечер, фортепиано и рядом с нею такой предупредительный, внимательный Пестель. Может быть, это были самые счастливые ее дни. С тех пор она жила воспоминаниями, надеясь, что опять встретит Пестеля, хотя бы на свадьбе сестры. Однако и этой надежде не суждено было сбыться. Среди гостей не было его, желанного, самого лучшего...
— Почему ты бледна? Что с тобой? Ты нездорова? — в тревоге спрашивала сестру Мария, оставшись с нею вдвоем на несколько минут.
— Ничего, Мари, тебе показалось. Я себя хорошо чувствую, — успокаивала ее Элен, стараясь справиться со своей тоской, быть такою, как все. Но на сердце было тяжело. Кажется, все бы отдала, лишь бы хоть издали увидеть его, Пестеля, услышать дорогой голос.
— Нет, ты что-то скрываешь от меня, — сказала Мария, глядя на юную сестру и не понимая причины ее грусти. — И я не успокоюсь, пока ты мне не скажешь.
— Ну что ты выдумываешь, Мари? — засмеялась Элен, и щеки ее покрылись румянцем. — Мне нечего от тебя скрывать. Просто почему-то сделалось грустно. Может быть, потому, что ты уходишь от нас... в чужую семью.
Она замолчала, равнодушно глядя на толпу гостей в зале. К счастью, заиграл оркестр, и опять начались танцы.
Подошел Волконский, что-то тихо сказал Марии. Элен не расслышала, что именно, — в этот момент ее пригласил на мазурку князь Барятинский.
Марию увлекал вперед стремительный поток. Казалось, неудержимая сила несет ее в ту загадочную страну, где она не раз бродила во сне, несет на остров, где живут рыцари и их избранницы. Ее тоже украл рыцарь, он умчит ее в царство сказки. Мария зажмурила глаза и боялась открыть их, чтобы не пропало то ощущение легкости, от которого замирало сердце. Она точно опьянела от волшебных звуков, улыбающихся лиц, приветливых взглядов.
— Ты не устала, дитя мое? — Мария почувствовала знакомое прикосновение теплой материнской руки.
Волконского увели с собой Орлов и Репнин, рядом с Элен она увидела раскрасневшегося от танца Барятинского, отца окружили генералы.
— Устала, — призналась Мария.
Ей хотелось прижаться к матери, самому дорогому на земле человеку, но это невозможно было сделать на людях, к тому же ей, молодой, в фате. Она принадлежала сейчас не себе, а гостям, приехавшим ее поздравить.
Мать Марии Софья Алексеевна, в девичестве Константинова, приходилась внучкой Михаилу Ломоносову. Она была достойной подругой Николаю Николаевичу Раевскому, прекрасной воспитательницей детей, заботливой хозяйкой. Софья Алексеевна смотрела на Марию так, как всегда смотрят матери на детей, покидающих родное гнездо.
— Ты счастлива, дочка? — спросила она; спросила не только губами, но сердцем, стараясь прочитать в агатовых глазах Марии то, что не любит открывать юная душа.
— Да, мама, — улыбнулась в ответ Мария, но улыбка у нее была какая-то грустная, не такая, какую хотела бы видеть мать. — Страшно расставаться... Все так неожиданно...
— Ты будешь часто к нам приезжать, — утешала Софья Алексеевна дочь. — Князь увезет тебя в Умань, это недалеко. Да и мы знаем туда дорогу.
Говоря эти простые слова, она хотела скрыть чувство, охватившее ее еще в тот день, когда князь попросил руки дочери. Как-то сразу пришли и радость, и тревога, и грусть. Прекрасно, что Мария выходит замуж за достойного человека и будет счастлива. Но ведь она вылетит из родного гнезда и уж никогда туда не вернется...
Глаза заволокло слезами. Хорошо, что к Марии подбежали сестры и подруги и мать могла оставить ее с ними. Они весело щебетали, слегка опьянев от музыки, новых знакомств и тех почти неуловимых взглядов, которые красноречивее всяких слов. Этот вечер всех щедро осыпал хмелем, потому так горели глаза и так громко бились юные сердца.
Князя Барятинского окружили молодые люди — он смешил их, рассказывал забавные истории.
Поодаль стояли Юшневский, Давыдов, князь Нарышкин, генерал-адъютант Киселев и командир Ахтырского гусарского полка Артамон Муравьев.
— Завидую им. Юность — лучшая пора жизни! Недаром пииты всех времен слагали и будут слагать оды в ее честь, — оказал Юшневский, поглядывая на группу молодежи. — Непосредственность, чистая вера и непорочные идеалы. Ведь это самое ценное из всех богатств человеческой души.
— Однако, Алексей Петрович, — заметил Киселев, — у юности тоже есть своя ахиллесова пята — волнения, разочарования. Ведь и весной случаются грозы, штормы, ураганы.
— Ну и что же? Весенняя гроза отшумит и пройдет. Подбодрит, придаст свежих сил, а это на пользу. Так приобретается опыт, который в старости мы называем мудростью, — защищался Юшневский, он был не согласен с мнением начальника штаба Второй армии.
— Каждому поколению присущи свои идеалы, — сказал Артамон Муравьев, — свои взгляды, мечты, желания. Не так ли, гусар? — повернулся он к Василию Давыдову, искавшему кого-то взглядом в живом потоке гостей, который то с шумом устремлялся в залу, то разливался по тихим смежным комнатам.
— А какие идеалы у современной молодежи? — полюбопытствовал Нарышкин, обращаясь к Киселеву.
Генерал-адъютант ответил не сразу, — наверное, подбирал наиболее точные слова. Между тем от группы молодежи долетело:
— «А нет ли у вас чего-либо такого, что подлежит обложению пошлиной?» — спрашивает чиновник священника, сидящего около большой корзины с бутылками. «Нет, нету», — качает головой тот. «А что в ваших бутылках?» «Святая вода», — твердо отвечает хозяин корзины, не глядя на приставалу чиновника. Но чиновник понюхал одну бутылку, другую, покрутил носом. «Да это же настоящий коньяк...» «Коньяк? — удивился священник, вставая и крестясь. — Слава всевышнему! Он, как в Канне Галилейской, превратил воду в вино...»
Смех, шутки.
— Передовые люди всегда желали видеть свою отчизну среди просвещеннейших и культурных держав. Таков был их идеал, — сказал Киселев Нарышкину, отвечая на его вопрос. — И я не ошибусь, если скажу, что к этому стремится и нынешняя молодежь. Благо России — вот о чем все мечтают!
— К сожалению, Павел Дмитриевич, — вздохнул Юшневский, — мечты остаются мечтами.
На его моложавом, почти без морщин, лице появилась ироническая улыбка.
— Так было до сих пор. Однако где гарантия, что и впредь все останется без изменений? — произнес Давыдов с такой уверенностью, словно от него зависело, что возьмут с собой в дорогу эти веселые и беззаботные молодые люди. — За Россию отвечаем не только мы, но и они, — кивнул он в сторону тех, кто окружил Барятинского. — Если они это поймут, мы назовем их достойными сынами.
— Господа, здесь не место для философских дискуссий, — сказал Киселев, словно боясь, что кто-нибудь подслушает их разговор. — Как-никак свадьба, люди веселятся.
Начальник штаба Второй армии не принадлежал к членам Тайного общества, однако любил послушать их разговоры, сочувственно относился к мечтателям, которые собирались в Тульчине по вечерам и, прямо высказывая республиканские взгляды на государственное устройство, критиковали Александра Первого, обещавшего на открытии польского сейма провести некоторые реформы. Потом император не раз подтверждал свое обещание в беседах с сенатором Новосильцевым, но оно так и осталось невыполненным. При дворе считали лучшим не вспоминать об этом.
— Господа, приглашаю на котильон! — донеслось из залы, и все поспешили принять участие в торжественном танце.
В котильон входили вальс, полька, мазурка. Это был апофеоз бала, его вершина, как бы краткий просмотр танцев, торжество волшебного искусства.
Начинать котильон выпала честь Николаю Николаевичу Раевскому. Он пригласил Нарышкину Елизавету Петровну, дочь своего старинного друга по кампании 1812 года Петра Коновницына, к которому относился с большим уважением как к одному из прославленных полководцев суворовской школы.
Вели котильон торжественно, движения танцующих отличались грациозностью, все вкладывали в этот заключительный аккорд вечера не просто умение, но талант и опыт, приобретенный на прежних балах.
После веселого ужина гости начали разъезжаться. На дворе светало, край неба на востоке порозовел, деревья стояли как умытые и четко вырисовывались на фоне белых снежных ковров, которые январь разостлал в честь молодых по всей земле.
Проводив гостей, Мария и князь Сергей не пошли в дом. Не хотелось возвращаться в душные комнаты. Лучше встретить первое утро супружеской жизни не в четырех стенах, а на приволье.
Семья, тревоги, радость материнства... Какие все это относительные понятия! Не сердцем, а разумом воспринимала их Мария, но все-таки с трепетом ожидала будущего загадочного счастья.
Они шли по парку, шли навстречу неведомому, таинственному. Прохладный ветерок целовал Марию в лицо и точно баюкал ее, покачивая на волнах юности. Ночь незаметно отступала, давая дорогу новорожденному утру.
Марии все казалось необычайным, не таким, как вчера, словно чья-то невидимая рука неожиданно отворила дверь в царство, окутанное тайной. Об этом царстве нельзя было узнать даже из самых умных книг, авторы которых в романтическом свете описывают рыцарей и их неземную любовь.
Шли молча, погруженные в свои думы. Где-то топали подкованными копытами по мерзлой земле лошади, просыпались люди, оживали дома.
— Мари, вам не холодно? — нарушил молчание Волконский, нежно пожимая теплую руку жены. И смотрел на ее разрумянившееся от мороза лицо.
— Нет, мне хорошо, — отвечала она, благодарная за ласку, радуясь этому необыкновенному утру и вообще торжествовавшей вокруг жизни. — У меня такое чувство, словно я все вижу впервые. И эти деревья, и это облачко в сиреневой дымке, и даже снежные сугробы. Такое впечатление, будто я открыла окно в дивный уголок, о котором раньше и не подозревала, — призналась она, первый раз поверяя ему свои мысли. — Наверное, это потому, что я никогда не выходила так рано встречать свое утро, — прибавила Мария шутливо.
— А теперь это наше утро, — взволнованно произнес Волконский, любуясь женой и все еще не веря своему счастью. Он не мог оторвать взгляда от черных угольков, горевших на ее смуглом румяном лице.
— В такие минуты хочется, чтобы все люди на земле были счастливы, — тихо промолвила Мария. И умолкла, стыдливо прикрыв густыми ресницами глаза.
— Желать людям счастья — это щедрость, Мари! Я так люблю вас, что, кажется, еще никто из смертных не испытывал столь сильного чувства. Это неповторимо.
Они остановились в конце парка под старым деревом. Небо все разгоралось и вдруг разом вспыхнуло, точно кто-то бросил на горизонт сноп искр. Алые лучи легли на белое поле, подобно вышитым рушникам, которые стелют под ноги молодым, когда они дают обет верности.
Отблеск зарева упал и на лицо Марии.
— Как хорошо жить, встречать солнце, мечтать, — негромко проговорила она.
Волконский нежно прижал ее головку к своей груди. Он был горд и безгранично благодарен судьбе, пославшей ему эту хрупкую женщину, самую лучшую на свете. Так они и стояли вдвоем, и их первое утро посылало им свой привет.
Александр Первый чувствовал себя неважно и почти не слушал рапорта дежурного генерала о том, что произошло в столице за последние сутки.
Генерал монотонно рубил слова, а Александр думал о своем. Время, отведенное для государственных дел, было самым тягостным и скучным, от них у него всегда портилось настроение.
«Может быть, я старею? — пришло ему на ум, но эта мысль вызвала раздражение. — Глупости, еще и пятидесяти нет. Хотя следует признать, что монархи почему-то преждевременно стареют. Вернее, они недолговечны. И умирают раньше времени — не угодят гвардии, дворянству или кому-нибудь из претендентов захочется занять трон, не дожидаясь своего срока. Впрочем, мне это не грозит... Но на душе тоскливо. Почему бы это? Разочарование? Нет, у меня добрая слава, мне завидуют короли, монархи и благодарная за «Священный союз» Европа. Отныне революция никому не угрожает, голова ни одного венценосца не упадет под секирой. Любое революционное движение будет задушено прежде, чем наберется сил. И все же я не чувствую радости и нет покоя. Просто утомление? Да, наверное. Все надоело. А может быть, и я, подобно другим венценосцам, боюсь революции? Ведь революция — как проказа. Из Европы легко может перекинуться в Россию. Поляки ненадежны. Нужен глаз да глаз, чтобы вовремя пресекать возможные эксцессы. В Варшаве Константин начеку, на его бдительность можно положиться. Обширным умом он похвастать не может, зато в коварстве и хитрости не уступит иезуитам. Государственного деятеля из него никогда не получится, но может выйти неплохой Лойола. Мои братья туповаты, однако честолюбивы и ради личной выгоды не остановятся ни перед чем. В венок славы нашего дома они не вплетут ни одного лаврового листка. Пьяницы, гуляки. Завидуют мне и боятся. А в душе высчитывают, когда наконец я освобожу престол. Вечная трагедия царствующего дома, где несколько наследников. Виновата матушка, родившая четверых сыновей. Быть может, я был бы счастливее, если б родился только для того, чтобы жить, а не царствовать?»
Дежурный генерал окончил доклад и ждал распоряжений. Александр на минуту отвлекся от своих размышлений, взглянул на него так, словно только что заметил этого не по летам тучного, коренастого человека в генеральском мундире. Заученным кивком головы подал знак, что аудиенция окончена и никаких приказов сегодня не будет.
Генерал вышел. Оставшись в кабинете один, Александр откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он любил так отдыхать. Медленно, как за окном облака, плыли мысли. Становилось душно, — наверное, собиралась гроза. Может быть, поэтому испортилось настроение и болело сердце?
Вошел флигель-адъютант граф Мантейфель, доложил о генерале Клейнмихеле, который уже второй раз добивается аудиенции. Принимать его не хотелось, но что поделаешь, императору приходится выполнять свои обещания.
Высокий, худой, с удлиненным лицом и выступающими скулами, Клейнмихель своим видом напоминал человека, только что поднявшегося с постели после длительной болезни, хотя на самом деле он на здоровье не жаловался.
— Я слушаю вас, генерал! — промолвил Александр, окидывая утомленным взглядом костлявую фигуру обрусевшего немца.
— Ваше величество, я просил аудиенции по делу сугубо политическому, — произнес Клейнмихель с заметным акцентом, к тому же плохо выговаривая букву «р». — Граф Аракчеев лично поручил мне доложить вашему величеству об этом весьма и весьма конфиденциальном деле.
Александр кивнул, набравшись терпения выслушать и этого генерала.
Дело, с которым явился во дворец Клейнмихель, было и в самом деле срочным и имело государственное значение. Унтер-офицер Третьего Украинского уланского полка Шервуд прислал своему земляку лейб-медику Виллие письмо, в котором просил замолвить за него слово перед императором. Шервуд, как верноподданный, имел открыть монарху важную тайну — о существовании в армии заговора, к которому причастны даже офицеры высших рангов.
Виллие, не смея беспокоить Александра, рассказал обо всем Аракчееву, как правой руке монарха. Тот немедленно послал за Шервудом фельдъегеря, и угодливого информатора привезли в Грузино.
Подробно расспросив англичанина, Аракчеев приказал ему тщательно выведать, кто именно причастен к заговору, какова цель преступников, что за программа у этого тайного объединения и имеется ли у него что-либо общее с запрещенными императором масонскими ложами. Велел все узнать и доложить ему лично. И посоветовал британцу действовать осторожно, дабы не вызвать подозрения у заговорщиков. Надлежало любой ценой войти в доверие к революционерам и узнать, что они задумали.
Граф уверял, что его услуга не останется без вознаграждения, ибо император никогда не забывает людей, кои служат ему и престолу российскому. Чтобы поощрить Шервуда и привлечь его на свою сторону, Аракчеев пообещал добиться для него аудиенции у императора.
Это дело было поручено Клейнмихелю.
Выслушав генерала, Александр приказал немедленно доставить Шервуда во дворец.
— Ваше величество, я его привез. Он ждет вашего позволения...
Британца впустили в кабинет императора.
— Рассказывай все! — приказал Александр.
Сын Альбиона был не на шутку испуган, у него дрожали губы и подергивалась левая бровь. Однако он говорил без акцента, наверное, заучил свою речь наизусть, помня приказ Аракчеева во что бы то ни стало заслужить расположение монарха.
— С кем из заговорщиков ты лично знаком? — спросил царь после того, как Шервуд рассказал о случайно подслушанном разговоре между Пестелем, Давыдовым, Поджио и Бестужевым-Рюминым.
— С бывшим кавалергардом, а ныне прапорщиком Нежинского конно-егерского полка Вадковским мы близкие друзья, — уже смелее отбарабанил Шервуд.
Клейнмихель, похожий на каменную статую, стоял поодаль. Он не вмешивался в разговор и как будто даже не прислушивался к нему.
— Кроме вышеупомянутых особ кто еще принадлежит к этому преступному гнезду?
— Со слов прапорщика Вадковского мне известно, что недавно в члены Общества принят граф Захар Чернышев. Об остальных я не решился расспрашивать, дабы не вызвать подозрений. Но будь на то ваша воля, я не пощажу собственной жизни, чтобы все узнать и доставить вам список преступников, а также тех, кто им сочувствует и поддерживает их.
Александр похвалил Шервуда за верноподданнические чувства.
— Рад служить вашему величеству.
— Граф Аракчеев дал тебе указания, как действовать дальше и кому сообщать новые сведения?
— Да, ваше величество.
— Тогда поезжай в полк и действуй. Бог благословит тебя на подвиг, а мы не забудем твоей службы, твоей верности престолу нашему.
Клейнмихель и Шервуд вышли.
Александр приказал никого не пускать, флигель-адъютант тщательно притворил дверь.
Александр опять закрыл глаза, словно задремал. Перед ним возникали и исчезали картины одна другой тревожнее... Еще раньше какой-то Грибовский в записке на высочайшее имя уведомлял, что в армии существуют тайные кружки. Однако ничего конкретного он сообщить не мог и не назвал ни одного имени. Поэтому Александр не придал особого значения его донесению.
Тем не менее князь Васильчиков сразу после семеновской истории представил проект касательно организации так называемой военной помощи; осуществлявшие ее подчинялись непосредственно императору. Проект был принят, для проведения его в жизнь ассигновали сорок тысяч рублей — надо было содержать и поощрять лиц, которым поручался тайный надзор за офицерами всех рангов, вплоть до самых высших. Во Второй армии создали тайную полицию, о которой знал только начальник штаба Киселев. Командиру Двадцать пятой пехотной дивизии генерал-лейтенанту Гогелю были даны особые полномочия, чтобы следить за настроениями в Первой армии. Наконец, графу Витту, начальнику военных поселений на юге, поручили обратить сугубое внимание на Херсонскую и Киевскую губернии.
«Кажется, были приняты надлежащие меры. Наверное, они оказались недостаточными, если тайные кружки продолжают свою пагубную деятельность, и, может быть, число их растет не только на юге, но и в столице, и полиция ничего не замечает».
И в воображении Александра рисовались картины восстаний, в которых принимают участие бригады, дивизии, вся армия. Семеновская история на этом фоне выглядела невинной забавой.
«Надо что-то делать! — эта мысль не давала ему покоя. — Но что именно? — спрашивал он себя, пытаясь найти ответ. — Что? Когда-то были Преображенский приказ, Канцелярия тайных розыскных дел, Тайная экспедиция... Потом их закрыли. А жизнь доказала, что подобные организации нужны государству. Ибо либерализм не что иное, как обратная сторона якобинства. Он привел к волнениям в Испании, Неаполе, Греции. Все эти Рафаэли Риего, Квироги, Ипсиланти мыслят равно с российскими либералами. А восстание военных посоленцев — разве это не результат того же вольнодумства? Нет, прочь мягкосердечие, милосердие! Без сожаления уничтожать все, что противно монархии, что ущемляет божественное право занимать престол. Нужно непременно посоветоваться с графом Алексеем Андреевичем. А еще лучше, если бы он использовал в этом деле весь свой талант. Это единственный друг, на которого можно положиться. «Без лести предан»! Наверное, он тоже устал от всех этих историй — сначала семеновская, потом чугуевская. А теперь вот откопал британского механикуса. Нужно спросить у Дибича, кто такой Вадковский. Из кавалергардов, но я что-то его не помню. Неужто меня окружают недруги и злоумышленники? Это ужасно! Однажды ночью они могут прийти и ко мне, как когда-то к отцу... И кто-нибудь снимет шарф или аксельбант и начнет душить... Где уверенность, что те, кому я поручил армию, не мои личные враги? Если верить Шервуду, заговорщики посягают на мою жизнь. А потом двинут полки, уничтожат монархию. Я еще не забыл Михаила Орлова с его Шестнадцатой дивизией. И майора Раевского, который служил под начальством Орлова и готовил революционеров из младших офицеров и нижних чинов. Я помню...» — процедил он сквозь зубы.
Александр вспомнил, как Михаил Орлов, назначенный командовать дивизией, на третий день по приезде в Кишинев собрал офицеров и произнес перед ними речь, в которой выразил свои взгляды относительно обращения с подчиненными:
«Я буду считать недругом всякого офицера, который употребит свою власть для того, чтобы издеваться над солдатами. Воля моя тверда, господа, и ничто не изменит моего взгляда на этот предмет. Тиранить нижних чинов не помышляю; сию позорную честь отдаю тем начальникам, кои о собственной пользе пекутся более, нежели о благоденствии защитников отчизны. Господа офицеры должны быть уверены, что тот из них, кто отличится жестокостью, будет навсегда отстранен от командования. Что касается меня, то я честного солдата почитаю своим другом и братом...»
Не забывал Александр и о Владимире Раевском, тираспольском узнике, время от времени осведомляясь о нем у барона Дибича. Барон всякий раз отвечал: «Молчит, ваше величество, никого назвать не желает». Александр гневался: «Не выпускать из каземата! Держать на суровом режиме. Кормить так, чтобы только не умер с голоду. Прогулки отменить. Заковать в кандалы...»
Да, он все помнил...
Александр стремительно поднялся, осторожно оглянулся по сторонам, хотя знал, что в кабинете, кроме него и мраморной богини в углу, никого нет. Потер платком залысины, лоб.
«Такие, как Раевский, могут убить и меня. У них рука не дрогнет. Что, если их много? И главное — я не знаю их имен. Быть может, они притаились в моем дворце и только ждут подходящего случая. Что тогда?..»
Чтобы успокоиться, он прошелся по кабинету. Потом остановился у окна. Будочники зажигали фонари, вечер торопливо окутывал сумерками серые улицы. На Неве зловеще поблескивали волны, играя с лодкой какого-то рыбака. С юга надвигалась туча, по ней, разрезая ее надвое, пробежала тоненькая молния. Приближалась гроза.
Александр не велел зажигать огня. Он стоял у окна, сердце его сжимала тревога.
Свеча догорела.
Двадцатипятилетний подпоручик Восьмой артбригады Борисов сейчас был мало похож на военного. На нем была крестьянская рубаха, волосы растрепаны. Он поднял голову от бумаг, положил перо возле чернильницы. Погасив огарок, зажег новую свечу.
Над столом повисло серое облачко дыма, запахло воском.
Подпоручик опять склонился над листом бумаги.
«...А еще советую тебе, Андрей, вернуться на службу, чтобы за выслугу получить пенсион и быть обеспеченным на старости лет. Особенно советую сделать это, не теряя времени. Приезжай ко мне. Воспользовавшись знакомством с влиятельными особами, ты займешь вакансию если не в нашей бригаде, то в каком-нибудь полку нашего корпуса. Мы не богаты. Чтобы содержать себя и хоть немного помочь родителям, приходится служить...»
Братья Борисовы только считались дворянами. У их отца не было ни поместья, ни крепостных. Сначала он преподавал в Морском кадетском корпусе в Петербурге, потом — в Черноморском штурманском училище. В 1804 году вышел в отставку, получил пенсион — двести рублей в год. Вот и весь достаток. А в семье кроме старшего, Андрея, поручика в отставке, и Петра, служившего в Восьмой артбригаде подпоручиком, были еще две дочери и младший сын.
Борисовы жили в селе Боромле, Ахтырского уезда. Жили бедно, снимали квартиру. Чтобы прокормить семью, отец подрабатывал, чертя архитектурные планы для местных помещиков и купцов.
Отец сам учил Андрея и Петра русскому языку, истории, математике, географии и астрономии, прививал любовь к греческим и римским классикам, особенно к Плутарху, Корнелию Непоту, Вергилию, а также к древним и современным философам.
Жизнеописания Плутарха и Непота и отзвук Французской революции, докатившийся до России, оказали большое влияние на формирование мировоззрения молодых Борисовых, положили начало их демократическим взглядам на жизнь и государственное устройство, посеяли в юных душах сомнения относительно божественности и незыблемости абсолютизма как вечного субстата.
В 1816 году братья поступили юнкерами в Пятьдесят вторую легкую роту Двадцать шестой артиллерийской бригады. Эта бригада была расквартирована в селе, и юноши воочию увидели весь ужас крепостничества.
Неприкрытое рабство, самовластие одних и бесправие других произвели на них угнетающее впечатление. Братья поклялись посвятить жизнь борьбе за свободу и избавление крестьян от помещичьего ига.
Так постепенно рождался протест против несправедливости существующего порядка и против самого божьего помазанника — тирана, самодура с его пруссацкой муштрой и жестокими расправами за малейшую провинность.
Действительность каждый день давала доказательства несовершенства законов и государственного строя, при котором жили миллионы людей. Жили как рабы, лишенные элементарных человеческих прав.
Некоторое время спустя Борисовы перешли на службу в Восьмую артбригаду, стоявшую в Новоград-Волынске, небольшом городке, где текла однообразная, скучная провинциальная жизнь. Сюда закованным в кандалы привезли под надзор полиции польского шляхтича Юлиана Казимировича Люблинского, принадлежавшего к тайному союзу. Люблинский и его товарищи не желали жить под опекой русского Царя и добивались независимости Польши.
Борисовы познакомились с Люблинским, таким же юным, как они, таким же пылким и непримиримым. Юлиан вместе с матерью поселился в небольшом домике на тихой улице, которая вскоре стала для Борисовых почти родною.
В погожие дни они втроем ходили в лес, любовались дивной природой Полесья, прекрасного в любое время года. Говорили на разные темы, но больше всего на политические; молодые сердца горели возмущением против жестокой действительности.
Однажды Борисовы рассказали Люблинскому о тайном обществе «Друзей природы», основанном одним из братьев — Петром Ивановичем. Юлиан скептически заметил, что задачи, которые ставит перед собой это общество, слишком мелки. Надо бороться против национальной вражды, за объединение всех славянских племен в одной республике, независимой и сильной своим единством. Вот цель, к которой должно стремиться не только нынешнее, но и будущие поколения. Во имя этой цели можно без раздумий отдать жизнь.
Слова Юлиана глубоко запали в душу Борисовых. Он как будто открыл глаза обоим братьям, искавшим путь борьбы за свободу угнетенных и притесняемых. Теперь они подолгу разговаривали, спорили и наконец сочинили «Катехизис». В «Катехизисе» излагалась программа Тайного общества и определялась цель, ради которой его члены объединились.
Составители «Катехизиса» мечтали о федеративном союзе славянских республик: он должен был сплотить русских, поляков, богемцев, далматов, сербов и моравов. Украинцев они не считали отдельной национальностью, а полагали частью русского народа, хотя в тот исторический период как раз начиналось возрождение украинской нации и в передовых кругах встал вопрос о самостоятельном Обществе, которое подняло бы знамя освобождения закрепощенной Украины из-под власти русского царя и помещиков.
Поскольку речь шла об объединении славянских народов, вновь созданный союз назвали Обществом соединенных славян. Предполагалось, что каждое государство, входящее в славянскую федерацию, установит у себя демократическую форму правления, а руководить федерацией будет конгресс из представителей всех национальностей. В отношении внутренних дел республики должны были быть совершенно независимы и имели право издавать законы и устанавливать свои порядки.
Много внимания в «Ватехизисе» уделялось вопросам просвещения, экономического развития, культуры, высокой нравственности и равенства народов, сплоченных в один союз.
Так появилась на Правобережной Украине еще одна тайная организация — Общество соединенных славян — во главе с Петром Борисовым и Юлианом Люблинским.
Первыми в это Общество вступили прапорщик Восьмой артиллерийской бригады Владимир Бечаснов, подпоручики Иван Горбачевский и Яков Андреевич, а вслед ва ними — капитан Пензенского пехотного полка Алексей Тютчев, поручик того же полка Петр Громницкий, майор Михаил Спиридов.
Были приняты еще молодые офицеры Черниговского пехотного полка штабс-капитан Вениамин Соловьев, поручики Анастасий Кузьмин, Иван Сухинов, Михаил Щепилло и другие. Эти люди в основном не принадлежали к аристократии; все они были горячо преданы делу Общества.
Поссорившись с командиром бригады, старший Борисов подал в отставку и поселился в Боромле. Петр Иванович, видя, как нуждается семья, все время подыскивал брату вакантную должность в полках Первой армии.
Наконец ему обещали. И вот он писал Андрею длинное письмо, предлагая ему немедленно приехать. Вдвоем они могли бы больше помогать родителям и сестрам.
Петр Иванович хотел также посоветоваться с братом касательно некоторых вопросов. Этот намек относился к Обществу. Петр Иванович был уверен, что Андрей догадается, о чем идет речь, и, не теряя времени, приедет.
Потрескивала свеча, горячими каплями оплывал воск, двигались на стене тени, а за окном медленно таяла ночь, и на востоке уже розовел край неба.
На другой день Борисова навестил капитан Тютчев. Петр Иванович обрадовался гостю, приказал подавать завтрак, но Алексей Иванович отказался от угощения и только попросил холодного вина или пива.
— А я, мой друг, помимо всего прочего пришел к тебе и по делу, — сказал гость, устраиваясь на старой софе. — Тебе известно, что кроме нашего существует еще общество — так сказать, «Южное»? К сожалению, мне не удалось подробно разузнать, что это за организация, потому что, как ты сам понимаешь, все держится под большим секретом. Но я уверен, что то общество больше нашего и уже выработало свою конституцию. Вот я и подумал: а почему бы нам не познакомиться с ними поближе и даже не объединиться, если окажется, что наши взгляды и цели совпадают?
На Борисова эта новость произвела большое впечатление. Значит, не только они поднялись на борьбу с абсолютизмом? А если так, то, в самом деле, почему бы не узнать, что представляет собой тот союз, какую цель он преследует — ну, и так далее...
Они долго беседовали. Тютчев предложил пригласить к себе представителя Южного общества и обо всем с ним договориться.
Петр Иванович не согласился:
— Надо сначала обсудить этот вопрос с товарищами, а уж потом действовать. Как-никак придется нарушить тайну, конспирацию.
Тютчев возражал против чрезмерной осторожности. Ведь речь шла о встрече с единомышленниками: по его мнению, не было оснований остерегаться провала организации.
— Поручи это дело мне, — сказал капитан, уверенный, что отлично справится с подобной миссией и доложит своему Обществу о результатах разговора с членами неизвестного до сих пор союза.
Посоветовавшись с друзьями, Борисов согласился. Решили предложить южанам организовать встречу в лагерях, где соберутся на маневры полки Третьего корпуса. Тогда легко будет увидеться, ни у кого не вызывая подозрений. А тем временем Тютчев должен был среди знакомых офицеров разузнать как можно больше о «южанах».
Пестель в крайнем возбуждении шагал по комнате. Василий Давыдов сообщил, что граф Витт, начальник военных поселений на юге, просит принять его в Общество.
«Невероятно! Как отнестись к подобной просьбе человека, близкого к Аракчееву? Ведь это его единомышленник, сторонник плана превращения России в казарму, в настоящую казарму, с муштрой и жестокой дисциплиной. Как расценить этот шаг графа Витта? Провокация? Или желание искупить свои грехи перед Россией? — в тревоге спрашивал себя Пестель. — Разумеется, такой человек мог бы принести пользу Обществу. Военные поселения — это же пороховая бочка! Упадет искра — и вспыхнет пожар, не скоро и потушишь. Тем паче что уже есть некоторый опыт — волнения чугуевцев. Военные поселенцы еще в худшем положении, нежели крепостные крестьяне. Настоящие рабы, живущие в аракчеевском аду. Только сатана мог додуматься до такого унижения человека, до такого издевательства над ним. Из человека вынули душу живу, оставили лишь тело, чтобы он по команде двигался, работал, молился за царя и Аракчеева. Доведенные до отчаяния люди пойдут на смерть, лишь бы вырваться из-под этого страшного ярма. Вот благодатная почва, на которой щедро взойдут семена свободы. И если бы граф стал нашим искренним сторонником, у нас был бы под рукой порох, с помощью которого можно взорвать монархию. Но почему вдруг граф Витт проникся идеями, чуждыми его натуре? Кто ему раскрыл наши тайны? С какой целью?»
Вопросов много, а в ответ одни сомнения.
Получив от Давыдова это сообщение, Пестель сейчас же послал майора Лорера в Тульчин за Юшневским, чтобы вместе с ним обсудить просьбу графа.
В тот день у Пестеля все валилось из рук, он ничего не мог делать, ожидая своего верного помощника и советчика в делах Общества. Подсознательная тревога, сомнения в чистосердечии Витта, опасения, что, быть может, графу уже известно об Обществе больше, чем должно знать человеку постороннему, не давали ему покоя.
Несколько раз он брал с полки книгу, но, перевернув две-три страницы, убеждался, что читать не может, мозг ничего не воспринимал.
Он глядел в окно или выходил на крыльцо — посмотреть, не возвращается ли Лорер. Пестель знал, что и Юшневский не скажет ничего утешительного, однако ему почему-то казалось, что приезд друга развеет если не все, то по крайней мере многие сомнения.
Юшневский и Лорер приехали во второй половине дня. С ними была и жена Алексея Петровича — Мария Казимировна, веселая, обаятельная женщина, еще молодая, с правильными чертами лица. Глаза ее, казалось, не знали, что такое печаль, в них всегда светились приветливость и доброта.
Пестель вышел на крыльцо встречать гостей, обнял Алексея Петровича, поцеловал руку Марии Казимировне, пригласил в дом и стал потчевать обедом.
Юшневский пытливо поглядывал на друга, чувствуя, что не из-за пустяков он послал к нему Лорера. Но терпеливо ждал, когда хозяин сам начнет разговор.
Выпили чаю, отведали наливок. Понимая, что мужчинам нужно поговорить, Мария Казимировна заторопилась по каким-то своим делам. И Лорер ушел к себе, оставив Пестеля с Юшневским.
Тогда Павел Иванович рассказал, в чем дело.
Юшневский ответил не сразу. С минуту стоял, задумавшись, глядя на вишню за окном. Его неприятно поразило услышанное.
— Да, — покачал он головой, — это неспроста. Мы иной раз преступно неосторожны, а этим пользуются недруги. Вот чего я особенно боюсь. Что же касается Витта, тут чистейшей воды провокация!
— Витт уверяет, что по приказу Общества выставит сорок тысяч штыков — он имеет в виду своих поселенцев. А это сила. И немалая.
— Боюсь, что все эти сорок тысяч граф повернет против нас и революции. Если только Аракчееву не удастся раньше накинуть нам на шею петлю.
— Дело серьезное. — Пестель потер рукой лоб. — И не придумаешь, как отделаться от этого типуса. С одной стороны — сорок тысяч обиженных и угнетенных, которых можно использовать во имя республики, с другой — угроза провалить все дело, поставить под удар жизнь товарищей. Что Витт неискренен, сердцем чувствую. Логика подсказывает — он затеял какую-то хитрость. Надо ответить, что он-де ошибся. Давыдову ничего не известно о каком-либо союзе, к тому же преступном. Все это фантазии шутников.
— Витт, разумеется, не поверит и обязательно уведомит обо всем императора — через Аракчеева, с которым он переписывается. Однако другого выхода нет. Так и надо написать Давыдову.
На том и порешили. Но тревога не проходила.
Четыре дня прогостили Юшневские у Пестеля. После завтрака Павел Иванович и Лорер уходили на службу, Мария Казимировна отправлялась к знакомым или еще куда-нибудь. Юшневский присаживался к столу и начинал переписывать с черновиков Пестеля новые параграфы «Русской правды». Иногда ему помогал Лорер, у которого рукопись хранилась на случай внезапного обыска.
По вечерам они засиживались допоздна, обсуждая каждый параграф, споря и в конце концов находя приемлемую формулировку. «Русская правда» должна была охватить все вопросы, касающиеся нового строя, должна была все предвидеть, стать первоосновой республики. Они хотели, чтобы «Русская правда», глубокая по содержанию, была доступна и понятна всем слоям общества. Хотели, чтобы люди поняли, как велики демократические права, которые будущая республика дарует народам России.
— Нужно все выразить твердо и точно, — говорил Пестель друзьям. — Пусть люди не только видят сегодняшний день, но и представляют себе будущее республики: ведь за нее, быть может, придется пролить кровь. Я часто думаю о Французской революции и хочу все предвидеть, чтобы не повторить в России ошибок французских революционеров. Французы дорогой ценой добыли свободу, а потом снова попали под ярмо.
Все трое одобрили намерение Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина завязать отношения с Обществом соединенных славян, чтобы впоследствии присоединить его к Южному.
Юшневскому не хотелось возвращаться в Тульчин, а Пестелю — отпускать друга из Линцов. Самый старший по возрасту среди членов Общества, Юшневский пользовался завидной репутацией как у пожилых, так и у молодых офицеров. В его характере были черты, привлекавшие всех с первого знакомства; лицо его, казалось, излучало доброжелательность.
Накануне отъезда из Линцов Юшневский и Пестель до поздней ночи сидели на крыльце. Зашел за тучу месяц, огромная тень укрыла площадь серым одеялом. Потемнели вишенники, более четко вырисовывались белые хаты, спрятавшие под своими кровлями крестьянское горе.
— Удивительное, необыкновенное создание человек, — задумчиво произнес Юшневский. — Нет числа характерам, вкусам, привычкам, взглядам. Любовь и ненависть, восторг и разочарование, правда и несправедливость, гуманизм и жестокость. И все это в человеке, созданном по образу и подобию господа бога! Рядом с гением живет преступник, а мы почему-то даже не задумываемся над этими парадоксами. И молча проходим мимо, когда надо звать и звать людей на борьбу со злом. Быть может, в меня вселился злой дух протестанта, но я не могу быть равнодушен. Не таким должен быть мир. Не таким должен быть человек — иным, духовно красивее, богаче. Ему бы летать, а не ползать. А вот как изменить человека — не знаю. В этом моя трагедия. Как знать, может быть, поэтому я смотрю на мир незрячими глазами.
— Друг мой, мечтатель! — Пестель обнял Юшневского и слегка прижал его к себе. — К сожалению, я тоже этого не знаю. Но верю, что после нас наступит другая эпоха и люди забудут, что на свете существовал абсолютизм — этот абсурд нашего времени. Те, новые люди не будут похожи на нас с тобой. Это будут люди просвещенные, сильные духом, люди высокой нравственности. А главное — они будут лишены пороков, свойственных нашему поколению. Вот тогда-то исчезнет ненависть, будет властвовать любовь и гению уже не придется жить рядом с убийцей. Ведь всякие уродства возникают от несовершенства общества. Я, как и Радищев, верю в светлое будущее человека. Если мы с тобой и не увидим новой России, то все-таки с гордостью в душе умрем за нее. И пусть маленькую, но внесем свою лепту в утверждение идеала, к которому стремятся все передовые люди. Ради этого стоит бороться, а если того потребуют обстоятельства, и умереть.
Они умолкли, вглядываясь в потемневшую тихую даль, откуда должно было взойти над этой обкраденной, оскорбленной землей солнце завтрашнего дня.
Неподалеку от Житомира, в местечке Лещине, предстояли маневры Третьего корпуса, которому должно было делать смотр высшее начальство. Полки Восьмой и Десятой дивизий еще в начале августа прибыли в назначенное место; ждали артиллерию и Третью гусарскую дивизию.
Черниговский полк расположился в сосновом бору, поблизости от Восьмой бригады. Сергей Муравьев-Апостол жил в просторном шатре под старыми, ветвистыми деревьями, окружавшими его со всех сторон, подобно суровым, недвижимым стражам. Из-за этого в шатре всегда стояла приятная прохлада, настоянная на пьянящих лесных ароматах. К шатру вела тропинка, обсаженная кустами георгинов: их привез из Василькова, посадил и каждый день старательно поливал Федор Скрипка.
В шатре тоже было много зелени и цветов, а вместо мебели Федор расставил пустые ящики и колоды, накрыв их цветастыми плахтами и коврами. И временное пристанище приобрело жилой вид, там даже стало уютно.
Вместе с Муравьевым-Апостолом жил Бестужев-Рюмин. Командир Полтавского пехотного полка Тизенгаузен не разлучал друзей, особенно в те дни, когда налаживались связи Южного общества со «славянами». Ждали общего знакомого, еще по Семеновскому полку, капитана Тютчева, который должен был договориться о встрече с руководителями «соединенных славян».
Сергей Иванович шагал по шатру, вслух удивляясь, как это он не догадывался, что рядом с ними существует еще одно тайное общество.
— Конспирация! — сказал Бестужев-Рюмин, перелистывая последний номер «Полярной звезды», привезенный из Петербурга знакомым офицером. — Действия «славян» достойны всяческого одобрения.
— Да, они умеют хранить тайны. Таких людей я уважаю.
— Впрочем, о нас «славяне» тоже узнали совершенно случайно. Благодаря Тютчеву. Да вот и он.
На пороге, приподняв рукой занавес, служивший дверью, стоял капитан.
— Пожалуйте, капитан, в наш дворец, — пригласил Сергей Иванович, идя навстречу гостю.
— Благодарю! В вашем дворце приятно, много зелени, — сказал Тютчев, садясь на ящик, стоявший у стола, покрытого вышитой скатертью. — Хорошо у вас, по-домашнему уютно, — опять похвалил он.
— Это заслуга нашего Федора. Он настоящий мастер по устроению нового жилища, — отвечал Бестужев-Рюмин, неваметно разглядывая капитана, который здесь, в шатре, почему-то казался другим, не похожим на того, с кем он недавно встречался.
— Среди простонародья, — заметил гость, — попадаются на диво одаренные, они даже в наших условиях создают вещи художественной ценности. В моей роте есть превосходный резчик. Из обыкновенного дерева вырезает изумительные скульптуры. Поразительно! Талант, не вовремя рожденный! Вместо того чтобы создавать красоту, учится маршировать по прусскому образцу.
— Это трагедия человека, имевшего несчастье родиться не в дворянском гнезде, а в жилище простолюдина.
— Просто удивительно, откуда у него столько вкуса, такое чувство меры, художественное чутье.
— Бог вразумляет слепцов. Может быть, здесь кроется причина? — пошутил Муравьев-Апостол.
Тютчев пожал плечами и ничего не ответил. Он, как и большинство офицеров, был склонен к скептицизму и не верил библейской премудрости.
Наконец разговор коснулся дел, которые явились причиной свидания обитателей этого шатра и капитана Пензенского полка. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин расспрашивали Тютчева о «славянах», он охотно отвечал. Из его ответов явствовало, что Общество славян окончательно сформировано в марте этого года в местечке Черняхове, но начало ему было положено еще несколько лет тому назад братьями Борисовыми и Люблинским.
Тютчев подробно рассказал, какова цель Общества, не утаил, что оно пока немногочисленно, но уже составлены правила, нечто вроде программы, в которых изложены его принципы и определена стоящая перед ним цель.
Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмив узнали все, что их интересовало. Главное состояло в том, что цель «славян» совпадала с целью «южан», а это сближало обе организации. Выходило даже, что кое в чем они копировали друг друга.
Вероятно, долго еще длилась бы их беседа, но неожиданно послышались звуки скрипки — это Федор предупреждал, что поблизости появились посторонние. Бестужев-Рюмин быстро вышел.
— Условный знак? — догадался Тютчев, вопросительно взглянув на насторожившегося Муравьева-Апостола.
— Да, — отвечал Сергей Иванович. — Осторожность прежде всего.
Вернулся Бестужев-Рюмин.
— Поручик Сухинов ищет штабс-капитана Соловьева, — сказал он.
— Ну, они свои люди, — успокоился Тютчев, беря в руки фуражку.
— Как свои? — удивился Сергей Иванович.
— Оба принадлежат к тому же Обществу, что и я, — по простоте душевной признался Тютчев.
Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин многозначительно переглянулись, но ничего не сказали.
Проводив капитана, Сергей Иванович опять стал шагать по шатру, размышляя о предстоящей встрече со «славянами». Он был озабочен.
«Наверное, среди них немало знакомых. Кто бы мог подумать, что Сухинов и Соловьев члены Общества славян! А я собирался привлечь их к нам... Ни единым намеком не выдали себя. Молодцы! Конспирация у них и в самом деле неплохо поставлена. Как видно, Борисов и Горбачевский умные люди».
В шатер заглянул Федор:
— Там к вам «семеновцы» пришли. Что им сказать?
— Пусть войдут!
Вошли четверо высоких, по-военному подтянутых солдат. Они были из числа тех, кого после семеновской истории разослали по всем полкам Второй армии без права выслуги. Служили они не в Черниговском полку, однако при случае всегда навещали подполковника, несли к нему свои горести и скупые радости — знали, что он внимательно выслушает, что-нибудь посоветует, а то и поможет в беде.
— Здравия желаем! — вытянулись солдаты, как по команде.
— Проходите, садитесь, друзья, — гостеприимно приглашал Сергей Иванович.
— Да мы на минуточку. Наловили в пруду карасей, дай, думаем, отнесем вам к ужину.
— И еще вот кузовок с грибами. Нынче в лесу урожай. А старые люди говорят: коли на грибы урожай, значит, и в амбаре не будет пусто. Хлеба-то есть вдосталь.
— Спасибо! — поблагодарил Сергей Иванович. — Рассказывайте, что у вас нового. Не обижают ли? Как обращаются с вами в полку? Федор! — крикнул он денщику, хлопотавшему за перегородкой.
Тот сразу понял. Через несколько минут на столе появились вместительный графин с водкой и тарелка с салом и хлебом.
— Ну вот, как всегда, вам только лишние хлопоты, — заметил усатый «семеновец», поглядывая то на стол, то на подполковника.
— Мы просто зашли вас проведать, — добавил чернявый солдат, похожий на цыгана.
— Похвально, что не забываете. А теперь наливайте и закусывайте. И рассказывайте, как служится.
— Так что нету жалоб на господ офицеров, ваше благородие. Требовательны, однако зря не обижают. Поступают по совести.
— Чтобы ударить или там оскорбить — этого нету. Всегда по-человечески.
— Был в нашем полку поручик Журиков, вроде как помешанный. Такой маленький, черный, будто из трубы вылез, ни дать ни взять злющий пес. Так и норовит в ухо врезать. Ну, слепой кутенок, да и все тут. Одной рукой взять за горло — только мокрое место останется. Пьяница, а уж глуп-то, глуп! Да что поделаешь, приходилось подчиняться, мы нижние чины. И погибать под шпицрутенами не хотелось.
— Слава богу, подал в отставку. Потому как у нас полковой командир воли никому не дает. А это падло прямо-таки не может жить без мордобоя.
— Как услыхали, что он подал в отставку, рады были без памяти.
Солдаты выпили по рюмке водки, взяли по кусочку сала. Они привыкли к Сергею Ивановичу и не стеснялись его, рассказывали все, как близкому другу.
— Когда же, ваше благородие, не останется на земле никакой кривды?
— И чтобы не служили мы бессрочно. Ведь каждому хочется иметь семью, деток, хоть немного пожить по-человечески.
Сергей Иванович отвечал, что терпеть осталось недолго, скоро все пойдет по-иному, только надо крепко-накрепко запомнить: едва лишь офицеры подадут знак направить оружие против обидчиков — все как один должны подняться на борьбу. И пусть тогда громят людоедов, невзирая на чины.
— Даже если император поступает несправедливо — и его прочь с дороги. Ибо человек — создание божие. И тот, кто его оскорбляет и унижает, недостоин ни уважения, ни милосердия. С такими сам господь бог велел расправляться сурово и без сожаления. Греха тут нет.
— Да мы хоть на смерть пойдем, все равно жизни нету.
Эх, доля солдатская, бессрочная служба... Недаром, если полки стояли неподалеку от границы, солдаты бежали в леса и чащи, в днепровские плавни и за Днестр. А бывало, доведенные до отчаяния, шли на убийство, предпочитая, чтобы их приговорили к каторге. Это было все же лучше, чем всю жизнь, пока есть силы, нести цареву службу, а потом просить подаяние. Потому что кому же нужен старый человек, не способный к работе? Ни дома, ни семьи. Пропадай, служивый, под забором, такова твоя доля.
Все это напомнили «семеновцам» слова Муравьева-Апостола. В них была горькая правда, солдатским потом просоленная, невидимыми слезами омытая. Не первый раз вспоминали они Семеновский полк. Вместо Потемкина император назначил Шварца. Тот был разумный человек, этот — самодур. Шварц требовал, чтобы во время муштры не шелохнулись полуаршинные кивера, а того, кто не выполнял его распоряжений, приказывал нещадно бить шпицрутенами. При нем муштра длилась с утра до вечера, пока солдаты не одуреют от усталости. А над их головами стоял целый лес киверов, на муку выдуманных пруссаками. И не дай бог где-нибудь шевельнется кивер — бедняга солдат так и замрет от ужаса. Его ждут шпицрутены, кстати тоже позаимствованные у пруссаков.
— Эх, ваше благородие, дожить бы до того времени! — печально говорили «семеновцы», глядя на своего любимого командира. — До каких пор терпеть? Ведь и мы люди.
— Знаю и всей душой болею за вас. Потерпите еще немного. И всем рассказывайте, о чем я вам говорил, только осторожно, чтобы не дошло до ушей предателя. Да подумайте: кто назначает в полки таких вот шварцев, кто позволяет вашим притеснителям издеваться над вами и благословляет их? Не бойтесь этих зверей! На штыки их за все ваши муки. Думайте, думайте об этом всегда.
В шатре сгущались сумерки. В лесу раздавалась солдатская песня. Не та, с которой отправляются в поход, чтобы легче было шагать, а та, которая напоминает об одном-единственном кусочке земли. Этот уголок не забыть человеку, куда бы ни забросила его капризная судьба. Там впервые увидел он солнце, там над его колыбелью впервые пела ему мать. Эта песня на всю жизнь осталась для него самой дорогою...
Засиделись у подполковника гости. Обо всем переговорили, и как будто легче стало на душе.
На прощание Муравьев-Апостол еще раз напомнил об осторожности.
— Да уж будьте покойны, не попадем как кур в ощип. На горячем обожглись, значит, теперь и на холодное будем дуть, ваше благородие.
Как солдаты, строем стояли деревья. В старый бор крадучись входил тихий вечер.
На окраине Млинищ, на холме, откуда видны все село и дорога на Бердичев, в старой, но просторной хате квартировал Петр Иванович Борисов. Хата пряталась в вишневом саду, на который уже наложила свой отпечаток ранняя осень. Еще цвели астры, вдоль завалинки дозревал любисток. По холму вилась тропинка, сбегая к колодцу, притаившемуся под старыми вербами.
Здесь, в холодке, стояли возки и лошади тех, кто приехал послушать лекции подпоручика Борисова, знатока современной фортификации.
Лекции — это для виду.
Довольно просторное помещение заполнили «славяне». Было воскресенье, поэтому собрались все свободные от службы.
Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин опаздывали. Хозяева ждали их нетерпеливо и не без волнения. Всех интересовала предстоящая встреча. Хотелось услышать, что скажут представители аристократии, всегда с оттенком пренебрежения относившейся к офицерам из небогатых семейств, каковыми являлись почти все «славяне». Большинство из них жили на жалованье — весьма скромно, даже бедно, потому что их родители не имели состояния.
Из рассказа Тютчева «славяне» очень мало узнали о Южном обществе и его руководителях. Тютчев, хотя и был знаком с Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, не располагал достаточными сведениями.
Томительно тянулись минуты. Все поглядывали на брегет, стоявший на столе, — подарок штабс-капитана барона Соловьева хозяину квартиры Борисову.
Наконец Горбачевский воскликнул:
— Кажется, приехали!
Все умолкли. Стоявшие у окна разглядывали долгожданных гостей, которые, беседуя о чем-то, направлялись к дому по тропинке через вишневый сад.
Муравьев-Апостол извинился за опоздание, обвел взглядом присутствующих, задержавшись на поручиках Сухинове, Кузьмине и штабс-капитане Соловьеве. С ними ему приходилось довольно часто встречаться, но до сих пор он не знал, что они принадлежат к Обществу соединенных славян. Сергей Иванович смотрел на них молча, с упреком.
Тютчев познакомил вновь прибывших с офицерами, и собравшиеся, не теряя времени, приступили к обсуждению интересовавшего их вопроса.
Пылкий, даже, пожалуй, несдержанный от природы Бестужев-Рюмин отличался красноречием. Поэтому, когда он заговорил о царящих в армии бесправии и гнете, о тяжелом положении не только нижних чинов, но и многих офицеров, притесняемых высшим начальством, на произвол которого некому жаловаться, все прониклись его чувствами, его ненавистью к власть имущим.
Потомок старинного богатого рода, Михаил Павлович болел душой не за себя, а за тех истинных патриотов, которым служба в полку давала возможность существовать и которых всячески унижали аристократы, словно мстя им за их бедность. То, что он говорил, импонировало присутствующим, — ведь они каждый день на себе испытывали несправедливость нынешнего строя и уродливость взаимоотношений между военной верхушкой и средним офицерством. Знал Михаил Павлович, как овладеть вниманием слушателей, как привлечь к себе их сердца. Он напомнил о рабской доле крестьян, отданных в полную собственность помещикам, об обидах, чинимых высшей властью, о несовершенстве государственной формы правления, которая уже отжила свое и требует замены более прогрессивной. О Южном обществе он рассказывал скупо, однако обрисовал его деятельность, его цели такими красками, что «славяне» затаили дыхание. Они только еще мечтали о реорганизации своего Общества, о том, чтобы к нему присоединилось побольше офицеров в полках и дивизиях, в том числе влиятельных лиц. Только мечтали о том, чтобы выработать конституцию, а «южане» все это уже имели.
— Довольно мы страдали. Стыдно терпеть угнетение.
Слова Бестужева-Рюмина были точно сухой хворост, подброшенный в костер; все были взволнованы, и сам он красен от возбуждения.
— Благородно мыслящие люди решили свергнуть невыносимое иго, все унижены и презрены, а в особенности офицеры. Благородство должно одушевлять каждого к исполнению великого предприятия — освобождению несчастного нашего отечества.
Окончив свою речь, Михаил Павлович оперся рукой на край стола и окинул взглядом присутствующих.
— А как быть с нижними слоями общества? Гарантирует ли им правительство права? Не окажутся ли они снова в зависимости от богатых помещиков? — спросил Иван Васильевич Киреев, прапорщик Четвертой роты.
Киреев происходил из бедной семьи. У его родителей было девять детей, причем младшая дочь страдала психическим заболеванием. Прапорщику приходилось помогать семье из тех мизерных средств, которые давала ему служба. Михаил Павлович посмотрел на Киреева, на других «славян».
— Наша конституция навсегда утвердит свободу для всего населения России, никто не будет обойден или урезан в правах. А что касается революции, то ее совершат военные. Тут населению нечего делать.
— Но разве солдаты не те же крестьяне и ремесленники, только в военной форме? Почему бы не привлечь к этому делу все слой общества? — заметил подпоручик Яков Андреевич. — Получается, что мы не доверяем гонимым и притесняемым. Справедливо ли это?
— Мы пока опираемся только на военных потому, что лишь им под силу эта ответственная миссия, — отвечал подполковник Муравьев-Апостол. — И нам надлежит готовить нижних чинов к сей акции, господа! Каждый день напоминать им, что, лишь страстно желая свободы и борясь за нее, они могут ее добыть. Причем следует заметить, что в нашей конституции есть параграфы, согласно которым военная служба будет продолжаться пятнадцать лет, будут запрещены наказания шпицрутенами, мордобой, самодурство и вообще унижение человеческого достоинства. Улучшится еда, одежду станут шить удобную — вместо нынешней пруссацкой — и другого цвета. Все это мы должны рассказывать солдатам и на собственном примере внушать им любовь к отчизне и готовность жертвовать собой ради нее. Я первый даю клятву исполнить любой приказ Общества. А если будет нужно, без колебаний пойду на смерть.
— Мы все пойдем на смерть во имя новой России! — взволнованно произнес, вставая из-за стола, Петр Борисов.
— Да, мы готовы, — поддержали его остальные.
— А как быть с царем? — спросил Иван Сухинов. — Полагаю, что его надо лишить жизни, чтобы он не мог вредить революции.
— Непременно! — отозвался Анастасий Кузьмин. — Во-первых, есть солдаты, верящие в его божественное происхождение. Они думают, что без императора Россия погибнет.
— Простите, поручик, что перебиваю вас, — обращаясь к Кузьмину, сказал Муравьев-Апостол. — Я хочу лишь заметить, что в Англии издан закон, согласно которому всякого, кто назовет царя божьим помазанником, надлежит судить как нарушителя общественного спокойствия, желающего зла своему народу.
— Закон, достойный похвалы! — послышались голоса.
— Смерть тирану! — продолжал Кузьмин. — Если он останется в живых, то причинит вред республике. И ежели даже убежит из России, будет повсюду собирать под свои знамена интриганов.
— Да, и ему помогут другие монархи, такие же деспоты, как он сам.
— Предлагаю подобрать мужественных и храбрых людей, которые совершат наш приговор над Романовым, — сказал Бестужев-Рюмин. — На эту акцию должно послать добровольцев. Думаю, они среди нас найдутся. Я не ошибаюсь?
— Мы согласны исполнить приказ Общества! — раздалось несколько голосов.
Муравьев-Апостол прочел некоторые отрывки из «Русской правды». «Славяне» не возражали против главных положений республиканской конституции.
Желая ободрить «славян», Михаил Павлович заверил их, что почти все полки Второй армии готовы к восстанию и кроме Васильковской существуют Тульчинская, Каменская, Киевская, Варшавская, Московская и Петербургская управы, членами которых являются многие лица из высшего начальства не только в Первой и Второй армиях, но и в гвардейских полках Москвы и Петербурга. Он прибавил еще, что к объединившимся теперь Северному и Южному обществам причастны министры, сенаторы и особы, близкие к окружению царя. На всех этих людей можно положиться.
Однако ни Муравьев-Апостол, ни Бестужев-Рюмин не назвали ни одного директора управы, дипломатично уклонившись от ответа на вопрос, кто стоит во главе Обществ. «Славяне» обиделись.
— Если вы не хотите доверить нам свои тайны, то как же мы можем с вами объединиться?
— Фамилии директоров управ не обязательно должны быть известны всем, — отвечал Сергей Иванович. — Иванов или Павлов — не суть важно. Главное, что наше Общество имеет обширную сеть политических кружков как в армии, так и в высших сферах. Разве этого не довольно? Обижаться не стоит. Это не принесет ничего, кроме вреда. А объединиться нам нужно. Ну что вы без нас сделаете? У нас уже есть конституция, а у вас только ее проект. И Общество ваше немногочисленно, слабо.
«Славяне» поняли, что о них известно более, нежели следует знать людям посторонним, даже таким, с которыми, наверное, придется объединиться.
Окончательного ответа они все-таки не дали, ссылаясь на то, что вопрос о слиянии Обществ нужно обсудить на совещании всех «соединенных славян».
Против этого никто не возражал, хотя всем было ясно, что это чисто формальная отсрочка. Ведь значение Обществ возрастет, когда они объединятся. Идеи обоих содружеств тождественны, — значит, и бороться за их осуществление следует сообща.
Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин пригласили представителей «славян» к себе, чтобы еще раз обсудить вопросы, вызвавшие сегодня сомнения.
Проводив гостей, «славяне» не спешили расходиться. Послышались гневные голоса:
— Откуда «южанам» известно все о нашем Обществе? Это вы, капитан, выдали тайну! — напали они на Тютчева.
— Как вы могли предать нас?! А ваша клятва на мече — как с нею?!
— Из-за вас аристократы знают о нас все, а мы о них — ничего!
Страсти разгорались. Сухинов предложил, в поучение другим, казнить Тютчева. Тот, кто изменил товарищам, обязан кровью смыть свое преступление!
Капитан сидел бледный как смерть. Он не оправдывался. В душе он чувствовал себя виноватым за чрезмерную откровенность с Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым.
Он не имел права рассказывать им о том, что принадлежало не только ему, но всему Обществу. И за это должен понести наказание. Что ж, пусть судят. Он не будет оспаривать приговор, примет его как должное...
И все-таки реакция друзей больно поразила его, на мгновение он даже потерял сознание. Очнулся, когда говорил Борисов. Увидел его взволнованное лицо, точно издалека долетели слова:
— Господа! Я понимаю ваше возмущение, потому что и сам никому не прощу такого преступления, как измена, Карать за нее смертью — наш закон. Он всеми принят и утвержден и потому справедлив. Однако мы забываем, друзья, что нам необходимо объединиться с «южанами» и делать с ними общее цело. Ведь у них уже есть то, к чему мы еще только стремимся, — у них есть конституция, и они обладают немалой силой. Пусть мы не во всем с ними согласны, но в главном у нас возражений чет. Я считаю возможным простить капитану его преступление, совершенное без злого умысла.
— Что-то мне не очень верится, чтобы аристократы согласились утратить свои привилегии, уравнять все сословия и отменить крепостное право, — скептически заметил Иван Иванович Горбачевский, который не только отказался от своего поместья, но и раздал крестьянам землю без выкупа.
Его поддержал Сухинов:
— Они щедры на слова. Однако здесь нужны не разговоры, а дело.
— Рассуждают о свободе, в сами живут трудом своих рабов, купаются в золоте за их счет, — гневно произнес Кузьмин. От волнения он не мог усидеть на месте и шагал из угла в угол.
— А не получится ли так, что после того, как мы все вместе сбросим тирана, аристократы захватят власть? — сказал Киреев. — Где гарантия, что они, подобно Фердинанду Испанскому, не задушат революцию?
— Аналогии тут не к месту, Иван Васильевич, — возразил Борисов. — «Южане», как и мы с вами, добровольно встали на путь борьбы с монархией. Какое же мы имеем право не доверять им? Это нехорошо, даже неучтиво с нашей стороны.
Никто не спорил с Борисовым. Постепенно страсти улеглись, все умолкли. Очень много волнений выпало им в этот день. Слишком велика была пропасть, разделявшая богатых аристократов и бедных офицеров — «славян», чтобы не оставалось места для сомнений и недоверия.
— Нужно слить воедино не только наши помыслы, но и действия во имя святого дела, — сказал Борисов.
Горбачевский прибавил:
— Не будем ослаблять усилий касательно приготовлений к восстанию и постараемся привлечь к себе всех, кто верит в революцию.
— Я думаю, что на днях нам следует собраться снова — причем позвать и других товарищей — и снова обсудить все вопросы. А пока до свидания! Пора расходиться. Не забудьте, что лекция о современной фортификации была содержательной и интересной... — напомнил Петр Иванович Борисов.
Все засмеялись и начали прощаться. Квартира Борисова опустела. Только Тютчев, бледный, потрясенный, продолжал сидеть. Он еще не совсем пришел в себя. Не до конца поверил, что гроза миновала.
— Разве я поступал во зло? — вырвалось у него после долгого молчания.
— Да, Алексей Иванович, — ласково произнес Борисов, который, проводив гостей, вернулся в комнату, — если бы вы выдали тайну врагу, сегодняшний день стал бы последним в вашей жизни. А теперь успокойтесь, возвращайтесь в полк. И будьте осторожны в разговорах. А на товарищей не обижайтесь, они правы. Ведь мы принадлежим не себе, а революции. Ей — наши помыслы, дерзания, ей — наша жизнь.
Когда подъезжаешь к имению Русановка, еще издали видишь как бы остров, похожий то ли на скалу, то ли на гору с крутыми склонами. Потом заблестит серебром железо на высокой башне — точно на старинном замке, прячущемся за высокими каменными стенами. И, лишь подъехав ближе, поймешь, что никакой горы нет, как нет и замка, а посреди старого и довольно большого парка, разбитого много лет тому назад, раскинулось имение — дом и надворные службы.
Имение принадлежало Русанову Гордею Семеновичу, бывшему столоначальнику департамента, который давно отошел от государственных дел и жил теперь на лоне природы, с головой окунувшись в хозяйственные заботы.
За возком стелется шлейф пыли, от нее убегают и никак не могут убежать лошади, чтобы спрятаться в глубине зеленой рощи, медленно приближающейся навстречу. Но вот наконец повеяло прохладой, стенная духота отступила. Возок запрыгал по дороге, разрисованной тенями, лошади веселее покатили его в
гущину мимо лин и ясеней, мимо дуплистых верб над прудом. Вот запруда, на приколе лодка среди кувшинок, белых лилий и других водяных цветов, которых еще не успела коснуться рука ранней осени.
Бестужеву-Рюмину здесь все было знакомо и близко, как в отцовском имении на берегу тихой речки. Ему, правда, не часто приходилось тут бывать, но мысленно он каждый день бродил по этим тенистым дорожкам, и все вокруг казалось милым и дорогим. Это Грибоедов, который в начале весны, едучи в Крым, а оттуда на Кавказ, две недели гостил в древнем граде России Киеве, познакомил с Русановым Бестужева-Рюмина, Артамона Муравьева и Сергея Муравьева-Апостола, отрекомендовав их своими дальними родственниками.
Михаил Павлович танцевал с Софьей, восемнадцатилетней дочерью Русановых. Она была впервые на балу у дворянского предводителя, пышном балу, где в тот вечер собрался весь цвет киевского барства, высшее офицерство Четвертого корпуса во главе с князем Щербатовым и его адъютантом князем Сергеем Трубецким.
Бал этот навсегда запомнился Михаилу Павловичу. С того вечера для него словно началась новая жизнь, совсем не похожая на ту, которою он жил раньше.
Приказав кучеру ехать во двор, Бестужев-Рюмин спрыгнул с возка и пошел по боковой аллее, между рядами стройных тополей, к ажурной беседке, стоявшей на насыпанном крепостными небольшом холме и казавшейся такой легкой, точно она была сделана из серебра. Это было любимое место Софьи. Здесь она часто читала или просто сидела, погрузившись в мечты. И, приезжая в Русановку, Михаил Павлович почти всегда встречал ее тут.
Однако на этот раз беседка стояла осиротевшая, она была пуста. И тихая печаль, тревога охватили сердце юноши. Он подождал с минуту и направился в дом, притаившийся за зеленой стеной деревьев и кустарников.
Софью он увидел в цветнике, среди клумб разной геометрической формы, на чистенькой дорожке, посыпанной желтым песком. Софья сидела на скамейке и держала в руках книгу. Она так углубилась в чтение, что не заметила, как к ней приблизился Бестужев-Рюмин. Почувствовав присутствие постороннего, она вздрогнула и невольно посмотрела в ту сторону, где он стоял.
— Это... вы?
В ее тоне и взгляде были удивление и радость.
— Я!.. — только и сумел ответить Михаил Павлович, продолжая любоваться ею. В своем белом легком платье с мережкой Софья казалась лилией среди цветущих астр и пышных хризантем — последнего богатства теплой осени.
Минутная растерянность прошла. Бестужев-Рюмин сделал несколько шагов и остановился, наклонив голову. Потом взял маленькую руку и горячо поцеловал ее, вложив в этот поцелуй любовь, радость свидания, всю свою юношескую пылкость. Они шли по той же тополиной аллее, по которой несколько минут тому назад проходил Михаил Павлович, направляясь к беседке.
— Я так спешил, — признался он с улыбкой Софье. — Дорога казалась мне бесконечной.
Она взглянула на него, вспыхнула и от этого стала еще прелестнее. Он рассказывал разные подробности полковой жизни, а Софья слушала с таким вниманием и удовольствием, как будто для нее не могло быть ничего интереснее. От его голоса все кругом приобретало другой вид, становилось как-то приятнее, интимнее. Этот голос слышался ей всегда, когда она бродила одна по аллеям парка, вспоминая последнее свидание.
— Что нового в Русановке? Вообще рассказывай все-все. Я хочу слышать твой голос, Софи! — нежно и ласково, со со свойственной ему страстностью расспрашивал он Софью.
А ей не хотелось разговаривать. Вот так бы молча идти и идти рядом с ним, таким стройным, красивым, самым храбрым среди военных.
Опа не замечала, что у него нос с горбинкой, а лицо совсем обыкновенное и глаза тоже. Нет, она была уверена, что, когда они с Михаилом Павловичем стояли около клумб, глаза у него были голубыми, а когда шли по аллее — серыми.
«Он хочет слышать мой голос! — думала Софья, улыбаясь в душе. — А что я могу ему сказать? И главное — зачем? Не подобает девице открывать свое сердце даже тому, кто ей милее всех на свете. Нет, нельзя этого делать! Не дай бог, когда-нибудь посмеется над моей откровенностью».
А он допытывался, как все влюбленные:
— Ждала меня? Ну скажи — вспоминала?
— Да! — промолвила она тихо, предаваясь своим мечтам.
— Любимая! — долетело до нее, подобно нежной музыке. — Знаешь ли ты, как я люблю, как дорога ты мне? Повсюду передо мною твой образ, я постоянно слышу твой голос, милее всех звуков в мире...
У нее замирает сердце, голова кружится от счастья. И кажется, что она не ступает по земле, а плывет над Русановкой, над деревьями и цветами, которые кланяются ей, как в сказке. И вдруг что-то горячее обжигает ей губы. Софья хочет открыть глаза и не может. Только чувствует, как бешено стучит в груди сердце, как горят щеки, шумит в голове.
— Я буду просить твоей руки, Софья... Я не могу без тебя жить, — доносятся слова подпоручика, ее дорогого Мишеля, и она открывает глаза.
Бестужев-Рюмин стоит рядом, очень смущенный, даже как будто виноватый. Софье хочется его успокоить, утешить. Разве она гневается на него за этот первый в жизни поцелуй? Ведь она любит его не меньше, только не может сказать об этом. Растеряла все нужные слова...
— Я написал родителям, просил благословить наш брак, — говорит он. — Приехал сообщить тебе об этом...
Софья пугается: а вдруг его родители не благословят? Богатый старинный род Бестужевых-Рюминых не пожелает породниться с родом Русановых. Что тогда?.. От этой мысли мороз пробегает у нее по коже. Было бы лучше, если бы и Михаил происходил из небогатой семьи. Тогда его родители не возражали бы против их брака. Ну, а уж своих она бы умолила: разве есть на свете родители, которые не исполнят желания единственной дочери? Софье хочется отогнать прочь сомнения, хочется думать о светлом, радостном. Она инстинктивно прижимается к любимому, словно боится, что у нее отнимет счастье злая судьба или какая-нибудь другая таинственная сила — что же еще делает людей несчастными? А ей так хочется большого счастья.
Юноша, наверное, заметил или почувствовал сердцем ее тревогу. Он сказал:
— Свадьбу отпразднуем зимой, чтобы были тройки, много троек. Белая земля, снег из-под копыт, в ушах свистит ветер, а мы с тобой летим навстречу неизвестному. В волшебное царство! Правда, моя любимая?
— Да, — отвечает Софья; в ушах в самом деле свистит ветер, и от холода ломит виски. А глаза застилает туман, как всегда на морозе.
В кронах деревьев перекликаются иволги, и гудит шмель, кружа по беседке. Нет, на дворе еще золотая осень, кругом солнце и цветы, до зимы далеко.
Подпоручик рисует картину семейной жизни, подобно художнику, владеющему волшебной кистью и дивной палитрой красок. Софья верит, что именно таким будет их счастье — безоблачным, сказочным, вечным.
Кто-то идет по аллее. Это слуга Русановых. У него худое смуглое лицо, он без шапки, в сапогах и казакине.
— Что тебе, Тихон? — спрашивает Софья, вставая со скамейки.
— Барин просят отобедать, — с поклоном отвечает слуга молодой хозяйке.
В Русановке Михаил Павлович чувствовал себя будто в Василькове, на квартире Сергея Муравьева-Апостола. Ховяева принимали его хлебосольно и радушно, как родного. Он еще и словом не обмолвился об обручении и и свадьбе, но Русановы в душе уже считали его будущим зятем. Человек, достойный Софьиной руки, любит ее. А уж Софья — не о чем и говорить! Если Бестужев-Рюмин долго не показывается, сразу осунется, сделается раздражительной, ничего не ест. Матерям ли не знать, что за болезнь нападает ни с того ни с сего на их дочерей и какие тут нужны лекарства!
Русановы держали хорошего повара, обеды у них всегда удавались на славу. И всяких вин в погребе было довольно. Жили не роскошно, но безбедно. За столом прислуживали два казачка, овладевшие этой наукой в Киеве, у француза, который долго служил у графа Олизара.
За обедом Русанов расспрашивал гостя, как ему служится в Полтавском полку, просил передать привет полковнику Тизенгаузену, которого знал лично.
— Мы с Василием Карловичем старинные приятели, — похвастался Гордей Семенович, еще не старый на вид толстяк. — Было время, отстоял я в Сенате одно его дело. С тех пор мы и знаем друг друга. Нынешний год собираюсь на Контракты, увижусь с друзьями.
— До рождества-то еще дай бог дожить, — вставила хозяйка Марина Григорьевна, среднего роста, не по летам полная женщина со следами былой красоты и такая же кареокая, как Софья.
— Матушка, — возразил Гордей Семенович, — неужто мы с вами так стары, что можем не дожить?
— Все в руце божией, — вздохнула хозяйка. — Господь милостив, коли доживем, обязательно поедем на Контракты. Там соберется весь бомонд, зачем же нам на хуторе киснуть? И в Лавре побываем.
За беседой незаметно текло время. Пора было собираться в дорогу. Хозяева не хотели отпускать подпоручика на ночь глядя, но он только улыбнулся в ответ на их уговоры.
— Ничего не случится. К лицу ли военному человеку бояться путешествовать ночью?
Софья опечалилась, едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Бестужев-Рюмин посмотрел в подернутые слезами глаза любимой, и сердце у него сжалось. Не будь здесь родителей, бросился бы к ней, приголубил, успокоил.
— До свидания. Благодарю за гостеприимство. Прошу простить неожиданное вторжение.
— Ну что за извинения! Милости просим, не объезжайте стороной наш хутор, Михаил Павлович.
— Каждый ваш визит — как дуновение свежего ветра в нашей степной глуши.
«Я тебя люблю. Приезжай!» — говорили глаза Софьи. А веки дрожали так, словно к ним что-то прикоснулось. На ресницах заблестели росинки.
— Счастливого пути, подпоручик! Кланяйтесь полковнику, — донеслось до Михаила Павловича, когда возок проезжал мимо широкого крыльца с колоннами.
Он не помнил, ответил ли что-нибудь, потому что не сводил взгляда со скорбной фигуры Софьи. Она точно замерла, опершись на белую колонну; цвет ее лица не отличался от цвета колонны. Наверное, Софья ничего не видела; она не подняла головы, только помахала рукой на прощанье. У Бестужева-Рюмина вдруг возникло такое чувство, словно он навеки прощался с Русановкой. Еще никогда у него не было так тяжело на сердце.
Возок снова катился по той же дороге между двумя рядами старых деревьев, а перед глазами Бестужева-Рюмина все еще стоял дом Русановых и у колонны — она, Софья. «Наверное, никто никогда не любил так, как Софья, и не было человека счастливее меня!..»
Гордость за свою любовь, за все, чем наградила его судьба, успокаивала Бестужева-Рюмина и наполняла сердце новым чувством, названия которому он не знал. Ему казалось, что он возвращается из Русановки возмужавшим, готовым на любые испытания.
Зеленый оазис кончился, впереди лежала бескрайняя степь, сумерки укрывали ее серыми одеялами. На западе догорал погожий день, в последний раз брызгая на горизонт красной и желтой краской.
Чуя неблизкую дорогу, лошади быстро покатили возок навстречу вечерней прохладе.
Неприятности никогда не ходят пешком, они мчатся на резвых конях. Потому-то неприятности и налетают так неожиданно, что человек не успевает опомниться.
Так думал Пестель, шагая по комнате. То ли скрипел под ногами пол, то ли звенело в ушах от охватившего его гнева — этого он сказать не мог. Он старался успокоиться, твердил себе, что надо уметь сдерживать свои чувства, нельзя терять самообладание. Казалось, были два Пестеля — непохожие, как огонь и вода. А в командире полка должен был жить еще и третий человек — спокойный, уравновешенный. Только этот третий имел право разговаривать с подчиненными. Но третий-то и замешкался. Не появлялся и Майборода, за которым Пестель послал вестового. Опоздание капитана раздражало. И чтобы скоротать время, Пестель, тяжело ступая, продолжал мерить шагами комнату.
Вятский полк, который когда-то считался недисциплинированным, в руках Пестеля стал одним из лучших, на что обратил внимание даже сам император, наверное забыв, как долго не хотел назначать Пестеля командиром, хотя об этом не раз просил начальник штаба Второй армии генерал-адъютант Киселев.
И не жестокостью был достигнут успех, а разумным поведением с нижними чинами, хорошими отношениями между офицерами и их подчиненными. Именно требовательность вкупе с человечностью сделали полк образцовым, и было обидно, что этого не понимали такие, как Майборода, который своим поступком запятнал офицерскую честь, бросил тень на весь полк.
В дверной проем протиснулась могучая фигура.
— Честь имею явиться, господин полковник! — прогудел Майборода с порога.
— Приходить нужно без опоздания, капитан, — заметил Пестель спокойным тоном, хотя его обуревал гнев.
Широкое, грубое лицо Майбороды, казалось, стало еще грубее; из-под нависших рыжеватых бровей недобро глянули на полковника колючие глаза. Однако Майборода не произнес ни слова, стоял неподвижно.
— Вы знаете, почему я вас вызвал? — спросил Пестель, глядя на капитана.
— Догадываюсь, полковник. Из-за казенных денег. Я их отдам... У кого-нибудь займу или выиграю.
— Как вы посмели, капитан, взять то, что вам не принадлежит? Своим позорным поступком вы запятнали не только честь офицера, но и честь полка, в котором служите. Понимаете ли вы, что о нашем полку пойдет дурная слава? А это нежелательно для нас, членов Общества, к которому и вы теперь себя причисляете. Я неоднократно предупреждал вас, капитан, что грубое обращение с подчиненными недопустимо и равносильно преступлению. Но вы пренебрегаете моими словами и во время учений позволяете себе воспитывать нижние чины не нравственным примером, а грубостью и рукоприкладством, что мною категорически запрещено. К тому же вы отобрали ассигновки и растратили казенные деньги. Ваш поступок подлежит суду, однако мне жаль вас и не хочется предавать разглашению эту прискорбную историю. Поэтому я советую вам в ближайшее время вернуть деньги тем, кому они принадлежат, впредь не прикасаться к солдатским ассигновкам и вести себя с подчиненными, как подобает офицеру и члену нашего Общества. Все! Вы свободны, капитан...
— Позвольте, господин полковник, заверить вас, что я последую вашим советам и выполню ваши приказания. Мне и самому крайне неприятно, что все это произошло. Мне стыдно перед вами, вы так много сделали мне добра... И ваша доброта — самая тяжкая кара для меня. Я виноват перед вами, Павел Иванович, и искуплю свою вину добрыми делами.
— Ну и хорошо, — уже другим тоном произнес Пестель. И только теперь почувствовал, что явился наконец тот третий, который должен был стоять между огнем и холодом, между гневом и рассудительностью. Тот, кто имел право говорить с подчиненными, быть требовательным, но справедливым.
Точно камень упал с души, стало легче дышать. Пестелю даже показалось, что выражение лица у Майбороды смягчилось, словно выглянуло солнце и растопило холодную мрачность этого человека. «Ну вот и хорошо», — подумал Павел Иванович, садясь к столу, чтобы просмотреть почту, привезенную из Тульчина.
Вернулся Лорер, чем-то недовольный, даже сердитый.
— Что с тобой, друг мой? — встревожился Пестель: он всегда близко к сердцу принимал чужое горе, чужие неприятности.
— Что сказало это чучело? — вместо ответа спросил Лорер, бросив на полковника гневный взгляд.
Он не назвал имени, но Пестель понял, о ком речь.
— Пообещал в ближайшее время вернуть деньги.
— Его следовало бы отдать под суд и, лишив офицерской чести, выгнать из полка, — сказал майор, кипя от возмущения. И, сжав кулаки, начал ходить по комнате. Он просто ненавидел Майбороду, не терпел его.
Пестелю были не по душе такие отношения между офицерами полка. Он не одобрял этой отчужденности, близкой к ненависти, полагая, что необъективность нередко становится причиной несправедливости, а это разъединяет людей, ослабляет дисциплину, отрицательно влияет на обучение солдат и общий быт. Как командир, руководитель и воспитатель, Пестель хотел примирить враждующие стороны, он считал это своим долгом.
— Николай Иванович, — дружелюбно проговорил он, обращаясь к майору, который, казалось, так и рвался на волю из этой тесной комнаты, не зная, как справиться со своим гневом, — успокойтесь, прошу вас! Поймите, что и мне эта история неприятна. Однако похвально ли быть беспощадным судьей чужих проступков и ошибок? Иногда следует прощать людям их недостатки.
— Не всем, — резко прервал его Лорер. Всепрощение Пестеля в отношении Майбороды он считал едва ли не преступлением. — Этого растратчика и садиста надо отдать под суд и выгнать из полка. Кому нужны такие офицеры?
— Ну за что вы его так возненавидели? — пытался успокоить Лорера Пестель. — Я не спорю, у капитана есть недостатки, однако они свойственны и другим офицерам. Разве мы с вами без греха? И не допускаем ошибок, Николай Иванович? Вы напрасно так возмущаетесь, во вред своему здоровью. Надо уметь сдерживать свои чувства. Деньги Майборода вернет, с подчиненными он обещал обращаться человеколюбиво и мягко. Все будет хорошо.
Он говорил это, беспокоясь за здоровье друга и уже забыв, что недавно сам так же мерил шагами кабинет в ожидании капитана. Он тоже считал, что безобразные поступки достойны самого сурового осуждения, но умел прощать, веря, что в каждом человеке больше хорошего, чем плохого.
В душе не соглашаясь с Пестелем, но чувствуя, что спорить бесполезно, Лорер почел за лучшее промолчать. Он не мог простить полковнику, что тот хлопотал перед начальником штаба Киселевым о переводе Майбороды из Тридцать четвертого егерского в Вятский полк.
«И какого дьявола это было нужно? Неужели без капитана Майбороды Вятский полк что-нибудь потерял бы? — говорил себе Лорер. — Однако имел ли я право указывать Пестелю? Ведь ему виднее, с кем работать, чтобы полк занял место среди лучших. Вот он и подбирает себе офицеров, невзирая на то, нравится ли кто-либо другим или не нравится. Наверное, мое раздражение со стороны кажется смешным и глупым, — подтрунивал он над собой, понемногу успокаиваясь. — Может быть, я и в самом деле нетерпим к порокам и ошибкам ближних, как уверяет Павел Иванович?»
За обедом майор сказал:
— Странно! Почему одних мы любим с первой встречи, а других ненавидим с первого взгляда? Одним все прощаем, даже серьезные ошибки, а другим любой пустяк вменяем в вину.
Пестель улыбнулся: ему нравился такой самоанализ. В этом проявлялись лучшие свойства души. Тот, кто способен строго анализировать свои поступки, всегда останется справедливым человеком. Вслух Пестель сказал:
— Наверное, все зависит от характера. Симпатии и антипатии относятся к сфере психологии. Так я полагаю.
— Да, по-видимому, — согласился Лорер. И недовольство собой, еще недавно терзавшее его, прошло. Остался лишь неприятный осадок, как холодный пепел на пожарище. Он с нежностью посмотрел на Пестеля, и с языка сорвалось непрошеное: — Однако капитана я все же никогда не научусь уважать! Впрочем, как говорили римляне, suum quiqui — каждому свое! Уважайте Майбороду, если хотите, а мне не мешайте его презирать. Amicus Plato, sed magis amica est veritas — Платон мне друг, но истина дороже! И по отношению к капитану вы меня не переубедите.
— Как угодно, Николай Иванович.
В комнату заглянул денщик Степан:
— Князь Волконский приехали.
— Проси, — сказал Пестель, вставая из-за стола.
Он почему-то сразу заволновался, хотя Волконский, выполняя роль связного между управами Общества, часто наведывался в Линцы. «Как видно, у меня ослабела воля, я теряю самообладание из-за малейшего пустяка», — подумал Пестель, идя навстречу гостю.
Раскрасневшийся с дороги Волконский радостно улыбался хозяину и майору.
— Простые люди говорят: того, кто попал к обеду, ждет счастье.
— Разумеется! — подхватил Пестель, усаживая гостя за стол. — Степан, прибор!
Но Савенко и без приказания уже нес все, что нужно.
— И терновки либо чего-нибудь в том же духе. С дороги этот напиток весьма полезен.
Волконский проголодался и с аппетитом ел ветчину и салат, запивая их терновкой.
Пестелю и Лореру не терпелось узнать, с чем приехал князь, но учтивость не позволяла расспрашивать, пока гость не подкрепится с дороги. Волконский заговорил первым. Он сообщил, что «славяне» наконец согласились объединиться с Южным обществом и дело, начатое во время лагерных сборов в Лещине, закончено на пользу обоим содружествам.
— Не исключено, что могут возникнуть недоразумения, однако в основном цели Обществ почти совпадают. «Катехизис» «славян» охватывает те же вопросы, что и «Русская правда». Главные параграфы «Катехизиса» — всеобщее образование и высокая нравственность. Взгляд на экономику и торговлю тоже не противоречит «Русской правде». Развитию отечественной промышленности «славяне» придают первоочередное значение, они видят в нем прогресс государства. Высокое патриотическое чувство определяет место человека в обществе, а отнюдь не чин и богатство. Не родовитость и дворянские привилегии, но польза, приносимая отечеству. Вот кратко о том, что «славяне» поставили себе целью.
— Благородные, достойные похвалы стремления, — одобрил Пестель, которому уже докладывали о новом Обществе, созданном офицерами полков, расквартированных близ Житомира и Новоград-Волынска.
— Прекрасно! — Лорер не скрывал радости. — Каждый враг монархии — наш друг!
— Верно! — согласился Пестель, наполняя бокалы. — Чем меньше останется приверженцев трона, тем легче будет положить конец тирании Романовых. Поцарствовали — и довольно! На развалинах абсолютизма возникнет республика.
— Полностью разделяю ваше мнение, — сказал, глядя на друзей, Волконский. — Единственное, в чем трудно согласиться со «славянами», — это относительно творцов революции. Мы полагаем, что лишь военные в состоянии выполнить эту миссию, а «славяне» утверждают, будто вместе с военными в революции должны принять участие все патриоты, то есть чернь. Разумеется, они ошибаются, их взгляд неприемлем в самой сути. Возмущенная чернь — стихийная сила, ее должно остерегаться. Это как наводнение, которое может все смести со своего пути и, значит, повредить революции. Прискорбно, что свой ошибочный взгляд на этот предмет «славяне» отстаивают с большим упорством, ни за что не желая уступить. Быть может, тут дело в сословии? Ведь среди «славян» нет почти никого, кто мог бы похвастать родословной.
Пестелю были не по душе слова Волконского. Он почувствовал в них — правда, в завуалированной форме — то кастовое высокомерие, которое всегда его раздражало. Однако он сдержался и ничем не выдал своего неудовольствия.
Сказал спокойно:
— Князь, различия в происхождении не должны разъединять людей. И где доказательства, что ошибаются «славяне»? Что, если правы они, а ошибаемся мы с вами?
Волконский как будто обиделся:
— Павел Иванович, тут не до шуток! Мы с вами не Болотниковы и не Пугачевы, чтобы возбуждать чернь, призывая ее себе в помощь. Это необузданная, страшная сила, с которой, может быть, не справиться целому войску, если она вдруг поднимет голову, я хочу сказать — если чернь восстанет. «Славяне» ошибаются, и наш долг — объяснить им их ошибку, убедить их.
— Время покажет, на чьей стороне правда, — заметил Пестель.
Он решил не спорить, считая дискуссию преждевременной. Главное, чтобы оба Общества слились в одно и действовали совместно. Он наполнил бокалы и предложил осушить их за единство, за верность общему делу.
Все встали и выпили по бокалу молдавского, от которого исходил аромат солнечной степи и разнотравья.
— Простите, князь, я забыл спросить о здоровье милой Марии Николаевны. Не скучает она в Умани?
Волконский покраснел, даже как будто смутился.
— Мария Николаевна здорова, а что касается скуки... — ответил он, пожимая плечами. — Кто поймет женщину? В ней заключена тайна, которую человечество будет безуспешно разгадывать еще целые столетия...
Пестель и Лорер засмеялись. Волконский сказал с шутливой угрозой:
— Смейтесь, смейтесь, господа, до поры до времени! Вот женим вас, и вспомните мой слова.
— Ну разве что Николая Ивановича, — кивнул на Лорера Пестель, явно намекая на какие-то обстоятельства. — Что же касается меня... Уверен, что на моей свадьбе никому не придется веселиться.
— В монахи собираетесь? — насмешливо спросил Волконский.
— И в монахи постричься не придется. Я не доживу до старости, Сергей Григорьевич. Хороший, правда, был обычай у малороссийских казаков, которые, всю жизнь провоевав с врагами своей отчизны, на старости лет уходили в монастырь искупать грехи. Очень интересный обычай. Малороссы вообще интересные люди. Храбрые, трудолюбивые, честные. Жилища у них чистые, как и их души. И язык такой певучий... Я иногда завидую жизнерадостности, бьющей в них ключом. И вот такой народ закрепощен матушкой Екатериной, роздан по частям ее бывшим любовникам. Какая низость! Гадко и стыдно вспоминать, как было положено начало их богатству и какой ценой куплено право на священную собственность! Священная собственность! Всего лишь слова, за которыми, однако, мерзость и грязь абсолютизма.
Помолчали.
— Что пишет Ивашев? — поинтересовался Волконский. — Скоро ли кончается его отпуск?
— Кажется, в феврале. Однако нам с ним уж не играть в четыре руки на фортепиано. Ивашев вернется на службу в Тульчин, к графу Витгенштейну, а я осел в Линцах и останусь здесь до тех пор, пока у меня не отнимут полк.
— Почему же вдруг отнимут? — удивился Волконский. — Вятский полк теперь один из лучших. А чья в том заслуга?
— Это не имеет значения, — небрежно отвечал Пестель. — У нас человека сначала могут поднять очень высоко, а потом швырнуть на самое дно. Все в одних руках, все зависит от капризов его величества.
Волконский заторопился, начал собираться в дорогу. Пестель просил его остаться переночевать, но он возразил, что хочет заглянуть в Васильков. Да и в Умань пора. Нельзя злоупотреблять благосклонностью начальства.
— Понимаю. Служба, зависимость, — посочувствовал Пестель, глядя в доверчивые глаза Волконского.
Пестелю почему-то вдруг сделалось тоскливо, как перед долгой разлукой с другом, с которым кто знает, когда снова придется свидеться.
Попрощались. Пестель и Лорер вышли из дома. Пара гнедых пересекла площадь и скрылась за вишневыми садами. Подул ветер, подхватил сухую листву — и словно закружились под серым, пасмурным небом грачи.
— Наверное, вся жизнь человека складывается из встреч и провожаний, — промолвил Лорер, глядя в ту сторону, где скрылся возок Волконского.
— А самые тяжкие проводы — последние, хотя мы над этим не задумываемся, — заметил Пестель. — Хорошо, что человек не знает, когда настанут последние проводы.
Они постояли еще несколько минут и вернулись в дом.
А по площади носился осенний шалун ветер, и перепуганные листья улетали в серые, тоскливые сумерки, окутавшие Линцы.
Вадковскому нравилось, когда гости являлись так неожиданно, как сегодня Шервуд. Вадковский встретил его радостно: он от природы отличался гостеприимством и не выносил одиночества. Казалось, он родился жить среди людей: разговаривать, спорить, смеяться над веселой историей, рассказанной кем-нибудь из друзей.
— Каким ветром, Иван Васильевич?! — воскликнул Вадковский, протягивая руку к гостю, словно боялся, что тот исчезнет так же внезапно, как и появился.
— Обыкновенным, — отвечал Шервуд, здороваясь с Вадковским. — По пути к тебе завернул. Мог ли я миновать святую обитель друга! Ты стал бы меня упрекать. А горькое слово самого дорогого из друзей вдвое горше!
— Люблю за откровенность! Раздевайся, садись, чувствуй себя как дома. — Вадковский засуетился, не зная, куда посадить друга. — Сейчас будем обедать. Правда, обед у меня холостяцкий, но вино чудесное — из Румынии знакомый офицер привез. Не вино, а настоящий нектар. Я, например, никогда не откажусь осушить бокал доброго вина. И не люблю тех, кто равнодушен к этому божественному напитку.
— К тебе хоть не приезжай, — как будто обиделся Шервуд, усаживаясь в старенькое, видавшее виды кресло, в незапамятные времена обитое черной кожей. — Не успею переступить порог, как ты начинаешь угощать обедом. Я чувствую себя виноватым за то, что своим визитом доставляю тебе лишние хлопоты.
— И у тебя поворачивается язык говорить такое? — на этот раз обиделся Вадковский и бросил на Шервуда недобрый взгляд. — Подобные хлопоты большое удовольствие для каждого хозяина. А мне особенно приятно посидеть с тобой вдвоем за чарой Бахуса. Ну, скажи откровенно: разве тебе не хочется погреться с дороги? И к тому же, наверное, проголодался? Не знаю, как у кого, а у меня в дороге всегда разыгрывается аппетит, и я не возражаю, если какая-нибудь добрая душа хочет меня угостить.
Шервуд засмеялся, пожал плечами, признавая себя побежденным.
— Гостеприимный прапорщик, я к вашим услугам. Благодарю судьбу за то, что она послала мне такого друга, как ты, Федор Федорович. И хочу, чтобы наша дружба с каждым днем крепла все более и до конца жизни оставалась столь же искренней, как ныне. А ты еще спрашиваешь, каким ветром меня сюда занесло! Да я к тебе прикипел всей душой, неделю не вижу — скучаю, как девица без возлюбленного. У меня на всей земле нет никого ближе тебя. И поверь, бывают в жизни минуты, когда только мысль, что я не один на белом свете, поддерживает меня и не дает впасть в отчаяние. Ведь дружба — как огонек на распутье, который светит, чтобы мы не блуждали в потемках и знали, куда идти. Может быть, я неточно выразился, ты знаешь, я не силен в красноречии... Но за искренность ручаюсь.
— Ну вот, скажешь же такое! — смутился Вадковский. Он даже на минуту растерялся от излияний Шервуда. — Я и сам к тебе привык и рад бы всю жизнь прожить с тобой, право.
Федор Федорович сказал правду, он подружился с британцем, весьма образованным и любезным человеком. В натуре Шервуда было в меру серьезности, в то же время он любил и ценил юмор. С ним приятно было вести беседу. Его присутствие не тяготило, с ним можно было говорить откровенно, как с другом, которому доверишь любую тайну, не тревожась за последствия.
— Довольно философствовать, садись к столу! — воскликпул Вадковский, и они обнялись, радуясь своей дружбе.
Выпили вина, закусили свежей, слегка поджаренной колбасой. На щеках выступил румянец — то ли от вина, то ли от радости неожиданной встречи.
Разговаривали о разных пустяках, какими всегда заполнена жизнь в провинции, где любое событие кажется значительным и вызывает столько комментариев, точно произошло нечто выдающееся и важное для всей империи.
— Теперь не отпущу тебя по крайней мере неделю, пока не наскучим друг другу, — шутил Вадковский, откупоривая вторую бутылку вина.
— Неужели ты допускаешь, что мы можем наскучить друг другу? — нахмурился Шервуд. По его тону чувствовалось, что он обиделся на Вадковского. — Мне, например, кажется, я даже уверен, что мог бы всю жизнь прожить с тобою в одной комнате и почитал бы себя счастливым. Потому что нет ничего дороже чувства дружбы. Но погостить у тебя не могу, нет времени. Я на службе, сам знаешь.
— А как же — унтер-офицер Третьего украинского уланского полка! — с пафосом воскликнул Федор Федорович, снова наполняя бокалы искристым вином. — Правда, мы уже торили тебе дорогу в армию, однако за такое дело не мешает выпить еще раз. Тебе повезло, эй-ей, кроме шуток. Чин есть, хотя и небольшой. А если родился под счастливой звездою, то далеко пойдешь. Да, скажи, ты уже распрощался с Давыдовым или все еще возишься с той мельницей?
— Василий Львович попросил командира полка, и тот позволил мне жить в Каменке до тех пор, пока мы не пустим мельницу.
Вадковский безнадежно махнул рукой:
— Ничего не получится! Не верю я в эти машины, в пар и прочие выдумки. Да и к чему, скажи на милость, машина, ежели с помощью воды и воздуха зерно, слава богу, неплохо мелется? Лишь бы было что засыпать в ковш. Зачем себе голову морочить?
Шервуд был с ним не согласен:
— Ветряки, водяные мельницы — в этом сказывается отсталость России, дружище! Будущее принадлежит не им, а машине, железу, пару. Нынче железный век, друг мой. А пар — это такая сила, с которой ничто не сравнится. Скоро и ты будешь ездить не на лошадях, а на машине — с помощью этой силы. А Давыдова я считаю человеком современным, который хочет оставить по себе благодарную память на земле. Все мы смертны. Кроме того, паровая мельница — настоящая революция в помещичьем хозяйстве. И доходное дело.
— А машину так и не привезли? Вот вам и пар! Революция в хозяйстве!
— Не очень-то это просто и легко, — оправдывался Шервуд. — Зато я успею приготовить все необходимое, чтобы, когда привезут машину, не было никакой задержки. Езжу то за одной мелочью, то за другой — без мелочей не обойдешься в нашем деле. От тебя должен еще заглянуть в Васильков. А оттуда, может быть, придется ехать в Житомир. Есть у меня там один знакомый негоциант...
— Так ты будешь в Василькове? — обрадовался Вадковский. — Как хорошо! Окажи мне небольшую услугу.
— С удовольствием исполню любое поручение, — согласился Шервуд. — Почитаю за честь хотя бы отчасти отплатить тебе за твое доброе отношение ко мне.
— Видишь ли, нужно передать письмо Сергею Муравьеву-Апостолу. А по почте, сам знаешь, не все можно посылать. Как быть уверенным, что нет перлюстрации и письма не читают чиновники и жандармы, нарочно для этого приставленные? В письме идет речь о делах Общества, такую тайну не каждому доверишь. Я написал его тому четыре дня, да все не было оказии передать Сергею Ивановичу.
— Давай письмо, я отвезу его и вручу адресату в собственные руки.
— Благодарю, мой друг! Прямо гора с плеч! — с облегчением промолвил Федор Федорович, протягивая руку к бутылке, чтобы вновь наполнить бокалы. — Подобные тайны можно доверять только проверенным друзьям. А ты человек свой, наш единомышленник и сподвижник. Полагаю, что за это надо выпить еще по бокалу. Этот напиток Бахуса весьма крепок, не так ли? И приятен на вкус.
— Я больше не могу, — попробовал было отказаться Шервуд.
Но Вадковский и слушать не хотел:
— Вино, брат, полезно всем без исключения. Тем паче военным. Ты же теперь не только механикус, но и унтер-офицер. Так что не отпирайся. Знай, что греки, пившие этот напиток, разумом превосходили другие тогдашние племена. Недаром именно у них на Олимпе жили боги, которые каждый день потягивали вино и веселились. Мы с тобою хоть не греки, но тоже сыны Адама. Как же ты смеешь отказываться?
Шервуд, не желая ссориться с Вадковским, поднял бокал.
— Молодец! — похвалил Федор Федорович. Он уже немало выпил и, придя в доброе расположение духа, начал рассказывать всякие смешные истории.
За беседой незаметно пролетело время. Ночь застала их столом.
— Голова у тебя светлая, уверен, что будешь в чинах, — говорил Шервуду Вадковский, готовый все ему отдать, лишь бы тот подольше у него погостил. — А если к тому же и счастье у тебя особое, британское, проживешь недурно. Знаешь сам, в России чужеземцам везет, как ни в одной другой стране. Приезжает голый, точно турецкий святой, а уезжает графом с тысячью душ крепостных и полным кошельком. Правда, у нас везет по большей части пруссакам, а ты по крови британец...
— Я не британец, а русский и не признаю иной отчизны, кроме России, — рассердился Шервуд, недобро глянув на захмелевшего Вадковского. — Сколько раз говорил тебе, что мне не нужны ни чины, ни поместья! Одного желаю — всю жизнь оставаться патриотом, русским душою.
— Вот за это люблю, Иван Васильевич! — Вадковский, расчувствовавшись, обнял и поцеловал Шервуда. — Потому-то у меня и нет от тебя тайн, что ты наш единомышленник и открытая душа. Ты в самом деле русский. Вот уничтожим монархию — и все люди заживут лучше, а не одни лишь пруссаки, как до сих пор. Никаких сословий, все равны, ибо все мы люди и человеки! Разве не так? Так что же ты обижаешься? Служи верой и правдой революции, ежели ты настоящий человек и патриот.
— За это с радостью поднимаю бокал, — заявил Шервуд, вставая. — Революции нужны люди преданные, готовые жизнью пожертвовать во имя идеи. Я из числа таких людей. Пусть это с моей стороны нескромно, зато я искренен.
Было уже поздно. Вадковский, совсем захмелев, отправился спать, взяв с Шервуда слово, что он останется у него дня на два, а уж потом поедет в Васильков.
— Утром повезу тебя к одному здешнему помещику, — пообещал он британцу, — посмотришь, какие у него аргамаки и борзые. Таких я в Малороссии еще не видел.
— Поедем, обязательно поедем, только сейчас ложись, дружище, — ласково говорил Шервуд, провожая Вадковского в смежную комнату, где была спальня.
Через несколько минут Вадковский сладко храпел. Шервуд бережно притворил дверь, постоял у стола. Потом, осторожно ступая, чтобы не заскрипели под ногами старые половицы, пошел в каморку, служившую Федору Федоровичу кабинетом. «Сегодня или никогда», — думал он, приближаясь к тому месту, где всегда висела скринка. Шервуд знал, что в скрипке Вадковский хранит секретные бумаги. Однажды, выпив слишком много вина, он сам ему в том признался. «Если у Вадковского есть что-либо секретное, то это должно находиться только в скрипке, — решил про себя Шервуд. — Да поможет мне бог!.. — шептал он сухими губами, весь обратившись в слух, чтобы не пропустить ни малейшего шороха.
Шервуд осторожно снял скрипку, нащупал сбоку потайное отверстие, открыл — и у него чуть не закружилась голова. Он увидел три листка бумаги. Дрожащими руками вынул их, положил в боковой карман и повесил инструмент на место.
Вадковский спал сном праведника. Шервуд несколько минут постоял, не зная, что делать — остаться здесь до утра или сейчас же пуститься в дорогу: ведь неизвестно, что произойдет утром. Вдруг Вадковский заглянет в скрипку и не обнаружит того, что он там спрятал? «Нет, немедленно прочь отсюда. Потом как-нибудь оправдаюсь, объясню, почему уехал, не дождавшись, пока проснется хозяин. Письмо к Муравьеву-Апостолу при мне, бумаги, вынутые из скрипки, в кармане — теперь давай бог ноги. Лишь бы благополучно выбраться, а что будет дальше, на то воля всевышнего...
Заспанный слуга Вадковского, живший в пристройке у конюшни, оседлал лошадь и проводил Шервуда за ворота. Ему было не впервой встречать и провожать господ офицеров и штатских среди ночи. Ездят, когда заблагорассудится. Слуга, вздохнув, взглянул на звездное небо и отправился досыпать.
Рассветало, когда лошадь, вся в мыле, остановилась у корчмы. Спавший за перегородкой хозяин проснулся, как только скрипнула дверь.
Шервуд заказал завтрак, а сам, устроившись в углу, разложил на краешке стола бумаги и принялся их изучать. Там были перечислены фамилии офицеров разных полков. И хотя в списках не указывалось, что эти лица принадлежат к Тайному обществу, однако Шервуд, заметив фамилии Бестужева-Рюмина, Пестеля, Муравьева-Апостола, задрожал от волнения.
«Список заговорщиков! Не иначе. Все они тут!..» У него захватило дух от радости. Значит, он не ошибся, надеясь, что в конце концов добудет у Вадковского то, что ему так необходимо. Недаром он столько ночей не мог заснуть, строя и отвергая разные планы, как достать то, что требовал Аракчеев, да и сам император.
На несколько минут Шервуд точно лишился рассудка от счастья и возбуждения. Потом вытер платком виски, лоб, глаза. Еще раз просмотрел бумаги, взглянул на запечатанное письмо и все спрятал в карман. Он не знал, что в письме, но был уверен, что речь в нем идет об Обществе. Не зря же Вадковский побоялся отправить его в Васильков почтой.
«Нет, я и в самом деле родился в сорочке, — думал Шервуд. — Но как лучше поступить? Отослать бумаги в Петербург? Поехать самому и вручить их графу Аракчееву?..»
— Прошу пана, завтрак готов. А что пан будет пить? Есть чудесная горилка. Ну не горилка, а чистый мед, губы слипаются. Или, может быть, пан предпочитает пиво?
— Ничего мне не нужно, — отвечал Шервуд. — Лошадь мою накормил?
— А как же! Для того и держу работника, чтобы он кормил лошадей и смотрел за ними. А я пану все-таки налью. Какой же завтрак без чарки! Так можно и горло поцарапать.
— Ну, наливай, будь ты неладен! — махнул рукой Шервуд, радуясь, что раздобыл секретные бумаги.
Выпив пива, он поел яичницы и холодной рыбы и предался мечтам. Он мечтал о том, что его жизнь отныне покатится по другой колее — по той, где ездят люди, которым всегда улыбается счастье, которые не знают бедности и унижений. От этих мыслей на душе стало так легко, что хотелось запеть.
А в низенькое оконце, засиженное мухами и кое-где подернутое паутиной, заглядывало голубоглазое тихое утро. В корчму влетел первый солнечный зайчик, рассыпав по подоконнику горсть золота.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Граф Аракчеев встал в тот день раньше, чем всегда. Ему снился плохой сон: будто над имением Грузино кружит огромная стая черных птиц. Что за птицы — Алексей Андреевич не разобрал, но подумал, что такие сны не к добру. Граф накричал на слугу, помогавшего ему одеваться, потом опустился на колени перед киотом и долго молился.
Завтракал без обычного аппетита: зажаренная на конопляном масле рыба была пересолена, пирог оказался черствым.
Аракчеев сделал выговор Никите, который был ему за камердинера и повара, и пообещал за недобросовестность всыпать в субботу на конюшие пятьдесят плетей — на память. А не поможет — посадить на неделю в «едикуль», на пищу святого Антония.
Никита молча выслушал его и вышел. Эта комната служила Аракчееву кабинетом, столовой и спальней: он и спал здесь на широком, довольно обшарпанном диване, который когда-то подарил ему вместе с прочей мебелью купец Карпов — в благодарность за услугу, оказанную графом в отношении поставок зерна для армии.
Через несколько минут слуга вернулся:
— Там, ваша милость, люди дожидаются. Просятся на свидание...
— Остолоп, сколько можно тебя учить? Надо говорить — на аудиенцию просятся, — поправил Аракчеев Никиту. — Когда же я научу тебя, дурака, докладывать, как полагается? И, входя, вытягивайся у порога в струнку. Дважды секли тебя в этом году, а толку все нет. Да ничего, я тебя вымуштрую, будешь ходить, как на параде.
— Я и говорю, удиенции просят люди... Ну, то есть чтобы приняли их и поговорили с ними, ваше превосходительство.
— А что за люди и с чем пришли?
— С пустыми, видать, руками. А что в карманах — неведомо.
— Проси по очереди, — нетерпеливо махнул рукой Аракчеев.
Не дело Никиты знать, с чем приходят сюда люди, то бишь просители. Его обязанность: доложить, впустить или прогнать — вообще досконально выполнять приказания графа.
Вошел широкоплечий бородач в довольно-таки потертом кафтане, мордастый, с припухшими веками, из-под которых смотрели красные глаза. Поклонился низко и трижды набожно перекрестился на угол, где перед иконой Алексея — человека божьего светился огонек лампадки.
— К вашей милости, граф, — поклонился он Аракчееву. — Спасите... Век буду бога молить за
вашу доброту.
— Что у тебя за беда? — спросил Аракчеев, глядя на приплюснутую голову просителя, щедро смоченную маслом. — Рассказывай коротко, у меня нет времени.
— Понимаю, ваше степенство! Лесом мы промышляем. Купил, значит, я у асессорши Скобликовой пятьдесят десятин леса, половину-то вырубил, а тут напасть: асессорша нежданно-негаданно богу душу отдала, царство ей небесное! Не успели и сорокоуст отслужить, как налетели ястребами сродственники покойницы и давай рвать наследство на куски. И за мой лесок ногтями и зубами вцепились. Дескать, будто купчая не по форме составлена, или бог их ведает, что еще. Одним словом, суд запретил рубить лес до полного расследования дела. А разве вы не знаете, ваше степенство, чем это пахнет? Затаскают по судам, до Сената дойдет. Пока последнего кафтана с плеч не сдерут, не успокоятся. А я же заплатил Скобликовой за этот лес сполна, он мой по закону.
— Знаю! Понимаю, сочувствую твоей беде, — перебил Аракчеев жалобщика. — Лесу тебе не видать.
— Где же правда, ваше степенство?! — в отчаянии воскликнул бородач, красный, словно только что из бани.
— Правда в руце божией и в законе государевом, — поучающе прогнусавил Аракчеев, костяшками пальцев левой руки стуча по краю стола. — Наберись терпения, жди, хвалу богу воздавай ежедневно, — может, и сподобишься его милости.
— Не дождусь, — в отчаянии выдохнул лесопромышленник, вытирая лоб рукавом кафтана, — помру преждевременно от горя. Заставь, ваше степенство, вечно бога молить, заступись! Твое слово — как царское. Скажешь — сделают! Ни один судейский не пойдет против тебя. Нешто мы не понимаем, хоть и темные смерды...
— Не знаю, право, что с тобой и делать, — с сомнением покачал головой Аракчеев и задумался, точно решая важное дело. — Душа моя всем людям добра желает, не могу никому отказать. Но это дело требует времени и немалых забот.
— Не откажи, ваше степенство. Мы уж не поскупимся, отблагодарим за помощь твою...
— Опиши подробно свою жалобу. Передай мне в руки есь либо в столице. Иди с богом!
Бородач вышел. Снова появился Никита.
— Кто там еще на аудиенцию? — спросил Аракчеев, взглянув на слугу. — Впускай, только поскорее, я к императору спешу.
В кабинет вошел приземистый, плотный, похожий на чиновника человек. Он не кланялся и не крестился набожно, как бородач, только склонил голову в знак почтения. Волнуясь, изложил цель своего посещения: просил назначить его на вакантное место пристава.
— А вам уже приходилось попробовать на этой службе свои способности или не удостоились? — полюбопытствовал Аракчеев, придирчиво разглядывая гостя, вытянувшегося перед ним, как перед монархом. — Ведь на подобной службе нужны качества, которыми сам бог наделяет человека при рождении. На полицию возлагается ответственность за порядок, а также надзор за всем, что может угрожать его величеству императору. И особливо нужен талант, чтобы нюхом учуять злоумышленника и арестовать его прежде, нежели он осуществит свое намерение. Вы об этом подумали?
— Нюхом мы наделены, ваше превосходительство. Имеется опыт по этой линии, служил шесть лет... ну, так сказать, тайным. Могу поручиться, что должность пристава займет достойный и верный слуга.
Сказав это, посетитель вынул из бокового кармана розовый конверт, сделал несколько шагов и осторожно положил его на стол.
Аракчеев притворился обиженным.
— Что такое? — спросил он строго. — Как это понимать?
— Ваше превосходительство, — торопливо забормотал гость и, отступив на прежнее место, опять вытянулся в струнку, — это моя лепта на святую обитель, которую вы, как я слышал, собираетесь построить. От чистого сердца вношу. Примите от верноподданного его величества и покорного слуги вашего. Мы службу знаем.
Аракчеев сразу успокоился, еще раз взглянул на конверт уже другим голосом прогнусавил:
— Ежели на храм божий, тогда дело другое. Принимаю сей дар от щедрот ваших. Ну, а перед полицмейстером слово замолвлю. Нам верные слуги нужны.
Отпустив просителей, Аракчеев направился к карете, поджидавшей его у крыльца. Он спешил в Петербург.
Александр готовился к отъезду на юг империи. Лейб-медик Виллие советовал ему пожить несколько месяцев в тихом Таганроге вместе с больной императрицей. Там им обоим будет полезно отдохнуть от государственных дел, от петербургских туманов.
Александр с удовольствием принял совет врача, ему и самому осточертела столица, интриги между министрами и придворными, болтовня в салонах, двоедушие одних и зависть других...
Из Таганрога Александр решил отправиться в путешествие по Крыму и по крайней мере до весны не возвращаться в столицу. Он устал от дел и был уверен, что, отъехав от Петербурга, сразу почувствует облегчение и вернет себе утраченное спокойствие. А чувство свободы вызовет интерес к жизни. Прилив энергии благотворно подействует на утомленный организм, что не под силу никаким лекарствам.
Лишь бы поскорее выполнить надоедливые формальности, которых требует этикет, — попрощаться с родственниками, министрами, сенаторами. А впрочем, можно проститься только с матерью. Да еще предстоит обед с братом Николаем. Хотя и не лежит к нему душа, однако отказывать нехорошо. Семья монарха должна служить примером дружбы и любви для верноподданных, ибо это не просто семья, а святое семейство, с издевкой подумал он, вспомнив мать и братьев. Только старшая сестра вызывала в нем уважение, только ее он ценил за ум и дальновидность.
Флигель-адъютант доложил о приезде Аракчеева.
— Проси! — заволновался Александр, вставая из-за стола.
Вошел граф и остановился на пороге. Александр шагнул навстречу своему любимцу, протянул руки.
— Мой друг, почему так долго не приезжал? Что-нибудь случилось? — спросил он ласково и, обняв Аракчеева правой рукой, повел его к столу и усадил в кресло. — Нынче так нехорошо на дворе — холодный туман, слякоть. Ненавижу осенний Петербург. Ну, рассказывай, друг мой, как себя чувствуешь, что нового? Я соскучился по тебе.
Аракчеев неловко примостился в глубоком кресле, заморгал, глаза слезились от холода.
— Ничего не случилось, просто нездоровилось, потому и не мог вовремя приехать.
— Может быть, сказать Виллие, чтобы он полечил тебя? — встревожился Александр, с нежностью глядя на графа. — Я прикажу. Если нужно, пусть он не едет со мной, а останется тебя лечить. Ведь твое здоровье для меня дороже всего.
— Не волнуйся, ангел наш, — отвечал Аракчеев, с благодарностью глядя на императора, — от одного твоего слова я уже здоров. А печаль моя перед разлукою, тяжко мне будет без тебя, цезарь мой!
— А ты приезжай в Таганрог! Непременно! Только тебе позволяю.
— Благодарю! Обязательно проведаю места хоть и далекие, но богом благословенные, ежели ты там будешь, ангел наш. Как здоровье Елизаветы Алексеевны?
— Спасибо, она чувствует себя хорошо. Немного тревожится, что вполне естественно перед дальней дорогой. Осенью подобный променад не назовешь приятным. Но чего не сделаешь ради здоровья? Сам знаешь, Виллие настаивает на этом путешествии. А лейб-медикусу должны покоряться даже монархи.
— Знаю и молю всевышнего, чтобы охранил в дороге и исцелил болящих, за которых Россия денно и нощно будет возносить молитвы во все время пребывания твоего на юге. А что дорога тяжела, мне известно! Особливо не расстояние пугает, а лета наши. Скинуть бы десяток — сели бы в седла да махнули хоть на край империи. А ныне проедешь в Новгородскую губернию, в свое имение, и уже устал. Сказано в святом писании: дневи довлеют над телесами нашими убо грехи мирские, убо сатанинские страсти и помыслы мерзкие, — витиевато выразился Аракчеев.
Александр хотел было прервать его невразумительную речь, но подавил раздражение и сдержался. Ведь это, может быть, последняя беседа перед разлукой с «без лести преданным» наперсником.
— Друг мой, — обратился он к Аракчееву, когда тот кончил и закрыл глаза: то ли задремал, то ли задумался, — на время моего отсутствия назначаю тебя своим помощником и государственным советником. Блюди наши интересы и обо всем оповещай. Меня тревожит эта моровая язва, поселившаяся в полках. Нужно все узнать досконально. Скажи, сын того британского механикуса не выведал ничего нового? Я забыл его фамилию...
— Шервуд, — подсказал Аракчеев. — Он теперь служит в полку и присоединится к заговорщикам как их единомышленник, чтобы войти в доверие и все разузнать.
— Как только тебе станут известны фамилии недругов, немедленно сообщи.
— Твой приказ будет выполнен, мой цезарь! — склонил голову граф.
— А тот майор из Шестнадцатой дивизии так и не назвал сообщников, помогавших ему сеять заразу в умах воспитанников юнкерской и ланкастерской школ? — спросил Александр.
— Раевский? Упрямится, хоть режь его на куски, ни слова про злоумышленников. Сочиняет стишки, сидя в каземате крепости. Некоторые из них, переписанные от руки неизвестными, разошлись в списках. На дыбу бы его, чтобы развязал язык, да в наше время этот инструмент может вызвать нежелательные толки в Европе. Ведь мы народ просвещенный, не какие-то там азиаты. А уж Раевскому-то именно дыба и нужна.
— Держать и впредь этого стихоплета в крепости, и как можно суровее. Бог поможет нам и без него выявить всех государственных преступников. Министру юстиции князю Лобанову-Ростовскому и управителю министерства внутренних дел Ланскому, а также барону Дибичу даны надлежащие указания касательно злоумышленников, которые будут обнаружены. Напомнишь им об этом, мой друг.
— Барон едет с тобою?
— Да! Начальник Главного штаба всегда должен находиться при монархе. Сегодня я обедаю у брата, великого князя Николая Павловича, — не без иронии произнес император.
— Желаю хорошего аппетита и приятной беседы, — усмехнулся Аракчеев, зная нелюбовь Александра к братьям. — Не смею задерживать и отнимать дорогое время. Приеду проводить. А ежели будет на то твое желание, проеду вместе с тобою за околицу столицы.
Своего брата Николая Александр держал в чине командира бригады, тогда как в руках старшего брата Константина были польская армия и литовский корпус. Только прибыв на обед, Александр решил сказать Николаю о предстоящем повышении по службе.
— Поздравляю с чином командира дивизии, великий князь! Я приберег эту приятную новость на сегодня и рад лично сообщить тебе о ней.
— От души благодарен вашему величеству за любовь и заботу, — отвечал Николай, едва наклоняя голову. На его одутловатом лице не мелькнуло и проблеска радости по поводу монаршей милости. В глазах навыкате был свинцовый холод, от которого собеседникам всегда делалось не по себе.
Обедали втроем: Александр, Николай и его жена Александра Федоровна — сухощавая дама с длинной шеей, с лицом землистого цвета.
— Я думал, что и великий князь Михаил приглашен на обед, — заметил Александр, вспомнив младшего брата.
— Он вместе со своим адъютантом Ильей Долгоруким еще позавчера уехал на какой-то банкет. Развлекаются!
«Шалопаи!» — беззлобно подумал Александр, вспомнив селения с цыганками и балеринами, устраивавшиеся Михаилом, а также его дебоши, о которых потом долго говорили в придворных кругах.
Александр то выступал в роли судьи, порицавшего непристойное поведение младшего брата и его развращенных друзей, то снисходительно прощал им всевозможные безобразия, успокаивая себя тем, что с годами к человеку приходит мудрость, если, конечно, это настоящий человек.
«Но что касается моих братьев, они до конца жизни останутся полудурками, — подумал он сейчас. — Горбатого могила исправит!»
Он взглянул на Николая, жевавшего жареного рябчика с таким безразличным видом, словно это было сухое лыко.
«Он как будто весь изо льда: лицо белое, каменное, глаза оловянные, как те солдатики, которыми он любил играть в детстве. Впрочем, все мы тогда увлекались военными играми. Бывало, среди ночи проснемся, алебарды или винтовки в руки — и стоим неподвижно по команде «во фрунт»... Все это в прошлом... А что нынче? Завтра? В будущем? Цезари тоже смертны. Кому передать трон Российской империи? Кому?..»
В Государственном совете давно лежал пакет с надписью, сделанной рукой Александра I: «Хранить в Государственном совете до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном собрании». Речь шла об отречении Константина от российского престола, что держалось в глубокой тайне.
Александру сделалось не по себе. Боль пронзила сердце. Он закрыл глаза.
— Ваше величество, — словно издалека донесся голос невестки, — вам дурно?
Александр вздрогнул, открыл глаза.
— Ничего, дорогая, просто вспомнил детство, — ответил он спокойно, в глубине души жалея, что пришел сюда.
— Самое ценное, чем владеет человек, — это воспоминания, — отозвался Николай, продолжая жевать рябчика. — Прошлое хорошо тем, что не вернется. В этом заключена мудрость природы.
Александр, прищурившись, точно с большого расстояния, рассматривал белое, как у Аполлона, тяжелое, неподвижное лицо брата.
Девять лет тому назад Николай женился на дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма Третьего. Николай командовал тогда Измайловским полком, но из донесений агентов Александр знал, что гвардия ненавидит его за высокомерное обращение с офицерами и жестокость по отношению к нижним чинам. За глаза его называли родным братом палача Шварца, который когда-то командовал Семеновским полком. Шварцу пришлось устроить отдельное кладбище для замученных муштрой, скончавшихся под шпицрутенами и казненных. Те же самые агенты доставили Александру письмо графа Милорадовича к принцу Вюртембергскому, в котором говорилось, какую недобрую славу заслужил в гвардии Николай Романов.
Николай был мелочен, мстителен, способен на подлость и предательство ради удовлетворения своего честолюбия. В войсках издевались над его пристрастием к барабанному бою. Александр и сам почитал прусскую муштру, а Фридриха Великого называл военным гением, однако чрезмерный энтузиазм Николая его раздражал. Он даже надумал заказать огромный барабан, какой только сумеют сделать мастера, и преподнести его брату в день рождения.
Неприязнь братьев была взаимной. Николай тоже не любил Александра, однако тщательно скрывал свои мысли и чувства от всех, в том числе и от матери. Она гордилась сыном-монархом, считая его чуть ли не гением, которого впервые за всю историю дал России род Романовых. Итак, поверять свои тайные мысли матери было неосторожно. За это можно было поплатиться жизнью: лица, занимающие престол, никому не прощают нелюбви и непризнания их исключительности.
Угощая обедом императора, Николай думал:
«Серое лицо, печальные глаза, весь его вид говорит о том, что брат болен. И быть может, безнадежно. Недолго уж ему царствовать. А потом? Что будет потом? Он доверяет Аракчееву не только личные, но и государственные тайны. Наверное, собираясь в дорогу, поручил ему важные дела в столице. Граф Аракчеев — его правая рука. Министры и сенаторы будут советоваться с ним, а не со мною, братом императора. К сожалению, это так. Завидую Константину: живет в Польше независимо, командует армией и ждет только часа, когда его позовут на русский престол. Наследник! А мне предстоит жить подачками то одного, то другого брата, хотя оба они недостойны занимать место самодержца. Этот орешек не по их зубам, не их рукам держать скипетр».
Молчание затянулось. Хозяева почувствовали себя неловко.
— Как здоровье императрицы, ваше величество? — спросила невестка, подняв на Александра усталые глаза.
— Вашими молитвами, она чувствует себя хорошо, — ответил Александр. На лице его промелькнула фальшивая улыбка, но через мгновение оно опять приняло выражение отчужденности: Александр думал о своем, на обеде у брата они только отбывал повинность.
Вдруг он спросил, бросив быстрый взгляд на Николая:
— На измайловцев можно положиться? Они преданы нашему престолу?
На лице Николая, как на мраморной стеле, ни эмоций, ни даже простого человеческого чувства.
— Русские войска преданы престолу и вашему величеству, — неторопливо произнес он, и ни один мускул не дрогнул в его лице, ничего живого не вспыхнуло в глазах.
— Вы можете поручиться, скажем, за Измайловский полк? — улыбнулся Александр уверенности брата. — Тем, кого вели на гильотину, тоже казалось, что армия им предана. Но они окончили свой дни на эшафоте. Либерализм — страшная язва на теле государства. И именно он поселился в наших полках. Не нужно закрывать на это глаза...
— Я ручаюсь за вверенные мне полки, ваше величество! — патетически воскликнул Николай, перестав жевать.
Александр уже не слушал его, он рассматривал свои костлявые пальцы, забыв, о чем только что спросил.
— Вы встревожили меня, ваше величество. — Лицо прусской принцессы еще больше посерело и, казалось, утратило последнюю теплоту. — Раскрыт заговор, не так ли?
— Почти раскрыт, — уклонился от прямого ответа император. — Во все времена живут рядом Цезари и Бруты. И всегда побеждает тот, кто своевременно обо всем узнает и первым нападет на противника.
Александр больше ничего не сказал, а Николай не посмел расспрашивать, чтобы не вызвать подозрений. Как знать, кого имел в виду брат, намекая на заговор... Николай вспомнил, как однажды на балу баронесса Крюденер, эта фанатичка и психопатка, пристально глядя на него, промолвила: «Будьте готовы к знаменательным событиям! Фортуна преподнесет вам сюрприз, только не провороньте...»
Что скрывалось за этими словами, Николай не знал. Однако очень испугался пророчества придворной львицы, которая насквозь видела чужую душу и умела читать чужие мысли. Он испугался, потому что ее слова слышали посторонние — они, наверное, донесли Александру. Может быть, брат на это и намекал? Разве угадаешь, о чем думает другой...
Николай весь напрягся в ожидании, но Александр больше ничего не прибавил, Николай не спрашивал. За равнодушием легче скрыть тревогу. Он все еще ждал, что брат скажет, на кого оставляет столицу, быть может, что-нибудь поручит ему. Однако император поблагодарил за гостеприимство и откланялся.
Всю ночь сеял мелкий осенний дождь. В густой тьме тоскливо гудели деревья. Было такое впечатление, словно где-то рядом хлюпает в камышах вода, а когда налетал шквальный ветер, с шумом били о каменистый берег грозные волны.
Чего только не привидится темной, холодной ночью, когда земля и небо сливаются воедино и возникает чувство, будто мимо тебя стремится могучий поток, которому нет ни начала, ни конца.
В темноте затерялось село. Лишь одна звездочка блестела во всей Балабановке. Это был огонек в хате ротного командира. Только он, капитан Майборода, не спал, хотя час был поздний.
От склонившейся над столом фигуры на стену падает неуклюжая, похожая на корягу, тень. Скрипит перо, точно по бумаге ползет что-то твердое, да шипит свеча, и огонек испуганно дрожит в душном воздухе.
Время от времени капитан отрывается от письма. Отложив гусиное перо, задумывается и как будто прислушивается к разгулявшейся непогоде. А в трубе воет на разные голоса ночь.
И опять широкоплечая фигура склоняется над столом, и опять перо стелет черный след по белому полю.
Так проходит не один час. Догорит одна свеча — Майборода зажжет новую. При колеблющемся свете свечи он не похож на военного. Он напоминает сейчас лесовика, который курит деготь, мало заботясь о своем внешнем виде. Небрит, волосы спутаны, взлохмачены. Испещренное морщинами лицо опухло, как у пьяницы, который уже несколько дней беспробудно пьет.
Кончив писать, он внимательно читает написанное. Потом достает чистый лист и переписывает, старательно выводя каждую букву.
«...Ежели, благодаря вашему величеству, будет дана вера моему письму, извольте повелеть кому-нибудь прибыть в село Балабановку, Липовецкого уезда, Киевской губернии, где пребываю я с вверенной мне ротою на квартирах. Я укажу место, где спрятаны некоторые законы под названием «Русская правда» и много иных сочинений, составлением коих занимаются здесь генерал-интендант армии Юшневский и полковник Пестель, а в Петербурге — служащий Генерального штаба Никита Муравьев.
Государь, с этого момента жизнь моя в опасности. Потеряв меня, ваше величество вряд ли найдет человека, которому случай помог бы узнать дело настолько, насколько оно известно мне...»
Майборода на мгновение закрыл глаза, представив себе, как император читает его письмо, а потом приказывает немедленно привезти к нему верноподданного капитана, раскрывшего заговор в армии и тем спасшего престол и монарха...
«И вот меня везут в столицу. Петербург! Царский дворец! Стройные гвардейцы на часах, огромные залы, пышность, воистину неслыханная. И сам монарх, самодержец Всероссийский, отечески обнимает меня и горячо целует. А потом — чины, награды, много денег, красивые женщины, хмельные ночи... Даже голова кружится! Поскорее бы отослать письмо, а то кто-нибудь опередит, донесет об обществе раньше меня. Тогда все надежды рассыплются в прах. Жизнь — вечная игра в карты: один выигрывает, остальные проигрывают».
Майборода представлял себе все так отчетливо, словно будущее зримо разворачивалось перед ним и он сидел не в бедной хате, а в залитом ярким светом дворце. И не ветер гудел за спиной, а гремел оркестр, звенели шпоры гвардейцев, павами проплывали мимо красавицы. И среди офицеров — он, до сих пор никому не известный капитан Вятскополка! Теперь его имя знает вся Россия. Сам император ласково улыбается ему. Майбороде завидуют министры, генералы — ведь заслужить благосклонность царя не так-то просто.
Не хотелось открывать глаза, возвращаться из пышных хором в эту давно надоевшую хату, в свою роту, на службу... А еще хуже — встречаться с командиром полка Пестелем, которому он дал слово в ближайшее время вернуть растраченные деньги. Где их раздобыть?..
Он взял перо, дописал последнюю строчку.
Утром пришел поручик Михаил Старосельский, единомышленник и друг Майбороды.
Капитан как раз брился. Повернув к гостю намыленное лицо, сказал:
— Поручик, я еду на квартиру корпуса, дай мне своего дончака. Он идет легко и быстро, а мне надо как можно скорее домчать до Житомира. Если я когда-нибудь разбогатею, обязательно куплю себе этакого вороного черта. А может быть, куплю твоего, — насмешливо покосился он на поручика.
Старосельский обиделся:
— Я не барышник! А за своего Казбека не взял бы и целого поместья. Это же не конь, а вихрь. А ты по какому делу в Житомир? — полюбопытствовал он, присаживаясь к столу.
— Да все по тому же, — выругавшись, ответил Майборода и продолжал скрести жесткую щетину на подбородке. — Ведь я обещал вернуть долг, вот и приходится добывать нужную сумму. В Житомире ростовщиков пруд пруди, может, кто-нибудь и даст денег.
— А что, если нам написать письмо на имя императора, как мы с тобой условились? Сразу и отвез бы его.
— Нет, поручик, мне нужно ехать немедленно. Писать некогда, — возразил Майборода, вытирая полотенцем мокрое лицо и шею. — Рапорт императору напишем, как только я вернусь из Житомира. А сейчас все мои мысли об этом долге. Ведь я дал слово чести, а честь для офицера дороже всего! Ты, наверное, боишься, что нас опередят? — с издевкой спросил он Старосельского. — И кому-нибудь другому, а не тебе, посыплются чины и деньги? Не беспокойся! Что фортуна для тебя приберегла, то будет твоим, мой друг!
Старосельский смутился:
— Я не думаю о награде, я сделаю это потому, что присягал императору. И не забывай: это такое дело, в котором промедление измене подобно. А вдруг и правда кто-нибудь донесет раньше нас? Тогда мы пропали. Жандармы и нас схватят...
Майборода засмеялся.
— Оставь сомнения, поручик! Все будет хорошо! Ты много сделал, подслушивая и наблюдая, — честь и слава тебе за это! Если заговор будет раскрыт, я, ей-богу, сам доложу императору, что большую часть работы выполнил именно ты. Ну да об этом потом. А сейчас веди своего Казбека. И смотри в оба, слушай, о чем болтают наши офицеры. Вернусь — сразу сядем и напишем рапорт императору.
Командир Третьего корпуса генерал-лейтенант Рот Логин Осипович, заметно растолстевший, но еще очень живой и энергичный человек, разговаривая с подчиненными, никогда не повышал голоса, и все-таки его побаивались. Именно эта уравновешенность и спокойный тон да еще пристальный взгляд серых глаз гипнотизировали людей. Поэтому офицеры обращались к нему неохотно.
Майбороду Рот слушал внимательно, внешне сохраняя спокойствие, хотя в действительности испугался не на шутку. Заговор в полках, вверенных ему императором! Неслыханно!
А Майборода продолжал:
— Я просил бы ваше превосходительство немедленно отправить нарочным мое письмо в Петербург на имя его величества, дабы положить конец пагубному влиянию и предупредить восстание, которое может вспыхнуть в любой день.
Рот даже вспотел. В первую минуту он смутился, хотя, как и подобает военному человеку, редко терял самообладание в сложном положении.
— Прежде нежели посылать монарху письмо, я должен ознакомиться с его содержанием, капитан, — произнес он таким тоном, точно его не очень взволновало все услышанное.
Майборода возмутился.
— Ваше превосходительство, русский офицер в исключительных случаях всегда имеет право обращаться прямо к императору!
Рот понял, что Майборода не желает открывать ему свою тайну. Рот обиделся.
— Да, имеет право, если того требуют обстоятельства дела, — согласился он, не собираясь уступать заносчивому капитану. — Однако здесь речь идет о чести моего корпуса. Поэтому именно я должен решить, отправлять ли письмо императору или рассмотреть вопрос на месте, не беспокоя его величество.
Майборода притих, от его высокомерия не осталось и следа. Он сам распечатал пакет и подал Роту письмо.
Командир корпуса дважды прочитал написанное, просмотрел список заговорщиков. Он не мог поверить, чтобы полковник Пестель, тот самый, который вывел Вятский полк в число лучших, оказался руководителем заговора.
— Это немыслимо! — произнес он наконец с таким трудом, точно ему не хватало дыхания. — Откуда и как вы все это раскопали? Не может быть, чтобы в армии существовало политическое общество.
— Существует, ваше превосходительство, и не один год. Откуда мне это известно? Должен вам сказать, что я сам принадлежу к нему... И вступил в него с намерением разоблачить эту преступную свору, посягнувшую на священную особу нашего монарха.
Вконец растерявшийся командир корпуса несколько минут молчал, держа в руках список преступников.
Замер и Майборода, ожидая, что скажет генерал-лейтенант.
— Вот что, капитан, — наконец отозвался Рот, — возвращайтесь немедленно в свою роту, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Ваше письмо будет отослано в Петербург! Вы поняли?
На прощание он окинул недобрым взглядом массивную фигуру доносчика.
В тот же день Рот адресовал пакет на имя императора. Написал и начальнику Главного штаба Дибичу, изложив все, что услышал от Майбороды. Он писал, что денщику Пестеля Савенко известно, где спрятаны секретные бумаги полковника, и потому советовал арестовать денщика и допросить с пристрастием.
Генерал-лейтенант не знал, что Александра Первого уже нет в столице и что вместе с ним в Таганрог уехал и барон Дибич.
Бестужев-Рюмин в третий раз прочитал отцовское письмо. Листки, исписанные знакомою рукою, лежали перед ним на столе, а он никак не мог прийти в себя. Так долго ждал ответа, столько надежд возлагал — и вот все кончилось, жизнь стала непривлекательной и серой, как этот осенний день за окном.
Что сказать Софье? Имеет ли он право глядеть в чистые глаза невольно обманутой девушки? Уверял, что они поженятся зимой, что родители его любят и благословят на брак. А теперь?.. Зачем подал надежду, разбередил душу? За что так обошелся с нею? За все хорошее, чем одарила его Софья, за чистые чувства юной души? Где взять мужество, чтобы оказать ей правду?..
«...Ты еще молод, погуляй на воле, узнай жизнь, а тогда уж заводи свою семью...»
«Странная философия у пожилых людей. Боятся сказать детям правду, ссылаются на какие-то причины, якобы не ими выдуманные. Разве я, прожив на свете двадцать два года, совсем не знаю жизни? И разве моя вина, что пришла любовь?..»
Михаил Павлович отошел от стола, остановился у книжного шкафа, постоял там несколько минут, машинально скользя взглядом по полкам, и опять вернулся к столу, на котором лежали исписанные ровными строчками листки бумаги.
«Если они не понимают сына, если не желают ему счастья, то какие же это родители? Сами когда-то были молоды, влюблялись и, наверное, волновались не меньше меня. А теперь написать такое холодное письмо! Да пусть весь мир будет против, я не могу отказаться от Софьи, я люблю ее больше жизни».
Михаила Павловича терзали сомнения, обида, гнев на себя и на тех, кто заставлял его растоптать и забыть первую любовь. В душу незаметно проникали отчаяние, разочарование и равнодушие; еще недавно жизнь обещала огромную радость, и вот все погибло.
И, как нарочно, Муравьев-Апостол замешкался. Поехал в Умань поговорить с князем Волконским, обещал вернуться вчера, да то ли забыл, то ли что-нибудь стряслось по дороге.
Текут мысли, холодом и тоской веет от них. Куда спрячешься, где найдешь покой?..
Что-то прогремело по мерзлой земле за окном. «Наверное, вернулся Сергей Иванович», — подумал, отрываясь от своих дум, Бестужев-Рюмин и заторопился навстречу другу: после Софьи Муравьев-Апостол был ему дороже всех.
Увидел в дверях неуклюжую, широкую от теплой одежды фигуру Муравьева-Апостола и бросился к нему.
— Наконец! Почему так долго? Я очень тревожился.
Помогая Федору снимать с Сергея Ивановича шинель, он даже на минуту забыл о своей боли.
Они вошли в комнату, служившую хозяину кабинетом. Там на столе лежало страшное письмо.
— Читай! — сказал Михаил Павлович и отошел поодаль. Тягостные мысли опять обступили его, обида на отца сделалась еще сильнее.
— Что-нибудь интересное? — спросил Сергей Иванович. — Да... — сказал он сочувственно спустя минуту, с трудом заставляя себя поверить прочитанному. Он понимал, что Михаил Павлович ждет совета. Но что сказать в таком случае? И изменит ли что-нибудь его совет?
Муравьеву-Апостолу были известны интимные дела друга, поэтому письмо произвело на него удручающее впечатление. Надо как-то утешить Михаила Павловича, обнадежить хоть ненадолго. Когда человек в отчаянии, самое главное — успокоить его на первых порах, потом он сам найдет выход из положения. Как бы ни была сильна боль, время ее притупит.
Сергей Иванович подошел к Михаилу Павловичу, положил ему на плечо руку.
— То, что легко дается, не стоит внимания. Пусть не огорчает тебя это письмо. Отец написал его сгоряча, он одумается, рассудит и убедится, что с твоей стороны это не временное увлечение, а серьезное чувство. И согласится на твой брак. Время — лучший судья наших поступков.
— Ты уверен, что все будет хорошо? — встрепенулся юноша, поднимая глаза на Сергея Ивановича.
— Конечно! — отвечал тот с такой твердостью, точно все зависело только от него и потому не стоило сомневаться и беспокоиться.
— Нет, ты не знаешь моего отца, — вздохнул Михаил Павлович. — Это кремень! Сказал — как отрубил, от своего он не отступится. Такая уж натура.
Однако лед был сломан, Муравьев-Апостол верил, что его товарищ со временем будет относиться к этому неприятному событию не так болезненно.
— Упрямый старик, — продолжал Михаил Павлович, — деспотом его не назовешь, но характер крутой. Придется с ним повоевать.
— И повоюешь, Михаил. На то мы и военные. Надо грудью отстаивать свое счастье, надо бороться за него. А ты, пожалуй, похож на своего отца, — пошутил он, чтобы развеселить друга, — тоже с характером!
Бестужев-Рюмин немного повеселел, уже не так печально смотрел на мир божий. Улыбка преобразила его лицо, он ожил.
— Потерпи немного. Сам знаешь, скоро все в России переменится. Ты станешь независим, начнешь поступать по своему разумению. Это наше законное право — распоряжаться своей жизнью, но сторонники патриархальной старины присвоили его себе, обокрав молодежь. В республике их привилегии потеряют силу. Будут другие взгляды на жизнь, на обычаи, родятся новые традиции. И не родители будут выбирать нам невест, — упразднив дворянство, мы отменим и эту привилегию. Семья станет иною. Мы отбросим прочь все, что мешает человеческому счастью. Так что, дорогой подпоручик, наберись терпения, и все будет хорошо.
— Друг мой! — Михаил Павлович горячо обнял Муравьева-Апостола. — Спасибо тебе! Я знал, что только ты сумеешь меня успокоить. Недаром с таким нетерпением ждал тебя. Ты как будто воскресил меня. Но что мне сказать Софье? Посоветуй...
— Пока не говори ничего, молчи до поры до времени. Ты не так уж часто с нею видишься. К тому же твой отец мог захворать. И вообще старики не торопятся с ответом на подобные письма... Вот так! Ну, а теперь пусть Федор нас угостит, я промерз в степи. Да и тебе не мешает принять лекарство...
— Шутник! — засмеялся Михаил Павлович.
Обедали за длинным столом, застеленным вышитой скатертью. На деревянной тарелке лежал ароматный хлеб. Шел пар от картошки, на сковороде шипело сало.
— Что дашь нам выпить? — спросил Сергей Иванович у Федора. — Чем наполнишь эти сосуды? — показал он на кубки червленого серебра — подарок знаменитого деда Апостола.
— Терновкой, — отвечал Федор тоном знатока, которому доподлинно известно, что полагается пить после осеннего путешествия. — А можно отведать и турчаковки. Тоже полезно. Уж на что султан турецкий — и тот турчаковку употребляет, коли на морозе продрогнет. Басурман, и водка у них законом запрещена, потому как Магомет был непьющий, а все же султан только ею и спасается, чтобы своих султанш не сделать вдовами.
Сергей Иванович захохотал.
— А ты откуда знаешь про султана?
— Да слух идет по всему свету, господин подполковник. Нет такой тайны, про которую люди не узнали бы.
Когда денщик вышел за турчаковкой, Сергей Иванович невесело заметил, что Федор прав, их тайна тоже пошла гулять по свету.
— Иногда мне кажется, что мы сидим на бочке с порохом. Стоит кому-нибудь поднести искру — и взлетим на воздух. Волконский привез неприятную новость: из достоверного источника стало известно, что кто-то донес о существовании Общества императору.
— Кто же этот предатель? — вспыхнул Михаил Павлович, — Я первый с ним разделаюсь!
Муравьев-Апостол беспомощно развел руками:
— В том-то и горе, что имени мы не знаем. Да если бы и знали, трогать его нельзя — только повредишь делу. Волконский просил немедленно сообщить обо всем Пестелю и «славянам». Придется тебе поехать...
— Вот вам и турчаковка, — входя, сказал Федор и поставил на стол пузатую бутылку с напитком красного цвета. — Пейте, ешьте, а я пока подам суп.
— Выпей и ты с нами, Федор, — предложил Бестужев-Рюмин. — Давай свою посудину, — кивнул он на фарфоровую чашку. — А то ты почему-то невесел сегодня...
— Будешь тут весел! — вздохнул Скрипка, заморгав глазами, и безнадежно махнул рукой. — Нынче повесился крепостной нашего судейского. Хороший был человек и молодой. Ему бы жить да жить...
— А в чем причина самоубийства?
— Рубль, — вздохнул Федор. — Барин послал за чем-то Якова, дал ему рубль. А тот каким-то случаем потерял, или, может, воры вытащили. Что делать Якову? Чем помирать под плетями на конюшне, лучше на себя руки наложить.
— А может, барин простил бы.
— Да, такой каин простит, как же! Яков хоть напоследок насолил ему. Пробрался в залу, встал на стол да и закинул веревку на люстру. На люстре и смерть свою принял. Да надо бы сначала ножом в пузо судейскому, чтобы кишки вывалились, а уж тогда голову в петлю...
— О, какой ты, оказывается, гайдамак! — то ли удивленно, то ли одобрительно посмотрел Сергей Иванович на Федора, который, выпив турчаковки, вытирал усы. — С тобой жить опасно.
— За зло и платить надо злом. Гадюку убить — святое дело, сами же говорили. Ну, я пойду принесу суп. Рыбный!
— Да ты сам поешь, а то захмелеешь.
— Я там чего-нибудь пожую...
— Похвально, что они помнят нашу науку, — сказал Бестужев-Рюмин, когда Федор затворил за собой дверь. — То, что глубоко западет в душу, никакими плетями не выбьешь.
Сергей Иванович согласился:
— Да, зерно нашего «Катехизиса» хорошо всходит и прорастает. Главное, чтобы нижние чины поняли, что в ответ на притеснения можно сурово карать и что рыба гниет с головы. А кто в империи голова — сами догадаются. Тогда уж они непременно пойдут за нами.
...Ни терновка, ни турчаковка не помогали Михаилу Павловичу. Письмо отца, вести, привезенные от Волконского, — все завязалось в один узел, который хотелось как можно скорее разрубить.
Александр Первый распорядился вызвать графа Витта. Приказ императора так переполошил начальника военных поселений, что он всю дорогу не пил и не ел, беспрестанно заглядывал в молитвенник, стараясь отыскать в святом Писании совет, путь к спасению.
Граф был уверен, что царю донесли о растрате денег и казенного имущества. Поэтому, уезжая в Таганрог, он со слезами на глазах попрощался с родными и близкими: боялся, что Александр отдаст его под суд.
В полузабытьи тянулось время. Граф просто не замечал его, поддавшись страху, — ведь за последние годы он растратил целый миллион. Проклинал врагов, донесших императору, грозился отплатить им, если только все обойдется благополучно.
И наверно, молитвы графа дошли до бога. Витт не помнил, как вошел в кабинет императора, не расслышал первых слов и лицо Александра видел в каком-то тумане. Но все прошло, когда до него долетел спокойный голос венценосца. Граф ждал бешеного гнева, бури, ругани, на которую был щедр император под горячую руку, — и вдруг...
— Граф, вы дурно себя чувствуете? — ласково спросил лександр. — Дороги весьма скверные. В России трудно путешествовать. Для путешествий хороша только Европа. Не так ли, граф?
— Да, ваше величество, дороги отвратительные, — чужим голосом отвечал Витт, все еще думая, что доброжелательный тон императора — хитрость, за которой скрывается то, чего он так боялся. — Осень на дворе, ваше величество, — выдавил он из себя; казалось, падали не слова, а тяжелые камни.
— Вы правы, граф, — сказал Александр таким тоном, что Витт совсем смешался.
Александр начал что-то искать в куче бумаг на столе. Витта бросило в пот, потом словно кто-то сунул ему за шиворот льдинку. Ноги ослабели. Граф уже готов был бухнуться на колени и, слезно каясь, вымолить у императора прощение. «Да, я растратил миллион, но кто в России без греха? Притом если близко лежат деньги или государственное имущество... Вот так и признаюсь монарху, как господу богу на Страшном суде».
В тот день Витт на собственном опыте убедился, что никогда не следует торопиться. Александр оторвал взгляд от бумаг, посмотрел на гостя. В его голосе не слышалось гнева, только упрек.
— Что происходит на юге моей империи, граф? Злодеи замышляют измену, а вы ничего не знаете? Во всяком случае, молчите. Как это понимать? Вы, как начальник военных поселений, где не так давно происходили волнения, могли бы внимательнее следить за лицами, не вызывающими доверия. А вы?..
— Ваше величество, — вздохнул свободнее Витт, — я писал барону Дибичу, а также графу Алексею Андреевичу сообщал. Прослышав о существовании заговора в полках Второй армии, я решил сам присоединиться к преступникам как их единомышленник, чтобы узнать, кто именно враг престола, и доставить вам список. С этой целью я обратился к лицам, коих подозревал в неблагонадежности, однако мне было сказано, что никакого Общества нет, все это выдумки и фантазии.
— Так как же — существует или не существует гнездо заговорщиков? — резко спросил Александр: он не любил велеречивости и часто обрывал даже Аракчеева, когда тот говорил слишком долго.
— Не берусь утверждать, ваше величество, потому что у меня нет доказательств. Но обещаю все узнать. Херсонский помещик Бошняк уверял меня, что заговор существует. Он хотел вступить в Тайное общество с благим намерением и свое обещание исполнил, однако захворал и пока ничего определенного не выведал. Не смог поехать в Тульчин, где у него есть знакомые офицеры, которых он подозревает.
Граф еще раз поклялся, что в ближайшее время все узнает и сообщит императору фамилии неблагонадежных — как офицеров, так и штатских лиц.
На этом аудиенция закончилась. На следующий день граф благополучно выбрался из Таганрога, куда ехал как на заклание. А еще через несколько дней фельдъегерь из Петербурга доставил письма Майбороды и командира Третьего корпуса Рота со списком заговорщиков.
Теперь Александр был убежден, что в армии, расквартированной на юге страны, существует Общество, уже успевшее составить свою конституцию. Еще после встречи с Шервудом он задумался о либерализме, который сам когда-то поддерживал, желая с помощью легкого вольнодумства и намеков на реформы привлечь на свою сторону офицеров: они в заграничном походе набрались революционного духа и могли стать потенциальными врагами монархии. Тогда он тешил себя надеждой, что офицеры, немного поболтав, растеряют свой юношеский пыл и пойдут той же дорогой, какою шли их отцы. Он хотел привить молодежи мысль, что благоденствие отчизны — забота монарха, что он один отвечает перед всевышним за империю и сам все сделает, когда настанет подходящее время для реформ. «Главное, — думал он, — спокойно окончить свое царствование, а после меня — хоть вселенский потоп...»
Так он думал, однако жизнь повернула по-своему. Надежды Александра не оправдались. В армии росла ненависть к монархии, а значит, и к венценосцу. Вот к чему приводит либерализм...
Донесение Шервуда обеспокоило его, а письма Майбороды и командира Третьего корпуса Рота поселили в сердце глубокую тревогу. Александр стал еще подозрительнее, никому не доверял, в каждом видел врага, который, улучив удобный момент, может стать русским Брутом и первым поднять на императора оружие.
Как всегда, когда он был взволнован, Александр не в силах был усидеть на месте и ходил, топая ботфортами, как будто мог таким образом вернуть себе утраченное спокойствие и присутствие духа.
Заложив за спину длинные худые руки, он мерил шагами кабинет, и глаза его то вспыхивали гневом, то делались пустыми и бесцветными.
«Графа Алексея Андреевича надо бы сюда, — твердил — он, словно споря с другим Александром, старавшимся отбросить навязчивую мысль, завладевшую всем его существом. — Только он может посоветовать и помочь. Дибич хороший служака, штабист, но не советчик монарху. Тут нужен гений. Да, гений!»
Он несколько раз повторил это слово, точно продолжая сучить невидимую нить в сумерках комнаты.
Камердинер зажег свечи, Александр усталой походкой подошел к столу. Какое-то время сидел, закрыв глаза. Потом придвинул к себе лист
бумаги и начал писать письмо Аракчееву, прося его немедленно приехать в Таганрог. Писал долго. Утомившись, отложил перо и засмотрелся на золотистый огонек свечи, чуть-чуть дрожавший, как символ вечно неспокойной жизни.
Написал и архимандриту Фотию, просил повлиять на графа, чтобы тот ехал как можно скорее.
Оба письма фельдъегерь в ту же ночь повез в столицу.
Тогда только Александр успокоился. Не хотелось брать на себя хлопоты с Обществом. В душе он был недоволен капитаном Майбородой, чье письмо догнало его в Таганроге.
«Мог бы дождаться, пока я вернусь в столицу, — думал Александр, не испытывая благодарности к верноподданному офицеру. — Полковник Пестель... Генерал-интендант Юшневский! Может быть, в каждом полку есть свои Пестели? И в гвардии, среди моей охраны? Недаром я долго не хотел давать ему полк. Он недостоин доверия, хотя командир из него вышел неплохой... Быть может, если б здесь был граф, опасность не угрожала бы русскому престолу?»
Он слишком верил в могущество и способности своего любимца.
Дни тянулись однообразно и уныло. Не было вестей от Аракчеева, и сам он не приезжал в Таганрог. Александру пришлось написать второе письмо, намекнуть, что дело политическое и требует немедленного решения.
Снова помчался гонец к Аракчееву. Но не успел фельдъегерь отъехать от Таганрога и сотни верст, как из Петербурга пришла печальная весть: Настасью Минкину убили крепостные, дворовые...
Александр был как громом поражен. Надежда на приезд Аракчеева лопнула, точно мыльный пузырь. Императору было хорошо известно, как привязан Аракчеев к этой женщине, он знал, что тот не выедет из Грузина, пока не выявит виновных и не накажет их.
Итак, придется приниматься за дела Общества самому. Настроение окончательно испортилось...
Вечером Александр пошел на половину императрицы. Елизавета Алексеевна никогда не отличалась красотой, а теперь и вовсе выглядела некрасивой. Даже притирания не могли скрыть серого цвета ее похудевшего лица, замаскировать выпирающие скулы и морщины на шее.
Александр спросил ее о здоровье.
— Благодарю, ваше величество, — растроганно отвечала Елизавета Алексеевна.
Она попробовала улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. Александр и смолоду ее не любил, а теперь и подавно, хотя в последнее время стал более терпим. Быть может, потому, что заметно одряхлел и уже ни за кем не волочился.
— А как вы себя чувствуете? — спросила Елизавета Алексеевна, не спуская глаз с мужа.
— Недурно, — сказал он безразличным тоном.
— Погода скверная. Наверное, она влияет на здоровье и настроение.
— Да! — подтвердил Александр, листая томик французской поэзии.
Разговор был исчерпан.
— Лизетт, — после паузы произнес Александр, — не желаете ли вы осмотреть Крым, проехать по побережью Черного моря? Правда, уже поздняя осень, однако на юге смена времен года не так заметна, как в Петербурге.
— Весьма благодарна вам, ваше величество. Если медикус не будет возражать против этого путешествия, я охотно поеду. В дороге не так скучно. Вы согласны, ваше величество?
— Вот и хорошо, — одобрил Александр. — Посоветуйтесь с Виллие, и мы назначим день отъезда. Покойной ночи!
— Покойной ночи, ваше величество!
Аракчеев уже вторую неделю с пристрастием допрашивал своих крепостных. Каких только мук им не придумывал! Всех мужчин отхлестали нагайками, да так, что у многих на спине живого местечка не осталось. Они едва переставляли ноги от ежедневных побоев и голода: Аракчеев приказал лишь раз в сутки давать им похлебку с репой и ломтик плохо выпеченного хлеба. Все добивался, чтобы назвали убийц.
В тюрьме «едикуль» вповалку лежали на голом полу люди. Посреди двора каждый день происходили экзекуции, и «кобыла» почернела от крови.
Молча выносили они пытки, никого не выдавали. Граф лютовал. Даже устал от ежедневных экзекуций и допросов. Раньше, наказывая кого-нибудь, боялся, как бы не покалечить: ведь это живой товар, его всегда можно продать. Не раз выговаривал Минкиной, которая увечила девушек и парней так, что их потом никто не покупал. А теперь и сам не думал, останется ли тот или иной в живых либо отдаст богу душу еще на «кобыле».
Одна мысль терзала графу сердце: во что бы то ни стало найти убийцу своей любовницы... О, он придумал бы для него такое наказание, что все содрогнулись бы! Приказал бы с живого кожу содрать. Разрезал бы на куски или сварил бы в котле со смолою: пусть крестьяне видят, какой ценой платит убийца за смерть хозяйки Грузина.
Двор имения превратился в ад. Казалось, даже солнце светило здесь более тускло, и в воздухе стоял запах крови, а осенние ветры не успевали осушать слезы людей. Дух Минкиной витал над Грузином и после ее смерти, терзал тела крепостных. А ведь она и при жизни доставляла людям ужасные страдания, недаром выведенные из терпения дворовые убили тиранку.
Однажды утром староста доложил, что некого ставить на работу: одни сидят в «едикуле», другие так избиты, что едва держатся на ногах. Да и харчи — лишь бы не померли с голоду...
— Еще и не того дождутся, ежели не выдадут убийцу, — ответил граф.
— А молотить кто будет? — резонно заметил староста, пытаясь защитить полумертвых людей. — И прочие работы выполнять? А купцы-то уже спрашивали про рожь, овес, просо. И хорошо дают.
— Женщин поставим молотить, подросткам и детям тоже найди дело. А то задаром их кормим. Женщин били легко, больше для порядка и страха, они здоровы. А чтобы не подохли с голоду, прибавь им репы и немного хлеба. Пусть жрут!
— Никита Голопуз, Ивашка Карнаухий и Егорка Мастак ночью померли, не вынеся последнего наказания. А Марфа Чапурина, жена казненного Вавилы, повесилась в сарае на балке. Пока заметили ее, она уж окоченела.
— Прикажи закопать всех в одной яме. Кладбище и так расползается на всю долину, а там неплохой овес родит. Мертвым можно и потесниться. Иди с богом и смотри за порядком. Ведь Настасьи теперь нет, а без хозяйки дом сирота. Позови ко мне Тимофея, потом кликнешь Матрену Федюкову и молодую Чернявку.
Староста вышел. Аракчеев поправил лампадку перед иконой Анастасии-римлянки, очень похожей на Минкину, и набожно перекрестился. Год тому назад эту икону написал богомаз из Петербурга, а митрополит освятил ее в день рождения хозяйки Грузина.
Аракчеев опустился на колени, начал молиться. Он не читал обычных молитв, а точно жаловался богу на свое нынешнее сиротство:
«Боже, зачем ты призвал ее к себе? Никогда уж не прозвучит в моей обители ее ангельский голос, осиротила нас ее святая душенька. Правда, покойница была ругательница, да кто из нас без греха? Бывало, и меня грязным словом обругает... Но господь милостив, авось простит ее прегрешения... Зато какою она была хозяйкою: не давала спуску лентяям, трудились от зари до зари во страхе божием. У соседей-помещиков работы затягивались, а у нее всегда вовремя сеяли и убирали. Царицей была в имении. От одного ее голоса все дрожали. За это и погубили ее лиходеи. А каково-то теперь мне без нее? Найти бы только убийц и достойно покарать их, чтобы ее душенька в раю потешилась. Да и я бы тогда успокоился, что выполнил свой долг, отомстил за ее смерть. Боже, помоги выявить злоумышленника среди рабов моих, перстом своим укажи на него! Аз молю тя, грешный!..»
Вошел палач Тимофей, широкоплечий толстяк с длинными руками и мощными кулаками, словно сплетенными из жил.
— Звали меня, ваша милость? — спросил он, и его кустистые вылинявшие брови шевельнулись.
— Что же ты, Тимофей, плохо работаешь? — стал укорять палача Аракчеев. — До сих пор не нашел лиходея. А ведь я приказал тебя хорошо кормить и водки давать. Вот как ты платишь за мое добро и ласку?
— Я не ленюсь, ваша милость, — обиделся палач, испуганно поглядывая на Аракчеева. — За день рук не чую, не жалею плетей и лозы. Нешто моя вина, что они молча дуба дают и не каются?
— Ну что ты мне говоришь, точно я сам не вижу, как ты работаешь! — недовольно прогнусавил граф. — Разучился, Тимофей! Выходит, надо другого на твое место поставить, постарел ты.
Палач испугался не на шутку. Кормили его сытно, к обеду давали рюмку водки, а тут, не дай бог, придется голодать и вместе со всеми ходить в поле. Да и дворня загрызет за то, что не жалел никого, служил барину, как верный пес.
— Я не постарел, ваша милость! — глухо оправдывался Тимофей, переступая с ноги на ногу. — Пять раз ударю — кости трещат, богу душу отдает. Сила в руках у меня есть. Однако вы и покойница предупреждали, чтобы не забивал мужиков до смерти...
— Насмерть забить и дурак сумеет. А ты наказывай так, чтобы сходил с ума от боли, но калекой не остался. Ведь всю жизнь на этой должности. Сначала в помощниках ходил, теперь самостоятельно орудуешь, должен бы уже, кажется, иметь опыт. Жилы из живого тяни, и чтобы не помер. Понимаешь?
— Рад служить, — сказал Тимофей, рукавом вытирая со лба пот.
— Заруби себе на носу, что за хлеб и водку надо верной службой платить. Последний раз предупреждаю. Иди с богом!
На пороге выросла немолодая уже женщина — смуглая, с лицом, точно опаленным ветром и непогодой. В главах ее, когда-то красивых, застыли безутешная печаль и тревога. Мертвым взглядом смотрела она на графа, словно окаменев в ожидании.
— Матрена, — подошел к ней Аракчеев, — перед святым образом великомученицы Анастасии-римлянки поклянись, что будешь говорить правду и ни в чем не покривишь душой, ибо это грех, который нельзя замолить. Будешь вечно гореть в геенне огненной, ежели клятву нарушишь. Становись на колени и повторяй за мной...
Женщина какое-то мгновение стояла, непонимающе глядя на Аракчеева, потом до ее сознания дошел его приказ. И, загипнотизированная взглядом графа, она опустилась на колени.
Машинально повторяла маловразумительные слова клятвы. Приказал креститься — перекрестилась. Велел положить перед киотом три поклона — положила.
— А теперь вставай и говори: кто убил нашу хозяйку и благодетельницу? Неправду скажешь — на месте испепелит тебя, как клятвопреступницу, огонь божий.
Женщина молчала, будто оглохла, только по ее поблекшему лицу пробегала дрожь.
— Матрена, почему молчишь? Голос потеряла? Так я прикажу Тимофею, чтобы он развязал тебе язык.
Женщина вдруг схватилась обеими руками за голову, громко зарыдала.
— Не знаю, ваша милость! Ничего не ведаю, я в поле была...
Она шаталась, словно под ногами у нее был не твердый пол, а болото.
— Дура! — закричал Аракчеев и больно рванул ее за плечо, та едва на ногах устояла. — Спрашиваю тебя, так признавайся, лентяйка!
— Хоть режьте — не знаю ничего! Как перед: богом...
Аракчеев понял, что Матрена не скажет, а может быть, и не знает, кто убил. Значит, не стоит терять время. Он приказал ей идти и на свободе подумать. Коли не выдаст убийцу, пусть пеняет на себя.
— Продам в чужую губернию, разлучу с мужем и детьми. До самой смерти их не увидишь. Долой с глаз моих!
Как пьяная, вышла Матрена из барских покоев. За конюшней ее ждали люди.
— Не выдала, Матрена?
— Нет! — одними губами ответила она, чтобы успокоить их, и, едва переставляя непослушные ноги, побрела к хате, где жили крепостные, как овцы в кошаре.
А перед Аракчеевым уже стояла девушка Чернявка, боясь поднять на него глаза. Он ласково гундосил, что, коли она хочет себе счастья, пусть назовет имена преступников.
— Ты еще молодая, выдам тебя замуж, за кого сама пожелаешь. И хату новую велю поставить. Заживешь в счастье со своим любезным, будешь деток плодить. А не признаешься — приведу солдат на постой и отдам им на потеху. Надоешь им — прикажу попу повенчать тебя с дурачком Потапом. Станешь ему кости по ночам греть, а днем ходить на работу. Голодом заморю, вздохнуть не позволю. Смерти будешь рада, а помереть не дам.
Девушка дрожала, как верба на ветру. Слезы оросили лицо. Она вся съежилась, ожидая, что вот-вот просвистит вымоченная в соленой воде розга.
Аракчеев гневался, кричал, угрожал, стараясь устрашить и так насмерть перепуганную девушку.
— Ничего не слыхала я, барин, не знаю... — громко всхлипывала она, вытирая рукавом рубахи глаза.
— Не знаешь? — грозно спрашивал он, глядя на ее красивую фигуру и мысленно прикидывая, сколько можно взять за Чернявку, если продать ее какому-нибудь сладострастнику. — Так запомни, чтобы потом не каяться за свою непредусмотрительность. Даю тебе день на размышление. Надумаешь — приходи.
На пороге появился Никита и доложил:
— Барин, приехали их преподобие!
— Архимандрит? Или кто другой?
— Да они, стало быть. Ну, те, что пьют калгановку... Пузатые такие...
— Дурак, подавай мундир.
Одеваясь, Аракчеев думал: «Не вовремя принесло архимандрита. Будет просить, чтобы я дал что-нибудь на помин души Анастасии новопреставленной. Черные вороны!..»
Девушка, воспользовавшись случаем, выскользнула за дверь и, не оглядываясь, побежала через двор к хате, где ее ждал парень. Он бросился к Чернявке, напуганный не меньше, чем она.
— Ну, что сказал этот ирод? Ты не призналась?
— Как ты мог такое подумать, Клим! — задыхаясь, все еще дрожа от страха и вытирая слезы, отвечала она. — Пообещал выдать за Потапа, а перед этим отдать солдатам на потеху...
— У, проклятый! — Он заскрежетал зубами и так стиснул кулаки, что ногти впились в ладони. — Когда же придет на него погибель?..
...Аракчеев низко поклонился гостю, почтительно опустил голову для благословения.
Архимандрит Фотий взмахнул широким рукавом рясы над лысиной графа:
— Во имя отца и сына... Мир дому сему!
— Милости прошу, ваше преподобие. — Аракчеев открыл дверь в столовую, пропуская вперед гостя.
— Слышал, слышал про горе, постигшее тебя, граф, — пробасил Фотий, входя в теплую комнату, обставленную дубовой мебелью.
Стол был покрыт зеленой скатертью. На стенах висели портреты императора и двух императриц — матери Александра и Елизаветы Алексеевны. На камине скульптурной работы стояли позолоченные и серебряные безделушки, а в переднем углу, как и в каждой комнате у Аракчеева, был устроен киот и горели лампадки.
Гость перекрестился на угол, подергал гриву на голове, разгладил бороду.
Кухарка и молоденькая горничная, поклонившись хозяину и гостю, молча принялись хлопотать у стола, ловко расставляя вина и закуски.
Никита в таких случаях не показывался, все делали женщины, предназначенные для приема важных гостей.
Аракчеев пригласил гостя к завтраку.
— Разделите со мною трапезу, ваше преподобие! Один, аки перст, остался. В посте и молитве провожу дни скорби.
— Сие похвалы достойно. Не оскудеет душа не токмо на молитвы, но также и на деяния благие. По новопреставленной рабе божией Анастасий сонмом возглашаем сорокоуст, и во здравие твое на ектенье часть из тела господня вынимаю. Вот привез тебе просвиру.
Аракчеев, перекрестившись, поцеловал небольшой хлебец и отнес его к киоту, где на полочке уже лежало немало черствых, трухлявых просвирок.
— Анастасия — блаженная душа, — промолвил он, садясь за стол, — не ведала, что мученическую смерть примет за свои благодеяния и любовь к ближним.
Фотий слышал, как жестоко обращалась с людьми покойница, как издевалась над ними, однако счел неучтивым сказать горькую правду, поглощая графские хлеб-соль.
— Никто не ведает, когда придет его смертный час. Блажен, кто постоянно глаголет: «Помяни мя, господи, во царствии своем!» — проговорил архимандрит, опрокидывая большую рюмку калгановки.
— Я в монастыри на вечное поминовение послал кое-что, — печально произнес Аракчеев, следя, как уминает гость жареную рыбу. — И столичному духовенству уделил от щедрот своих. И в первопрестольную придется немного послать, чтобы замаливали грехи новопреставленной рабы божией.
— Похвально сие и достойно подражания, — повторил архимандрит, налегая на напитки и закуски. — Оскудевает вера — вот в чем причина вольнодумства и либерализма. Страху божьего мало, а это ведет к непокорству и будит дьявола, пребывающего в каждой душе и ожидающего только часа для своих поганых деяний.
Наконец Фотий, разомлев от вина и сытной пищи, откинулся на спинку кресла. Посидев так немного, он будто случайно завел разговор об отъезде императора на юг, о нездоровье императрицы и о том, что, конечно, вдали от столицы монарх грустит и печалится.
Фотий ни словом не обмолвился о письме Александра, хотя именно из-за него и пустился по осенним дорогам из столицы в Грузино.
Аракчеев сидел насупившись, надувшись, как сыч, и как будто дремал, слушая неторопливую речь архимандрита.
— Граф Алексей, — наконец обратился прямо к нему Фотий, — почему бы тебе не поехать в Таганрог? Императору будет приятно. Ведь в разлуке нам особенно нужна духовная пища, какую может дать только возлюбленный друг. А ты, граф, всегда пользовался любовью монарха, ибо он считает тебя кладезем премудрости и верности.
— Ваше преподобие, почему вы об этом заговорили? — спросил Аракчеев, подозрительно поглядывая на гостя. — Какая тут причина?
Фотий не растерялся, ответ был приготовлен заранее.
— Единственная причина — тревога за здоровье самодержца, — отвечал он спокойно, желая рассеять подозрения Аракчеева. — Кто в России более дорог монарху, чем ты? Потому и ехать тебе следует сей же час.
Слова архимандрита были приятны честолюбивому графу. Однако он не хотел отправляться в Таганрог.
— Не могу я, отче, бросить имение без хозяйского глаза. Кто после смерти Настасьи присмотрит за Грузином? Мне надо навести порядок, найти и наказать убийцу.
— Вряд ли, граф, найдешь, — с сомнением покачал головой Фотий. — Это все равно что искать иголку в стогу сена, сам знаешь.
— Найду, ваше преподобие, — сверкнул глазами Аракчеев, рассердившись на гостя. — Всех казню, пусть меня бог судит. За святую душу не грех сто грешников замучить.
— Самоуправство чинить закон не позволит. И Сенат. Законы, граф, пишут для всех. И выполнять их должны все. А в Таганрог обязательно нужно ехать. Смотри, ты ставишь под угрозу вашу дружбу. За любовь императора можно платить только любовью, граф. Святая церковь благословляет тебя на это путешествие.
Говорили долго. Аракчеев возражал, ссылаясь на осень, плохие дороги и здоровье, подорванное убийством Минкиной.
— Бог даст тебе сил и сократит дорогу, — стоял на своем Фотий.
Ему хотелось угодить Александру. И хотя упрям был «без лести преданный» царский любимец, Фотий не сомневался, что уговорит его выехать в Таганрог.
Архимандрит остался на ночь в Грузине.
В тот день крепостных не стегали плетями на «кобыле» и палач Тимофей отдыхал в каморке поблизости от «едикуля».
В дворцовой церкви митрополиты Петербургский Серафим и Киевский Евгений служили благодарственный молебен во здравие императора Александра. На молебне присутствовали члены царской семьи, министры, сенаторы и кое-кто из высшего чиновничества.
На Серафиме ярко-красная шелковая риза, на Евгении — зеленая. Обе шиты золотом и при свечах сверкают, словно усыпаны драгоценностями.
Пел хор.
Все притворялись, что усердно молятся, в действительности же каждый думал о своем. Просто этикет предписывал делать вид, что возносишь богу молитвы за здоровье императора.
Перед тем как дьякону провозгласить многая лета, в церковь вошел курьер, только что прибывший из Таганрога, и подал Николаю Павловичу пакет.
Великий князь, забыв о молебне, сразу вскрыл конверт и начал читать. Его бледное лицо на миг покрылось румянцем, но тут же стало еще бледнее обычного.
Николай Павлович выступил вперед и громко, так, чтобы все слышали, произнес:
— Его императорское величество самодержец всероссийский Александр почил в бозе...
Все замерли. Воцарилась мертвая тишина, только позванивала кадильница в руке митрополита Серафима, и кто-то глубоко вздохнул, словно с души у него свалилась огромная тяжесть.
— Приказываю служить за упокой души новопреставленного, — отчеканил Николай, точно он командовал на параде.
Митрополиты, еще не вполне придя в себя, торопливо переоделись в черные ризы и печальными голосами начали новую службу.
Ударили в колокола. Тоскливо пел хор. Однако лица у присутствующих были не грустные, а возбужденные, красные.
После службы во дворце собрались члены царской семьи, Государственного совета, министры, представители высшего духовенства. Николай прочитал сообщение барона Дибича и первый присягнул на верность новому императору Константину Павловичу. За ним последовали остальные. Было двадцать седьмое ноября тысяча восемьсот двадцать пятого года.
...Новость молнией облетела столицу. Хотя подробности смерти Александра были пока неизвестны, однако никто не сомневался: русский престол займет Константин Павлович, находящийся сейчас в Польше. В Варшаву помчались курьеры с сообщением, что цесаревич должен ехать в Петербург, где ему уже присягают на верность. А через несколько дней в витринах художественных магазинов появились портреты похожего на отца курносого претендента на русский престол, которого готовились торжественно встретить в столице.
Царица-мать получила письмо из Таганрога. Невестка писала, что, путешествуя по Крыму, Александр захворал, вернулся в Таганрог и умер там от лихорадки. Виллие сделал все, чтобы спасти монарха, но богу было угодно призвать его к себе.
В русских церквах и монастырях печально звонили колокола, служили панихиды, а по дорогам носились курьеры. В Тульчин спешил генерал-адъютант Чернышев с последним приказом Александра — начать следствие по делу членов Тайного общества и арестовать Пестеля.
Когда в Линцы дошла весть о смерти императора, Пестель немедленно написал в Васильков Муравьеву-Апостолу, предлагая ему быть готовым к началу акции, а сам выехал в Умань, чтобы посоветоваться с Волконским и Давыдовым. Уезжая, он приказал Лореру связаться с адъютантом командующего армией Крюковым, а также с князем Барятинским и Юшневским, находившимся в Тульчине, чтобы узнать их мнение и предупредить, что полки выступят, как только он, Пестель, вернется из Умани.
Неожиданная смерть Александра спутала все карты, нарушила планы, вызвала растерянность среди руководителей Общества. Единственным благом было то, что ушел с дороги человек, особенно мешавший революции. Однако эта смерть внесла в планы и непредвиденные коррективы, потребовала решительных мер, которые следовало осуществить немедленно, чтобы не упустить счастливого случая.
«Но действительно ли это счастливый случай? — думал Пестель, торопясь в Умань. — В такой ситуации всего не предусмотришь, а обстоятельства требуют решений ясных и определенных. Как быть? С чего начать? Наше влияние в полках еще недостаточно, нет договоренности с членами Общества, разбросанными по всему югу. А действовать надо дружно. И что в Петербурге? Что решили «северяне»? Готовы ли они поднять полки? На них падает главная задача: заставить Сенат обнародовать конституцию республики. Если бы иметь ответы на все эти вопросы, если бы знать, что думают товарищи, легче было бы начинать».
Холодный степной ветер хлестал по лицу, пронизывал до костей, хотя Пестель был тепло одет. Но он не чувствовал холода, он думал, что вот наконец пришел час, когда решается судьба отечества. Теперь или никогда! Победа или смерть! Так поставила вопрос сама жизнь. Император как будто нарочно столь внезапно ушел в небытие — словно решил посмеяться над недругами...
Пестель не заметил, как проехал околицу местечка, миновал раскиданные в вишневых садах белые хаты. Только очутившись у дома графини Браницкой, пришел в себя. Здесь квартировал бригадный генерал князь Сергей Волконский.
Хозяин был дома, радостно встретил гостя, но Пестель успел уловить в его глазах тревогу.
Они поцеловались, вошли в кабинет.
— Я сейчас на положении холостяка, — пошутил Волконский, приглашая гостя садиться.
— А где княгиня Мария Николаевна?
— Уехала к родителям... Она же... — Он искал подходящего слова. — Понимаете ли... в таком положении...
Пестель улыбнулся.
— Понимаю! Называться отцом — большая честь. И не меньшая ответственность перед человечеством. Ведь оно на единицу возрастает. И хочется, чтобы этот новый, еще не родившийся человек не знал наших забот, жил в лучшем, более чистом мире, навеки освобожденном от тиранов.
— Будем надеяться, полковник, что так оно и случится. Вот этого тирана смерть уже увела с нашей земли. Быть может, он был последним.
— Я приехал условиться, что и когда нужно предпринять, — Пестель опять начал волноваться, мысли, всю дорогу не дававшие ему покоя, снова обступили его в этой уютной комнате.
— Я и сам стал в тупик, услыхав эту новость, — признался Волконский. — Рано его величество переселился в царство Аида. Не дотянул до весны, нарушил наши планы.
— А весною пришлось бы нам силой переправлять его на тот берег Леты, — попробовал пошутить Пестель. — Теперь надо решать, что делать. Причем немедленно. Дорога каждая минута.
— Вот приедет Давыдов — решим. Я послал за ним гонца. А пока прошу в столовую: гостя полагается сначала накормить, а уж потом угощать баснями Лафонтена или Крылова.
Ночью приехал Давыдов. Он напился чаю, и они сразу приступили к делу — еще никто не спал. Таганрогское событие произвело ошеломляющее впечатление, они растерялись: так бывает всегда, когда непредвиденные обстоятельства разрушают, казалось бы, основательно составленные планы. Никто не знал, с чего начинать, когда выступать. Немедленно или подождать, посмотреть, как решится вопрос о престолонаследии?
Волконский и Давыдов предлагали придерживаться старого плана и ждать до весны. Пестель советовал готовить полки к январю: он знал наверное, что Вятскому полку в январе предстоит дежурить при главной квартире, тогда легче будет арестовать штаб армии и двинуться сначала на Киев, а потом на Москву и Петербург.
— А вы, — обратился Пестель к Давыдову, — займитесь военными поселенцами. Вас там знают и уважают, значит, успех обеспечен. Подполковник Ентальцев хоть сегодня поднимет своих людей. Ахтырский гусарский тоже наготове, как сказал мне Сергей Муравьев-Апостол: он недавно разговаривал со своим родственником Артамоном Муравьевым, командиром гусар. Тот заверил его, что Ахтырский полк обязательно выполнит приказ Общества. «Славяне» не подведут — за это можно ручаться, потому что среди артиллеристов и в полках, расквартированных вокруг Житомира и Новоград-Волынска, очень много наших единомышленников. Да и другие воинские части, узнав, что восстание началось, поддержат нас. Я думаю, Трубецкой, Никита Муравьев, Рылеев и иные «северяне» тоже подхватят наш призыв. Об этом мы с ними договорились. Итак, время выступления неожиданно приблизилось, нужно действовать решительно. Повторяю: теперь или никогда!
Долго обсуждали они разные варианты, однако вопрос так и остался открытым. Условились лишь поддерживать постоянную связь между управами и быть готовыми начать акцию, если обстоятельства заставят действовать немедленно.
С невеселыми думами возвращался из Умани Пестель. Раньше он сам сдерживал слишком горячих членов Общества, а теперь его отговаривают немедленно начинать восстание, хотят оттянуть события до весны.
«Просто все растерялись, — думал Павел Иванович по дороге. — Нет единства, нет тесной связи. И ясного плана недостает. Есть отдельные островки в океане, а нужно, чтобы был один материк: островкам не выстоять, если поднимется сильный шторм. Вот так и наши группы. Много людей, преданных революции, готовых к самопожертвованию, но, к сожалению, нет сильной руки, чтобы как следует ударить по монархии. Вот в чем наша слабость. Да, наверное, это так. А может быть, я тоже растерялся и недооцениваю нынешние обстоятельства? Волконский и Давыдов видят дальше, они правы, настаивая на том, чтобы оставить все до весны и не ломать старого плана. Как поступить, чтобы избежать ошибки? У нас есть примеры других революций. Они вспыхивали сразу, подхваченные стихийной силой — вооруженной толпой, однако в короткий срок теряли весь свой запал, а правительство легко подавляло их. Ведь на стороне правительства не только сила, но и опыт подавления. Быть может, и мой план тоже приведет всего лишь к вспышке? И, не разгоревшись, огонь погаснет, вернее, его погасят. Сейчас трудно сказать нечто определенное, еще труднее предвидеть, как будут развиваться события, и заранее обеспечить успех акции. В России это первая попытка совершить революцию. Болотников, Пугачев — то другое. Они возбудили чернь. Но с помощью одной лишь ярости пусть даже многих тысяч людей революции не сделаешь. И чернь на это не способна. Только армия может стать тем тараном, который пробьет дорогу свободе. Итак, нужно поднять восстание в январе. Вятскому полку выпадет честь первому сделать шаг к революции или к виселице. Третьего пути нет».
Думы, сомнения, а где-то в уголке сознания опасения, колебания. И по-прежнему тревожно, сердце вещует недоброе.
— Ваше благородие, вон и Линцы видно, — подал голос Савенко.
И, как вспугнутые воробьи, разлетелись мысли. Но лишь на мгновение.
Майор Лорер нетерпеливо ожидал возвращения Пестеля, поэтому, увидев, что из переулка выбежали на площадь лошади, бросился навстречу, поймал за уздечку гнедого и повел во двор. Павел Иванович спрыгнул на землю.
Лорер крепко обнял его.
— Идемте, полковник. Скорее!
По виду Лорера Пестель понял, что у майора есть важные новости, и быстро вошел в дом.
— Что-нибудь важное, Николай Иванович?
— Да. Адъютант графа Витгенштейна сказал мне, что капитан Майборода через корпусную квартиру отправил в Петербург донос на наше Общество.
Пестель остановился как вкопанный, Даже не стал раздеваться, просто забыл, что в комнате тепло. Зная неприязнь Лорера к Майбороде, он по-своему отнесся к этой новости. Предательство Майбороды почему-то не вязалось с его мыслями. Павел Иванович все еще верил в искренность капитана.
— Любое обвинение, Николай Иванович, требует доказательств, — произнес он, хмуро взглянув на майора. — И должной проверки. Тем более если речь идет о чести нашего товарища и единомышленника.
Лорер возмутился:
— Я не с базара принес эту новость, Павел Иванович. Мне сказал Крюков, наш общий друг. А Майборода никогда не был мне товарищем.
Пестель понял, что обидел Лорера, он извинился.
— Все наша раздражительность, дорогой друг. Стыдно, что мы иногда так несдержанны, грубы. Точно не друзья, а политические противники. Да... Однако послушайте, что предлагают Волконский и Давыдов...
В тот же день из штаба армии прибыл гонец. Пестеля вместе с его денщиком Савенко вызывали в Тульчин.
Это распоряжение удивило их и очень встревожило. «Почему мне приказывают ехать вместе со Степаном? — думал Павел Иванович. — Это неспроста. Наверное, что-то случилось...»
Лорер, взволнованный, бледный, шагал по комнате. Он думал то же, что и Пестель. Нет, не по служебным делам вызывают командира Вятского полка. Разумеется, это результат предательства Майбороды, не иначе. Его работа. Майор весь кипел от гнева, он готов был сейчас же ехать в Балабановку, чтобы расквитаться с изменником. Убить его без сожаления, как гадюку, которую так неосторожно пригрел у своего сердца Пестель.
— Что же делать, Павел Иванович? — не выдержал долгого молчания Лорер.
В его глазах было столько преданности и сочувствия, что Пестелю стало жаль друга.
— Да ничего, — отвечал он равнодушно, чтобы успокоить Лорера. — Утром поеду. И Степана возьму. Не понимаю — почему в штабе армии начали интересоваться денщиками?
— Все ясно, — горячился Лорер, — это он, Майборода! Я чувствую, что он предал вас. Этого следовало ожидать.
— Николай Иванович, может быть, вы и правы, однако пока сохраняйте спокойствие. Зачем лишние волнения? Мы же еще ничего не знаем. Больше выдержки и терпения, мой друг!
— Нет, я убью его! Только тогда я успокоюсь.
— Глупости! Это не принесет нам добра.
— Вы не должны ехать в Тульчин. Вас не выпустят оттуда.
— Предположим. Но что же дальше? Ждать, пока приедут, силой посадят в возок и повезут в штаб? Если б мы жили в крепости, то и тогда было бы нелепо отсиживаться за толстыми стенами. Не поехать — значит признать, что чувствуешь за собой вину. К чему давать в руки врагу лишние козыри...
— И все-таки я советую воздержаться от поездки. А если они сами приедут, поднять полк. За вами пойдут все, и это будет началом того, к чему мы уже давно готовимся. За Вятским полком восстанут остальные, мы огласим всенародно «Русскую правду» — пусть люди знают, за что мы боремся. А будут знать цель — пойдут на смерть.
«Наверное, и я в молодости был таким же пылким, — улыбнулся про себя Пестель, однако тотчас вспомнил, что Лорер всего на два года моложе его. — Разница невелика, просто Николай Иванович унаследовал от матери грузинскую кровь, вот почему он так несдержан. Мы дети одного поколения, на нашу долю выпала хотя и трудная, но почетная ответственность перед будущим. Но нам нести ее не как крест на Голгофу. Мы выполняем веление времени, мы осуществляем мечту о свободе. Да, России особенно необходима свобода...»
— Нет, дорогой друг, — сказал он вслух, — ехать нужно, и без промедления. Зачем вызывать у начальства подозрения? Ну а действовать, разумеется, буду так, как подскажут обстоятельства.
Лорер был вне себя.
— Вас арестуют! Вы об этом не думаете?
Он был готов отдать жизнь за Пестеля.
— Ну и что же? Арестуют, а потом отпустят. Как они докажут мою вину? Донос может быть обыкновенной клеветой. Не так ли?
— Нет, — в отчаянии покачал головой Лорер, — они запутают любого, и не так уж они наивны, чтобы не поверить Майбороде.
— Тогда я попробую выпутаться, — пошутил Пестель. — А вы, дружище, берите «Русскую правду» и ночью закопайте где-нибудь. Самое важное — сохранить ее, чтобы она не попала в руки полиции. Вот вам мой наказ.
— Исполню, Павел Иванович, не беспокойтесь, — пообещал Лорер. — Все сделаю, лишь бы вас отпустили из Тульчина домой.
— Вот и хорошо! Теперь не будем терять времени на разговоры и приступим к делу. Надо проверить наши бумаги, ведь иногда какой-нибудь пустяк может стать той ниточкой, за которую вытянут весь клубок. Главное — сохранять спокойствие и выдержку. Они наши верные помощники. Может быть, мы зря себя пугаем. А пуганая ворона и куста боится.
— Вы еще в состоянии шутить? — Лорер не одобрял подобного оптимизма. — А меня грызут злость и тревога. Я не могу успокоиться.
Всю ночь не спали, готовясь к тому неведомому, что уже поджидало их. Утром собрались в дорогу. Пестель сказал Савенко, что его тоже вызывают в штаб.
— Меня? — удивился Степан. — Чудеса, да и только! Зачем я им понадобился? Вызывают! Словно и без их напоминания я не поехал бы с вами.
Лорер волновался еще сильнее, чем вчера. Он посоветовал Савенко поменьше болтать, если его начнут допрашивать.
— Не извольте беспокоиться, знаем, где раки зимуют, — ответил денщик.
Пестель поцеловался с Лорером, они пожали друг другу руки.
— До свидания, Николай Иванович!
— Счастливого возвращения, Павел Иванович! — вздохнул майор, долгим взглядом провожая всадников, пока они не скрылись за поворотом дороги.
Уже после смерти Александра Первого генерал-адъютант Чернышев получил приказ выехать в Тульчин, арестовать полковника Пестеля и других членов Тайного общества, которые будут выявлены во время следствия, и ждать дальнейших распоряжений.
Одиннадцатого декабря Чернышев прибыл в Тульчин и остановился на квартире начальника штаба генерал-адъютанта Киселева, ожидая прибытия командующего Второй армией графа Витгенштейна. Тот в это время находился в своем имении, занимался хозяйственными делами, которым всегда уделял больше внимания, чем службе.
Чернышев не сказал о цели своего приезда, а Киселев не расспрашивал. Разговор вертелся вокруг Таганрога и столичных новостей. Только когда в Тульчин вернулся граф Витгенштейн, Чернышев сообщил, по какому делу он приехал.
Граф оторопел, услышав про заговор. Что касается Киселева, то он отнесся к известию спокойно: для него не было тайной, что в армии распространились противоправительственные настроения, поэтому он не видел ничего удивительного в том, что существует заговор против монархии. Его лишь удивляло, что Обществом руководит Пестель. Он даже усомнился в этом.
— А впрочем, — откровенно признался он Чернышеву, — полковник Вятского полка настоящий талант. На любом посту принесет пользу, проявив при этом должное достоинство.
Граф Витгенштейн поддержал начальника штаба:
— Да, прикажи Пестелю командовать армией или назначь его министром — он везде будет на своем месте. Потому и полк свой сделал образцовым. Его величество на последнем смотру дивизии любезно похвалил выправку солдат, четкость и слаженность их действий, каковые в самом деле заслуживают быть отмеченными.
«Похвалил!» — с иронией подумал Киселев, вспомнив, как долго император не желал давать Пестелю полк. Почему Александр с таким предубеждением относился к Пестелю — неизвестно. Однако, подписывая указы и артикулы относительно продвижения офицеров по службе, он всякий раз вычеркивал фамилию Пестеля. А Киселев опять включал ее в список, напоминал, даже сам просил Главный штаб назначить Пестеля командиром Вятского полка, именно его, а не кого-либо другого, потому что нужно было вывести отстающий полк в образцовые.
Наконец Александр смилостивился. Правда, и после этого дежурный генерал Главного штаба Закревский не раз предупреждал, что надобно следить за новым полковником. Что именно имел в виду Закревский, догадаться было трудно, но Киселев не забывал его предостережений. Вспомнил он их и сейчас. «Ай да Макиавелли!» — то ли с удивлением, то ли с одобрением подумал Киселев: это он когда-то назвал Пестеля именем хитрейшего из итальянских политиков. Киселев и теперь верил в разум и военные способности Пестеля и, слушая Чернышева, жалел, что полковника ожидала незавидная судьба.
Киселев хотя и догадывался о существовании какого-то Общества среди офицеров, однако почитал за лучшее быть подальше от политического авантюризма, в котором обвиняли тогда всех, кто мечтал о реформах, о конституции, о республике. Он любил слушать пылкие речи юных либералов, но был уверен, что эта болезнь молодости с годами незаметно пройдет — так же, как и пришла.
Все это припомнилось Киселеву, пока разговаривали Чернышев и граф Витгенштейн. Граф был подавлен. «Подумать только — в моей армии! Что скажет его величество?..»
Сообщение о заговоре очень напугало Витгенштейна. Он уже давно лишь номинально числился командующим, проводя свое время по большей части в имении близ Тульчина. Армией фактически командовал Киселев.
«Надо самому подать рапорт об отставке, пока мне не предложили это сделать», — решил граф. На душе у него было скверно.
Чернышев хотел отправиться в полки и арестовать всех, кого выдали Майборода и Шервуд. Но граф был против.
— Подобная акция вызовет нежелательную реакцию со стороны офицеров, — предупредил он царского посланца. — Пойдут слухи, пересуды. Это же пятно на всю армию. К чему? Кроме того, не доказано, что данные лица действительно политические преступники. Я предлагаю прежде всего вызвать Пестеля и здесь его допросить. Потом других, если возникнет необходимость. Сделать все тихо, без лишнего шума. Что касается генерал-интенданта Юшневского, то я сам займусь им. А пока он в штабе, генерал Байков произведет обыск у него на квартире, а также на квартирах тех, кого ваше превосходительство будет допрашивать.
Чернышев молча чертил что-то на бумаге, слушая командующего Второй армией. «Граф прав, дело деликатное, лучше, чтобы все обошлось без шума. Речь идет об офицерах из богатых и влиятельных семейств, с ними полезно жить в мире».
— Еще хочу обратить внимание вот на что, — продолжал взволнованный Витгенштейн. — Если эти офицеры в самом деле заговорщики, то они могут оказать сопротивление и поднять свои полки. Тогда вспыхнет восстание. Кто поручится, что у них нет единомышленников и что они не распространили свое влияние на других? Следовательно, надо провести акцию так, чтобы не вызвать лишнего возбуждения в воинских частях, где преступники несут службу.
Чернышев без возражений согласился с графом. Решили вызвать из Линцов Пестеля. Поскольку Майборода в своем доносе назвал имя денщика Савенко, не раз помогавшего Пестелю прятать «Русскую правду», то вместе с полковником вызвали и его.
При въезде в Тульчин, у шлагбаума, Пестеля встретил жандарм и подал письмо от дежурного генерала Байкова, который приглашал полковника к себе на квартиру. Пестелю пришлось ехать в сопровождении жандарма до самого центра местечка.
Генерал-майор Байков любезно поздоровался с Пестелем и пригласил его к столу. А когда они остались вдвоем, сообщил о приказе командующего арестовать его и поставить караул. В голосе генерала звучало сочувствие.
Известие не произвело особенного впечатления на Пестеля: он догадывался, почему его вызывают в главную квартиру, и был готов к любой неожиданности.
— Пока для вас приготовят комнату, полковник, побудьте здесь. А скоро, может быть, вернетесь в свои Ланцы, — сказал генерал и, ссылаясь на занятость, оставил Пестеля одного.
«Вот и заперли в клетку, — с иронией подумал Пестель, не теряя, впрочем, присутствия духа, словно речь шла о случайном недоразумении. — Недаром у Лорера было недоброе предчувствие. Но ехать все равно было необходимо. Ссылаться на болезнь или какую-нибудь другую причину бессмысленно! Правительство скорее поверит Майбороде, чем мне. Подлость всегда привлекает тиранов».
Вдруг дверь отворилась, и Пестель увидел на пороге Волконского в новом мундире, который очень шел к нему. Лицо Волконского было бледно, взволнованно. В глазах светилась тревога.
— Князь, какими судьбами?! — воскликнул Пестель, вставая со стула и бросаясь к нему.
— Спокойно, Павел Иванович. Мужайтесь, друг мой! — по-французски сказал Волконский, чтобы не понял стоявший на часах жандарм.
— Мужества нам не занимать, Сергей Григорьевич, — отвечал Пестель, не отпуская руки главы Каменской управы и глядя на него с благодарностью. — Уничтожьте немедленно всю переписку, вам тоже не миновать обыска. Предложите сделать это всем товарищам. Я ничего не выдам, не признаю никаких обвинений, от меня они ничего не добьются. Меня гнетет лишь одна мысль: что именно им известно о нашем Обществе, а чего они еще не выведали? Задача со многими неизвестными. Но сейчас главное — выдержка и спокойствие, победит тот, у кого крепче нервы. Словом, не беспокойтесь, ничего не открою, хотя бы меня в клочки разорвали. Спасайте только «Русскую правду».
Им не дали договорить, вошел генерал Байков. Увидев Волконского, он разгневался:
— Как вы сюда попали, князь?
— Очень просто, генерал, — спокойно отвечал Сергей Григорьевич, — Вошел в ту же дверь, что и вы. Я приехал к командующему, а тут мне сказали, что у вас гостит полковник.
Вот я и заглянул на минутку.
— Полковник под арестом, и разговаривать с ним запрещено! — отрубил Байков. — Это нарушение приказа царского посланца и графа Витгенштейна; они распорядились держать арестованного под строгим караулом.
— Я этого не знал, генерал, — сказал Волконский таким тоном, словно ему и в самом деле ничего не было известно. — Не смею нарушать приказ и потому ретируюсь...
Когда за Волконским закрылась дверь, Байков напал на караульного жандарма:
— Не смей никого сюда пускать, дурак!
Жандарм не сводил глаз с генерала. Он точно окаменел, ни один мускул не дрогнул на его смуглом лице.
На допросе в присутствии Чернышева и Киселева Пестель не признал обвинения относительно своего участия в работе Тайного общества и руководства им. Внешне он держался совершенно спокойно, хотя в душе спокойствия давно не было, тревожные мысли сверлили мозг: что успел сообщить Майборода, кто еще внесен в его списки, кого уже допрашивал Чернышев и что ему известно об Обществе?
Чернышев вел себя как некое божество, всем своим видом показывая, что судьба заговорщиков в его руках. Тон у него был чрезвычайно высокомерный.
— Полковник, вы отрицаете, что принимали участие в политическом заговоре, и не желаете назвать лиц, причастных к нему? Так я вас понял?
— Да, отрицаю. Я не чувствую за собой вины, за которую должен нести ответственность перед правительством и императором. Поэтому и не могу никого назвать. Тем более что впервые слышу из ваших уст о каком-то Обществе.
Чернышев, прищурясь, смотрел на Пестеля. Он любовался его деланным спокойствием. Чернышев понимал, что Пестель будет все отрицать, пока его не поставят перед непреложными фактами, и, как опытный следователь, заранее торжествовал победу, впрочем, делая вид, что верит каждому слову.
— Ну что же, тогда я вас больше беспокоить не буду, — с подчеркнутой любезностью произнес он, провожая Пестеля из кабинета, словно тот был не арестованный государственный преступник, а важный гость.
— Приведите денщика полковника Пестеля! — приказал Чернышев жандармскому поручику, ожидавшему распоряжений в соседней комнате.
Савенко заметно волновался, отвечая на вопросы генералов, однако выдавать он ничего не собирался. Глядя в потолок, с трудом вспоминал разные события и людей, которыми интересовались следователи, взвешивал каждое слово.
— Кто чаще всего приходил или приезжал к твоему полковнику? О чем они разговаривали? Долго ли находились у него? — допрашивал Чернышев, не спуская глаз с денщика.
Степан пожимал плечами, забывая, что перед генералами полагается стоять навытяжку, отвечать коротко и ясно.
— К нам завсегда приезжают, потому как их благородие полковник любят всех угощать обедом да разными теликатесами и винами. Это уж точно.
— Ты, братец, не разводи тут антимоний — обеды, теликатесы, — а отвечай прямо: кто чаще других бывал у полковника, сколько времени сидел, о чем они разговаривали? Я знаю, денщики имеют привычку торчать у дверей и подслушивать. У денщика уши чуткие, как у зайца.
— Верно изволите говорить, ваше превосходительство, насчет ушей. Грешны! Ухо иной раз так само к дверям и липнет. Только вот горе наше, что господа офицеры по-хранцузскому разговаривают, а мы этой премудрости не обучены, потому и не разбираем, что к чему. Бормочут, а о чем — неведомо!
Чернышев злился, кричал на Степана, угрожал сгноить его на каторге, если не будет говорить правды. Но Савенко плел одно и то же.
— Распустился, чертов хохол! Пойди лучше на досуге подумай. За откровенность и верную службу получишь награду и поедешь на побывку, дурак!
— Мы, ваше превосходительство, со всем вашим желанием. Хотя мы грамоте не обучены, да как-никак понимаем, что начальству надобно говорить одну правду. Недаром присягу приносили...
— Прочь с глаз моих, остолоп! — заорал Чернышев, от природы грубый солдафон, выскочка, правдами и неправдами дослужившийся до высокого чина у начальника Главного штаба барона Дибича.
Савенко отвели на гауптвахту, так ничего и не добившись от него.
«Прикидывается дурачком, а сам хитрющий, бестия, — подумал Киселев, внимательно следивший во время допроса за денщиком Пестеля. — Было бы неплохо, если бы царский посланец ни с чем вернулся в Таганрог. Меньше хлопот. А то спросят, куда смотрели, почему допустили возникновение Общества и не донесли своевременно. Только лишние неприятности. И без них служить не очень-то весело...»
— Генерал-интендант Юшневский! — громко доложил молоденький адъютант командующего, появляясь на пороге кабинета.
— Проси! — бросил Чернышев, просматривая лежавшие перед ним бумаги.
Алексей Петрович тоже догадывался, по какому делу прибыл в Тульчин приближенный Дибича. Как только Чернышев поселился на квартире у Киселева, Юшневский сразу известил об этом письмом Волконского и врача Вольфа. А сам занялся своими бумагами и все, что могло вызвать подозрения, уничтожил.
Юшневский держался с достоинством. На вопрос Чернышева, давно ли ему известно о существовании Тайного общества, отвечал спокойно и даже с ноткой обиды:
— Ваше превосходительство, хотя мне и прискорбно слышать этот вопрос после двадцати четырех лет безупречной службы, однако имею честь доложить, что ни о каких обществах я не знаю.
— Так! — многозначительно произнес Чернышев, глядя прямо в глаза Юшневскому. — А не вашей ли рукой писаны некоторые страницы в сочинениях о политическом переустройстве части или даже всей Российской империи и не выправляли ли вы чьи-либо статьи такого же содержания?
«И об этом знает», — подумал Юшневский. Но выражение лица его не изменилось, оно оставалось холодно и равнодушно.
— Из сказанного мною вы можете сделать вывод, что подобных сочинений я не писал, не выправлял и потому ничего не могу о них сообщить.
Отрицательно отвечал он и на другие вопросы Чернышева. И все это записал собственноручно на двух листах бумаги — разборчивым, четким почерком, каким переписывал по просьбе Пестеля «Русскую правду».
Пока шел допрос, жандармы на квартире у Юшневского делали обыск. Перепуганная Мария Казимировна никак не могла взять в толк, чем провинился перед начальством ее муж и в чем его подозревают. Вся переписка Юшневского с братом Семеном Петровичем, чиновником девятого класса, а также с другими лицами была изъята и доставлена в штаб-квартиру Чернышева.
Читая показания Юшневского и глядя на строчки, только что выведенные его рукой, Чернышев заметил:
— Почерк четкий и твердый. Так писать может только совершенно спокойный человек.
— Скорее всего, это поклеп на генерал-интенданта, — сказал Киселев. — Не может быть, чтобы столь уравновешенный, политически лояльный человек имел отношение к заговору.
— Гм... Вы так думаете? — улыбнулся Чернышев, уколов взглядом начальника штаба Второй армии. — Я докажу вам, что вы ошибаетесь, Павел Дмитриевич.
На следующий день прибыл вызванный в штаб-квартиру армии Майборода.
Киселев слушал капитана, стараясь подавить отвращение к предателю. А тот подробно рассказывал о Пестеле и о том, как ему, Майбороде, удалось вступить в Тайное общество и войти в доверие к заговорщикам.
— Пестель хорошо относился к вам, капитан? — спросил Чернышев.
Ему доставляла удовольствие мысль, что он доказал начальнику штаба наличие заговора во Второй армии и активное участие в нем офицеров, за которых так ручались и он и граф Витгенштейн.
Майборода охотно отвечал на все вопросы.
— Полковник Пестель доверял мне секреты, считая меня своим единомышленником и даже другом. Я действовал как верноподданный его величества, ибо готов пожертвовать жизнью ради венценосца и престола российского.
— Что вам известно о законе или конституции, которую вы в своем письме назвали «Русской правдой»?
— Основные параграфы в ней следующие: отмена крепостного права, наделение землею тех, кто получит волю. Землю отнимут у ее собственников — помещиков, причем половину разделят между крестьянами, а другую половину отдадут в общественное пользование. Военные поселения надо уничтожить, а поселенцев освободить. Гвардию лишить привилегий, дарованных ей монархами, и вообще все гвардейские полки переименовать в обыкновенные армейские. Срок службы нижним чинам установить вместо двадцати пяти лет в пятнадцать. Кормить солдат хорошо, одежду и форму сделать удобною и цветом не похожею на нынешнюю. Запретить наказание шпицрутенами, а офицерам предписать обращаться с солдатами благородно и гуманно.
— И все это известно нижним чинам вашего полка?
— Да! — твердо отвечал Майборода. И прибавил, что Пестель приказывал и ему лично, и другим офицерам излагать основные пункты этой программы нижним чинам как во время учений, так и на досуге. — Полковник приказал мне готовить роту к восстанию с оружием в руках, Он учил, как заслужить доверие подчиненных, чтобы они впоследствии выполняли распоряжения Общества.
— Знаете ли вы, где хранится «Русская правда»?
— К сожалению, ваше превосходительство, сейчас я показать это место не могу, однако это может сделать майор Лорер. После лагерей Лорер сказал поручику Александру Крюкову, что в полку появился шпион, посланный правительством, и потому «Русскую правду» пока спрячут в бане. Я подслушал это случайно. Майор Лорер с первого дня относился ко мне с предубеждением, даже ненавидел меня. Я уверен, что именно ему Пестель поручил хранить и прятать «Русскую правду». И еще я слышал от Пестеля, что нужно уничтожить царскую семью. Причем сразу всех, чтобы никто из дома Романовых не спасся. После убийства должны были выпустить прокламации и манифест к армии, объяснить необходимость этой акции во имя революции и безопасности республики.
— Как поддерживалась связь между заговорщиками, вам известно?
— Да, ваше превосходительство! Связь между управами поддерживал подпоручик Полтавского полка Бестужев-Рюмин. Он почти не нес службы в своем полку, а постоянно разъезжал или жил в Василькове у Муравьева-Апостола. Этому беззаконию потакал полковник Тизенгаузен, который тоже замешан в заговоре.
— Вы утверждаете, что все названные в вашем списке лица были членами Общества?
— Да! — прогудел Майборода и почему-то захлопал главами. — Могу подтвердить это под присягой. В письме на имя его величества я назвал лишь сорок пять человек, о которых мне доподлинно известно. Однако заговорщиков в армии гораздо больше.
Рассказ Майбороды произвел неприятное впечатление на Киселева и графа Витгенштейна. Выходило, что во Второй армии действовали не отдельные реформаторы, а большая группа противогосударственных преступников. И к этой группе принадлежали не одни лишь молодые офицеры, но и такие опытные военачальники, как Пестель, Волконский, Муравьев-Апостол, Юшневский...
Киселев упал духом.
«Романовы никогда мне этого не простят, — думал он. — Начальник штаба обязан все слышать, все знать. А я не раз бывал у Пестеля, слышал, о чем говорят офицеры, но не придавал значения болтовне про конституцию, республику, русское якобинство. Следовало принять меры и прекратить эти постыдные разговоры, дабы вольнодумцы не отравляли юные души своими высказываниями о российских порядках. Да, я это проворонил...»
Граф Витгенштейн до сих пор не мог поверить, что столь достойные, обладающие большими познаниями люди, — как Юшневский, Ентальцев, Повало-Швейковский, принадлежат к заговорщикам...
«Какой ужас! Уничтожить в России монархию! Не заменить одного императора другим, а истребить весь род Романовых... — с трепетом думал Витгенштейн. — Неслыханное преступление! Отменить все права дворянства! Лишить гвардию привилегий, которыми она обладает испокон веку. И эти якобинцы служили в моей армии, а я ничего не знал. Нужно подавать в отставку. Буду выращивать капусту, жить на лоне природы и никогда не знать капитанов майбород...»
А Чернышев торжествовал:
— Ну что, Павел Дмитриевич, чья правда? Не я ли говорил, что Пестель и Юшневский только притворяются невинными овечками? Да мы стреляные воробьи, а тактика этих умников рассчитана на наивных юношей, неопытных в делах сыска. А вы еще пытались их защищать.
В его тоне было высокомерие и еще что-то очень обидное. Но Киселев сдержался и не ответил грубостью на тираду заносчивого выскочки.
Чернышев предложил кроме Пестеля арестовать майора Порера и поручика Крюкова, адъютанта графа Витгенштейна, и обо всем известить барона Дибича.
Вызванный на допрос поручик Вятского полка Старосельский подтвердил все написанное Майбородой и очень удивился, что под доносом нет его фамилии. Ведь он помогал капитану разоблачить заговорщиков и выведал не меньше, чем он.
В тот же день в Тульчин пришло известие о смерти Александра Первого в Таганроге. Уже целую неделю об этом ходили слухи, однако не все им верили. Теперь о кончине монарха официально сообщили из Петербурга.
Чернышев опечалился. Он надеялся выслужиться перед императором, раскрыв и юридически доказав существование заговора во Второй армии. И вот все рухнуло. Он не знал, как поступить.
Зато Киселев вздохнул с облегчением: гроза миновала. У нового монарха он сумеет заслужить доверие и расположение: ведь великий князь Константин всегда относился к нему благосклонно, а теперь именно он займет престол.
Киселев предложил приостановить следствие, пока не будет получен приказ нового императора. А тем временем запросить барона Дибича, что делать с арестованными государственными преступниками. Ну, а те, кого собирались арестовать, пусть до поры до времени погуляют на свободе. Только нужно на всякий случай установить за ними негласный надзор, чтобы они не вздумали удрать за кордон, который, кстати, не так далеко отсюда.
Из Тульчина помчались курьеры в Петербург — в Таганрог уже незачем было ездить. В Таганроге хлопотали о том, чтобы перевезти кое-как набальзамированное тело недавнего самодержца России, который отныне никого не интересовал. Все готовились присягать новому Романову.
Цесаревич Константин по-прежнему сидел в варшавском Бельведере, весело проводя время с княгиней Лович, и не спешил возвращаться в столицу. Николай Павлович первый присягнул на верность Константину, желая заслужить у старшего брата доверие и благосклонность.
В соответствии с законами и обычаями российского престолонаследия вступление на престол считалось совершившимся с момента освобождения его предшественником. Александр I умер, однако Константин не пожелал дать формальный акт отречения — это противоречило обычной практике и создавало чрезвычайно сложную ситуацию. Все Романовы в письмах просили Константина нее оставлять Россию надолго без монарха, но он как будто издевался над родственниками — писал о всяких пустяках. Сообщал варшавские новости, а о своем приезде молчал.
Скоро тревога охватила и членов Государственного совета, министров, сенаторов. Всех пугало междуцарствие. Дошло до ссоры между Марией Федоровной и Николаем Павловичем. Царица-мать упрекала сына за то, что он поторопился присягнуть Константину: надо было сначала получить его согласие на престол.
— А впрочем, — проговорила она с иронией, — какое может быть согласие, если еще два года тому назад он отказался царствовать! Я думала, Константин хоть сейчас опомнится, но выходит — нет. Да он и не имеет права занять трон, потому что связал свою жизнь с особой не царской крови. Польская графиня Иоанна Грудзинская слишком дорого обошлась Константину.
Николай вытаращил глаза, на его каменном лице мелькнула тень тревоги, удивления или, может быть, радости.
— Почему же вы до сих пор молчали, ваше величество? — посмотрел он на мать так, как смотрят на лютого врага. — Не понимаю! И удивляюсь вам!
Великий князь Михаил Павлович поглядывал то на мать, то на брата, не вмешиваясь в этот деликатный разговор.
— Я молчала, — рассердилась Мария Федоровна, — потому что такова была воля нашего светлого ангела Александра. — Она приложила к глазам платок. — Ты знаешь, что тайна монарха священна! И тот, кто ее нарушит, — отступник. Покойный император Александр тогда же приказал Филарету, митрополиту Московскому, составить проект манифеста, который и был подписан в Царском Селе. Один экземпляр этого документа хранится в московском Успенском соборе, а второй, собственноручно переписанный князем Голицыным, лежит в Государственном совете. Этот манифест наш ангел завещал огласить после его смерти. Теперь мы имеем право распечатать конверт и прочитать его всем, поскольку Константин своим молчанием еще раз подтверждает отказ от престола.
Для Николая это была ошеломляющая новость. Однако он выжидал. Вслед за ним Константину начали присягать полки. Николай Павлович знал, что его не любят офицеры гвардии, а ведь именно гвардия сажает на престол и сбрасывает с него венценосцев. В душе он был зол на мать и на Голицына, до сих пор хранивших тайну умершего брата.
Константин продолжал отмалчиваться, хотя между Петербургом и Варшавой каждый день носились курьеры, насмерть загоняя лошадей. Николаю хотелось, чтобы старший брат подтвердил свой отказ. Вся Россия ждала манифеста нового императора, но его по-прежнему не было.
В ту ночь Николай плохо спал. Задолго до рассвета встал с постели и ходил по опочивальне, думая все об одном и том же. Честолюбец, эгоист от природы, он наконец стоял рядом со своей мечтой: перед ним был русский престол! Он рвался к нему, как голодный человек к хлебу, как путник, измученный жаждой, рвется к роднику. Он во сне и наяву видел трон, всю жизнь завидовал Александру, ненавидел Константина. Но прятал свои чувства за каменной холодностью, которая так нравилась прусскому двору и еще кое-кому в Европе.
И вот наконец он в двух шагах от цели! Но сделать эти шаги не легко. Николай боялся, что, как только зачитает в Сенате свой манифест, явится Константин и все пойдет шиворот-навыворот. Сенат присягнет Константину хотя бы потому, что его поддержит гвардия, Николай знал, какова сила аристократии, дворянства. И сейчас могут появиться, откуда ни возьмись, новые зубовы, палены, бенигсены...
Целую ночь взволнованно шагал по своей опочивальне будущий император России, шаркая шлепанцами. А утром адъютант подал пакет от барона Дибича. Такой же пакет был послан в Варшаву, на имя Константина: в Таганроге не знали, кто будет царствовать. Начальник Главного штаба сообщал о наличии заговора во Второй армии, о доносах Шервуда и Майбороды.
Николая прошиб пот: да, вожделенный престол мог ускользнуть от него, мечта — развеяться, как мираж. «Сейчас или никогда!» — решил он и позвал камердинера, чтобы одеться.
В мундире дивизионного командира он подошел к большому зеркалу, висевшему в простенке. На него смотрел верзила с загадочной иронической улыбкой.
«Вид цезаря, — подумал Николай, любуясь собственной персоной. — Среди ныне живущих Романовых только я достоин имени монарха всея Руси, это бесспорно!»
Была суббота, двенадцатое декабря. За обедом Николаю подали письмо из Варшавы. Константин и на этот раз не сообщил ничего нового, только рассказал анекдот, весьма непристойный, так что письмо нельзя было прочесть вслух. Другое письмо было от министра двора генерал-адъютанта Волконского, просившего позволения похоронить Александра в Таганроге, так как тело покойного императора, хотя и набальзамированное, уже почернело и гроб нельзя будет открыть в Петербурге.
Пока Николай читал вслух это письмо, все сидели молча. Слышно было, как всхлипывала царица-мать, дрожащею рукой вытирая слезы.
Она уже видела гробницу сына в Петропавловском соборе, ключ от которой должен был находиться у министра двора, потому что именно он охранял место вечного покоя царствующей семьи Романовых. Еще одна гробница в царстве мертвых...
Николай не обратил внимания на слезы матери, не произнес ни одного утешительного слова. Он встал из-за стола и молча направился в кабинет, проклиная Константина, явно глумившегося над семьей Романовых в столь беспокойное время.
«Может быть, монархия на краю гибели, а он, курносый кретин, все шутит и развлекается. Заговор в армии! И кто участники? Генералы, полковники, князья, графы, бароны! Выходцы из славных родов, верхушка дворянства! Столпы, на которых держится русский престол! А в империи междуцарствие. Этим могут воспользоваться враги монархии. Нет, довольно ждать, нужно немедленно принять меры. История осудит меня, если в России погибнет абсолютизм. Я должен его спасти. И бог поможет мне выполнить эту священную миссию».
Адъютант подал запечатанный конверт и вышел из кабинета. Подпоручик лейб-гвардии Егерского полка Яков Ростовцев предупреждал о заговоре в столичных полках.
Николая бросило в жар. Зловещее предупреждение! Над его головой навис дамоклов меч.
Он вызвал командующего гвардейским корпусом генерала Воинова и приказал тринадцатого декабря собрать во дворце всех полковых командиров и генералов.
И, только отдав этот приказ, почувствовал, что тревога улеглась, сомнения исчезли и вместо них появилась уверенность, что не все еще потеряно. Если действовать решительно, можно будет занять трон.
Когда в воскресенье во дворце собрались командиры гвардейских и иных полков Петербургского гарнизона, в зал торжественно вошел Николай.
— Здравствуйте, господа! — поздоровался он, едва наклоняя голову. Холодным взглядом окинул тех, от кого в эти часы зависело, быть ему российским императором или нет.
На какое-то мгновение все замерли. Потом, точно по мановению невидимой руки, молча наклонили головы.
Николай вздохнул с облегчением: его признали достойным претендентом на престол.
Голос его прозвучал твердо и уверенно:
— Великий князь Константин Павлович отказался занять престол. В завещании покойного монарха, один экземпляр которого хранится в Государственном совете, а другой — в московском Успенском соборе, престолонаследником назначены мы. Отныне волею божией беру на себя ответственность за Российскую империю. Надеюсь, что вы будете верны новому императору, как были верны Александру Первому, брату нашему. Возвращайтесь в свои полки и завтра приведите их к присяге. Присяжные листы получите сегодня у дежурного генерала. Полагаю, что вы примете надлежащие меры для обеспечения порядка в столице.
Кивком головы Николай дал понять, что аудиенция окончена.
Командиры покинули зал, в котором с ними впервые разговаривал новый император. Все были взволнованы, хотя сохраняли вид спокойный и уравновешенный, как будто их ничуть не поразило сообщение Николая.
Вернувшись в кабинет, Романов распорядился назначить на восемь часов вечера собрание Государственного совета, а к утру следующего дня подготовить манифест о восшествии на престол императора Николая Первого.
Как только в столицу пришла весь о смерти Александра, деятельность Северного общества оживилась. Члены Общества почти каждый день собирались у кого-нибудь, разрабатывая планы восстания. Горячо спорили, отбрасывали то один, то другой вариант, искали наиболее подходящий. Одни настаивали на том, чтобы выступить немедленно, другие доказывали, что лучше не торопиться, а тщательно подготовиться. В том, что удобный случай представится, они не сомневались. Близкие ко двору знали, что Константин, не подтверждая своего прежнего отказа от престола, все же не выезжает из Варшавы и как будто что-то замышляет. Ни для кого не было тайной, что Николай рвется к трону, но и он почему-то выжидал. Складывались условия, при которых легче всего было осуществить план Общества и навсегда покончить с монархией.
Все были согласны в одном: Рубикон перейден, или теперь, или никогда! Александр неожиданно развязал им руки. Еще недавно они спорили о том, каким образом убрать его с дороги, и вот сама судьба помогла им. Итак, нужно готовить полки к открытому выступлению и революционному перевороту.
В это время подполковник Батенков и капитан-лейтенант Николай Бестужев известили членов Общества, что составляется манифест и войскам отдан приказ присягнуть вновь, теперь уже на верность не Константину, а Николаю Павловичу.
На квартире Рылеева, в тесных комнатах, день и ночь толпились офицеры столичных полков. Из Москвы приехали подполковник в отставке барон Штейнгель и отставной поручик надворный советник Михаил Пущин. Их беседам не было конца.
Уже несколько ночей Рылеев и братья Бестужевы Николай и Михаил, жившие в том же доме, что и он, ходили по Петербургу. Встречая солдат, заводили с ними разговор, уговаривая не присягать вновь, ибо это противозаконно. Заявляли, что если солдаты не присягнут Николаю, то срок воинской службы будет сокращен до пятнадцати лет и для всех настанет облегчение. Просили рассказывать об этом своим товарищам в казармах, чтобы и они с оружием в руках пошли за офицерами, которые борются за свободу и права для всех, кто живет в России.
Штатский Рылеев и братья Бестужевы говорили, что великий князь Николай Павлович хочет незаконно занять престол, а Константина насильно лишить его, так как он намерен отменить крепостное право.
В эти холодные зимние ночи Рылеев простудил себе горло. У него болела голова, опухли веки. Глаза были красными от бессонницы. Какой уж там сон: приляжет на полчаса на диване — и снова на ногах. Снова все о том же: революция, республика, план восстания. Беседы и дискуссии не прекращались в течение целых суток.
Особенно подробно Рылеев расспрашивал Штейнгеля и Пущина о московских единомышленниках. Интересовался настроениями москвичей, выяснял, делают ли они что-нибудь для революции. Спросил и про графа Михаила Орлова, когда-то непримиримого врага монархии.
— Это было давно, — с сожалением отвечал Пущин. — Нет уж прежнего орла. После женитьбы да еще после того, как у него отняли Шестнадцатую дивизию, орел превратился в обыкновенного петуха. Жизнь обломала крылья, погасила огонь юности.
— Жаль! — с грустью резюмировал Рылеев. — Он мог бы немало сделать для республики. Революции такие люди очень нужны. Ну а что в Москве? Каковы настроения?
— Как и повсюду, — сказал Штейнгель. — Зловещая тишина. Перед бурей...
— Вот скоро и нарушим эту тишину, — заметил исполненный решимости Рылеев. — Было бы хорошо, если бы одновременно началось восстание и в Москве. Жаль, что новости так долго идут по нашим бесконечным дорогам. Нет возможности вовремя договориться с друзьями, разбросанными по империи. Это хуже всего. Однако нам уже ничто не может помешать. Как говорится, возврата нет!
Приехал посиневший от холода князь Трубецкой, привез манифест Общества, который ему поручили составить. Рылеев внимательно читал параграф за параграфом, иногда задерживаясь на какой-нибудь фразе. Согласно этому документу царское правительство распускалось, отменялось крепостное право, всем сословиям предоставлялись равные права перед законом: свобода печати, совести и занятий. Манифест гарантировал гласность судопроизводства, чиновники заменялись выборными лицами, сокращался срок службы в армии, упразднялись рекрутчина и военные поселения, вводилась обязательная воинская повинность и внутренняя народная стража. По манифесту отменялась также подушная подать и все недоимки по ней. Форму правления для новой России должен был избрать Великий собор. Ему же предоставлялось право решить вопрос о земле и определить судьбу арестованного семейства Романовых.
— Вот и хорошо, — сказал Рылеев, дочитав манифест, и глаза у него загорелись. — Мы силой оружия принудим Сенат не присягать Николаю и обнародовать этот документ. — И он потряс в воздухе бумагами.
Наталья Михайловна, жена Рылеева, пригласила гостей в столовую. Она побледнела и извелась за эти две недели. Их квартира напоминала теперь государственное учреждение. Круглые сутки суета и суматоха! Однако Наталья Михайловна не жаловалась, а мужественно несла этот крест, как верная жена своего неутомимого мужа.
Трубецкой отказался от завтрака, он куда-то спешил. Но еще не прощался, обещал к вечеру приехать.
— Все дела да хлопоты, любезная Наталья Михайловна, — сказал он шутливо, словно речь шла о заурядных вещах, а не о восстании. — Дела! Вот когда их не будет, тогда мы снова начнем собираться у вас на литературные беседы, а вы станете угощать нас ржаным хлебом и квашеной капустой. Я один целый кочан съем. Тогда эту обитель будут населять лишь музы, а не столь беспокойная братия, к которой принадлежу и аз, грешный.
— Я всегда рада гостям, князь, — искренне отвечала хозяйка. — Тем более друзьям Кондратия.
— Сколько хлопот мы вам доставили! Простите великодушно.
— Сергей Петрович, — сказал Рылеев, вставая с дивана, — подвези меня, не хочется брать ваньку. К тому же у тебя сани крытые.
— Куда же ты опять, Кондратий? — всполошилась жена. — Тебе надо полежать в тепле, а не выходить на мороз. Сегодня ветрено.
Рылеев стал ее успокаивать.
— Я чувствую себя хорошо, Наташа, а в санях князя как в боярских хоромах. У меня срочное дело, понимаешь? Надо встретиться с одним человеком.
— У тебя всегда дела. И все срочные, — вздохнула она безнадежно, опуская голову.
Рылеев поцеловал жену, быстро оглянулся и, уже выходя из комнаты, извинился перед Пущиным и Штейнгелем.
— Завтракайте, я скоро вернусь. Тогда поговорим.
Стучали подковы о мерзлую землю, мягко катили сани по улицам столицы. Какое-то время они молчали. Потом Трубецкой сказал:
— Сегодня на юг уезжает младший из Муравьевых-Апостолов — Ипполит, прапорщик квартирмейстерской службы. Он получил назначение в один из полков Второй армии. Я напишу Сергею Ивановичу, что мы собираемся поднять восстание во время переприсяги. Думаю, что такому почтальону, как Ипполит, можно доверить подобную тайну.
— Ну что же, пиши. Только осторожно, не называя фамилий. Время беспокойное, все может быть.
— Ипполит достоин своих братьев. Он скорее умрет, чем выдаст.
Они помолчали.
— Как там, на юге? — задумчиво произнес Рылеев, этот вопрос особенно беспокоил его в последние дни. — Готовы ли наши друзья поднять свои полки? К сожалению, люди еще не научились за короткий срок преодолевать расстояние в сотни верст.
У австрийского посольства Трубецкой вышел и велел кучеру отвезти Рылеева, куда тот пожелает. Сам же направился к своему родственнику, свояку Лебцельтерну. На прощание Трубецкой сказал:
— До вечера, друг мой!
Рылеев поехал на квартиру князя Оболенского, чтобы сообщить ему об измене Якова Ростовцева, за которого князь поручился, когда того принимали в Общество. Войдя в кабинет, Рылеев остолбенел: у стола, опираясь на него левой рукою, стоял красный от гнева Оболенский, а почти у окна — подпоручик Ростовцев. Яков Ростовцев испуганно взглянул на Рылеева и сразу же опустил глаза. На его продолговатом лице блестели капли пота, он был бледен, — словом, выглядел как вконец растерявшийся человек, которого застали на месте преступления. Рылеев понял, что князю все известно.
— Повтори! — приказал Оболенский Ростовцеву.
Тот, казалось, хотел исчезнуть из этой комнаты, провалиться сквозь землю, убежать куда угодно от суровых, может быть даже беспощадных, судей.
— Оставь! — прервал Рылеев Оболенского, с отвращением глядя на предателя.
— Я не назвал ни одной фамилии, — оправдывался Ростовцев, пряча взгляд, как вор, который боится расплаты за свое преступление. — Я только хотел предупредить императора, чтобы он всех вас спас, потому что во время этой акции прольется невинная кровь.
— Ты изменник, ты выдал товарищей и предал святое дело, которому поклялся служить, поэтому тебя ждет позорная смерть! — кипел от гнева Оболенский и швырял на пол бумаги, нащупывая в ящике стола пистолет. — Вот я сейчас расквитаюсь с тобою, иуда, чтобы ты не смел поганить нашу землю! Не на дуэли убью, а просто уничтожу, как паршивого пса.
Ростовцева словно ветром сдуло. Рылеев только успел заметить в дверях перекошенное от страха лицо и съежившуюся фигуру. Ростовцев выскочил из кабинета в одном мундире, забыв шинель. Так и нырнул в холодный петербургский туман.
За ним с пистолетом в руке бросился Оболенский, но Рылеев остановил его:
— Оставь, друг! Этим только навредишь себе, ты же знаешь. Николаю и без Ростовцева кое-что известно о нашем Обществе. Теперь главное — опередить этого прусского Аполлона, рвущегося на престол, ударить его по рукам: ведь он уже переселился в Зимний дворец, как настоящий монарх, хотя ему еще не присягали.
— Сегодня должен собраться Государственный совет, а четырнадцатого будет присягать Сенат, — сказал, тяжело дыша, Оболенский. Он все еще не мог успокоиться, чувствуя себя виноватым, что доверил тайну Ростовцеву, поручился за него и к тому же не убил его сейчас здесь, в кабинете, а отпустил на свободу.
— Нет, четырнадцатое декабря станет нашим днем, дружище, — решительно заявил Рылеев, и в голосе звучала такая уверенность, что Оболенский положил пистолет в ящик и, облегченно вздохнув, опустился в кресло. — От нас зависит, — продолжал Рылеев, — чтобы Сенат не присягнул Николаю и сенаторы сделали то, что мы им прикажем. Ты ручаешься за Финляндский полк?
— Как я уже докладывал на совещании, думаю, что он с оружием в руках выйдет на Сенатскую площадь.
— И другие товарищи говорят то же самое о своих полках. Тут важно опередить Николая. В конце концов, можно и малыми силами ударить по Зимнему, арестовать Романовых и их родственников. Лишь бы начать, потом к нам присоединятся другие полки и откроется путь для революции. Единственное, о чем я прошу тебя, Евгений, — это чтобы никто пока не знал об измене Ростовцева. Надо оберегать наш боевой дух перед тяжким испытанием. Пусть мы умрем, лишь бы Николай не переловил нас, как воробышков в гнезде. Есть только две дороги — к жизни или в могилу! И обе очень короткие. Однако я думаю, что мы победим.
Искренняя вера Рылеева подействовала на Оболенского как глоток свежего воздуха, который был ему сейчас так необходим. Князь с благодарностью взглянул на друга, и от его недавней мрачности и гнева ничего не осталось. Как будто сквозь тучи неожиданно пробился луч солнца и упал на утомленное лицо Оболенского, патриота, всей душой преданного революции.
— Да будет так, как ты говоришь, Кондратий! — тихо произнес князь Оболенский и на мгновение закрыл красные от бессонницы глаза.
Накануне восстания на квартире Рылеева в последний раз собрались члены Северного общества. Бурным и тревожным было это последнее совещание. Возбужденные приближением огромного и грозного события, все очень волновались. Ведь они готовились к этому испытанию не один год — и вот оно наконец, долгожданное, неведомое! Через несколько часов либо они упадут на камни мостовой, либо восторжествует свобода и перед отчизной откроется новый, светлый путь.
Бледные и раскрасневшиеся лица, болезненный блеск глаз, сдержанные и резкие движения, простуженные, но бодрые голоса. Разные натуры, но в душе у всех одно — готовность умереть или победить. Такими увидел своих товарищей Рылеев, когда они окончательно утверждали разработанный и одобренный на многих тайных собраниях план восстания.
Диктатором единогласно избрали Сергея Трубецкого, хотя он и отказывался от такой ответственности, ссылаясь на разные причины. Однако на его доводы не обратили внимания.
— Князь, глас большинства — глас божий! Кому, как не тебе, взять на себя общее руководство полками?
— Разве ты забыл Бородино, бои под Люценом, Кульмом и Лейпцигом? — напоминали ему товарищи годы Отечественной войны и заграничных походов.
— А теперь твой военный талант и мужество послужат общему делу. Мы твои помощники. Приказывай — пойдем на смерть.
— Веди нас на последний бой с абсолютизмом! Да будет благословен наш путь!
Растерявшийся Трубецкой больше не отказывался. Доверие друзей глубоко тронуло его. Были распределены обязанности, все получили приказы на завтра.
Капитану Нижегородского драгунского полка Александру Якубовичу поручили командовать отрядом, который должен был занять Зимний дворец и арестовать Николая и остальных Романовых.
С черной повязкой на лице, Якубович при тусклом свете свечей казался грозным и загадочным. Он подошел к столу, обвел взглядом комнату, словно хотел запомнить, кто собрался здесь в этот декабрьский вечер, и сказал:
— Благодарю за честь! Помните, когда-то я добровольно соглашался убить императора Александра? То была бы личная месть: он перевел меня из улан в драгуны и отправил на Кавказ. А нынешняя моя миссия благородна, я выполню ее во имя благоденствия России, я принимаю ваше поручение как приказ.
Якубович почтительно наклонил голову и отошел в угол, где сидел раньше в старом кресле. Его перевели из гвардии в драгуны и отправили на Кавказ за участие в дуэли графа Завадовского и Шереметева, стрелявшихся из-за известной балерины Истоминой. Однако наказание не возымело действия на бретера-секунданта. Скоро на дуэли с Александром Грибоедовым Якубович прострелил ему левую ладонь. Капитана считали храбрым и мужественным человеком за его отчаянные наскоки на позиции горцев. В одном бою Якубович был ранен в голову и с тех пор всегда носил черную повязку.
Все знали, что Якубович ненавидит монархию, и поэтому были уверены, что он захватит Зимний дворец и выполнит поручение Общества, к которому формально не принадлежал.
Итак, капитан Якубович и лейтенант гвардейского экипажа Арбузов Антон Петрович должны были утром вместе с моряками и измайловцами выйти по Вознесенскому проспекту на Сенатскую площадь, по знаку диктатора Трубецкого ворваться в Зимний и смять охрану, если она окажет сопротивление.
Рылеев не сомневался в успехе Якубовича, тем более что младший из братьев Бестужевых, мичман Петр, докладывал о готовности моряков выступить за революцию в день новой присяги.
Слова попросил Каховский — отставной поручик, незаметный сухощавый человек с лихорадочно блестевшими глазами.
— Прежде чем выводить на площадь полки, — сказал он, и его всегда немного оттопыренная верхняя губа нервно задрожала, — нужно убить претендента на престол. Не ждать Великого собора, а уничтожить его сразу ради успешного завершения революции. Поручите это мне, господа! Я пройду во дворец и собственноручно заколю его кинжалом, как Занд шпиона Коцебу.
— Поручику не дают покоя лавры российского Брута? — в шутку спросил кто-то.
Каховский вспыхнул от обиды:
— Я ищу не лавров, но пользы для республики.
Решили, что Михаил Пущин со своим конным эскадроном присоединится к морякам, а Михаил Бестужев выведет на Сенатскую площадь солдат и офицеров Московского полка.
Полковнику Булатову поручалось захватить Петропавловскую крепость. Он долго служил в лейб-гренадерском полку, солдаты его любили, и никто не сомневался, что они пойдут за Булатовым.
— Штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка князь Щепин-Ростовский обещал первою вывести из казармы свою роту. Хотя Щепин-Ростовский, как и Якубович, не являлся Членом Общества, однако он принимал активное участие в его делах, и Рылеев надеялся на него как на преданного революции патриота.
В тот вечер на совещании не было только Никиты Муравьева, он отдыхал с женой в своем имении далеко от столицы и, разумеется, не догадывался о происходящих событиях.
Казалось, план был разработан очень тщательно, все предусмотрели. Засиделись допоздна. Все были возбуждены пережитым, а еще больше тем неведомым, которое наконец приблизилось к ним вплотную.
Вдруг на минуту все умолкли. В квартире Рылеева в первый раз за последние дни наступила тишина.
Молчание нарушил Рылеев:
— Завтра утром мы впервые объявим войну, — но не стране, а монархии. Либо мы сложим свои головы, либо распахнем дверь в новый мир, в новую Россию. Другого пути нет!
— Он нам и не нужен, — подхватил Щепин-Ростовский. — Клянемся, что не отступим ни на шаг. Пусть падет тирания! Виват свободе!
— Клянемся! Смерть монархии! Да здравствует республика! — подхватили присутствующие, вставая.
— Встретимся утром на Сенатской, — говорили они друг другу на прощание.
Все спешили домой, хотя каждый понимал, что вряд ли удастся прилечь в эту ночь.
Сразу опустели комнаты. Внезапно воцарившаяся тишина показалась Рылееву странной и необычной. Жена, наверное, уснула, будить ее не хотелось. Она и так осунулась за последнее время. Видно, догадывалась, почему собирались у мужа друзья и спорили иной раз до утра. Однако она ни о чем не расспрашивала, ничего не говорила ему, и он был ей за это благодарен. Только чувствовал себя виноватым за то, что каждый день доставлял жене столько хлопот.
«Если судьба отвернется от нас, какое огромное горе свалится на Наташу и Настеньку, — с замиранием сердца думал Рылеев. Настенька была его единственной дочерью. — Как переживет Наташа такую трагедию? Молча ли будет нести свой крест или возненавидит меня за то, что я разрушил наше счастье во имя несбыточных идей? Ведь она далека от них. Женщина! Мать! Гражданские порывы ей неведомы. Политические идеалы чужды. И то сказать: благоденствие для всех — понятие относительное... Да, что их ждет?.. Но даже если представить себе, что люди отшатнутся от Наташи и Настеньки, все равно я не остановлюсь, не сверну с дороги, избранной раз и навсегда».
Он, вероятно, задремал на несколько минут, но тут же проснулся. Свеча оплыла, на стене дрожала тень. Стояла та тишина, от которой шумит в голове. Тревога не проходила. Скорее бы утро!
Еще не рассвело, когда неожиданно явился Николай Бестужев.
— Никак не мог уснуть, — виновато объяснил он свой ранний визит. — Поедем не спеша на площадь, подождем первых повстанцев.
— Лучше пойдем пешком, — предложил Рылеев. — Кода идешь, легче думается.
— Ну что ж, пошли пешком, я не возражаю, — согласился Бестужев.
Рылеев быстро оделся, радуясь, что жена спит и не услышит, как он выйдет из дома.
Однако, когда он взял шапку, на пороге выросла Наталья Михайловна, бледная, измученная. По-видимому, она не сразу поняла, куда собрался муж. Но потом бросилась к нему, в отчаянии крича:
— Я не пущу тебя, Кондратий! Ты идешь на гибель... Умоляю...
Она вцепилась в него, обливаясь слезами, и не отпускала.
Рылеев растерялся, не знал, что делать.
— Наташа, не нужно... Прошу тебя! Я скоро вернусь, — пытался он успокоить ее.
Но жена не верила его словам. Сердце подсказывало ей недоброе. Она решила любой ценой защитить свое счастье.
— Николай Александрович, не уводите Кондратия. Я ж знаю, вы ведете его на гибель. Оставьте, прошу вас...
Бестужев был взволнован, смущен словами Рылеевой: ее не обманешь, но и сказать ей правду невозможно.
— Наталья Михайловна, я не виноват... Успокойтесь. Все будет хорошо...
— Вы идете на смерть! — закричала она в отчаянии, теряя надежду. — Настенька! — позвала она дочь. — Проси папу, чтобы он не покидал нас. Встань на колени!.. — И сама упала на пол перед
мужем.
Пятилетняя девочка чувствовала, что у матери горе. Она тоже зарыдала и обняла ручонками ноги отца.
Рылеев, бледный, ни слова не говоря, вырвался из их объятий и опрометью бросился из дома. Вслед за ним выбежал взволнованный Бестужев.
Еще не рассвело, когда офицеры разъехались по своим полкам, чтобы подготовить их к выходу на Сенатскую площадь. Старший адъютант командующего гвардейской пехотой князь Оболенский объезжал казармы, отдавая последние приказания офицерам-повстанцам. Он торопил их поскорее вывести свои подразделения — до того, как, согласно приказу Николая, прибудет начальство для принятия присяги.
В казармы лейб-гвардии Московского полка приехали оба Бестужевы, Михаил и Александр, и князь Щепин-Ростовский, командовавший одной из рот. Когда-то этот полк назывался Литовским, здесь начинал военную службу Пестель. Московский полк состоял по большей части из старых, опытных солдат, они обещали отказаться от присяги новому императору.
В казарме раньше обычного сделали побудку — так приказал генерал-майор барон Фридерикс: он должен был приехать очень рано. Когда явились Бестужевы и Щепин-Ростовский, солдаты их рот уже были одеты и готовы строиться по команде, чтобы выйти на полковой двор.
К солдатам с короткой речью обратился Щепин-Ростовский.
Он призвал их проявить твердость, отказаться от присяги Николаю, не слушать тех, кто хочет выслужиться перед новым тираном. Щепин-Ростовский советовал не верить коварным наговорам николаевских лизоблюдов и не бояться угроз.
— А у нас есть оружие, ваше благородие, — отвечали ему солдаты, разбирая боевые патроны и заряжая ружья.
— Будет, поиздевались, мы тоже люди! Пришел и на нашу улицу праздник. Лучше умрем с оружием в руках, чем под шпицрутенами, — раздавались отовсюду голоса. В солдатах чувствовались решимость и вера в свою правоту. Эти отчаявшиеся люди решили либо сложить головы, либо победить.
— Друзья, на нашей стороне правда. А где правда, там и бог. Берите все, что нужно солдату в походе, главное — оружие и припасы, — сказал Александр Бестужев, обращаясь к московцам. — И выходите во двор строиться.
Кроме оружия и ранцев прихватили артельную кассу, чтобы ею не воспользовались враги и те солдаты, которые побоялись пойти против полкового начальства и отказались присоединиться к повстанцам.
Вооруженные солдаты уже выходили из казарм, когда дорогу им преградил командир полка генерал-майор Фридерикс.
— Куда? Кругом — и марш в казармы! — завопил он.
Солдаты на мгновение остановились, но команды Фридерикса не выполнили.
— Барон, прочь с дороги! — крикнул Щепин-Ростовский, подходя к разъяренному генерал-майору.
— Как вы смеете, князь! — заскрежетал тот зубами. — Я здесь командир и приказываю вернуться в казарму. Сию минуту...
— Вы негодяй, барон! Прочь с дороги! — И Щепин-Ростовский, выхватив саблю, ударил посиневшего от злосли Фридерикса. Тот тяжело сполз вдоль стены на пол.
— Собаке собачья смерть!.. Всем бы им такого гостинца, чтобы заткнуть рот! — закричали вокруг.
Солдаты поспешили во двор.
— Стройся! — прозвучала команда. — Смирно! Шагом марш!
— Мы пойдем на Сенатскую, там соберутся все столичные полки.
И точно река прорвала плотину — полк вышел на улицу.
— Стой! — раздался вдруг бас командира бригады генерал-адъютанта Шеншина, шедшего вместе с полковником Хвощинским. — Стой! Кто позволил выходить из казармы?
Но не успели Шеншин и Хвощинский опомниться, как к ним бросился Щепин-Ростовский и саблей ранил полковника. Командир бригады, напуганный неожиданным нападением, кинулся наутек.
Щепин-Ростовский догнал его и ударил саблей плашмя по спине.
— Убивают! Караул! — завизжал генерал и побежал еще быстрее.
Солдаты хохотали.
— Братцы, а мы же не взяли знамени! Как же без него? — вспомнил Михаил Бестужев.
— В самом деле! Бегите за знаменем!
Через несколько минут восемьсот человек из Московского полка во главе с обоими Бестужевыми и Щепиным-Ростовским вышли на Сенатскую площадь и построились четырехугольником у памятника Петру Первому.
Накануне несколько дней стояла оттепель, а нынче ударил мороз, задул ледяной ветер, пронизывавший до костей. Однако московцы шутили, смеялись. Они пришли первыми и ждали теперь других. Остальные полки почему-то замешкались.
Александр Бестужев снял шинель и остался в одном мундире, в белых лосинах и гусарских сапогах. Выхватив из ножен саблю, он принялся царапать ею пьедестал памятника.
Как только солдаты построились, Щепин-Ростовский приказал выставить оградительную цепь, поручив командование корнету князю Одоевскому. Немедленно заняли подъезд к Сенату со стороны Исаакиевской площади, не пропуская никого постороннего.
Полковника Бибикова, которого Николай Павлович послал в казармы конной гвардии, московцы тоже не пропустили. А когда он решил силой прорваться сквозь солдатские ряды, наградили его тумаками и велели возвращаться в Зимний.
Офицеры в то утро явились на Сенатскую как на парад — в новых мундирах, шарфах, киверах. И настроение у них было праздничное; все верили, что с этого утра начнется история новой России, России без Романовых и Аракчеевых.
Выбежав из дома, Рылеев и Николай Бестужев встретили Ивана Ивановича Пущина. Он тоже не спал всю ночь и бродил по улицам и площадям столицы.
— А я к вам, — сказал он, поеживаясь и пряча лицо в воротник пальто, чтобы хоть немного согреться.
Втроем они дошли до Сенатской площади, где гулял пробиравший до костей ветер.
— Николай Александрович, — сказал Рылеев Бестужеву, — отправляйся к своему гвардейскому экипажу. Если восставшие замешкаются, Николай успеет принять присягу сенаторов.
Вдруг они остановились, встревоженные: из большого дома выходили пожилые сенаторы в треуголках с плюмажами, в шинелях с бобровыми воротниками, усаживались в легкие сани и исчезали в утренней мгле.
— Неужели Николай опередил нас? — простуженным голосом спросил Кондратий Федорович, впиваясь взглядом в широкую спину кучера, который повез знакомого ему сенатора.
Действительно, Николай успел опередить повстанцев, приказав сенаторам собраться ровно в семь часов. Через несколько минут сенаторы присягнули на верность новому императору и разъехались.
Николай Бестужев быстро направился в казармы своего экипажа, а Рылеев и Пущин, постояв еще несколько минут на безлюдной площади, пошли в дом Лаваля, к Сергею Трубецкому.
По широкой лестнице, мягко ступая по коврам, поднялись на второй этаж. Навстречу им спускался Трубецкой — в мундире, готовый к выходу.
Он встретил ранних гостей с деланной любезностью, проводил в кабинет, пригласил садиться.
— Нам некогда сидеть, князь! — взволнованно проговорил Рылеев. — На Сенатской еще никого нет. Боюсь, что сенаторы присягнут раньше, чем мы соберем полки.
— А они уже присягнули, — спокойно отвечал Трубецкой. — В семь часов. Сегодня. Конная гвардия тоже присягнула, — прибавил он таким тоном, словно речь шла о чем-то будничном, незначительном.
На Рылеева новость произвела удручающее впечатление, но он постарался скрыть тревогу.
— Ну что же, обойдемся без Сената. Соберутся полки, захватим Зимний дворец и Романовых вместе с их присными и зачитаем им наш манифест.
— А я полагаю, что мы проиграли дело, — печально заметил Трубецкой, не глядя на друзей. — Я же советовал не спешить, потому что, во-первых, у нас слишком мало сил для подобной акции. И, во-вторых, почему бы не попробовать договориться с Николаем мирным путем? Он согласится на ограниченную монархию, если будет знать, как много у него противников. Да, в такой ситуации он принял бы наши предложения. В крайнем случае можно было бы посадить на престол Елизавету Алексеевну, жену покойного императора Александра Первого. Она женщина, с нею легче договориться о реформах и прочем.
Рылеев задрожал ог гнева.
— К дьяволу престолы и императриц! — воскликнул он, до глубины души возмущенный словами Трубецкого. — Мы стали членами Общества не затем, чтобы договариваться с тиранами. За революцию надо бороться. Нам нужна свобода, республика! Поздно рассуждать об ином, князь! Мы долго дискутировали, настало время действовать, бороться за то, во имя чего было создано Общество, к которому принадлежите и вы. Вас назначили диктатором, князь. Извольте на Сенатскую! Сейчас туда придут восставшие полки, которыми вам надлежит командовать. Прошу вас, не опаздывайте!
И Рылеев быстро вышел из дома Лаваля. За ним последовал Пущин, также негодуя на Трубецкого.
— Мы ошиблись, назначив его диктатором, — с сожалением констатировал Иван Иванович. — Напомажен, словно собрался на бал. Не способен он командовать восставшими.
Потрясенный Рылеев ничего не отвечал.
На Сенатской площади уже стояли солдаты лейб-гвардии Московского полка, Рылеев и Пущин направились к ним. Здесь они встретили мрачного Якубовича.
— Александр Иванович, а вы почему тут?! — воскликнул Рылеев. — Где моряки и измайловцы, которых вы обещали привести?
— Наверное, в казармах, — равнодушно отозвался Якубович, глядя в сторону Зимнего и Дворцовой площади. — Я встретил мичмана Петра Бестужева и просил его передать вам, что идти на Зимний и арестовывать Николая Павловича не буду. Это императору Александру я когда-то собирался мстить за то, что он перевел меня из гвардии в армию. А Николай Романов мне лично ничего дурного не сделал, так что и вражды к нему у меня нет. Сводить с ним счеты было бы несправедливо.
В это хмурое декабрьское утро на Рылеева точно вылили бочку ледяной воды.
— Капитан! — глухим голосом обратился он к Якубовичу. — Как вам не стыдно! Вы нас предали. Ваш поступок достоин лишь одного названия — подлость.
Якубович побагровел от оскорбления.
— Об этом мы поговорим где-нибудь в другом месте и при других обстоятельствах, — отвечал он гневно, подступая к Рылееву и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. — Я пришел сюда как солдат и вместе со всеми несу ответственность за свои поступки. А овладеть Зимним предоставляю вам, господин Рылеев! — И он медленно, словно прогуливаясь, зашагал на Дворцовую площадь.
Рылеев беспомощно пожал плечами, вытер со лба холодный пот. От ветра слезились глаза, болела голова.
— Вот к нам грядет сам градоначальник, — долетело до него, и он увидел губернатора столицы Милорадовича: тот ехал на коне, в полной амуниции, с регалиями и андреевской лентой через плечо.
— Сейчас мы его встретим! — пронеслось среди солдат.
А Трубецкого все не было. Рылеев опять поспешил в дом Лаваля. Подойдя, увидел Кюхельбекера, как раз выходившего из подъезда.
— Вильгельм, где Трубецкой? — крикнул ему Рылеев еще издали.
— Дома его нет. Говорят, только что ушел. А куда — никто не знает.
— И на Сенатской его не было, — взволнованно произнес Рылеев.
На востоке порозовело небо, но сразу надвинулись тучи.
Где-то послышалась барабанная дробь. Над Сенатской площадью повисла тишина, в которой чувствовалось мучительное ожидание. Солдаты, промерзнув на ветру, ждали приказов офицеров, а офицеры все выглядывали Трубецкого. Однако диктатор не появлялся...
Беспокойно провел эту ночь Николай Павлович. Он часто вскакивал с постели и прислушивался к звукам, доносившимся из-за двери. Каждый шорох внушал ему страх, он никому не доверял. Как и в прошлые ночи после переезда в Зимний дворец, Николай Павлович ходил по своей опочивальне, нарочно шаркая ногами по полу, чтобы дежурные гвардейцы слышали, что он не спит. А в голове сновали мысли, не давали покоя сомнения... Завтра судьба определит, быть ему императором или лежать в могиле. Мороз пробегал по коже. А декабрьская ночь все тянулась, бесконечная, тревожная, полная неизвестности ночь.
В пять часов камердинер помог ему одеться. В мундире командира дивизии Николай оглядел себя в зеркале: какой-то незнакомец величественно и высокомерно смотрел на него холодными глазами.
Он позвал флигель-адъютанта.
— Полковник, сенаторы еще не съезжаются?
— Ваше величество, — вытянулся Адлерберг, глядя в мраморное лицо нового монарха, — вы приказали им прибыть в семь часов, а сейчас начало седьмого.
— Иди! Как только соберутся, доложишь!
В Сенат приехали также высшие чиновники и командиры полков. Отсюда они должны были разойтись по казармам и привести к присяге подчиненных.
Церемония прошла очень буднично. Все своевременно, не мешкая выполнили необходимые формальности и разъехались по еще темным петербургским улицам.
Хотя Ростовцев и предупреждал о заговоре, Николай думал, что войска присягнут ему на верность раньше, чем заговорщики успеют что-либо предпринять. Николай успокаивал себя, однако волнение не покидало его.
Генерал-губернатор Милорадович немного опаздывал в Зимний. Он, как всегда перед службой, заехал на часок к своей любовнице, балерине Телешовой. Когда адъютант доложил, что на площадях собираются подозрительные толпы, особенно вблизи Исаакиевской, Сенатской, Дворцовой, а также на соседних улицах, Милорадович отмахнулся от него, как от надоедливой мухи:
— Глупости! Нынче знаменательный день — переприсяга. Простолюдинам любопытно посмотреть, как оно все будет. Чернь любит зрелища.
— Ваше превосходительство, кроме черни на Сенатскую пришли две роты Московского полка...
— Оставь! Говорю тебе, глупости, — повторил Милорадович, почти не слушая адъютанта. — Разгоним нагайками, а нет — пустим в ход сабли.
Но когда он, уехав от Телешовой, хотел направиться на Дворцовую площадь, его остановили солдаты. Милорадович злобно выругался и ударил одного из них. И тут произошло такое, что адъютант и еще несколько человек едва вытащили генерал-губернатора из толпы.
В расстегнутом мундире, без воротника, с помятой лентой, до смерти перепуганного Милорадовича наконец провели в безопасное место.
— Бунтовщики! — бранился он, угрожая солдатам всевозможными карами. — Дорого вы мне заплатите за буйство...
Когда Николаю доложили, что на Сенатскую площадь идут войска, он растерялся. Но, чтобы не показать своего страха перед окружавшими его подданными, взял себя в руки и как можно спокойнее велел узнать, сколько восставших числом и из каких они полков.
Через некоторое время адъютант доложил:
— Ваше величество, взбунтовался лейб-гвардии Московский полк. Бунтовщики ранили барона Фридерикса, а также командира бригады генерал-адъютанта Шеншина и полковника Хвощинского.
Это поразило Николая. Он был готов к любой неожиданности, но чтобы восстал Московский полк, шефом которого был его младший брат Михаил, Николай все-таки не допускал. «А впрочем, что взять с дурака? Пьянствует со своим адъютантом князем Долгоруким да волочится за фигуранточками из балета. А что делается в полку, понятия не имеет. Помоги мне, господи, твердо встать на ноги, а тогда уж я наведу в империи порядок!»
Вслух он сказал:
— Вызовите конную гвардию!
Адъютант исчез, только малиновый звон шпор повис в кабинете.
А может быть, это звенело в ушах при мысли, что за стенами Зимнего дворца не только решается судьба русского престола, но и поставлена на карту жизнь тех, кто до сих пор владел империей, как своим поместьем.
«Сегодня или никогда! — твердил он себе, пытаясь побороть страх. — Решительность и действие. Не упустить времени — значит выиграть победу! Никакой жалости, никаких сантиментов. Пусть прольется кровь, лишь бы удержать престол, который принадлежит мне по закону».
Николай отдал приказ вызвать из казарм верные полки, присягнувшие ему. Он гневался на генерал-губернатора, который почему-то опаздывал. Требовал от присутствующих докладывать обо всем, что происходит в столице.
Когда все вышли, Николай приказал адъютанту пригласить племянника матери принца Вюртембергского. Принцу он сказал, чтобы тот позаботился о каретах на случаи бегства из столицы.
Принц побледнел, непослушными губами едва выдавил:
— Нужно немедленно бежать, они всех нас уничтожат, растерзают...
— Оставьте! — сердито прервал его Николай. — Будьте мужчиной. Истерикой не подавить бунта. Идите и распорядитесь насчет экипажей...
Потом он приказал дежурившей во дворце роте зарядить винтовки, накричал на флигель-адъютантов и дежурного генерала Главного штаба Потапова за то, что на Дворцовую площадь до сих пор не явились полки — Измайловский, шефом которого он был, и Преображенский, а также конная гвардия...
В окружении генералов и офицеров штаба Николай вышел на Дворцовую площадь, откуда было видно восставших — они уже давно стояли поблизости от памятника Петру. Еще больше вокруг было штатских. Казалось, все жители столицы высыпали на улицы. Черной тучей толпились они вдоль домов, облепили деревья, самые смелые влезли на крыши, на леса вокруг Исаакиевского собора. Куда бы ни бросил взгляд Николай, везде были люди и люди...
«Если они присоединятся к восставшим из Московского полка, — подумал новый император, — это будет пострашнее, чем пугачевщина».
Вдруг где-то позади по мерзлой земле протопали десятки ног. Николай оглянулся и увидел, что через двор Зимнего бегут лейб-гренадеры во главе с поручиком, бегут, точно на штурм неизвестной крепости. Офицеры, окружавшие Николая, хотели было преградить им дорогу, но зловеще сверкнул лес штыков. С криком «ура» живой поток понесся дальше, готовый смести все на своем пути.
Николай в страхе проводил взглядом лейб-гренадеров. Это была пусть небольшая, однако грозная в своей решимости сила. Спросил, как фамилия поручика.
— Панов, — услужливо ответил один из штабных офицеров.
Опять далекое «ура» тяжело прокатилось в морозном воздухе. Генералы, стоявшие подле Николая, замолчали, прислушиваясь к зловещим звукам, которые, казалось, наплывали на Дворцовую площадь со всех сторон.
— Усилить караулы у главных ворот, еще раз послать в казармы Измайловского, Преображенского, Семеновского, Кавалергардского и других гвардейских полков и приказать им немедленно прибыть сюда во главе с командирами, — сказал Николай флигель-адъютантам, остановившимся поодаль и ждавшим его распоряжений.
Николай подозвал коменданта Зимнего дворца Башуцкого и велел ему поставить у главного входа во дворец Девятую стрелковую роту лейб-гвардии Финляндского полка, а саперам поручить общую охрану Зимнего.
Откозыряв, Башуцкий бегом бросился выполнять приказание нового монарха.
Рядом с Николаем стояли Бенкендорф, Васильчиков, Комаровский, Толь, Левашов и другие генералы. Дежурному генералу Главного штаба Потапову Николай приказал:
— Как только придут полки, первый и второй взводы Преображенского, а также весь Кавалергардский полк выстроить на Дворцовой площади. Мост около Крюкова и Галерную улицу занять павловцам. Конную гвардию поставить полукругом у здания Исаакиевского собора, лицом к Неве. Измайловцам занять место от Синего моста вплоть до Адмиралтейского проспекта. В Конногвардейский манеж послать Семеновский полк. Приказ поняли?
— Да, ваше величество! — подтвердил Потапов.
Генералы советовали вызвать артиллерию и пехоту, чтобы окружить повстанцев, а когда начнут подходить другие бунтовщики, не дать им объединиться и поодиночке разгромить по дороге на Сенатскую площадь.
Николай нервничал. Казалось, прошло много времени с тех пор, как он послал в казармы, а полков еще не было видно. Не возвращались и гонцы.
«Что, если они присоединились к заговорщикам? Тогда все погибло, — молнией блеснула мысль, от которой ему сразу сделалось не по себе. — Принц Вюртембергский так напуган, что вряд ли сумеет подготовить все необходимое для побега нашей семьи. Племянник матушки храбр лишь в обществе женщин да на балу, а на самом деле обыкновеннейший трус...»
Тревога с каждой минутой нарастала. Усилием воли Николай, как и окружавшие его генералы, заставлял себя сохранять внешнее спокойствие. Генералы тоже волновались, в душе моля бога, чтобы повстанцы еще хотя бы час-другой проявляли такую же нерешительность, как до сих пор, и ничего не предпринимали. Потому что стоило им сейчас двинуться на Зимний — и они бы легко им овладели, арестовали бы и нового императора, и его верных приверженцев. В этом никто не сомневался, и Николай также.
А полки все не шли, хотя дорога была каждая минута. Николай был близок к отчаянию. У него даже мелькнула мысль оседлать коня и с верными офицерами из стражи бежать куда глаза глядят, лишь бы остаться в живых. Его уже не беспокоила судьба семьи. Пусть каждый спасается, как знает.
А тут еще точно из-под земли вырос флигель-адъютант полковник Адлерберг.
— Ваше величество, капитан-лейтенант Бестужев и лейтенант Арбузов привели на Сенатскую морской гвардейский экипаж. Поручик Сутгоф провел свою роту лейб-гренадеров по льду через Неву и построил ее рядом с другими бунтовщиками.
К Николаю приблизился Бенкендорф.
— Ваше величество! — произнес он спокойно. — Поручите это мне. Я пробьюсь к казармам и приведу сюда кавалергардов и преображенцев. Если же командиры этих полков присоединились к заговорщикам, я поступлю с ними как с изменниками.
В глазах Бенкендорфа Николай прочитал решительность и преданность — самые ценные качества в столь опасную и грозную минуту. Он был растроган.
— Александр Христофорович, — проговорил он глухим голосом человека, вконец утомленного тяжкими испытаниями, — этой услуги я никогда не забуду. Ты мой верный друг, преданный слуга нашего престола. Благодарю! Позволяю тебе совершить это путешествие в казармы и благословляю на подвиг, друг мой! Верю, что ты приведешь сюда верные нам полки...
Однако в эту минуту раздался чей-то голос:
— Господа, гвардия!
Николай увидел конную гвардию под командованием графа Алексея Орлова. Полк, миновав Исаакиевский собор, выехал на Сенатскую площадь и построился спиной к дому князя Лобанова. Скоро подошли кавалергарды во главе с графом Апраксиным, за ними граф Ливен и князь Мещерский привели преображенцев. Появились измайловцы...
Николай приободрился, начал увереннее отдавать приказы. Доложили, что командир лейб-гренадерского полка Стюлер тяжело ранен, но Николая сейчас не интересовали подобные вещи, он не дослушал, поглощенный своими заботами. Еще издали он заметил генерал-губернатора Милорадовича. В помятом мундире с оторванным воротником, с непокрытой головой, генерал шел, прихрамывая на левую ногу.
— Где вы были? — накинулся на Милорадовича Николай, возмущенный его опозданием. — Вы должны были первым явиться ко мне, как генерал-губернатор столицы.
— Я защищал престол вашего величества, — отвечал Милорадович, все еще негодуя на военных и штатских, которые так дурно обошлись с ним по дороге к Зимнему да к тому же намяли ему бока. — Бунтовщиков целые легионы, полиция не может их разогнать. Сейчас я сам отправлюсь на Сенатскую и поговорю с ними...
Милорадович вскочил на подведенного к нему коня и, не ожидая приказа Николая, направился к выстроившимся в каре повстанцам. С трудом протолкавшись сквозь толпу штатских, он приблизился к каре и гневно закричал солдатам и офицерам:
— Позор! Нет тут ни одного офицера, ни одного солдата! Нет, тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь, название солдата! Вы пятно России! Вы преступники перед царем, перед отечеством, перед светом, перед богом!
— Ваше сиятельство, — крикнул Оболенский, — извольте отъехать и оставьте в покое солдат, выполняющих свою обязанность!
— Почему же мне не говорить с солдатами? — заорал Милорадович.
Тогда Оболенский выхватил ружье у стоявшего рядом солдата и штыком заставил повернуть лошадь графа, при этом ранив его самого в правую ногу. В ту же минуту к Милорадовичу шагнул Каховский и, подняв пистолет, выстрелил. Раздалось еще несколько выстрелов из солдатских рядов. Лошадь испуганно шарахнулась, смертельно раненный Милорадович склонился на луку седла и начал валиться наземь.
...Николай приказал брату Михаилу, как шефу Московского полка, попробовать уговорить нижние чины вернуться в казармы. Великий князь только что принудил к присяге на верность Николаю тех солдат Московского полка, которые не пошли на Сенатскую, а остались в казарме. Теперь Николай хотел с помощью Михаила вернуть в расположение полка остальных.
Михаил Павлович не доехал до московцев, его остановили моряки, которые стояли впереди каре и готовы были отбить любую атаку приверженцев нового императора. Великий князь обратился к восставшим с речью, напоминая им о законах престолонаследия и говоря, что они совершают преступление перед новым монархом. Однако его никто не слушал.
Пущин крикнул Кюхельбекеру:
— Виль, ссади с лошади этого пьяницу, чтобы он не болтал чепухи...
Кюхельбекер прицелился, но пистолет дал осечку. Великий князь ретировался, кляня себя за неосторожность. «Они поступят со мною, как с Милорадовичем, а я хочу жить...»
Генерала Воинова, который по приказу Николая хотел было приблизиться к восставшим, стащили с лошади и чуть не убили. Насмерть перепуганный генерал убрался подобру-поздорову, стараясь не попадаться на глаза Николаю. А Николай, встав во главе преображенцев, хотел было вести их на угол Адмиралтейского бульвара, мимо недостроенного здания министерства финансов, но тоже едва не поплатился за эту попытку. Со всех сторон полетели камни, поленья, один кирпич чуть не угодил ему в голову.
— Самозванец! Палач! Вурдалак! — страшнее камней преследовали нового монарха зловещие выкрики. И он все пятился и пятился подальше от разъяренной толпы. В эти минуты Николай почувствовал, какая это неудержимая, могучая сила — человеческая масса!
«Если восставшие перейдут к действиям, никакая гвардия их не остановит», — подумал он в ужасе.
Понимая, как велико влияние церкви на простых людей, Николай приказал позвать митрополитов, которые как раз собирались в дворцовом храме служить молебен во здравие нового императора. Николай предложил им ехать к восставшим и попытаться усовестить их: пусть разойдутся по казармам и не совершают преступления против законного монарха.
Оба митрополита — московский Серафим и киевский Евгений — в зеленом и пунцовом бархатных облачениях, с бриллиантами на панагиях, высоких митрах и крестах — вышли на площадь и приблизились к каре повстанцев. Их сопровождали два дьякона в парчовых стихарях.
Митрополит московский Серафим, подняв крест, обратился к восставшим со словом. Но ему не дали говорить. Из толпы кричали:
— Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягнул?!
— Ты изменник, ты дезертир, николаевский холуй!
— Не верим вам, пойдите прочь! Это дело не ваше, мы знаем, что делаем!
Чтобы заглушить речь митрополита Серафима, повстанцы начали бить в барабаны.
Митрополитам не оставалось ничего иного, как удалиться. При этом они так спешили, что, заметив дыру в заборе, которым был обнесен Исаакиевский собор, юркнули в нее. Близ Синего моста они взяли извозчиков, на запятки встали дьяконы в стихарях, и митрополиты Серафим и Евгений возвратились в Зимний дворец.
— Чем нас утешите? Вняли ли вам мятежники? — спросили их придворные.
Митрополит Серафим, тяжко вздохнув, ответил:
— Обругали и прочь отослали.
...Тысячи людей ожидали начала событий, но некому было приказать идти на штурм Зимнего и стрелять в генералов, окруживших Николая. Тот, кому было поручено руководить восстанием на Сенатской, не пришел. Его повсюду искали, но не могли найти.
Трубецкой и сам вряд ли смог бы сказать, почему вдруг испугался ответственности, которую взял на себя на последнем собрании Общества. Как случилось, что он, один из основателей Тайного общества, изменил товарищам, друзьям, предал то, за что обещал бороться вместе с другими?
Ему доверили самое главное, тысячи людей отдали себя в его распоряжение, а он в решительный момент бросил товарищей на произвол судьбы. Он мучился, клял себя, глядя из окна на площадь, где его ждали, но пойти туда не хватало мужества. Не хватало силы воли, чтобы побороть неверие, отчаяние. А идти к восставшим нужно было с надеждой и верой в победу. Трубецкому казалось, что восстала вся Россия, что вся она сейчас подобна этой толпе, запрудившей улицы, площади, облепившей крыши, деревья, леса у Исаакия. Вот-вот лавиной двинется вперед и сомнет, сметет, растопчит все на своем пути. И никто ее не удержит, не остановит.
«Эта темная сила ждет только приказа, сигнала, команды. Если я встану во главе восстания и прикажу штурмовать Зимний, чернь бросится нам помогать. А можно ли давать волю черни? Это стихия. Она не только возьмет дворец, но вместе с Николаем сметет и дворянство. И тогда история покроет позором мое имя, а дворянство проклянет мой род. Ведь я, уничтожив одно зло — монархию, буду способствовать рождению другого — русского якобинства, оно может оказаться пострашнее, чем абсолютизм. Нет, на это я не пойду. Не могу».
И уже не было раскаяния, он не чувствовал себя предателем. Скорее бы наступила развязка. Когда же Трубецкой увидел, что прибыли кавалергарды, конная гвардия и гренадеры, а возле пушек заняли свои места пушкари, он понял, что победа за Николаем, восставшие либо сложат свои головы, либо будут арестованы. Тогда он пошел к свояку Лебцельтерну в австрийское посольство, чтобы там провести этот тревожный день. За бокалом крепкого вина, за беседой не так грызут человека сомнения и тревога.
Измученный физически, потрясенный нравственно, вернулся на Сенатскую площадь Рылеев. Офицеры без слов поняли, что ему тоже не удалось найти Трубецкого.
— Заячья душа! — гневно произнес Пущин. — Пропал или спрятался!
— Изменник! Подвел не только нас, но и их, — указал Бестужев взглядом в сторону каре солдат. — Достоин позорной смерти.
— Друзья, судить Трубецкого будем потом. Сейчас не время философствовать, — прервал их Рылеев и посмотрел на солдат, голодных, подавленных, измаявшихся от многочасового ожидания на холодном ветру. — Наверное, здесь больше трех тысяч штыков. Если дружно ударить, пробьем дорогу и штурмом овладеем Зимним. Я уверен, что к нам присоединятся и те, кого заставили присягнуть Николаю. Назад дороги нет. Только вперед, друзья мои, только вперед!
— Мы упустили время, господа, — с грустью заметил Щепин-Ростовский, — но ошибку еще можно исправить. Только вот кого поставить диктатором, чтобы нашим войском командовал один человек? Я предлагаю князя Оболенского, которого Трубецкой как диктатор назначил начальником штаба. Князь Оболенский с апреля старший адъютант в дежурстве пехоты гвардейского корпуса, его хорошо знают солдаты, а сейчас это самое важное.
— Евгений Петрович, вам выпал жребий начальствовать, — проговорил Рылеев, обняв Оболенского.
Все согласились с предложением Щепина-Ростовского. На миг мелькнула надежда, что еще не все потеряно, что, обратившись к петербуржцам за помощью, они приобретут тысячи новых сторонников. Пусть не вооруженных, но в руках простолюдинов даже камень и палка грозное оружие. Однако никто не хотел возложить на себя эту ответственность, надеясь, что новый диктатор сам обратится к населению.
А короткий зимний день, не успев разгореться, потухал над площадями и улицами, заполненными простонародьем, над Невой и Зимним дворцом, над Адмиралтейством, откуда уже двинулась в атаку на повстанцев конная гвардия. Ее поддерживали со стороны манежа кавалергарды, а от Невы — конногвардейский эскадрон.
Люди бросались на всадников, хватали лошадей за уздечки, били их, и напуганные животные не слушались гвардейцев. В ту сторону, где стоял император, по-прежнему летели камни, куски железа, поленья, доносились ругань и проклятия.
Николай боялся, что, когда стемнеет, толпа осуществит свои угрозы. Людей все прибывало, хотя, казалось, уже негде было яблоку упасть.
Еще накануне распространились слухи, что будет переприсяга и зачитают манифест о даровании всем свободы, отмене крепостного права, сокращении срока солдатской службы и иных реформах, которые якобы до сих пор скрывались от народа по приказу Николая. Столица бурлила: дескать, вот уж в какой раз хотели обмануть народ!
Поэтому, увидев, что происходит на Сенатской площади, люди поняли, что солдаты пришли сюда защищать свои права, а значит, им нужно помочь чем только можно.
Трубецкой был прав, думая, что, если он поведет восставших на штурм Зимнего, простолюдины без всяких приказов и просьб бросятся помогать солдатам.
— Ваше величество, — доложил генерал-майор Стрекалов, — наготове девять тысяч пехотинцев, три тысячи сабель в кавалерии, тысяча двести артиллеристов. На заставе резерв — десять тысяч человек.
— Передайте начальнику гвардейской артиллерии Сухозанету, чтобы он предложил бунтовщикам сдаться без боя. Обещайте всем помилование. Если же они не сложат оружие, по ним будут стрелять.
Получив приказ, генерал-майор Сухозанет поскакал на вороном коне к повстанцам, однако моряки встретили его такой бранью, что он, увидев обветренные, почерневшие от холода лица и исполненные гнева глаза, повернул назад.
— Ваше величество, — подобострастно произнес флигель-адъютант Бибиков, которому солдаты успели намять бока, — князь Оболенский назначен командовать бунтовщиками.
— Их надо картечью, ваше величество, — посоветовал генерал-адъютант Васильчиков. — И чернь тоже неплохо бы постращать. Надо сделать это, пока не стемнело.
Николай и сам об этом подумывал, но притворился, что просто воспользовался советом генерала.
И подал команду артиллеристам:
— Батарея, заряжай! Пальба орудиями по порядку. Правый фланг, начинай! Первая...
Но выстрела не последовало. Фейерверкеры словно не слышали команды, хотя ее дважды повторил командир батареи. Тогда офицеры сами бросились к пушкам, и семь раз прогремели пушечные и винтовочные залпы.
Михаил Бестужев начал строить солдат повзводно на льду Невы, несмотря на свистевшие вокруг пули. Успел выстроить три взвода, как вдруг в лед ударило ядро. Оказывается, на Исаакиевском мосту стояла батарея. За первым ядром посыпались другие. Раздались отчаянные крики: «Тонем! Тонем!» Лед не выдержал, люди гибли в реке, напрасно взывая о спасении.
Повстанцы начали отступать по Крюкову каналу, Галерной улице и Английской набережной. Сидевшие на деревьях, карнизах домов и на лесах у собора падали, как подстреленные охотником птицы. От порохового дыма стало темно, а пушки все гремели и гремели, и снег на Сенатской площади сделался красными под телами убитых и раненых. Казалось, само небо, пронизываемое молниями, рухнуло на головы восставших. Повсюду слышались стоны; их заглушали выстрелы.
Николай скомандовал кавалергардам и конногвардейцам:
— В сабли!..
И тех, кто не успел спрятаться, догоняли и на ходу рубили саблями. Охваченные ужасом солдаты и штатские не знали, куда бежать, где искать защиты.
Сенатскую площадь и соседние улицы и площадь очистили от живых, только мертвые оставались лежать там, где их настигла смерть. Да еще издалека доносились конский топот и душераздирающие вопли.
Николай победил. Он вздохнул с облегчением, вытер надушенным платком лоб.
Генерал-адъютанту Бенкендорфу было приказано взять шесть эскадронов конной гвардии, собрать повстанцев, разбежавшихся с Сенатской, и под усиленной охраной отправить их в Петропавловскую крепость.
Неторопливой походкой победителя Николай направился в Зимний дворец. Там его встретила заплаканная, испуганная царица-мать.
— Какой ужас! — шептали ее бледные губы. — Теперь вся Европа будет писать о нас.
— Европа напишет то, что прикажу я, — перебил ее Николай. И не останавливаясь прошел в свой кабинет.
Увидел Аракчеева, несколько часов назад приехавшего из Грузина, но сделал вид, что не заметил его. Любимец покойного брата не нужен был новому императору. Аракчеев так и стоял с опущенной головой, пока за Николаем не закрылась дверь кабинета.
Дежурный генерал Главного штаба Потапов, флигель-адъютанты Дурново и Адлерберг, сопровождавшие монарха, остались у дверей ждать его приказаний.
Рылеев долго бродил по безлюдным улицам Петербурга. Не помнил, как оказался на берегу Невы. Полицейские очищали лед, сбрасывая в полыньи убитых и раненых. Дворники засыпали кровь снегом.
В домах не светилось ни одно окно, тревожно встречала столица первую ночь с новым императором на престоле.
На Дворцовой площади горели костры, около них грелись несшие караул солдаты.
Рылеев вспомнил, что у него могут быть бумаги, которые следует немедленно уничтожить, чтобы не навлечь беды на кого-нибудь из товарищей, и поспешил домой.
На пороге его ждала взволнованная жена.
— Дорогой мой! Я уже потеряла надежду увидеть тебя живым, — порывисто обняла она постаревшего за день мужа; от усталости он едва держался на ногах.
— Наташа, надо сейчас же разжечь камин... Ты понимаешь?
— Я все понимаю, дорогой! Сейчас сама принесу дров и затоплю. А ты поешь чего-нибудь, ты так осунулся. Ушел из дома голодный да еще больной.
— Потом, потом!.. — Кондратий Федорович быстрым шагом направился в кабинет.
Там уже сидели Пущин, Штейнгель и Каховский. Скоро прибежали Оболенский, братья Бестужевы и отставной штабс-ротмистр Оржицкий, который этой ночью собирался ехать на юг, погостить к родителям.
Все были подавлены, утомлены. Разговаривали мало.
Рылеев рылся в ящиках стола, торопливо просматривал бумаги, некоторые бросал в камин. Ярко вспыхивал огонь, на миг вырывая из углов комнаты угрюмые лица.
— Ну, кажется, все! — сказал Рылеев, приведя в порядок стол. — Можно и отдохнуть. — Он тяжело опустился в старое кресло, положил руки на свои острые колени. — Друг мой! — обратился он к Оржицкому. — Обещайте, что как можно скорее доберетесь до Василькова и расскажете все Сергею Муравьеву-Апостолу или Бестужеву-Рюмину. Постарайтесь также встретиться с Пестелем. Его полк расквартирован в Линцах. Скажите, чтобы не повторяли нашей ошибки, действовали решительно, не теряя времени. — Он помолчал и прибавил: — Приветствуйте всех.
Оржицкий попрощался и ушел.
Они еще сидели, как перед дальней дорогой. Каждый понимал, что в этой квартире он последний раз и никакие слова сейчас не нужны. И так все ясно.
Потом, будто по команде, все встали и начали прощаться.
Было далеко за полночь, когда на квартиру Рылеева приехал флигель-адъютант Дурново в сопровождении шести солдат Семеновского полка.
— По приказу его императорского величества... — начал было Дурново.
Но Рылеев его прервал:
— Знаю!
Он быстро оделся, вошел в детскую комнату, где спала Настенька, минуту постоял, глядя на разрумянившееся во сне лицо дочери. Стараясь не разбудить, тихо поцеловал ее в головку и вышел. Обнял окаменевшую от ужаса жену, которая непонимающими глазами смотрела на него и молчаливых ночных гостей.
Когда мужа повели, Наталья Михайловна бросилась за ним. Но у нее подкосились ноги, и она, цепляясь за косяк двери, сползла на заснеженный порог. Со двора ворвался холодный воздух, в опустевшей комнате испуганно заметался огонек свечи.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Дом подполковника Гебеля, командира Черниговского пехотного полка, сиял огнями. Каждый год на рождественские праздники Гебель давал бал для офицеров и местного дворянства. На бал съезжалось множество гостей не только из Василькова, но из окрестных сел и поместий.
Особенно много забот выпадало на долю женщин: ведь то был не обычный бал, а негласные смотрины, на которые почтенные матушки вывозили своих дочерей-невест. Задолго до бала шились новые платья, обсуждались фасоны и моды, и сколько было волнений и хлопот! Неудивительно, что праздничный вечер в доме командира полка был большим событием.
Молодые девицы и офицеры танцевали, играл полковой оркестр. В конце бала предполагался ужин. На этом празднике можно было развлечься и пожилым людям. Мужчины усаживались вокруг зеленого стола, надеясь, что им повезет в картах. Женщины устраивались в уютной комнате, откуда была видна зала, где танцевали их дочери, впервые вывезенные в свет. Это напоминало ярмарку невест: среди неженатых офицеров было много покупателей. Кто знает, думали матери, быть может, в этот вечер их чадо найдет свое счастье. Где же и искать его, если не здесь?
Умолкала музыка, офицеры отводили девиц на место — до следующего танца, а сами стояли рядом, как верные телохранители стройных, прекраснейших на земле созданий природы.
Поручик Сухинов подвел свою любимую к стулу под роскоштной пальмой, занимавшей весь угол залы, и стал украдкой любоваться ее милым, раскрасневшимся от танца лицом. Это была дочь васильковского заседателя земского суда Рубашевского — Александра, или, как звали ее в семье, Леся.
Они познакомились еще летом и сразу полюбили друг друга. С тех пор часто встречались то на прогулке, то на балу у кого-нибудь из васильковских дворян.
В тот вечер Сухинов чувствовал себя счастливым. Он наконец добился перевода из Черниговского пехотного в Александрийский гусарский полк. Осуществилась его давнишняя мечта: через неделю он станет гусаром, попрощается с черниговцами и переедет из Василькова в Траянов, где расквартирован Александрийский полк. Потом он будет просить у полковника позволения на брак с Лесей. Он уверен, что ни родители невесты, ни командир не станут возражать. Все рисовалось Сухинову в розовом свете, ему даже не верилось, что можно быть таким счастливым. Все было как в сказке.
В самом деле — разве перед ним не сказочная русалка? Маленький рот с припухшими губками, окрашенные нежным румянцем полные щечки, а глаза бездонной синевы.
— Почему вы на меня так смотрите, будущий гусар? — игриво спросила Леся, смущаясь от своей смелости и откровенности и боясь, что поручик обидится.
— Во-первых, не «вы», а «ты». Во-вторых, зачем такое обращение — гусар? Мне хочется услышать что-нибудь более благозвучное, нежное... Я люблю тебя, Леся! Ты понимаешь эти слова, лучшие из слов, придуманных людьми? Люблю!
— Тише! — остановила она Сухинова, со страхом оглядываясь по сторонам — не услышал ли кто-нибудь его признания. Но все были заняты собой, в зале стоял ровный шум, точно в лесу ветреным днем. Да и кому было прислушиваться к их разговору? Разве что мать издали незаметно следит за нею, но и ей не расслышать, что говорит поручик. Слышит только пальма, да предательский блеск глаз выдает влюбленных.
Заиграла музыка, молодежь, как на невидимых крыльях, парами порхала по зале. Леся опустила глаза, ей казалось, будто все проникли в ее тайну; ее смущал пристальный взгляд Сухинова. Она чувствовала силу и власть над собою любимого человека и потому предалась его воле, танцевала сегодня особенно легко и грациозно, словно была не обыкновенной женщиной, а явилась из волшебного царства, где все люди счастливы.
...Было далеко за полночь, когда у дома Гебеля остановились
сани и из них вышли двое военных в шинелях и башлыках, покрытых инеем.
Они быстро вошли в дом.
— Поручик Несмеянов!
— Прапорщик Скоков! — отрекомендовались жандармские офицеры командиру Черниговского полка.
— Проводите нас в кабинет, — сказал Несмеянов хозяину.
Просьба прозвучала как приказ, но Гебель не обиделся: что поделаешь, жандармы!
Гебель тщательно притворил дверь, пригласил офицеров садиться, однако они не сели и даже не разделись. Они стояли посреди комнаты.
— По приказу начальника Главного штаба Первой армии генерал-адъютанта Толя мы прибыли, чтобы сделать обыск и арестовать подполковника вверенного вам полка Муравьева-Апостола, — сказал Несмеянов, пристально глядя на взволнованного хозяина. Поручик Несмеянов всегда радовался этому ощущению собственной власти и впечатлению, которое производил на любого человека, будь он в большом или малом чине, когда являлся вот так — нежданный и незваный, как смерть.
— Вот предписание, — прибавил Скоков, подавая Гебелю бумагу.
Подполковник Гебель прочел: «По воле государя императора покорнейше прошу ваше сиятельство приказать немедленно взять под арест служащего в Черниговском пехотном полку подполковника Муравьева-Апостола с принадлежащими ему бумагами так, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под строжайшим присмотром в С.-Петербург прямо к его императорскому величеству».
— К сожалению, подполковник Сергей Муравьев-Апостол сегодня уехал в Житомир вместе со своим братом Матвеем, гостившим у него, — отвечал Гебель жандармам. Он вернется в Васильков через несколько дней.
— Тогда проводите нас на его квартиру, — сказал Скоков. — Мы в вашем присутствии просмотрим его бумаги.
— Хорошо! — согласился Гебель, понимая, что жандармы никогда не привозят добрых вестей. Он быстро оделся и вместе с ними поехал на квартиру Муравьева-Апостола.
А в зале гремела музыка, все веселились, и казалось, ничто не могло омрачить радости гостей на балу у командира Черниговского полка.
Один лишь васильковский исправник Кузьмин успел пронюхать про ночных посетителей и, дав знак местному начальству, вышел в соседнюю комнату. За ним незаметно проскользнули казначей Литвинов, секретарь уездного суда Краковецкий, городничий — коллежский советник Девильерс, майор инвалидной команды Новгородцев и поручик Терпиловский вместе с уездным стряпчим Пивинским.
— Господа, предупреждаю вас, — зашептал исправник, плотно закрыв за собою дверь, — только что сюда прибыли жандармские офицеры. Переговорив с командиром полка, они отправились на квартиру подполковника Муравьева-Апостола. А жандармы даром не приезжают. Да еще среди ночи! Это не к добру...
— Что же могло случиться? — встревожился городничий, успевший проиграть пятьдесят рублей ассигнациями и потому чувствовавший себя неважно.
— Могут испортить рождественский ужин, — сокрушенно вздохнул секретарь уездного суда. — А там такой окорок зажарен... да под хреном... И колбас больше двух пудов припасено...
— Помолчите же, ради бога! — огрызнулся городничий. — Кому что, а курице просо.
— В Тульчине арестовано много военных. Говорят, всех повезли в Петербург. Заговор против монарха! Ужасно!
— А вы тут с окороком да с колбасами! — бросил недобрый взгляд на Краковецкого Девильерс. — Смотрите, как бы из вас самих не сделали колбасы на ужин помощникам Вельзевула.
— Я православный, а значит, не по вкусу нечистой силе, — обиделся Краковецкий, готовый затеять ссору: у него уже начали нервно подергиваться брови и потемнели глаза.
— Господа! — повысил голос исправник. — Сейчас не время для распрей. Тут не колбасой пахнет. Разойдемся незаметно. Наблюдайте и будьте настороже. Присматривайтесь, прислушивайтесь к каждому слову. Разнюхивайте, чтобы быть в курсе всех дел. Времена тревожные, дай бог их пережить.
На квартире Муравьева-Апостола спал Флегонт Башмаков, немолодой уже человек, неудачник, разжалованный из полковников в рядовые; Сергей Иванович держал его при себе из сострадания.
Жандармы забрали все бумаги Муравьева-Апостола и, не задерживаясь более, вернулись на квартиру Гебеля, где по-прежнему под звуки полковой музыки веселились гости.
Хозяйка дома, с грустью поглядывая на опечаленного мужа и этих верзил — непрошеных ночных посетителей, приказала горничной подать в кабинет чай и ужин.
Напрасно васильковский исправник думал, что только его бдительное око заметило приезд жандармов. Некоторые офицеры тоже видели их и проследили, куда они отправились с командиром полка. Как только жандармы вернулись к Гебелю, из залы, никем не замеченные, ретировались барон штабс-капитан Соловьев и поручик Кузьмин. А через несколько минут, извинившись перед Лесей, исчез и поручик Сухинов.
После ареста Пестеля, Юшневского, Лорера и других членов Общества оставшиеся на свободе словно повисли над пропастью, каждый день ожидая ареста. Вот почему появление жандармов всех очень встревожило.
Бестужев-Рюмин рассказал, что Гебель и жандармы забрали бумаги, перерыли все в квартире, спрашивали о Сергее Ивановиче. Жандармы ничего не сообщили, однако без слов ясно, что они приехали арестовать Муравьева-Апостола. Нужно предупредить его. И немедленно, этой же ночью.
Но как отлучиться из полка? Позволит ли Гебель? Какую выдумать причину?
— Поеду я, — сказал Бестужев-Рюмин: он еще до разговора с товарищами решил выехать навстречу Муравьеву-Апостолу. — Позволение мне не надобно. Положим, я отправился в свой Полтавский полк. Мой отъезд из Василькова не вызовет подозрений.
— Хорошо, Михаил Павлович, — согласились присутствующие.
На всякий случай они вывернули карманы, отдав Бестужеву-Рюмину все, что имели при себе. В дороге каждая копейка могла пригодиться.
— А вы возвращайтесь на бал, — посоветовал Бестужев-Рюмин друзьям, — не исключено, что за нами следят.
Братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы в пути все время вспоминали последние события, сильно беспокоившие обоих. Речь шла об измене в их рядах, об аресте единомышленников. Кто знает, что уготовила им судьба, кого еще выдал предатель...
Матвей Иванович в свое время служил адъютантом у генерал-губернатора Малороссии князя Николая Григорьевича Репнина, брата Сергея Волконского, потом вышел в отставку в чине подполковника и жил в отцовском имении Хомутец на Полтавщине. Последние дни он очень волновался за младшего брата Сергея, тревога не покидала его ни на минуту.
— Мы же знали, на что идем, — успокаивал Сергей брата, — так что не следует впадать в отчаяние. Пестеля предал капитан Майборода, это сейчас всем ясно. Просто отомстил ему. Если бы Майборода назвал кого-нибудь еще, их тоже арестовали бы. Он не мог знать о других управах, кроме Тульчинской. Во всяком случае, я так считаю. Мы с Давыдовым, Волконским и другими хотели было поднять полки и идти в Тульчин, чтобы освободить арестованных. Но, подумав, отказались от этой пагубной затеи. Я теперь пришел к заключению, что только весной мы будем готовы начать восстание. План есть план, и нарушать его, пусть и с добрыми намерениями, значит повредить нашему делу. Мы не пустые мечтатели, мы действительно установим в России новый строй, покончим с абсолютизмом. Иначе зачем же было создавать Общество? Бесплодная болтовня еще никого не осчастливила. Мы поставили себе целью бороться за благоденствие отчизны и добьемся своего. Благоденствие для всех живущих в России — вот наша цель!
Последние слова он произнес с такой верой, точно предупреждал, что его убеждения тверды и их никому не пошатнуть. Он уже видел на горизонте ту новую страну, ради которой стоило пожертвовать жизнью.
Матвей со страхом смотрел на брата. «Он не изменит клятве, которую мы дали когда-то, вернувшись из Парижа в Хомутец. И не успокоится, пока не добьется своего, или погибнет».
— Я знаю, ты вспоминаешь Пугачева и других, — продолжал Сергей. — Так это же стихия, неосознанные действия притесняемых, озлобленных людей. А мы не собираемся разрушать государственность, мы только сделаем ее справедливою. Россией будет править не один человек по собственному разумению, а весь народ. Все население. И не будет рабов — только свободные граждане. За одно лишь это стоит бороться. Но, чтобы нам не поссориться после долгой разлуки, оставим эти мудрствования. Лучше расскажи о Хомутце, о сестрах, о нашем названом брате, — словом, рассказывай все.
— Ну что тебе сказать? — пожал плечами Матвей. — Ипполит писал, что получил чин прапорщика и назначен служить к нам на юг. Сестры живы-здоровы. Хомутец занесло снегом, речка Хорол закована льдом. Вот и все.
— Нет, не все, — пошутил Сергей, обнимая брата. — А как твои сердечные дела? Часто бываешь в Кибинцах? Как поживает княжна Хилкова?
Он напомнил о внучке Трощинского, за которой ухаживал не только Матвей, но и Капнист, и другие молодые люди из семей богатых помещиков.
Матвей покраснел, смутился.
— Да, я иногда бываю и в Кибинцах, — признался он, не глядя брату в глаза. — Там хорошо, прелестные окрестности. К тому же Трощинский гостеприимный хозяин.
— Дело не в окрестностях, наш Хомутец несравненно красивее. Просто Кибинцы пришлись тебе по душе потому, что там живет княжна. Нужно называть вещи своими именами. А я зарекся ездить в Хомутец, пока ты не пригласишь меня на свадьбу.
— Долго придется тебе ждать, — улыбнулся Матвей, но лицо его сразу омрачилось. — Сестры очень соскучились по тебе, часто вспоминают. После смерти матушки Хомутец осиротел. Все делается не так. Мачеха хотя и доброжелательна, внимательна к нам, однако все-таки ей дороже Дуняша, Елизавета, Василий — ведь они ее родные дети. Много лет прошло после смерти матушки, а мы никак не смиримся с этой ужасной потерей.
Вспомнив прошлое, они приуныли. Долго ехали молча.
На последней станции перед Житомиром от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, братья узнали о событиях в столице.
Командир корпуса генерал-лейтенант Рот принял Сергея Ивановича любезно. Однако в ответ на его просьбу предоставить Бестужеву-Рюмину отпуск для поездки к отцу, тяжело захворавшему после смерти жены, недовольно заметил:
— Разве подполковнику не известно, что император запретил отпускать бывших «семеновцев»?
— Я сам «семеновец», ваше превосходительство, но полагаю, что император не имеет права лишать родителей сыновней ласки. Поручика не отпустили даже на похороны матери. Это жестоко и несправедливо.
— Подполковник, — резко возразил Рот, — приказы его величества священны для подданных. Может быть, новый император отменит эти ограничения, тогда я охотно и с удовольствием исполню вашу просьбу. А теперь, господа, — сказал он братьям Муравьевым-Апостолам, — прошу отобедать со мною и моими ближайшими друзьями и помощниками.
Из Житомира решили поехать к троюродному брагу Александру Муравьеву, командиру Александрийского гусарского полка. Прибыли в Траянов на второй день рождества, однако хозяина дома не застали — он принимал в церкви присягу у гусар. Зато хозяйка встретила их радушно.
— Александр будет счастлив видеть вас, — щебетала она, провожая нежданных гостей в уютную, со вкусом обставленную гостиную. — Для нас сегодня двойной праздник — присяга новому императору и ваш визит. Александр скоро вернется.
В самом деле, не прошло и получаса, как они увидели брата — он шел в сопровождении офицеров, которых после присяги пригласил к себе на обед. А еще несколько минут спустя все трое Муравьевых уже обнимались.
— Откуда вас бог принес? — удивлялся Александр, не скрывая радости и поглядывая то на одного, то на другого: не постарели ли после их последней встречи?
— Мы из Житомира, — объяснил Сергей. — Ездили поздравлять командира корпуса с рождеством. А возвращаясь домой, решили навестить тебя. А то узнаешь, что мы были недалеко и не заехали, — обидишься. Ты же у нас такой.
— Правда, так оно и было бы, — пробасил Александр.
Он познакомил братьев с офицерами своего полка.
Хозяйка пригласила гостей к столу. Разговор вертелся вокруг петербургских событий, однако не все верили в расстрел на Сенатской площади. Сергей тоже выразил сомнение — с умыслом, чтобы услышать мнение гусар:
— Может быть, это преувеличение, господа? Мы любим гиперболы, часто даем волю фантазии.
— Ну что ты выдумываешь! — недовольно воскликнул Александр. — Сведения точные. В столице действительно пролилась кровь, восстание силой подавлено.
— А чтобы у вас не осталось никаких сомнений, — вставил подполковник граф Шуазель, доставая из бокового кармана письмо, адресованное его жене графиней Самойловой, — вот вам подробное описание всего, что произошло.
В письме рассказывалось о событиях на Сенатской площади, о смерти генерал-губернатора Милорадовича, а также о ранении Стюлера и Фридерикса. Сообщалось и об арестах заговорщиков.
Письмо произвело на Сергея угнетающее впечатление. Он сидел грустный, забыв о еде.
— Сергей Иванович, — с обидой обратилась к нему хозяйка, — вам не нравится наш обед?
— Что вы! — вздрогнул Сергей, отвлекаясь от своих мыслей. — Обед прекрасный, но я сыт. Благодарю за гостеприимство! Прошу извинить меня за рассеянность.
Александр Муравьев не принадлежал к Тайному обществу, однако среди офицеров его полка было немало вольнодумцев. И Сергею казалось, что они поддержали бы повстанцев, если бы полки не успели присягнуть Николаю. Да и сам Александр Муравьев не раз критиковал аракчеевщину, высказываясь за реформы в России. Все это вспомнилось за обедом Сергею. Он обвел взглядом присутствующих, пытаясь прочитать по их глазам, откликнулись бы они на призыв выступить против монархии, за свободу и революцию или нет.
Обед уже заканчивался, когда явился унтер-офицер Проскурин и доложил, что застрелился старший вахмистр эскадрона Дяченко. Александр Муравьев встал из-за стола, извинился перед гостями и торопливо направился в канцелярию полка.
Самоубийство вахмистра произвело на всех неприятное впечатление. Офицеры тоже стали прощаться.
Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Сергей посоветовал Матвею сейчас же ехать в Любар, к Артамону Муравьеву, чтобы предупредить его о возможных обысках и арестах.
Тот согласился.
— Обязательно! Если новый монарх устроил в столице расправу, значит, можно ждать всего. Я хорошо знаю великого князя Николая Павловича как шефа измайловцев. Немало он испортил им крови. А если уж дорвался до короны, милости от него не жди. Мстителен и хитер!
— Это закономерно! Еще Вергилий говорил, что единственное благо побежденных — не надеяться на спасение. Какая уж тут милость! К тому же от тирана!
В этот момент вернулась хозяйка. Муравьевы-Апостопы, поблагодарив за гостеприимство, начали собираться в дорогу.
— Нет, нет, не отпущу, пока не вернется Александр, — запротестовала она. — Хоть один денек погостите. Ну прошу вас!
— Нельзя. Служба государева! — вздохнул Сергей, разводя руками: дескать, рад бы в рай, да грехи не пускают. — Время такое: всем нужно быть в полку.
Они уже оделись, когда вернулся хозяин.
— Это что такое? — строго спросил он. — Куда вы собрались? Не отпущу до завтра. Поедете утром.
— Нет, мы решили ехать теперь, Александр, — твердо отвечал Сергей. — Хотим навестить Артамона. И надо торопиться в полк. Сам видишь, какие времена настали...
Александр лишь вздохнул. Не говоря больше ни слова, пошел проводить братьев.
Потом, озабоченный самоубийством вахмистра, отправился в полковые конюшни. «Как будто и причины никакой не было, а вот погиб хороший гусар. И что ему вздумалось стреляться, ума не приложу! И как раз нынче, в день присяги... Неприятная история».
Уже сгустились сумерки, когда Александр Муравьев увидел тройку с жандармами, остановившуюся у его квартиры. Он быстро пошел домой.
Поздоровавшись, Гебель объяснил причину своего визита:
— Мы прямо из Житомира. Командир корпуса генерал-лейтенант Рот сказал, что сюда направились братья Муравьевы-Апостолы. Пришлось и нам ехать вслед за ними.
— К сожалению, подполковник, вы опоздали, после обеда они уехали.
— Куда, позвольте спросить?
— Собирались заехать в Любар, а оттуда в Васильков.
Разыгралась метель. Александр предложил заночевать у него, а утром двинуться в путь.
Гебель и жандармы взглянули на дорогу — там громоздились сугробы. Подумав, что никуда этот преступник Сергей Муравьев-Апостол от них не уйдет, они направились в теплый дом Александра Муравьева.
Кончался короткий зимний день. Сергей и Матвей приехали в Любар, где квартировал Ахтырский гусарский полк. Его командир Артамон Муравьев принял троюродных братьев очень приветливо, он надеялся, что они проведут у него рождественские праздники.
— Нет, Артамон, — разочаровал его Сергей, — мы хотим только предупредить тебя, что в Петербурге наши друзья восстали, однако тиран задушил восстание. Подробностей еще не знаем, но все это, безусловно, вызовет осложнения. Возможны обыски, аресты. Нужно ко всему быть готовым.
Веселое настроение Артамона развеялось как дым. Он сразу приуныл, задумался. Сидел, упираясь локтями в колени и опустив голову, словно рассматривал что-то на чисто вымытом сосновом полу.
— Ну, что скажешь, гусар? — спросил Сергей, нервно шагая по комнате.
— М-да... — тяжело вздохнул Артамон. — Дело серьезное.
Матвей, откинувшись на высокую спинку дубового кресла, не вмешивался в разговор и, казалось, не слушал.
— Я приехал сказать, — продолжал Сергей, — что тебе, Артамон, надо поднять свой полк и вместе с Черниговским идти на Житомир. А оттуда мы двинемся на Киев. К нам присоединятся соседние полки. Я обо всем напишу «славянам», а ты, пожалуйста, утром пошли гонца к Петру Борисову. Пусть он вручит мое письмо подпоручику той же Восьмой артиллерийской бригады Андреевичу Якову Максимовичу: они должны быть готовы и ждать нашего знака, чтобы начать действовать.
— А может быть, не стоит торопиться? — недоверчиво посмотрел на него Артамон. — Мы еще точно ничего не знаем. И опять-таки, если в столице эта акция провалилась, не исключено, что то же самое произойдет и у нас.
Словно пламя обожгло Сергея. Как на врага взглянул он на Артамона.
— Ты испугался? — спросил он, подойдя к нему вплотную. — Будь мужествен, Артамон! Настал час испытаний, ты должен доказать свою преданность республике. Пойми — переприсяга вызвала сомнения даже у нижних чинов. Это порука тому, что акцию начинать стоит. Наши силы возрастут...
Голос подал Матвей:
— Ты ведь сам говорил, Сергей, что, поскольку восстание назначено на весну, нельзя нарушать план. Почему же ты сейчас изменил свое мнение и бросаешься в водоворот, где тебя ждет гибель?
Заступничество Матвея приободрило Артамона.
— Это правда, — подхватил он. — Еще ничего точно не известно относительно событий в Петербурге. А главное — мы не готовы к немедленному восстанию. И раз некоторые полки уже присягнули Николаю, он с их помощью разгромит своих противников.
— Довольно разговоров, нужно действовать, — настаивал Сергей, не обращая внимания на возражения братьев. — Мы раздуем такой пожар, что никакой тиран не в силах будет его потушить.
Они продолжали спорить. Никто не уступал, защищая свою точку зрения.
— Скажи откровенно, Артамон, — решительно произнес Сергей, он был крайне возбужден: все случившееся за последний день тяжелым камнем лежало у него на душе. Скажи, можно надеяться на твой полк? Только отвечай искренне.
Артамон колебался. Сергей ждал. Он стоял рядом с Артамоном и внимательно следил за выражением его лица.
— Ну что же, мы не отстанем от других. Гусары никогда не плелись позади.
Голос Артамона звучал не вполне уверенно, но все-таки его ответ произвел на Сергея немалое впечатление. Точно луч яркого света упал на давно выношенное в душе.
К действиям поощряло и то, что подавленное в столице восстание должно было вызвать волну арестов. Вслед за Пестелем за решетку попадут все члены Общества. Итак, сама жизнь подсказывала, что медлить нельзя.
Сергей сел писать письма Борисову и Андреевичу.
Артамон пригласил братьев поужинать. Но не успели они выпить первую рюмку за успех общего дела, как в дом вбежал, весь в снегу, Бестужев-Рюмин. Как видно, стряслось что-то необычайное, если подпоручик пустился в дорогу в такое ненастье.
Молча выслушали они печальный рассказ о приезде жандармов, об обыске на квартире и изъятии бумаг.
Вот и началось то, чего все так боялись после ареста Пестеля.
— Что же делать? — вырвалось у Артамона.
Матвей сидел бледный, очень взволнованный. Он всегда боялся за судьбу младшего брата, близко к сердцу принимая все, что могло угрожать Сергею как руководителю Васильковской управы.
Ужин был забыт. Артамон посоветовал Сергею бежать. Можно незаметно добраться до границы, это недалеко. А очутишься в чужой стране — и концы в воду! В Европе нашли себе пристанище десятки противников русских царей.
Сергей отказался.
— Я считал бы себя предателем, если бы оставил друзей в час испытаний. Нет, об этом не может быть и речи. Подлинные единомышленники разделяют друг с другом не только радости, но и горе, которое выпадет им на долю. Не нами это заведено. Лучше давайте обдумаем план действий. Я уверен, что «славяне» нас поддержат, Значит, не все потеряно, можно рискнуть.
Проговорили всю ночь.
Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин считали наиболее целесообразным немедленно поднять полки и, арестовав в Житомире штаб, идти на Киев. А по дороге привлечь к восстанию другие воинские части.
Матвей и Артамон возражали, они придерживались иной тактики: ничего не предпринимать, пока не выяснятся все обстоятельства и не будет полной договоренности между полками.
Утром, еще раз посоветовав Артамону послать гонцов с письмами к Борисову и Андреевичу, братья Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин выехали в Паволочь, собираясь по пути заглянуть в Бердичев, связаться там со «славянами» и условиться с ними о восстании.
За ночь дорогу замело, лошади с трудом пробирались через сугробы. Хмурый день, заснеженное поле, которому, казалось, не будет конца, — все угнетающе действовало на путников. Долгое время они молчали. Потом Матвей предложил:
— Лучше нам застрелиться и положить конец этим мукам. Все равно мы обречены.
Сергей с жалостью посмотрел на старшего брата, возразил:
— Это никогда не поздно. В Паволочи выясним, что происходит в преданных нам полках. А главное — я опять напоминаю, — надо связаться со «славянами» и окончательно обо всем договориться. Потом в зависимости от обстоятельств решим, что делать.
Однако в Паволочи они узнали, что до Восьмой артиллерийской бригады добраться уже нельзя — на всех дорогах усиленные караулы. Некоторые полки начальство подняло по тревоге, и они выступили в неизвестном направлении.
Они решили ехать на Фастов. По дороге им встретилась крестьянская подвода. Пожилой дядька рассказал, что еще накануне полк выступил из Фастова, а на окраине, у шлагбаума, поставлен усиленный караул и солдаты проверяют документы. У кого нет, тех задерживают и ведут в арестантскую.
Все поняли, что полки подняты недаром. Царь Николай решил принять меры и на юге, чтобы предупредить эксцессы, могущие возникнуть из-за заговорщиков.
Сергей предложил возвратиться в расположение Черниговского полка, но остановиться на околице и разузнать, что творится в Василькове и в селах, где расквартированы роты.
Смеркалось, когда они въезжали в Трилесы. Они торопились на квартиру командира Пятой мушкетерской роты поручика Кузьмина. На рождественские праздники солдат отпустили «по миру», чтобы они на даровщинку пожили у местных жителей. А сам Кузьмин поехал на кутью в Васильков и до сих пор не вернулся.
Дверь открыл денщик Кузьмина.
— Празднуют! На то и рождество бог дал, чтобы опрокинуть по чарке да повеселиться, — объяснил он не без зависти: ведь ему-то пришлось остаться в Трилесах. — А вы, ваши благородия, заходите в дом, я вам чаю горячего принесу.
Они решили здесь переночевать. Но Бестужев-Рюмин, немного согревшись, заторопился в дорогу.
— Может быть, поедешь, Михаил, утром? — беспокоясь за друга, говорил Сергей. — Отдохни, а то у тебя не хватит сил добраться до Новоград-Волынска.
— Нет, нужно ехать, — решительно отвечал Бестужев-Рюмин, натягивая шинель. — Дорог каждый час. Мы же ничего не знаем, мой друг! И чем скорее я встречусь со «славянами», тем больше надежды на успех. Я уверен, что Восьмая пехотная дивизия и Восьмая артиллерийская бригада восстанут. Там люди надежные, солдаты подготовлены. И конная артиллерия нас поддержит. Если удастся, обязательно побываю также в полках Алексопольском в Радомысле и Кременчугском в Брусилове. Ими командуют наши товарищи.
— Скажи, что Александрийский и Ахтырский гусарские полки прибудут в Брусилов. А оттуда все вместе пойдем на Житомир.
У Бестужева-Рюмина заблестели глаза.
— Я хочу, — признался он, — вместе со «славянами» добраться до корпусной квартиры. И если меня не арестуют, то застрелю генерал-лейтенанта Рота, чтобы он не мог послать против повстанцев верные ему части. Ну а затем сами обстоятельства подскажут, как быть. Пока я еду в Новоград-Волынск.
— Удачи тебе, друг, — поцеловал его на прощание Сергей. — Мы будем ждать тебя здесь. Я вызову из Василькова Кузьмина и узнаю, что там происходит.
Михаил Павлович вскочил в седло, и лошадь понесла его в холодную мглу ночи. Сергей еще несколько минут стоял во дворе задумавшись, не чувствуя холода.
Из хаты вышел Матвей, стал упрекать брата: так, мол, недолго и простудиться.
Сергей вернулся в дом и велел денщику позвать кого-нибудь из солдат. А сам сел писать письмо Кузьмину.
«Анастасий Дмитриевич! Я в Трилесах и нахожусь у вас на квартире. Приезжайте и скажите барону Соловьеву, Щепилло и Сухинову, чтобы они тоже приехали сюда как можно скорее. Ваш Сергей Муравьев».
Вошел рядовой Пятой роты Савицкий. Сергей приказал солдату ехать в Васильков, найти командира роты и отдать ему письмо.
— Только в собственные руки, понял? И никому ни слова, что я здесь!
— Слушаюсь, ваше благородие! Будет исполнено.
За тонкой перегородкой в небольшой спальне Кузьмива крепко спал Матвей, измученный путешествием, но еще больше всем пережитым за эти тревожные дни.
А Сергей так и остался сидеть за столом. Он был похож сейчас на человека, остановившегося на распутье и не знающего, по какой дороге идти дальше.
Свеча догорела и погасла, он этого не заметил. Сидел неподвижно, думая свои тяжкие думы.
Гебель нервничал. Жандармы бранились — они никак не могли догнать подполковника Муравьева-Апостола, которого должны были арестовать.
На последней станции перед Бердичевом решили зайти в корчму погреться и чего-нибудь выпить. И в корчме случайно встретили жандармского поручика Ланга. Тот сказал, что генерал-лейтенант Рот получил приказ арестовать подпоручика Полтавского полка Михаила Бестужева-Рюмина и что он, Ланг, едет в Любар, где находится этот преступник.
— Поручик, — заявил Гебель жандарму, — мы только что оттуда, ночевали у командира гусарского полка и можем подтвердить, что Бестужева-Рюмина в Любаре нет. Он, как нам сказали, уехал вместе с братьями Муравьевыми-Апостолами в Бердичев.
— Тогда нам, господа, по дороге! — воскликнул Ланг, он был рад, что у него нашлись попутчики.
Гебель не возражал.
— Ну что ж, — сказал он, — в компании веселее.
Однако в Бердичеве ни братьев Муравьевых-Апостолов, ни Бестужева-Рюмина они не застали — все трое уже уехали в Паволочь. Жандармы решили немного отдохнуть, а потом разделиться на партии, отправиться по трем дорогам и задержать преступников, когда они будут возвращаться в Бердичев.
Гебель и Ланг прибыли в Паволочь раньше Несмеянова и Скокова и, расспросив корчмаря, поскакали вслед за Муравьевыми-Апостолами и Бестужевым-Рюминым в Фастов.
Близилась ночь, поэтому они решили в Трилесах накормить лошадей, перекусить и согреться после своего длинного путешествия.
Гебель пригласил Ланга на квартиру командира роты Кузьмина. Тот охотно согласился.
У Кузьмина не горел свет, однако двери были не заперты. Гебель и Ланг вошли в теплую хату, зажгли огонь и остолбенели! За столом сидел Сергей Муравьев-Апостол. У Гебеля на минуту отнялся язык. Он смотрел и не верил, что перед ним не привидение, а преступник, за которым он вот уж какой день гоняется.
— Подполковник, каким образом вы здесь оказались? — наконец спросил он, опомнившись. — А где подпоручик Бестужев-Рюмин и ваш брат?
— Знать это не входит в мои обязанности, — спокойно отвечал Сергей, словно речь шла о чем-то обыденном, не стоящем внимания.
Но Гебеля как будто вело чутье. Он пошел за перегородку, где мирно спал старший Муравьев-Апостол.
— Вставайте, одевайтесь! — приказал он Матвею, разбудив его.
Через минуту тот вышел из-за перегородки, ничего не понимая спросонья. Гебель громко зачитал приказ об аресте и приказал денщику Кузьмина позвать фельдфебеля. Скоро пришел Шустов.
— По вашему приказанию явился, — доложил он, стоя на пороге.
— Поставь караул, — распорядился Гебель. — Троих — на улице, под окнами, одного — у дверей в сенях. Восемь человек держи на кухне, чтобы сменять часовых.
— Слушаюсь!
Гебель пошел на кухню и стал допрашивать денщика, куда поехал Бестужев-Рюмин и когда обещал вернуться.
— Куда поехал, не знаю, ваше благородие. Вернуться обещал сюда, но когда, мне неведомо! — ответил солдат.
Гебель успокоился.
— Готовь ужин и чай. Поскорее!
Гебель и поручик Ланг были голодны, они не ели почти весь день.
Когда денщик Кузьмина принес ужин и вино, Гебель пригласил к столу обоих Муравьевых-Апостолов.
— Господа, быть может, этот ужин и не таков, каким бы ему полагалось быть на рождество, однако тут моей вины нет, — пошутил или съязвил Гебель.
Матвей все еще был растерян, никак не мог прийти в себя, а Сергей внешне сохранял полное спокойствие, точно ничего особенного не произошло. Но от ужина он отказался.
С тех пор как Гебель с жандармами уехал искать Сергея Муравьева-Апостола, офицеры, члены Общества, не знали покоя. Каждый был уверен, что пришло время действовать, пока не арестовали всех заговорщиков. Но никто не мог встать во главе восстания, возложить на себя эту ответственность, поскольку не было приказа главы Васильковской управы.
Они волновались, составляли разные планы, отбрасывали их, заменяли новыми и с нетерпением ждали Бестужева-Рюмина, который уехал, чтобы предупредить Сергея Муравьева-Апостола, и должен был вернуться с хорошей или дурной вестью. Тогда, во всяком случае, они знали бы, что им делать, что предпринять.
Но Бестужев-Рюмин не возвращался. И Гебель больше не появлялся в местечке.
Члены Общества строили всевозможные догадки, становились раздражительны, нетерпимы. По Василькову поползли слухи, и чего только в них не было! Помещики из окрестных сел и имений разнесли повсюду то, что им стало известно на балу у командира Черниговского полка, а людская фантазия дополнила эти сведения.
Наконец в ночь на двадцать девятое декабря из Трилесов примчался гонец с письмом Сергея Муравьева-Апостола.
— Надо немедленно ехать, — сказал барон Соловьев, прочитав письмо.
Щепилло и Сухинов поддержали его, Кузьмин и подавно. Он сразу начал собираться в путь.
Сухинов предложил, чтобы Соловьев и Щепилло ехали по большой дороге, а он с Кузьминым по проселку. Тогда они не разминутся с Гебелем, если, допустим, тот со своими жандармами нашел братьев Муравьевых-Апостолов и арестовал их.
Первыми добрались до Трилесов Кузьмин и Сухинов. Кузьмин еще издали заметил у своей квартиры часовых, недоброе предчувствие охватило его. Подъехав, он спросил солдата, кто его здесь поставил, и, получив ответ, вошел в сени, хотя Гебель запретил кого-либо пускать.
В сенях тоже стоял на часах солдат его роты, он без возражений пропустил командира.
Кузьмин вырос на пороге. За столом сидели Гебель, жандармский поручик Ланг, а по другую сторону — Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы.
Раскрасневшийся от ужина Гебель рывком вскочил на ноги и закричал:
— Как вы тут очутились, поручик? Кто позволил вам войти?
— А мне не нужно позволения, я дома, — спокойно отвечал Кузьмин, принимаясь раздеваться. — Я сам хотел узнать, подполковник, как попали сюда вы.
— Не смейте со мной так разговаривать! — взвизгнул Гебель, охваченный яростью при мысли, что столь неожиданно явившиеся друзья арестованных, чего доброго, попробуют их освободить. Он хотел запугать вновь прибывших и отбить у них охоту осуществить свои пагубные намерения. — А вы почему приехали? — набросился он на Сухинова. — Вам, кажется, полагается быть не в Трилесах, а в Траянове, в гусарском полку, куда вас перевели.
— Вы ошибаетесь, подполковник, — невозмутимо отвечал Гебелю Сухинов, — мне именно здесь и полагается быть этой ночью.
— Кто дал вам право так разговаривать со мною? — зашипел от злобы Гебель.
— Вам тоже недурно было бы научиться разговаривать с людьми по-человечески.
Кузьмин на правах хозяина отправился на кухню, где сидели солдаты его роты, а Сухинов подошел к Сергею Муравьеву-Апостолу, чтобы поговорить с ним.
Однако Гебель закричал:
— Не смейте приближаться к арестованному и разговаривать с ним! Запрещаю! — И, повернувшись к Лангу, приказал: — Поручик, распорядитесь готовить подводы и конвой. Мы повезем арестованных на квартиру полка.
Ланг вышел в сени и, предчувствуя недоброе, решил было бежать. Но в этот момент как раз подъехали Соловьев и Щепилло. Увидев жандарма, они задержали его и приказали солдатам где-нибудь запереть.
— У нас, ваше благородие, для таких господ есть амбар, — сказал служивый.
— Сюда бы и того кровопийцу немца посадить, — прибавил второй, подталкивая Ланга штыком.
— Да вот он, легок на помине! — отозвался первый, увидев Гебеля.
Гебель налетел, как петух, и заорал на Соловьева и Щепилло:
— Как вы смеете! Я вас под суд отдам за самоуправство!
— А я тебя без суда отправлю в ад, чертям дрова подвозить, — сказал Щепилло. Он выхватил у солдата винтовку и бросился на Гебеля, собираясь заколоть его штыком.
— Что ты, остановись! — схватили Щепилло за руки Сухинов и Соловьев, понимая, что убийством немца накличут беду на весь полк. — Намять ему бока, и пусть пешком добирается до Василькова.
— Нет, отпускать ни в коем случае нельзя, — возразил Щепилло; будь его воля, он бы сию минуту расправился с командиром полка. — Поднимет шум, напакостит нам. Это же свинья. От подобной твари всего можно ожидать. Пустите, я его прикончу...
— Караул! — завизжал Гебель, вне себя от страха, и, упав на колени, стал ползать на снегу у ног офицеров, умоляя не убивать его. — Отпустите, я никому ничего не скажу... Клянусь... господа!
Сергей Муравьев-Апостол, услыхав крики, ударил ногою по оконной раме, и не успел часовой опомниться, как он оказался рядом с друзьями, готовый в любую минуту прийти им на помощь. Ведь он не знал, что случилось. Думал, что на них напали подручные Гебеля.
А Гебель, воспользовавшись случаем, пустился наутек, крича, что его убивают. Щепилло обязательно прикончил бы его, но ему снова не дали сделать это Соловьев и Сухинов. Щепилло только ранил Гебеля штыком.
Насмерть перепуганный Гебель неподвижно лежал на снегу, точно мертвый. Однако стоило офицерам уйти в хату, как он выполз на дорогу. Там его подобрал случайно проезжавший мимо солдат. Он узнал командира полка и отвез его в дом управителя поместья Браницкой. В ту же ночь управитель переправил Гебеля в Васильков.
После этого происшествия ни у кого не осталось ни сомнений, ни колебаний. Случай с Гебелем послужил тем сигналом, которого так долго ждали. Все поняли, что возврата назад нет, восстание неизбежно, эта ночь разделила их жизнь надвое.
— Ну вот и началось, — произнес барон Соловьев, когда друзья окружили стол, за которым еще недавно пили чай Гебель и Ланг.
Все знали, что это начало того великого, к чему они стремились, о чем мечтали, вступая в Тайное общество, и что отныне не только судьба заговорщиков, но и судьба солдат Пятой роты зависит от их решительности, личного мужества и преданности делу революции.
Кузьмин вышел на кухню, где собрались солдаты из караула, и спросил, согласны ли они бороться за правду и справедливость, о которых он не раз говорил им во время учений и на досуге.
— Согласны! — отвечали они ротному все как один. — Приказывайте, ваше благородие. Мы от вас не отстанем.
— Благодарю! Тогда сейчас же соберите роту и готовьтесь к походу. Пойдем отвоевывать то, что отняли у нас тираны.
Сергей Иванович сел писать письмо «славянам» и подпоручику Александру Вадковскому в Белую Церковь. Он просил Вадковского в тот же день прибыть со своими единомышленниками в Васильков.
Соловьеву, Щепилло и Сухинову Сергей Иванович приказал ехать в свои роты, привести их в состояние полной боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. А сам с Кузьминым и солдатами Пятой мушкетерской роты, которые в ту ночь находились в Трилесах и поблизости от них, отправился в Ковалевку.
На управительских лошадях Гебеля привезли в Васильков. Жена заголосила, как по покойнику, перепугались горничные. И только денщик в глубине души обрадовался, что этому кровопийце наконец досталось так, что, может, и чертям душу отдаст.
Однако штыковая рана оказалась неопасной. Через некоторое время Гебель встал с постели; казалось, он чувствует себя великолепно, словно и не было того происшествия в Трилесах. Вызвав своего заместителя майора Трухина, он приказал усилить караулы, собрать в Василькове все роты, а когда приедут Соловьев и Щепилло, арестовать их как преступников, подлежащих военному суду.
Закрутилось колесо фортуны. По местечку поползли слухи один ужаснее другого, еще больше напугавшие и так насмерть перепуганных обывателей.
Соловьева и Щепилло арестовали, как только они появились на околице Василькова, и под усиленной охраной отвезли на гауптвахту. Муравьевы-Апостолы и Кузьмин привели в Ковалевку Пятую мушкетерскую роту. Здесь к ним присоединилась Вторая гренадерская.
В Ковалевке решили заночевать, а утром отправиться в Васильков.
Бестужев-Рюмин не возвращался, и Сергей Иванович послал гонца в Восьмую артиллерийскую бригаду и Восьмую пехотную дивизию с сообщением, что восстание началось. Он приказывал немедленно идти в Васильков, где должны были собраться все повстанцы.
Настроение у солдат было бодрое. Они верили в победу, верили, что теперь им станет легче, так как срок службы сократят на десять лет. Это же десять лет жизни, украденных царем и правительством! И вот их вернут служивым!
Ковалевские крестьяне тоже радовались: конец крепостному праву, настала воля, о которой они так долго мечтали! Да еще каждому семейству нарежут господской земли. Как тут не радоваться! И они отдавали восставшим солдатам последнее, что у них было: пусть не голодают и хорошенько всыплют помещикам.
Надежда на счастье и волю согревала крестьян и солдат в тот декабрьский вечер. Но никто не сомневался, что восставший полк — всего лишь капля в море, маленькая горстка по сравнению с дивизиями и корпусами царя Николая, которому почти везде присягнули на верность.
Ночью в Ковалевку приехал Бестужев-Рюмин. Усталый, измученный, казалось, он даже постарел. Бестужев-Рюмин не привез ничего утешительного и как будто чувствовал себя виноватым перед Муравьевым-Апостолом за то, что не выполнил его поручения.
— Ну рассказывай, Михаил! — торопил его Сергей Иванович, помогая раздеваться. И крикнул, чтобы принесли чаю и чего-нибудь поужинать.
— Нечего рассказывать, — отвечал Бестужев-Рюмин, присаживаясь к столу. — Я не смог добраться до Новоград-Волынска. В Брусилове случайно встретил офицера нашего полка Вроловича, он сейчас в отпуску. От Вроловича узнал, что меня везде ищут жандармы. То же самое подтвердил и граф Олизар, к которому я заехал отдохнуть. У графа уже были жандармы, обшарили все углы и закоулки: им кто-то донес, будто я прячусь в имении. Граф посоветовал мне как можно скорее уехать. Я каждую минуту рисковал попасть в когти жандармам. По той же причине я не мог увидеться с полковниками Набоковым и Повало-Швейковским. На дорогах расставлены караулы, задерживают всех, у кого нет пропуска и разрешения путешествовать. Фельдъегери носятся, как безумные: наверное, везут в столицу арестованных.
— Ничего, Михаил, не огорчайся, — утешал друга Сергей Иванович. — Завтра мы выступаем на Васильков, попробуем оттуда еще раз послать гонца к «славянам». Я уже написал им, да, наверное, гонцов перехватили жандармы. Жаль, что Борисов в Андреевич так ничего и не узнают о наших намерениях. Но Черниговский полк должен выступить в поход в полной боевой амуниции и со знаменем, по пути к нам присоединятся другие. Я верю, что так будет.
Еще затемно вышли из Ковалевки. За околицу их провожало все село. Крестьяне благословляли восставших, желали им счастья и победы. Сочувствие мирного населения ободряло солдат, придавало им веры. «Знать, недаром пошли мы за своими офицерами против нового царя», — говорили они между собой.
Тридцатого декабря около трех часов дня подошли к околице Василькова.
Майор Трухин попытался было задержать повстанцев силами Четвертой мушкетерской и Шестой рот.
Как только восставшие приблизились, он обратился к ним с речью, предлагая прекратить бунт — иначе они будут преданы военному суду.
Но заместителя командира полка никто не стал слушать, солдаты только посмеивались над ним.
А когда Сухинов и Бестужев-Рюмин, точно в шутку, толкнули майора в солдатскую гущу, солдаты мгновенно сорвали с него погоны и разорвали мундир. С грубого солдафона сейчас же слетела вся его напыщенность, и он, перепуганный насмерть, завопил:
— Братцы, я не виноват... Это Гебель послал меня к вам... А я с вами, братцы!..
Солдаты хохотали. Они охотно подняли бы майора вместе с немцем на штыки: не могли забыть их жестокости.
— А что, ребята, проучим этого плешивого! — крикнул кто-то.
— Не губите, братцы, простите меня, отпустите! — хрипло кричал Трухин, ползая на коленях у солдатских сапог, готовый целовать их, лишь бы его не убивали. — Я искуплю свои грехи...
Но беда все же настигла бы майора, если бы за него не вступились Бестужев-Рюмин и Сухинов. Трухина отвели на гауптвахту, а Соловьева и Щепилло освободили.
Простой люд Василькова радостными возгласами приветствовал повстанцев. Солдаты Чевертой и Шестой рот присоединились к своим товарищам, решив выступить вместе с ними в поход против правительственных войск.
Муравьев-Апостол приказал удвоить караулы на дорогах, ведущих к Василькову, а путников задерживать и доставлять в штаб. Поручику Сухинову и прапорщику Мозалевскому он поручил взять на квартире у Гебеля знамя и ящик с деньгами, а также
архив полка и печать. Однако архив найти не удалось — его захватил адъютант командира полка Павлов и исчез вместе с ним.
Почти весь день искали этого верного слугу Гебеля. И плохо бы ему пришлось, если бы жена городничего Девильерса не догадалась спрятать его у себя под кроватью. Так и лежал Павлов пластом целые сутки, моля бога, чтобы восставшие не нашли его и не убили. Потный, перепуганный, он напряженно прислушивался к каждому звуку. И, как видно, бог внял молитве молоденького адъютанта, никто не догадался искать его там.
У квартиры командира полка пришлось поставить часовых, потому что солдаты угрожали расправиться с ненавистным немцем, а его жилище разнести в щепки. Дело в том, что накануне присяги Гебель приказал дать триста розог одному солдату, не ожидая общего помилования в связи с воцарением нового монарха. Наказанный был при смерти. Эта жестокость так возмутила солдат, что Сергей Иванович побаивался за жизнь бывшего командира Черниговского полка. Он приказал также поставить часовых у острога и казначейства, чтобы бесчестные люди не выпустили на волю убийц и воров и не разграбили казну.
Муравьев-Апостол не был на своей квартире с того дня, как выехал с братом Матвеем в Житомир. Очень соскучился по Сергею Ивановичу Федор Скрипка. Услышав, что братья идут во главе восставших на Васильков, он побежал на Соборную площадь встречать их, а увидев Сергея Ивановича в толпе солдат и офицеров, бросился к нему, как к родному. В этот момент никто не осудил его за нарушение субординации.
— Никуда больше вас не отпущу и не вернусь без вас домой, — категорически заявил Федор; в голосе его слышалось искреннее волнение.
— Я не мог иначе, Федор, — сказал Сергей Иванович, который в самом деле ни разу не разлучался с Федором со времени семеновской истории. — Я же отпросился в Житомир всего на два дня, но дела сложились так, что мое путешествие затянулось.
— Вот видите! А если бы, не дай бог, с вами что случилось?
— Да ничего не случится, Федор, — улыбаясь, отвечал Сергей Иванович. — Вот ужо завоюем волю для всех в России, поедешь на свою Черниговщину. А потом позовешь меня на свадьбу. Я уверен, что твоя невеста Дарина ждет не дождется тебя.
— Дай-то господи, чтобы все было, как вы говорите, — растроганно произнес Федор. — Может, и нам судьба улыбнется. — Он еще раз повлажневшими от радости глазами взглянул на своего подполковника. — А теперь пора обедать! Куда вы, туда и я. Куда иголка, туда и нитка, как говорят у нас.
Когда солдат отпустили на отдых, а офицеры тоже разошлись с площади, Муравьевы-Апостолы в сопровождении Федора отправились к себе на квартиру.
Обед был простой, но вкусный. Кулеш удался на славу, а вареники получились такие, что прямо таяли во рту.
Матвей ел молча, точно выполняя обычную и обязательную процедуру, не приносившую ему никакого удовольствия.
Сергей хотел поговорить с братом, как-то развлечь его и успокоить. Но в это время из Белой Церкви приехал подпоручик Александр Вадковский, брат прапорщика Нежинокого конно-егерского полка. Федор и его угостил обедом и вишневкой.
Федор был очень рад, что подполковник наконец дома и жизнь снова идет своим порядком.
— Можно положиться на ваш Семнадцатый егерский полк? — спросил Вадковского Сергей Иванович.
— Конечно, — заверил подпоручик. Он сам подготовил свою роту к восстанию и не сомневался, что за нею пойдут и остальные.
— Тогда немедленно возвращайтесь в Белую Церковь и ведите сюда полк. Я напишу в Умань, князю Волконскому, а также Артамону Муравьеву, что восстание началось и что они вместе со своими полками должны прибыть сюда. Полтавский полк Тизенгаузена тоже выступит, как только я его извещу. Одному лишь Борисову мы никак не можем передать, чтобы он поднял Восьмую артиллерийскую бригаду и известил о начале восстания полковников Набокова и Повало-Швейковского.
Взволнованный всем услышанным и увиденным в Василькове, где восстал почти весь Черниговский полк, Вадковский заторопился к себе. Но на окраине Белой Церкви, у шлагбаума, его уже ждали жандармы. Они даже не позволили подпоручику заехать домой, сразу повезли его в острог. Перед тем на квартире у Вадковского жандармы произвели обыск и забрали все бумаги.
Вадковский был вне себя от горя: он не мог сообщить в Васильков, что Семнадцатый егерский теперь поднять некому.
Сергей Иванович ничего этого не знал. Он был озабочен тем, чтобы наладить снабжение солдат, чтобы в местечке не было пьяных, не притеснялись жители и поддерживалась должная дисциплина. На киевской и богуславской заставах он сам проверял караулы. Успокаивал часовых, говорил им, что эта лютая зима скоро кончится и придет весна, а с нею воля.
На совещаниях обсуждалось положение с продовольствием и дисциплиной, вырабатывался план дальнейших действий, следовало все обдумать, все предвидеть.
В военный совет входили братья Муравьевы-Апостолы, Бестужев-Рюмин и четверо «славян» — Кузьмин, Соловьев, Сухинов и Щепилло.
Когда встал вопрос о том, куда идти и что предпринять в ближайшие дни, выяснились резкие расхождения между членами Южного общества и «соединенными славянами».
«Славяне» настаивали на том, чтобы немедленно выступить на Житомир. Они считали, что по дороге к восставшим присоединятся расквартированные там полки. А Муравьев- Апостол и Бестужев-Рюмин советовали подождать, пока к Василькову подойдут другие полки, чтобы вместе с ними идти на Житомир, а оттуда на Киев.
Сергей Иванович, не без влияния Матвея, возражал против излишней спешки. Отстаивая эту точку зрения, он старался и других привлечь на свою сторону.
Разгорелись споры — явление обыкновенное, если нет единого взгляда, общего мнения, да еще в столь решительный час, когда на карту поставлена жизнь многих людей.
Сухинов горячился, с молодым задором рвался в бой, готовый пожертвовать жизнью во имя светлой цели — революции.
— Наша бездеятельность, — страстно доказывал он, — посеет сомнения, неверие, а это пагубно повлияет на восставших, и правительственному войску легко будет погасить огонь, впервые вспыхнувший не среди крестьян или городского населения, а в армии. Нет, друзья, нужно идти на Житомир, а не отсиживаться в Василькове. И сделать это надобно немедленно, пока солдаты не остыли и у них не пошатнулась вера в победу.
Сухинова поддержали все «славяне». Бестужев-Рюмин тоже в душе склонялся к этому плану, однако не желал идти наперекор Муравьеву-Апостолу, с которым так давно дружил. Он предложил отправить гонцов в полки, расположенные вокруг Житомира, а также отрядить кого-нибудь в Киев, чтобы и там стало известно о восстании черниговцев.
Сергей Иванович ухватился за этот совет. Было бы хорошо, если бы Киевский гарнизон узнал обо всем. Там тоже найдутся единомышленники.
— Да, это непременно нужно сделать. У меня есть знакомый майор в Курском полку — Крупенников. А нему и пошлем гонца с моим письмом.
После совещания одни офицеры поспешили в свои роты, другие отправились проверять караулы, а Сергей Иванович приказал Федору найти и позвать к нему прапорщика Мозалевского.
Через полчаса Мозалевский предстал перед руководителем повстанцев.
— Честь имею явиться, господин подполковник, — браво отрапортовал он.
— Александр Евтихиевич, — сказал ему Сергей Иванович, избегая официального тона, — садитесь! Я хочу дать вам поручение. Вы согласны его исполнить?
— Да, подполковник, — ответил Мозалевский.
— Отвезите в Киев, майору Крупенникову, письмо. Вручите ему в собственные руки! Письмо секретное и ни при каких обстоятельствах не должно попасть к чиновникам. А на словах передайте майору, что к черниговцам уже присоединилось много полков, пусть он со своим Курским немедленно выступает на Брусилов. Туда придут Кременчугский пехотный, Ахтырский и Александрийский гусарский полки, Второй и Четвертый пехотные корпусы. Везде есть наши единомышленники, которые ждут лишь знака, чтобы восстать. Вы запомнили?
— Да! Я все передам, как вы приказываете.
— Кроме того, я дам вам несколько экземпляров «Катехизиса», подбросьте их где-нибудь. А еще лучше — наклейте на видном месте, чтобы прочитало побольше народу. Действуйте, как подскажут обстоятельства. С собой возьмите надежного унтер-офицера и несколько рядовых. Выберете сами. Вы поняли?
— Да, все ясно, — обрадованно произнес Мозалевский, гордясь, что ему поручено столь серьезное дело.
— Только, Александр Евтихиевич, придется ехать в партикулярном платье, так вы не вызовете подозрений в Киеве. К сожалению, я не знаю точного адреса. Курский полк. Поняли?
— Язык, как говорят, до Киева доведет, — пошутил Мозалевский. — Найдем.
Через час он стал похож на молодого чиновника.
Мозалевский привел с собой унтер-офицера Ивана Харитонова и рядовых Алексея Федорова, Павла Прокофьева и Акима Сафронова.
Сергей Иванович приказал солдатам спороть с шинелей погоны. В Киев посоветовал добираться по проселку: на Васильковском тракте, наверное, расставлены караулы.
Проводив Мозалевского и солдат, он вызвал из полковой канцелярии писарей Патутова, Щелканина, Васильева, а также унтер-офицеров Дмитриевского, Шевелева и рядовых Хоперского, Балякина, вручил им всем по экземпляру «Катехизиса» и приказал к утру сделать как можно больше копий, чтобы во время похода раздавать их в каждом населенном пункте. Сергей Иванович собирался послать «Катехизис» в некоторые полки, надежным людям, чтобы они тоже переписывали и распространяли его среди солдат.
Как только унтер-офицеры и рядовые вышли, часовой доложил, что на дороге задержаны жандармы. Он спрашивал, что с ними делать.
— Где они? — встал из-за стола подполковник, отодвигая листы бумаги: он как раз собирался писать воззвание к солдатам и населению.
— В сенях, ваше благородие! Такие хамы — ни в какую не подчиняются. Пришлось надавать тумаков, смирнее стали!
Сергей Иванович вышел. Это были жандармские офицеры Несмеянов и Скоков, приезжавшие в Васильков арестовать его.
— Вы опять здесь, господа жандармы? — закричал Сергей Иванович.
— Да, подполковник! Нас задержали, отняли сабли и пистолеты.
— Мы просим вернуть оружие.
— Оно нужно нам больше, чем жандармам, — резко отвечал Муравьев-Апостол.
Он хотел было приказать часовому запереть арестованных на гауптвахте, но тут появился Матвей и посоветовал брату отпустить их:
— Пусть идут своей дорогой. Они люди подчиненные.
Жандармы даже не поблагодарили и во всю прыть бросились бежать, радуясь, что вырвались живыми из рук бунтовщиков.
Утром Сергей Иванович вызвал полкового священника Даниила Кейзера и приказал ему отслужить молебен и зачитать перед ротами «Катехизис».
Священник перепугался, стал креститься, попятился, надеясь шмыгнуть за дверь. Но его остановил грозный окрик Муравьева-Апостола:
— Батюшка, не мне же служить молебен! Вот вам двести рублей ассигнациями, берите!
— Подполковник, поймите мое положение... Семья, дети... Если ваше предприятие не удастся, что будет с ними? Бедность, нищета и даже позор ожидают мою жену и моих сирот.
— Все понимаю, поэтому даю вам на содержание семьи...
Священник не спускал глаз с ассигнаций, но все еще колебался. Его пугало будущее: что, если царское войско подавит восстание?
— Не задерживайте меня. Берите деньги и готовьтесь к службе.
Кейзер вздохнул, еще раз перекрестился и взял. В душе он молился, стараясь успокоиться и надеясь, что бог спасет его от беды.
На площади под горой с великокняжескими залами и Феодосиевским собором с утра толпились жители Василькова. Было морозно, но не ветрено. День обещал быть погожим, в просветах между белыми облаками проглядывало ясное небо.
«Пять рот и семнадцать офицеров — вот войско, с которым нужно пробить стену правительственных полков», — думал Сергей Иванович, подъезжая верхом к площади.
Население Василькова восторженно встречало руководителя повстанцев. Сергей Иванович, здороваясь, поднял правую руку.
Священник, дьякон и певчие начали службу. Все стояли неподвижно, только снег скрипел под ногами опоздавших и, напуганные многолюдьем и пением, с криком кружили вокруг колокольни и старых деревьев галки.
Люди молились от души, ведь в последний день декабря могла кончиться их неволя. Может быть, с этой площади распространится по всей стране свет правды, и больше никогда не будет горя, столь знакомого бедным людям. Не будут их продавать, обменивать и бить, как скотину. Не останется у помещиков таких прав.
А солдаты думали о сокращении срока службы, о человеческом обращении с ними. Теперь их не будут грабить ротные командиры, забудут солдаты о голоде и шпицрутенах.
После молебна отец Даниил читал «Катехизис». Бестужев-Рюмин помогал ему разбирать нечеткий почерк полкового канцеляриста, произносил слова громко, чтобы их слышала вся площадь.
В морозном воздухе над толпой звенели призывы, резкие, смелые. Однако Сергей Иванович с сожалением чувствовал, что они не доходят до всех сердец. Как будто речь шла о чем-то далеком и маловразумительном.
— Для чего же русский народ и русское воинство несчастны? — вопрошал отец Даниил.
А Бестужев-Рюмин как можно громче отвечал, заглядывая в «Катехизис»:
— Оттого, что цари похитили у них свободу.
— Стало быть, цари поступают вопреки воле божией?
— Да, конечно, бог наш рек: болий в вас, да будет вам слуга, а цари тиранят только народ.
— Должно ли повиноваться царям, когда они поступают вопреки воле божией?
— Нет! Христос сказал: «Не можете богу работати и мамоне». Оттого-то русский народ и русское воинство страдают, что покоряются царям.
— Каким же образом ополчиться всем чистым сердцем?
— Взять оружие и, низложив нечестие и неправду тиранства, восстановить правление, сходное с законом божиим.
— Какое правление сходно с законом божиим?
— Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей.
— Стало быть, бог не любит царей?
— Нет! Они прокляты суть от него, яко притеснители народа...
— Стало, и присяга царям богопротивна?
— Да, богу противна. Цари предписывают принужденные присяги народу для губления его.
— Отчего упоминают о царях в церквах?
— От нечестивого приказания их самих для обмана народа, и ежечасным повторением царских имен оскверняют они службу божию вопреки спасителева веления...
— Что же наконец подобает делать христолюбивому российскому воинству?
— Для освобождения страждущих семейств своих и родины своей и для исполнения закона христианского ополчиться всем вместе против тиранства и восстановить веру и свободу в России. А кто отстанет, тот, яко Иуда-предатель, будет проклят.
«Наверное, прав был Пестель, не веря в силу составленного мною «Катехизиса», — разочарованно думал Сергей Иванович. Он видел, что слова падают, как снежинки на мерзлую землю. А ему хотелось, чтобы они обжигали душу, призывая к борьбе с монархией. И больно и горько становилось Сергею Ивановичу от сознания, что его труд напрасен. — Если в Василькове «Катехизис» принимают так холодно, значит, и в других местах он не произведет впечатления... Люди везде люди! По-видимому, нужны какие-то другие слова, чтобы проникнуть в душу и навсегда там остаться. Но какие, какие? Где их взять?..»
После чтения «Катехизиса» Сергей Муравьев-Апостол произнес горячую речь, поясняя его содержание и лозунги восстания.
— Друзья, — говорил он, — поздравляю вас, вы свободны от оков рабства. Нынче мы выступаем в поход, чтобы повсюду зажечь огонь правды и свободы. Сначала нас было мало, теперь уже пять рот в наших рядах, скоро с нами будет весь корпус, а потом и вся армия встанет под наше знамя, чтобы нести народам свет счастья. Вы первые зажгли этот огонь, так пусть из него разгорится великое пламя и навсегда погибнут в нем тираны. Будьте до конца преданы святому делу. А кто изменит, да будет, анафема, проклят!
— Проклят! — стократ прозвучало над площадью.
— Проклят!.. — откликнулось эхом за собором и под холодным небом.
— Помогай бог тем, кто за нас старается, — растроганно повторяли крестьяне.
Как раз в тот момент, когда говорил Сергей Иванович, у края толпы остановилась повозка. Из нее выскочил молоденький прапорщик в новой, недавно сшитой форме. На прапорщика никто не обратил внимания, все внимательно слушали предводителя повстанцев. Но когда над площадью прокатилось громовое: «Смерть тирану! Свобода народу!» — прапорщик пробрался сквозь толпу и бросился к Муравьевым-Апостолам.
— Ипполит! — задохнувшись от радости, воскликнул Матвей Иванович, обнимая младшего брата.
— Как ты попал к нам именно сегодня? — спрашивал Сергей Иванович, горячо целуя румяное лицо Ипполита и глядя в его чистые, еще совсем детские глаза.
— Потом. Все расскажу потом. А сейчас одно: твои слова о свободе — это и мои слова, Сергей. Это знамя моей души. Я горжусь тобою и хочу быть похожим на тебя.
Площадь бурлила. Васильковцы, возбужденные и счастливые тем, что именно в их местечке впервые прозвучали слова о свободе, звали солдат и офицеров к себе обедать.
Матвей и Сергей повели Ипполита на квартиру. Федор уже все приготовил. Через несколько минут на столе дымился вкусный борщ и рубиновым светом отсвечивала пузатая бутылка с вишневкой.
Муравьевым-Апостолам никто не мешал беседовать.
— Я вез тебе, Сергей, письмо от Трубецкого, да не довез, — сказал Ипполит. — В Москве остановился у кавалергарда Свистунова, а ночью к нему нагрянули жандармы, устроили обыск, и я, улучив удобную минуту, сжег письмо, чтобы оно не повредило вашему Обществу. Что было в нем написано, Трубецкой мне не сказал. И вот письмо пропало. Я не мог поступить иначе, Сергей. Ты на меня не сердишься?
— Ну что ты! — успокоил Сергей Иванович брата. — Твой поступок достоин похвалы. На твоем месте я поступил бы точно так же. Лучше рассказывай, что в столице. Ведь ты первая ласточка оттуда.
Ипполит подробно рассказал братьям о петербургских событиях, о том, как прошел первый день царствования нового императора, о крови, пролитой на Сенатской площади, и об арестах.
Печальные вести привез Ипполит. Восстание на севере подавлено. Все погибло, хотя победа была так близка... Не сумели победить. Разве остались бы полки верными Николаю, если бы повстанцы пошли на штурм Зимнего дворца и овладели им? Безусловно, солдаты присоединились бы к своим товарищам.
Но все обернулось не так, как думалось. Теперь Николай чинит расправу. Арестованных свозят в крепости. На дорогах усилены караулы, никого не пропускают без разрешения, фельдъегери, как вороны, днем и ночью носятся по империи.
Точно не слова Ипполита, а острые камни падали на легкоранимое сердце Сергея Ивановича. У него даже закружилась голова. Усилием воли подавил минутную слабость. «Теперь не время для сомнений и раскаяния, — приказал он себе. — Нужно держаться. Отныне я должен взять на себя еще большую ответственность, хотя бы во имя тех, кому отомстил тиран».
Матвей тревожился за Ипполита, так некстати явившегося в Васильков. Скорей бы отправить Ипполита в Тульчин, чтобы и его не постигла грозная кара, если здесь тоже все окончится поражением...
— Почему вы вдруг приуныли?! — воскликнул Ипполит, сердясь на братьев. — Послушайте, что сказал наш славный пиит Кондратий Рылеев:
Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?..
Эти слова достойны быть выгравированы золотом на мраморе для будущих поколений. А вы упали духом. Стыдитесь! Я сейчас на площади все видел и слышал. У всех на устах — смерть или свобода. А в глазах решимость и преданность делу. С такими людьми мы завоюем волю. Пусть наши единомышленники на Сенатской потерпели поражение, зато мы здесь поднимем бурю, и Николаю Романову придется отпустить арестованных, чтобы его самого не посадили в равелин. Я верю, что так оно и будет, если действовать решительно и не терять времени.
Старшие Муравьевы-Апостолы смотрели на Ипполита со страхом. Нет, они не имеют права подвергать опасности младшего брата, он должен нынче же выехать в Тульчин, куда его назначили служить.
— Никуда я от вас не поеду, — решительно заявил Ипполит тоном человека, который наконец нашел свое место в жизни и уже не сойдет с него.
— Как же так? — одновременно спросили Сергей и Матвей. — Это невозможно, пойми...
— Все понимаю, потому и остаюсь. И никакая сила не прогонит меня отсюда. Мое решение окончательно, не тратьте лишних слов. Я хоть сейчас готов в поход. Вы идете в Мотовиловку? Это село? И я с вами. Наверное, уже все пообедали и ждут нас. Пора. — Он взглянул на братьев глазами, сиявшими от счастья. — Вперед и только вперед зовет нас свобода!
Сергей Иванович смотрел на Ипполита в восторгом. Он любил таких пылких, самоотверженных.
Матвей Иванович молча качал головой.
О событиях в столице узнали в Новоград-Волынске утром двадцать шестого декабря. На следующий день Петр Иванович Борисов созвал совещание, чтобы разработать правила, которых должны придерживаться повстанцы. Все были уверены, что Южное общество не станет выжидать, а воспользуется переприсягой и поднимет восстание во Второй армии. Итак, следовало быть наготове, чтобы присоединиться к «южанам» с оружием в руках.
В первую очередь «славяне» нашли нужным разъяснить подчиненным, что во время восстания они должны поддерживать дисциплину и порядок, ибо только это гарантирует свободу, неприкосновенность личности и справедливость. Нарушителей правил решили привлекать к суровой ответственности, как врагов святого дела русского народа.
Твердый порядок даст возможность быстро создать Временное правительство, которое будет руководить государством, пока не созовут Великий собор из представителей армии и гражданского населения. С обывателями повстанцам предлагалось обходиться вежливо, не унижая и не обижая их.
Наверное, никогда еще не было столь волнующего и в то же время торжественного совещания накануне великого испытания. Революционные идеи заговорщиков укладывались в краткие строки «славянского» «Катехизиса»: «Не желай иметь раба, если сам быть рабом не хочешь! Ни на кого не надейся, кроме своих друзей: они тебе помогут и защитят».
А друзьями «славяне» считали всех несчастных, всех, кого объединяли общие интересы, общее ярмо бесправия, тяжкое горе. Итак, друзьями им был весь народ, независимо от того, на каком языке говорили те или иные, какое платье носили — военное или партикулярное.
«Славяне», хотя и присоединились к Южному обществу, все-таки не понимали, как можно совершить революцию только руками военных, не привлекая к ней неимущие слои населения. Они хотели ориентироваться на крестьянские массы и городскую бедноту, потому что лишь в участии народа видели гарантию победы над монархией.
Каждый день ждали «славяне» вестей из Василькова или из Тульчина, но вестей не было.
Отставной подпоручик Андрей Иванович Борисов выехал в Харьковскую губернию известить членов Общества о начале восстания. По дороге он должен был сообщить эту новость и всем сторонникам «славян», чтобы они были готовы к выступлению, как только получат приказ.
Подпоручик Восьмой артиллерийской бригады Яков Андреевич, находившийся в это время в Киеве, узнав, что произошло в Петербурге, без разрешения начальства отправился к Сергею Муравьеву-Апостолу. Он хотел узнать, что предпримут управы в сложившейся ситуации. Но, к сожалению, в Василькове Андреевич уже никого не застал. Ему рассказали о последних событиях и посоветовали поскорее возвращаться в Новоград-Волынск, а по дороге передать всем единомышленникам, чтобы они ждали сигнала к выступлению.
Товарищи наняли Андреевичу лошадей, дали денег на дорогу, и он выехал в Белгородку, а оттуда в Радомысль, к полковнику Повало-Швейковскому.
Но юнкер Энгельгардт, живший у полковника, сказал, что тот еще утром уехал из дома и вернется разве что через сутки. А быть может, надолго останется гостить у знакомого помещика.
Слова юнкера огорчили Андреевича. Он сел к столу, написал письмо и попросил Энгельгардта немедленно отправить гонца к полковнику. Андреевич не мог уехать, не повидавшись с бывшим командиром Алексопольского полка, до сих пор пользовавшимся в этом полку значительным влиянием. Вместе с тем он интуитивно чувствовал, что юнкер неискренен и его слова не что иное, как выдумка.
Андреевич попросил чаю и решил остаться в Радомысле, пока не вернется Повало-Швейковский.
Шло время.
Юнкер заметно волновался, видно было, что он ищет способа как-нибудь выпроводить незваного гостя. Потом он куда-то вышел.
Воцарилась тишина. И тут чуткое ухо Андреевича уловило в смежной комнате шаги и шепот...
Подпоручик ударил ногой в дверь, она распахнулась. За дверью стояли бывший командир Алексопольского полка и юнкер.
Оба растерялись. На мгновение наступила зловещая тишина. Ее нарушил Повало-Швейковский:
— Что вам угодно, подпоручик? Прошу оставить мой дом! Я ничем не могу помочь. И не поведу на гибель свой полк. Вы поняли? Так и передайте остальным.
— Полковник, вы предатель и трус! Мы будем судить вас, когда революция победит! — гневно отвечал Повало-Швейковскому Андреевич. Ведь тот когда-то уверял Общество, что поднимет Алексопольский полк, как только получит приказ! Теперь он стоял приниженный, ничуть не похожий на того бравого полковника. Перепуганный обыватель, больше ничего.
— Дайте мне хотя бы оружие, на дорогах сейчас небезопасно, — попросил Андреевич, с отвращением глядя на него.
— Я вам ничего не дам, — придя в себя, заявил Повало-Швейковский. — Оружие — вещь казенная. Я не знаю вас. Вы меня тоже не должны знать. Ни к какому Обществу я не принадлежал и уже присягнул на верность императору Николаю Первому. Прошу оставить мой дом!
Если бы у Андреевича был пистолет, наверное, жизнь полковника была бы кончена. Но, к сожалению, оружия у подпоручика не было.
— Трус! — с ненавистью проговорил Андреевич, выходя из дома, в котором надеялся отдохнуть телом и душой.
Он поехал в Житомир. Там он рассказал «славянам» о событиях в Василькове и о том, что «черниговцы» поднимают восстание. Велел прапорщику Кирееву и провиантскому чиновнику Иванову, выполнявшему обязанности секретаря Общества соединенных славян, а также братьям Веденяпиным — Алексею, он был прапорщиком, и Аполлону, подпоручику, — готовить свои части, чтобы по получении приказа от Сергея Ивановича Муравьева-Апостола сразу начать действовать.
Слова Андреевича произвели большое впечатление на житомирцев. Они поклялись быть готовыми к походу.
— Лучше умереть с оружием в руках, чем позволить себя арестовать!
Окружив Андреевича, они опять и опять расспрашивали его о Василькове и черниговцах.
Из Житомира Андреевич поехал в Траянов. Однако не застал там командира Александрийского полка Александра Муравьева и офицеров штаба. Впрочем, Александр Муравьев не принадлежал к Тайному обществу, и рассчитывать на него в сложившейся ситуации не приходилось.
Из Траянова подпоручик Андреевич на взмыленной лошади направился в Любар, надеясь, что Артамон Муравьев даст ему коня и поднимет гусар, чтобы защитить руководителя Васильковской управы.
Артамон Муравьев уже все знал, у него ночевали Гебель и жандармские офицеры. Выслушав Андреевича, он нервно произнес:
— Подпоручик, то, что наше Общество раскрыто, мне известно. И что всех нас арестуют, в этом я не сомневаюсь. Но прошу вас здесь не задерживаться. Ахтырский полк я никуда не поведу, так и передайте тем, кто послал вас сюда. Рисковать карьерой, а быть может, и жизнью я не желаю! Лошади для вас у меня нет. Идите к ротмистру Малявину, он продает своего гнедого, — прибавил он неохотно.
— Полковник, у меня нет при себе даже ста рублей.
— Согласен дать вам в долг. Но не более четырехсот. Поезжайте, ради бога, от меня, я своего полка не выведу, делайте вы там как хотите, меня же оставьте и не губите: у меня семейство. Уезжайте из Любара. Так будет лучше для вас и для меня.
— Лишь бы вам, полковник, было хорошо, — язвительно заметил Андреевич. — Что касается меня — не беспокойтесь! Я умру честным человеком и клятвы не нарушу.
В Траянове Андреевич встретил своих знакомых — ротмистра Семичева и поручика Никифораки. Он хотел с их помощью поднять гусар, но они отсоветовали. Полк разбросан по селам. Чтобы его собрать, нужен приказ командира. Пустая затея. Семичев и Никифораки лишь помогли Андреевичу нанять подводу до Фастова, на которой он и выехал из Любара, когда стемнело. Андреевич торопился и, чтобы успокоить Артамона Муравьева, не хотел ночевать в Траянове.
Был поздний вечер двадцать девятого декабря. В чистом поле разгулялась метель, свету божьего не видно! На душе у Андреевича было тяжело. Его путешествие оказалось напрасным. Можно было не уезжать из Киева.
Свищет ветер, пробирает до костей, не греют мундир и шинель.
Кажется, не вихри снежные пляшут по полю, а злая сила дергает за башлык, хочет сбросить подпоручика на землю.
Лошади, все в мыле, измученные, остановились.
Темная ночь, неистовствует ветер, кругом призраки. От их топота стонет земля, от их пения и рыданий становится жутко.
— Эх, ваше благородие, сбились с дороги, нету ее, — безнадежно промолвил возница, притопывая возле саней.
— Как это — нет дороги? — взволнованно спросил Андреевич. Сердце точно сдавили ледяные клещи.
— А вот так и нет, господин офицер! Видите, ведьмы шабаш справляют, откуда же взяться дороге? До утра придется стоять, лошади устали.
— Да мы же до утра замерзнем! — испуганно воскликнул Андреевич и лишь в эту минуту понял все значение слова «замерзнем».
Но на возницу это не произвело никакого впечатления.
— Известное дело, совсем задубеем, — равнодушно согласился он, словно примирившись с неотвратимой бедой. — Вишь, как носится нечистая сила, помилуй бог! Во как справляет шабаш!..
Андреевича тоже внезапно охватило полное равнодушие. Он замолчал, втянул голову в плечи, поднял воротник, съежился и как будто окунулся в тот призрачный мир, где не было ни мыслей, ни тревог, а только холод пронизывал до костей, забирая последнее тепло.
Сколько времени прошло, Андреевич не знал. Может, час, а может быть, вечность. Лишь где-то в уголке сознания тлела надежда. Вдруг подпоручик почувствовал, что сани тронулись с места.
Лошади немного отдохнули и, почуяв человеческое жилье, пошли в ту сторону, как к маяку в бескрайнем снежном просторе.
В наполовину занесенной снегом халупе мастера, вырабатывавшего селитру, Андреевич отогрелся, поел и пришел в себя. А утром отправился в Фастов. Однако и там задержался ненадолго, сразу поехал в Васильков, чтобы все-таки встретиться с Муравьевым-Апостолом, пока не свалила болезнь.
Андреевич простудил себе грудь. У него ломило в висках; было такое ощущение, точно в голове без устали бьют молоточки.
В Василькове все были в тревоге. Приезжим никто не давал пристанища. Все живое притаилось в теплых хатах, люди хотели пересидеть неспокойное время дома. Местное начальство тоже чувствовало себя неважно.
Андреевич едва умолил еврея-шинкаря, чтобы тот позволил ему отдохнуть у него несколько часов.
— Пусть господин офицер не гневается, — извиняясь, сказал шинкарь, — в нашем местечке такое творится, что лучше бежать куда глаза глядят. Водки нету, потому что кому же охота за нею ехать, — не ровен час, в пути приключится беда! А без водки какая жизнь! Ой, что только творится! Повсюду жандармы, порядка нет, закон забыли. А скажешь слово — отхлестают нагайками так, что душа сама улетит к Иегове.
— А где черниговцы, Муравьев-Апостол и другие офицеры? — допытывался у шинкаря Андреевич. Ему хотелось хоть что-нибудь узнать, напасть на след повстанцев.
Но шинкарь только вздыхал в ответ, разводя руками. При этом на лице у него собиралось столько морщинок, словно ему в рот кто-то бросал кислятину.
— Откуда мне знать? Мое дело водкой торговать, чтобы людям весело жилось на белом свете. А другое меня не касается. Куда-то все разбежались. У каждого свое, господин офицер.
Так второй раз напрасно приехал в Васильков Андреевич. Ему ничего не удалось узнать о повстанцах и руководителях Васильковской управы.
Чувствуя, что болезнь скоро свалит его с ног, он заторопился в Киев. Хотел попробовать поднять там восстание, тем более что у него были связи с офицерами Киевского гарнизона.
Не повезло и Андрею Борисову, он тоже напрасно объезжал членов Общества, приказывал, уговаривал начать революционные действия и объединиться с другими повстанцами. На него смотрели, как на чудака.
Везде уже шли аресты, правительство перебрасывало войска, туго-натуго затягивая петлю вокруг шеи «черниговцев».
Ничего не добившись, Андрей Борисов поехал в Киев, к своему товарищу Андреевичу, только что вернувшемуся на квартиру. Борисов хотел посоветоваться с ним и в дальнейшем действовать сообща.
В тот же вечер их обоих арестовали. А на следующий день в Любар прибыли жандармы за Артамоном Муравьевым.
Жандармский поручик Ланг, удравший из Трилесов, добрался до дивизионной квартиры в Белой Церкви и обо всем рассказал генералу Тихановскому. Тот немедленно отрядил курьера в Житомир с рапортом к генерал-лейтенанту Роту. Командир корпуса сообщил о событиях в Черниговском полку командующему Первой армией. А оттуда курьеры помчались в Петербург.
Военная машина завертелась...
Не ожидая приказов из Петербурга, командующие воинскими частями приняли меры, чтобы локализовать восстание. Они взяли «черниговцев» в надежное кольцо, сквозь которое те не могли прорваться, а значит, не в состояний были влиять на другие полки.
Генерал-лейтенант Рот приказал Кременчугскому полку немедленно идти из Брусилова на Житомир и ждать дальнейших распоряжений, а Пятой конно-артиллерийской роте капитана Пыхачева из Брусилова ускоренным маршем выступить в местечко Паволочь.
Однако, как только рота прибыла в Паволочь, Пыхачева арестовали: он принадлежал к Тайному обществу.
Отпущенные из Василькова жандармские офицеры Несмеянов и Скоков, приехав в Киев, доложили о бунте Черниговского полка командиру Четвертого корпуса князю Щербатову. На другой день васильковский городничий Девильерс подтвердил, что повстанцы захватили и окрестные села.
Перед командованием стояла задача — использовать против повстанцев только те воинские части, на которые можно было положиться. А главное — не дать возможности по каким-либо причинам недовольным и ненадежным частям связаться с бунтовщиками.
Гражданские власти в Киеве тоже приняли меры: пристально следили за обывателями через своих тайных агентов, обо всем докладывавших начальству.
Губернатор Киева Ковалев послал в места, охваченные восстанием, чиновников уездной администрации, чтобы они шпионили не только за «черниговцами», но и за простонародьем, а подстрекателей и иных опасных лиц арестовывали и отправляли в остроги и крепости.
Как только в штабе Первой армии в Могилеве получили рапорт о начале восстания, князю Щербатову было приказано выступить против бунтовщиков и окружить их.
Выполняя этот приказ, командир корпуса велел Низовскому батальону идти из Бровар на Белгородку, батальон Курского полка, несший караул, заменить Киевским, а Курскому полку приготовиться к выступлению. Командиру Седьмой артиллерийской бригады полковнику Савочкину следовало выйти из Переяслава по указанному маршруту. Нарвский драгунский полк нужно было поставить ближе к Киеву, а его место занять соседними полками. Муромский батальон переводился из Белгородки в Васильков. Второму батальону Витебского полка полагалось находиться в боевой готовности и ждать распоряжений. Алексопольскому полку предписывалось двигаться на Житомир.
Бывшего командира Алексопольского полка Повало-Швейковского жандармы арестовали и повезли в Петербург. Вместе с ним отправили майора Лорера, поручика Крюкова, полковника Артамона Муравьева. А подпоручиков Семнадцатого егерского полка Александра Вадковского и Молчанова препроводили в штаб Первой армии в Могилеве.
Князь Щербатов приказал Мариупольскому гусарскому полку под командованием генерала Гейсмара подойти к селу Ковалевка, по дороге из Белой Церкви на Житомир расставить часовых и никого не пропускать без письменного разрешения.
Шербатов сразу установил связь с командирами Седьмой пехотной дивизии генерал-майором Ушаковым и Двадцать пятой — генерал-лейтенантом Гогелем.
Генерал Рот выступил из Житомира на Белую Церковь, а оттуда с Семнадцатым егерским полком, двумя ротами Черниговского, с четырьмя пушками и с Первой гренадерской ротой капитана Козлова — они не присоединились к повстанцам — пошел на Шамраевку, где и соединился с гусарским принца Оранского полком.
Восемнадцатому егерскому полку генерал Рот приказал идти к селу Гребенки.
Военная машина действовала быстро и безотказно. Начальник штаба Первой армии барон Толь рапортовал в Главный штаб барону Дибичу, что от Муравьева-Апостола начали разбегаться офицеры и что в штаб армии уже прибыли штабс-капитан Маевский, поручики Петин и Рыбаковский, подпоручик Кондырев, батальонный адъютант Апостол-Кегич, прапорщики князь Мещерский и Белелюбский...
После молебна в Василькове повстанцы направились в сторону Мотовиловки, принадлежавшей графине Браницкой.
В село вошли поздно вечером. Здесь квартировала Первая мушкетерская рота капитана Вульферта, не пожелавшая присоединиться к восставшим.
К солдатам обратился Сергей Муравьев-Апостол:
— Друзья, почему вы не хотите вместе с нами бороться за свободу? Разве вам приятно служить двадцать пять лет да чтобы над вами издевались тираны?
Мушкетеры молчали. Капитан Вульферт успел их запугать, а сам спрятался, боясь попадаться на глаза офицерам-повстанцам.
— Ну что ж, — вздохнул Сергей Иванович, — насильно мы вас не поведем. Идите куда хотите.
Солдаты не расходились, стояли молча. Два чувства боролись у них в душе — жажда свободы и страх перед ротным.
— Возьмите денег да купите себе водки, а то совсем окоченели на морозе, — сказал Сергей Иванович, подавая унтер-офицеру двадцать пять рублей. — Берите! Согреетесь. Нынче холодно. Я просто даю на рождественскую рюмку водки, это вас ни к чему не обязывает.
Он почти насильно сунул деньги в руку унтер-офицеру Чернолику.
Задолго до рассвета Первая мушкетерская рота вместе в Первой гренадерской капитана Козлова выступила в Белую Церковь, где находилась дивизионная квартира, так и не присоединившись к восставшим.
В Мотовиловке черниговцы решили отпраздновать Новый год, а утром второго января идти на Белую Церковь, чтобы соединиться с Семнадцатым егерским полком, в котором служил Александр Вадковский. Сергей Иванович не знал, что Вадковский уже был в тюрьме. Он все еще ждал его с полком, не торопясь уходить из Мотовиловки.
Слухи о повстанцах быстро распространились по всей округе, — точно волна прокатилась по селам. Крестьяне с радостью принимали восставших солдат на постой, хотя вообще-то эта повинность была для них наиболее тяжелой и ненавистной. В восставших солдатах крестьяне видели своих защитников и потому в избытке снабжали их продовольствием.
Сергею Ивановичу доложили, что с ним хотят говорить представители крестьян. Он приказал их впустить.
В хату вошли четверо пожилых мужиков, низко поклонились.
— Заступник наш, — обратились они к Муравьеву-Апостолу, глядя на него как на избавителя, — общество послало нас к тебе просить, чтобы ты позволил нашим сыновьям и братьям идти с тобою в бой на господ. Нет мочи терпеть.
Их откровенность немного смутила Сергея Ивановича.
— А чьи вы будете? — спросил он крестьян, которые, стоя у порога, мяли в руках шапки и не сводили с него глаз: они много наслышались о нем как о защитнике бедных.
— Графини Браницкой крепостные мы...
— Чтоб ее на том свете в смоле варили да на огне поджаривали!
— Дохнуть не дает, проклятая! Хуже скотины живем. Псов своих лучше кормит, нежели нашего брата...
Они и правда жили очень бедно, голодали. Управитель и его подручные делали что хотели с беззащитными людьми. Графиня же не признавала никаких законов, жалобщиков посылала на конюшню, а там ее холуи срывали злость на невинных и потом еще больше над ними измывались. Слухи, что Муравьев-Апостол борется за отмену крепостного права, обнадежили рабов Браницкой, они готовы были всем селом присоединиться к повстанцам.
— Мы все пойдем за тобою, ты только позволь. Мочи нет жить у этой волчицы.
— И мы с голоду пухнем, и дети наши. И нет конца горю нашему.
Муравьев-Апостол растерянно смотрел на крестьянскую делегацию. Эти люди и растрогали, и напугали его.
— Ну куда я вас возьму? — вырвалось у него.
— Бери с собою! К тебе все в округе пристанут, лишь бы позволил. Все мы за тебя бога молим, заступник ты наш!
— А что оружия настоящего нету, так мы топорами да косами крушить господ будем.
— А скоро с помощью божьей и настоящим оружием разживемся у царева войска.
— Верой и правдой будем тебе служить, не отступим, пока на ногах стоять сможем. Ты уж нам поверь — не обманем! На смерть пойдем за тобою.
— Да не могу я... Поймите! — с отчаянием отвечал Сергей Иванович. — Нам войска нужны, а не крестьяне, мы сами завоюем вам свободу. Клянусь! Мы готовы для вас жертвовать собою, не требуя никакой награды, кроме вашей любви.
— Ну что же, — вздохнули посланцы, переступая с ноги на ногу от волнения, а может быть, от обиды, что Муравьев-Апостол отклоняет их помощь, — помогай тебе бог, да и в добрый час! А только негоже бы отказываться, мы ведь всей душой... Чай, в таком деле всякая сила пригодится...
— А что не служивые мы — это ничего, мы и без муштры знаем, кого лупить так, чтобы уж никогда не поднялся.
Сергей Иванович едва уговорил крепостных, чтобы они спокойно возвращались к своим делам и не вмешивались в вопросы чисто военные.
— Потерпите еще немного, — пообещал он им, — сбросим тирана, и будете вы свободны. Так всем и передайте.
— Спасибо тебе, заступник наш! Да благословит тебя бог на святое дело!
Крестьяне ушли, а Сергей Иванович все еще смотрел на дверь. Перед его мысленным взором стояли возбужденные толпы крепостных, горели имения, проходили легионы кое-как вооруженных повстанцев...
«Да, они все разрушат, спалят, уничтожат, столько в них злобы и обиды на помещиков и чиновников. И Хомутец уничтожат, ведь там такие же крепостные. Нет, этого нельзя допустить. Революцию должны делать военные, а крестьяне пусть пашут землю и выращивают хлеб. Вот их дело».
Первого января в полдень в Мотовиловку вошла Вторая мушкетерская рота, которую привел подпоручик Быстрицкий.
Солдат
встречало все село. Крестьяне выбегали из хат, обнимали их, как родных, звали к себе, отдавали лучший кусок.
Настроение у солдат повысилось. Как будто они приблизились к рубежу, за которым были победа и новая жизнь. Солдаты требовали от офицеров немедленно выступить в поход, не дожидаясь утра.
— С Новым годом!
— Да будут счастливы все люди!
— А господам смерть и кол осиновый на могилу!..
Повсюду слышались возгласы, крестьяне целовались с солдатами, ходили по селу, распевая песни. В тот вечер, казалось, были забыты все лишения, извечное горе отступило, пришла долгожданная воля.
Утром двинулись дальше, чтобы соединиться с Восьмой дивизией. На отдых остановились в селе Пологи.
Когда стемнело, Сергей Иванович поручил Сухинову добраться до околицы Белой Церкви и разузнать, есть ли там дивизия и какие караулы расставлены на улицах.
Сухинов с двумя всадниками скрылся в туманной морозной мгле.
Солдаты отдохнули в теплых хатах, а Сергей Иванович всю ночь просидел с Ипполитом, вспоминая Париж, военную школу в Сен-Сире, альбом с памятниками египетского искусства и пейзажами. Этот альбом подарил Наполеон отставному дипломату, поэту и философу Ивану Матвеевичу Муравьеву и его жене Анне Семеновне, дочери сербо-австрийского генерала Черноевича. Иван Матвеевич в свое время получил высочайшее позволение именоваться Муравьевым-Апостолом — Апостол была фамилия его деда по матери, гетмана Даниила.
Подарок императора Франции хранился в семье Муравьевых в ящике стола орехового дерева, стоявшего в большой зале. Там же лежал редкий сборник географов наполеоновского времени Манжа и Бертоли. Но миновали годы, и, когда Наполеон напал на Россию, оба брата дрались с бонапартовцами и люто возненавидели узурпатора.
Братья вспоминали родной Хомутец близ Миргорода, двухэтажный дом в старом парке, буквою «М» расположившемся у речки Хорол. Вряд ли что-либо могло сравниться с чарующей красотой старого парка... Они вспоминали, как, вернувшись из Парижа, бродили по длинным аллеям и громко декламировали Луи Дюбуа, Андре Шенье, Жана де Лафонтена, а по вечерам слушали пение крестьянских девушек. И все спорили о жизни, о человеке и его месте на земле, о долге. Мечтали о России, освобожденной от пут рабства, темноты и дикости...
Как там сестры, отец? Хомутец сейчас весь в снегу, закован в лед Хорол, парк голый, со всех сторон его продувают ветры. Теперь все это как во сне — знакомое до боли, невероятно далекое.
Мимо окон прошли подвыпившие солдаты, дружно выводя на свой мотив песню, слова которой каким-то таинственным образом распространились среди них:
Я отечеству защита,
А спина всегда побита,
Я отечеству ограда,
В тычках, пинках вся награда.
Кто солдата больше бьет,
И чины тот достает.
«Гнев кипит в душе российских санкюлотов, — думал Сергей Иванович, вспоминая тех, кто притеснял простой народ и в полках, и в помещичьих имениях. — Дай волю черни — и она сметет дворянство, как буря сметает солому. Я должен это помнить».
На рассвете вернулся Сухинов, весь почерневший от холода и усталости. Сергей Иванович с первого взгляда понял, что ничего утешительного он не привез.
— В Белой Церкви артиллерия и два пехотных полка, — доложил Сухинов, тяжело опускаясь у стола на лавку.
— Может быть, среди них и Семнадцатый егерский, который обещал привести в Васильков наш верный друг Вадковский? — нетерпеливо подхватил Сергей Иванович. — И наш Молчанов там? Ну что же, если Семнадцатый не пришел в Васильков, то утром мы сами пойдем ему навстречу.
— К сожалению, Семнадцатый полк, — вздохнул Сухинов, и огонек свечи отразился звездочками в его утомленных глазах, — из Белой Церкви переведен в Сквиру, а в Белой Церкви остались войска, верные новому царю.
Новости, привезенные Сухиновым, очень опечалили Муравьева-Апостола, однако он не подал виду, а, наоборот, начал успокаивать товарища:
— Если нельзя идти на Белую Церковь, вернемся в Трилесы и будем ждать Мозалевского там. Я уверен, что в Киеве уже началась революция и Киевский гарнизон присоединится к нам.
Сухинов не разделял оптимизма Сергея Ивановича, он не впервые возражал против выжидательной тактики.
— Мы должны идти по намеченному пути, поднимая всех, кто согласен с нашими взглядами и не желает остаться в стороне от революции. А если потребуют обстоятельства, нападать на небольшие воинские части и обезоруживать их. И наделять оружием гражданское население, готовое прийти к нам на помощь. Иначе Романовы задушат нас. Поймите же это, подполковник, действуйте более решительно! В каждом местечке люди просят разрешения присоединиться к нам. Это такая сила! Они и оружие добудут себе своими собственными руками, и драться будут не хуже нас с вами. Почему мы их сторонимся? Это же наши люди. Наши верные помощники. В них еще бурлит казацкая кровь. А под серыми рубахами и свитками бьются сердца запорожцев.
В смежной комнатке спал Матвей Иванович. Услышав громкий разговор, он вышел и остановился на пороге.
Проснувшись, с лавки встал Ипполит.
— Я поддерживаю поручика, — сказал Ипполит братьям, — он прав. Выжидание таит в себе угрозу. Правительственные войска могут нас окружить и уничтожить. Только вперед, коли мы хотим добыть викторию! Это же настоящая война, ежели хотите знать. Два лагеря, два противника. Победит тот, кто выиграет время и привлечет на свою сторону больше сил. Разве не так?
— Нет! — решительно возразил брату Матвей. — Мы должны дождаться тех, кто обещал к нам присоединиться, а пока вести рекогносцировку, разузнавая о соседних с нами воинских частях. Наши силы слишком слабы, чтобы мы могли бросаться в авантюры и пренебрегать опасностью.
— Тогда, во избежание недоразумений, я советую собрать всех офицеров, выработать окончательный план действий и ни в коем случае его не нарушать, — предложил Ипполит.
— Поскольку идти на Белую Церковь рискованно и нет смысла, — уверенно заявил Сергей Иванович, — пойду на Трилесы, чтобы быть поближе к войскам, расквартированным неподалеку от Житомира и Новоград-Волынска. Там весьма значительно влияние «славян». Я думаю, они подготовили свои части и присоединятся к нам. А тем временем вернется Мозалевский, и мы узнаем, что происходит в Киеве.
— Ну, как знаешь, Серж, — согласился Ипполит. — Только нужно действовать решительно и обсуждать свои поступки с товарищами, чтобы не возникло никаких недоразумений.
Сергей Иванович ждал прапорщика Мозалевского, а его в это время допрашивал в присутствии князя Щербатова начальник штаба Четвертого корпуса генерал Красовский. Генерал хотел узнать, кто и с каким поручением послал Мозалевского в Киев, что делается в расположении Второй армии, кто присоединился к Черниговскому полку и куда намерены идти бунтовщики.
Отрицать все не было смысла, потому что вместе с ним арестовали унтер-офицера Харитонова и рядовых Федорова, Сафронова, Прокофьева. И Мозалевский признался.
Приехав в Киев, в канцелярию полка, он спросил у писаря Кошелева, где майор Крупенников, — к Крупенникову у него было письмо от Сергея Муравьева-Апостола. Писарь заявил, что такого майора в Курском полку не значится, а есть поручик Крупенников, однако он в командировке и не скоро вернется.
Опечаленный Мозалевский долго бродил по улицам, не зная, что предпринять. Потом решил направиться в корчму, где его ждали унтер-офицер и рядовые: «Так и придется вернуться в Васильков, не выполнив поручения Муравьева-Апостола...» — думал он.
А по Киеву уже поползли слухи о восстании во Второй армии. Среди обывателей и в гарнизоне поднялась паника. Гражданские власти и штаб Четвертого корпуса, не дожидаясь приказов сверху, выставили караулы и начали проверять всех подозрительных как в самом городе, так и на окраинах.
Мозалевский добрался до корчмы, спросил, разбросали ли его помощники привезенные ими экземпляры «Катехизиса». И когда те доложили, что поручение выполнено, велел собираться в дорогу.
Однако в эту минуту в корчму вошла стража в сопровождении чиновника в партикулярном платье. Мозалевского и других арестовали и доставили в штаб корпуса.
А Сергей Иванович все еще ожидал возвращения своих посланцев из Киева...
На Трилесы путь лежал через Ковалевку. А к Ковалевке вели две дороги: одна степью, по совершенно открытой местности, другая через шесть сел, расположенных полукругом неподалеку друг от друга. Это были села Устимовка, Пилипичинцы, Червонная, Кишинцы, Пилиповка и Королевка.
Сухинов предложил идти селами, чтобы занять оборону в случае нападения правительственных войск. Однако Матвей Муравьев-Апостол не согласился: по степи путь был короче, а они хотели поскорее добраться туда, где действовали «славяне».
Среди повстанцев ширилось недовольство. Все говорили: «Если уж поднялись с оружием в руках против монархии и правительства, так зачем же топтаться на месте, ждать, пока нас окружат приверженцы царя?» Особенно были недовольны офицеры Матвеем Ивановичем, отрицательно влиявшим на брата. Некоторые советовали серьезно обсудить вопрос о создавшемся положении. Пусть окончательные решения принимает военный совет, а не один человек!
Хождения от села к селу вызывали сомнения и подозрения у солдат.
— Чего доброго, продадут нас господа начальники, — говорили они между собой. — Поверили офицерам, хотели было идти в бой, а вместо того топчемся на месте, ждем неведомо чего.
— А что им, помещичьим детям! Нешто болит у них душа за нашего брата? Будут водить по степи, пока всех не посадят в крепость.
Иные возражали, защищая офицеров-«семеновцев»:
— Да как же можно им не верить, братцы! Они завсегда за нас заступались.
— Вот попадем царю в когти, там не посмотрят на чины. Им тоже не ждать милости от нового императора.
— А то как же! Сибири-то, говорят, ни конца ни краю. И острогов тоже на всех хватит.
— Тюрьма как могила, всем место найдется. И лоза повсюду растет. Верно я говорю?
Молчали солдаты, подчинялись офицерам, выполняли приказы. Но все-таки вера понемногу угасала. А без веры даже большая масса людей постепенно теряет силу, потому что изнутри ее, эту массу, подтачивают раздоры — самая страшная болезнь человечества.
Чаще начали проявляться зловещие черты обреченности и отчаяния, в глазах солдат притаились грусть и настороженность. Все замечал Сергей Иванович — и равнодушие, и механическое исполнение своих обязанностей, не согретое мыслью и верой в победу, недавно столь твердой.
С таким настроением шли солдаты восставшего полка тихим морозным утром, равнодушные и задумчивые. А за ними двигалось двадцать восемь крестьянских подвод, на которых везли продовольствие и военные припасы.
Вдруг из-за устимовского холма показалась конно-артиллерийская рота, которой командовал капитан Пыхачев, член Тайного общества, свой человек. Радости повстанцев не было границ: с артиллерией они пробьются где угодно, теперь их никто не остановит.
— Ура!.. Наши идут!.. — пронеслось по рядам черниговцев.
Но их радость оказалась преждевременной. Артиллеристы в мгновение ока заняли боевые позиции. И никто не успел опомниться, как над полем прокатился гром первого залпа. Стреляли картечью. Упали убитые, закричали раненые.
Мог ли кто-нибудь допустить, что рота, где командир и офицеры были единомышленниками восставших, станет стрелять в своих братьев? Нет, такого никто не ожидал. Пушечный залп всех ошеломил.
Откуда было им знать, что Пыхачев и офицеры конно-артиллерийской роты арестованы, их место заняли другие и командует ротой генерал Гейсмар...
На миг восставшие солдаты замерли, ожидая приказа, но в ту же минуту из-за холма, как из-под земли, вылетели гусары, в воздухе засверкали сабли.
Пушечные выстрели гремели один за другим, точно над степью раскололось холодное небо. Падали ядра, кровь окропила землю. Разве спрячешься от картечи в голой степи! Ранило Кузьмина, Ипполита, мертвым упал Щепилло, солдатские тела зачернели темными пятнами на снежной пелене.
— Нас предали! Продали! — кричали то там, то здесь солдаты.
Они смотрели на Сергея Ивановича, ожидая его команды, но того как раз ранило картечью. Он бессильно склонился на луку седла. Испуганная лошадь, наверное, поволокла бы его по земле, если бы не успел подбежать Федор Скрипка и не снял раненого.
— Бессмысленно сопротивляться, друзья. Вы все погибнете, — сказал Сергей Иванович солдатам и офицерам, тем самым позволяя им сложить оружие.
Дело заключалось в том, что полки, находившиеся под влиянием членов тайных обществ, были отведены подальше и заменены более надежными: Мариупольским гусарским, Александрийским, гусарским принца Оранского и другими. Они окружили повстанцев. Генерал Гейсмар приказал строить пленных в ряды.
Всех разоружили. Однако, когда гусары приблизились к раненому Ипполиту, чтобы и его тащить к группе арестованных офицеров, сухо прогремел выстрел. Не желая сдаваться в плен, Ипполит застрелился. Рука с дымящимся пистолетом откинулась в сторону, голова ткнулась в снег.
Раненых посадили на подводы и повезли за пленными солдатами. Только кровавились пятна на еще недавно чистом снежном поле...
Солдаты помогли Федору уложить Сергея Ивановича на сани, где хранились одежда и другие вещи подполковника, а также скрипка, с которой денщик не расставался даже в походе.
Федор хотел было и сам сесть рядом, но офицер-гусар крикнул:
— Прочь! Ступай к бунтовщикам, там твое место!
И начал сбрасывать с саней пожитки Муравьевых-Апостолов. Отшвырнул и скрипку Федора. Лопнула струна, жалобный звук повис в морозном воздухе.
Федор кинулся к скрипке, схватил ее, словно это было живое существо, прижал к груди. Однако офицер, синий от холода, а может быть, и от выпитого вина, стегнул его нагайкой по лицу.
— Брось! Кому приказано? — И, вырвав скрипку из рук Федора, ударил ею об мерзлую землю. Скрипка в последний раз отозвалась стоном и рассыпалась в щепки.
Обезумевший от боли, ослепленный гневом, Федор бросился с кулаками на офицера, но солдаты удержали его:
— Что ты делаешь, дурень!
— За это казнят, — говорили, сочувствуя ему, мариупольцы.
Однако Федору сейчас было все равно. Он ничего не видел, его, как слепого, втолкнули в толпу пленных солдат, окруженных гусарами и артиллеристами из отряда Гейсмара.
— Вы не ротмистр, в негодяй, недостойный носить офицерский мундир! — крикнул Сергей Иванович гусару.
Но тот не обратил внимания на подполковника. Ведь теперь он был всего лишь пленный бунтовщик, не более.
Арестованных офицеров привезли в Трилесы и заперпи в корчме.
Генерал Гейсмар, радуясь, что на его долю выпало разгромить повстанцев, сидел в теплой хате и сочинял рапорт.
Вошел адъютант.
— Убиты два офицера и шесть солдат Черниговского полка, — громко и весело начал перечислять он, заглядывая в бумажку, которую держал в левой руке. — Кроме офицеров, о которых я уже докладывал вашему превосходительству, взяты в плен пятьдесят унтер-офицеров, семьсот семьдесят семь нижних чинов, пятьдесят три музыканта, десять нестроевых и пять денщиков. Всего восемьсот девяносто пять человек.
— А как фамилия того, кто бросился со злым умыслом на ротмистра Телюкова? — спросил Гейсмар адъютанта.
— Федор Скрипка. Денщик подполковника Муравьева-Апостола.
— Так! Хорошо! Мы здесь заночуем. Усилить охрану пленных, главное — офицеров. Где их разместили?
— Офицеры в корчме. Нижние чины на воловне и в конюшне местного помещика. Боюсь, что ночью ударит мороз, могут обморозиться.
— Ничего с ними не случится. Мы их приняли, не проверяя, каково у них здоровье. А кроме того, они и до плена могли быть обморожены. Завтра всех отправим в тюрьму, там согреются.
В корчме тоже было холодно. Может быть, от ран, а может быть, от всего пережитого за день людей била лихорадка. Они никак не могли согреться.
Тяжело раненный Кузьмин лежал на лавке, прижавшись лицом к холодной стене. За пазухой, в окровавленном мундире, он прятал пистолет и всю дорогу боялся, как бы его не отняли конвоиры. Судьба сжалилась над Анастасием Дмитриевичем, оружия не нашли.
Рано сгустились сумерки в низенькой корчме. Потом стало еще темнее, в помещении немного потеплело. Во всяком случае, так казалось. Кузьмин с трудом встал с лавки, боясь упасть. Подошел к Сергею Ивановичу, попрощался с ним. Так же молча пожал руки Бестужеву-Рюмину, барону Соловьеву, Быстрицкому и другим офицерам. Медленно вернулся к своей лавке и лег, не произнеся ни слова.
Всех обступили думы. Впереди была зловещая неизвестность.
Молчали.
Вдруг в тишине раздался выстрел — из правой руки Кузьмина выпал на пол пистолет.
Из смежной комнаты, где раньше жила семья корчмаря, вбежали часовые во главе с прапорщиком.
— Кто стрелял?
— Его уже нет в живых, — глухо ответил кто-то.
Зажгли свечу. Под потолком висело маленькое облачко дыма. А на полу валялся пистолет, с лавки свисала рука мертвого Анастасия Дмитриевича.
— Унести в сени! — приказал солдатам прапорщик.
Кузьмина вынесли и бросили на уже окоченевшие тела убитых.
И опять в корчме стало темно и тихо. Только за дверьми соседней комнаты слышались громкие голоса часовых да иногда звучал смех.
Бестужев-Рюмин сел около Сергея Ивановича, раненного в голову. Наклонившись к его окровавленному лицу, тихо произнес:
— А Сухинова нет ни среди живых, ни среди мертвых. Я думаю, он воспользовался суматохой и бежал.
— Дай бог, чтобы ему посчастливилось избежать ареста, — от всей души пожелал Сергей Иванович.
У него страшно болела голова. Михаил Павлович положил ему на лоб свою холодную руку. Он готов был пожертвовать собственной жизнью ради спасения Муравьева-Апостола.
«Вот и конец всему», — подумал Сергей Иванович равнодушно, точно речь шла о чем-то несущественном, а не о его судьбе. За себя он не беспокоился, он был готов ко всему. Жаль было Ипполита. Не верилось, что его нет в живых. Ведь еще недавно они в Пологах целую ночь вспоминали прошлое, мечтали когда-нибудь все вместе собраться в Хомутце, побродить по тенистым аллеям парка, покататься на лодке по Хоролу. Теперь уж никогда не соберутся. Никогда!..
Матвей Иванович сидел в углу на полу, рядом с бароном Соловьевым. За этот день старший из братьев Муравьевых-Апостолов постарел на десять лет.
— Сухинова не видели, Матвей Иванович? — тихо спросил Соловьев. — Говорят, он бежал. Вот было бы хорошо, осли б хоть он остался на свободе.
Матвей Иванович не ответил. Вопрос барона почему-то не дошел до его сознания.
А поручик Сухинов в самом деле воспользовался суматохой среди вояк Гейсмара и незаметно скрылся. Ему помогли черниговцы. Они-то и надоумили его бежать.
— Бегите, поручик, пока вас не схватили эти псы. Может быть, удастся спастись.
Гусары Гейсмара угрожали доложить генералу об этих преступных подстрекательствах, однако «черниговцы» не обращали на них внимания. Они помогли Сухинову выбраться из глубокого, заметенного снегом оврага. Иван Иванович побежал к селу Пилипичинцы, ни разу не оглянувшись на поле, истоптанное тысячами человеческих ног и лошадиных копыт.
Задыхаясь, потный и бледный, ввалился он в крестьянскую хату и в изнеможении упал на лавку.
Хозяин, щуплый, высушенный годами человек, без слов понял, что делать с незваным гостем, и повел Сухинова в сени.
Там он поднял крышку, и Сухинов, едва держась на ногах, полез по лестнице в черную пасть погреба.
— Сидите, господин офицер, пока не позову, — сказал крестьянин, затем опустил крышку и набросал на нее какую-то ветошь.
Сухинов отдышался, немного успокоился. Сначала было тихо, потом долетели голоса, лошадиный топот.
Гусары повсюду искали беглецов. А найдя кого-нибудь, заставляли его рысцой бежать впереди лошади и били нагайкой.
Несколько раз они забегали и в ту хату, где прятался Сухинов, но хозяин божился, что к нему никто не приходил.
У Сухинова был пистолет, он решил застрелиться, если его найдут.
Текли минуты за минутами, наверное, пролетел час или больше, как знать! От напряжения у Ивана Ивановича шумело в голове, в висках стучали молоточки, а сердце колотилось так, словно готово было выскочить из груди.
Еще не раз слышались лошадиный топот, голоса. Иногда казалось, что кто-то ходит в сенях.
Наконец над головой что-то зашелестело, скрипнула крышка, и донесся голос хозяина:
— Вылезайте, господин офицер. Солдаты ушли из нашего села, больше не вернутся.
Сухинов выбрался по лестнице из своего сырого убежища, согрелся в хате. Хозяйка накормила его борщом и кашей. Принесли свитку, полотняные штаны и рубаху, лапти. Сухинов переоделся. Расспросил дорогу на Гребенки и вечером пошел туда, надеясь пробыть некоторое время у знакомого поляка.
Скоро он из Гребенок переправился в Каменку, к доктору Зинкевичу. Тот когда-то служил в Черниговском полку, затем вышел в отставку и сделался домашним врачом у Давыдовых.
Неделю прожил Иван Иванович в маленьком флигеле Зинкевича. Может быть, он прятался бы у него до весны, как и настаивал врач, который с большим сочувствием относился к поручику, находившемуся сейчас вне закона. Но, к сожалению, однажды вечером мимо жилища Зинкевича проходил с женою Давыдов и заметил незнакомца. На другой день Василий Львович спросил Зинкевича, кто этот человек. Тот откровенно рассказал. Хозяин разгневался, даже накричал на врача.
— Своим бессмысленным поступком вы накличете на нас беду. Время тревожное, рисковать неразумно. Пусть поручик ищет для себя пристанище в другом месте.
Зинкевич промолчал. А вечером проводил Сухинова за околицу села. Они постояли на заснеженном перекрестке и простились навсегда.
— Счастливого пути, поручик, — вздохнул Зинкевич, не выпуская беглеца из объятий.
— Спасибо, друг! Ты помог мне, вовек не забуду твоей услуги. Правду говорят, что друзья познаются в беде. Будь здоров!
— Постой! — остановил Зинкевич Сухинова, шаря в кармане. — Вот тебе деньги. Возьми, в дороге пригодятся.
— Не нужно. У тебя самого кот наплакал, — пошутил Сухинов.
— Бери! Даю от всего сердца. Правда, маловато тут, но в том не моя вина. — И Зинкевич высыпал в руку Сухинову весь свой капитал — девять рублей двадцать копеек.
Иван Иванович решил пробираться к брату Степану, служившему писарем в Александрийском уездном суде. Может быть, брат поможет выправить паспорт, без которого теперь и носу высунуть нельзя.
«Больше некуда мне идти, — думал Сухинов. Он шел большей частью по ночам или присоединялся к странникам и нищим, чтобы не вызвать подозрения у дозора. — Не поможет мне Степан — хоть с моста да в воду! Мир огромен, земля без конца и без края, но мне на ней нет места».
Он часто вспоминал товарищей, свою любимую Лесю.
«Друзья за решеткой, в крепостях да острогах. Только я на свободе. А что будет с Лесей? Как она ко всему этому отнесется? Обманул! Обещал счастье, а что дал?..»
Лесины глаза, казалось, всю дорогу преследовали его, Только были они не веселые и ясные, как когда-то, а очень печальные.
«Наверное, и до нее дошла весть о разгроме Черниговского полка, об арестах участников восстания. Разумеется, дошла. Ведь все произошло неподалеку от Василькова. Что же теперь? Как жить? Что делать?..»
Сухинов остановился посреди ночного поля и погрозил в сторону севера.
— Будь проклят, тиран! — произнес он громко, сжимая кулаки. — Ты отнял у меня друзей, обокрал душу, навеки разлучил с любимой. Ты все отнял, что может отнять у человека властитель. Но оставил ненависть, чтобы я проклинал тебя и чтобы за слезы и страдания народные под тобою вечно горела земля. Чтобы от тебя отказалась смерть и не принимала земля. И чтобы прокляли тебя родные дети.
Над степью темное небо, усыпанное звездами. Звезды, похожие на тысячи заплаканных глаз, дрожат в вышине.
Скрипит под ногами снег, иногда тишину разрывает громкий треск: это трещит на пруду лед, а может, лопается от мороза земля.
За Сухиновым стелется узорчатый след от лаптей.
Когда Муравьевых-Апостолов выводили из корчмы, чтобы везти в Петербург, они попросили у начальника охраны, гусарского ротмистра, позволения проститься с мертвым братом.
Ипполит лежал почти голый. Часовые успели его раздеть. Окоченевший от мороза, очень худой, совсем не похожий на того молодого жизнерадостного прапорщика, который так верил в победу и поклялся жить свободным в свободной России или умереть...
И вот он умер во имя свободы. Остекленевшие глаза широко раскрыты, но они уже ничего не видят.
Сергей и Матвей опустились на колени, поцеловали Ипполита в холодный лоб.
— Прощай, брат!
— Прощай, наш любимый... навсегда...
Рядом с Ипполитом лежал Кузьмин. Лицо у Анастасия Дмитриевича почернело. Он был в одной сорочке, босой, неестественно вытянувшийся, волосы примерзли к луже крови.
Васильковский исправник прислал крестьян — им было приказано похоронить убитых в одной яме на холме у околицы села, по дороге из Трилесов на Паволочь. Мертвых сложили в сани, как дрова.
Подъехали всадники — стражники под командой старшего адъютанта подполковника Носова, за ними сани. В первые сани посадили Матвея Муравьева-Атостола и Бестужева-Рюмина, во вторые — Сергея Ивановича и штаб-лекаря Первой армии Нагумовича. Начальник штаба барон Толь боялся, чтобы раненный в голову Сергей Муравьев-Апостол не умер по дороге. Его велено было доставить в Петербург живым. Других офицеров отправили сначала в Белую Церковь, а оттуда повезли в Могилев.
Солдат разместили в Белой Церкви, заковали в кандалы, сделанные из ста пудов железа, которое подарила властям графиня Браницкая, узнав о разгроме бунтовщиков.
Главнокомандующий Первой армией граф Сакен рапортовал царю Николаю:
«Ваше императорское величество!
Разбойники раздавлены, все приходит в повиновение и прежний порядок. Мне кажется, ваше императорское величество, что нет более надобности двигать войска, достаточно открыть только нити этого гнусного заговора, чтобы вырвать все с корнем.
К моему величайшему сожалению, я подозреваю человека, долго служившего, пожилого, отца семейства, Раевского, дом которого был открыт для всех заговорщиков и члены собственной семьи которого замешаны в этом деле. Можно ли верить его невиновности?
Генерал Рот имеет недостаток со всеми ссориться, но я не знал, что он человек завистливый. Он только что поссорился с генералом Гейсмаром из-за того, что последний, не предупредив его, разбил мятежников; успех, таким образом, не кажется ему полным. Я жду с нетерпением его подробного донесения. Он тратит больше дней на его написание, чем тот употребил минут для одержания победы. Ваше величество, не откажите генералу Гейсмару в своей монаршей милости, тем более что он человек малообеспеченный.
Князь Щербатов не способен командовать пехотным корпусом, в особенности при затруднительных обстоятельствах: он имеет наивность воображать себя непогрешимым.
Господь благословит ваше царствование, а небольшой остаток моих дней будет отдан служению вам.
С глубочайшим почтением остаюсь, государь, вашего императорского величества верноподданный
граф Сакен».
Командир корпуса генерал Рот жаловался на главную квартиру Второй армии, своевременно не известившую его о необходимости арестовать Сергея Муравьева-Апостола: тот, мол, прибыв в Житомир, даже обедал у него, Рота. А ведь Муравьева-Апостола можно было сразу арестовать и тем предупредить восстание Черниговского полка.
Генералы ссорились. Каждый хотел выслужиться перед новым императором.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Придя в себя от страха и почувствовав, что он победил, Николай Павлович в ту же ночь начал расправу над военными, вознамерившимися лишить его престола.
Все было поднято на ноги — столичная полиция, верные монархии полки, генералы и адъютанты. На Дворцовой площади до утра горели костры, были усилены караулы. Все время подъезжали крытые сани и возки с арестованными.
Их сначала вели на гауптвахту и тщательно обыскивали, чтобы никому не удалось спрятать ничего, что могло бы служить к нападению. А после первого допроса либо отправляли в Главный штаб, либо везли в Петропавловскую крепость.
Солдат-повстанцев тут же, на площади, строили в сотни и уводили в места заключения.
Торжественные залы Зимнего дворца, по которым прошлой ночью бродил перепуганный Николай Романов, теперь напоминали биваки, где на время остановились генералы и офицеры, чтобы вскоре выступить в поход.
Первым привезли Рылеева, но сразу с гауптвахты отправили в Петропавловскую крепость с собственноручной запиской Николая на имя коменданта генерал-адъютанта Сукина:
«Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский равелин, но не связывая рук, без всякого сообщения с другими, дать ему бумагу для письма, и что будет писать ко мне собственноручно, мне приносить ежедневно».
Гвардейцы со всеми арестованными обращались грубо — брали пример с Николая. А он мстил каждому, как личному врагу, потому что считал русский престол своей собственностью. Николай сам проводил допросы, придираясь к любому пустяку, чтобы после первой же встречи с недругом решить его участь. Он то притворялся добрым отцом, желающим исправить ошибку дорогого ему дитяти и предостеречь от неосторожного шага в дальнейшем, то являлся перед арестованным тем, кем и был на самом деле, — наглым жестоким деспотом, которому все должны безмолвно покоряться и чье слово закон для всех без исключения.
Николай прекрасно играл свою роль, хотя и не учился искусству перевоплощения у знаменитого Тальма́, как Наполеон. К одним он обращался как близкий друг и, вводя доверчивых в заблуждение, старался привлечь к себе деланной лаской, чтобы таким образом все выведать. Других пытался ошеломить грубостью. Он хотел подавить волю человека, склонить его к предательству, заставить назвать соучастников в военном заговоре.
Николай сам назначил следственный комитет во главе с военным министром генерал-адъютантом Татищевым. В комитет вошли брат императора Михаил Павлович, начальник Главного штаба баров Дибич, генералы Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Левашов, Чернышев и сановник князь Голицын. Секретарем он определил своего флигель-адъютанта полковника Адлерберга, которому приказал каждый день докладывать все, что происходит на следствии.
Арестованных с гауптвахты вели мимо Эрмитажа в большой зал, где за длинным массивным столом заседал комитет. Задавали несколько вопросов, на которые каждый должен был немедленно ответить. Показания арестованных записывали Адлерберг или Левашов. Но большей частью ответы в письменной форме составляли сами обвиняемые, а секретарь комитета относил эти бумаги в смежную комнату, служившую новому императору кабинетом.
Комитет работал напряженно, но все же не успевал подробно допрашивать заговорщиков и вынужден был ограничиваться несколькими главными вопросами. После допроса арестованного с сопроводительным письмом Николая отправляли в Петропавловскую крепость.
Время от времени в кабинет входил Адлерберг, докладывал, кого еще задержали и доставили на гауптвахту, за кем посланы фельдъегери. Кроме того, Адлерберг приносил для просмотра документы следствия.
Братьев Бестужевых, Михаила и Николая, арестовали вслед за Рылеевым. А третий брат, Александр, явился на гауптвахту сам, не ожидая прибытия жандармов. Потом привезли Щепина-Ростовского.
Пущину лицейский товарищ князь Горчаков привез было заграничный паспорт, чтобы тот немедленно бежал из России, но Пущин отказался.
— Я не имею права бросать товарищей в таков время, — заявил он Горчакову. — Я должен разделить их судьбу.
Князь рассердился:
— Глупости! Николай никому не простит, пойми! Одних он убьет, других сгноит заживо в крепостях и острогах. Беги, пока не поздно! Я сделаю все, чтобы тебя спасти.
Однако Иван Иванович и слушать не желал Горчакова. Сказал, целуя его:
— Благодарю, друг мой, и прощай. Торопись, за мною вот-вот придут. Не нужно, чтобы они застали тебя здесь.
Не успел Горчаков отъехать от дома, как за Пущиным в самом деле явился фельдъегерь с солдатами.
После Пущина на гауптвахту привезли князя Трубецкого, Якушкина, Оболенского, Штейнгеля, а спустя несколько дней Никиту Муравьева и Захара Чернышева, которых не было на Сенатской площади — они проводили отпуск в своих поместьях далеко от столицы.
Из Москвы доставили Михаила Орлова, из далекого Тульчина — Пестеля, Юшневского, Крюкова, Лорера, из Каменки — Давыдова и из Умани — князя Волконского.
Многих арестовали еще до восстания Черниговского полка, по доносам Майбороды и Шервуда.
Явился и Майборода. Николай приказал зачислить его на службу в гвардейский полк в том же чине. Оставлять капитана в Вятском полку было небезопасно, его убили бы как предателя заговорщики, еще остававшиеся на свободе.
Когда в зал ввели Николая Бестужева, царь вышел из кабинета. Он внимательно посмотрел на морского офицера, похудевшего и измученного за последние дни.
— Наверное, для тебя не секрет, что жизнь и смерть подданных в моих руках, — сказал Николай. — Я могу простить твою вину и преступление, спасти тебе жизнь, но могу и послать на виселицу. Понимаешь, бывший капитан-лейтенант?
— Понимаю, ваше величество, — спокойно отвечал Бестужев. — Вы ставите себя выше закона — в том-то и трагедия России. Хочется верить, что в будущем судьба русских будет зависеть от справедливого закона, а не от настроения и капризов вашего величества...
Это было как удар хлыста.
— Молчать! — злобно процедил сквозь зубы Николай. Он старался сохранить на своем мраморном лице убийственно спокойное выражение, но в душе его клокотала ярость. — Увести без допроса, — приказал Николай Татищеву и членам комитета.
Вернувшись в кабинет, он написал коменданту короткую записку: «Посланного с сим Николая Бестужева посадить в Алексеевский равелин под суровый арест и позволить ему писать, что захочет».
Ввели младшего из Бестужевых — Михаила. С него еще на гауптвахте сорвали мундир лейб-гвардии Московского полка и так скрутили руки веревкой, что они набрякли и посинели.
Грубое обращение, предыдущие допросы измучили Михаила Бестужева, он уже не мог держаться на ногах и опустился на стул.
— Встать! — крикнул младший брат царя Михаил с такой злобой, словно штабс-капитан, сев в его присутствии, совершил тягчайшее преступление. — Как ты посмел сесть без позволения!
— Я устал от допросов, — равнодушно ответил Бестужев, даже не взглянув на великого князя. — Напрасно вы привели меня сюда, все равно я больше ничего не скажу. А что знал, написал вашему комитету.
— Нет, ты скажешь все, что нам нужно! — зашипел князь Михаил, грозя Бестужеву кулаком. — Ты у нас иначе заговоришь, когда посидишь в равелине.
— Равелин смерти подобен: в нем и вашему высочеству найдется место, — серьезно произнес Бестужев.
Его отправили в крепость и, по приказу Николая, на руки и на ноги надели кандалы.
На допрос привели Трубецкого. Сергей Петрович в волнении переступил порог, окинул взглядом членов следственного комитета, которые восседали за столом, точно каменные идолы, неподвижные и холодные.
Не успел Левашов спросить, когда и каким образом попал Трубецкой в Тайное общество, как отворилась дверь кабинета и в зал вошел царь. Медленно приблизился к Трубецкому, положил ему на плечо руку и любезно произнес:
— Ну как вам не стыдно, князь! Гвардии полковник, славного роду, а пристали к кучке заговорщиков. Прямо не верится. Своим нелепым поступком вы поразили меня, князь. Мне очень жаль вас!
Тон Николая и какое-то подобие улыбки, появившееся на его лице, немного успокоили и даже тронули Трубецкого, он поверил в искренность и сострадание нового императора.
— Мне жаль вашей жены, князь. Екатерина Ивановна — прелестная графиня Лаваль! — будет очень опечалена вашим арестом. Она умная женщина и, наверное, догадывается, какая судьба вас ждет. За ее преданную любовь вы отплатили черной неблагодарностью, позором. Своим преступлением вы обесславили ее громкое имя. Жена государственного преступника! Жаль мне вас, бывший полковник. Весьма жаль... Вы счастливы, что у вас нет детей.
Николай прошелся из угла в угол, искоса взглянул на членов комитета.
— Продолжайте допрос, господа! — изрек он тоном приказа и ушел в кабинет. Но через несколько минут вернулся с запиской в руке и молча положил ее на стол.
Трубецкой ничего не скрывал, рассказал все, что знал.
— Тайное общество было основано в Петербурге в феврале тысяча восемьсот шестнадцатого года, — сказал он, надеясь искупить свой грех перед новым императором, столь искренне соболезнующим его судьбе. — Членами Общества были я, Александр и Никита Муравьевы, Иван Якушкин, Михаил Лунин, братья Муравьевы-Апостолы — Сергей и Матвей, князь Федор Шаховской... Целью Общества было в обширном смысле благо России...
Левашов и Адлерберг быстро записывали показания бывшего диктатора, поверившего, что царь учтет его искреннее раскаяние и не будет к нему слишком суров.
После допроса князя, как и остальных, отправили в Петропавловскую крепость. Николай приказал: «Трубецкого, которого мы посылаем к вам, посадить в Алексеевский равелин. Наблюдать за ним как можно строже: не позволять никуда выходить и ни с кем видеться».
В зал ввели Якушкина. Под перекрестными взглядами членов комитета Иван Дмитриевич оставался внешне спокоен, но сердце его билось тревожно.
— Господин отставной капитан, — обратился к нему Левашов, — нам все известно, мы хотим лишь проверить, насколько вы искренни и готовы ли признаться в ужасном преступлении против царствующего ныне императора, а также России. Нам известно, что заговорщики, решив убить Александра Первого, возложили эту тяжкую миссию на вас.
— Ошибаетесь, ваше превосходительство, — возразил Якушкин, — я добровольно согласился осуществить эту акцию.
Члены следственного комитета задвигались на своих стульях. Кто-то громко крякнул, словно у него запершило в горле.
— Назовите лиц, присутствовавших на том преступном совещании, — продолжал Левашов, не спуская глаз в Якушкина.
— Я поклялся товарищам, что никогда не предам их, поэтому не могу никого назвать.
— Странный аргумент! — насмешливо произнес Левашов. — В свое время вы присягали на верность императору, но это не помешало вам забыть свою присягу. Как это понимать?
Николай, который, задумавшись и как будто не прислушиваясь к разговору Левашова с Якушкиным, ходил из угла в угол, вдруг остановился в нескольких шагах от Ивана Дмитриевича и спросил:
— Вы не побоялись нарушить присягу, а боитесь преступить обещание, данное заговорщикам, давно утратившим честь и совесть? Почему вы не хотите пожалеть себя, капитан? И почему не задумываетесь над тем, что ждет вас на том свете? Что ответите вы перед престолом всевышнего, если изменили престолу на земле? Почему молчите? Отвечайте!
— Что я отвечу господу богу — не знаю. А следователям сказал все, что мог сказать, не нарушая честного слова, данного товарищам.
Николай взъярился:
— Что мне ваше мерзкое честное слово! Вы изменили своему государю, это тягчайшее преступление, какое только может совершить человек. Неужели вы этого не понимаете?
— Ваше величество, я вам не присягал.
— Замолчи! — оборвал его Николай, неожиданно переходя на «ты», и окинул сухощавую фигуру Якушкина ненавидящим взглядом. — Я заставлю тебя разговаривать с императором с должным почтением.
Якушкин, глядя в глаза Николаю, спокойно ответил:
— Императору тоже надлежит сохранять уравновешенность и спокойствие при разговоре с подданными.
— Увести его! — приказал царь флигель-адъютанту.
Якушкина увезли в крепость.
Комендант Сукин принял еще одного заключенного, прочитал записку: «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа так, чтобы он пошевелиться не мог. Поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея».
Допросы продолжались, на гауптвахту привозили все новых и новых заговорщиков.
Член следственного комитета генерал-адъютант Чернышев заглянул в зал как раз в тот момент, когда привезли графа Захара Чернышева, ротмистра-кавалергарда. Захара Чернышева арестовали в орловском имении Тагино, где он отдыхал с разрешения командира кавалергардского полка Апраксина.
Генерал-адъютант, выскочка и карьерист, в былые дни мечтал породниться со славным семейством своего однофамильца. Сейчас, подойдя к нему, он с удивлением протянул:
— Кузен, и вы замешаны в заговоре? А я и не знал...
Захар Григорьевич, презрительно взглянув на генерал-адъютанта, ответил:
— Быть может, я и виноват перед монархом, но вашим кузеном никогда не был и не буду.
Александр Чернышев проглотил обиду, однако затаил против надменного кавалергарда лютую ненависть. Стараясь сохранять хладнокровие и делая вид, что ничего не случилось, он подошел к адъютанту командующего Второй армией Ивашеву.
Александр Чернышев помнил Василия Петровича еще с тех пор, когда тот служил в кавалергардском полку. Однако Ивашеву теперь было не до разговоров. Он был растерян и очень устал: фельдъегерь вез его с берегов Волги, из Симбирска, и не давал отдыхать в пути.
Весть о смерти Александра Первого пришла в Симбирск накануне Нового года. Ивашев в это время ждал своего родственника, члена Общества Дмитрия Завалишина, — тот обещал приехать на встречу Нового года. Однако за день до приезда Завалишина в Симбирск явился из Петербурга жандармский офицер. Ивашев догадался, что жандарму дан приказ арестовать Завалишина. Надо было спасти его. Василий Петрович встретил лейтенанта Завалишина далеко за городом, рассказал о своих подозрениях и посоветовал как можно скорее бежать.
— Бери моих лошадей, где-нибудь спрячешься, пока все успокоится.
— Бежать немудрено, — отвечал Завалишин, — но горше смерти оказаться бесчестным в глазах товарищей. Каким именем, кроме предателя, назовут они меня? Скажут — испугался!
— Ну что же, тебе виднее, — согласился Ивашев.
Огородами, глухими тропинками он провел друга в дом. Запершись в кабинете, они тщательно просмотрели все бумаги, сожгли в камине компрометирующие документы.
Семья Ивашевых радостно встретила Завалишина. Новый год отпраздновали весело. Однако разговор все время вертелся вокруг смерти Александра Первого и престолонаследия.
На другой день нового года Завалишин сам явился к губернатору Симбирска Лукьянову, а через несколько часов тройка уносила его в сопровождении фельдъегеря в Петербург.
Ивашеву и в голову не приходило, что вскоре по той же дороге и с тем же почетом придется ехать в столицу и ему.
Откуда Василию Петровичу было знать, что из Петербурга на юг уже мчит фельдъегерь с приказом графу Витгенштейну арестовать адъютанта Ивашева и отправить его к начальнику
Главного штаба Дибичу...
В Тульчине Ивашева не оказалось, Витгенштейн написал губернатору Симбирска, а тот пригласил Ивашева в свою канцелярию. Там его и арестовали.
Родители не догадывались, что их единственный сын арестован как член Тайного общества.
В столицу выехал отец, Петр Никифорович, бывший начальник штаба, а теперь генерал-майор и шеф Таганрогского драгунского полка. Он надеялся снасти своего наследника.
Василий Петрович всю дорогу думал о том, как ему вести себя, как отвечать, признать ли за собой вину или заявить, что ни к какому Тайному обществу он не принадлежал, а узнал о нем только теперь. Но, увидев на гауптвахте много военных, среди них Захара Чернышева и других, понял, что отпираться бесполезно, следственному комитету все известно.
Он хотел было кое-что спросить у Захара Григорьевича, но его к нему не подпустили. Подошел генерал-адъютант Александр Чернышев, прищурившись, смерил Ивашева взглядом и иронически заметил:
— Ротмистру-кавалергарду не к лицу сидеть в каземате в подобной компании, Откровенно признайтесь во всем комитету, и я уверен — вас освободят. Не захотите же вы портить себе карьеру и жизнь.
Ивашев собирался было ответить генерал-адъютанту грубостью — пусть не вмешивается в его личные дела! — но сдержался. Сказал лишь:
— Не имею чести быть с вами знакомым.
Чернышев не дослушал, посмотрел как-то странно:
— Ничего, познакомимся...
Ивашева повели через многочисленные комнаты Зимнего дворца. Когда он очутился в зале, на миг блеснула надежда. Среди членов комитета он увидел военного министра Татищева, товарища своего отца.
Ивашев выслушал обычные, шаблонные вопросы Левашова, являвшиеся не чем иным, как вступлением к главному: когда и при каких обстоятельствах присоединился к заговорщикам и кто ввел его в преступное Общество?
Василий Петрович не отрицал, что принадлежит к Тайному обществу, но категорически отказался назвать имена тех, кто его познакомил с заговорщиками и принял в эту организацию. Он рассказывал неторопливо, взвешивая каждое слово, чтобы случайно не выдать кого-нибудь из друзей.
И опять на пороге смежной комнаты появился император и впился взглядом в Ивашева.
Василий Петрович смутился. Казалось, на него смотрели не живые глаза, а застывшие, даже ледяные.
Император сделал шаг, второй, остановился напротив Ивашева.
В зале воцарилась тишина. Никто из членов комитета не смел пошевелиться, все замерли, только следили за каждым движением царя. А тот сосредоточенно рассматривал Ивашева.
— Сын генерала, шефа драгунского полка, — преступник! — словно выдохнул из себя Николай Романов, приняв величественную позу и высоко держа голову. — Пестелев выученик! Это он привлек вас, бывший кавалергард, к стае заговорщиков? Он?
— Нет, ваше величество, — хрипло отвечал Ивашев.
— А кто? Назовите злоумышленников! — приказал Николай, вперив взгляд в бледного Василия Петровича.
— Не могу! Честь офицера выше приказов императора, — произнес Ивашев, овладев собой.
— Молчать, изменник! — закричал царь, делая шаг назад. — Свинья ты, а не офицер! Честь! У государственных преступников не может быть чести. Даю тебе на размышление три дня. И если не напишешь мне про всех изменников престола нашего, то...
Он не докончил фразы, словно вдруг забыл, о чем только что говорил, и отошел к окну.
Стоял, молча разглядывая что-то на улице. И все в в зале молчали.
Прошло несколько напряженных минут, — казалось, минула целая вечность.
— В крепость! — бросил Николай, не взглянув в сторону Ивашева.
Левашов позвонил, вошел фельдъегерь и увел Ивашева.
— Продолжайте допрос, господа, — кивнул Николай членам комитета, — не буду вам мешать.
Дверь за ним закрылась, но все знали, что Николай в любую минуту может снова появиться в зале, чтобы выслушать очередного арестованного, смутить его своим неподвижным взглядом или обнадежить как будто ненароком брошенным словом.
Пестеля всю дорогу от Тульчина до Петербурга угнетала одна мысль: что известно царю об Обществе и его членах? Как спасти друзей?
На юге конспирация была поставлена неплохо, и Пестель надеялся перехитрить тех, кому новый император поручил вести следствие о заговоре во Второй армии. Главное, что беспокоило Пестеля, — кто еще из товарищей арестован. Может быть, только он? Как узнать?
Павла Ивановича тщательно охраняли. В Тульчине он сидел за глухими стенами бывшего монастыря, куда не долетал ни один звук, — там невозможно было узнать в событиях, происходивших в мире. Неизвестность особенно докучала ему, а нужно было сохранять присутствие духа при любых обстоятельствах. Ведь теперь на каждом шагу его поджидали непредвиденные случайности, которых хотя и нельзя было избежать, однако следовало спокойно воспринимать. Пестель понимал, сколь многое зависит от того, как и что он будет отвечать следователям.
«Спокойствие — это победа! Это та стена, за которой можно спрятаться в решающий момент», — постоянно твердил он себе.
Сидя в одной из комнат Главного штаба, Павел Иванович ждал, когда наконец начнется следствие. Ожидание — самая тяжкая мука для человека, судьба которого зависит от воли других.
Нет ничего хуже неизвестности. Неизвестность отнимает последние силы, истощает терпение, точит, как шашель дерево. Человек постепенно слабеет, становится беззащитен, и тогда делай из него что хочешь. Он уже не способен к сопротивлению и может встать на путь предательства, лишь бы его оставили в покое, не терзали душу.
Наверное, этот метод был главным оружием, с помощью которого следственный комитет надеялся сломить сопротивление руководителей Общества, отличавшихся недюжинной волей.
Николай знал, кого назначить в следственный комитет, кому поручить эту политическую акцию, на кого возложить ответственность. Он прекрасно понимал, что в небезопасной игре с дворянством нельзя переигрывать: это шутки с огнем. Дворянство в России — сила, которая сажает монархов на трон и сбрасывает с него, если они больше не нужны. Поэтому Николай, желая жестоко отомстить за четырнадцатое декабря, собирался сделать это чужими руками, чтобы не озлобить дворянство и расправе над заговорщиками придать законный вид. Пусть не он, Николай, а закон покарает аристократов. И покарает жестоко, невзирая на родовитость, чины и старые заслуги перед престолом.
Эта мысль не покидала его все дни, пока шло следствие. А оно выявляло все новых участников заговора. Вот какие глубокие корни пустило либеральное Общество, замахнувшееся — подумать только, до чего дошло! — на монархический строй в России!
Генерал-губернатор и полицмейстер каждый день докладывали Николаю о настроениях в столице, начальник Главного штаба барон Дибич сообщал о положении в армии, а секретарь следственного комитета Адлерберг — о том, как идет допрос арестованных.
— Вчера полковник Вятского полка Павел Пестель, — четко и неторопливо произнося слова, говорил Адлерберг, — заявил, что царствующему ныне монарху не присягал, ибо был арестован в Тульчине тринадцатого декабря, до того, как пришло сообщение о восшествии на престол нового императора. Пестель рассказал, что до двадцати лет воспитывался в доме родителей, а в тысяча восемьсот пятом году его с братом, ныне полковником Кавалергардского полка, отправили в Гамбург, оттуда в Дрезден. В тысяча восемьсот девятом году он вернулся в Роесию. В те годы его воспитанием занимался Зейтель, который, поступив на русскую службу, находился при генерал-губернаторе графе Милорадовиче...
«А графа уже нет, — думал Николай, слушая доклад секретаря. — Пуля Каховского могла бы пробить мою грудь, и тогда я лежал бы в гробу вместо Милорадовича. Жаль любовницу графа, балерину Телешову... Впрочем, она недолго будет носить траур, найдет себе другого графа».
— «...Пестель рассмотрел развитие политических и общественных идей, — продолжал читать протокол допроса Адлерберг. — Говоря о положении народа, он признал, что его всегда очень беспокоило рабство крестьян, а также привилегии аристократии, стоящей между монархом и народом. Аристократия ради собственной выгоды скрывает от монарха истинное положение его подданных в России...»
«Это страшный злодей, — думал Николай о Пестеле. — Человек незаурядного ума, решительный, имеющий влияние в армии. Такого нельзя оставлять в живых. Нам двоим тесно в империи...»
— «...Я сравнивал могущество Рима в дни республики с его печальной участью, когда он находился под властью императоров», — читал Адлерберг показания Пестеля.
«Ты сравнивал! А я сровняю тебя с землей, и никто не узнает, где похоронен твой прах».
— «...Капитан Майборода подтвердил, что Пестель на совещаниях Общества говорил: русский народ не является принадлежностью или собственностью какого-либо лица или семьи; наоборот, правительство — принадлежность народа, ибо оно существует для блага народного, а не народ для блага правительства. Пестель считал нужным создать Временное верховное правительство и обнародовать «Русскую правду». Во избежание разброда и недоразумений Временное правительство должно было выделить в каждую губернию по одному человеку, который находился бы там во время выборов депутатов в палату представителей».
«Да, это сильный и страшный враг, не только мой, но и русского престола. Он — стержень заговора. Если бы Пестель был на месте Трубецкого, я бы сегодня никого не допрашивал, а сидел в крепости или даже лежал в могиле».
— «...Далее Майборода показал, что Пестель высказывался за уничтожение царской семьи. Но каким образом намерены были осуществить этот преступный план — объяснить не мог».
Адлерберг на минуту прервал чтение и взглянул на Николая:
— Ваше величество, об этом замысле знали Юшневский, князь Волконский, подполковник Сергей Муравьев-Апостол. Я уверен, что многое известно майору Лореру, который пользовался полным доверием Пестеля, как о том свидетельствует Майборода. Капитан советует допросить майора с пристрастием...
Николай недовольно перебил его:
— Мы не Малюты Скуратовы, чтобы прибегать к пыткам на допросах. Для того чтобы разрушить планы заговорщиков, следует устроить им очные ставки и добиться полного признания. Не останавливайтесь ни перед чем, пока не станут известны все без исключения подробности этого дела. Пестеля поместить в Алексеевский равелин.
Адлерберг наклонил голову в знак того, что приказ его величества будет выполнен.
В Тульчине Пестель, когда его допрашивал генерал-адъютант Чернышев, отрицал обвинение в принадлежности к Тайному обществу. Признался только в том, что некоторое время находился в масонской ложе. А это была вина небольшая: к масонам принадлежало много крупных военных, сановников, высших чиновников.
Когда Пестеля привезли в Главный штаб и приведи на допрос в следственный комитет, он продолжал придерживаться той же тактики. Флигель-адъютант Адлерберг зачитал Николаю ответы Пестеля:
«Никогда не был членом тайного общества в России и потому неизвестны мне ни цель, ни занятия такового».
«Не зная ничего о тайном обществе, не имею возможности сказать, кто наиболее действовал в образовании оного.
Законов сего общества я никогда не писал, и кто их писал, не знаю».
«Никто из офицеров командуемого мною полка не был принят в члены общества ни мною, ни кем-либо другим по моему поручению».
«Никто из членов тайного общества мне неизвестен».
Итак, от Пестеля ничего добиться не удалось. Однако это не обескуражило императора. Он поставил себе целью выявить всех заговорщиков, заставить их в покорности склонить перед ним голову и навсегда отказаться от самой мысли о республиканском устройстве в России.
И Николай решил вести себя, как раньше, призвав на помощь хитрость и коварство. С одними арестованными он обращался грубо, с другими — ласково. С одними разговаривал как с недругами и преступниками, кричал на них, топал ногами, с другими — дружелюбно, как с близкими товарищами, случайно, под влиянием государственных преступников, ввязавшимися в заговор.
Поведение Николая по-разному действовало на людей. Одних возмущал тон монарха, и они становились еще упрямее. Других Николай привлекал на свою сторону, и они пускались на откровенность, невольно предавали товарищей, будучи уверены, что поступают во благо и себе и тем, чьи фамилии называют следственному комитету. Разочарованные, утратившие надежду, они, сами того не понимая, раскрывали секреты, о которых правительство и не подозревало.
Лишь в одном Николай был ко всем одинаков: он разрешил писать ему письма. Писать откровенно, как близкому другу.
Николай неплохо разбирался в психологии человека, неожиданно брошенного в каменный мешок, где стены так глухи и немы, что никому не поведают о страданиях узника. В таких условиях иногда даже сильные духом в конце концов теряют волю, проявляют покорность и без утайки рассказывают о своих действиях, чтобы любой ценой купить себе свободу. А слабые духом могут и предать.
И Николай не ошибся: из Петропавловской и других крепостей все чаще приходили к нему письма от заключенных. Были среди этих писем просьбы о помиловании, императора умоляли не оставлять сиротами детей, которые не должны отвечать за вину отца. Но попадались и письма совсем другого содержания.
Каховский, хотя и раскаивался, писал Николаю, что даже люди, преданные новому монарху, не оправдывают его пристрастия к муштре: эту слабость русских государей весь народ давно возненавидел. «Армии муштра очень тяжела, все недовольны, — указывал он. — Почему бы вам не задуматься над этим, ваше величество? Огромные средства тратятся на содержание генерал-губернаторов с их штатами. Признаюсь, сколько ни пытался, никак не мог понять: зачем нужны генерал-губернаторы во внутренних губерниях страны? Никакой пользы от них не вижу...»
Якубович описывал тяжелое положение крестьян и солдат. Он утверждал, что вся тяжесть налогов и повинностей, вся расточительность дворянства мучительным бременем ложатся на это почитаемое, но несчастное сословие. Нет защиты притесняемому, нет грозы и страха притеснителю. Солдат армии, охранитель внутреннего спокойствия и внешней целостности государства, должен служить двадцать пять лет. Оставляя отчий дом, а иногда жену, детей, он уходит в армию, не надеясь когда-нибудь вернуться в мирной жизни. Редко, очень редко можно без единой провинности прослужить двадцать пять лет. А совершив какой либо проступок, солдат по закону обрекает себя на вечную службу. Это самая страшная несправедливость, какую только можно выдумать для человека, разумнейшего из всех созданий на земле.
Николай внимательно читал письма, особенно те, в которых чувствовалась растерянность, чьи авторы каялись, умоляли о помиловании. Верной службой престолу обещали они искупить свою вину перед императором...
Но таких писем было не много. Большинство узников Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей оставались убежденными республиканцами, ненавидели Николая и молча сносили не только угрозы, но и кандалы и суровый режим.
Однако Николай был уверен, что и этих упрямцев в конце концов сломит. А если все же они не раскаются, похоронит их в равелинах безымянными узниками, и никто никогда о них не узнает.
Еще до восшествия на престол Николаю были известны все тайные пружины аппарата насилия, который используют самодержцы против своих политических врагов. А сделавшись императором, он мог уничтожить физически и нравственно любого инакомыслящего, закрутив потуже одну из этих пружин.
Всю жизнь Николай ненавидел образованных офицеров, насмешливо называя их «философами». Ему нравились такие военачальники, как бывший командир Семеновского полка Шварц, который, бывало, говорил своим подчиненным: «Вот вам три рекрута, сделайте из них одного солдата!» И подобострастные офицеры делали из троих одного — задавленного муштрой, битого-перебитого. Вынеся все муки и страдания, такой солдат превращался в механического исполнителя чужой воли. Из него умудрялись выбить человеческие чувства, требуя лишь безусловного выполнения артикулов, на которых была основана военная дисциплина.
А арестованные заговорщики в своем подавляющем большинстве обращались с подчиненными туманно, являлись противниками физических наказаний, заводили в полках новые порядки и, по мнению Николая, разваливали армию.
Следственный комитет работал напряженно. Уже были переполнены все гауптвахты, не хватало места в крепостях, узников приходилось увозить далеко от столицы и размещать по острогам прибалтийских городов. Создавалось такое впечатление, что поток противников монархии никогда не иссякнет и даже не уменьшится.
Николаю казалось, будто в России не осталось ни одного дворянского семейства, в котором кто-либо не был замешан в заговоре или не сочувствовал реформаторам. Это его пугало. Он боялся возмущения дворянства, однако не мог ему простить республиканских идей, которые столь многих дворян привели на Сенатскую площадь.
Однажды доставили на допрос полковника лейб-гвардии Булатова.
Александр Михайлович Булатов был старинным другом Кондратия Федоровича Рылеева: в отроческие годы они вместе учились в кадетском корпусе. Булатов участвовал в Отечественной войне и заграничных походах, был награжден за храбрость орденами и золотой шпагой. Булатов был принят Рылеевым в Северное общество незадолго до восстания на Сенатской — девятого декабря. Четырнадцатого декабря он должен был во главе Финляндского полка и гренадеров овладеть Петропавловской крепостью, но своего обещания не выполнил. Вечером того же дня он сам явился в Зимний дворец, где и был арестован.
Булатов был подавлен. Сутулился, словно ему на плечи давила непосильная тяжесть и он никак не мог выпрямиться. Своим внешним видом он напоминал сейчас простолюдина с петербургской окраины, а не человека военного.
Николай остановился у стола, за которым сидели члены комитета, и вперил взгляд в своего уже, по-видимому, морально уничтоженного недруга.
— Полковник, и вы здесь?! — воскликнул он. — Вас это не удручает?
В его тоне звучало скорее не удивление, а ирония по отношению к растерявшемуся, побежденному противнику.
Булатов поднял голову и, смерив взглядом стоявшего в горделивой позе нового императора, ответил:
— Меня удивляет, ваше величество, что вы находитесь в этом зале, а не лежите вместе с Милорадовичем в могиле. Четырнадцатого декабря на Дворцовой площади я стоял неподалеку от вас и держал под шинелью заряженный пистолет, чтобы вас убить. Но так и не выстрелил. Теперь жалею, что не сделал этого.
Члены следственного комитета замерли от ужаса, затаили дыхание. Они не верили своим ушам. Как? У этого сломленного узника хватило наглости — или мужества? — бросить столь страшные слова в лицо императору!
Николай сделал шаг от стола и надрывным голосом закричал:
— Ты заживо сгниешь в той самой крепости, которую собирался захватить силою! Я поступлю с тобой так, что ты позавидуешь преступникам, павшим мертвыми на Сенатской. Ты будешь ползать на коленях, умоляя о помиловании, но никогда его не дождешься!
Булатов стоял спокойно, казалось, до его сознания не доходили угрозы Николая Романова.
— В равелин! — орал царь. — Кандалы на ноги и на руки! Посадить на самый суровый режим. Вон отсюда!
Левашов позвонил, вошел верзила фельдъегерь и вывел полковника из зала.
Николай долго не мог успокоиться. Ходил по паркету, а казалось — ступал по раскаленным углям.
— Всех их нужно уничтожить, чтобы спокойно жить и спать, — произнес он вслух, словно доказывая кому-то свою правоту. — Разве один Булатов так ненавидит монархию? Все они одинаковы. Только Булатов высказался откровенно, а другие бунтовщики хотят меня обвести вокруг пальца. Но им это не удастся. Они увидят, что у российского монарха твердая рука.
В тот же вечер прибыл курьер с письмом командующего Первой армией графа фон дер Остен-Сакена. Граф сообщал о восстании в Черниговоком полку. А через час-другой гонец доставил рапорт графа Витгенштейна.
Явился за новыми распоряжениями начальник Главного штаба барон Дибич. Он теперь почти не бывал дома, в Шепелевском дворце, проводя все время в Зимнем.
Известие о восстании на юге очень напугало Николая. Там было расквартировано много полков, а главное — недалеко находилась граница. Повстанцы могли избежать заслуженной кары.
«Позор на всю Европу! Теперь любой сможет сказать, что Александр Первый был за свободную Европу, освобождал другие народы от власти узурпатора Наполеона, а при мне в России даже армия лишена свободы и ищет убежища за границей. Престиж наш будет подорван. Меня назовут тираном и деспотом, а не просвещенным монархом. Этого нельзя допустить!»
Как зверь в клетке, метался Николай из угла в угол. Но где спрячешься от этих предательских мыслей? У кого спросишь совета?
Он приказал Дибичу сейчас же отправить приказы обоим командующим армиями. Им предписывалось расположить свои полки так, чтобы повстанцы ни при каких условиях не смогли прорваться за границу.
Между Петербургом, Тульчином, Киевом и Могилевом днем и ночью носились курьеры, насмерть загоняя лошадей. Но тревога не проходила.
Николай написал о волнениях на юге брату Константину, советовал следить за поляками, а также немедленно арестовать и под охраной доставить в Петербург подполковника лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Михаила Лунина, который принадлежал к Тайному обществу и добровольно согласился убить императора, а может быть, и всю семью Романовых.
«В политическом отношении Россия проиграет, даже если восстание удастся подавить, — думал Николай, испытывая в душе неутолимую злобу. — Аристократы, дворяне в роли подстрекателей бунта! Позор! Когда восстают рабы — это неудивительно. Так всегда было, так будет и впредь. Еще в Риме рабы восставали против императоров. Но когда патриции призывают к восстанию чернь — это ужасно!»
Темная ночь заглядывала в окна дворца. Казалось, чьи-то глаза пронизывали тьму, и что-то ледяное, зловещее было в этом взгляде.
Из-за двери доносился голос Левашова — допросы продолжались.
...А Александр Михайлович Булатов, когда за ним заперли дверь камеры, посидел немного, уставившись взглядом в одну точку, затем встал и начал биться головой о стену. Вбежал дежурный. По лицу Булатова текла кровь. Его увезли в Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Обнаружилось воспаление мозга. Девятого января 1826 года Булатов скончался.
К Муравьевым-Апостолам в Хомутец на рождественские праздники всегда съезжались гости. Приезжали из ближних и дальних поместий, чтобы за дружеской беседой провести праздничные дни.
Хозяин имения Иван Матвеевич любил рассказывать о том времени, когда он был одним из воспитателей внуков Екатерины Второй — Александра и Константина. Любил вспоминать, как в царствование Павла Первого служил послом в Гамбурге, а при Александре Первом — в Испании...
Было что вспомнить старому дипломату и о своей жизни в Париже, о встречах с Наполеоном, о подарках императора Франции и о том внимании, какое он проявлял к семье Муравьевых-Апостолов.
Долгими зимними вечерами в уютной гостиной, обставленной старинной мебелью, приятно было послушать рассказы о давно минувшем.
Молодежь тоже не скучала в Хомутце: катались на тройках или бегали по заснеженному парку, прячась за деревья и громко хохоча.
Потому-то и весело было в Хомутце, что любой находил там развлечение по себе.
Кормили в Хомутце просто и вкусно. Каждый вечер играл оркестр, все танцевали. Иногда гостей развлекал хор из молодых и пожилых крестьян и крестьянок, исполнявших святочные, обрядовые или народные украинские песни, которые можно услышать на вечерницах или девичниках.
В этом году Русанову не особенно хотелось покидать свое имение и ехать к Муравьевым-Апостолам. Однако он не мог отказать дочери. Софья очень просила родителей провести рождественские праздники в Хомутце. Она подружилась с дочерьми Ивана Матвеевича. Хотя Аннет и Елена были старше ее, а Дуня и Елизавета еще подростки, в Хомутце эта разница в возрасте не ощущалась. Все чувствовали себя непринужденно, проводя время в увеселениях и танцах.
А еще Софья надеялась, что к Ивану Матвеевичу на рождество приедет сын — подполковник Сергей Иванович. И приедет, конечно, не один, в этом Софья не сомневалась. Ведь во время их последнего свидания Михаил Бестужев-Рюмин намекнул — и, разумеется, не без умысла! — что обязательно наведается в Хомутец вместе с ним, если позволит командир Полтавского полка. А тот еще ни разу не отказывал им в просьбе.
Поэтому, приехав с родителями в Хомутец, Софья каждый день втайне поджидала молодых офицеров. А когда как-то раз за обедом Иван Матвеевич похвастал, что самый младший его сын Ипполит получил чин и назначен служить во Вторую армию, причем до отправления к месту службы непременно заглянет хотя бы на несколько дней в Хомутец, Софья окончательно поверила в свое счастье: ведь братья обязательно захотят встретиться под родным кровом, а значит, вместе с ними приедет и Бестужев-Рюмин. Он же знает, что Софья будет ждать его в Хомутце. Правда, они не уславливались увидеться здесь, но сердце подскажет любимому. Тем более что Матвей Иванович, находившийся в отставке и постоянно живший в Хомутце, недавно отправился в Васильков. Не иначе как для того, чтобы пригласить на рождество Сергея Ивановича и Михаила Павловича. Это было совершенно ясно для Софьи.
Чего только не нарисует девичья фантазия, лишь бы хоть в мечтах встретиться с любимым! Софья каждый день ждала того, кто заполонил ее юное сердце.
Едва лишь зазвенят бубенцы — она порывается бежать на мороз, чтобы поскорее увидеть лучшего из офицеров, своего рыцаря Мишеля. Хорошо, что вовремя остановится, — хотя в Хомутце и не придавали особого значения условностям, все же делать этого не следовало. Девица должна вести себя, как подобает девице: быть сдержанной, гордой, держаться с достоинством и никогда не проявлять своих чувств, не давать воли эмоциям.
Всякий раз, когда входил слуга и докладывал о приезде нового гостя, он, сам того не ведая, доставлял Софье неприятные минуты. Но этого никто не замечал.
Кончались рождественские праздники, а сыновья Муравьева-Апостола почему-то не приезжали, и от них не было вестей. Даже не поздравили с рождеством старого отца, мачеху и сестер. То ли письма застряли в дороге, то ли что-нибудь случилось?
Если бы была жива их родная мать, может быть, ее тревога передалась бы гостям. Но мачеха, Прасковья Васильевна, урожденная Грушецкая, и сама не волновалась, радушно принимая и развлекая гостей, и другим не давала грустить.
Однажды пасмурным днем проезжий поручик сообщил о смерти императора Александра в Таганроге. И сразу точно тень упала на светлый дом Муравьевых-Апостолов, праздничное настроение улетучилось.
В тот день только и говорили, что о претенденте на престол. Поручик всех удивил, сказав, что в полках сначала присягнули Константину, а теперь вновь присягают Николаю.
Иван Матвеевич сначала не поверил.
— Как же это? — переспросил он. — Почему переприсяга? И почему Николаю? Тут что-то не так.
— Все так, как я вам говорю! — Гость рассердился, что ему не верят. — Повсюду развозят присяжные листы. Много полков присягнуло вторично.
Иван Матвеевич пожал плечами: пожалуй, раз речь идет о царствовании, все возможно. Тут что угодно признают законным, если того пожелает дворянство или дворцовая камарилья.
— Все-таки плохо жить в глуши, — заметил Русанов: ему хотелось побольше узнать о событиях дня. — В столице, наверное, уж позабыли о том, что мы с вами сейчас только обсуждаем.
— Верно, — согласился хозяин имения, — к нам дорога не близкая, вот и опаздывают новости. Да еще зимой. Хорошо бы сейчас перенестись в Петербург и все узнать досконально. Но, к сожалению, люди пока не научились летать или переговариваться на далекое расстояние.
— И никогда не научатся, ибо это противоестественно, — сказал Русанов.
Гости приуныли. Кое-кто намекнул, что пора и по домам. Но хозяин имения запротестовал.
— Никуда я вас не пущу, господа! — решительно заявил он. — Как же мы будем в одиночестве встречать Новый год? Нет уж, давайте вместе. Забудьте пока о своих очагах. Мой дом — ваш дом! Пусть черная весть о смерти императора не омрачит нашей радости в день рождения Христа. Все смертны, даже монархи. А живым — жить! Итак, будем веселиться, как велел нам господь бог.
Софья упала духом. «Теперь из полков никого не отпустят», — решила она, прислушиваясь к беседе старших.
Ей сделалось грустно. Румянец пропал, глаза потускнели.
Иван Матвеевич долго не мог заснуть в ту ночь. Все думал о новом императоре. Константина он не любил. Много унаследовал тот от своего отца — Павла Первого. Такой же жестокий самодур, мстительный, хитрый.
А впрочем, кто из сыновей Павла лучше? Все они отличаются друг от друга разве что внешне; в них есть нечто общее, присущее только Романовым. Ничего русского давно не осталось у них ни в крови, ни в поведении. Преобладают прусский дух, прусские черты характера, чуждые русскому человеку.
И припомнилось старому царедворцу, как офицер Кавалергардского полка Охотников волочился за императрицей Елизаветой Алексеевной. Этот роман тянулся около двух лет. При дворе, в тесном кружке, только и говорили, что о любовной связи императрицы с красавцем кавалергардом и о ревности Константина, неравнодушного к невестке. Вот тогда-то и проявилась одна подлая черта в натуре Константина. Не сумев победить соперника ни умом, ни красотою, Константин подослал убийцу, и тот ранил Охотникова кинжалом. От раны кавалергард скончался.
Иван Матвеевич вздохнул. «И что только не взбредет в голову долгой зимней ночью, когда за окном тоскливо воет пурга...»
У императрицы Елизаветы от Охотникова была дочь. Однако не дал ей бог счастья, не прожила и двух лет, как переселилась в мир иной...
«Вот как оно бывает в жизни!.. Но почему все-таки переприсяга? Странно. Непонятно, Ну ничего, приедут сыновья, все расскажут», — подумал Иван Матвеевич, ворочаясь в постели и прислушиваясь к вьюге.
Новый год встречали с шампанским. В полночь Иван Матвеевич поздравил гостей и домашних, пожелал того, чего всегда желают в этот чудный час.
Заиграла музыка, закружились в танце почитатели богини Терпсихоры, приветствуя молодой год вальсами и мазуркой. И все забыли о смерти старого императора и о присяге новому. Но Софья весь вечер была грустна — лишь ее одну по-настоящему огорчила смерть Александра: ведь из-за этого не приехал на праздники Бестужев-Рюмин.
А накануне отъезда Русановых из Хомутца пришла страшная весть о восстании Черниговского полка, о смерти Ипполита, об аресте Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов.
Очевидец рассказал все, что знал сам и что слышал от других. Назвал фамилии нескольких арестованных, которых увезли в столицу, чтобы судить там военным судом.
Это было как гром среди ясного неба. Все боялись, как бы Ивана Матвеевича не хватил удар. Горько рыдали сестры, не могли сдержать слез и гости.
Услышав, что Бестужева-Рюмина тоже отправили в столицу как бунтовщика, Софья, точно подкошенная, упала на пол.
Еще недавно в этом доме бурлило веселье, а теперь можно было подумать, что сюда не нынче завтра привезут покойника, и, должно быть, не одного...
Еле живую увезли родители Софью в свою Русановку. Они были напуганы всем услышанным и тревожились за жизнь дочери.
С превеликим трудом добрался Сухинов до Александрии, где его брат Степан служил в уездном суде. Несколько дней лежал, измученный не столько дорогой, сколько заботами о том, где спрятаться от царских жандармов. Слишком много было пережито за последнее время. Где друзья, единомышленники? Одни пали мертвыми, даже не успев воспользоваться оружием. Других увезли гусары Гейсмара. Все кончено. Какая трагедия! Мечты рухнули, в душе горечь и разочарование.
«Что же делать? Как жить дальше? — мучила, не давала покоя мысль. — Жить волком, на каждом шагу ждать ареста? Потом допросы, суд, наказание...»
Не проходило часа, чтобы Сухинов не вспоминал товарищей, за которых болел всем сердцем. Иногда он раскаивался, что бежал с поля боя. Честнее было бы остаться с друзьями и нести один с ними крест.
«Но разве я помог бы им этим? Сидел бы, как они, закованный в железо, вот и все!»
Он теперь еще больше ненавидел монархию и аристократов, презиравших всех, кто не принадлежал к их касте, у кого не было ни крепостных, ни таких богатств, какими владели они, эти современные крезы. Если бы восстание победило, Сухинов, кажется, не пощадил бы ни одного крепостника, Упрямо, настойчиво боролся бы за свободную Россию, за всеобщее равенство. Но вместо этого жизнь послала ему полутемную каморку в доме брата, где приходилось скрываться от людских глаз.
Особенно плохо было по ночам. Печально выл в трубе ветер, и от его завываний на душе становилось так тяжело, словно хоронили кого-то призраки в белых одеждах, всю ночь носившиеся за стенами хаты и настойчиво добивавшиеся, чтобы их пустили в каморку.
Тоска и неизвестность изводили Сухинова. Ему чудилось, что везде рыщут жандармы и тайные шпионы. И порой не хотелось жить. Лучше все разом кончить и уйти в небытие. Лучше самоубийство, чем смерть от руки палача. Да прежде, чем повесят или отрубят голову, еще измучают допросами, судами...
Чтобы не впасть в отчаяние, Сухинов внушал себе, что умереть дело нехитрое. Остановится сердце, погаснет дневной свет — и конец. А вот попробовать бороться, доказать недругам, что они бессильны, что ты их не боишься, так как сильнее их, даром что за ними полиция, армия, а ты маленькая искорка, которую легко погасить, — и все-таки ты горишь, ты существуешь, сопротивляешься, не складываешь оружия и, назло врагам, живешь, ходишь по земле, издеваешься над ними, плюешь на их силу!.. Тебя могут уничтожить, но кто тебя одолеет? Побежден тот, кто отчаялся, смирился, упал на колени, дрожит за собственную жизнь. А тот, кто отвергает покорность и гордо несет свою голову, тот непобедим!
Рвется в окно буран, стонет, жалуется за стеной бесконечная ночь. Всматривается в темноту Сухинов, словно стараясь увидеть сквозь холодную пелену ночи неведомое — свое будущее.
Однажды, вернувшись со службы, Степан с грустью сообщил, что Сухинова Ивана Ивановича, бывшего поручика Черниговского полка, повсюду ищут, за его поимку назначена награда.
— И на меня, знаешь ли, в суде косо смотрят. Как же — брат государственного преступника! — вздохнул Степан.
Он сочувствовал беглецу, сострадал ему, но боялся за свое место. Уволят со службы — чем будешь жить?
— Пожалуй, я уйду от тебя, брат, а то накличу беду на твою голову, — сказал Иван Иванович.
— Куда же ты пойдешь без паспорта? — безнадежно махнул рукой Степан, печально глядя на него. — Сразу попадешь в когти ежели не явной, то тайной полиции. Или задержат те, кто специально занимается охотой на людей, чтобы заработать на кусок хлеба. Деньги-то всем нужны.
— Не могу я всю жизнь просидеть в этой каморке! Сойду с ума! Лучше пусть кто-нибудь получит за меня награду. чем прозябать в этом гробу. Хоть так принесу пользу людям.
У Сухинова сверкали глаза, на бледном, бескровном лице горел болезненный румянец.
— Нужно что-нибудь придумать, — словно обращаясь к самому себе, сказал Степан. — Хорошо бы выправить фальшивый паспорт. Под чужой фамилией можно скрыться от недреманного ока полиции. Да, вот единственный выход.
Эта мысль захватила их, с тех пор они прямо-таки жили ею.
Каждый день, вернувшись со службы, Степан рассказывал брату о том, что происходит в уездном суде, о распоряжениях начальства, о слухах, доходивших в этот затерянный в степи городок. Очевидцы передавали, что во все стороны скачут фельдъегери, возят арестованных, в Могилеве и Белой Церкви, говорят, созданы следственные комитеты и в столицу отправляют даже кое-кого из нижних чинов, закованных в железо.
Далеко было до Петербурга, однако и в эту глушь долетали отголоски жестокой расправы Николая над повстанцами.
Как-то раз Степан принес домой бумагу, в которой некоему обывателю предписывалось явиться в суд. Внимательно рассмотрев подписи судьи, секретаря, протоколиста, братья подделали их. А скоро Степан тайком притащил со службы печать. Ее приложили к паспорту на имя коллежского регистратора Ивана Емельянова.
— Привыкай к новой фамилии, — промолвил Степан, протягивая брату документ. — Пусть она честно служит тебе. А там улягутся страсти, и, может быть, новый император смилуется над восставшими, окажет свою царскую милость. Простит, как Иисус на кресте простил разбойника.
Иван Иванович отрицательно покачал головой и заметил, что милостивых царей вообще не бывает, а нынешние венценосцы предпочитают видеть своих недругов в петле или расстрелянными на куртине крепости, нежели живыми,
— Меня новый император рассматривает как своего личного врага, потому что я посмел поднять руку на монархию. Таким не прощают. Когда у пса отнимают кость, он кусается.
...Сухинов приехал в Дубоссары и остановился в доме Абрама Шамикиса. Сказал, что хочет найти место канцеляриста или учителя.
— Ой, пан, — безнадежно покачал головой хозяин, — где же вы найдете службу, чтобы заработать себе на кусок хлеба? Кому нужен учитель? Разве что богатому. А бедного жизнь научит получше любого раввина, по себе знаю.
— А может быть, мне повезет, — пошутил Сухинов. Он старался держаться свободно, независимо, чтобы не вызвать никаких подозрений.
— Дай-то бог, — вздохнул хозяин, дергая себя за длинные пейсы. — Да поможет бог такому почтенному пану! Ведь без службы никак нельзя. Разве я не понимаю? А что, пан будет столоваться у меня или где-нибудь в другом месте?
— Если не возражаете, то лучше у вас, — сказал Сухинов.
Теперь он каждый день обходил немногочисленные учреждения и конторы городка — вакантного места нигде не было. А быть может, просто не хотели брать незнакомого человека, да к тому же без протекции. Сухинов заплатил за квартиру и стол за две недели вперед и не без тревоги думал о том, как жить дальше. В кармане оставался один рубль — с таким капиталом долго не протянешь. Он опять и опять искал работу — безрезультатно. Никому не нужен был ни писарь, ни учитель.
Однажды Сухинов встретил чиновника Евтимия Кристича, у которого когда-то спрашивал о месте. Кристич прищурился и, окинув его взглядом, спросил:
— Ну что, господин коллежский регистратор, так и не нашли себе пристанища в какой-нибудь канцелярии? И долго вы будете бродить без службы? А жить-то на какой капитал? Или вы обеспеченный человек и имеете кое-что про черный день?
От колючего взгляда Кристича сделалось не по себе. Он точно издевался, точно знал правду о Сухинове, новоиспеченном коллежском регистраторе.
— Особенными капиталами не обладаю, а службу когда-нибудь найду, — спокойно ответил Иван Иванович, презрительно взглянув на докучливого чиновника. — Во всяком случае, денег у вас не попрошу, напрасно беспокоитесь!
Кристич понял, что сказал лишнее, попробовал замять неприятный разговор, превратить все в шутку:
— Ну вот вы и обиделись! А я не имел в виду ничего дурного, спросил о ваших делах без всякой задней мысли. Как у коллеги, так сказать, товарища по несчастью. Из сочувствия. Ведь я и сам околачивался, ако многострадальный Иов, по градам и весям, пока наконец не обосновался здесь. Не сердитесь. Может быть, я помогу вам свить гнездышко в граде сем под смоковницей. Я всю жизнь помогаю ближним, как бог велит поступать грешным рабам его. Вы еще не знаете меня, господин коллежский регистратор. А я к вам всей душой...
Еле отвязался от него Сухинов.
«И чего он пристал ко мне? — подумал он, испытывая чувство беспокойства от встречи с Кристичем. У того была хитрая физиономия хорька, Сухинова так и подмывало влепить ему пощечину. — Подозрительный субъект. Однако он прав: чтобы не опухнуть с голоду и не кончить свои дни под забором, нужно иметь деньги. Но где найти службу? Перебраться в другой город? Одного рубля, даже чтобы доехать, не хватит. А чем питаться в дороге?»
Поручик решил написать брату о своем житье-бытье и попросить у него пятьдесят рублей, чтобы куда-нибудь переехать. Может быть, в другом месте судьба ему улыбнется и удастся поступить на службу.
Сухинов не знал, что в Александрию прибыл чиновник особых поручений Рубанович, которому было поручено в помощью полиции найти военного преступника поручика Сухинова. За перепиской Степана следили, проверяя, кому он отправляет письма и кто пишет ему.
Письмо Ивана Ивановича сразу попало в руки полиции. Рубановичу приказали немедленно выехать в Дубоссары и арестовать коллежского регистратора Ивана Емельянова, то есть поручика Сухинова.
Как только Рубанович прибыл в Дубоссары, с ним встретился Кристич, тайно следивший за всеми приезжими. Они условились, что арестуют преступника тихо, без шума.
Схватили Сухинова ранним утром. Проснулся, а на пороге и у кровати стоят полицейские и двое в штатском. Один из них — знакомый чиновник Кристич.
— Поручик Сухинов, именем его императорского величества...
— Я коллежский регистратор Иван Емельянов... — попробовал было протестовать Сухинов.
Но чиновник попался опытный, он не пожелал его слушать.
— Вы бывший поручик Черниговского полка Иван Иванович Сухинов. Вы были зачислены в Александрийский гусарский полк, а во время разгрома восстания вблизи Трилесов бежали. Игра окончена, гусар!
Отпираться не было смысла, Сухинов начал одеваться.
Хозяин смотрел на своего постояльца как на пришельца с того света.
Ивана Ивановича под конвоем отправили в Одессу, а оттуда — в Могилев, в штаб Первой армии. Сопровождал его Кристич. Из приветливого и сочувствующего человека он сразу превратился в грубого и жестокого тюремщика: не давал арестованному отдыхать, торопился как можно скорее добраться до Могилева и сдать Сухинова в штаб.
В короткие минуты отдыха, когда меняли лошадей, Кристич хвастал, что получит за поручика деньги в размере годового жалованья, а может быть, и больше, — нисколько не стыдился признаваться в этом.
Сухинов смотрел на Кристича с отвращением, говорил, что Иуда Искариот тоже продал Христа за тридцать сребреников, но потом удавился.
Кристич оправдывался:
— Сравнил! Иуда продал сына божьего язычникам, а я поймал врага престола, исполнил священный долг перед монархом, которому присягал. — Он гордился своим поступком. — Бог за пойманного преступника прощает десять грехов, а царь земной награждает верных слуг своих. Теперь и по службе буду отмечен. А ты заслужил анафему, ако тать и злоумышленник. Да коли хочешь знать, я следил за тобой с первого дня, как только ты появился в Дубоссарах. Глаз с тебя не спускал. Нюхом чуял, что ты
неспроста к нам приехал. И, как видишь, не ошибся. У меня от природы нюх на преступников. Только гляну — вижу, кто таков!
Сухинову противно было смотреть на Кристича, однако эти излияния его не сердили: что поделаешь, так Кристича учили поступать с малолетства. Ведь в волчьей стае, чтобы выжить, нужно самому стать волком.
Болели старые раны, дорога отнимала последние силы, надо было хоть на один день остановиться. Но Кристич позволял отдыхать ровно столько, сколько требовалось, чтобы покормить лошадей.
На почтовой станции под Житомиром Сухинов заявил, что не поедет дальше до тех пор, пока не отдохнет по-человечески.
Кристич взъярился:
— А я тебя не спрашиваю! Ты арестант и потому обязан выполнять мой приказ. Понял?
— Я прежде всего человек! Кто тебе позволил так разговаривать со мною?
— Мое право вот здесь, — глумился тот, похлопывая рукой по карману мундира. — Прикажу — силою посадят в сани и повезут. Велика цаца!
— Нет, я сначала убью тебя, гадина! — не выдержал Сухинов.
Схватив со стола нож, он бросился на Кристича и, наверное, зарезал бы его, но сильные руки конвоиров удержали поручика. У него отняли холодное оружие.
Напуганный чиновник не произнес больше ни слова. Однако, сдавая его в штаб Первой армии, доложил барону Толю о случае на почтовой станции, охарактеризовав поручика как неисправимого злодея, намеревавшегося бежать.
— Привезенного преступника Ивана Сухинова заковать в кандалы, — приказал Толь адъютанту. — Посадить отдельно и никого к арестованному не допускать.
Сергей Муравьев-Апостол, как и Пестель, сначала отрицал обвинение в участии в заговоре. А относительно восстания Черниговского полка заявил, что роты поднимал он один, без всякого заранее составленного плана, без подготовки, — все началось внезапно.
— Назовите участников заговора, — приказал Левашов.
Но Сергей Иванович отказался:
— Соучастников на ниспровержение государственного правления не имел, а потому выставить их имена не могу. Действовал я один.
Он хотел спасти друзей и никого не называл.
— Мною никто из нижних чинов, фельдфебелей, унтер-офицеров и из бывших семеновских солдат в заговор введен не был.
Следователи знали, что солдаты любили Сергея Муравьева-Апостола. Это бесило их. В ответ на их вопросы Сергей Иванович отвечал:
— Кроме хорошего отношения и помощи, я никаких средств не употреблял, чтобы внушить к себе чувство привязанности у людей Черниговского полка.
Однако надежды Сергея Муравьева-Апостола на то, что своим молчанием он облегчит участь других, не оправдались: следственный комитет и Николай Первый уже многое знали. Клубок постепенно разматывался, выявлялись все новые члены Общества, за ними немедленно отправлялись фельдъегери.
Князь Волконский показал, что в 1823 году в Киеве на Контрактах и в Каменке у Давыдова велись разговоры о республиканском устройстве в России и убийстве императорской семьи. На другом совещании, где речь шла об убийстве Романовых, присутствовали он, Волконский, а также Давыдов, Пестель, Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол. Пестель в декабре 1825 года назначил восстание на май 1826 года.
К князю Волконскому, как и к Трубецкому, Николай отнесся ласково. Не кричал, только выговаривал:
— Хоть бы пожалели свою мать-гофмейстерину, не позорили ее седую голову. Герой Отечественной войны, славного рода — и вдруг присоединился к преступникам. Нонсенс, месье!
— Ваше величество, нельзя лишить человека права на политические взгляды, пусть даже ошибочные, но его собственные. Человек всегда обладал способностью мыслить.
— Молчите! Мне стыдно за вас. В России никогда не утвердится республиканский строй. Это детище вольнодумцев и либералов, а не жизненная потребность империи. В России две святыни — церковь и монарх! Они неприкосновенны, а вы подняли на них руку. Задумывались ли вы, князь, над тем, что подобное преступление заслуживает тяжкой кары?
— Да, ваше величество, я готов принять ваш суровый приговор...
— Не я буду судить, а закон, — оборвал Волконского Николай. — Он все взвесит, а главное — учтет, насколько вы искренни, князь. Еще раз говорю: мне вас жаль. Блестящая карьера, молодая жена! А вы всем пренебрегли — ради чего? Подобной глупости, бывший генерал, я от вас не ожидал.
Со слов штаб-лекаря Вольфа Николай знал, что в Тульчине заговорщики собирались у Пестеля, пока он там жил. Чаще других у него бывали Юшневский, Барятинский, Ивашев, братья Крюковы, Басаргин, Аврамов. Приезжали Лунин и Якушкин.
«Значит, в России много недовольных монархическим строем. Сколько заговорщиков выявлено, а сколько их затаилось! Это же враги престола. Неисправимые злодеи!»
А тут еще доложили об истории с подполковником Левицким-Лазницким, который после ареста Тизенгаузена был назначен на должность командира Полтавского полка. Во время полкового смотра прапорщик Степан Трусов, стоявший на Слуцком форштадте Первого батальона, выбежал вперед со шпагой в руке и закричал, обращаясь к солдатам:
— Братья! На штыки злодеев! Добудем своими руками свободу и независимость. У нас в России не император, а тиран! Почему мы должны подчиняться палачам и грабителям? Бейте их без сожаления, как гадюк!
И первый кинулся на нового командира полка Левицкого-Лазницкого.
Прапорщика схватили, посадили на гауптвахту, но на присутствующих его призыв подействовал. Еще минута — и могло бы вспыхнуть то же самое, что в Черниговском полку. Все были возбуждены, всех охватил гнев, а новый командир побледнел и растерялся.
Николай с ужасом читал рапорт о происшествии в Полтавском полку. «Вот какие плевелы взошли в армии! — думал он и до боли сжимал кулаки, шагая по кабинету, — Выжгу каленым железом, с корнем вырву крамолу. Пусть тысячи погибнут ради того, чтобы в моей империи воцарились покой и повиновение».
И приказал:
— Судить злодея прапорщика Трусова при Полтавском полку в двадцать четыре часа. Лишить дворянства, перед всем полком переломить над его головой саблю, заковать в кандалы и отправить в Бобруйскую крепость. Держать в каземате как можно строже.
Аресты на Украине не прекращались. Командир корпуса генерал-лейтенант Рот приказал подпоручику Аполлону Веденяпину арестовать подпоручика Восьмой артиллерийской бригады Петра Борисова — руководителя «соединенных славян». Но оказалось, что и Веденяпин замешан в заговоре. Скоро его тоже арестовали и после допроса в штабе армии повезли в Петербург.
Оба брата Борисовы держались гордо и независимо, признали свою вину, но отвечали на вопросы следователей так, чтобы не выдать никого из товарищей.
Старший, Андрей Борисов, заявил следственному комитету:
— Я не нахожу в себе вольнодумства и не разделяю либеральных идей, однако можно ли не обращать внимания на то, что ясно и без постороннего влияния? Общечеловеческий глас недовольства заставил меня задуматься, и по здравом размышлении я пришел к выводу, что все зло исходит от несправедливых требований правительства. Ибо там, где господствуют обман и ложь, нет места правде. А отсутствие правды ослабляет государство, без нее невозможно всеобщее благоденствие. Я признаю свою вину, но в душе не считаю преступлением то, что выступил против самодержавного правления. Вероятно, я ошибаюсь, однако, как бы там ни было, уверен, что наши законы неправедны и держатся на силе предрассудков и темноты. Знаю, что по этим законам меня следует расстрелять или четвертовать, в лучшем случае я попаду на каторгу. Так к чему же эти формальности — допрос, следствие? Ведь просить о помиловании я считаю унизительным для человеческого достоинства.
Андрей Борисов стоял перед следователями худой, осунувшийся, но сколько мощи было в его голосе! Как будто говорил великан, которому на земле все под силу. Члены комитета не только с гневом, но с тревогой и страхом смотрели на отставного подпоручика, осмелившегося бросить им в лицо такие слова, точно не они его, а он их обвинял в преступлении.
Петр Иванович Борисов, как и его брат Андрей, на вопрос Левашова, присягал ли он царствующему императору, ответил:
— Нет, не присягал! Несправедливости, насилия и притеснения, которые чинят помещики по отношению к крестьянам, всегда вызывали в моей душе желание покончить с подобным произволом. Я желал благоденствия для всего народа, а это возможно, лишь когда не будет монарха и Россия станет республикой. Вот почему я не присягал нынешнему государю.
— Вы подстрекали нижние чины к неповиновению и восстанию, не так ли? В каких именно полках или иных воинских частях? — допытывались члены комитета.
— Да, я желал возбудить революционный дух, чтобы идти на Новоград-Волынск и арестовать тех, кто добровольно не присоединится к повстанцам, в первую очередь полковника и офицеров. Восставшие должны были овладеть конюшнями и резервом, захватить артиллерию, привлечь на свою сторону канониров и двинуться на Житомир. Захватив корпусную квартиру, мы пошли бы на Киев, а потом напали бы на Бобруйскую крепость.
«Соединенные славяне» меньше всего думали об убийстве царя. Но комитету очень хотелось услышать именно это: следователи знали, чем угодить Николаю. Однако Борисовы заявили, что впервые слышат о покушении на царя, на их совещаниях этот вопрос не обсуждался.
Не все «славяне» с честью выдержали испытание. Быстро сдался Горбачевский, взвалив всю вину на Борисовых. Не устоял Спиридов, постепенно начали давать показания Киреев и Пестов. Зато стойко держался подпоручик Андреевич. Он категорически отказался отвечать на вопросы комитета, и следователи не знали, как сломить волю этого упорного, не желавшего покориться революционера.
Секретарь Адлерберг доложил о нем императору.
— Подпоручик из Восьмой артиллерийской бригады? — переспросил Николай. — Дворянин? Богат?
— Члены так называемого Общества соединенных славян, ваше величество, в основном происходят из дворянских семей, однако весьма бедных. Есть среди них и простые чиновники, даже мещане. «Славяне» принимали в свой круг всех без исключения, кто только проявлял недовольство существующим порядком. Из показаний майора Пензенского полка Михаила Спиридова и подпоручика Ивана Горбачевского из Восьмой артиллерийской бригады касательно планов и злых умыслов заговорщиков, ваше величество, стала известна цель, которую они ставили перед собой и почитали долгом своей жизни. Вот что мною записано во время допросов арестованных: «На собраниях Тайного общества Бестужев-Рюмин заверял, что конституция навсегда утвердит свободу и благоденствие для народа. Он приказывал объяснять нижним чинам, что они бесправны, прививать им любовь к отчизне, а не к монарху. Бестужев-Рюмин утверждал, что решительные действия солдат могут изменить положение в их пользу, особенно ежели они будут повиноваться тем офицерам, которые жертвуют собою ради освобождения всех от рабства. Он заявлял, что тот, кто поступает вопреки человеколюбию, недостоин звания человека и уничтожение его положит конец злу на земле. «Да здравствует конституция! Да здравствует народ! И да погибнет дворянство вместе с монархом! — вот какие лозунги провозглашали на своих собраниях заговорщики».
Николай закрыл глаза. По его неподвижному лицу пробежала тень. Оно стало совсем серым, невыразительным.
— «...На одном совещании злодей Бестужев-Рюмин снял в шеи ладанку и поклялся быть верным Обществу, бороться против монархии с оружием в руках. В знак согласия все заговорщики целовали эту ладанку и тоже клялись. Кроме того, Бестужев-Рюмин заявил: «В августе тысяча восемьсот двадцать шестого года император будет делать смотр корпусу, вот тогда и настанет конец деспотизму. Ненавистный тиран падет под нашими саблями, мы поднимем знамя свободы и двинемся на Москву, повсюду провозглашая конституцию». Этот злоумышленник и злодей предлагал набрать добровольцев из мужественных и отважных революционеров, которые и должны были осуществить покушение на императора. В эту группу сразу записалось двенадцать человек...»
Николай чувствовал, как что-то подкатило у него к горлу и стало тяжело дышать.
— «...Пропагандою были охвачены, — продолжал читать Адлерберг, — некоторые роты Саратовского, Пензенского и Троицкого полков, Восьмая и Девятая артиллерийские бригады. Однако эти показания других преступников отрицают братья Борисовы и Андреевич. Особенно упорствует последний. Подпоручик Андреевич не признает полномочий следственного комитета, не желает отвечать на наши вопросы и большей частью отмалчивается».
— Заговорит! — процедил сквозь зубы Николай, открывая глаза. — Железо ему на руки и на ноги не менее чем по пятнадцати фунтов — и в «Секретный дом». Надолго. Пока не покорится и не попросит прощения за свою дерзость.
О «Секретном доме» ходили разные слухи, но мало кто в столице знал, что это страшное место находилось в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Было известно, что из «Секретного дома» почти никто не выходит на волю и что его начальник подчиняется непосредственно императору. Однако и сам начальник не имеет права выходить из крепости без позволения коменданта Сукина. Часовым Алексеевского равелина запрещалось переходить мостик, соединявший равелин с крепостью. У мостика стояла стража: со стороны крепости — два гвардейца, со стороны равелина — два солдата из инвалидной команды.
В эту мрачную тюрьму сажали только осужденных по политическому делу, и даже стражники и тюремщики не знали подлинных имен узников. Здесь не было имен, лишь номера казематов, и кто в каком каземате сидел, по тому номеру и значился.
В «Секретном доме» была своя кухня, отдельное от крепости хозяйство и... мертвая тишина. Тюремщики не имели права разговаривать с узниками или отвечать на какие бы то ни было вопросы. Молча приносили еду, молча выходили. Каземат напоминал каменный мешок и был так узок, что в нем едва помещались кровать и столик.
Узников приводили в равелин с завязанными глазами, чтобы они не видели, куда их посадили.
Если о ком-нибудь из политических хотели навсегда забыть или кто-либо из них знал много лишнего и нужно было, чтобы у него онемели уста, — того заключали в «Секретный дом». И сырые, мрачные стены навеки сохраняли тайну; неизвестно было, кто и за что сюда попал.
Седьмого ноября 1824 года, во время наводнения, вода в Неве поднялась очень высоко, казематы затопило, и с тех пор стены так отсырели, что к ним противно было прикоснуться.
В ночь на пятнадцатое декабря сюда первым привезли Рылеева. В коридоре чадила плошка, молчаливые тюремщики больше напоминали тени или призраки, чем живых людей. Не произнося ни слова, они быстро раздели Кондратия Федоровича, взяли его одежду, а вместо нее принесли арестантский халат.
— Где я? — спросил Рылеев, когда у него с глаз сняли повязку.
В ответ мертвая тишина. Казалось, и люди были здесь немы и глухи, как эти покрытые плесенью стены, блестевшие при тусклом свете плошки.
Рылееву заковали ноги и руки. Заскрежетали двери камеры, и Кондратий Федорович увидел черную пасть тесного помещения, в котором отныне ему предстояло проводить свои дни.
Трудно было двигаться, закованному в кандалы. Тюремщики молча помогли ему лечь на кровать, укрыли одеялом и вышли.
Влажная темнота окружила Рылеева, словно закрылась крышка гроба. Сначала не было никаких мыслей, только пустота и холод. Его трясла лихорадка, хотелось согреться. В теле не осталось ни капли тепла — тепло высосали железо кандалов, холодные стены равелина.
Приводили все новых арестованных, бряцало железо, хлопали двери соседних камер.
По звукам, доносившимся из коридора, Рылеев догадывался, что творилось в крепости. «Кого еще успели забрать? — думал он с тревогой и болью. — Может быть, кому-нибудь удалось избежать ареста?».
Раскалывалась голова — от неизвестности или оттого, что днем простудился на Сенатской. «Хорошо бы заснуть, хоть на время все забыть, чтобы улеглась боль, забылось пережитое... И отдохнула бы душа. Но куда убежишь от самого себя? И как можно забыть то, что произошло, забыть товарищей, несчастную жену, единственную дочь? Сын Александр умер год назад... И мать умерла...»
Вдруг на него сквозь густой мрак ночи глянули ее глаза — совсем светлые, как в тот последний день, когда они попрощались, чтобы никогда больше не встретиться.
«Кондратий, — сказала мать, когда он подошел, чтобы поцеловать ее, — мне страшно с тобою расставаться. Чувствую душой, что твоя пылкость не доведет тебя до добра. Ты слишком близко к сердцу принимаешь пороки нашей жизни, а ведь они всегда существовали и будут существовать вечно. Ну что ты один сделаешь? Ты бессилен уничтожить зло, только повредишь себе. У тебя жена, дети. Ты должен заботиться о них!» Тогда еще был жив его маленький сын...
«Успокойтесь, мама! Не надо волноваться. Все будет хорошо», — пытался утешить он мать.
Но она утирала слезы и удрученно качала головой. «Нет, не будет хорошо, сын! Материнское сердце — вещун! Я догадываюсь, о чем ты целыми часами споришь со своими друзьями в кабинете. Вы молоды, вы жаждете подвигов, к чему-то стремитесь. Но ваши желания и юная пылкость могут привести вас к гибели. Почему никто из вас над этим не задумывается? Добьетесь ли вы чего-либо — одному богу известно. А вот что причините горе своим матерям, в этом я уверена».
«Не нужно слез, мама! Мы победим, ведь на нашей стороне правда. Вы угадали, мы в самом деле желаем добра и благоденствия всему народу русскому. Мы мечтаем о всеобщей свободе, а где вы слышали, чтобы свобода добывалась легко? И разве можно бороться со злом, ничем не рискуя? Нет, мама, я не имею права оставаться равнодушен к несправедливостям, которые происходят исключительно оттого, что одно лицо хочет распоряжаться жизнью и судьбой пятидесяти миллионов бессловесных, бесправных и покорных рабов».
«Молчи, Кондратий! — испуганно воскликнула мать, бледнея от страшных слов сына. — Я все понимаю, я горжусь тобою за эти светлые мечты. Но я не переживу, если с тобою что-нибудь случится. Ты только подумай — против кого ты восстаешь? Если эта тайна станет известна монарху, дорого придется тебе заплатить за свои помыслы. Думал ли ты с твоими друзьями о том, что вас ждет?»
«Смерть! — ответил он матери, пристально глядя в ее печальное, заплаканное лицо. — И тому, кто боится смерти, не место среди нас. Лучше умереть свободным, чем жить рабом».
Рылеев говорил резко и точно, голос его звучал уверенно, словно он провозглашал вслух то, что было давно решено.
«Не любишь ты меня, Кондратий, — с укором сказала сыну Анастасия Матвеевна. И сразу как-то ссутулилась, сделалась ниже ростом, постарела на несколько лет. — Ты один у меня, и не дай мне бог дожить до того дня, когда я услышу о тебе что-нибудь страшное. Не дай бог увидеть тебя в несчастье».
«Хорошо, что она не дожила и не знает, что я оказался в этом каменном мешке. Николаевские судья сошлют меня в Сибирь. Правда, царь разговаривал со мною вежливо, когда меня привезли в Зимний. Без гнева спросил, почему я устроил ему такую неприятность, обидел его. И заявил, будто из-за меня пролилась невинная кровь. Провел платком по глазам, вытер слезу. Может быть, ему и впрямь жаль убитых на Сенатской? Но тогда зачем же он приказал стрелять картечью по людям, которые хотели только потребовать, чтобы с ними по-человечески обращались?.. Однако на меня Николай не кричал, даже когда я отказался назвать участников заговора. Лишь вскользь заметил, что хочет все подробно узнать, чтобы спасти и предостеречь неразумных и неосторожных. И сам сказал, что за ошибки юности не наказывают...»
Николай и в самом деле встретил Рылеева по-отечески ласково. Казалось, он сочувствовал ему, жалел, что Рылеев оказался среди заговорщиков. Николай подошел к нему, окинул взглядом, упрекнул:
— Пугачев восстал против монархии и правительства, по ведь он происходил из смердов. А вы дворянин, воспитывались в кадетском корпусе, имеете чин, были в заграничном походе. К лицу ли вам участвовать в подобной акции? Стыдитесь, подпоручик! Пиит, правитель Российско-Американской компании — и вдруг злодей! Мне просто не верится.
Взволнованный Рылеев произнес очень искренне, как на исповеди:
— Ваше величество, человек должен желать свободы и благоденствия не только для себя лично, но для всех. Власть, отданная в руки одному человеку, не может сделать народ счастливым. Наоборот, отсюда все страдания...
Николай нетерпеливо прервал его, но не грубо, а как будто желая добра молодому человеку, допустившему ошибку:
— Знаю, вас отравила своим ядом философия, которую я ненавижу. Книжность только вредит людям, особенно молодым. Разве вы не убедились в этом на себе, подпоручик? Вот подумайте-ка на досуге. Я уверен, вы признаете свою ошибку. И откровенно напишете мне обо всем. Как императору. И как ближайшему другу, которому поверяют тайны.
Фельдъегерь вез Рылеева неизвестно куда. Только когда распахнулись двери тюремной кареты, Рылеев понял, что он в Петропавловской крепости.
Его принял комендант, прочитал записку, привезенную фельдъегерем, равнодушно взглянул на арестованного. Потом прошелся по комнате, прихрамывая, — вместо одной ноги у него была деревяшка.
— Сейчас вас отведут на ваше постоянное место, где вы будете находиться впредь до высочайшего повеления, — сказал он Рылееву.
Вошел безносый плац-майор Подушкин, на пороге вырос тюремщик. Комендант покосился в сторону Рылеева, и плац-майор без слов понял своего начальника.
Рылееву привычным движением завязали платком глава, молча, прикоснувшись рукой, приказали идти.
И вот его «постоянное место», как сказал комендант крепости. Холод, мрак, неизвестность...
Утром заскрежетали засовы, застучали двери — тюремщик принес миску с водой, чтобы умыться. Рылеев уже не пытался вступить с ним в разговор, знал, что ответа не дождется. Только взглянул с грустью — жаль было человека, которому приходилось зарабатывать кусок хлеба в безмолвных стенах каземата.
Тюремщик быстро сделал свое дело, не обращая никакого внимания на узника. Взял миску и медный кувшин в водой и вышел. Немного погодя принес завтрак, поставил его на столик и, не глядя на Рылеева, так же молча вышел опять.
«Вот и начался первый день моей новой жизни!» — с иронией сказал самому себе Рылеев. Он посмотрел на узкое зарешеченное оконце, тяжело вздохнул. За окном давно был день. Над городом висело зимнее небо, там был чистый морозный воздух. А тут — мокрые стены, вечные сумерки, гнетущая тишина.
«Надо жить, не теряя надежды. Обязательно», — приказал себе Кондратий Федорович и присел к столику, на котором в оловянной миске дымился кулеш. С непривычки рукам в кандалах было трудно двигаться, железо при каждом жесте тоскливо позвякивало.
На глаза Пестелю надели повязку и повели. Куда — плац-майор не сказал. Повернули налево, потом направо, еще раз налево. Наконец приказали остановиться.
— Снимите повязку. Позволяю сесть.
Павел Иванович не сразу пришел в себя. Довольно большая комната, перегороженная ширмой; за ширмой голоса, смех. Словно не в крепости, а на воле. Главное — много света и тепло.
Пестель обрадовался: в ширме, как раз напротив табуретки, на которую ему приказали сесть, он заметил небольшую дырку. Подался немного вперед и увидел, что делается по ту сторону. Через комнату то и дело проводили в кандалах людей. У одних были закованы только руки, у других — руки и ноги. Кто они? Может быть, друзья, товарищи? Лиц почти не видно, однако Пестелю казалось, что некоторые фигуры в арестантских халатах ему знакомы. Впрочем, возможно, так только казалось.
Появился плац-майор. Пестелю опять завязали глаза и куда-то повели. На этот раз он очутился в комнате один. В углу на столике горели две свечи. Еще он заметил, что здесь нет окон. Ему снова надели на глаза повязку. Только в третьей комнате плац-майор глухо произнес:
— Стой!
Павел Иванович остановился. Другой голос приказал снять повязку.
Ударил яркий свет. Пестель на минуту закрыл глаза. На стенах в бра и над столом, за которым сидели члены следственного комитета, горело много свечей. В центре — военный министр генерал-адъютант Татищев. По обеим сторонам от него великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютант Бенкендорф, Чернышев, Дибич, Голенищев-Кутузов, Левашов, Потапов и князь Голицын.
После того как главные руководители заговора по окончании допросов в Зимнем дворце в присутствии Николая были отправлены в Алексеевский равелин, следственный комитет перебрался в крепость. Здесь было удобнее вести следствие: арестованных не приходилось возить по улицам столицы.
Пестелю осточертели одни и те же вопросы, очные ставки, надоели неподвижные, каменные лица членов комитета, которых он успел за это время просто возненавидеть.
Секретарь Адлерберг что-то записывал, уткнувшись в бумаги, и даже не поднял головы. Когда-то Пестель и Адлерберг вместе учились в Пажеском корпусе, но это было давно. Теперь Адлерберг флигель-адъютант, доверенное лиц царя, а он, Пестель, — узник.
— Его императорское величество, — медленно проговорил Татищев, — недоволен вашей неискренностью, полковник! Расскажите подробнее о конституции, так называемой «Русской правде».
Стараясь сохранить хладнокровие, Пестель начал говорить:
— Я всегда имел склонность к политическим наукам и много ими занимался. Ведя замкнутый образ жизни, удаленный от большого света, я углублял свои познания в отношении государственного устройства. Я составлял записки, касающиеся верховной власти и правления. Полного сочинения написать я не успел. Имел же намерение передать его под названием «Русской правды» на суд и усмотрение общества. Изучая политические науки и размышляя, я обратил внимание на бедственное положение народа. Меня всегда возмущало рабство крестьян, а также большие преимущества, которыми пользуется аристократия. Я полагал, что аристократия есть главная препона всеобщему благоденствию и может быть устранена введением республиканского правления. Я считал чрезмерной тягость солдатской службы. Меня угнетало слышанное о военных поселениях, о состоянии нашей торговли и промышленности. Все это привело к тому, что я сделался в душе республиканцем. Я желал равенства для всех сословий общества. Прежде всего — отмены крепостного права, противоречащего принципам религии, которая проповедует любовь к ближнему. Во-вторых, я считаю, что землею должен владеть тот, кто ее обрабатывает. И в-третьих, все люди рождаются на свет одинаковыми, все — голыми, но, скажите, господа, почему мы с вами пользуемся всеми благами на земле, а большинство страдают от колыбели до могилы? Почему? Я спрашивал об этом себя, а теперь спрашиваю вас...
— Вы не имеете права задавать нам вопросы, ваша обязанность — отвечать, — перебил его Левашов с гневом и раздражением.
Пестель взглянул на него. Левашов, командир лейб-гусар, славился своим знанием лошадей, он любил и жалел их больше, чем кавалеристов.
— Этого права никто не может отнять у человека, — сказал Пестель, — На свой вопрос я не жду ответа, потому что ответа у вас нет.
— Его величество, — произнес Татищев, пристально глядя на похудевшего Пестеля, — выразил желание самому познакомиться с вашей конституцией.
— Я готов предоставить его величеству эту возможность, — недолго думая согласился Павел Иванович.
Присутствующие заерзали в креслах, их неподвижные лица сразу ожили. Еще бы, все заговорщики отказывались указать место хранения «Русской правды», а главный руководитель южных бунтовщиков нисколько не возражает, чтобы император прочел его сочинение. Какая неожиданность! Значит, пошел на попятный?
Но следователи ошибались: не сломили Пестеля мрачный каземат и кандалы, нет. Он и не думал просить милости у тех, кого теперь презирал еще сильнее. Он понимал, что закопанная в земле «Русская правда» погибнет, потому что Лорер и другие товарищи тоже арестованы — они не смогут откопать ее. А ему было жаль своего труда. Сохраненная в архиве вместе с протоколами допросов, «Русская правда» могла пригодиться будущим борцам за свободу. Вот почему Павел Иванович решил указать, где спрятана рукопись.
...И опять ненавистный каземат, привинченная к стене кровать, столик, плошка, параша, вонь.
Пестель лег, закрыл глаза, но сон бежал от него.
«Кто еще арестован, кроме тех, кого я видел на очной ставке?» Ему было больно за товарищей, которых пребывание в равелине сломило, как буря ломает слабое деревце. С гордостью всякий раз вспоминал он Владимира Федосеевича Раевского: тот уже целых пять лет сидел в Тираспольской крепости, но на него не действовали ни угрозы, ни посулы. «Вот с кого надо брать пример, — говорил себе Павел Иванович. — Вот кто может служить нам примером».
Он смотрел в черную пустоту ночи, и на память ему приходили стихи Раевского, которые переписывали от руки десятки почитателей этого мужественного человека. А Пушкин... Его стихи переписывали сотни людей, они ходили в списках по всей России. Пестель не знал, что Николаем отдан приказ: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Приказ этот был незамедлительно выполнен.
«Почему императора и членов комитета так интересует, замешан ли в заговоре Пушкин и знал ли он о существовании Южного и Северного обществ? Неужели его арестовали как неблагонадежного?» — думал Павел Иванович. Ему было известно, что Пушкин к Обществу не принадлежал. Это успокаивало. Но всякий раз, когда на допросе упоминалось имя поэта, в сердце Пестеля закрадывалась тревога.
Он вспомнил, как на очной ставке встретился с Сергеем Муравьевым-Апостолом и не узнал его — так тот похудел, посерел лицом, словно после тяжелой болезни. Только глаза у Муравьева-Апостола не погасли. В них по-прежнему горели решимость и мужество.
«Достойный сын России, — с любовью и нежностью думал о нем Павел Иванович. — Дай бог, чтобы отчизна его не потеряла!»
На другой день в каземат шаркающей походкой вошел пастор Рейнбот — духовенство получило от царя разрешение навещать узников. Пастор сообщил, что в Петербург приехал отец Павла Ивановича, однако, пока длится следствие, позволения на свидание ему не дадут.
— Вы понимаете, — сказал пастор Пестелю, — все зависит от воли монарха. Он один решает эти вопросы.
Пестель заволновался. Отец... Он постоянно писал о том, как грабят население сибирские чиновники, писал о злоупотреблениях губернаторов и полицейских чинов. Он все искал правды, считал, что его заставили уйти в отставку мошенники и плуты, которых он выводил на чистую воду. А мать... Пестелю жаль было матери. Комок подкатывал к горлу, когда он вспоминал ее. Как-то она перенесет это горе?
— Раскаяние, сын мой, вот единственный путь к спасению, — назидательно произнес Рейнбот, глядя на изможденное лицо Пестеля с торчащими скулами.
— Что слышно в столице? Что говорят о нас? Может быть, вы знаете, кто еще арестован? — спросил Пестель.
Высоченного роста Рейнбот сгорбился, точно разглядывая что-то на каменном полу.
— Мне ничего не известно, сын мой, — промолвил он, уклоняясь от ответа. — Я не вмешиваюсь в политику, только болею душой за всех грешников. Молю бога, чтобы он вернул вас к святому престолу.
Павел Иванович понял, что пастору велено беседовать с узниками лишь на религиозные темы, — значит, с ним говорить не о чем.
Рейнбот скоро ушел. В каземате сгущались сумерки, приближался вечер. «Еще один день прожит, — без сожаления подумал Пестель. — А ночью опять поведут в комендантский дом на допрос; скорее бы суд. Зачем тянуть, если комитету и царю все ясно?»
Михаила Бестужева-Рюмина привезли в Петербург ночью. Устали за долгую дорогу лошади, измучились фельдъегерь и стражники. Все были раздражены. Только когда миновали шлагбаум, где сидел будочник, приободрились. Лошади быстро покатили крытые сани по улицам столицы. Оживились всадники-жандармы, которые гарцевали позади, словно они были не конвоирами государственного преступника, а почетным эскортом, сопровождавшим важное лицо.
Михаилу Павловичу казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как они выехали из Могилева. Да еще в дороге их настиг буран, и пришлось чуть ли не сутки торчать в корчме.
Быть может, не так утомила Бестужева-Рюмина поездка, как неизвестность. Что его везут в Петербург, он догадывался. Что царь не помилует оставшихся в живых повстанцев, был уверен. Но он не знал, что роль следователя возьмет на себя сам Николай. Поэтому был очень удивлен, когда в зале Зимнего дворца увидел нового императора. В первые минуты Бестужев-Рюмин растерялся.
Николай стоял важный, даже величественный, точно приготовился к выходу на сцену. На нем был мундир Измайловского полка. Он долго разглядывал Бестужева-Рюмина, как будто изучая его.
Михаил Павлович тоже смотрел на императора, и ни один мускул не дрогнул на его раскрасневшемся от мороза лице.
— Ты кто такой? — наконец спросил Николай, нарушив тяжелое молчание.
— Подпоручик Полтавского полка Бестужев-Рюмин, — не вполне четко ответил Михаил Павлович, не спуская глаз с венценосного лицедея.
— Нет, ты изменник и злодей! — с презрением и злобой произнес царь. — В моей армии несут службу люди, верные присяге. А ты нарушил присягу, ты изменил ей.
Михаил Павлович молчал. Николай подошел ближе, взял его за плечи, посмотрел прямо в глаза и уже другим тоном спросил:
— Как ты посмел это сделать? Кто толкнул тебя на преступление против монарха? Кто? Отвечай!
— Жизнь, ваше величество, — ответил Бестужев-Рюмин твердо, не отводя взгляда.
— Жизнь? — не понял Николай и даже отступил на шаг, — Надо яснее выражаться, бывший подпоручик! Говори, кто толкнул тебя на преступление?
— Произвол, который совершает над миллионами кучка людей, притеснения, несправедливость и жестокость — вот мои учители, ваше величество!
— А известно ли тебе, что твоя судьба в моих руках? Я могу сделать тебя счастливым и могу превратить в прах. Это ты знаешь?
— Да, ваше величество. Знаю! Именно поэтому я и вступил в Общество. Я боролся за то, чтобы один человек не имел права распоряжаться жизнью других, таких же, как он, людей. Это ужасная несправедливость. И вы не можете сделать меня счастливым, ваше величество, — с вызовом произнес Михаил Павлович, не задумываясь над тем, обидится ли на его дерзость император.
Решительность, с которой были сказаны эти слова, смелость юного подпоручика вывели из себя Николая. Но он сдержался, сделал вид, что его ничуть не оскорбила откровенность арестованного. Сочувственно, даже снисходительно заметил:
— Ты ошибаешься, подпоручик! Мне очень жаль тебя. Перед тобою вся жизнь, ты еще совсем не жил. И мне хочется сделать ее безоблачной, ведь бог только один раз дает человеку жизнь. Я разделяю твои мечты, твои благородные стремления. Я тоже желаю России благоденствия и процветания. Это моя цель. И мне больно, что ты не пришел ко мне, как к старшему брату и другу, и не рассказал все откровенно. Ну почему ты этого не сделал?
Михаилу Павловичу почудилось, что голос императора задрожал, глаза подернулись слезами. Это его обезоружило. Куда девалась ненависть, которую он разжигал в себе по пороге в Петербург! Что-то теплое разлилось в груди, ему показалось, что он и в самом деле виноват перед императором. Ведь Николай взял на себя ответственность за Россию. Так, может быть, не нужно было создавать никаких тайных обществ, а следовало просто прийти к царю и обо всем открыто рассказать ему? Может быть, новый монарх по-новому будет руководить страной? Александр Первый пообещал реформы, однако потом забыл свои обещания, а Николай Первый, быть может, что-нибудь сделает для России? Где истина? Как уберечься от ошибки? Если бы знать...
Николай по-дружески беседовал с Бестужевым-Рюминым, расспрашивал его, как товарищ по полку, а не как император. Михаил Павлович отвечал обдуманно, не торопясь: он все-таки еще не доверял царю, боялся выдать кого-нибудь из друзей, случайно оказаться предателем.
А Николай словно бы и не интересовался Обществом, участниками заговора. Создавалось впечатление, что ему все известно и он искренне жалеет, что они так некстати восстали и, не имея опыта, сразу потерпели поражение.
— У тебя найдено стихотворение «Кинжал». Я его читал. Это тебе Пушкин подарил?
Михаил Павлович отрицательно покачал головой:
— Нет, ваше величество! Поэт, наверное, и не подозревает, что его стихи расходятся по всей империи. И что их можно найти на квартире военного, штатского и даже в салоне...
— Знаю, — согласился Николай. — Музы Пушкина и Рылеева достойны похвалы, как пииты они заслуженно пользуются вниманием и уважением. Отечественные таланты! До гениев им далеко, но перо у них острое.
Николай ходил, заложив руки за спину, его шаги гулко раздавались под потолком, на котором среди гроздей винограда на нежно-голубом фоне четко выделялись нарисованные амуры.
Михаил Павлович стоял не шевелясь, как и подобает стоять военному перед императором. Однако ему хотелось сесть — одеревенела спина, затекли ноги.
Николай как будто угадал желание подпоручика, сказал, что ему нужно с дороги отдохнуть, восстановить силы.
— Сейчас ты уедешь. Но пусть никто не знает о нашей беседе. Обдумай мои слова и напиши мне, как другу, все, что знаешь. Изложи свое мнение об Обществе, о себе и товарищах-единомышленниках. Монарху полезно все знать о своих подданных.
Царь сел к столу, что-то написал и, вложив записку в конверт, позвонил. Вошел флигель-адъютант граф Мантейфель, вслед за ним на пороге вырос фельдъегерь.
Было уже за полночь, когда сани, везшие Бестужева-Рюмина, остановились во дворе Петропавловской крепости. И вот он в каземате Алексеевского равелина. Мрачные стены, молчаливый тюремщик, одиночество. Правду говорил царь, на раздумья времени хватит. Михаила Павловича угнетали кандалы. Зачем его заковали? Разве отсюда убежишь?
Император разговаривал с ним так ласково и дружелюбно, а в крепости на него надели железо! Почему?..
Несколько дней Бестужева-Рюмина не беспокоили, и у него было довольно времени, чтобы взглянуть на события достаточно объективно, обдумать и свои просчеты, и ошибки товарищей. Еще по дороге в столицу он выработал тактику, которой хотел придерживаться на следствии: что говорить, а чего не касаться вовсе, чтобы не повредить другим. Он так и держался на допросах, но чувствовал, что после беседы с императором в его взглядах на революцию кое-что изменилось.
Появилось сомнение, этот червь, разъедающий душу, разрушающий то, что еще недавно казалось прочным и незыблемым. «Может быть, в самом деле нужно было откровенно побеседовать с новым монархом и все было бы хорошо? Он, конечно, обиделся. И голос дрожал, и на глазах выступили слезы. Наверное, ему больно. Но зачем же тогда он приказал стрелять из пушек на Сенатской? Зачем первый день своего царствования окропил кровью? Не понимаю. В конце концов царь тоже человек...» Все смешалось — ненависть, и сочувствие, подозрительность и доверие... Все перепуталось. Где истина?.. Где фарисейство, иезуитская хитрость?..
Среди ночи Бестужева-Рюмина разбудили и, завязав глава, куда-то повели. Он оказался перед следственным комитетом. Один перед противниками, врагами. От него добивались ответа на вопрос, как подстрекали к восстанию Черниговский полк, кто именно этим занимался. И каким образом предполагалось осуществить преступный план.
Михаил Павлович никаких фамилий не называл, отвечал осторожно. Ему приказали изложить свои показания на бумаге. А когда он это сделал, опять отвели в каземат.
Потом несколько ночей подряд не давали покоя. Однако он ничего не прибавил к сказанному на первом допросе.
Затем начались очные ставки, и тут Михаил Павлович встретился не только с Муравьевыми-Апостолами и Пестелем, но и с братьями Борисовыми, с Андреевичем, Тизенгаузеном, Волконским, Давыдовым. После очных ставок он понял — Николаю известно почти все, что до сих пор считалось тайной.
Страдальческий вид товарищей произвел на него ужасное впечатление. «Может быть, и я выгляжу так же?» — в грустью думал Бестужев-Рюмин.
Узникам не позволяли бриться, у них отросли бороды. Лица приобрели землистый оттенок — в казематах стоял смрад, они никогда не проветривались. И кормили узников плохо: поскупился император на продовольствие для своих личных врагов. Кроме того, докучали сырость и холод.
Так проходили недели. Тюремщики, которые в первые дни молчали, не отвечали ни на какие вопросы, мало-помалу начали разговаривать. И что особенно поразило Бестужева-Рюмина — заговорили часовые.
Унтер-офицер Соколов рассказал, кто сидит в соседних казематах, и даже пообещал передать от Михаила Павловича привет товарищам. Такая перемена в поведении тюремщиков и часовых наводила на мысль, что даже в Петропавловке есть люди, сочувствующие идеям заговорщиков.
Однажды Михаил Павлович сказал унтер-офицеру, что, выйдя из крепости, никогда не забудет его и отплатит ему добром за добро.
Тот вздохнул и безнадежно покачал головой:
— Дай бог, ваше благородие, чтобы получилось так, как вы говорите. Только я не первый год тут служу и знаю, куда выходят отсюда узники.
— То было раньше, — не соглашался Бестужев-Рюмин, боясь расстаться с надеждой: она одна и поддерживала его дух. — Новый император будет справедливее прежних венценосцев.
— Да, видать, императоры все одинаковы, — словно самому себе сказал Соколов и сразу вышел из каземата.
Михаилу Павловичу стало не по себе. «Неужели унтер-офицер не верит в того, кому присягал?»
Однажды в каземат явились плац-майор и тюремщик. Они побрили Михаила Павловича, одели его. Натянули повязку на глаза и повели, как всегда, не сказав ни слова.
И снова знакомая комната, за столом следственный комитет.
— Это ваша подпись? — спросил Татищев, пододвигая Бестужеву-Рюмину протокол, где были записаны его ответы на следствии.
— Моя! — отвечал он.
— Вы подтверждаете, что тут все правильно записано и что вы давали показания по доброй воле, а не по принуждению? Если с вашей стороны нет возражений, подпишитесь вот здесь в последний раз.
— А зачем это? — пожал плечами Михаил Павлович. И тоскливо звякнуло на руках железо.
Татищев объяснил, что такова воля императора, который пожелал проверить, не был ли нарушен на следствии закон и не применялось ли насилие.
— Нет, закон не нарушен, — с иронией заметил Бестужезв-Рюмин, удостоверяя своей подписью, что он прочитал и проверил показания, данные на допросах.
В течение всего дня узников поочередно приводили в эту комнату и, не давая в руки бумаг, говорили то же самое, что Бестужеву-Рюмину, предлагали в последний раз подписаться.
Некоторые отказывались собственноручно исправить свои резкие высказывания против монарха и правительства, хотя члены комитета настойчиво требовали этого — боялись, как бы не обиделся Николай Первый.
— Венценосцам полезно
знать, что о них думают подданные, — говорили особенно упорные и озлобленные противники абсолютизма.
Возвращаясь в казематы, вое были уверены, что скоро суд. Да и тюремщики подтвердили: по столице распространились слухи, что заговорщиков будет судить Сенат при открытых дверях и каждому обвиняемому предоставят право защиты.
Все невольно поверили в справедливость императора, в это доброе сердце. Только Пестель скептически отнесся к этой новости. Он не надеялся на милость Николая и не желал ее.
Больше их не беспокоили по ночам, не водили на допросы.
Однажды надзиратель Шибаев, пожилой уже человек, всю жизнь проведший в мрачных стенах равелина, принес Пестелю апельсины и лимон.
— Это вам, ваше благородие, — сказал он, закрывая дверь каземата.
— Мне? — удивился Павел Иванович. — А где ты их взял?
— В лавке Милютина.
— А кто же уплатил деньги? Ведь тут немало...
— Без денег дали. Как узнали, для кого покупаю фрукты, не взяли ни копейки. Кушайте, ваше благородие, на здоровье.
— Как же так? — все не мог успокоиться Павел Иванович, держа в руках пакет с дарами юга.
— Да ведь вы попали в крепость за правду, потому вас все и жалеют.
Хотя Шибаев выразился недостаточно ясно, Пестель понял, что в столице кое-что известно о членах Общества и узникам сочувствуют.
Скоро старик принес еду — хлеб и непременный кулеш, которым уже не один день кормил заключенных, — и вышел. Павел Иванович взял ломоть ржаного хлеба, и вдруг его взгляд упал на оловянную тарелку. Там было что-то нацарапано. Он пригляделся внимательнее. Стихи.
Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну.
Его поразили верность этих строк, оптимизм и неколебимая вера автора в правоту дела, из-за которого они сидели в каменном мешке.
«Кто мог это написать? — гадал Пестель, забыв про обед. Он встал и начал ходить по своей тесной клетке — два шага вперед, два назад. — Оболенский? Рылеев? Да, это муза Рылеева. Так мог сказать только он».
Пестель стал с нетерпением ждать Шибаева, который должен был унести посуду. Наконец заскрежетали железные двери.
— У кого ты взял эту тарелку? — спросил старика Павел Иванович.
— Я носил хлеб Кондратию Федоровичу. Добрый человек! Когда-то защищал перед судейскими моего брата, спасибо ему!
— И тебе спасибо! — сказал растроганный Пестель. — За обед... спасибо!
— Да вы же не прикоснулись к кулешу, за что благодарите? — удивился ничего не понимающий Шибаев.
Два раза в неделю узников Алексеевского равелина по одному выводили в маленький дворик на прогулку. Хотя, кроме небольшого клочка неба, отсюда ничего нельзя было увидеть, все же Павел Иванович почитал за счастье вдохнуть свежего воздуха, взглянуть на бездонную синеву неба, где уже появлялись весенние краски.
«Вот и прошла длинная зима! — говорил он себе, останавливаясь неподалеку от могилы с небольшим, почерневшим от ненастья крестом. — Кто нашел здесь вечное пристанище, чтобы и после смерти остаться узником в этом молчаливом, безрадостном уголке земли, забытом, кажется, даже самим господом богом?» Течение его мыслей нарушил гром пушки: три раза грохнули выстрелы, даже содрогнулась земля.
В каземате Шибаев спросил:
— Слышали пушку? Это из Чесменской дворцовой церкви перевозили тело покойного императора Александра Первого. Завтра привезут сюда на вечный покой. В нашем соборе все венценосцы лежат. И монархов, как и нас, грешных, косит курносая. Тут и золотом не откупишься, армия не защитит.
— А чья это могила в углу двора? — поинтересовался Пестель.
Старик вздохнул, ответил не сразу.
— Нашему брату велено быть немым, ничего не спрашивать, не отвечать, а службу нести исправно. Только говорят, ваше благородие, будто там похоронена княжна Тараканова, а доподлинно-то никто не знает.
«Княжна Тараканова? — удивился Пестель, глядя на оконце, сквозь которое еле-еле пробивался тусклый свет. — Дочь Елизаветы Петровны и Разумовского? Я слышал эту историю. Но как же так? Ходили слухи, что княжна Тараканова похоронена в Новоспасском монастыре, а в Алексеевском равелине умерла самозванка из Ливорно, выдававшая себя за Тараканову и претендовавшая на русский престол. По приказу Екатерины Второй граф Орлов хитростью заманил эту женщину на фрегат и привез в Россию, где ее заключили в крепость».
А Шибаев продолжал:
— Погибла, сердешная, во время наводнения. Видите, на стене вода свою метку оставила, — показал он Пестелю. — С тех пор в камерах сыро и никогда уж не просохнет. Вот почему люди тут долго не живут: либо грудная жаба задушит, либо чахотка съест. Живому нужны солнце и воля. Так-то, ваше благородие!
Дни шли за днями, но Николай I по-прежнему злобствовал. Майору Николаю Ивановичу Лореру, доставленному в Петербург с юга третьего января, он кричал:
— Знаете ли, какая участь вас ожидает? Смерть!
И, приказав препроводить его в Петропавловскую крепость, написал коменданту Сукину: «Содержать под строжайшим арестом».
А в отношении князя Евгения Петровича Оболенского распорядился: «Посадить в Алексеевский равелин под строжайший арест, без всякого сообщения». И прибавил, имея в виду всех узников: «Не мешает усилить наблюдение, чтоб громких разговоров не было между арестантами».
А арестанты продолжали прибывать...
— Ваше величество, подполковник лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Михаил Лунин доставлен в главной гауптвахты на допрос, — доложил дежурный флигель-адъютант Дурново.
Николай поднялся из-за стола и подошел к двери, которая вела из кабинета в зал.
Подполковник Михаил Лунин, участник Отечественной войны и заграничных походов, раньше служил в Польском уланском полку, квартировавшем в Слуцке. Потом был переведен в Варшаву командиром Четвертого эскадрона Гродненского гусарского полка и жил в Вилланове, часто выполняя обязанности адъютанта великого князя Константина Павловича. Лунин был его любимцем. Константин всячески защищал веселого, жизнерадостного гусара, не соглашаясь отправить его в Петербург на расправу. Однако Николай добился своего. Лунина привезли в столицу России, и Николай приказал немедленно доставить его на допрос в следственный комитет.
Император следил, как Лунин вошел в зал. Вот он остановился перед генерал-адъютантом Левашовым, членом Верховного уголовного суда.
— Откуда заимствовали вы свободный образ мыслей? — спросил Левашов. — Кто способствовал укоренению в вас этих мыслей?
— Свободный образ мыслей возник у меня с тех пор, как я начал думать, — отвечал Лунин. — Укоренению же его способствовали мои размышления и наблюдения над действительностью.
— Кто принял вас в тайное общество? Назовите имена известных вам его членов.
— Я никем не был принят в число членов тайного общества, но сам присоединился к нему. Открыть имена членов общества почитаю противным моей совести.
— В чем состояла цель тайного общества?
Лунин говорил медленно, обдумывал ответы, подбирал слова. Николай видел в этом осознанный расчет, понимал, что Лунин хочет выгородить других злоумышленников.
— Итак? — напомнил Левашов.
— Целью тайного общества было водворение свободного правления в России. Члены общества руководствовались стремлением к общему благу.
— Кто были председателями и членами тайных обществ?
— Я постановил себе неизменным правилом никого не называть по имени.
— Что ж, тогда вопрос, непосредственно касающийся вас. Вы имели намерение напасть на Царскосельской дороге на покойного императора, дабы учинить смертоубийство?
— Да, я не исключал возможности нападения на Царскосельской дороге на покойного государя. Однако исполнение этого замысла никогда не было целью моих действий, и никогда никаких мер ни мною, ни другими участниками заговора не было принято к исполнению этого намерения.
Левашов продолжал допрос. Его интересовало, когда именно Лунин и Якушкин приезжали в Тульчин, о чем они разговаривали с Пестелем, кто еще принимал участие в этих совещаниях.
Лунин отвечал осмотрительно, желая понять, что уже известно следователям, а о чем они только догадываются. Но его осторожность была излишней, Николай знал почти все. И теперь был озабочен составом Верховного суда, который должен был утвердить приговор, уже лежавший в ящике императорского стола. Все было готово. Оставалось лишь придать делу законный вид, чтобы не разгневать дворянство и вместе с тем отомстить ему.
Наконец выбор Николая остановился на Сперанском. Да, именно этот правовед украсит приговор атрибутами великодушия и гуманности.
Умный и опытный, знаток юриспруденции и дипломатии, Сперанский еще на посту статс-секретаря Александра Первого попытался осуществить некоторые реформы в управлении государством, рассчитывая благодаря им избежать революции в России. Но консервативное дворянство почувствовало в этом покушение на свои привилегии и обрушилось на выскочку правоведа. Сперанского возненавидели за саму мысль о реформах, и ненависти этой не было границ.
К дворянам присоединились чиновники: Сперанский требовал, чтобы они хорошо знали свое дело и перед тем, как занять ответственную должность, сдавали экзамены.
Этой мерой он во сто крат увеличил армию своих личных врагов, которые в конце концов обвинили его в шпионаже и недоброжелательном отношении к императору. Александру посыпались доносы — будто статс-секретарь непочтительно отзывается о монархе, за глаза смеется над ним и тому подобное.
В конце концов нашептывания сделали свое дело, Александр поверил сплетням и перестал защищать неблагодарного. Сперанского сначала выслали в Нижний Новгород, потом в Пермь.
Даже после победы над Наполеоном монаршая милость не распространилась на Сперанского. Его назначили генерал-губернатором Сибири. В борьбе с ростовщиками, взяточниками, хапугами и ворами, засевшими в администрации, Сперанский потерял здоровье и веру в справедливость.
Постаревший, больной, он всем сердцем рвался к единственной своей утехе и радости — дочери. Но ему не позволили вернуться в столицу. Пришлось кланяться Аракчееву. Только после этого было получено разрешение на отъезд из Сибири. Однако дружба с императором Александром не возобновилась.
Во время следствия Николаю стало известно, что Пестель собирался в случае победы революции ввести Мордвинова и Сперанского во Временное правительство, поэтому Николай решил, что именно Сперанский и должен взять на себя ответственность за приговор над дворянами.
Николай хотел расправиться с главными «извергами» при помощи полковых судов, без всякого расследования. Еще четвертого января он писал брату Константину, что тех участников восстания, которые «первые подняли руку против своих начальников», следует судить в двадцать четыре часа в полках «только за самый факт» и подвергнуть смертной казни «при посредстве солдат, выбранных из самого полка». Но Сперанский отговорил его от столь опрометчивого шага.
— Ваше величество, — сказал он новому императору, — этого не следует делать. Таким образом вы превратите своих врагов в мучеников, в искателей правды, а себя в русского Нерона! Любое преступление должно быть осуждено по закону. Только одобренный судом приговор отвечает справедливости. Тогда даже самая суровая кара покажется необходимой, и никто не обвинит вас в жестокости, ибо не вы, а закон осудит преступников.
Сперанский неплохой дипломат, он прав!
И Николай сказал правоведу:
— Настало время, когда вы можете доказать свои верноподданнические чувства. Моя вера в вас пошатнулась после того, как стало известно, что вы тоже в какой-то мере причастны к этому политическому делу. Это следует из показаний злоумышленников.
Сперанский понял намек. От слов и пристального взгляда Николая ему сделалось не по себе.
— Ваше величество, всевышний видит, что я ни в чем перед вами не виноват. Я не знал и не мог знать намерений государственных преступников и никогда бы не согласился войти в их Временное правительство.
В душе Николай ненавидел всех, кто, пусть даже невольно, сочувствовал бунтовщикам или имел хотя бы косвенное отношение к заговору; он никому не доверял.
— Вам выпал случай доказать свою преданность нашему престолу, — изрек самодержец.
Сперанский понял, что от него требуется. Трудная, неблагодарная миссия, но он уже не раз испытал на себе царскую немилость и не желал подвергнуться новой опале. Лучше обвинять других, чем самому быть обвиненным в преступлении, какого не совершал.
Поручение царя было тягостно для Сперанского еще и потому, что многих арестованных он знал лично. Его принимали в семействах аристократов как человека разумного, честного и справедливого. И вот теперь придется пускаться на разные юридические хитрости и опутывать паутиною тех, кого надумал покарать мстительный Николай Первый.
Особенно зыбкими были обвинения против Пестеля. Ведь его арестовали не с оружием в руках, а за день до восстания в Петербурге, на юге Украины. Однако именно Пестеля хотел как можно суровее наказать император.
И тогда Сперанский, чтобы легче определить тяжесть вины каждого преступника, решил разделить всех на разряды, а некоторых оставить вне разряда.
Николаю понравилась подобная форма юриспруденции. Он одобрил предложение правоведа.
Первого июня 1826 года император подписал манифест о создании Верховного уголовного суда «для суждения государственных преступников». Третьего июня начались заседания суда. Были зачитаны «Донесения» следственного комитета, сообщены подробные сведения о каждом подсудимом.
Узники не сомневались, что их вызовут в суд, дадут возможность защищаться. Многие из них так верили в милосердие царя, что мечтали прямо из помещения суда отправиться домой. Надеялись, что карою им будут несколько месяцев, выстраданных в крепости.
Царь написал матери, что он не прибегнет к казням. Но в то же самое время начальник Главного штаба барон Дибич уведомлял председателя Верховного суда действительного тайного советника первого класса князя Лопухина:
«На случай сомнения о виде казни, какая сим преступникам судом определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что его величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную».
Тем самым Николай милостиво подсказал казнь бескровную — виселицу!
Под руководством Сперанского был составлен «Список лиц, кои по делу о тайных злоумышленных обществах предаются по высочайшему повелению Верховному уголовному суду в силу Манифеста от 1-го числа июня сего 1826 года». В соответствии с этим списком предавался суду сто двадцать один человек: члены Южного и Северного обществ, а также Общества соединенных славян. Обвиняемые были разделены на одиннадцать разрядов — по тяжести их «преступлений»; пять лиц, наиболее ненавидимых Николаем, остались «вне разрядов».
Готовый приговор лежал на императорском столе, а узники Петропавловской крепости ждали суда, надеясь на милость монарха и его благородное сердце.
Для прочтения приговора в комендантский дом первыми привели Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Рылеева и Каховского.
Двери в вал, где недавно заседал следственный комитет, были плотно закрыты.
Что за ними — никто не знал.
— Наверное, отсюда нас повезут в суд, — тихо проговорил Сергей Иванович. — А может быть, русская Фемида будет заседать здесь? Да, вероятно.
— Вряд ли, — возразил Каховский. — Ходили слухи, что нас будет судить Сенат. С какой же стати члены Сената приедут в крепость?
— Все зависит от его величества, — не без иронии заметил Рылеев. — Он тут высший судья. Как прикажет, так и будет.
Другие молчали, хотя стояли так близко друг к другу, что могли расслышать даже шепот простуженного Рылеева. Почему-то не верилось, что именно сегодня, да еще в крепости, состоится суд.
Низенький курносый чиновник, все время вертевшийся у дверей, вдруг распахнул их настежь. Конвоиры подтолкнули узников, и они вошли в знакомый зал. Только теперь там было больше столов, за ними сидели восемнадцать членов Государственного совета, тридцать шесть сенаторов, три митрополита, пятнадцать высших чиновников и военных.
Посреди большого стола стояло «Зерцало» — трехгранная призма, по бокам которой были выгравированы указы Петра Первого, касающиеся защиты гражданских прав.
Столы были застелены красным, на этом фоне радужно отсвечивал государственный знак. Сверкали золотом расшитые мундиры судей.
«Целый синедрион собрался! Значит, все-таки суд», — подумали узники, остановившись довольно далеко от стола, как приказал им плац-майор.
Всех построили шеренгой, лицом к государственным мужам. В центре узники заметили пюпитр, похожий на церковный аналой. На нем толстая книга в черном переплете. Около пюпитра замер чиновник — толстенький, совершенно лысый, в пенсне с золотой оправой.
Министр юстиции Лобанов-Ростовский, в парадном мундире, с андреевской лентой через плечо, подал чиновнику знак, и тот начал читать приговор.
В тревожной тишине зала медью падали слова. А подсудимые не понимали, почему им зачитывают приговор, если еще не было заседания суда. Ведь это нарушение гражданских прав, записанных на «Зерцале».
Бестужев-Рюмин с любопытством разглядывал важных чиновников — лысых, с бородами и чисто выбритых, с одутловатыми морщинистыми физиономиями, с толстыми подбородками, подпиравшимися высокими воротниками, — и стройных военных в мундирах разных цветов.
Казалось, они равнодушно слушают чиновника — им давно известно, что написано в черной книге. На самом деле судьи ждали истерики, отчаяния, мольб о помиловании и потому не сводили глаз с осужденных, пристально всматриваясь в их бледные, изможденные лица.
Каховский мрачно смотрел на Лобанова-Ростовекого, будто не чиновник, а сам министр юстиции рвал словами зловещую тишину, повисшую в зале. Каховский давно ругал себя за слабость, за то, что так легко поверил льстивым словам Николая и, сам того не ведая, изменил делу и товарищам, откровенно рассказав ему все. А царь надул, обманул, как неразумного мальчишку, и теперь мог издеваться над его наивностью.
Своей искренней исповедью Каховский думал спасти друзей, принести пользу делу. А что вышло? Измена, подлость и вечные укоры совести. Вот почему он почти не слушал чиновника, глядя на неподвижных судей.
Рылеев был совсем измучен, похож на мертвеца. Только торчали скулы да горели глаза, как у чахоточного. После сырых стен и вечных сумерек равелина в этом зале было так много света, что больно было смотреть.
«Чувствует ли Наташа, что мне в эти минуты зачитывают приговор? Наверное, каторга или крепость, и не на один год. А ведь нет ничего тяжелее разлуки», — думал он с горечью.
— «...Рылеев Кондратий замышлял цареубийство и подстрекал к этому преступлению других злодеев», — читал чиновник более звонко, чем протодиакон в соборе.
Сергея Муравьева-Апостола судьи разглядывали с любопытством и страхом. Ведь это он поднял восстание в Черниговском полку и с оружием в руках выступил против монархии. Этот русский якобинец был правой рукой Пестеля.
— ...Превосходя прочих государственных преступников злыми помыслами и силой примера, — громко читал чиновник, — необузданной злобой, упорством и требуя цареубийства, эти злодеи поставили себя вне разряда, и суд приговорил их к казни...»
«Смерть!» — пронзило мозг. Но никто из осужденных не вздрогнул.
Судьи тоже словно окаменели — ждали, какое впечатление произведет на преступников страшный приговор.
— «...четвертованием!» — протяжно договорил чиновник и бросил взгляд на осужденных, которые по-прежнему стояли неподвижно, точно приговор касался кого-то другого.
«Судят, как разбойников или убийц, — подумал Пестель, глядя поверх голов на клочок неба за окном комендантского дома. — Да, этого мы не ожидали. Странно! Чем дольше живет человек, тем глубже начинает он понимать смысл вещей».
— «...Руководствуясь высочайшим милосердием, Пестеля Павла, Рылеева Кондратия, Каховского Петра, Муравьева-Апостола Сергея и Бестужева-Рюмина Михаила — повесить...»
За столом пошевелились, скрипнуло кресло. И снова тишина.
Смертники не двигались и ничем не проявляли страха или растерянности. И мужество обреченных на казнь взбесило тех, кому Николай поручил это дело. Сейчас они смотрели на осужденных в неприкрытой злобой и раздражением. Их выводили из себя эта стойкость, это презрение к смерти и к царскому милосердию.
— Неисправимые преступники! — зашептали за столом.
— Они заслуживают четвертования!
Председатель приказал плац-майору увести осужденных. Ни один из пяти смертников не произнес ни слова. Они вышли из зала молча, как и вошли.
Не успели судьи излить свой гнев и возмущение против непреклонных зачинщиков революции, как Подушкин уже вел в зал тех, кто был занесен в первый разряд.
Воспользовавшись тем, что дверь в смежную комнату, куда прошли Пестель и его товарищи, закрыли неплотно, Лорер бросился туда:
— Павел Иванович... дорогой... вас судили?
— Нет, друг мой, зачитали заранее составленный приговор. К чему лишние формальности? — с иронией отвечал Пестель. — В России послать на виселицу можно и без суда.
— Смертная казнь?! — испуганно воскликнул Лорер и побледнел. — За что? Не может быть...
— Да, мой друг, в наше время все может быть!
Лорер крепко обнял Пестеля. Как много говорили они в Линцах о будущем России, о свержении абсолютизма! И хотя пребывание в каземате оставило на лице Пестеля глубокий след, он и сейчас оставался тем же мужественным борцом за светлые идеалы, каким его знал Лорер.
Конвоиры, сочувствуя офицерам, словно не замечали нарушения правил. Но вот в комнату ворвался безносый плац-майор.
— Разговаривать запрещено! — злобно закричал он на Пестеля и Лорера. — А вы куда смотрите? — набросился он на стражу. — Под суд отдам!
Солдаты вывели Лорера.
— Прощай, Павел Иванович!
— Прощай, мой друг!..
Дверь плотно закрылась.
Входя в зал, Лорер успел сообщить товарищам о приговоре. Но Якушкин, стоявший к нему ближе других, сказал:
— Не волнуйся, Николай Иванович, император просто решил попугать, потом он помилует. За что же так сурово карать? Ведь мы не убийцы, мы стремились действовать на пользу отечеству.
Тридцать человек, входивших в первый разряд, построили полукругом подальше от стола, и тот же чиновник, точно актер со сцены, опять зазвенел медью:
— «...Сергея Трубецкого, Ивана Якушкина, Евгения Оболенского, Ивана Пущина, Вильгельма Кюхельбекера, Матвея Муравьева-Апостола, Александра Бестужева, Никиту Муравьева, Дмитрия Щепина-Ростовского, Артамона Муравьева, Василия Давыдова, Алексея Юшневского, Сергея Волконского, Василия Повало-Швейковского, Андрея и Петра Борисовых, Ивана Горбачевского, Якова Андреевича... лишить всех прав, чинов и орденов, приговорить к смертной казни — отсечению головы».
Чиновник умолк, вытирая платком потное лицо. Зловещая тишина воцарилась в зале. Потом в руке тучного сановника зашелестела бумага, кто-то вздохнул.
И вдруг спокойный голос взорвал тишину:
— Нет такого закона, чтобы судить человека заочно, лишив его права на защиту.
— Кто наши судьи? Кто дал им право распоряжаться чужой жизнью?
— Молчать! Увести!.. — приказал председатель плац-майору, не считая нужным отвечать на протесты осужденных.
Подушкин негодовал на узников: они нарушили извечный порядок в крепости, где полагалось только молча выслушивать предписания начальства и безоговорочно подчиняться им.
Затем в зал ввели семнадцать человек, отнесенных ко второму разряду. Среди них были Константин Торсон, Михаил Лунин, Николай и Михаил Бестужевы, доктор Вольф, Иван Анненков, Василий Ивашев.
И опять чиновник, откашлявшись, объявил приговор:
— «...к политической смерти, а после того на вечную каторгу. Николая Лорера, Александра Одоевского, Николая Бобрищева-Пушкина, Михаила Нарышкина — к пятнадцати годам каторги и на вечное поселение в Сибирь...»
Чиновник устал, умаялись члены Верховного суда — долго пришлось им сидеть, пока зачитывали приговоры всем осужденным.
Смертников разместили в казематах Кронверкской куртины.
Вечером флигель-адъютант Адлерберг поспешил в Зимний, чтобы доложить Николаю о том, как восприняли приговор государственные преступники.
В Петербург приезжали представители европейских держав и правительств и, как предписывал международный этикет, поздравляли нового императора России с восшествием на престол.
Приговор над декабристами произвел тяжелое впечатление и на жителей столицы, и на приезжих гостей. О суровости и несоответствии наказания степени преступления говорили не только в салонах петербургской и московской аристократии — об этом говорили юристы Европы. Ознакомившись с сутью дела, большинство знатоков юриспруденции пришли к выводу, что многие обвинения, предъявленные следствием, несостоятельны. Вина значительной части обвиняемых состояла лишь в том, что они вели беседы и дискуссии о лишении Романовых престола. Но подобные беседы вели и те, кто остался на воле, — что же, значит, и они подлежали суду?
Лукавые царедворцы, назначенные членами Верховного суда, прекрасно понимали, как выслужиться перед монархом: они вынесли обвиняемым суровейшие приговоры, чтобы Николай впоследствии мог явить свою милость. Хитрый и мстительный, он хотел предстать перед Европой милосердным и гуманным...
Английский маршал Веллингтон на аудиенции у российското императора позволил себе в деликатной форме дать ему совет:
— Ваше величество, проявите сострадание к заговорщикам дворянам. Пусть ваше царствование не будет омрачено смертью тех, кто раз ошибся. Венценосец — идеал для верноподданных, образец высокого человеколюбия и справедливости для всех, живущих под его скипетром.
Улыбка застыла на лице Николая, но Веллингтон ее не заметил.
— Господин маршал, — любезно отвечал русский царь, глядя поверх головы важного гостя, — я чту ваше мнение и рад выполнить любую просьбу касательно осужденных Верховным судом. Я удивлю Европу, оказав отеческую милость и проявив христианское всепрощение. Поймите — их судил не я, а закон России! А перед законом все равны — и цезарь, и плебей.
— Мне очень приятно слышать подобные слова из уст вашего величества. Это глас гуманности и великодушия, — наклонил голову Веллингтон. Из истории своей страны он хорошо знал причины разных заговоров, восстаний и волнений. Для него не было тайной и то, как расправляются власть имущие с руководителями и участниками революционных движений.
О том же просил Николая и французский маршал Мортье. Император России и его успокоил обещанием помиловать смертников. И опять повторил, что не он осудил злодеев, а закон, которому обязаны повиноваться даже цари.
Каждый день в один и тот же час к Николаю Первому являлся начальник Главного штаба в рапортом о настроениях в армии, о ходе следствия в Могилеве над офицерами, а в Белой Церкви — над нижними чинами. Император равнодушно слушал Дибича, думал о чем-то другом.
В первые дни царствования Николай чувствовал себя человеком, стоящим на кочке посреди болота: неосторожный шаг — и тебя засосет, следа не останется. Когда же он подавил восстание и руководителей его заточил в крепость, то ощутил, что земля под ним больше не дрожит. Однако все еще не было уверенности, что Россия в его руках и опасность миновала навсегда.
Но вот следствие закончено, то, что недавно пряталось под покровом тайны, известно. Однако все ли недруги наказаны? Где гарантия, что не возникнут новые тайные общества и другие люди не продолжат революционную деятельность своих предшественников? И, быть может, когда-нибудь победят?.. Нужно повсюду иметь свои глава и уши, чтобы все знать своевременно, чтобы одолеть врагов хитростью, а при случае и отомстить им. Нет, он ничего не забудет и никому не простит! Но со временем, не теперь. А пока — выдержка и терпение!
Вот какие соображения бродили в голове у Николая, когда он выносил восставшим приговоры. И не мера преступления, а личная неприязнь — в той или иной степени — руководила им, когда решалась судьба человека, замешанного в заговоре. За одно преступление — разные наказания! Николай делал это сознательно, пренебрегая справедливостью и законом. Да и что такое закон, если речь идет о его недругах! Справедливость — понятие относительное и зависит от взгляда на вещи.
...Николай слушал рапорт барона Дибича. Барон докладывал:
— Ваше величество, генерал Антонов сообщает, что следствие над нижними чинами закончено. Все преступники получили по заслугам. Во время исполнения сентенции не было никаких нарушений. Присутствовавшие при этом военные части и те, на кого была возложена экзекуция, держались достойно, действовали как верноподданные престола и вашего величества. Основная масса виновных прогнана сквозь строй из тысячи человек по двенадцать раз. Большинство не выдержали двенадцати тысяч шпицрутенов и умерли. Однако это не помешало довести наказание до конца: экзекуция продолжалась над мертвым телом.
Николай как будто не слушал начальника Главного штаба. Но когда барон умолк, чтобы перевести дыхание, поднял на него глаза.
Дибич заторопился:
— Из нижних чинов бывшего Черниговского полка предано экзекуции сто двадцать человек. Часть из них обнаружила слабость и во время наказания умерла. А те, кто выдержал три тысячи и более шпицрутенов и розог, отправлены в Сибирь, на каторжные работы, или на Кавказ без права выслуги... — Дибич на мгновение остановился и продолжал: — Что касается наказанных офицеров, ваше величество, то презус суда командир Третьей пехотной дивизии генерал-майор Набоков прислал сентенцию для утверждения ее вами.
Начальник Главного штаба подошел к столу и положил бумаги. Николай принялся читать.
Дибич ждал, глядя в окно. В Петербурге был тихий солнечный день. Чистое небо, тщательно вымытое дождем. «Хорошо бы сейчас сесть в лодку да поплыть куда-нибудь подальше от города. А потом причалить к уютному островку, заказать рыбакам уху и, сидя у костра, помечтать, пофилософствовать о сущности бытия и коварстве судьбы...»
Дибич вздрогнул. Император может прочитать его негосударственные мысли. А подобает ли начальнику Генерального штаба в присутствии монарха, да еще в столь беспокойное время, предаваться неслужебным размышлениям? Мечтают либо женщины, либо те молодые люди, которые успели разочароваться, не сделав еще и шага по жизненному пути.
Дибич взглянул на императора. Он уже начал привыкать к Николаю Романову и по едва заметной перемене в его лице мог сказать, доволен тот или нет.
«Доволен», — решил барон.
Приговор, вынесенный офицерам в Могилеве, Николаю понравился.
«...Военный суд, — продолжал читать император, — приговорил штабс-капитана Соловьева и поручика Сухинова, как клятвопреступников, подстрекателей, бунтовщиков, изменников, хулителей высочайшей власти, — на основании уложения главы 2 статьи 1 и военных 19, 20, 127 и 135 арикулов — к четвертованию. Подпоручика Быстрицкого и прапорщика Мозалевского — к четвертованию. Штабс-капиана Маевского, поручика Петина и подпоручика Войниловича — к отсечению головы. Поручика Сизиневского и подпоручика Рыбаковского — к новешению».
Николай дочитал приговор и взглянул на Дибича.
— К чему эта жестокость барон? Четвертовать... повесить! Завидую венценосцам, которым никогда не придется читать подобных сентенций.
Дибич понял, какой струны надо коснуться, чтобы угодить новому императору.
— Ваше величество, пока есть государственные преступники, до тех пор будут существовать наказания. А все наказания жестоки для человека.
— Понимаю, барон, — вздохнул Николай и опять уставился в бумаги. — Но так хочется быть гуманным — даже в тех случаях, когда милосердие вредит правосудию. Жестокость озлобляет, ожесточает сердца. А благородство души требует чистой любви, как святая церковь всепрощения. Эта истина не нуждается в доказательствах.
— Ваше величество, вы караете и милуете именем России, а она всегда справедлива.
— Да, барон. Россия справедлива, и потому, монарх с болью в сердце должен выполнять ее волю. Что у вас еще?
— Ваше величество, бывшего штабс-капитана Грохольского Дмитрия, тысяча семьсот восемьдесят четвертого года рождения, из дворян Смоленской губернии, разжалованного в рядовые за грубость и дерзость по отношению к батальонному командиру и переведенного на службу в Черниговский полк, военный суд приговорил к экзекуции. Преступник получил шесть тысяч шпицрутенов. Ракуза Игнатий, из поручиков Пензенского полка, разжалованный в рядовые Черниговского полка в тысяча восемьсот двадцать первом году также за грубость и непочтительность к начальству, лишенный дворянства и приговоренный к экзекуции, сошел с ума. Однако это не спасло его от наказания. Шесть тысяч шпицрутенов он получил сполна в Белой Церкви...
— Хорошо! — прервал Дибича Николай. — Я уверен, что нарушений закона не было и все сделано согласно нашему повелению. Я только хотел бы, чтобы исполнение сентенций над пятью государственными преступниками, осужденными на казнь, свершилось в пять часов утра. Пусть они отстоят в церкви заутреню, а также заупокойную службу и лишь после этого идут на виселицу. Чтобы избежать скопления простонародья, следует объявить, что казнь состоится на Волковом поле. Чернь кровожадна, рабы испокон веку любят такие зрелища. Пока простолюдины будут собираться на Волковом поле, злоумышленников повесят на валу крепости. Что касается сентенций относительно других осужденных, действуйте согласно моим прежним указаниям. Священника Черниговского полка Даниила Кейзера, присоединившегося к бунтовщикам, лишить сана и отправить в Бобруйск, в рабочие арестантские роты.
Барон Дибич вышел из кабинета. Николай взял перо и на приговоре Могилевского военного суда наложил резолюцию, гласившую: «Барона Соловьева, Сухинова и Мозалевского по лишении чинов и дворянства и переломлении шпаг над их головами перед полком поставить в г. Василькове, при собрании команд из полков Девятой пехотной дивизии, под виселицу и потом отправить в каторжную работу вечно. К той же виселице прибить имена убитых Кузьмина, Щепилло и Муравьева-Апостола, как изменников, по выкличке из списков.
Николай».
Затем он позвонил. Когда на пороге вырос Адлерберг, Николай приказал изъять из дела любые упоминания об отмене крепостного права и сокращении срока солдатской службы, точно заговорщики вовсе не касались в своей программе этих вопросов.
Соловьева, Сухинова, Мозалевского и Быстрицкого после суда отправили из Могилева в Острог на Волыни, где квартировал вновь сформированный Черниговский полк. Всех осужденных в Могилеве держали очень сурово, а этих четверых к тому же заковали в кандалы. Обращались с ними крайне жестоко, желая выслужиться перед новым императором. К этому поощряло жандармов начальство. Подхалимы, чтобы угодить, старались вовсю и создавали узникам невыносимые условия.
На другой день в Остроге построили Черниговский полк, совершенно чужой для осужденных. Первую гренадерскую роту, как верноподданную, Николай приказал перевести в гвардию, а из Первой мушкетерской, не принимавшей участия в восстании, с капитаном Вульфертом во главе, сформировать Первую гренадерскую нового Черниговского полка. Остальные роты были расформированы, часть солдат отдали под суд, других разослали по разным полкам без права выслуги.
Итак, из старых вольнодумцев почти никого не осталось. Перед закованными в кандалы, изможденными и оборванными узниками стоял чужой полк — его привели на площадь незнакомые офицеры под командованием полковника Гебеля.
Гебель, повышенный в чине, чувствовал себя победителем и с презрением поглядывал на Соловьева и Сухинова, которые так грубо обошлись с ним в Трилесах в ту декабрьскую ночь и даже чуть было не убили его.
Гебель ничего не забыл. Будь его сила и власть, он еще не так отплатил бы наглецам.
Командовал церемонией начальник штаба Третьего корпуса князь Горчаков. На белом в яблоках коне гарцевал князь перед полком. Его больше интересовали женщины, собравшиеся на гражданскую казнь осужденных офицеров, нежели сами приведенные из тюрьмы узники.
Первыми на «лобное место» поставили Соловьева и Быстрицкого. Полк замер по команде «Смирно». Чиновник громким голосом зачитал приговор военного суда, солдат переломил над головой у каждого шпагу. И сразу же кузнец снял с осужденных старые кандалы, заковал их в новые.
Потом подвели Сухинова и Мозалевского, чтобы то же самое проделать и с ними.
Когда чиновник произнес: «Лишить чинов и дворянства, отправить навечно в каторжные работы», — Сухинов не выдержал и крикнул:
— В Сибири тоже светит солнце и живут люди. Проживем и мы!
— Молчать! — заорал князь Горчаков, подлетая на коне. — Я тебя вторично отдам под суд за нарушение порядка. Умрешь под шпицрутенами!
— Ваше сиятельство, смерть не самое худшее, что может постичь честного человека.
— Заткните ему глотку! — приказал Горчаков страже.
Солдат силой нагнул голову Сухинова над плахой и переломил шпагу.
Подъехала кибитка. Закованных в новые кандалы Соловьева, Сухинова и Мозалевского под усиленным караулом прямо с площади повезли в Житомир, а оттуда в Васильков.
Быстрицкого погнали в тюрьму, чтобы потом вместе со всеми отправить в Сибирь.
На Соборной площади в Василькове плотники ставили большую виселицу: следовало настращать не только жителей местечка, но и Тамбовский пехотный полк, квартировавший теперь там. Для кого строилось это сооружение под надзором городничего Девильерса и земского исправника Кузьмина, люди не знали, хотя и догадывались.
Леся услыхала, что ставят виселицу, еще прежде, чем плотники принялись за работу. Эту новость принес отец. Рубашевскому, как заседателю земского суда, было известно о предстоящей церемонии. В тот день только и разговору было, что о таинственном сооружении, для которого уже начали возить доски.
Хозяйка с осуждением взглянула на мужа: зачем за обедом да еще в присутствии дочери рассказывать столь ужасные вещи? Леся и так вся извелась, не спит по ночам, осунулась.
— А может быть, никого и не повесят, только попугают, — попробовал исправить свою ошибку Рубашевский.
Он вытер салфеткой губы и откинулся на спинку стула, как человек, хорошо пообедавший и теперь мечтающий только о покое и отдыхе. В самом деле — какое ему дело до виселицы и вообще до чужой судьбы? Ему самому ничто не угрожает, у него есть служба, его дом — полная чаша. Зачем же зря волноваться?
После подавления солдатского восстания в Василькове опять воцарилась тишина. Вместо Черниговского полка там расквартировали Тамбовский, в жизни обывателей ничего не изменилось. Командир Тамбовского полка тоже будет давать новогодние балы, и так же будет играть военная музыка. Из окрестных имений съедутся помещики, женщины будут выставлять напоказ модные туалеты, матери привезут своих чад на первый бал — вернисаж. Все, как и раньше.
Дальше ход его мыслей прервался, стали слипаться веки. Рубашевский поспешил в спальню.
Леся тоже встала из-за стола, но мать остановила ее.
— Отец напугал тебя? Не принимай близко к сердцу эти глупости. Не прислушивайся к неприятным известиям. Ты и нынче почти ничего не ела. Так можно совсем исхудать. Ну подумай, кому ты будешь нужна, такая унылая и измученная? А ведь ты невеста, тебе пора вить собственное гнездышко.
— Не беспокойтесь, мама, — печально взглянула на нее Леся. — Просто мне не хочется есть. И голова разболелась. Пойду немного полежу, и все пройдет.
Леся поцеловала мать и ушла в свою комнату. Рубашевская тревожным взглядом проводила дочь.
«Что с нею творится, ума не приложу! С кем посоветуешься, кому расскажешь свое горе? Леся всегда была такая веселая, такая певунья. На рождество на балу у Гебеля так хорошо танцевала, все ее хвалили. А потом заскучала. Может быть, сглазили? Надо непременно съездить к сестре, посоветоваться хоть с нею».
Леся тоже часто вспоминала бал у Гебеля: в тот день она, увы, последний раз виделась с Сухиновым. Это было, когда в Васильков пришли восставшие черниговцы: они арестовали майора Трухина и отслужили на Соборной площади молебен. А потом поползли слухи об арестах солдат и офицеров.
Ужасно! Почему люди так жестоки? Кто научил их убивать, мучить, строить тюрьмы? И для кого? Для таких же, как они сами! Но ее любимый, поручик Сухинов, — иной. Он нежный, правдивый. Обещал приехать просить у родителей ее руки. И родители, конечно, не откажутся благословить их на брак. Ведь Иван самый лучший среди всех офицеров. Ему как никому другому к лицу гусарский ментик.
И вдруг все смешалось, перепуталось. Сухинов забежал на минутку попрощаться. Он выступал в поход с черниговцами, а ведь мог бы остаться. Он должен был ехать в Александрийский гусарский полк, но почему-то пошел с бывшими однополчанами. И даже не сказал, куда, надолго ли. Наверное, это военная тайна.
С тех пор Леся больше не видела любимого. Но каждый день ждала его. Прошла зима, миновала и весна. Она представляла себе, как он подъедет к их дому, легко спрыгнет с седла, а она бросится к нему и больше никуда не отпустит.
Мечты, мечты! Как вы милы даже в непогоду, когда весь горизонт затянут тучами, когда буря за окном ломает деревья и ливень изо всех сил хлещет землю...
Всю зиму в Васильков ездили жандармы, фельдъегери, всякое начальство. Через местечко гнали закованных в кандалы солдат. Говорили, что и в столице неспокойно. А Сухинов не появлялся и не подавал о себе вестей. Где он? Что с ним? Спросить было не у кого: в Василькове не осталось ни одного знакомого офицера.
Отец возвращался домой мрачный, за обедом молчал. Сегодня впервые заговорил о виселице.
Хотя тревога ни на минуту не покидала ее, Леся все же верила, что Сухинов жив и в один прекрасный день неожиданно вернется в Васильков. Тогда он расскажет, где пропадал столько времени, почему не отзывался. Ну и отругает же она его за то, что заставил ее так долго волноваться, не спать по ночам! А потом простит, потому что очень любит его...
Однажды вечером Леся случайно услышала, как отец сказал:
— Завтра на Соборной площади будут наказывать офицеров-черниговцев, осужденных в Могилеве военным судом.
Мать испуганно спросила:
— А их не повесят?
— Да нет, — успокоил ее муж. — Поставят под виселицу, зачитают сентенцию, переломят над головой шпагу и повезут в Сибирь. Это
гражданская смерть, понимаешь? Позор перед армией. Завтра на площадь не пробьешься, все местечко высыплет. Хочешь, и мы пойдем?
— Если не будут вешать, это не страшно, — согласилась мать.
— Наверное, мне поручат читать сентенцию, ведь у меня громкий голос. А может быть, приедет чиновник из Могилева, — предположил Рубашевский. В душе он молил бога, чтобы именно ему выпала эта честь.
Леся не подала виду, что слышала разговор родителей, но решила обязательно пойти посмотреть, кого будут наказывать.
Рубашевская сначала отговаривала дочь, однако потом согласилась: пусть рассеется, побудет на людях, а то все дома да дома.
День выдался тихий, солнечный, на небе ни облачка. С самого утра к Соборной площади потянулись люди. Многие приехали из окрестных сел.
Рубашевский позаботился о жене и дочери: проводил их на высокое крыльцо, откуда было хорошо видно, что делалось около виселицы.
На площади море голов — шляпы, платки. Мальчишки, подростки влезли на деревья и крыши — издали кажется, будто их облепили птицы. Немилосердно печет солнце, по лицам ручьями течет пот.
А на крыльце тень. Леся в тревоге смотрит на помост, на шеренги военных и думает об осужденных. На душе тяжесть: ей жаль их. За что их подвергают такому позору? Что дурного они сделали, чтобы так мучиться?
К виселице прошествовал батальон, набранный из солдат Девятой дивизии, и построился напротив Тамбовского полка. Как только батальон занял свое место, послышались голоса:
— Ведут! Ведут!..
Точно волна пробежала по живому человеческому морю. Эхо раскатилось по самым дальним углам площади и потонуло в зловещей тишине.
Впереди ехали всадники — освобождали дорогу трем узникам, которые медленно брели под палящим солнцем, позванивая кандалами.
— Мученики!.. — вырвалось из сотен грудей.
У тех, кого вели на виселицу, в самом деле был страдальческий вид — оборванные, изможденные, простоволосые. Никто не узнал бы в них бравых офицеров, которых когда-то провожала по улицам местечка не одна пара женских глаз. Теперь они вызывали лишь жалость и сочувствие.
Не узнала и Леся своего любимого. Сухинов тяжело переставлял закованные в кандалы ноги, но голову держал высоко, в глазах светилось презрение к высшим офицерам в раззолоченных мундирах и вообще ко всему, что нынче, подобно огромной черной туче, надвинулось на Россию. А он, молодой поручик, любил Россию, ради нее ступил он на свою опасную дорогу.
Соловьев и Мозалевский шли, опустив головы. После сырых и темных камер они почти ощупью брели по озаренной солнцем земле. Еще недавно они ходили здесь в лакированных сапогах, а не в этих тюремных опорках, которые еле держатся на потрескавшихся, огрубевших ногах...
Прозвучала команда. Войска замерли. Толпа покачнулась и тоже замерла неподвижно.
Палач в длинной рубахе и широких штанах зачем-то потрогал веревочные петли, свисавшие с перекладин виселицы, важно прошелся по помосту, рисуясь перед зрителями.
Рубашевский громко читал сентенцию, четко произнося каждое слово. Но разве в дальних уголках площади услышишь? И люди подхватывали его слова и передавали другим, чтобы все знали, о чем речь.
— «...Соловьева Вениамина, Мозалевского Александра, Сухинова Ивана...» — неторопливо выговаривал Рубашевский, и эхом разносились его слова в горячем воздухе.
«Сухинов?.. Иван?.. Отец назвал Ивана», — застучало в висках у Леси. Глаза ее подернулись слезами. Словно сквозь тусклое стекло пыталась она издали рассмотреть любимого в группе осужденных, стоявших под виселицей, как раз напротив палача. У нее перехватило дыхание, сердце, казалось, готово было выскочить из груди. Она старалась успокоиться, не верила своим ушам. Неужели произнесли имя поручика? «Не может быть! Не мог отец назвать Ивана!» — твердила она себе. Но тревога не проходила, и глаза видели плохо.
Как только Рубашевский зачитал приговор, палач подошел к Сухинову. Взял его за плечо и, обведя вокруг виселицы, поставил под петлей. То же самое проделал с Мозалевским и Соловьевым. Потом прибил к виселице дощечки с именами Кузьмина, Щепилло и Ипполита Муравьева-Апостола.
Все было сделано так, как приказал император.
По окончании церемонии осужденных снова окружил конвой. Их повели в тюрьму.
Когда они проходили мимо крыльца, где стояли Рубашевские, Леся узнала Сухинова.
— Иван!.. Дорогой!.. — отчаянно закричала она.
Чьи-то сильные руки схватили ее, втолкнули в сени.
Рубашевская закрыла руками лицо, и если бы не оперлась на стену, наверное, упала бы от страха и стыда.
— Иван!.. — последний раз долетело до Сухинова. Перед ним мелькнуло бледное лицо Леси, он узнал родной голос.
Еще по дороге в Васильков Иван Иванович очень волновался. Казнь, четвертование, любые муки пугали его меньше, чем этот позор в местечке, где когда-то он был так счастлив. Он и хотел последний раз увидеть Лесю, и боялся встречи с нею.
Накануне Сухинов не сомкнул глаз, никак не мог справиться с волнением. Успокаивал себя мыслью, что Леся не придет на площадь, что в этих лохмотьях его никто не узнает. Может быть, хоть на этот раз судьба сжалится над ним и убережет от новых страданий.
Но судьба не сжалилась.
Соловьев и Мозалевский, понимая все, молчали, однако в душе очень сочувствовали товарищу. Когда вернулись с площади, Соловьев в коридоре тюрьмы тронул Сухинова за покоть и сказал:
— Пусть тебе, друг мой, утешением и радостью будет твоя святая любовь. Гордись, что на земле есть душа, которая так преданно и верно тебя любит.
Заскрежетало железо, закрылись двери камеры. Сухинов точно обезумел; он ходил и ходил по этому каменному мешку — два шага вперед, два назад. Он готов был биться головой с стену, кричать, чтобы весь мир услыхал его и содрогнулся от подобной несправедливости, лицемерия и коварства. Но толстые стены одиночки были глухи, они не пропускали на волю голоса людей.
Со страхом заглядывал в глазок надзиратель, смотрел на узника, который, бренча кандалами, бился, как связанная пташка бьется в тесной клетке. «Покричит и успокоится. Не он первый, не он последний», — думал надзиратель.
А в доме заседателя Рубашевского царил переполох. Леся лежала, как с креста снятая. Мать плакала, тревожась за здоровье дочери. Рубашевский нервничал. Осрамила на все местечко! И по ком убивается? По государственному преступнику, лишенному дворянства, чинов и приговоренному к каторжным работам в Сибири навечно.
— А все ты, матушка, — нападал он на жену, которая бесцельно бродила по комнатам, боясь, что дочь от горя сойдет с ума или умрет, — ты виновата! Не нужно было брать ее на площадь. Все балы да гулянья! Дали волю девице. Подумать только — за дочерью заседателя, искреннего патриота, верноподданного, волочился государственный преступник!
— При чем тут мы! — защищала дочь Рубашевская. — Леся полюбила, как и многие девицы ее возраста. Какой же тут стыд? Разве за любовь бог карает или люди осуждают? Коли бы не эта беда с поручиком, зятем нашим стал бы...
— Не смей, богохульница, говорить такое! — зашипел на жену Рубашевский. — Типун тебе наязык! Породниться с государственным преступником, восставшим против самого императора! Его церковь прокляла, закон приговорил к каторге. Кому теперь нужна наша дочь? Себя ославила и наши головы позором покрыла.
— Чему быть, того не миновать, — с грустью говорила Рубашевская, прикладывая платок к опухшим от слез главам. — Лишь бы Леся выздоровела, на ноги встала. Одна она у нас радость.
При этих словах Рубашевский сразу представил себе дочь в гробу. От боли он даже закрыл глаза. Нет, он не переживет ее смерти, руки на себя наложит. И перестал кричать на жену, проникшись ее тревогой.
В доме заседателя потянулись тоскливые, печальные дни. Медленно возвращались к Лесе силы. Рубашевская радовалась, что все обошлось, что бог услыхал ее молит вы и исцелил дочь.
Сухинова не вспоминали, молили бога, чтобы черниговцев поскорее отправили в Сибирь. Но начальство почему-то не торопилось, это доставляло Рубашевским лишние волнения.
Наконец по местечку распространились слухи, что готовят к этапу большую партию уголовных преступников, а вместе с ними погонят и черниговцев.
Эту тайну, которую старательно скрывали от Леси родители, открыла ей горничная.
В тот день в утра стояла скверная погода, накрапывал дождь. Скоро дождь перестал, но тучи так и висели над Васильковом. Потом поднялся ветер, на минуту в тучах показался просвет, и снова все вокруг затянуло.
Тоскливо вызванивали на колокольне маленькие колокола. Печально шумели деревья, стряхивая на землю пожухлую листву, и от этого путь из Василькова на северо-восток казался еще более тяжким и скорбным.
Хотя тюремное начальство и не объявило о предстоящем этапе, многие горожане каким-то образом узнали об этом и вышли на околицу: там можно было лучше разглядеть каторжан и сунуть им в руку что-нибудь съестное. Люди-то голодные, а дорога не близкая...
Леся украдкой выскользнула из дома, огородами и переулками добрела до околицы, где уже собралось немало провожающих. Ни на кого не обращая внимания, она пошла дальше в поле. Ей не хотелось оставаться среди людей. Начнут расспрашивать, что да как, почему пришла сюда дочь заседателя, кого ищет. Да и вообще у нее была потребность побыть одной.
Вилась впереди бесконечная дорога, исчезая на горизонте. Холодный ветер пронизывал до костей. Леся дрожала. Но, может быть, ее била дрожь при мысли, что осужденных погонят не по этому тракту и она не сможет проводить своего поручика.
Леся уходила все дальше в степь, а когда оглянулась, вдруг увидела всадников и серую толпу. Замерло сердце, на глазах выступили слезы: это гнали арестантов.
Она остановилась у края дороги, возле куста терновника, и точно приросла к земле. А толпа каторжан медленно приближалась. Уже было слышно, как звенят кандалы, покрикивают конвоиры. Вот заржала лошадь...
Этим этапом вместе с офицерами-черниговцами гнали и Федора Скрипку. Шесть тысяч шпицрутенов вынес сердешный, на спине живого места не осталось — один сплошной струп и шрамы, словно приложили раскаленное железо, и оно нестерпимо жжет днем и ночью.
Но все выдержал Федор, не отдал богу душу, а на допросах ни словом не обмолвился о том, кто именно из офицеров бывал на квартире у подполковника Муравьева-Апостола и о чем они говорили. Федор все помнил, однако на вопросы следователей неизменно отвечал, что господа разговаривали только по-французски и поэтому он ничего не знает. И фамилии офицеров ему неизвестны.
А потом тысяча солдат с розгами в руках. Шесть раз провели Федора сквозь строй, шесть раз каждый солдат ударил его по спине, сдирая кожу. Дважды терял он сознание. Его отливали водой, ставили на ноги и снова вели сквозь строй невольных палачей.
Смерть миновала Федора. Но от прежней силы ничего не осталось. Не узнал бы его теперь подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Да и родная мать не узнала бы. Исхудал, почернел, лишь блестели зрачки.
Да и кто в этой толпе был похож на человека? Только уголовные преступники. Они привыкли к тюрьмам, этапам и чувствовали себя как в родной стихии. А те, кто впервые попал сюда, да еще после экзекуции, напоминали бесплотные тени.
Трудно Федору идти, да все-таки это лучше, чем сидеть в камере. Тут хотя бы свежий воздух, а в четырех стенах, право слово, ты как заживо погребенный — теснота, грязь, смрад.
Трут кандалы, нет конца дороге. Но если человек движется, ему кажется, что впереди брезжит свет. Он встречает в пути солнце, благословляет простор.
Вот у края дороги одинокая фигура. Молоденькая барышня. Видно, вышла кого-то проводить да так и застыла у тернового куста. «Наверное, и меня Дарина провожала бы, если б нас гнали через наше село. Но далеко Кролевец, и не там, знать, пролегает путь в Сибирь».
Глянул Федор на Лесю и, словно в тумане, увидел перед собой лицо Дарины. Даже зажмурился. Еще сильнее заболела спина, и горячий комок подкатил к горлу.
Леся сразу узнала Сухинова, и он узнал ее. Но старший конвоир не позволил ему выйти из толпы, чтобы попрощаться с любимой. Сердито закричал:
— Запрещено!..
Сухинов не услышал ни грозного окрика, ни ругани. Он шел, поддерживая руками кандалы и спотыкаясь, потому что не сводил глаз с Леси. А она точно окаменела. Он видел ее бледное лицо, большие, полные муки и горя глаза, ее худенькую девичью фигуру. Ему показалось, что у нее пошевелились губы. Может быть, Леся что-нибудь сказала, но ветер отнес ее слова в степь. А может быть, ничего не промолвила, вся охваченная болью за него, любимого, которого гнали по дороге, как скотину.
Каторжники смотрели на Лесю с уважением: только она забрела так далеко в степь — одна в этой холодной пустыне, под покрытым тучами небом.
— Прощай, Леся! — что есть мочи закричал Сухинов простуженным голосом. Его слова подхватил ветер и понес дальше.
— Молчать! — гаркнул старшой. И, подлетев на лошади к Сухинову, замахнулся нагайкой. — А то как бы не зацепило!
Каторжники возмутились:
— Пес ты, фараон! Может, и самого когда-нибудь так...
— Ножа под ребро захотел? У нас это быстро...
Тот сразу остыл. С такими шутки плохи. Зарежут где-нибудь на ночлеге, даром что без оружия и руки закованы.
— Прощай, моя любимая!..
Леся стояла как вкопанная, затуманенным взглядом провожая поручика. Кроме него, она ничего не видела.
Этап медленно побрел дальше. И уж не слышно голосов, только позванивает железо да еще громче поет над ухом свою печальную песню ветер. И вдруг какая-то сила подтолкнула Лесю, она кинулась вслед за каторжными. Ветер хлестал ее по лицу, срывал с головы платок, а она все бежала и бежала, не замечая, что ее настигает крытый возок. Одна мысль гнала ее к любимому: только сказать ему еще словечко, только еще раз взглянуть на него, оборванного, униженного законом, но для нее самого дорогого в мире.
Леся из последних сил взбежала на холм и закачалась, как тополь в степи. И упала бы на мокрую землю, если б ее не подхватили сильные руки отца. Через минуту она была в возке.
— Погоняй быстрее! — приказал кучеру Рубашевский.
Тот стегнул лошадей, и возок помчался в Васильков.
Стал накрапывать дождь, в степи потемнело. Но долго еще сквозь пелену тумана виднелась серая вытянутая шеренга и доносилось однообразное, как дождь, позвякивание железа.
Рассмотрев доклад Верховного уголовного суда, Николай нашел его, в общем, «сообразным», хотя и внес некоторые изменения. Осужденным по первому разряду смертная казнь заменялась вечной каторгой или двадцатилетней каторгой с последующей ссылкой.
В глухую полночь узников начали выводить во двор. Впервые за много месяцев разлуки встретились друзья. Обнимались, пожимали друг другу руки, радовались так, словно сейчас наконец очутятся на воле, навсегда распрощаются с холодными казематами Алексеевского равелина.
Но не воля ждала их впереди, это было страшное глумление над приговоренными к каторге. Глумление в завуалированной законом форме, издевательство, какое только могла изобрести мстительная натура победителя.
За два дня до этого Николай выехал из Петербурга в Царское Село. Генерал-адъютант Чернышев и барон Дибич каждые полчаса должны были посылать к нему фельдъегерей с рапортами. Царь боялся, что подчиненные сделают что-нибудь не так, нарушат порядок в совершении «политической казни». А ему хотелось, чтобы все произошло точно по его плану.
Но напрасно волновался Николай. Генералы Чернышев, Бенкендорф и новый генерал-губернатор Петербурга Голенищев-Кутузов, на которых было возложено исполнение сентенции, сделали все, чтобы угодить императору.
Плац-майор Петропавловской крепости Подушкин приказал узникам построиться. Их провели через мостик, отделявший Алексеевский равелин от крепости. На площади у собора остановились. Тут снова всех пересчитали и под усиленной охраной вывели из крепости через Петровские ворота.
Гвардейские полки полукругом окружили площадь; кое-где горели костры. От их бликов по земле ползли зловещие тени, и ночь казалась еще темнее.
Слева все увидели недостроенную виселицу — при свете костров создавалось впечатление, будто она упирается в черное небо.
На узниках была самая разнообразная одежда и обувь. Одни стояли без головных уборов, другие в папахах, в шляпах с султанами, в гвардейских касках с пером, в белых кирасирских колетах, в киверах. Здесь были генералы в парадных мундирах, отставные офицеры во фраках, в старых шубах и полушубках.
На ногах у осужденных были ботфорты, лакированные сапоги, тюремные опорки. Кое-кто стоял босой, хотя и в мундире. Сегодня им возвратили их одежду и обувь, поэтому почти все были обуты и одеты так, как их застали при аресте, как после первого допроса привезли в Петропавловскую крепость. При поверхностном взгляде на эту толпу можно было подумать, что здесь устроили ярмарочный балаган. Но эти серые, давно не бритые, измученные лица с печатью долгого пребывания в полутемных казематах...
Отблески костров придавали окруженной гвардейцами толпе фантастический вид. Однако друзья так обрадовались друг другу, что ничего не замечали. Наслаждались минутой воли.
Лунин обнимал Якушкина, Никита Муравьев сжимал своими худыми руками Оболенского, Лорер — Юшневского...
Лунин был в гвардейском мундире, на ногах какая-то рвань: его лакированные сапоги украли, и плац-майор Подушкин раздобыл гусару новую обувь. Лунин и Якушкин вспоминали тот день, когда они вместе ехали из Петербурга в Тульчин, чтобы познакомиться с Пестелем и другими товарищами из Южного общества. Стояла летняя жара, степь покрылась высокой травою, и по зеленому морю одна за другой перекатывались, отсвечивая серебром, волны. Солнце, синее небо над головой, а в душе светлые мечты, надежда на будущее и уверенность в своих силах. Могли ли они тогда представить себе, что настанет час, когда они будут стоять вот так на лугу у крепости, оскорбленные и униженные?
— Я все помню, Михаил Сергеевич, я никогда не забуду того путешествия, — с грустью проговорил Якушкин, не выпуская из объятий Лунина. — Тиран оказался хитрее нас. Но не будем сейчас об этом думать, друг мой! Может быть, вслед за нами придут другие, настоящие борцы, и Нерон российский падет, чтобы уж никогда не подняться. Я верю в это, как в то, что после ночи взойдет солнце и разгонит тьму. И в каземате не покидала меня эта надежда. И в Сибирь пойду с нею.
Никита Муравьев стоял рядом с Волконским. Последний был в генеральском мундире, словно вырядился на парад. Но, небритый, без шапки, с неестественно выпирающими скулами, казался намного старше своих лет.
— Жаль, что мало сделано, — сказал Муравьев, положив руку на плечо Волконскому и глядя на освещенные огнем ровные шеренги гвардейцев, словно вырубленные из гранита — такие они были неподвижные, безжизненные.
— Что делать, друг мой! Это от нас не зависело. У нас не было опыта, нам не хватало решительности и мужества, — ответил Волконский, вглядываясь в сторону крепости, где плотники под надзором генерал-адъютанта с белым султаном на шляпе достраивали виселицу и помост. — Просто не верится, что это сооружение предназначено для наших друзей — для Пестеля, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола... — Он не договорил.
— Россия не забудет их имена. Это ее апостолы правды и свободы.
— Но нам трудно осознать эту трагедию, — сокрушенно вздохнул Волконский.
Они замолчали, не отрывая взгляда от высокого сооружения на помосте, которое, казалось, своими длинными руками хотело дотянуться до ночного неба, да так и осталось висеть над землей, где в тревожном ожидании собралось множество людей.
Генерал-губернатор Голенищев-Кутузов объехал ряды гвардейцев. Его сопровождали генералы Бенкендорф и Чернышев.
Прозвучала команда, каре гвардейцев замерло. Осужденных разделили на две группы. Морских офицеров повели на баркас, чтобы везти их в Кронштадт (там на адмиральском корвете им должны были зачитать сентенцию и подвергнуть «политической казни»), а остальных построили четырехугольником перед гвардейскими полками.
Фурлейторы но команде подняли вверх шпаги, чтобы сломать их над головами осужденных.
Чиновник прочитал сентенцию, и по знаку Бенкендорфа с офицеров начали срывать ордена, эполеты, бросая их в огонь. Туда же швырнули и мундиры.
Осужденным приказали опуститься на колени и над головой у каждого переломили шпагу. Потом принесли новые тюремные халаты, всех переодели.
— Стройся! — громко скомандовал плац-майор. — Шагом марш!
Их повели мимо виселицы в крепость.
У Петровских ворот собралась большая группа высокопоставленных особ Санкт-Петербурга, пожелавших посмотреть вблизи на государственных преступников, лишенных всех прав и приговоренных к каторге. Они воображали, что увидят униженных, жалких людей, но в крепость возвращались гордые, мужественные борцы, словно это не над ними только что издевались слуги императора.
Чернышев послал фельдъегеря в Царское Село, извещая об окончании сентенции над заговорщиками. Николай Первый думал, что снятие орденов и сожжение их вместе в мундирами сразит осужденных, они всей душой почувствуют стыд и страх и, лишенные человеческих прав, станут более уступчивыми, будут молить его о помиловании, а слабые духом не обойдутся без истерики, слез и раскаяния. Однако донесения молчали о том, чего с таким нетерпением ждал Николай.
Царь был в ярости. Точно его враги, не выказав ни страха, ни раскаяния во время «политической казни», еще раз нанесли ему оскорбление. Осужденные проявили себя людьми неисправимыми, черствыми, бездушными, им даже не жаль было своих орденов, мундиров, офицерских чинов и дворянства! Исполнение приговора — «политическую казнь» — они восприняли как не стоящую внимания процедуру.
— Меднолобые клятвопреступники! Изменники престола! — шипел от злобы властитель России, глубоко обиженный на офицеров за их равнодушие к церемонии, происходившей в присутствии гвардии и разработанной им лично. — Я им этого не прощу! Они еще не раз почувствуют на себе силу моего гнева. Я запомню этот день!
На широком лугу догорали костры, дотлевали генеральские и полковничьи мундиры. А у Троицкого моста все еще стояла толпа. Петербургские ремесленники и другие простолюдины издали смотрели на помост и свежеобструганные столбы виселицы.
В Кронверкской куртине зловещая тишина. Куртина похожа на склеп для заживо погребенных. Деревянные камеры разделены тонкими перегородками, через которые можно переговариваться с соседями.
Камера Сергея Муравьева-Апостола находилась рядом с камерой Бестужева-Рюмина. Далее были одиночки Пестеля, Рылеева, Каховского.
Смертникам позволили написать письма и даже разрешили свидания с родными. Сестра Сергея Ивановича Екатерина, бывшая замужем за полковником Бибиковым, еще не зная, что брата приговорили к казни, поехала в Царское Село и вымолила у царя разрешение на свидание. Николай накануне казни милостиво согласился.
Екатерина Ивановна приехала в Петропавловскую крепость вечером. Ее провели в комендантский дом, в небольшую комнату, где стояли старый, залитый чернилами и поцарапанный стол и два стула грубой работы, и приказали подождать.
На столе горела свеча в медном подсвечнике. Рядом скомканный, забытый кем-то узорчатый платочек и старый журнал.
За низким окном видна полоска двора, там стоит дежурный гренадер. Еще виден краешек потемневшего неба — недавно погас последний луч тихого июльского дня.
Екатерина Ивановна старалась держаться спокойно, чтобы своим волнением не причинить еще больше боли брату. Она хотела вспомнить Сергея таким, каким видела его последний раз в Хомутце, а потом у Бибиковых. Но почему-то перед глазами вместо бравого подполковника все время стоял чужой, мало похожий на любимого брата человек.
Может быть, причиной тому было горе, свалившееся на семью, — смерть Ипполита, арест Матвея и Сергея. А может быть, она слишком волновалась, ожидая свидания, которое наконец-то позволил император.
По пути в крепость она услыхала о приговоре, но не поверила, что новый царь, от которого все ждали милостей и даже некоторых реформ, так жестоко расправится с людьми, желавшими счастья и благоденствия всему населению России и не совершившими ничего преступного по отношению к Романовым.
Нет, это невозможно было допустить. Всю дорогу Екатерина Ивановна успокаивала себя, чтобы хоть несколько минут сохранять самообладание и присутствие духа и тем самым подать брату надежду, а не опечалить его еще больше.
«Не может император быть так жесток. Ведь он тоже человек, а человеку свойственны милосердие и великодушие. И венценосец должен постоянно оказывать их, чтобы служить примером для верноподданных. Если бы Николаю Павловичу было чуждо благородство, разве он позволил бы нашему отцу свидание с Сергеем и Матвеем, когда закончилось следствие? А ведь он не отказал ему в просьбе. Так неужели он казнит брата? За что? Разве преступление Сергея перед престолом столь ужасно, что он может искупить свою вину только кровью? И неужели новый монарх захочет омрачить первый год своего царствования? Ведь это черное воспоминание навсегда останется в сердцах его подданных. Нет, я не верю, что Сергея и его товарищей покарают смертью. Нельзя величие помыслов уничтожать руками палача. Не должно!»
Вот с какими чувствами приехала Екатерина Ивановна в крепость. Ей вспомнился отец: как ему, бедному, трудно было переступить этот порог, войти туда, где томился его сын...
За дверью послышалось шарканье, зазвенело железо, кто-то рывком отворил дверь, и Екатерина Ивановна увидела брата Сергея.
В полосатом тюремном халате, худой и постаревший, шел он к сестре, протягивая закованные в кандалы руки.
— Сергей!.. Дорогой!.. — бросилась она к нему. Екатерине Ивановне и в голову не приходило, что она видит брата в последний раз, что ему осталось жить всего несколько часов.
Ее тяжко поразил вид измученного да к тому же закованного в кандалы Сергея. Зачем такая жестокость?
— За что... тебя... родной? — зарыдала Екатерина Ивановна, не сумев сдержать сердечной боли, хотя давала себе слово быть спокойной в присутствии брата, и склонилась к нему на грудь.
— Не нужно плакать, Катрин! Успокойся, — говорил он, гладя сестру по голове.
— Тебя заковали в железо... За что? Как преступника, как убийцу...
— Пустяки! Успокойся, сестра! Железо не помешает нам разговаривать. И не обращай внимания на мой вид. Лучше расскажи, как ты живешь, что нового в твоей семье. Что пишут из Хомутца? Как там наши?
Но Екатерина Ивановна не в силах была ничего рассказать из-за волнения и душевной муки. За своего любимого брата она сама охотно пошла бы на смерть.
Она стояла и плакала — слишком много накопилось в душе горечи за эти последние месяцы тревоги и ожидания. Голос брата не доходил до ее сознания, только чувствовала на своей голове его руку.
А может быть, молчал и Сергей. Чем мог он утешить сестру? Сказать, что через несколько часов умрет и больше никогда ее не увидит? И никого из родных?
А Екатерина Ивановна так и не успокоилась ни на минуту, и после свидания ее, обессиленную, убитую горем, под руки проводили до ворот и усадили в карету.
Сергея Ивановича увели обратно в камеру. Он в последний раз присел к столику, взял перо, чтобы написать несколько прощальных слов тем, с кем навеки расставался.
От Невы тянуло прохладой. Еще мрачнее казалась громада Петропавловской крепости, нечетко вырисовывавшейся на фоне неба. У ее стен бродила одинокая женщина. Она то останавливалась, прислушиваясь к звукам, доносившимся из крепости, то снова принималась ходить, словно что-то потеряла под этими стенами и никак не могла найти. Иногда она приближалась к воротам, — может быть, удастся кого-нибудь увидеть, расспросить, что делается по ту сторону. Но часовой всякий раз прогонял ее от ворот.
— Не велено подпускать близко, сударыня! Прошу отойти подальше.
Жена Рылеева отходила и опять, как тень, брела вдоль стены. Она не могла уйти, не увидев Кондратия Федоровича.
Проехала карета Екатерины Бибиковой, ворота закрылись. Со двора донесся неясный шум, звяканье железа. Кто-то простуженно кашлял.
— Что там происходит? — спрашивала Наталья Михайловна, прижав руки к груди, точно боялась, что сердце не выдержит тревожного предчувствия, погнавшего ее сюда среди ночи.
— Не могу знать, — уклонялся от ответа гренадер. — Приходите утром. Тогда будет комендант, он все вам расскажет.
— Мне нужно его сейчас видеть, понимаешь? Если коменданта нет, позови плац-майора Подушкина.
— Сегодня не велено никого звать, сударыня! Приходите утром, — твердил свое часовой.
— А не поздно будет? — вырвалось у нее глухо, словно спрашивала не она сама, а кто-то стоявший за ее спиной. Наталья Михайловна даже вздрогнула от своих слов, такими ужасными они показались ей в эту минуту.
— Почему же поздно? — не понял гренадер. — Утром начальство всегда на месте. Выдают пропуска для свиданий с узниками.
К крепости как раз приближались гвардейцы. Ворота отворились. Точно в огромной пасти исчезали люди, кареты, всадники.
«Наверное, гренадер прав, — подумала Наталья Михайловна, надеясь, что утром добьется разрешения на свидание с мужем. — Сейчас все равно ничего не выйдет. В крепость не пустят, никого из начальства не найдешь. Сегодня тут почему-то особенно жутко, как-то загадочно и страшно. Видно, что-то случилось. Гвардейцы, кареты... Среди ночи... Надо было позаботиться днем, добыть пропуск, увидеться с Кондратием. Только взглянула бы на него и спокойно поехала домой. Сама виновата».
Все долгие месяцы со дня ареста мужа Наталья Михайловна не находила себе места — не жила, а как во сне бродила по земле, равнодушная ко всему, что ее окружало. Тревога за жизнь мужа не оставляла ее ни на минуту. Сердце запеклось от ожидания и горя.
Еще когда у Кондратия Федоровича собирались друзья и, бывало, до утра о чем-то говорили и спорили, Наталья Михайловна по обрывкам их разговоров догадывалась, в чем дело. Она и тогда интуитивно чувствовала, какая опасность нависла над счастьем ее семьи. Попробовала было избежать ее, сказала мужу. Он успокоил:
— Родная моя, ты мужественна и все поймешь потом. И не осудишь меня сурово за то, что я не доверил тебе этой тайны. Она принадлежит не мне одному. Иногда полезнее знать меньше. Особенно жене такого непутевого мужа, как я.
Теперь Наталье Михайловне был понятен намек мужа. Но она не сердилась на него, только беспокоилась за его жизнь. Еще в ту ночь, когда он ушел на Сенатскую, сразу почувствовала, что это навсегда, что он оставил ее и дочь сиротами в холодном Петербурге.
Она плакала, умоляла, упав перед ним на колени, но так и не сумела остановить его. Он ушел вместе с Бестужевым в холодную декабрьскую ночь. Не внял даже просьбе дочери.
Однако Наталья Михайловна и тогда не осудила его, не было в ее сердце обиды. Значит, так нужно! Значит, есть что-то дороже личного счастья, важнее семьи, сильнее смерти!
Целый день его не было, — боже, сколько пережила она за эти бесконечные часы!
Он вернулся вечером, сжег в камине бумаги, попрощался с друзьями. Когда все разошлись, хотел ей что-то сказать, быть может, открыть тайну. Но так ничего и не сказал, отложил на утро. А ночью за ним приехали.
Потом она узнала, что арестованы все, кто принимал участие в совещаниях и спорах у них на квартире.
Чего только она не наслушалась за это время! Говорили, что Кондратия и его друзей будет судить Верховный суд, а потом их сошлют на каторгу. Но в сердце теплилась надежда. Только эта надежда и согревала душу, не давала погаснуть вере в человеческую справедливость и великодушие нового императора.
Наталья Михайловна обратилась к Николаю с просьбой принять ее. Несколько раз он отказывал. Потом ее вызвал Бенкендорф и назначил час, когда нужно было явиться в Зимний.
Она принесла императору омытое слезами прошение жены и матери единственного ребенка. Она готова была упасть на колени перед монархом.
— Смилуйтесь, ваше величество, хотя бы над Настенькой, не карайте сурово Кондратия Федоровича. Он честный и добрый человек... Светлая душа...
— Успокойтесь! Никто не будет несправедливо наказан, — неторопливо произнес Николай Павлович. — Карающая десница не будет очень сурова по отношению к мужу столь благородной женщины, как вы. Мне доложили о ваших материальных лишениях в связи с арестом Рылеева. Ее императорское величество Александра Федоровна выразила желание выдать вам и вашей дочери деньги. Нам тяжело слышать о вашей нужде, госпожа Рылеева, мы сожалеем об ошибках вашего мужа.
— Благодарю вас за доброту, ваше величество, — поклонилась Наталья Михайловна. Она благодарила не за пожертвование ее величества, а за то, что Кондратия не накажут слишком жестоко.
Император милостиво разрешил ей свидание с мужем. Наталья Михайловна была тронута его мягкосердечием.
В комендантском доме, в комнате для свиданий, она встретилась с мужем. Не могла сдержать слез от горя и радости, что наконец увидела его, своего Кондратия. Рассказала, как любезно обошелся с нею царь, не только позволил свидания, но и помог деньгами. Ей, жене государственного преступника!
— Он добрый, Кондратий. А ты пошел против святого престола и монарха. Зачем? Чтобы себе и нам с Настенькой причинить столько горя?
Наталья Михайловна заметила, что мужу не по душе пришлись ее слова.
— Дорогая, — безнадежно покачал головой Рылеев, и на руках у него звякнули кандалы, — добрых царей не бывает. В этом наше несчастье.
Наталья Михайловна испугалась:
— Не говори так, Кондратий! — воскликнула она. — Это богохульство! Особа монарха священна.
Рылеев не стал спорить. Да и минуты свидания слишком кратки, чтобы тратить их на дискуссии. Он начал расспрашивать о дочери, о ее здоровье, и голос ему изменил. К горлу подкатило что-то нестерпимо горячее. Кондратий Федорович словно захлебнулся словами.
— Настенька каждый день вспоминает тебя, — отвечала Наталья Михайловна. — Все ждет, что вот нынче ты обязательно вернешься домой. И так каждый день. Она еще ничего не понимает...
Невысокая, худощавая фигура Рылеева, казалось, стала еще меньше, лицо вытянулось, резко обозначились скулы.
— Император простит, и ты опять будешь с нами, милый, — пыталась утешить мужа Наталья Михайловна. — Сейчас лето, поедем в деревню к моему отцу. Там ты быстро наберешься сил после этой страшной тюрьмы.
Кондратий Федорович молча слушал жену, как будто соглашаясь, что все будет именно так. Только глаза выдавали его, они не умели лгать.
Расставаясь с мужем, Наталья Михайловна ласково и с надеждой сказала ему: «До свиданья!» Это понравилось Кондратию Федоровичу. Хорошо, когда человек верит в светлый завтрашний день. Этим он поддерживает не только себя, но и другого.
Наталья Михайловна в самом деле надеялась, что не нынче завтра свершится чудо и Кондратий постучит в дверь их квартиры — свободный, веселый, такой же непоседа, как всегда. И как они с Настенькой будут тогда счастливы!
Но чуда не произошло. Муж так и не постучался в их дверь. Зато дошли слухи, что многие декабристы осуждены на каторгу, в Сибирь, а некоторые приговорены к казни.
Около Троицкого моста собралась возбужденная толпа.
Измученная тревогой Наталья Михайловна тоже пошла в ту сторону — там ждал ее извозчик. Она шла, а в голове вертелись посвященные ей стихи Кондратия, проникнутые любовью, нежностью и добротой:
Как счастлив я, когда сижу с тобой,
Когда любуюсь я, глядя на тебя,
Твоею милою, любезной красотой,
Как счастлив я!..
«Милый, добрый мой! — подумала Наталья Михайловна и оглянулась на крепость. — Утром вымолю пропуск и приду повидаться с тобою. Прижму к своей груди твою поседевшую, усталую, умную голову... Я обязательно приду!..»
А над крепостью по темному небу ползли кровавые блики от костров, и люди не расходились от моста всю ночь.
Пока жена бродила под стенами Петропавловской крепости, Рылеев, сидя в камере, писал ей последнее письмо.
Потрескивала свеча, дрожал огонек. По стене двигались безмолвные тени. Громко стучало сердце, словно маятник часов отсчитывал скупые минуты, оставшиеся прожить осужденному на казнь.
«...Я должен умереть, и умереть смертью позорной... Не оставайся надолго в Петербурге, кончай поскорее все дела и уезжай к своей дорогой матушке. Проси ее, чтобы она простила меня... Я хотел просить свидания с тобой, но передумал. Побоялся растревожить тебя и себя... Настеньку благословляю... Постарайся привить ей твои христианские взгляды и чувства, тогда она будет счастлива. А когда выйдет замуж, осчастливит мужа, как ты, мой милый, мой добрый и бесценный друг, делала счастливым меня на протяжении целых восьми лет. Могу ли я, друг мой, отблагодарить тебя словами: они бессильны передать мои чувства... Прощай! Приказывают одеваться...»
В камеру вошел плац-майор. Затем тюремщик принес новые кандалы.
— Через полчаса надо идти, — сказал Подушкин, не глядя на Рылеева.
— Я готов, — спокойно отвечал Кондратий Федорович, точно речь шла о заурядных вещах, а не о смерти. — Это письмо, — он кивнул на сложенный вчетверо листок бумаги, — когда меня не станет, прошу передать жене.
Он взял со стола кружку с водой, напился. Потом пожевал сухарь, запил его водой, не обращая внимания на тюремщиков. И словно задумался над чем-то важным, что не имело никакого отношения к его нынешнему положению.
— Нужно надеть новые кандалы... Таков приказ, — глухо произнес плац-майор.
— Если в старых кандалах, согласно вашему этикету, умирать нельзя, что ж, надевайте новые.
Кандалы были тяжелые. Подушкин и тюремщик старались поскорее запереть их на замок, даже вспотели от спешки, а может быть, от стыда перед державшимся совершенно спокойно Рылеевым.
— Прошу выйти в коридор, — приказал плац-майор и распахнул настежь дверь.
Рылеев в последний раз окинул взглядом камеру. Тройные решетки на побеленных мелом или краской окнах, толстые стены. Деревянная кровать, стол и табуретка. Стены покрыты серой плесенью, в дубовых дверях узенький глазок.
«Больше я сюда не вернусь», — подумал Кондратий Федорович и шагнул к двери, услужливо открытой Подушкиным.
В коридоре уже ждали Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. На всех начали надевать саваны и прикреплять к груди дощечки с надписью «Цареубийца».
— Прощайте, друзья! Не поминайте лихом, братья! — крикнул Рылеев тем, кто оставался в камерах и скоро должен был отправиться в Сибирь на каторгу.
Товарищи услышали его. И тут произошло такое, чего тюремщики не предвидели. Как будто внезапно налетел ураган или земные толчки сотрясли равелин. Узники заколотили в двери, кто-то истерически закричал, проклиная палачей. В коридоре поднялся шум, застонали всегда глухие стены.
— Прощайте!..
— Смерть тиранам!..
Чтобы успокоить узников, тюремщики поспешно вывели смертников из коридора.
Во дворе их окружила рота павловских гренадеров. Послышалась команда. Пятерых в саванах повели в церковь, где их уже ждал священник Мысловский, чтобы начать службу. Он был в черной ризе, с причтом. Тускло горели свечи, по иконостасу медленно ползли светлые блики. Священник выполнял приказ императора: осужденные на казнь, прежде чем взойти на эшафот, должны были отстоять заутреню и выслушать панихиду по самим себе.
Словно белые привидения, стояли пятеро в саванах в полутемной церкви. Началась служба.
— «Иже по плоти сродницы мои, и иже по духу братие, и друзие, и обычнии знаемии — плачите, воздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся...»
То и дело вбегали посланные от генералов Бенкендорфа и Чернышева, торопили поскорее кончить божью службу. Светает, а казнь следует совершить до восхода солнца — так приказал император.
Священник тоже нервничал, хотел побыстрее закончить неприятную церемонию. Губы у него дрожали, когда он произносил слова напутствия, привычные слова, твердо запомнившиеся за много лет службы в церкви. И дрожала рука, позвякивала кадильница, как и кандалы на смертниках.
— «Души рабов твоих Кондратия, Петра, Сергия, Павла и Михаила от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободи, остави прегрешения им, яже от юности ведомая и неведомая, в деле и слове...»
— Ваше преподобие, скорее кончайте! — закричал генерал-адъютант Чернышев, быстро входя в церковь.
Мысловский посмотрел на него непонимающим взглядом и продолжал:
— «Да отпустится от уз плотских и греховных и приими в мир рабов твоих — Михаила, Сергия, Павла, Кондратия и Петра...»
— Кончайте! — опять закричал Чернышев, посинев от гнева или, может быть, от волнения.
Испуганно заметались огоньки свечей, громче задребезжала кадильница в руке Мысловского, и звоном отозвались кандалы.
— «Вечная память!..» — провожало смертников тоскливое пение, когда они выходили из церкви, глухо топая закованными в железо ногами.
— «Вечная память!» — эхом отозвалось в предрассветном воздухе, точно не люди, а выходцы с того света справляли службу на дремлющей земле, ибо первый луч солнца еще не успел разогнать тьму и не благословил новорожденный день.
Ночью прошумел дождь. Распорядители казни принялись осматривать виселицу, а осужденных отвели в небольшой погреб, захламленный и тесный.
— Посидите здесь немного! — приказал плац-майор, останавливаясь у порога.
Садясь, Пестель заметил гробы из неструганых досок, больше похожие на грубые ящики, в которых вывозят мусор и разные отбросы. Рядом с Пестелем сели Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, а по другую сторону — Рылеев. Каховский стоял, опершись плечом на стену. Он опустил голову и задумался, почти забыв, что через несколько минут всем им придется взойти на эшафот.
Перед глазами промелькнула недолгая, скупая на радости жизнь. Он вспомнил, как, уже будучи в отставке, в глуши Смоленской губернии, влюбился в красавицу Салтыкову, происходившую из богатого аристократического рода, как мечтал о счастье с нею.
Но избалованная Салтыкова лишь играла с неказистым поручиком в отставке, больше похожим на подростка с его оттопыренной верхней губой, чем на рыцаря ее грез. Поиграла и вышла замуж за Дельвига, друга Пушкина. А у Каховского на всю жизнь осталась в сердце незаживающая рана. Тогда он решил все свои силы и способности отдать революции. Сам предложил Обществу уничтожить тирана, чтобы дать дорогу свободе и навсегда покончить с несправедливостью и притеснениями, мешающими честным людям быть счастливыми, а великодушным — делать добро.
Но ничего не удалось осуществить. Почему он не убил Николая Романова, а стрелял в Милорадовича? Разве смерть генерал-губернатора могла принести пользу революции? А Николай остался жив, арестовал своих недругов и пятерых послал на виселицу. «Выходит, из-за меня он убивает моих друзей и единомышленников? И в том, что они скоро умрут на
виселице, есть доля и моей вины? Я поверил тирану, увидел слезы в его вытаращенных лживых глазах. Будь проклят я за измену! Ненавижу себя, проклинаю!»
Он не мог простить себе, что не пошел в Зимний дворец и не убил Романова, хотя накануне, на последнем совещании у Рылеева, обещал это сделать.
«Что ждет нас в потустороннем мире? Быть может, там мы будем избавлены от этого чудовищного лицемерия, от гнусной лжи... Николай опутал меня паутиной обмана и нынче поглумился последний раз, когда приказал по мне, живому, служить панихиду. Дешево купил меня тиран! Теперь уж я не поверил бы ни его слезам, ни льстивым словам. Не поверил бы! Но поздно, возврата нет. Осталось сделать несколько шагов. Осталось жить несколько минут. Слишком мало, чтобы исправить свои ошибки. И очень много — для душевной муки».
У эшафота играли военный марш. Звуки музыки то звучали громче, то затихали, точно оркестр отходил подальше.
Пестель вел себя спокойно, словно ему предстояло не взойти на эшафот, а выполнить простую формальность. Он старался отгонять прочь воспоминания, как будто у него ничего не было позади. Только жаль было матери. Хотелось в последний раз обнять ее, сказать что-нибудь ласковое.
«Не надо об этом думать, — приказал он себе. — Эти предательские мысли расслабляют человека, а последние шаги в жизни нужно пройти твердо, как подобает настоящему человеку. Да! И не следует думать о том, что произойдет через несколько минут».
Свое спокойствие Павел Иванович старался внушить остальным, чтобы они не дрогнули в роковую минуту, чтобы не подкосились ноги, когда они поднимутся на помост. Ведь царские слуги все заметят и донесут Николаю Романову.
Павел Иванович ободрял товарищей, чувствуя ответственность за каждого, кто находился сейчас рядом с ним. Больше всего болела у него душа за самого младшего из смертников — Бестужева-Рюмина. Никому не хочется погибать. Но особенно страшно уходить из жизни в двадцать три года.
Это Пестель понимал, быть может, как никто другой, Он незаметно наблюдал за Бестужевым-Рюминым с той самой минуты, когда зачитали приговор и пятерых смертников отделили от других осужденных.
Как наиболее старший и опытный, Павел Иванович не ошибался относительно мыслей и чувств своего друга. Михаил Павлович пытался держаться бодро, как все товарищи, но в душе готов был кричать, протестуя против смерти. Он хотел жить! Перед глазами стоял образ Софьи — милой, несравненной, родной его Софьи! Он видел ее такою, какою она была в последний раз в Русановке, в том земном раю, где только и могла родиться эта добрая и верная душа.
Тяжело было Бестужеву-Рюмину, нестерпимо тяжело, но он крепился, ничем не выдавая душевных мук. И хотя приказывал себе не думать, однако не мог примириться с мыслью, что вот-вот умрет. Каждая клеточка его существа восставала против этого. «По какому праву смерть должна вырвать меня из жизни? Кто сказал, что я умру сегодня? Почему? И как это — умереть? Нет! Нет! Не надо смерти. Любимая, спаси меня! Прогони смерть, я хочу жить... Жить!» — кричало в нем все. Он съежился на ящике-гробу. Его била дрожь.
— Тебе дурно, Михаил? — спросил Муравьев-Апостол, прикоснувшись к нему рукой. — Мужайся, друг! Мы не должны показывать слабости перед слугами тирана. Хотя и закованные в железо, но останемся непокоренными.
— Да, да!.. Останемся! — прошептал Бестужев-Рюмин как будто не губами, а своей изболевшейся душой. И ему показалось, словно улыбнулась Софья, стоявшая около него в туманной дымке. Заглянула ему в душу своими чистыми глазами, и от этого стало легче. Точно она сняла усталость и влила в его жилы целебные соки.
Лязг железа похоронным звоном прозвучал у них в ушах. Рылеев вздрогнул, на миг оторвавшись от своих мыслей. «Спасибо судьбе, что мать не дожила до этой июльской ночи. Если б она была жива, еще труднее сделался бы для меня путь к помосту, — подумал Кондратий Федорович, поднимая глаза на товарищей. — Ведь в целом мире только мать выпивает вместе со своими детьми до дна чашу горя и бед».
В погреб вошли палачи. Смертники поняли, что они явились за ними, и тотчас встали, начали прощаться. Прощались молча, слова были лишними.
Палачи надели им на головы белые колпаки, закрывавшие лица, крепко связали веревками руки и повели к виселице. Вели медленно мимо вытянувшихся в строю гвардейцев. Так приказал император: пусть все видят, пусть все задумаются над тем, что ждет каждого, кто поднимет руку на монарха.
Стояла такая тишина, словно кругом не было ни души. И вдруг издалека донеслись голоса. Это кричали те, кто всю ночь провел у Троицкого моста, терзаясь и страдая за приговоренных к казни. Ведь люди, которых сейчас вели на виселицу, боролись за правду и добро для всей России.
Бенкендорф, сидя в седле, все время смотрел в сторону Царского Села, как будто ждал от Николая гонца с приказом в последнюю минуту помиловать пятерых смертников. Но гонцы скакали от крепости, исчезая в предутренней мгле, а со стороны Царского Села никто не появлялся.
— У нового тирана мы даже пули не заслужили, — с горечью промолвил Пестель, поднимаясь на помост. — Позорной смертью задумал покарать нас.
Осужденных подвели поближе к виселице, поставили на табуретки, накинули на шеи петли. Торопясь и путаясь ногами в подряснике, сошел с помоста священник Мысловский: он после панихиды с крестом в руке сопровождал смертников до виселицы.
Сразу ударили барабаны — точно густой град застучал по железу. Палачи быстро выбили из-под ног табуретки, но повисли только двое — Пестель и Бестужев-Рюмин. Муравьев-Апостол, Рылеев и Каховский, на которых веревки оборвались, тяжестью своих тел проломили доски помоста и провалились в глубокую яму.
Как будто тяжело вздохнул исполин: громкий вздох прокатился по рядам гвардейцев. По старинному обычаю, осужденного на казнь, если он срывался с петли, миловали. Дважды умирать человеку не полагается. Он один раз рождается на свет и один раз умирает. И часто случалось, что люди, сочувствуя смертникам, нарочно делали петли из гнилых веревок, спасая тем жизнь невинным. Может быть, и на этот раз было бы так. Но генерал-губернатор Голенищев-Кутузов набросился на недотеп палачей, размахивая нагайкой, грозя им расправой.
— Тащите их на виселицу! Кончайте дело! — ругался и Чернышев, гарцуя вокруг помоста на вороном коне.
Окровавленных, покрытых ссадинами смертников вытащили из ямы. С головы Муравьева-Апостола сполз колпак, все увидели залитое кровью лицо.
— Бедная Россия! Даже повесить как следует не умеют! — произнес он громко.
— Делайте петлю! — вне себя орали Чернышев и Голенищев-Кутузов. Они готовы были сами вскочить на помост и своими руками довершить то, что никак не получалось у напуганных угрозами, вспотевших от страха палачей.
— Дай им свой аксельбант, никчемный выскочка, — крикнул Чернышеву Рылеев, — а то придется нам умирать в третий раз!
— Вешайте! — в бешенстве хрипел Голенищев-Кутузов и рвал лошади рот трензелями.
— Не волнуйся, опричник! — бросил ему Каховский, переступая с ноги на ногу, пока палач скручивал над его головой петлю.
— А-а-а!.. — докатилось от Троицкого моста, где, как в бурю, всколыхнулось и грозно зашумело людское море.
Это был глас изболевшейся души, обкраденной и оскорбленной души народа. Это был последний земной звук, который услыхали трое, умирая вторично.
Из-за горизонта, разорвав алую полоску, выглянули первые лучи солнца, залили светом пять фигур в белом, виселицу с помостом, бородатых палачей в красных рубахах и ряды гвардейцев, которые, подобно волнам, откатывались к воротам Петропавловской крепости.
И только у моста все еще стояли люди. Стояли без шапок, стиснув кулаки, сжав губы, — отдавали последнюю дань уважения только что казненным апостолам правды.
Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ